Круг. Альманах артели писателей Книга 4
Александр Ширяевец Палач
(ПЕСЕННЫЙ СКАЗ)
I.
День ласкался весел и лазорев, Малым, старым будоражил кровь. В этот день он по цареву слову Пять удалых отрубил голов. Четверо то были супостаты, Кровянили все пути и Брынь; Пятый был веселый, кудреватый, Не хватался в страхе за вихры, Не скулил, как те, на комья глины Не упал, не плакал, не просил… Вышел к плахе, словно именинник, Поклонился нищенской Руси: — Вы простите, сирые и смерды! Не вините, — ради вас я сгиб! — Посытнее царь-отец обедай, Голову возьми — на пироги! Оттолкнул попишку в черной рясе, Усмехнулся палачу — ему: — Ну-ка, братец, половчее хрясни! И скатился в земляную тьму. День плескался лаской и лазорью, Девьи щеки рдели, что кумач. Веселились и луга, и взгорья, Но не весел был седой палач. Ночью месяц заиграл на скатах, Вспыхнули кресты у покрова, А ему все снился кудреватый, Чудились последние слова.II.
Кажет солнышко Лицо вешнее, В зарянице Купола. — «Что ты, жонушка, — Не прежняя, — Отчего не весела? — У божницы — Хороводиться — Со свечами али прок..? — Брось угодников и угодниц то, — Государев вспень медок!» Молча жонка снеди ставила, Полнит чару до краев, Только вспыхнула черным заревом, От усмешливых тех слов. — «Ну и ладная! Ну и баская! — Слаще пасхи-кулича! — Да почтож глядишь с опаскою — На хрыча, на палача..?» Ой, как вздрогнула! ой, как грохнулась На дубовую скамью! Да вот крикнула, да вот охнула, Думу выдала свою… Ах, проклятое, ах, бездольице! Что-ж угодники молчат! Ведь как молится! Только молится Не за старого хрыча Палача!III.
В кружале крик — Гуляет сброд. Гроза-старик Запоем пьет. — Чего жалеть! К чему добро! Спускай и медь, И серебро! Трень-трень-трень-трень-трень! Ха-ха-ха! Топ-топ! А палач, как пень, Не расхмурит лоб. Трень-трень-трень-трень-трень! Языком звони! — Эй, кафтан одень! — Ковшик хватани! Гугнявит дьяк: — Ах, мать-растак! Винюсь: люблю Жену твою! — Что?.. Ах, ты… — Бац! Дрожит изба. Дьяка за дверь, — Гугни теперь! Трень-трень-трень-трень-трень! Языком звони! — Эй, запрячь кистень! Ворот растегни! Кто там сказал Про кровь?.. — Вина! Да чьи ж глаза В слюде окна? С чего знобит, Мутит мозги?.. Чей смех: Руби! — Уйди… сгинь! сгинь! Трень-трень-трень-трень-трень! Бряк о стол, как пень. Трень-трень-трень! Ха-ха! Долго ль до греха!IV.
Набрались вдостоль певни, Синим небо залило. Солнце кинуло молельни, В гусли загуслярило: — Эй, вставайте, лежебоки! Выходи не мешкая! А не то слетят сороки, Заклюют усмешкою! — За работу с песней красной, С думами сокольими, Чтобы молвить: не напрасно Жили-своеволили!V.
Брел домой, сгибая плечи, Муж-запойник, в третий день. Не горят пред спасом свечи, Нету жонки, нет нигде. Сапожок сафьянный брошен, Кольца, серьги на полу. Только кошка с пухлой рожей Отсыпается в углу. — Нет! Ну ладно же! достану! Вздыблю! не уйти тебе! Венецийские стаканы Раззвенелись по избе. Аксамиты смяты в груду. — Да куда ж бежать с тоски? Перегляды, пересуды, Чешут бабы языки. На знакомый полушалок Харкнул, сапожищем ткнул, И опять-опять в кружало, К балалайкам и вину. — Эй, пляши леса и горы! Нету счета серебру! И опять царева свора Кличет к делу — к топору.VI.
Ой, и мчатся дни-быструхи Неугончивые, Не успеешь оглянуться И очухаться! Заходили Русью слухи Переметчивые. Из конца в конец метнутся, — Послухайте ка: — Объявился-разгулялся атаман удал, Беспорточникам — утеха, богачам — беда. А еще беда спесивой знати показной, Скольких в петлю проводили с песней озорной: «Поболтайся-повиси, Пузо-брюхо растряси! Будет боровом гулять, Да поганить Землю-мать!» — Ну и шалая ватага! в тыщу человек! Атаман то, значит, баба! не пымать вовек! Даден ей зарок великий — взять царя в полон, — За дружка — на месте Лобном жисть окончил он. Бают: видели на всполье самое, вчерась, У царя от страха шапка с плеши сорвалась. Не с того ль холопы грабят барское добро? Не с того ли с новой плахи хлещет кровь ведром? Не с того ли шлют заставы, да на все пути, Атамановскую славу сцапать — загасить? Ой, и мчатся дни-быструхи Неугончивые, Не успеешь оглянуться И очухаться! Заходили Русью слухи Переметчивые, Из конца в конец метнутся, — Ой, не слухайте!VII.
Сладко, валко московитам спится, Лишь на вышках не заснет дозор, Да не спится палачу в светлице. Не задремлет с давних пор. — Вон про что калякают в народе! Али правда?.. Ой, не одному Быть в застенке! Месяц колобродит В пасмурном заоблачном дыму. Стукнул-брякнул сторож в колотушку, Гавкнул пес спросонок у ворот. Пуховую мнет палач подушку, Шелковое одеяло рвет. — Сгрудят бабу! право слово сгрудят! Государь-царь на расправу скор! Будет угощеньице паскуде, Вот уж встречу! навострю топор! Ненароком столько насказали О тебе, беспутница, везде! Попадись! Да чьими же глазами Побледнелый месяц поглядел? Вольно кудри чьи же разметались? Чьи слова шепнули тальники? Отчего забилось сердце, сжалось, Леденит железные виски?..VIII.
Не успело солнце в руки гусли взять Расстегнуть кафтан кармазиновый, Полетела молвь по Москве гулять, Будто во́роны пасть разинули: — Тащут бабу-атамана Ко приказному двору, Ко приказному двору, К палачеву топору! — Выдал бабу окаянный Пустопляс — гугнявый дьяк! — Ах, ты, мать-его-растак! Пустопляс, гугнявый дьяк! Не успело солнце щегольнуть — запеть Выйти козырем перед селами, — Вот сорвется смерть, вот нагнется смерть, Над глазами, над сокольими!IX.
Выходили Бирючи — Горлачи, Завопили Горлачи — Бирючи, Созываючи — Скликаючи Народ Из всех ворот: — Будут голову смутьянную рубить! Будут славу государеву трубить! А палач-то лют и дюж, А палач-то — ейный муж! — Эй, вали валом! Эй, гуди гудом! — Эй, на ус мотай! Дури не хватай! Проходили Бирючи — Горлачи, Провопили Бирючи До ночи! За царевы калачи!X.
День смутьянил, бражничал гульливо, В звоне сбруи, в храпе жеребцов. В этот день к диковинному-диву Съехались-сошлись со всех концов: От Пыжей, с Остоженки, с Басманной, И с Таганки и от деревень, Перегрудились ордой горланной, Где топор горел, как день. Заодно все дрогнули: — гляди-ко-сь! И утихли шопоты и гул. Индо каменный Иван Великий Золотую голову нагнул. — Ну и ладная! Ну и баская! Своевольные уста! А повадка — атаманская, Не гнетет ни робь, ни страх! Запечалились смерды, нищие, Засутулились — хил и дюж, Заворочала знать глазищами — Вот уж встренет жонку муж! А она идет — головушка не клонится, А угодникам-святителям не молится, Не склоняется у шапки государевой, А идет как будто заревом одаривает! Еще больше знать-бояре улюлюкают: — Не длинен правеж с бесчинницей-гадюкою! — А и влить ей в глотку олова, сорвать кумач! — А руби ей голову, руби, палач! Затрубил трубач, — Начинай, палач! Вытирал палач с лица крупен пот, Грозовой топор, ой, топор берет! Зашарахались конные, пешие, Закричал палач: — «Напотешусь я!» А и тут жена мужу глянула В его буркалы бестыжие, Говорит ему таковы слова, Не от тех-ли слов ветры стихнули: — Зарубить меня ты силен-волен, Да ведь Правду-мать не загнать в полон! — Эй, насильники зажирелые, Без меня мое дело сделают! — Отворяй, палач, мою кровь-руду, Не один алтын — не один дадут! Как расхлопался царь глазищами! Подлыгалы, спесь да знать! Как взбурлили смерды, нищие, Словно встали воевать! — Ну, и ладная! Ну, и баская! Не похерить, не сгасить, Ни запугами, ни острастками Атамановскую прыть! А и что-ж ты, палач, на расправу не скор? А и что-ж ты, палач, опустил топор? А и что с палачем ныне деется, И с чего ныне кровь не безделица? Аль прожгло слепоту-глухоту да смрад? Отчего твои руки, палач, дрожат? Затрубил трубач, Начинай, палач! И взметнулся он, — и охнул Сброд прислужный и кричат, Как топор широкий грохнул У царева у плеча. — Взбесновался что ли, леший! Не бывало никогда! И над царской дышат плешью, А народ-от кто — куда! — «Промах! Дьявол!» Как спросонка Руганул палач судьбу. — «Ты дозволь-дозволь мне, жонка, Во едином лечь гробу!»XI.
Ой, и мчатся дни-быструхи Неугончивые, Не успеешь оглянуться И очухаться. Заходили Русью слухи Переметчивые, Из конца в конец метнутся, Дослухайте-ка: Сгиб палач у покрова, Умирал, зарок давал: — «Ты сними-сними, кровяник-топор, Мой великий грех-зазор! Ты сумей, сумей до самых плеч Кривде голову отсечь! Чтоб на белом на свету-свету, Позабыли маету!» — Вон что бают до ночи Малыши, бородачи! Видно, молвь то неспроста, Значит будет вольгота!XII.
Звонко, звонко утро дышет, — К чорту сны и марево! Залихватски солнце вышло, В гусли загуслярило: — За работу, с песней красной, С думами сокольими, Чтобы молвить: не напрасно Жили-своеволили!Январь, 1924.
Москва.
Андрей Белый Москва
РОМАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Печатая 1-ю главу I-ой части моего романа «Москва», я должен сказать два слова о конструкции его, без чего восприятие этой первой главы может быть предвзятым. Идея романа — столкновение двух эпох в Москве; две «Москвы» изображаю я; в первой части показывается Москва дореволюционная; во второй части — «Новая Москва». Задание первой части показать: еще до революции многое в старой Москве стало — кучей песку; Москва, как развалина, — вот задание этой части; задание второй части — показать, как эта развалина рухнула в условия после-октябрьской жизни.
Автор.ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДЕНЬ ПРОФЕССОРА
Да-с, да-с, да-с!
Заводилися в августе мухи кусаки; брюшко их — короче; разъехались крылышки: перелетают беззвучно; и — хитрые: не садятся на кожу, а… сядет, бывало, кусака такая на платье, переползая с него очень медленно: ай!
Нет, Иван Иваныч Коробкин вел войны с подобными мухами; воевали они с его носом: как ляжет в постель, с головой закрываясь от мух одеялом (по черному полю кирпичные яблоки), выставив кончик тяпляпого носа да клок бороды, а уж муха такая сидит перед носом на белой подушке; и на Ивана Иваныча смотрит; Иван Иваныч — на муху: перехитрит — кто кого?
В это утро, прошедшее из окошка желтейшими пылями, Иван Иваныч, открывший глаза на диване (он спал на диване), заметил кусаку; нарочно подвыставил нос из простынь: на кусаку; кусака смотрела на нос; порх — уселась; ладонью подцапал ее, да и выскочил из постели, склоняя к зажатой руке быстро дышащий нос; защемив муху пальцами левой ладони, дрожащими пальцами правой стал рвать мухе жало; и оторвал даже голову; ползала безголовая муха; Иван же Иваныч стоял желтоногим козлом в одной нижней сорочке, согнувшись над нею.
Облекшися в темносерый халат с желтоватыми, перетертыми отворотами, перевязавши кистями брюшко, он зашлепал к окну в своих шарканцах, настежь его распахнул и отдался спокойнейшему созерцанию Табачихинского переулка, в котором он жил уже двадцать пять лет.
Зазаборный домок, старикашечка, желтышел на припеке в сплошных мухачах, испражняясь дымком из трубы под пылищи, спеваясь ощипанным петухом с призаборной гармошкой (был с поскрипом он); проживатель его означал своей карточкой на двери, что он — Грибиков, здесь, со стеною скрипел лет уж тридцать, расплющиваясь на ней, точно липовый листик меж папками кабинетных гербариев: стал он растительным, вялым склеротиком: желтая кожа, да кости, да около века подпек бородавки изюменной, — все, что осталось от личности проживателя этого в воспоминании Иван Иваныча; да — вот еще: проживатель играл с бородавкою скрюченным пальцем; и в этом одном выражался особенно он; каждым утром тащился с ведром испромозглости к яме, в подтяжках, в кофейного цвета исплатанных старых штанах и в расшлепанных туфлях; подсчитывал и подштопывал днями под чижиком — в малом окошечке; под-вечер сиживал на призаборной скамеечке, подтабачивал прописи всеизвестных известий; и — фукал в руки, перекоряченные ревматизмами; он в окне утихал вместе с ламповым колпаком — к десяти, чтоб опять проветряться с ведром испромозглости, — у выгребной сорной ямы. Так мыслью о Грибикове Иван Иваныч Коробкин всегда начинал свой трудами наполненный день, чтобы больше не вспомнить до следующего подоконного созерцания.
Вспомнилось.
Сон, — весьма странный и относящийся вот к такому же, чорт дери, созерцанию: выставил он из окна во сне голову, — в точно таком же халате, играя набрюшною кисточкой и оглядывая Табачихинский переулок; все — так: только комната относилась не к пункту, определимому пересечением параллели с меридианом, а — составляла большущее яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, был зрачком Табачихинского переулка, мощеного не булыжником, а простейшими данными вычислений — за исключением желтого домика, чорт дери, с этим самым окном, что напротив: окно — отворилося; Грибиков, как стенная кукушка, просунулся, фукая на Табачихинский переулок; от этого «фука» булыжники, троттуары и домики пырснули, распадаясь на атомы, таявшие в радиактивные токи: радиактивное вещество, пересекающее пространства, открыло глаза, оказавшися у себя на диванчике перед мухою в пункте, откуда оно было громко низвергнуто.
Он прислушался к очень зловещему зуду (мухач тут стоял) и, принялся вымухивать комнату; ночью его разбудили; и — подали телеграмму, в которой его поздравляли с единогласным избранием в члены корреспонденты — ведь вот-с — Императорской Академии: тут профессор Коробкин причавкал губами, хватаясь за желтые кисти халата: ему, члену Лондонской Академии и «пшеспольному» члену чешской (что значит «пшеспольный», он ясно не знал; ну, почетный там, — словом: действительный) не следовало бы принимать то избрание; выбрали же действительным членом Никиту Васильича Задопятова, у которого сочинения, — чорт дери, — курц-галопы словесные; доктор Оксфордского Университета, «пшеспольный» там член (и — так далее), и мавзолей своей собственной жизни, — нет, нет: он ответит отказом.
Науку свою он рассматривал, как наследственный майорат; и ему не перечили: про него говорили, что он — максимальный термометр науки.
В своем темносером халате зашлепал к настенному зеркалу: на него поглядели табачного цвета раскосые глазки; скулело лицо; распепешились щеки; тяпляпился нос; а макушечный клок ахинеи волос стоял дыбом; и был он коричневый; он подставил свой профиль, огладивши бороду; да, загрустил бы уже сединой его профиль, да — нет: он разгуливал с очень коричневой бородой, потому что он красился.
Тут раскоком прошелся по кабинетику, вымолачивая двумя пальцами по́ходя дробь.
Кабинетик был маленький, двухоконный: на темнозеленых обоях себя повторяла все та же фигурочка желточерного, догоняющего себя человечка; два шкапа коричневых, набитые желтокожими, чернокожими переплетами очень толстых томов и дубовые, желтые полки — пылели; желтокоричневый, крытый черной клеенкою стол, позаваленный кипами книг и бумаг, перечерченных интегралами, был поставлен к окну; чернолапое кресло топырилось; точно такие же кресла: одно — у окна, над которым, пыля, трепыхалася старая желтокаряя штора; другое стояло под столбиком, на котором бюст Лейбница доказал париком, что наш мир — наилучший; на спинках рукой столяра были вырезаны головки осклабленных фавнов, держащих зубами аканфовую гирляндочку; на столе тяжелели: роскошное малахитовое пресс-папье да массивнейший витоногий подсвечник из зеленеющей бронзы; пол, крытый мастикою, прятался черносерым ковром, над которым все ерзали моли.
Вниманье Ивана Иваныча обратили какие-то смутные шумы и смехи за дверью, ведущей в изогнутый и оклеенный рябенькими обоями корридорчик; он, шлепая туфлями, крался прислушаться: да-с, — раздавалися фыки и брыки: и — да-с: голос горничной, которую лапили:
— Ах, какая, право, мигавка, милаша…
— Ну вас…
— Марципанчик, масленочек…
Дарьюшка вырывалась:
— Мозгляк, а туда же, — за пазуху: барыне вот пожалуюсь.
— Мед!..
— Ну-же вы, — мастерничать!
Голос принадлежал, — нет, скажите пожалуйста — Митеньке, сыну: профессор в сердцах распахнул кабинетную дверь, чтобы вмешаться в постыдное дело; но не было фыков и брыков; профессор растерянно поморгался:
— Ах, чорт дери: да-с… Взрослый мальчик уже… Ай-ай-ай, надо будет сказать, надо меры принять, чтобы… так сказать… Надо бы…
Тут он задумался, вспомнив, как кровь в нем кипела, когда он был юным, когда напряженье рассудочной жизни в периоды отдыха подвергалось аттакам безсмысленной глупотелой истомы; тогда со стыдом убеждался и он, что с большим интересом выглядывает — ведь вот из-за функций Лагранжа на голую, бабью, огромную ногу, пришедшую мыть полы; со стыдом он, бывало, упрятывал глазки за функции. Фекла же, которой принадлежала нога, жила в желтопузом довольстве с безносым мужчиной, устраивавшим кулачевки; Иван Иваныч же, выдвинув женский вопрос, ни о чем таком думать не смел; и страдал глупотелием в годы магистерской, даже докторской жизни — до появления Василисы Сергеевны, поборницы женского равноправия, на его горизонте, когда был назначен на кафедру математики он.
Дверь теперь отворилась и в комнату, цапая по-полу лапами, появился такой мокроносый и самоокий ушан, — Томка-понтер, коричневый, с беложелтою грудью и с твердою шишкою на затылке:
— Скажите пожалуйста…
Том опустил мокрый нос и из черной губы протянув на ковер свои слюни, ушами покрыл этот нос; заморщинил шерстистую кожу щеки, показал основательный клык, трехволосою дернул бровью; и — престрашная морда — пес силился улыбнуться:
— Пошел, Том!.. Где хлыст?
И при слове «где хлыст» Том вскочил: очень горько скосив окровавленный взгляд, поджав хвост, пробирался вдоль желтозеленой стены; за ним шествовал по корридорчику очень раскосый, расплекий профессор, цитируя собственного изобретенья стишок:
Грезит грызней и погоней Том, — благороден и прост, В воздухе, желтом от вони, Нос подоткнувши под хвост.……………………………………………………………………………………………………………..
Здесь, в начале трагикомедии, должен дать сообщения об известном профессоре.
Как говорится, — «аб ово».
Иван Никанорыч Коробкин, врач пятого закатальского баталиона, при императоре Николае за что-то был сослан на дикий Кавказ и родил себе сына в фортеции, защищавшей страну от чеченцев: младенческое впечатленье Ивана — рев пушки, визг женщин; фортецию отстояли; невнятица перепугала, — да так, что испуг воплотился: всей жизнию.
Семейство врача состояло из чад: Никанора, Пафнутия, Льва, Александра, Ивана, Силантия, Ады, Варвары, Натальи и Марьи. Когда мальчугану, Ивану, исполнился первый десяток, родитель, его привязавши к седлу, отослал обучаться: в гимназию; так Иван переехал Кавказский хребет; на почтовых вполне беспрепятственно докатился до самого пансионного надзирателя первой московской гимназии; в первом классе стал первым; впоследствии очень гордился: за все восемь лет не сумел получить единицу и двойку; и аттестаты успехов являли собой удручающий ряд лишь пятерок, за что пансионный смотритель, которого сыновья получали лишь двойки, безжалостно дирывал мальчугана; невнятица длилась до пятого класса, когда получил он с Кавказа письмо, извещавшее, что Иван Никанорович помер; и предлагали ему зарабатывать средства на жизнь; с того времени Ваня Коробкин отправился к повару, сдавшему угол ему в своей кухне (за драною занавесочкой); бегая по урокам, готовил к экзаменам он товарищей одноклассников, дирывавших за это его; словом, длилась невнятица.
Складывалась беспросветная жизнь; неудивительно: юноша приходил к убежденью — невнятица побеждаема ясностью доказуемых положений.
Наука российская обогатилася математиком.
2.
Табачихинский переулок!
Дома, домы, домики, раздомины, домченки: четырех-этажный, отстроенный только что, угловой; за ним — кремовый, в разгирляндах лепных; деревянненький, синенький; далее: каменный, серозеленый, который статуился аляповато фронтоном; карниз — приколонился; полинялая крыша грозила провалом, а окна ослепли от ставней; дом прятался в кленах, его обступивших и шамкавших с ветерницею; светилось краснолапое дерево над чугунною загородкою; плакало в троттуар: краснокапом.
Тянулся шершавый забор, полусломанный; в слом глядели трухлявые излыселые земли; зудел свои песни зловещий мухач; над спиной неизвестного смурого зипуна; и рос дудочник; пусто плешивилась пустошь; туда привозили кирпич (видно стройку затеяли, да отложили); но — далее: снова щепастый заборик, с домишкой; хозяин заохрил его: желтышел на пропеке; в воротах — пространство воняющего двора с желклой травкою; издали щеголяющий лупленою известкой, дом белый, с замаранным входом, с подушками в окнах.
Там около свалки двушерстая психа, блохачка, подфиливши хвост, улезала в репье — с желтой костью; и пес позавидовал издали ей — мухин сын; с того лысого места, откуда алмазился битыш бутылок, подвязанной пяткой хромала тяжелая барамбабина потроховину закидывать; здесь сушняк привалили к конюшне; отсюда боченок-дегтярка, подмокнувши, темный подсмолок, воняющий дегтем, пустил; здесь несло: сухим сеном, навозом и терпкостью конского пота; тютюн закурил сивоусый какой-то: наверное, — кучер; он мыл колесо шарабана; и таратаечный мастер пришел разговаривать с ним.
Брошенный тебе в лоб Табачихинский переулок таков, гражданин! Таким был, и остался; нет; желтенький домик, заборики — разобрали на топку.
Напротив, перебежать мостовую — кирпично-коричневый каменный дом, номер шесть, с трехоконной надстройкой, с протертыми окнами; фриз изукрасился изузорами и гирляндами четырех модильонов карниза фриза, поддерживаемого капителями гермочек, меж которыми окна смежилися занавесочки из канауса синего и прикрывали стыдливо какую-то жизнь; виделась переблеклая зелень сада; подъездная дверь (на дощечке: Иван Иваныч Коробкин).
Она — отворилась: и прочь переулком зашаркал лет восемнадцати юноша, в черной куртке, в таких же штанах, мокролобый; растительность, неприятно шершавящая загорелые щеки, и лоб, заростающий, придавали тупое, плаксивое выраженье лицу; из расщура черничного цвета глаза чуть выглядывали под безбровым надлобьем; лицо — нездоровое, серое, с прожелтью, с расколупанными прыщами; под мышкою правой руки он нес томики, перевязанные веревочкой; левой держал парусинный картузик.
Вот, ерзая задом, какая-то дама с походкой щепливою, юбку подняв и показывая чулочки ажурные, тельного цвета, — в разглазенькой кофточке, веющей лентами, с зонтиком, застрекозила своей красноперою шляпой с вуалькою; около губки подпудренный прыщик брусничного цвета прикинулся розовым прыщиком, и… молодой человек стал совсем краснорожим и слюни глотал, расплываясь мозглявой улыбочкой, и показывая свой нечищенный зуб; задом ерзая, за дамой шел барин: мышиный жеребчик.
Забеленьбенькала колоколенка — от угла переулка: стоял катафалк; хоронили кого-то.
Москва!
Разбросалась она развысокими, малыми, средними, бесколонными и колончатыми колоколенками над сияющими златоглавыми, одноглавыми, пятиглавыми, витоглавыми церковками елизаветинской, александровской и прочих эпох; в пылищи небесные встали зеленые, красные, деревянные, плоские, низкие, или высокие крыши оштукатуренных, или выложенных глазурью, или одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, домиков, севших в деревья, иль слитых, — колончатых, бесколонных, балконных и рокококистых — с лепкой, с аканфом, с кариатидами, поддерживающими уступы, карнизы, балконы, с охотами на зверей, заполнявшими фронтонные треугольники: домов, домин, домиков, составлявших — Люлюхинский, Неграбихинский, Табачихинский и Салфеточный переулки; и — далее: первый, второй, третий, пятый, четвертый, шестой и седьмой Гнилозубов с Торговою улицей.
Улица складывалась столкновеньем домов, флигелей, мезонинов, заборов — кирпичных, коричневых, темно-песочных, зеленых, кисельных, оливковых, белых, фисташковых, кремовых; вывесок пестроперая лента над троттуарами засверкала большим савостьяновским кренделем; там — золотым сапогом; и кричала извозчичьей подколесиной, раскатайною тараторой пролеток, телег, фур, бамбящих бочек, скрежещущих ящеров — номер четвертый и номер семнадцатый.
Человечник мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал, слагаясь из робких фигурок, выюркивающих из ворот, из подъездов пропсяченной, непроветренной жизни: ботинками, сапожищами, туфлями, серозелеными пятками, каблучками, принадлежащими ножкам, пленяющих бабичей всяких; покрытые картузами, платками, фуражками, шляпками — с рынка, на рынок трусили; тяжелым износом несли свою жизнь; кто — мешком на плече, кто — кулечком рогожевым, кто — ридикюльчиком, кто — просто фунтиком; пыль зафетюнила из-под ног в баклажанные, в сизые, в бледные носики и носищи и в рты всякой формы, иванящие отсебятину и пускающие пустобаи в небесную всячину; в пыли, в псине, в перхоти, в раскуряе гнилых табаков, в оплеваньи подсолнечных семячек, в размозгляйстве словесном, пронизанные чахоточными бациллами, — шли, шли и шли: в одиночку; шли — по-двое, по-трое; слева направо и справа налево — в разброску, в откидку, в раскачку, в подкачку — Иваны да Марьи, Матрены, Федоры, Василии, Ермолаи, Евлампии, вперемежку с Лизеттами, с Коками, с Николаем Иванычем, или с Марьей Ивановной.
Сколькие тысячи вовсе плешивых умом, волосатых, клокастых, очкастых, мордастых, брюхастых, кудрявых, корявых пространство осиливали ногами; иль — ехали.
3.
Среди едущих бросился сорокалетний брюнет, поражающий черными бакенбардами, сочным дородством, округлостью позы; английская серая шляпа с молодцевато заломленными полями приятнейше оттеняла с иголочки сшитый костюм темносиний, пикейный жилет, от которого свесилась золотая цепочка: казалось, — он выскочил из экспресса, примчавшего из лазоревой Ниццы, на Ваньку почти с озлобленьем в прищуренном взоре, переморщинивши лоб, и сжимая тяжелую трость с набалдашником из резаной кости, рука, без перчатки, лежала на черном портфелике, отягощавшем колено; увидевши среди толока тел того самого юношу, вскинул он брови, приятнейше улыбнулся, показывая оскалы зубов; набалдашником трости ударил в извозчика:
— Стой.
И как тигр, неожиданно легким прыжком соскочил, бросив юноше руки, портфель и блиставшую наконечником палку:
— А, Митенька, Дмитрий Иваныч!
— Здравствуйте, Эдуард Эдуардович…
— Что там за здравствуйте, — вас-то и надо.
Сняв шляпу, он стал отирать свой пылающий лоб, улыбаяся алыми такими губами и поражая двумя прядями белосеребряными, перерезавшими совершенно черные волосы, белым лицом, точно вымытым одеколоном:
— А вас-то и надо мне, сударь мой, Митенька, — выставил между баками белизною сияющий подбородок с приятною ямочкою:
— А Лизаша-то празднует день рождения завтра и вспомнила: «Вот было бы, если бы Митя Коробкин…» Так — вот как… Так — милости просим.
Но Митя Коробкин, Иван Иваныча сын, густо вспыхнул, глазенками ерзая по жилету; стоял мокролобый, какой-то копченый; лицо его, право, напомнило сжатый кулак с носом, кукишем, высунутым между пальцами.
— Я, Эдуард Эдуардович, с удовольствием бы — и замялся.
— В чем дело?
— Да мама…
— Что мама?
— Да вот: все — истории… Редко пускают из дому…
— Помилуйте — брови подбросил приятнейший Эдуард Эдуардович; позою, несколько деланной, выразил: — Ну, и так далее…
— Молодой человек! Сиднем сидеть? Да что вы! Да как вас!..
Но Митя пунцовым пионом стал просто.
— А впрочем — повел Эдуард Эдуардыч плечом и лицо его стало мгновенно кислятиной, устанавливающей дистанцию, — пользуясь случаем, я передал: вот и все… Ну, как знаете…
— Мое почтенье-с — пренеприятнейше свиснуло «с».
Сел в пролетку и крикнул:
— Пошел!
И смешечек извозчичьей подколесины бросился в грохоты уличной таратарыки, откуда теперь повернувшийся Эдуард Эдуардович злыми глазами повел, впрочем ясно осклабясь: да, да-с…
Эдуард Эдуардыч фон-Мандро, очень крупный делец, проживал на Петровке в высоком, новейше отстроенном желтокремовом доме с зеркальным подъездом, лицованным плиточками лазурной глазури; сплетались овальные линии лилий под мощным фронтоном вкруг каменной головы андрогина; и дом отмечался пристойною мягкостью теплого коврика, устилавшего лестницу, перепаренную отоплением, бесшумно летающим лифтом, швейцаром и медными досками желто-дубовых дверей, из которых развертывались перспективы зеркал и паркетов; новей и огромнее прочих сияла доска: «Эдуард Эдуардович фон-Мандро». Можно было бы приписать: «холостяк»; дочь его, шестнадцатилетняя, зеленоглазенькая Лизаша, с переутонченным юмором и чрезмерною несколько вольностью, щебетала средь пуфов, зеркал и паркетов в коричневом платьице (форма арсеньевских гимназисток), кокетничая с воспитанниками частной гимназии Веденяпина, где учился Митюша и где познакомился в прошлом году он с Лизашею на гимназической вечеринке; товарищи Мити влюбились в Лизашу всем классом; Лизаша себе позволяла порою лишь с виду невинные шуточки; впрочем…
Да, Митя был глуп, некрасив и ходил замазулею; чем мог Лизаше он нравиться? А — угодил, был отмечен: его приглашали к Мандро; Эдуард Эдуардыч, почтенный делец, — обласкал; гимназист стал торчать среди сверстниц Лизаши; их было так мало (две-три иль четыре подруги, арсеньевки); прочие посетители вечеринок Лизашиных — веденяпинцы, креймановцы, отороченные голубым бледным кантом, всегда удивлялися тэт-а-тэтами этими среди низеньких пуфов, в гостиной, в лазоревом сумраке, когда прочая молодежь развлекалась «пти-же» или танцами в палевом зале.
Митюша с Лизашею молча сидели в лазоревом сумраке, а Эдуард Эдуардыч до очевидности покровительствовал сближению: что же тут такого? Здесь, в доме Мандро, все должны быть, как дома; не с улицы-ж прямо являлись, — из очень почтенных семейств, и коммерческих, и дворянских; и фактами не питалися подозрения я бы сказал, что мещан, не читавших Оскара Уайльда и Габриэля д'Аннунцио, — разве вот: атмосфера неуловимая подымалась от этих Лизашиных вечеринок, после которых воспитанники веденяпинской частной гимназии начинали шушукаться, фыркать, багреть и прищелкивать языками во время учебных уроков; но Эдуард Эдуардыч, имея весьма осязательный вес, ничему невесомому верить не мог; в его доме все было бонтонно и чинно: лакей, принимавший одежду гостей, носил белый крахмаленный галстук, был в белых перчатках: руководящая чаепитием дама была фешенебельна; вин не давали: так что-ж? И притом в наше время; Лизаша свободно бывала: в театрах, в концертах, в «Кружке» и в «Свободной эстетике»; даже ее познакомили с Брюсовым; сам Эдуард Эдуардыч случайно являлся на дружеских вечеринках (он вечно куда-то спешил), пересекал пестрый рой, застревал на полчасика, великолепно оскабливаясь, беря под руку то того, то другого, показывал, что он — равный: «Мои молодые друзья!» И потом исчезал, не желая стеснять.
Удивляло Митюшу вот что: Эдуард Эдуардыч принимался все чаще расспрашивать о научных работах Иван Иваныча, будто-бы внушающих интерес, но с отцом не знакомился, принадлежа к иному московскому кругу дельцов и вступая в сношения с представителями коммерческих предприятий, являющихся из Голландии, Англии и Германии в нашу столицу; пустая лишь вежливость диктовала расспросы; порою Митюше казалось: вниманье к нему в фон-мандровской квартире питается лишь информациями об Иване Иваныче, извлекаемыми из него этим крупным почтенным дельцом:
— Передайте мое уважение батюшке вашему; будучи далеко не ученым, я чту его имя и труд.
Митя раз убедился: заслуги отца как-то даже нелепо Мандро волновали; недавно с Лизашей сидели они тэт-а-тэт — в уголочке, в лазоревом сумраке, чем-то своим занималися; в кабинете-ж Мандро поднималися голоса; там сидел видно немец, приехавший из Германии, представитель крупнейшего треста; куски разговора меж ним и Мандро долетели до Мити:
— Вас загензи… Коллосаль, гениаль… Херр профессор Коробкин… мит зайнер энтдекунг… Вир верден… Дас ист, я, айн тат… Им цукунфтиген криг, виссен зи…
Митя был удивлен, что Мандро говорит об Иване Иваныче с незнакомым, заезжим в Москву, иностранцем; действительно, стало быть, проявляет усиленный он интерес к математике, чуждой ему; и еще Митя помнил: когда Эдуард Эдуардыч прошел чрез гостиную с рыжим, потеющим немцем, имеющим бородавку у носа, — распространился удушливый запах сигары; Мандро, наклоняся к уху немца, шепнул, толкнув локтем и показавши на Митю:
— Дас ист зайн зон…
Он опять подивился, хотя не раздумывал; ясно: приезжему был он показан, как сын знаменитого математика; сам Эдуард Эдуардыч был чужд интересам науки и плавал, как рыба в воде, в спекуляциях, часто рискованных, — что-ж? Это все пронеслося в сознании Мити; ему захотелось к Мандро; для Лизаши с недавнего времени стал он душиться цветочным одеколоном (флакон — рупь с полтиною); одеколон этот вышел, и на полтинник флакона не купишь; и, стало быть, — думал он, — если книжки удастся спустить, рупь с полтиной — составится.
4.
Краснопузик мальчишка юркнул из кривой подворотни; попер черномордик; проерзала желтая кофточка; пер желторожий детина в одном спинжаке, без рубахи, показывая шелудивый желвак на скуле; проскромнели две женщины, выговаривая кислятину; скрылись в подъезде; на фоне заборика красного желтая борода повалила в пивную, — к лиловому перепоице; шагом отмахивали одиночки; шли — по-двое, по-трое; шли — в разноску, в размашку, в раскачку — с подскоком, семейственно; шли — куда-то, зачем-то, откуда-то, — караковые, подвласые, сивые, пегие, бурочалые, смурые.
С улицы криво сигал Припепешинский переулок, взгорбатясь и разбросавши домочки, чтобы с горба упасть к площади в тысячеголовые горлодеры базара; туда-то сигал человечник от улицы — Припепешинским кривогорбом, чтобы там, от горба, покатиться к базару: на угол, где от порога клопеющей брильни волосочес напомаженный расправлялся гребенкою с дамским шиньоном, где наискось заведенились полотеры, откуда прижавший к микиткам гармошку какой-то орал:
Канашке Лизе От Мюр-Мерилиза Из ленточного отделения — Мое распочтение!Вместе с сигающим человечником засигал в переулок и Митя Коробкин; свой лоб отирал под горбом; покатился оттуда на угол пылеющей площади; справа тянулся прочахший бульварец, а слева — роенье многоголовое распространялось; спев ветра и пыли обвизгивал площадь, оконные стекла, змеился ползком, перевинчиваясь песками и опыляя ботинки.
На площади рты драло скопище басок, кафтанов, рубах, пиджаков и опорок у пахнущих дегтем телег, у палаток, палаточек с красным, лимонным, оранжево-синим и черным суконным, батистовым, ситцевым, полосатым, плетеным товаром всех форм, манер, способов, воображений, наваленном то на прилавки, то просто на доски, лотки, вблизи глиняных, зелено-серых горшков, деловито расставленных на соломе, — в пылище; Коробкин протискивался через толоко; там — принесли боровятину; здесь — предлогалося:
— Русачиной торгую…
Горланило:
— Стой-ка ты… Руки разгребисты… Не темесись… А не хочешь ли, барышня, тельного мыльца?… Нет… Дай-ка додаток сперва… Так и дам… Потовая копейка…
Вот еле протиснулся к букинисту, расставившему на земле ряды пыльных книжек, учебников, географических атласов и русских историй Сергея Михайловича Соловьева, протрепанных перевязанных стопок бумажного месива; стиснутый красномясою барыней и воняющим малым, с оглядкою он протянул букинисту, тяжелому старику, оба томика: желтый, коричневый.
— Сочинение Герберта Спенсера. Основание биологии. Том второй — почесался за ухом тяжелый старик, бросив очень озлобленный взгляд на заглавие, точно в нем видя врага; и — закекал:
— Да так себе: пустяки-с…
— Совсем новая книжка…
— Разрознена…
— В переплете…
— Что толку…
Старик, отшвырнув желтый том, нацепивши очки, и морщуху какую-то сделав себе из лица, стал разглядывать томик коричневый:
— Розенберг… История физики… Старое издание… Что просите?
— Сколько дадите за обе?
— Не подходящая, — и «Герберт Спенсер» откинулся — за историю физики хотите полтинник?
А за спиною ломились локтями, кулачили, отпускали мужлачества: баба босыня, сермяга, промеж бурячков-мужичков: бережоха слюну распустила под красным товаром; ее зазывали, натягивая перед нею меж пальцами полубатист; колыхался картузик степенный — походка с притопочкой: видно отлично мещанствовал он; из палатки с материями ухватила рука:
— Вот сукно драдедамовое.
Остановился, в бумажку тютюн закатал, да слизнул:
— А почем?
— Продаю без запроса.
— Оставь, кавалер, тарары.
И — пошел.
………………………………………………………………………………………………………
Проходил обыватель в табачно-кофейного цвета штанах, в пиджачишке такого же цвета, с засохлым лицом, на котором прошлась желтоеда какая-то, без бороды и усов, — совершенный скопец, со слепыми глазами, не выражающими, как есть ничего (поплевочки, — а не глаза), в картузишке и с фунтиком клюквы; шел с выдергом ног и с прямою, как палка, спиною; подпек бородавки изюмился под носом; Митеньку он заприметил и стал потирать себе пальцы, перекоряченные ревматизмами; и прошлось на лице выраженье, — какое-то, так себе, вообще говоря; он прислушивался к расторгую, толкаемый в спину, крутил папироску и сыпал коричневым табачком.
Вдруг лицо его все раскрысятилось подсмехом:
— Митрию Иванычу, прости господи, — предпочтение-с!
Митенька перепуганно обернулся, — увидел: в лицо ему смотрит какая-то, прости господи, — мертвель, гнилятина (так себе, вообще говоря); и пришел он в смятение, стал краснорожим, как пойманный ворик: потом побледнел, выдаваяся кровенящимся прыщиком:
— Грибиков!
Грибиков же, выпуская дымочек, крысятился прохиком: левой своей половиной лица:
— Насчет книжечек — что?
И сказал это «что» он с таким выражением, как будто он знал и «откуда», и «как» и «зачем»?
— Да, — вот… Я — вот… Пришел, — вот… — иканил Коробкин, и пальцы его приподпрыгнули дергунцами; куснул заусенец:
— Пришел вот сюда… продавать…
— Все для выпивки-с?
Думалось:
— Препротивная право какая мозгляка: допытывается, — дело ясное.
Мрачно отрезал:
— Да нет!
И скорее спустил за шесть гривен два томика; а мозгляка стояла — допытывалась:
— А вот переплетики-то, вот такие вот точно — у вашего батюшки: у Ивана Иваныча.
Видя, что Митенька стал моделый, мокрявый, он пальцем попробовал бородавочку и потом посмотрел на свой палец, как будто он что-то увидел на пальце:
— Хорошие книжечки-с… Только продали-с — нипочем: я бы сам дал целковый…
Обнюхивал палец теперь:
— У одного переплетчика переплетаем мы: я и отец — что то силился доказать перепуганный Митенька.
— Надысь он привозил вот такие же-с, разумею не книжки, а переплеты — от переплетчика; я сидел под окошком и все заприметил… Как адрес-то, — переплетчика адрес?
— На Малой Лубянке, — ответил Коробкин с искусственным равнодушием.
— А не в Леонтьевском ли?
Вот ведь чорт!
— Погода хорошая — фукнул Грибиков в руку… — А осенями погода плохая стоит.
Митя мрачно сопел и молчал.
— День Семенов прошел и день Луков прошел, а погода хорошая: вам — в Табачихинский?
— Да.
— Пойдем вместе.
Прошла пухоперая барыня с гимназистиком-дранцем:
— Послушайте, что за материя?
Из-за лент подвысовывалась голова продавца, разодетого в кубовую поддевку:
— Что за материя? Тваст.
— Не слыхала такой.
— Это — модный товар.
— Сколько просишь?
— Друганцать.
— Да што ты!
Пошла и — ей вслед:
— Дармогляды проклятые.
И текли, и текли тут: разглазый мужик-многоноша, босой, мохноногий, с подсученною штаниной и с ящиком на плечах, размаслюня в рубахе разрозненной, пузый поп, проседелый мужчина, бабуся в правое:
— Вот — Мячик Яковлевич продаю: Мячик Яковлевич!
Краснозубый, безбрадый толстяк в полузастегнутом сюртучишке, с сигарой во рту и с арбузом под мышкою остановился:
— Почем?
Через спины их всех пропирали веселые молодайки и размахони в ковровых платках и в рубашках с трехцветными оторочками: синею, желтой и алой; толкалися маклаки с магазейными крысами: «Магарычишко-то дай», и мартышничали лихо ерзающие сквозь толпу голодранцы; молитвила нищенка; все песочные кучи в разброску пошли под топочущим месивом ног и взлетали под небо; и там вертоветр поднимал вертопрахи.
Над этою местностью, коли смотреть издалека, — ни воздухи, а — желтычищи.
5.
По корридору бежала грудастая Дарья в переднике (бористые рукавчики) с самоваром, задев своей юбкой (по желтому цвету — лиловый подцвет) пестроперые, рябенькие обои; ногой распахнула столовую дверь и услышала:
Вот, а пропо́, — скажу я: он позирует апофегмами… Задопятов…
— Опять Задопятов, — ответил ей голос.
— Да, да, — Задопятов; опять, повторю — «Задопятов»; хотя бы в десятый раз, — он же…
Тут Дарья поставила самовар на ореховый стол.
На узорочной скатерти были расставлены и подносы, и чашечки с росписью фиолетовых глазок.
Пар гарный смесился с лавандовым, а не то с ананасовым запахом (попросту — с уксусным), распространяемым Василисой Сергевной, сидевшей у чайницы; выяснялась она на серебряно-серых обойных лилеях своим серо-голубым пеньюаром, под горло заколотым амарантовой, оранжевой брошкою; били часы под стеклянным сквозным полушарием на алебастровом столбике; трелила канарейка, метаяся в клеточке над листолапыми пальмами: алектрис и феникс.
Поблескивала печная глазурь.
Василиса Сергевна сказала с сухой мелодрамой в глазах:
— Задопятов прекрасно ответил ко дню юбилея.
Повеяло маринованной кислотой от нее.
Она стала читать, повернувшись к балконной двери, где квадратец заросшего садика веял деревьями:
Читатель, ты мне говоришь, Что честные чувства лелея, С заздравною чашей стоишь Ты в день моего юбилея. Испей же, читатель, — испей Из этой страдальческой чаши: Свидетельствуй, шествуй и сей На ниве словесности нашей.Читала она грудным голосом, с придыханием, со слезой, с мелодрамой, — сухая, изблеклая, точно питалась акридами; нервно дрожала губа (губы были брусничного цвета); и родинка темным волосиком завилась над губой; при словах «шествуй, сей» она даже лорнетиком указала в пространство деревьев.
Провеяли бледно-кремовые гардины от бледных багетов; в окне закачалася голая ветвь с трепыхавшимся, черно-лиловым листом:
— Да какие же это стихи: рифмы — бедные; старые мысли: у Добролюбова списано.
Голос приблизился.
— А — идея? Гражданская, задопятовская, а не… какая нибудь… с расхлябанным метром… как давече…
— Это был стих адонический: чередованье хореев и дактилей…
Вместо хореев и дактилей — ветер влетел вместе с Томочкой, песиком; и уж за Томочкой ветерочком влетела Надюша в своей полосательной кофточке, в серокисельной юбченке, расплесканной в ветре, в ажурных чулочках.
— Да не влетай, прости господи, лессе-алейным алюром… Притом, скажу я, — не кричи так: мои акустические способности не сильны.
Василиса Сергевна сердито взялася рукою за чайник, поблескивая браслетом из блэ-д'эмайль и потряхивая высокой прическою с получерепаховым гребнем.
— Маман, говорите по-русски; а то простыни превращаются в анвелопы у вас.
Надя села, мотнув кудерьками и аквамариновыми подвесками; и скучнела глазами в картину; картина открыла — картину природы: поток, лес, какие-то краснозубые горы.
От стен, точно негры, блестящие лаком, несли караул черноногие стулья; массивный буфет встал горой, угрожая ореховой, резаной рожей.
Казалося: мелодрама в глазах Василисы Сергевны не кончится; годы пройдут, а в словах и в глазах Василисы Сергевны останется то же: в глазах — мелодрама; в словах — власть идей; у нее был сегодня, сказали бы, цвет лица желтый, она ж говорила себе: — лакфиолевый.
— Амортификацию переживает природа — произнеслося в пространство; и тотчас же: оборвалось желчным вскриком:
— Пошел! Ты пришел наблошить мне под юбками, Том.
И профессорша нервно оправила кружево серо-сиреневой юбки; и около ножек Надюши шел лечь калачиком Том.
Василиса Сергевна перечисляла события жизни (к последним словам — нотабена: «профессорский» быт Василисой Сергевною ставился в центре бытов и вкусов Москвы): Доротея Ермиловна, мужа, геолога, нудит на место директора; все — из-за лишней тысченки; а у самих — два имения; Вера же Львовна исследует свойства фибром с ординатором гинекологической клиники. Двутетюк с селезенкой гнилою, с одной оторвавшейся почкой, в которого клизмою влили четыре ведра, (а то — не было действия), собирается выкрасть у археолога Пустопопова Степаниду Матвевну, которая на это идет. Двутетюк так богат, с библиотекой, стоящей тысячи; если пискляк этот выкрадет, то, ведь, — умрет: Степанида Матвевна — старуха не дура: вернется она к своему археологу: что ни скажите, — а носит Радынский бандаж; словом — рой бесконечный: гирлянда смелькавшихся образов в лик убеждения, на котором женится пойманный убеждением магистрант, чтобы ставши профессором изо-дня в день волочить эфемерности, ставшие тяжкомясою дамою:
— Да, — а пропо: ужас что! Ты ведь, знаешь, Надин, что Елена Петровна сбежала к Лидонову, аденологу.
6.
— Мы, — загремело из двери, — прямые углы: пара смежных равна двум прямым.
И профессор Коробкин, свисая лобастою головою с макушечной прядью волос, уже топал по желтым паркетам в широкой своей разлетайке; в откидку пустился доказывать:
— Угловатости в браке от неумения обрести, чорт дери — дополнение до прямого угла! — Пред стаканом крепчайшего чая с ушедшею в ворот большой головой (наезжал этот ворот на голову: шеи же не было) быстро дотачивал мнение:
— Вы найдите же косинус свой; и вам все — станет ясно; отсутствует рациональная ясность во взгляде на брак — подбоченился словом и в слово уставился; только вчера он постригся, вернувшися с небольшой бородой, ставшей вдвое колючей: и — выглядел зверским:
— Да, да: рациональная ясность, дружочек, — усилие тысячелетий, предполагающее в человеческом мозге особое развитие клеточек.
И припомнилось: лет тридцать пять назад был еще он без усов, бороды, но — в очках, в сюртуке и в жилете, застегнутом под микитками; жил исключительно словотрясом котангенсов; и боролся с клопами в снимаемой комнатке: спорить ходил с гнилозубым доцентом — в квартиру доцента; в окошко несло из помойки; они, протухая, себя проветряли основами геометрии; так слагались воззрения: иррациональная мутность помойки и запахи тухлых яиц от противного доказывали рациональную ясность абстрактного космоса, с высшим усилием выволакиваемого из отхожего места к критериям жизни Лагранжа и Лейбница.
Так меж помойкою и Лагранжем выковывалось мирозренье профессора.
Думал об этом он, защемивши под мышкою спинку скрипучего стула: ушел в воротник своей шеи; другою рукой перочинный свой ножик ловил он из воздуха: трах: — этот ножик упал; затрещало сиденье, и дернулась скатерть; за ней — все поехало, потому что профессор своей головой провалился под стол и тянулся с кряхтеньем за ножиком: поднял, подбросил, окидывал мыслью огромный период: поглядывал широконосым очканчиком; хлебная корочка израсходовалась под пальцами враскрох…
— Не легко мне далась рациональная ясность.
Рукой углубился в карман пиджака, там запутался, выдернул с огромным кряхтением носовой свой платок, снял очки, подышал на очковые стекла, зевнул безочковым, усталым лицом и рассеянно стал протирать он очки, положив пред собою в пространство ленивое:
— Да-с.
— Вы в абстрактах всегда — равнодушно прокислила Василиса Сергеевна, перевлекаясь вниманием к Томочке, песику, и патетически затыкая свой носик платочком:
— Пошел, гадкий пес: фу-фу-фу, какой запах!
Томочка-песик вскочил из под Надиных юбок; испуганно бросивши взгляд на профессоршу, стал пробираться вдоль стен, покидая столовую; Иван Иваныч пытался утешить печального песика:
— Томочка, это — не ты, брат, а — Наденька.
Тут позвонили. И Петр Леонидович Кувердяев, оправив каурые волосы, с мадригалом в глазах — Асмодеем предстал пред семейством, во всем темносинем; рукою поправил он маленький маргаритовый галстучек, элегантно заколотый золоченой булавкою; в карих глазах веселели какие-то афоризмы, когда бросил взгляд он на Надю, коварно косившуюся на клохтавшего, желтолапого петуха, появившегося из сада — за хлебными крошками; Кувердяев склонился к руке Василисы Сергеевны, которая указала на Наденьку:
— Поглядите пожалуйста, — кэль блафард! Отчего? От поэзии… Я прихожу этой ночью к ней: и — застаю за отрывком: читает; взяла — посмотрела: отрывок, построенный на апострофах.
И Петр Леонидович стал проливаться в Надюшины глазки: глаза его превратилися в амбразуры какие-то, из которых открыл он огонь и сказал с придыханием, будто арпеджио брал:
— Вы, Надежда Ивановна, может быть, занимаетесь авторством?
Надя была настоящий кукленок: бескровное личико, точно из горного хрусталя, густо вспыхнуло; глазки же стали — анютины; помотала каштановым локоном; и казалася бледною акварелькою:
— Нет.
— Отчего?
Но молчала, бросая под туфельки крошки клевавшему их красноперому петуху, и колечко играло сквозь зелень лиловою искрою с пальчика.
Кувердяев — ухаживал: он недавно поднес акростих, выражающий аллитерацию мысли; и Василисой Сергевной был акростих этот принят; и вытекали последствия: аллитерация могла углубиться или проще сказать: Кувердяев мог стать женихом.
Кувердяев был деятель: мало готовяся к магистерству и бросив свою диссертацию о гипогеновых ископаемых, он пустился мазурками мыслей себе вытанцовывать должность инспектора; у попечителя округа был он своим; попечитель устроил в лицее; давал он уроки словесности в частной гимназии Фишер; воспитанницы влюблялись в него, когда он фантазировал им за диктантами, выговаривая дифирамбы природе вздыхающим голосом, бросив в пространство невидящий, меломанический взор; но попробуй кто сделать ошибку, — пищал, ставил двойку, грозился оставить на час; тем не менее, — обожали.
Да, все это Наденька знала; когда обдавал ее грацией, точно стараясь, обнявши за стан, повертеться пристойною полькою с нею, она вспоминала, как зло он пищал на воспитанниц; с неудовольствием, даже со страхом она отмечала его появления — по воскресеньям, к обеду; входил он франченым кокетом, обдавши духами, изнеженно предавался словесности, с ней легковесничал, или рассказывал ей: Бенвенуто Челлини, мозаичисты и медальеры! И веяло — атмосферою барышень, а Василиса Сергевна — пленялася:
— А, а… Каково?..
Он, косясь на нее магнетическим глазом, удваивал пафос; и всех убеждал, что — среда заедает.
— Мы — нет! Нас заела среда!
Василиса Сергеевна говорила глазами.
— Каков привередник: совсем — капризуля.
И веяло атмосферою барышень.
7.
— Что же мы — здесь: пойдемте в гостиную лучше…
Прошли.
Бронзировка подсвечников и хрусталики люстры под кругом; лиловоатласные кресла с зеленой надбивкой, диван, — чуть поблескивали флецованным глянцем; трюмо надзеркальной резьбой, виноградинами, выдавалося из угольного сумрака; и этажерочка очень неясно показывала алебастровые статуйки и идольчик из Китая, — из агальматолита (китайского камня); с обой, прихотливых, лиловолистистых, подкрашенных прокриком темномалиновых ягод, смеющихся в листья, рассказывали акватинтовые гравюры про заседание Конвента, падение Бастилии, про Сен-Жюста, глядящего сантиментально на голубя, про Сорбонну, про веру и знание, соединенных одним общим куполом с акватинтовой надписью: (трудись и молись); черноярая мутность в углах накопала стоячие тени; сидели за столиком, обвисающим тканью; и перелистывали альбомы.
Перелетая с предмета к предмету, отщелкивал Кувердяев словечками, как испанскими кастаньетами; разговор его был — лепесточником; Надя казалася лилиевидной; профессор — раскис, выставляя коричневый клок бороды; он безгласил, посапывал носом так громко, что Василиса Сергевна, изображая приятное лицеочертание, бросила:
— Вы там счисляете что-нибудь, о, несносный числитель!
— Осмелюсь сказать, — знаменатель, поскольку Иван Иваныч собой знаменует науку российскую, — вычертил грациозную линию лизаной головой Кувердяев.
— Да, кстати, Василий Гаврилыч назначен на…
— ?..
— Пост министерский…
Василий Гаврилович Благолепов, недавно еще только ректор, теперь — попечитель, был вытащен в люди Иваном Иванычем: да, вот — Василий Гаврилыч, чахоточный юноша, лет восемнадцать назад опекался и распекался — вот здесь, в этом кресле; да, да — куралеса и, чорт дери, кулемяса! Он, старый учитель, сидит в этом кресле, забытый чинушами (быть только членом корреспондентом — не честь); ученик же — …
На Кувердяева полз коробкинский нос; поползли два очка на носу; потащили все это два пальца, подпертые к стеклам:
— Вы же, батюшка, развиваете, знаете ли, — лакейщину: что Василий Гаврилыч? Василий Гаврилыч, он есть — дело ясное — тютька-с!
Ладонью в колено зашлепал, кидаясь словами: как будто корнистой дубиной он действовал:
— Так может всякий; и, говоря рационально, — вы тоже, скажу, — лет чрез десять сумеете попечителем сделаться.
Кресло скрипело, звенели хрусталики люстры, поехала мягкая скатерть со столика; и припустилась столовая канарейка люлюкать.
— Вы вот распеваете кантилены — я вам говорю: я ведь, знаю; передо мною-то, батюшка, шла вереница таких заправил-с: Благолеповы — все-с — прокричал не лицом, а багровою пучностью он, — я протаскивал их — дело ясное: скольких подсаживал, батюшка, — не говорите — усваивали со мною они какую-то покровительственную, чорт дери… — не нашел слова он, передрагивая пятью пальцами, сжатыми в крепкий кулак вместе с ехавшей скатертью.
— Выйдет такая скотина в… в… — слова искал он, — в фигуру, казалось бы: есть момент водворить в министерстве порядок и рациональную простоту; дело ясное! Нет, — я вам говорю: продолжают невнятицу. А результаты? Гиль, бестолочь, авантюра, всеобщая забастовка — я вам говорю, — обливался он потом, мотался трепаной прядью волос.
— Я писал в свое время им всем докладные записки: Делянову, Лянову, Анову, — чорт дери — и другим распарш… членам Ученого Комитета; писал и Георгиевскому: обещал; ну, — и что ж? Пять записок пылятся под сукнами, говоря рационально!
Вскочил, озираяся, собираяся запустить толстый нос, бросил стекла на лоб; краснолобый ходил, зацепляяся неизносною размахайкою за хрустальную ручку:
— А был момент — говорю: наша жизнь определилася и оформулировалась; с утопиями — покончили: там со всякой невнятицей (с революцией, с катастрофами и прочими мистицизмами). Россия — окрепла… И можно было бы, я вам говорю, — помаленьку, — разбросить сеть школ и добиться всеобщего обучения. Приняли во внимание мою докладную записку об учреждении университета в Саратове, — поглядел и задетился глазками, но ему не внимали: — сидели чинуши и немцы-с; И в Академии немцы сидели! И этот великий князишка, — был с немцами-с; говорю — незадача!.. Царя миротворца и нет, говоря рационально: на троне сидит — просто тютька-с — я вам говорю… Посадили они тогда к нам генерал-губернатором педераста (еще хорошо, что взорвали). Что делали эти Некрасовы, Благолеповы? Протаскивали педерастов в директора казенных гимназий; ведь вот: Лангового-то — помните?.. Тоже вертелся все около Благолепова!..
Остановился и сел, задыхаясь в разлапое кресло; и темные, легкокрылые тени составили круг, опустились, развертывая свиток прошлого.
8.
С детства мещанилась жизнь мелюзговиной; грубо бабахнула пушкой, рукой надзирателя ухватила за ухо, таская по годам; и бросила к повару, за полинялую занавеску, чтобы долбил он биномы Ньютона там; выступила клопиными пятнами и прусачиным усатником ползала по одеялишку; матерщиною шлепала в уши и фукала луковым паром с плиты.
Без родных, без друзей, без любимых!
Под занавесочку хаживал Задопятов, соклассник, раздувшийся после уж в седовласую личность, строчащую предисловия к Ибсену (Ибсен — норвежский рыкающий лев, окруженный прекрасною гривой седин), — Задопятов, теперь превратившийся в светоча русской общественной мысли и справивший два юбилея, известный брошюрой «Апостол любви и гуманности», читанной в Петербурге, в Москве, в Курске, в Харькове, в Киеве, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Самаре, в Симбирске, в Варшаве, в Екатеринодаре (и — где еще?) и печатающий — правда редко — стишки:
Я, мучимый скорбью, встаю Из пены заздравных бокалов И в сердце твое отдаю Скрижали моих идеалов. Пред пошлым гражданским врагом Пусть тверже природного кварца Пребудут в сознаньи твоем Заветы прискорбного старца.Он — знамя теперь и глава «Задопятовской» школы: и критик, укрывшийся под псевдонимами «Сеятель», «Буревестник», писал, что: «Никита Никитович — лев, окруженный прекрасною гривой седин», перефразируя стиль и язык «задопятовской» мысли, и — кстати заметить: о сотоварище, друге всей жизни, профессор Коробкин однажды совсем неуместно сказал, что он — «старый индюк и болтун».
С Задопятовым некогда под линючею занавескою боролися с обступившей невнятицей; Задопятов заметил: «История просвещения распадается на два периода: от Гераклита невнятного до Аристотеля ясного — первый этап; с Аристотеля ясного — до Огюста Конта и Смайльса — второй; Смайльс — преддверие третьего».
С «Бережливостью» Смайльса уселся Коробкин; и — да: рациональная ясность сияла; устраивал мыльни клопам, пруссакам, фукам луковым, повару, переграняя все — в правила, в принципы, в наведения, в формулы; так он и выскочил в более сносную рациональную жизнь: кандидатской работою «О моногенности интегралов», экзаменом магистерским, осмысленной заграничною жизнью (в Оксфорде, в Сорбонне), беседами с молодым математиком Пуанкарэ, показавшим впервые ночные бульвары Парижа (Аллон, Коропки́н лэ булевар сон си гэ), диссертацией «Об инварьянтах» и докторской диссертацией: «Разложение рядов по их общему виду»; гремевшей в Париже и Лондоне книгою «О независимых переменных» пришел к профессуре; тогда лишь позволил себе взять билет на «Конька-Горбунка»; очень скудные средства не позволяли развлечься; и все уходило на собрание томиков и на выписку математических «цейтшрифтов», «контрандю» и «рэвю»…
Таковы достижения многолобых усилий, теперь попиравших невнятицу; полинявшую занавесочку, повара, комнатушку на Бронной (с пейзажем помойки); линялая занавесочка лопнула; томики книг разбежались по комнаткам табачихинского флигелечка, где двадцать пять лет он воссел, вылабанивая заветное сочинение — себя обессмертить: так вот «рациональная ясность» держала победу; невнятица же выглядывала из окошечка желтого дома напротив, где из под чижика фукала проживателем Грибиковым.
Все же боялся невнятиц: и заподозрив в невнятице что бы то ни было, быстро бросался — рвать жало: декапитировать, мять, зарывать и вымащивать крепким булыжником, строить на нем особняк из дедукций Лагранжа; но по́д полом, пленная, все же сидела она, — чорт дери: перекатывала какие-то шарики (говорили, что — мыши); боялся, что — вот: приподнимется половица, иль двери откроются, фукнет кухарка отчетливым луковым паром, по рябеньким серым обоям пруссак поползет.
Насекомых боялся профессор.
Скрижаль мирозренья его разрешалася двумя пунктами; и — пункт первый: вселенная катится к ясности, к мере, к числу, — эволюционным путем; пункт второй: математики (Пуанкарэ, Исси-Нисси, Пшоррдоннер, Швебш, Клейн, Миттаг-Лефлер и Карл Вейерштрассе) — уже докатилися; эволюционным путем вслед за ними докатится масса вселенной; вопросам всеобщего обучения он отдавался и верил: вопрос социальный — лишь в этих вопросах.
Он членам ученого комитета об этом писал.
Но проэкты пылели в архивах, а он углублялся в небесные перспективы, к которым карабкался с помощью лесенки Иакова, состоящей из формул, — до треугольника с вписанным оком, где он восседал саваофом и интегрировал мир, соглашаяся с Лейбницем, что этот мир — наилучший, что всякий не «этот», — когда-нибудь вкатится в этот: эволюционным порядком.
Потому ненавидел он привкусы слов: революция, мистицизм, пессимизм, полагая, что всякий толчок есть невнятица иль приподнятие сданного в архив Гераклита, с которым пора бы бороться при помощи членов Ученого Комитета и методов рационального обучения.
В мыслях он занял незанятый трон саваофа — как раз в центре «Ока»: зрачком его!
Правил вселенною — он при царе-миротворце; при Николае — толчки стали сызнова сотрясать половицы и плиты паркетиков табачихинского флигелька; и профессор взывал к рациональным критериям, потрясая очиненным карандашиком: «Ясности, ясности!» Требовал пересмотра учебного плана Толстого.
Но члены Ученого Комитета молчали.
Сперва был готов уничтожить «япошек» и он; за Цусимою — понял: народ, где идеи прогресса ввелись рационально, имел, чорт дери, свое право нас бить; революция 1905 года — расшибла: он с этой поры все молчал; и когда раздавалося ретроградное слово «кадеты», — в моргающих глазках под стеклами, точно в клеточке, начиналося бегство зрачков, перепуганно закатавшихся в замкнутом круге, почувствовав, что невнятицей стиснут и выдавлен; стать же безглавым и перепархивать, как другие, безглавицей этой от партии к партии нет — он не мог.
Отступил в интегралы — не видеть невнятицы, начинающей угощать очень грубо толчками под локоть, изламывая знак интеграла в. в… — в Водолея какого-то; проникать наподобие газа угарного в дом: Василиса Сергеевна объявила себя пессимисткою, следуя Задопятову, написавшему «Шопенгауэр, как светоч» (болтун, ренегат!); Надя следовала невнятице там какой-то поэзии; Митенька — чорт дери — лапил Дарьюшку; действия и распоряженья правительства, — но впервые им познанный ужас охватывал при попытке осмыслить все это.
Решил не спускаться по лесенке Иакова вниз, а пробыть в центре ока, воссев в свое кресло, ограненное катетами (эволюционизм, оптимизм), соединенными гипотенузою (рациональная ясность) — в прямоугольник, подобно ковчегу, несущемуся над темным потопом; единственно, что осталось ему — это изредка в форточку выпускать голубей, уносящих масличные веточки в виде брошюрок; последняя называлась: «Об общем и наибольшем делителе».
Вот он — очнулся.
Но где Кувердяев? Разгуливал с Наденькой в садике, видно; профессор остался один: и тяжелым износом стояла перед ним жизнь людская: невнятица!
Запах тяжелый распространился в квартирочке; слышались из передней какие-то крики: «фу-фу». И разгневанно Василиса Сергеевна в платье мышевьем (переоделась к обеду она) отыскивала источник заразы; ругались над Томкою Дарья с кухаркой; профессор вскочил и стремительным мячиком выкатился, услышавши, что источник заразы — отыскан, что Томочка, песик, принес со двора провонялую тряпку; и ел в уголочке ее; Василиса Сергевна и Дарьюшка отнимали вонючую тряпку; а пес накрывал своей лапой ее, поворачиваясь на них и привздергивая слюнявую щеку, грозил им клыком:
— «Рр-гам-гам!» Их оглядывал окрававленным глазом — обиженно; чем-то довольный профессор поставил два пальца свои под очки и мешал отнимать эту гадкую тряпочку, обращаяся к Дарье.
— Какая невкусная тряпка; и как это Томочка может отведывать гадости эти?
А Василиса Сергевна брезгливо поднявши край платья мышовьего, требовала:
— Отдай, гадкий пес!
Пес — отдал; и улегся, свернувшись калачиком, нос свой под хвостик запрятал и горько скулил.
Но тогда перед ним появился профессор Коробкин с огромною костью в руке (вероятно, он бегал за нею на кухню); совсем деловито заметил смеющейся Дарьюшке — «Знаете что. Этот пес — костогрыз…» Дирижируя костью над гамкнувшим Томкой, прочел свой экспромт (отличался экспромтами):
Истины двоякой — Корень есть во всем: Этот — стал собакой, Тот — живет котом. Всякая собака — Лает на луну; Знаки Зодиака Строят нам судьбу. Верная собака, В зубы на-ка, Том, Эту кость… Однако, — Не дерись с котом!………………………………………………………………………………………
Так он начал воскресный денек; так и мы познакомились этим деньком с заслуженным профессором, доктором Оксфордского Университета.
9.
Но тут позвонили.
Собаку убрали: мог быть попечитель Василий Гаврилыч; ну, и — так далее; Дарьюшка дверь отворила, и — кто же? Да Киерко.
— Здравствуйте Киерко.
— Рад-с — очень, очень-с — тер руки профессор; и подлинно: видно, что — рад; посетитель, щемя левый глаз, моргал правым, как будто плескал не ресницами, а очень быстрыми крыльями рябеньких бабочек; все же сквозь них поколол, как иголочкой, серым зрачечком, и им перекинулся с Василисы Сергевны к профессору; и от профессора — к Василисе Сергевне; на зоркости эти, как занавес, он опустил — благодушие, даже ленцу.
Это был человек коренастый и лысенький, среднего роста и с русой бородочкой: правильный нос, рот — кривил; был он в рябенькой паре; он в руку профессора шлепнул рукой с таким видом, как будто бывал ежедневно; как будто он свой человек; и как будто ровнялся с Иван Иванычем:
— Где это вы пропадали? — дивился профессор.
Провел в кабинетик.
А Киерко тотчас же заложил за жилет свои руки — у самых подмышек; и палец большой защемил за жилетом; поколотил указательным пальцем и средним по пестрым подтяжкам, видневшимся в прорезь жилета:
— Ну-с — ну-те: как вы?
Дернул лысиной вкривь; и вперяясь зрачком в край стола, поймал шум голосов из гостиной:
— У вас это — кто же?
— Да Кувердяев — смутился профессор.
— Бобер, — не простой, а серебряный — локти расставил, побив ими в воздухе — как же здоровьице — ну-те — Надежды Ивановны? — быстрый зрачок перекинулся с края стола на профессора; и от профессора — к краю стола: пируэтиком эдаким ловко подстреливал Киерко то, что желали бы скрыть от него в смысле жеста, намека, движения глаз, иль дрожанья губы.
Ведь — подметил же: подцепил он профессора: тот — как забегает; Киерко только с ленцою вкрапил, подплеснувши ресницей:
— Ну, я ж бобруянин, провинциал, стало быть; вот и бряцаю — ну-те: бездомок!
Прошелся вкривую; остановился, стоял, заложив свои пальцы за вырез жилета привздернувши лихо плечо, оттопырив края пиджака; и с вниманьем разглядывал он пруссачишку, зашевелившего усом на крапе обой.
— Скажу: все поколение — ну-те: да бобылье же!
Профессор смотрел на него, подперевши очки — с удовольствием, даже со смаком, как будто превкусное блюдо ему предстояло отведать; да, Киерко приносил ни с чем несравнимую атмосферу, распространяемую мгновенно и сохраняемую надолго; бывало уйдет, — атмосфера же в комнате виснет: и бодро, и киерко.
— Бобылье — плеснул веком; зрачком же слепительно быстро провел треугольник: пруссак — глаз профессора — желтый паркетик — пруссак; и — поймал что-то там.
Подбоченился правой рукой; указательным пальцем левой он сделал стремительный выпад в профессора, точно исполнил рапирный прием, именуемый «прима» и будто воскликнул весьма укоризненно, бесповоротно: «J'accuse!»
— Вы же — бобыль, как и я; богатецкий обед и там всякое — ну-те: да это же — видимость; мы земляки, по беде.
И — пруссак — глаз профессора — желтый паркетик — пруссак:
— Как хомут, повисаем без дела… А впрочем — вкрепил он — хомут довисит до запряжки.
И сделалось: тихо, уютно, смешливо; но — жутко чуть-чуть: занимательно очень. Увидевши Томочку, носом открывшего дверь, поприсел: щелкнул пальцами:
— А собачевина, «Canis domesticus», — здравствуй: пословица есть — обернулся он с корточек — «любишь меня, полюби и собаку мою: собачевина, лапу!»
Схватив Томку за ухо, ухо на нос натянул — на соленый, на мокрый, на песий:
— Породистый понтер; а шишка-то, шишка-то: мой собратан, — улыбнулся он вкривь на профессора, очень довольного ярким вниманием к псу — «я — животное тоже, но я — совершенствуюсь; ты пока — нет.»
И ведь вот — вновь «поймал»: выражение сходства профессора с псом — в очертании носа и челюсти.
Киерко хвастал вниманьем к безделицам: мелочи он наблюдал; и потом соблюдал воедино; и так соблюденное, людям бросал прямо в лоб: выходило же и интересно, и ярко, а память его походила на куль скопидома: оттуда все сыпались разные черточки, полуштришки, мелочишки: сказали б, что — отбросы; но, — из них Киерко строил свои непреложные выводы: даже казался порой воплощенным прогнозом, железной уликою; но до какого-то срока — он медлил: натягивал завесь ленцы, прибауточек шуточек; взглядывал, сиживал, зевывал, странничал, — все с прибауточками, да с покряхтываньем; и ходил с — перевальцем.
Он делал, казалось, десятую долю возможного: вяло пописывал в «Шахматном Обозреньи» под разными подписями: «Цер», «Пук», и «Киерко»; звали же все его: Киерко, так он просил:
— Называйте же — ну-те — меня просто «Киерко»: по-настоящему длинно; и чорт его знает: «Цецерко-Пукиерко».
Делал десятую долю, а прочие девять десятых пролеживал лет двадцать пять на диванчике — в доме напротив, стоящем средь пустоши очень большого двора: в трехъэтажном, известковом, белом; там первый этаж занимали одни бедняки, а второй был почище. Здесь Киерко жил; и отсюда захаживал в шахматы биться он двадцать пять лет (холостым еще помнил профессора); этот последний над ним призадумался:
— Умная шельма Цецерко-Пукиерко: жалко — лентяй.
Иногда начинало казаться: за эту десятую часть ему жизнью отмеренных данных хваталися люди, — и очень, считая присутствие Киерко просто опорой, себе, когда — все исчезало другое. Профессор заметил: когда он испытывал прихоть себя окружить атмосферою Киерко, — Киерко тут и звонился, являясь с ленцою, с лукавым уютом, как будто с минуты последнего их разговора лишь минуло двадцать минут, и как будто вздремнул в смежной комнате Киерко.
Он никому не мешал; он казался простым соблюдателем всяких традиций квартиры: с профессором игрывал в шахматы; с Надей разъигрывались дуэты (тащил он с собой тогда виолончель); с Василисой Сергевною спорил, доказывая, что и «Русская Мысль» никуда не годится, и «Вестник Европы»; с кухаркою даже солил огурцы; пыхал трубочкой, дергался правым плечом и носком, заложив за жилетиком палец — у самой подмышки: и здесь выколачивал пальцами дроби: смешливо и «киерко».
Вдруг — исчезал; не показывал носу; то снова частил; и профессорше даже казался проведчиком:
— Этот Цецерко, — скажу «а пропо» — он не пишет ли в «Искре?»
— Ах, Вассочка, что ты, — хихикал профессор.
Однажды спросил:
— Расскажите мне, Киерко, что вы там собственно…
Киерко, в губы втянувши отверстие трубочки — («пох» — вылетали клубочки), ответил ведь, — чорт его драл — на вопрос затаенный:
— Собрания, совокупленья людские — пох-пох — запрещаются же строжайше законами, — ну-те…
Щемил левый глаз; и уткнулся бородкой и трубочкой под потолочек:
— У вас паутиночки: вам бы почистить тут надо.
И свел всю беседу — к чему? К паутинке!
Сегодня профессор был Киерке рад; еще утром подумалось:
— Вот бы пришел к нам Пукиерко: поиграли бы в шахматы.
Он и пришел.
Сели: доску поставили, — передвигали фигурами:
— Ну-те ка… Ферзь-то… А нового что?.. Благосветлова — а!
— Беру пешку.
— Движения ждете воды? — И зрачок, как сверчок, заскакал по предметикам; Киерко им овладел:
— А что, если — профессор продвинул фигуру — да нет: будет все, как и было.
— Он — ну-те — им нужен — скривил ход коня — сволокли рухлядь в кучу; и «сволочь» такую хранят: дескать — быт и традиция… Это ж попахивает миазмами: нет, я, вы знаете, санитар, — и он вкрапил: — «вы — ферзью?»
— Вы, Киерко, есть социалист, — благодушил профессор.
— Да как хотите; а вы «консерватор?» Нет, знаете — кто? — повертел он носком, вынул трубочку, ею постучал, чиркнул, фыркнул, вкурился и — «пох-пох» — клубочки выстреливали.
— Дело ясное: — ферзью пойду.
— Вы есть анархист: разрушитель: перекувыркиваете математикой головы… Ну-те: да вас бы они уничтожили; вы и прикинулись, будто, как все; совершенно естественно: там патриотика, всякое прочее; были ж «япошки?» Да что, — консерватором сделались: это, позвольте заметить, — как кукиш показанный: надо же жить математику — ну-те… — вкурился, и лихо откинулся, вздернувшись трубочкой, пальцы свои заложил за подтяжки, носок пустил «вертом»:
— А консерваторище не вы — Задопятов — суглил зрачком в доску:
— Съем — ферзь.
— Чорт дери.
— Да-с, либералы — матерые консерваторы, — ну-те; на свете навыворот все: волки выглядят овцами, а овечки — волками — «пох-пох» — вылетали клубочки, и трубочка шипнула.
Встал и привздернул плечо, и — вкривую прошелся, щемя левый глаз, и поплескивая правым веком:
— Ну-те ка — содробите две дроби, которых числители, скажем, — «два», «три».
— Я найду наименьшее кратное — изумился профессор.
— А далее?
— Я числителя каждой умножу на кратное.
— Ну-те: и мы так — согнувшись дугой, стрельнул пальцем в профессора:
— Наименьшее кратное — уравнение экономического отношения, а умножение — рост богатств: прежде чем множить богатства — равнение по наименьшему кратному: фронт единый.
Профессор, не слушая, над опустевшей доскою, приподнял ладонь:
— Чорт дери, — попал в «пат»: и ни шах, и не мат.
Атмосфера уюта — висела; и стало — немного смешно, чуть-чуть жутко.
И киерко.
10.
Уж Митя и Грибиков выбиралися из горлодеров базара — к Арбату, проталкиваясь в копошащемся и гнилом человечнике; перессорились пространства, просвеченные немигающим очерком медноцветного диска.
И вот — неизбежный Арбат: громобойная улица.
Остановившийся Грибиков, еле справившись с чохом, уставился в Митю нагноищами лиховещавых зрачков:
— Много, стало быть, у вас книжиц.
И — да: не лицо, а кулак (походило лицо на кулак — с носом, с кукишем) выставил Митя:
— А вам что?
Казался надутым купырзою:
— Я вот думаю, коли вы раздаете такие изданья наук, с позволения вашего, — так, что и даром… Чахоточный красноплюи разводит.
— Что?
— Этот вот — Грибиков показал: кто-то кашлянул кровью.
— Продашь.
— А его бы пора на Ваганьково, — неответствовал Грибиков; и, пройдя шагов десять, обчхался.
— Чихач… Стало, батюшка — не снабжает деньжатами? — продолжал он мещанствовать:
— Денежки нынче и крысе нужны — злохотливо прибавил.
— Не очень, — как видите…
— Что?..
— Не снабжает…
— Какой приставала, — подумалось Мите, — отделаться бы… Но лицом показал тупоумие.
— Не разумею я — пуще примаргивал Грибиков, — был бы оравистый, многосемейный ваш дом; а то сам, да мамаша, да вы, да Надежда Ивановна; проживает сам — четверт, а деньги жалеет.
И Грибиков покачал головой.
— Ну, прощайте, мне надо тут — отвязывался Коробкин.
Едва отвязался.
А Грибиков тут же свернул Притетешинским Кривогорбом; потек в горлодеры базара с какою-то целью опять, соображая его занимавшее обстоятельство (брал не умом, а усидкою, подмечая и зная про всех), правил шаг в распылищи, где те-же белесые купчики облапошивали несознательных граждан; расталкивался по направлению к тяжелому старику, — тому самому букинисту:
— Вы мне покажите, отец, сочинителя Спенсера, том второй — этот самый, который барченок оставил: — даю две полтины.
— Рупь с четвертью.
Поговорили и сторговали; почесывались:
— Стало носит?
— А што? Все таскается: сорок книжек спустил, я так думаю, что — уворовывает.
— Родителевы! Профессором, богато живет, — енарал; я давно подмечаю, — со связками малый из дому шатается по воскресеньям; смотреть даже стыдно.
— А все они так: грамотеют, а после — грабошат; отец, ведь, грабошит: я знаю их.
Грибиков с томиком Спенсера свертывал с улицы в Табачихинский; бесчеловечные переулки открылися; человечили к вечеру; днем — пустовали.
Вот дом угловой; дом большой; торопился чернявенький, маленький: в распенснэ; глаза — вострые; шляпа — с полями; и Грибиков знал его: барин, с Никольского — Гершензон; здесь проходят «они» воскресеньями, к господину Иванову, сочинителю. Господин сочинитель Иванов, с Григорием Алексеевичем (от Кудринской, от Садовой) да с Николай Николаичем от церкви великомученицы Варвары Ликуй-Табачиха, — в преумственные разговоры припустятся; Степанида, кухарка Иванова (Вячеслава Иваныча) ходит на двор к ним: и барин Рачинский взовет с папироской: «Исайя ликуй»; и пойдут они — взапуски; господин сочинитель Иванов туманов подпустит: дымят до зари; ничего — безобидные люди. Да, Грибикову — все известны: дома и квартиры — по Табачихинскому и по семи Гнилозубовым; например, этот дом: почему он пустует? Китайский князь двадцать пять лет подавившийся костью, является здесь по ночам: подавиться; он давится каждою ночью; нет мочи от этих давлений. Княгиня живет за границей, с княжною, которая выйти замуж не может: она поступила давно на военную службу; такая есть армия там: называется армией спасения жуликов.
11.
Размышляя прошел уже Грибиков, дергаяся ногами, на двор мимо лысины с бутылочным битышем, к трехъэтажному белому дому; и разговаривал там со старушкою, кувердящейся чепчиком из разлинялых кретонов: в окошко; старушка показывала на бледную барыню:
— И то — «дядя Коля», и се — «дядя Коля»; все «дядя» да «дядя», а говорят: «дядя Коля» — не дядя… Коль дядя, так «дядею» будь, а то «Колею» называет его: сама слышала.
— Николай он Ильич, из Калошина… — отозвался ей Грибиков.
— И мемекает песенки с нею.
А барыня, о которой шла речь, вся закуталась тарлатановой кисеею; летами страдала сонной лихорадкой она; осенями же — потом ночным (терпентиновый запах сопровождал ее); против — над домиком, над кирпичнокоричневым — вздуло белеющий клок раскосматого облака: облак — замраморел пятнами тени; и пели:
Прости небесное созданье, Что я нарушил твой покой.Сидел на приступках мужчина, такой синяковый, волдыревший: пустобай, заворотник, которому пустозвонят года, с бородою песочного цвета, красновеснушчатый, красноглазый; зевай-раззевайский пускал он на драный сапог; ему Грибиков очень дельно заметил:
— Пошел в разизноску, Романыч.
Попробовал пальцем подпёк, и на палец уставился, точно увидел он что-то.
— Опять синяки расставляешь себе на лицо.
И понюхал свой палец.
Мужчина чесался: открыл кривой рот и обдал перегаром и паром:
— Бутылочку раскутырили: был посуды раскок… Жизнь мою — размозгляило что-то.
Подрыльником ткнулась в колено свинья, оставляя пятно.
— Эх, Романыч, погряз без призора: возгривел, — скривился с досадливым прохиком Грибиков — ты на лицо посмотри: баклажан.
— Ничего, сударь: «пиво» — и он погрузился не то в непрогонное, горе, не то в равнодушие.
— Тут подслушливый люд: примечают, чтоб после судачить; пойдем-ка, брат. Отворили драную дверь, из которой подвыпирало мочало; попали в кухню, где баба бабахала за кастрюлями, источая лицом параванское масло из пара и дыха, где таракашечки разбыстрялись, усатясь под краном; тут салился противень. Прошли кухнею, корридорчиком. Дом людовал, тараканил, дымил и скрипел; стекла мыли, стоял визголет и дзындзындза; и пол был заволглый, прикрытый дорожкою коврика с пятнами всяких присох, с псиночесами.
Скрипнул визжавый замок; охватило придухою, паревом комнатеночка, с заварызганною постелью, накрытою одеялом лоскутным, с протертым комодиком, на котором древнели прожелчиной дагерротипы и пырскали моли; мужчина уселся на жестяной сундучек и ударился в непрогонное горе; а Грибиков, палец понюхав, вошел в разговор, вероятно, когда-то начавшийся и имеющий продолжение.
— Думай, Романыч, чего тебе так-то.
Мужчина сучил желтомохую руку, сопел и показывал красномордое тупоумие.
— Здесь и помру я: и нечего мне собираться; куды мне деваться.
— Ведь давеча согласился же: александрейку-то взял!
— Взял и пропил: и нет тебе — «фук», возьму и еще, и опять-таки, выпью.
— Так думаешь — тебе барин Мандро и…
— Подарит, коли есть потребность в клоповнике в этом.
— Тебе-то клоповник — зачем. Тебе вот клоповник, другому кому — палестины — раскрысился Грибиков; не посмотрел, а глазами огадил, как будто подвыхаркнул поплевочек — зачем тебе комната: проживешь годов пять, да помрешь: на полатях.
— А может еще и женюсь…
— Эх, Романыч, оставь — разведет краснопузиков тебе баба брюхатая. Сотенку барин Мандро предложил за вмещение этого самого своего человека — лизнувши свой палец, попробовал его он, — это дело тяпляпое: воспротивится фон-Мандро; да ведь он фон-Мандро, — и скоряченный Грибиков шипнул под ухо: — подумай, — чем пахнет, уж он сумеет сгноить: по участкам протащит, отправит тебя с волчьим пачпортом по этапу.
Мужчина же — в рявк:
— Кулаком-то сумею расщечить его: знаем мы — фон-Мандро, фон-Мандро. Я и сам фон-Мандро; ну, чего в самом деле пристали: я давеча этого самого, для которого — видел; тащился сюда развынюхивать воздухи, — пакостный, от земли пол аршина, с протухшею мордой, без носа… Чего меня гоните, — тут он упал головою на стол и закрывши лицо кулаками, стал всхлипывать: — люди добрые — едят поедом.
— Александрейки-то брал, — трясся в бешенстве Грибиков, так зашипев, как кусочек коровьего масла, который уронят на сковороду; желтый чад над словами пошел; всего и расслышалось:
— Он тебя, брат, уж заставит лизать сковородки, барахтаться в масле кипучем; он, брат, не как прочие: он — мужчина геенский.
Но спохватившись, прибавил претоненьким, даже сладеньким голосом, чтобы слышали стены, поняв, что есть уши у стен:
— Носа нет, человек больной — что же такого! А что барин Мандро его ищет призреть, так за это пошли ему бог.
Вдруг стена, очевидно имевшая ухо, проголосила по бабьи:
— Романыч, свет, ты уж крепись: сгноят тебя вовсе; ты — в палнате правов: комната плочена, кто же погонит. А все с перепою… Скажу я вам, Сила Мосеич, и очинно даже нейдет в ваши годы таким страхованием себя унижать: захмелевшего человека гноить.
Так сказавши, стена замолчала: верней, — за стеной замолчали и Грибиков фукнул в кулак себе:
— Чтоб тебе, стерва.
И вышел, — сидеть на скамье, подтабачивать воздухи, ожидая, что воздухи вот просветятся и мутное небо под небом рассеется, чтобы стать ясным, — обирюзовиться к вечеру, и что лопнувший диск в колпаке небосвода, кричащий жарой, станет дутым, хладнеющим, розовым солнцем, неукоснительно улетающим в пошелестение кленов напротив; войдет просиянием в облако, чтобы после, уйдя, разменяться — в растленье, в затменье.
Подхватит тогда краснокудрый дымок из трубы этот дуй вечеров; и воззрится из вечера стеклами красноокий домишечка в стекла коробкинских окон, чтоб после под мягкой периною тьмы почивали все пестрости, днем бросающие красноречие пятен, а ночью притихшие в чернышищах; и ноченька за окошечками повеселится, как лютиками — желтоглазыми огонечками: ситцевой черно-желтою кофтой огромной старухи, томительно вяжущей спицами серый чулок из судеб человеческих; за воротами свяжется смехотворная скрипитчатая, сиволапые краснобаи; и кончится все размордаями, подвываньями бабьими; у кого-то из носу пойдет краснокап; и на крик поглядит из-за форточки перепуганный кто-нибудь.
Грибиков будет беззвучно из ночи смотреть.
Мы напрасно обманывались, будто Грибиков — сел в подворотне: отправился предварительно с томиком сочинителя Спенсера он в трехоконный свой желтый домок: — поскрипеть со стеною над томиком, ожидая каких-то негласных свиданий, быть может — старуху, которая кувердилась чепцом из линялых кретончиков в черной кофте своей желтоглазой, которая к вечеру, распухая, становится очень огромной старухою, вяжущей тысяченитийный роковой свой чулок. Та старуха — Москва.
12.
— Апропо́, — скажу я: Лиховещанские на журфиксе — при их состоянии — ставят на стол всего вазочку с яблоками, да подсохшие бутербродики с сыром, а, как его, Тюк…
— Двутетюк, а не тюк…
— Двутетюк…
— Двутетюк не есть тюк… И не стыдно тебе, — повернулся профессор — дружок, заниматься такими, — ну право же — пустяковинами.
Василиса Сергеевна перетянулася злобами, как корсетом:
— Но жизнь такова: это вы улетаете в эмпиреи, не принимая в расчет — скажу я — что у Наденьки нет выездного парадного платья.
Запрыгали в комнате черными кошками злобы.
— Мой друг — перочинный свой ножик подкидывал он — это — мелочи; посмотри-ка: — вот алгебра, глядя в корень, приподымается буквенным обобщением над цифрой — наставился носом на муху; и Василиса Сергевна кисло схватилась за пульвильзатор: попрыскала ароматами:
— Мы-то — не цифры: у Задопятова сказано…
И прочла:
Тебе внятно поведуют взоры, Ты его не исчислишь числом, — Тот порыв благородный, который Разгорается в сердце моем…Протянула она пульвильзатор, прислушиваясь к созвучию задопятовских слов:
— Задопятову вышиваю я красный атласный накнижник.
Опять Задопятов!
— Ну что ж, — вышивай хоть набрюшник.
И стоногие топы пошли корридором, наткнулись на Митю, ушедшего в думы о том, как в последнее посещенье Мандро у Лизаши заметил под мышками дырочку он; когда поднимала она свою ручку, то были видны видны ему…; влажно глаза загрязнились, и он улыбнулся маслявым лицом; эта нервная девушка ручкою спать не давала в ту ночь: и пугался в окне краснорожего месяца он. Повернувшийся профилем, Иван Иваныч псовою мордой в граненую ручку от двери уставился — с недружелюбною тупостью; лоб надтрудил он распухшими жилами, изъерошивая яркокарие космы: перед сознанием несся вихрь формул и формулок, проделывающих фигуры кадрили:
— Ну кто тебя — дело ясное — спрашивал?
— Спрашивали… по русскому языку…
— Ну и, собственно говоря, что же ты?
Митя знал, что когда-то отец получал только «пять», что с «четверками» сына не мог бы никак помириться, на «тройки» кричал, а от «двойки» бы слег; Митя — вспыхивал, супился, грыз заусенцы, глазами двоил.
— Получил… я… пять…
— Дело ясное: ты одежду-то, что же, разъерзал! Какая-то замазуля!
И в желто-серые сумерки, где выступали коричнево-желтые переплеты коричнево-серого шкапа, прошел псовой мордою; со стола пепелилось растлением множества всяких бумаг, бумаженок, бумажек, бумажечек — че́рченых, перечерченных, перепере… — и так далее, Иван Иваныч ощупал мозольный желвак (средний палец на правой руке) и бумажки надсверливал глазками, собирался перечеркнуть перечерки последнего вычисления в перепере… и так далее; потопатывал очконосым суетуном от стола к книжной полке.
Копался, трясясь жиловатой рукою над книжными полками, суетливо отыскивая ему нужное изыскание Бэна; и — не было: стоял — второй том; первый том — чорт дери — провалился сквозь — чорт дери — землю. С недавнего времени, глядя в корень, — он взял на учет один факт: в библиотеке исчезала за книгою книга; математические сочинения оставались нетронутыми; естественно же научные трогала чья-то рука.
Уж обхмурились сумерки: в краснокожем том небе стоял черно-чортом пожар над домами; косилось окошечко красноглазого дома; надтуживая себе жилами лоб, и испариной орошая надлобные космы, затрескал он дверцами книжного шкапа, бросался на книги, расшлепывая их кое-как друг на друге и кое-как вновь бросая на полки их, — Бэн пропал; и — некстати: туда, меж страницами он хоронил свои листики вычислений, весьма-весьма нужных (а письменный стол был набит ворохами исчисленного):
— В корне взять, — чорт дери.
Он погрохал томами и креслами; гиппопотамом потыкался, охая, — от полки к полке; от кресельных ручек — к столу; там очки закопал в вычислениях, взвеивал из бумаг в воздух — верт, разорвал на себе разлетайку и, наконец, — слава богу — вздохнул в краснозданные воздухи, отыскавши очки… — у себя на носу.
Там, в окошке, — стояла брусничного цвета заря: но брусничного цвета заря — предвещала дожди.
Обезгранилась мысль и ушла в подсознание, — от зари ли, от грусти ли, пульс вычислений не бился в виске; он прислушивался, как щелкали говорком по паркету носки сапожков, как умолкли; проплаксила дверь; тихо шавкали туфлями — и синелиловые, и безлицые: Василиса Сергевна шавкала; Наденька, в рябеньком платьице гнулась с иглою теперь над пришивочным аграмантиком.
Слышал:
— Такого фасона не носят.
— Подчинится одежда, так зиму — проносится.
— Ты бы подшила распорочек.
Лампа отбросила желтолапую лопасть, маячили под окошками искорки домиков; точно сквозь сон долетело:
— Не сделать ли нам бешбармак из говядины, барыня?
Как полководец, — устраивал смотр интегралам.
В их ворохах созревало математическое открытие, допускающее применение к сфере механики; даже — как знать: применение это когда-нибудь, перевернет и механику, изменивши возможности достижения скоростей — до… до… скорости светового луча. Очень скоро откроют возможности строить быстрейшие механизмы, которые уничтожат все виды движения.
Рука в фиолетовых жилках тряслась карандашиком: забодался над столиком — в желтолобом упорстве; локтями бросался на стол; и — надгорбился, подкарабкиваясь ногами на кресло, вараксая быстреньким почерком — скобки, модули, интегралы, дифференциалы и прочие буквы, сопровождаемые «пси», «кси» и «фи».
Автор толстеньких книг и брошюрок, которые были доступны десятку ученых, разложенных меж Берлином, Парижем, Нью-Йорком, Стокгольмом, Буайнос-Айресом и Лондоном, соединенному помощью математических «контрандю», разделенному — океанами, вкусами, бытами, языками и верами; каждая начиналась словами «Положим, что:» далее — следовала трехстраничная формула, — до членораздельного «и положим, что»; формула (три страницы) — до слов «при условии, что»; — и формула (три страницы), оборванная лапидарнейшим «и тогда», вызывающим ряды новых модулей, дифференциалов и интегралов, увенчанных никому непонятным, красноречивым: «Получим»; и — все заключалося подписью: И. И. Коробкин; и если брошюру словами прочесть, выключая словесно невыразимые формулы, то остались слова бы: «Положим… Положим… Тогда… Мы получим» и — вещее молчание формул, готовое бацнуть осколками пароходных и паровозных котлов, опустить в океаны эскадры и взвить в воздух двигатели, от вида которых, конечно же, падут замертво начальники генеральных штабов всех стран.
Четыре последних брошюры имели такое значение; их поприпрятал профессор; последняя, вышедшая в печати, едва намекала на будущее, понятное только десятку ученых, брошюры Ивана Иваныча переводились на Западе, даже на Дальнем Востоке; сложилася его школа; и Исси-Нисси, профессор из Нагасаки, уже собирался в Москву, для того чтобы в личной беседе с Иваном Иванычем от лица человечества выразить, там — ну, и так далее, далее…
Он разогнулся, надчесывал поясницу («скажите пожалуйста, — Том-блоховод тут на кресле сидел»); и обдумывал формулы; копошился в навале томов и в набросе бумаг, и разбрязгивал ализариновые чернильные кляксы: набатили формулы: «Эн минус единица, деленное на два… Скобки… В квадрате… Плюс… Эн минус два, деленное на два, — в квадрате… Плюс… И так далее… Плюс, минус… Корень квадратный из»… — мокал он перо.
Стал морщаном от хохота, схватываясь руками за толстую ногу, положенную на колено с таким торжествующим видом, как будто осилил он двести препятствий; горбом вылезали сорочки; и щелкал крахмалами, вдавливая под подбородок в крахмалы; щипнув двумя пальцами клок бороды, его сунул он в нос.
Хохотали и фавны, просовываясь резаными головками в кресельных спинках; над ним из угла опускалась ежевечерняя тень; уж за окнами месяц вставал, и лилоты разреживались изъяснениями зеленобутыльного сумрака; ставились тенями грани; меж домиками обозначился — пафос дистанции.
Медленно разогнулся, и у себя за спиною схватился рукою за руку: от этого действия выдавился живот; голова ушла в шею: казалася в шлепнутой в спину; тежеляком и приземистым, и упористым, бацая от угла до угла, вспоминал:
— Вот пришел бы Цецерко-Пукиерко: поиграли бы в шахматы.
Разветрилося.
……………………………………………………………………………………………
Вечером, — шариком в клеточке хохлится канареечка; полнятся густо безлюдием многоцветные комнаты, а из угла поднимается лиловокрылая тень; из нее же темнотный угодник в углу, из-за жести, вещает провалом грозящего пальца.
Лиловая липнет к окошку: Москва.
13.
Со свечкой нагарною со́-черна шел он.
И желклые светочи свечки вошли косяками, и круг откружив, разлеглись перерезанно; там, из-под пальмы, казалася Наденька худенькой лилией, ясно разрезанной лунною лентой:
— Дружок, к тебе можно?
И малые, карие глазки потыкались: в Наденьку, в набронзировку, в салфеточку кресельную, — антимакассар.
— Что вы, папочка, — и протянулася: личиком, точно серебряной песенкой, глянула:
— Так, на минуточку… — он вопрошал приподнятием стекол очковых; стоял — доброглазил.
Явление это всегда начиналося с «не помешаю», «минуточку», «так себе»; знала — не «так себе», а — нутряная потребность: зашел посидеть и бессвязною фразою кинуть.
Умеркло уселся в лиловатоатласное кресло, разглядывая деревянную виноградину, — вырезьбу, крытую лаком; катал карандашик: и им почесался за ухом; когда сквозь леса интегралов вставал табачихинский дом, номер шесть, то он — шел себе: к Наденьке.
— Папочка, знаете сами же вы: никогда не мешаете…
Встала и личиком ясно точеным, как горный хрусталь, отсияла в луне она.
— Так-с.
Он пошлепал ладонью в колено: очинивал мысль.
— Ну?
— Что скажете, папочка?
— Да ничего-с.
— Она знала, что очень «чего-с»: и ждала.
Оконкретилось: дело ясное!
— Кувердяев…
— Я — знала.
Она улыбнулась.
— Что скажешь?
— А вы?
И оправила заворотной рукавок.
Заходил дубостопом (ведь вот грубоногий!): хрусталики люстры дилинькали; милым прищуром не, так себе, глазок — анютиных глазок — его приласкала: он был для нее главным образом, — «папочкой».
— Что же сказать: Кувердяев — фальшивый и злой.
Он прошел, не сгибая колена, к стене, где обои лиловолистистые, с прокриком темномалиновых ягод над ним рассмеялися: прокриком темномалиновых ягод; рассеянно ягоду он обводил карандашиком:
— Разве не видите сами?
Дубасил словами по темномалиновой ягоде, голову круто поставя, как бык:
— Да, как можно… Ведь деятель, сказать ясно, весьма уважаемый в округе… Он… Попечитель его… А ты — ты вот как…
Все ж, чем-то довольный — потер он ладони:
— По правде сказать — завиральный мужчина…
Себя оборвал:
— Впрочем, — в корне взять…
— Видите?
И по-простецки пошел, повисая плечом, — сложить плечи в диван и оттуда нехитро поглядывать: широконосым очканчиком.
— Э, да вы, папочка, — вот какой: хитренький — заворкотала, как горлинка, смехом Надюша.
— Ах, что ты!
— Вы сами же рады тому, что сказали.
— Да бог с тобой!
— Уж не хотите-ли видеть меня вы мадам Кувердяевой?
И распустила пред зеркалом густоросль мягких, каштановых прядей.
— Зачем представляетесь!
Ясно прошлась в его душу глазами:
— Довольны?
Улыбкой, выдавшей хитрость, расплылся и он:
— Да, — взять в корне.
Молчал и таскал из коробочки спички: слагать — в параллели, в углы и в квадраты; подыскивал слов: не сыскались; безгранилась мысль — потекла в подсознание:
— Главное, — мать твоя: ей Кувердяев…
Но ротик у Наденьки кисленький стал:
— Зачиталась она Задопятовым.
Стал краснолобый: лицо пошло пятнами; в мыслях зажглись красноеды: вкопался в сиденье, вихорил хохол:
— Говоря откровенно, — дурак Задопятов: какие же это труды! Это — борзопись, борзопись…
— Он бородой вышел в люди и разве что носом — смеялася Наденька.
— Набородатил трудов: лоб с вершок, — в корне взять…
— А власы — с пол-аршина… Оставьте же мамочку: мамочка разве что видит.
— Томами распух и власами распространился… до… до… академии, чорт дери — не унимался профессор.
Неяснилось: прыснуло дождичком; дождичек быстро откапелькал.
Встал и побацал шагами:
— Да, да, знаешь ли…
Удивлялся в окошко: блуждание с лампой из окон соседнего домика взвеивало чертогоны теней на соседнем заборике:
— Знаешь ли ты, — непонятно… Куда все идет?
Там лиловая липла в окошке.
— Утрачена всякая рациональная ясность.
Побацал: сел снова.
— Вот Митенька — тоже…
Представился Митя, двоящий глазами, такой замазуля, в разъерзанной курточке, руки — висляи, весь в перьях: там он улыбался мозлявым лицом, когда Дарьюшка мыла полы, высоко засучив свою юбку: стоял и пыхтел, краснорожий такой; тоже — утренний шепот: «Масленочек, марципанчик». «Пожалуюсь барыне».
— Дарьюшка, знаешь ли, — как то… Пятки́ получает…
— Какие пятки́?
— Я о Митеньке.
Пальцами забарабанил он: тра́-тата, тра́-тата, тарара́-тата.
— Да-с. — тарара́-тата.
Слышалось в садике жуликоватые шепоточки осин с подворотнею; шлепнулось сухокрылое насекомое в комнату.
— Он — молодой человек, — в корне взять, — и понятно… А все-таки, все-таки…
Но про свое наблюдение с Дарьюшкой, — нет: он — ни слова; ведь Наденька — да-с, чего доброго, — барышня… Так, покидавшись бессвязными фразами с ней (Кувердяев, невнятица, Митенька), взял со стола он нагарную свечку:
— Ну спи, мой дружок.
— Спите, папочка.
Чмокнулся.
Со́-света снова в глазастые черни ушел он: в тяжелые гущи вопросов, им поднятых.
Надя сидела под пальмами; тихо глядела на бисерный вечер, где месяц, сквозной халцедон, вспрыснув первую четверть, твердился прозрачно из мутно сиреневой тверди.
А время, испуганный заяц, — бежало в передней.
………………………………………………………………………………………………………
Стремительно: холодом все облизнулось под утро: град — щелкнул, ущелкнул; дожди заводнили, валили листвя́чину; шла облачина по небу; наплакались лужи; земля перепоица чмокала прелыми гнилями.
Скупо мизикало утро.
Иван же Иваныч, облекшися в серый халат с желтоватыми, перетертыми отворотами, перевязавши кистями брюшко, отправлялся к окошку: дивиться наплеванным лужам:
— Да-с.
Даль изошла синеедами; красные трубы уже карандашили мазаным дымом; и… и…
— Что такое?
Домок, желтышевший на той стороне, распахнулся окошком, в которое обыкновенно выглядывал Грибиков; там, приседая под чижиком, высунул голову черноголовый мужчина, руками расправивший две бакенбарды: въедался глазами в коробкинский дом; и потом всунул голову, стукнувшись ею о клетку: окно запахнулось: как есть — ничего.
Тут пошел — листочес, сукодрал, древоломные скрипы. Уже начинался холодный обвой городов.
14.
Распахнулась подъездная дверь: из нее плевком выкинулся — плечекосенький черношляпый профессор, рукой чернолапой сжимая распущенный зонтик, другою — сжимая коричневокожий портфель; и коричневой бородою пустился в припрыжечку:
— Экий паршивый ветришко!
Спина пролопатилась; рубленый нос меж очками тяпляпом сидел, мостовая круглячилась крепким булыжником; изредка разграхатывался смешочек извозчичьей подколесины; сизоносый извозчик заважживал лошадь, отчаянно понукаемый синеперою дамою, в чернолиловом манто с ридикюльчиком и пакетиком, перевязанным лентою, — с… Василисой Сергевной, которая чуть кивнула профессору:
— Задопятову отвозит накнижник.
Уже копошился сплошной человечник; то был угол улицы, забесившийся разгулякою; таратора пролеток стояла; лихач пролетел с раскатайным кутилою; провезли красноногого генерала; бежал красноголовый посыльный; в окно поглядел: выставлялися халцедонные вазы, хрусталь белоливный.
Пустился вприпрыжку бежать — за трамваем, и втиснулся в толоко тел, относясь к Моховой, где он выскочил, перебежавши пролетку и торопяся на дворике, перегоняя веселые кучи студентов:
— Профессор Коробкин.
— Где?
— Вот!
Запыхавшись вбежал в просерелый подъезд, провожаемый к вешалке старым швейцаром:
— У вас, как всегда-с: переполнена… С других курсов пришло.
Раздевался и видел, что тек Задопятов, стесняемый кучей студентиков:
— Пусть хоть набрюшник — припомнилось где-то.
Белеющая кудрея волос разложилася выспренним веером, пав на сутулые плечи, на ворот; мягчайшей волною омыла завялую щеку, исчерченную морщиной, мясную навислину, нос, протекая в расчесанное серебро бороды, над которой топорщился ус грязноватой прожелчиной; веялся локон, скрывая морщавенький лобик; кудрея волос текла профилем.
Око, — какое — выкатывалось водянисто и выпукло из опухшей глазницы, влажнящейся неизлитою слезою, а длинный сюртук, едва стянутый в месте, где прядает мягкий живот, где вытягивается монументальное нечто, на что, сказать в корне, садятся (оттуда платок выписал), — надувался сюртук.
Задопятов усядется — выше он всех: великан; встанет — средний росточек: коротконожка какая-то…
Старец торжественно тек, переступая шажечками и охолаживая студента, прилипшего к боку, прищуренным оком, будящим напоминание:
— У нас нет конституции.
Сухо протягивал пухлые пальцы кому-то, поджавши губу — с таким видом, как будто высказывал:
— Право, не знаю: сумею ли я, незапятнанный подлостью, вам подать руку.
Стоящим левее кадетов растягивал губы с неискреннею, кислосладкой приязнью; увидев кадета же, делался вдруг милованом почтенным, — очаровательным кудреяном, пушаном, выкатывая огромное око и помавая опухшими пальцами:
— Знаю вас, батюшка…
— У Долгорукова — с Милюковым — при Петрункевичах…
Там он стоял, сжатый тесным кольцом; ему подали том «Задопятова», чтоб надписал; отстегнувши пенснэ, насадил его боком на нос и — чертил изреченье (о сеянии, о всем честном), собравши свой лобик вершковый в мясистые складочки.
Был генерал-фельдцейхмейстер критической артиллерии и гелиометр «погод», постоянно испорченный; он арестовывал мнения в толстых журналах; сажал молодые карьеры в кутузки; теперь — они вырвались, чтоб выкорчевывать этот трухлявый и что-то лепечущий дуб; он еще коренился, но очень зловеще поскрипывал в натиске целой критической линии, смеющей думать, что он есть простая гармоника; гармонизировал мнения, устанавливая социальные такты, гарцуя парадом словес.
Тут Ивану Иванычу вспомнился злостный стишок:
Дамы, свет, аплодисменты, Кафедра, стакан с водой: Всюду давятся студенты… Кто-то стал под бородой. И уж лоб вершковый спрятав, Справив пятый юбилей, — Выступает Задопятов, Знаменитый водолей. Четверть века, щуря веко В лес седин, напялив фрак, — Унижает человека Фраком стянутый дурак. И надуто, и беспроко, Точно мыльный пузырек, — Глупо выпуклое око Покатилось в потолок. Кончил, — обмороки, крики: «В наш продажный, подлый век, — Задопятов, — вы великий, Духом крепкий человек.» Кто-то выговорил рядом: «Это — правда, тут есть толк: Дело в том, что крепок задом Задопятов» — и умолк.С Задопятовым Иван Иваныч столкнулся у самой профессорской.
— Здравствуйте — и Задопятов, придав гармонический вид себе, отбородатил приветственно:
— Мое почтение-с! Геморроиды замучили.
В подпотолочные выси подъятое око Ивану Иванычу просто казалося свернутой килькой, положенною на яичный белок:
— А вы слышали?
— Что-с?
— Благолепова назначают.
— И что же-с…
— Посмотрим, что выйдет из этого — око, являющее украшенье Москвы (как царь-пушка, царь-колокол) с подозрительным изумлением покосилось; стоял — вислотелый, с невкусной щекою: геморроиды замучили!
Иван Иваныч с руками в откидку пустился доказывать:
— Что же — боднул головой — назначение это открыло возможности…
— Не понимаю вас я…
— Для всех тех, кто работает.
— Только что «Обществу Русской Словесности» в дар Задопятов принес сообщенье на тему: «Средою заедены».
— Это ли не работа?
Иван же Иваныч подумал:
— «Совсем краснокрылый дурак».
И, сконфузившись мысли такой, он подшаркнул:
— А вы бы, Никита Васильевич; — как нибудь: к нам бы…
Никите Васильевичу, в свою очередь, думалось:
— Да у него — э-э-э — размягчение мозга.
И мысль та смягчила его:
— Может быть, как нибудь…
И они разошлись.
Задопятова перехватили студенты; и он гарцевал головой, на которой опухшие пальцы, зажавши пенснэ, рисовали весьма увлекательную параболу в воздухе: и на параболе этой пытался он взвить Ганимеда-студента, как вещий зевесов орел.
А профессорская дымилась: зеленолобый ученый пытался Ивана Иваныча защемить в уголочке; доцентик, геометр, весьма добродетельный, пологрудый, его оторвал, его выслушал, и, задыхаясь словами, предускорял его мнение; рядом издряблая и псоокая разваляшина, прибобылившись, вышипетывала безпрочину благоглавому беловласу. Кончался уже перерыв: слононогие, змеевласые старцы поплыли в аудитории. Спрятав тетрадку с конспектом, профессор Коробкин влетел из профессорской в серые корридоры; какой-то студентик, почтитель, присигивал перебивною походочкой сбоку, толкаемый лохмачами, в расстегнутых, серых тужурках; совсем нахорукий нечеса прихрамывал сзади.
Большая математическая аудитория ожидала его.
15.
Вот она!
Стулья, крытые кучами тел: косовороток, тужурок, рубах; тут обсиживали подоконники, кафедру и стояли у стен и в проходе; вот маленький стол на качающемся деревянном помосте, усиженном кучею тел; вот — доска, вот и мела кусочек; и мокрая тряпка.
Профессор совсем косолапо затискался через тела; сотни глаз его ели; и точно под этими взглядами он приосанился, помолодел, зарумянился; нос поднялся и вздернулись плечи, когда подпирая рукою очки, поворачивал голову, приготовляясь к словам: его лекции были кумирослужением.
Переплеск побежал; он усилился: встретили аплодисментами.
Опершися руками на столик, спиною лопатясь на доску, и лбовою головою свисая над всеми с многовещательною улыбкой побегал — прищуро блеснувшими чуть плутоватыми глазками; и — пред собою их ткнул.
— «Господа» — начал он, припадая к столу — «я покорнейше должен просить не высказывать мне одобрения, или» — повел удивленно глазами он — «неодобрения… Я перед вами профессор, а не… не… взять в корне… артист; здесь — не сцена, а, так сказать, — кафедра; здесь не театр — храм науки, где я, в корне взять, перед вами являюсь естественным конденсатором математической мысли.»
И ждал, осыпаемый новыми плесками; но уж на них перестал реагировать: ждал, когда кончатся; кончились; тут, посмотрев исподлобья, совсем отвалился, ладони потер, да и выпустил стаечку фраз:
— «Гм… Научно-математический метод объемлет» — развел свои руки — «объемлет все области жизни: и даже» — тут он подсигнул — «этот метод, взять в корне, является мерою наших обычных воззрений» — он молнил очковым стеклом, помотав головой.
— «Господа, ведь научное мирозрение современности» — бросил очки он на лоб — «опирается, говоря рационально, на данные» — сделал он паузу…
— «Данные… биологических, психи-физических, и, — так далее, знаний, которые нашим анализом сводятся к биохимическим, к физико-химическим принципам» — встал над макушкой коричневый гребень.
— «Да-с, факт восприятия» — бородатил, сжав пальцы в кулак, поднесенный к груди — «разложим» — растопырил все пальцы под самою бородою — «на физико-химические комплексы», — пождал он — «которые в свою очередь» — и рукой указал — «разложимы на чисто физические отношения» — так удивился, что встал он на ципочки.
— «К физике» — бросил направо он — «к химии» — бросил налево он — «сводятся в общем процессы текучей действительности» — хмурил лоб: голова опустилася.
— «В химии всякий процесс» — он высоко приподнял надбровные дуги — «воспринятый в качественном отношении есть вполне материальный процесс»; — рявкнул — «химия» — рявкнул еще убедительнее — «была» — сделал видом открытие — «до сих пор, в корне взять… гм… наукой о качествах.»
С важным открытием, ясно поставленным правой рукой на ладонь, он пошел на студентов.
— «А физика» — угрожающе бросил он — «физика, гм, есть наука, в которой количества учитываются — главным образом.»
И убеждая летающим пальцем, усилил:
— «Развитие физико-химических знаний, конечно же, сводится к самой возможности» — он над левой ладонью поставил другую ладонь — «переведения качества в количества» — левую перпендикулярно поставил, а правую подложил под нее.
— «И поэтому вот, господа» — призывал он глазами к вниманью — «имеем в физической химии мы отношения, да-с, весовые» — и тоненьким голосом бисерил — «то есть такие, которые, — кха» — он закашлялся — «и, тем не менее, однако же» — сбился.
Немного попутавшись, вышел: прямою дорогой пошел в математику:
— «Определение количеств числом» — ткнулся носом — «являет стремление, в корне взять, к углублению в свойства, в законы числа.»
После паузы выпалил:
— «Так в механическом мирозрении современности доминируют данные математики.»
И победителем бацал по доскам помоста, пропятив живот.
Помахал с получасик введением к курсу; потом, схватив мел, перешел прямо к делу: к доске; голова тут расшлепнулась в спину, а ворот вскочил над затылком; поэтому, ставши спиною к студентам, показывал ворот, — не голову, — с очень короткой рукою, закинутой за спину и косолапо качаемой вправо и влево (помощь себе): быстро вычерчивал формулы.
— Модуль, взять в корне, — число: то, которое — повернул свою голову — множится логарифмами одного, гм, начала для получения логарифмов другого начала.
Забегал мелком по доске.
Заслуженный профессор на лекциях становился, ну право, какой-то зернильнею: сведениями наклевывались, как зернами; стаи студентиков, точно воробушки, с перечириком веселым клевали: за формулкой формулку, за интегральчиком, интегральчик.
Обсыпанный мелом, сходил уже с кафедры в стае студентов, в которую тыкался он полнощеким лицом; и бежал с этой стаей к профессорской:
— Вы, — дело ясное: вы прочитайте-ка, знаете, Коши.
— Да об этом уж указано Софусом Ли, математиком шведским.
— Стипендиат..?
— Что же тут я могу: обратитеся к секретарю факультета.
— А… Что… Калиновский?
У самой профессорской остановили его: представитель какой-то коммерческой фирмы, весьма образованный немец, явился с труднейшим вопросом механики.
— Как фи думайт, профессор?
— Да вы-с — не ко мне: вы подите-ка к Николаю Егоровичу Жуковскому… Он — механик, не я — в корне взять.
Но одно поразило: открытие в области приложения математики к данным механики, сделанное Иваном Иванычем, имело касанье к предложенному иностранцем вопросу: профессор уткнулся, в бобок бородавки весьма интересного немца и обонял запах крепкой сигары; профессор заметил, что он, вероятно, к вопросу вернется и выскажется подробней по этому поводу в «Математическом Вестнике» — в мартовской книжке (не ранее); немец почтительно в книжечку это записывал:
— Знаете, книжечки желтые — «Математический Вестник»… Да, да: редактирую я…
И рассеянно тыкал в него карандашиком, рисовавшим какие-то формулки на темнорыжем пальто иностранца.
……………………………………………………………………………………………………………….
И вот, — Моховая: извозчики, спины, трамвай за трамваем.
Профессор остановился: из черных полей своей шляпы уставился он подозрительно, недружелюбно и тупо в какое-то новое обстоятельство; но в сознанье взвивался вихрь формул: набатили формулы и открывали возможности их записать; вот черный квадрат обозначился, загораживая перед носом тянувшийся, многоколонный манеж.
Обозначился около тротуара, себя предлагая весьма соблазнительно:
— Вот бы подвычислить.
И соблазненный профессор, ощупав в кармане мелок, чуть не сбивши прохожего, чуть не наткнувшись на тумбу, — стремительно соскочил с тротуара: стоял под квадратом; рукою с мелком он выписывал ленточку формулок: преинтересная штука!
Она — разрешилася.
Поинтереснее знаменитой «ферматы» (такая есть формула: он еще как-то о ней написал).
— Так-с, так-с, так-с: тут подставить; тут — вынести.
И получился, — да, в корне взять, — перекувырк, изумительный просто: открытие просто. Еще бы тут скобочку: только одну.
Но квадрат с недописанной скобочкой, — чорт дери — тронулся: лихо профессор Коробкин за ним подсигнул, попадая калошею в лужу, чтоб выкруглить скобочку: черный квадрат — ай, ай, ай — побежал; начертания формул с открытием — улепетывали в невнятицу: вся рациональная ясность очерченной плоскости вырвалась так-таки, из под носа, подставивши новое измерение, пространство, роившееся очертаниями, не имеющими отношения ни к «фермате», ни к сделанному перекувырку; перекувырк был другой: состоянья сознания начинающего догадываться, что квадрат был квадратом кареты.
Карета поехала.
Это открытие поразило не менее только что бывшего и улетевшего вместе со стенкой кареты: не свинство-ли? Думаешь, — ты на незыблемом острове средь неизвестных тебе океанов: кувырк! Кит под воду уходит, а ты забарахтался в океане индейском (твой остров был рыбой); так статика всякая переходит в динамику — в развиваемое ускорение тел: ускоряяся, падает тело.
Профессор с рукой, зажимающей мел, поднимая тот мел, развивал ускорение вдоль Моховой, потеряв свою шляпу, развеявши черные крылья пальто; но квадрат, став квадратиком, развивал еще большее ускорение; улепетывали в невнятицу оба: квадрат и профессор внутри полой сферы вселенной — быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась черная лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула!
Тело, опоры лишенное, падает: пал и профессор — на камни со струечкой крови, залившей лицо.
А вокруг уж сгурьбились: тащили куда-то.
Москва. 10-го ноября 1924 года.
Бор. Пильняк Мать сыра-земля
Посв. А. С. Яковлеву
Крестьянин сельца Кадом Степан Климков пошел в лес у Ивового Ключа воровать корье, залез на дуб и — сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесчик Егор доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел «гражданина самовольного порубщика.» Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климкова. Климков стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Егор, когда стаскивал Климкова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климков покойно сказал:
— Мне бы провожатого, господин товарищ, глаза те вытекли у меня, без остачи.
Некульев наклонился к мужику, увидал дремучую бороду, — то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.
Климков, остался ночевать в лесничестве; спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча: про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, — старец определил, что глаз Степану Климкову не вернуть — ни молитвой, ни заговором, — но надо прикладывать подорожник, «чтобы не вытекли мозги.» —
— …Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины-Ирины — Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) — главный герой — волченок, маленький волченок Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта прекрасная женщина, так нелепо погибшая и мерившая — этим волченком — погибшим за шкуру — столь многое. Он, этот волченок, был куплен за несколько копеек в Тетюшах — подлинных, а не в тетюшиных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной. На пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.
Он только-только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разило псиной, — она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, — он маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, прекрасной таинственностью. Мальчишка, продавший волченка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, — мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрели на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волченковых братишек умерли от голода, он один остался жив. — Волченок не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах — по мандату — соску, такую, какими кормят грудных детей, — и кормила волченка из этой соски, — она шептала волченку, когда кормила его:
— Ешь, глупыш мой, — соси, Никита, — рости!
Она научилась часами — матерински — говорить с волченком. Волченок был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостишко, — и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли оттуда, из темноты, каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, — и когда глаза их встречались, — глаза волченка, не мигающие, становились особенно чужими — смотрели с этой трехугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, — но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных тоже острых ушей, — был глуп, никак не страшный. И от волченка страшно пахло псиной, все прокисало его духом. —
— Есть в волжской природе — Саратовских, Самарских плесов — какая то пожухлость. Волга — древний русский водный путь — текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, — и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, сосну не рассадишь силой, спокойствует лишь татарский неклен, нет цветов, и костры на горах — не смешаешь их со сполохами — видны с Волги на десятки верст, сквозь пыль Астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена — кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Справа — горы в лесах, за горами — степи, слева — займища, за займищами степи. Вдали во мге за Волгой видны не русские колокольни: это немецкие «колонки».
Когда то, кажется император Павел, дал князю Кадомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано:
— ……. «Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Медынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту гору и все, что глаз Вашего Сиятельства увидит — твое» —
— на Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на семьдесят верст по берегу, возникли Медынские леса, возрос строевой — сосновый — лес, дубы, клены, вязы, — заросли, пущи, раменье, саженцы — двадцать семь тысяч десятин. У Медынской горы в лощине стал княжий дом, оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего, кроме лесных сторожек, да кордонов, в лесах не было, деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. — Лесничий Некульев так писал друзьям в губком о дороге к нему: — «…пароходом надо добраться до села Вязовы; в Вязовах надо найти — или полесчика Кузьму Егорова Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на телеге, по лесам, по горам и буеракам, — или рыбака Василия Иванова Старкова (надо спрашивать Васятку-Рыбака), и он отвезет — на себе — вверх по Волге двенадцать верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях: в наших местах это тоже практикуется, — Старков впряжется в ляму, сын его сядет к рулю, ты в лодку, — и бичевой, как триста лет назад, на себе, по очереди, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить: — „сколько у вас в Вязовах коммунистов?“ — ответит: — „коммунистов у нас мало, у нас все больше народ, коммунистов токмо два двора.“ — А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? — он скажет: — „народ — знамо: народ. — Народ в роде, как бы, большевики.“» —
Леса стояли безмолвны, пожухли, в ночи. — Но если-б было такое большое ухо, которое слыхало бы на десятки верст, — в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услыхало бы многие трески падающих деревьев, спиленных воровски, дзеньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики, и пальба в небо полесчиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, — далеко по росе стелется дым, — страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. — Дни в лесах — в июле — всегда просторны, и пахнут леса татарским некленом. — Лесные люди — лесничие, полесчики, объезчики, лесники — убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников и на — «граждан самовольных порубщиков.» —
— Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, чорт подери, — башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, ибо эти леса играли решающую роль в пароходном движении по Волге, — что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. — В сельском совете, в тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, — председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. — Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно; утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, — слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, — рассказал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам, — все стремились всунуть в рояль, но не всунули, и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге, — рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике; — а охота в тех местах царская, — ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук сто, — только, конечно, не дело это для ружейного охотника, — наоборот, позор. — Кузя приехал на шарабане, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фрунт, руки по швам, зарапортовал — честь имею явиться… — Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:
— Честь имею доложить, так что, лучше нам заночевать здесь, а то — глянь — пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.
Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:
— Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? — Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это — чтобы тронуть? — Да я вас до Ивова ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича — наган, у тебя — винтовка, у меня — винтовка, сыну велю итти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем!
Это чтобы большевиков трогать, — на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.
Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку сурки, — Кузя слез с шарабана, повел лошадь под уздцы, сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго лошадь ногу сломает. Выехали на гору и увидали, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, — грома не докатилось. — «Гроза будет,» — сонно сказал Цыпин. — И опять распахнулось небо, также безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тарахтение колес гулко, — показалось, что кузнечики стихли, — и огромная половина неба, от востока до запада порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности, рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы, — и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бессчетно, все небо рвалось молниями в лоскутья и все небо стало кегельбаном, чтобы веселым стихиям катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надо-ть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак не охота.» —
Гроза, просторы, громы, молнии — показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь, — этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! — До пастушьей землянки не успели доехать: заметался по степи ветер во все стороны, молнии метались и громы гремели со всех сторон, — дождь окатил шагах в ста от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся в миг, ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: — «Какой черт еще тут ходит?» — Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке, — и в кромешном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услыхал рядом разговор: — «Ты Потап? Это я, Цыпин.» «Спички у нас вымокли. Тебя, что на охоту понесло, что ли?» «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего.» — Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальченка в землянку, — сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: — «Тятянь, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая стоит, чужая, возле ней!» — Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном, — Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял стряхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво подматершинивая. — «Сел под шарабан, как светанет молонька, — каак маханет сивый на плетень, — как только затылок цел остался?!» — «Дурак, это волки!» — «Нну?» — Стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин: — «Ты, Кузя, мостом не ездий, лошадь ногу сломат. Тута у моста, — пояснил он Некульеву, — барина-князя мужики убили.» По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись, — слезли. Стали подталкивать шарабан, — влезли на пол-горы и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния и увидели — наверху на краю овражка, шагах в десяти рядком, сидела стая волков. Сказал Цыпин: — «Надо-ть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают.» — Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. — Некульеву все время было очень весело. —
Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и в брызги с ветвей — в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев недоумевал, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив. —
— Когда князя-барина мужики порешили убить, — этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: — «Так и так, уехать вам надо, громить вас будут, порешили мужики убить.» — Князь лакею. — «Приказать заложить тройку!» — А Цыпин ему: — «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим.» — Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у купца взял, картуз и на шею красный платок, — жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку, — а у мосточка им навстречу Цыпин: — «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил.» — Дал ему князь монету, рубль серебром, — и кто убил князя — неизвестно. —
Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.
— А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович, — начал не спеша и напевно Кузя. — А у него была жена красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать — Аннушка. А село было большое и в ем, заметьте, три церкви разным богам… И вот пошла Аннушка к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка», — а потом в сторонку: — «Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком, на зорьке?» — «Чтой-то вы, батюшка?» — ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка!» — и опять в сторону: — «Так и так Аннушка, не антиресуешся ли ты со мной переночевать?»
— Ты это про что говоришь-то? — спросил недоуменно Некульев.
— А это я сказку рассказываю, — очень все любят, как я рассказываю. —
— И еще был бодрый солнечный день, — день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одури пахло — и лесною, и земною, — благодатью. Легкие бухнули, как рубка от воды, — хорошо пахнет, когда неклены топятся солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснуться его, зрелые падали капли дождя. Волга над обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, вмазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, — дом будет попрежнему исправен, все пустяки! — И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхо шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска — «контора», — вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, — красавец, кольцекудрый, молодой. Пенснэ перед глазами сидели как влитые, — совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом — зеленое сукно было залито чернилами и стеарипом многих ночей и писак, — и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя. Руки по швам, — и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах и бесцветной от времени рубахе, не подпоясанный и с растегнутым воротом, — и были у Кузи огромные бурые — страшные — усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:
— Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики, — лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. — Допустить? —
— Пускай всех.
— Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.
— Пускай всех.
На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; — кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком — разобрать возможности не было; объездчики выстроились по-солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко: — «Леса теперь наши, сами хозява!» — «Как ты товарищ сам коммунист, — желам пилить в Мокром буераке, как он Кадомский!» — «Немцы из-за Волги, — ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломаем!..» — «Татары вот тоже либо мордва.» — «Ты, товарищ-барин, рассуди толком, — мы пилили и желаем продать в Саратов по сходной цене!» — Сказал Некульев весело: — «Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист, — это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая.» — Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку, — Некульев сказал: — «Ну что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!» — Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил: — «Чай здесь изба, образа висят!..» — Попарно, не спеша и покойно вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские. — «Konnen Sie deutsch sprechen?» — спросил немец. — Мужики загалдели о немцах, — вон, наши леса! — Некульев сел на стол, вытянул вперед ноги, покачался на столе, заговорил деловито: — «Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли, — давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу, и пилы и топоры верну — не в этом дело. А лесов без толку пилить нельзя, посудите сами» — и заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца. — Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора шапки, все же, понадевали, — последним сказал Некульев дружески: — «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, — а вы как хотите!..» Некульев любил быть «без дураков». —
Кузя выстроился во фронт, сказал:
— Честь имею доложить, — яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету, — Маряша в колонку к немцам сплават. —
— Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, — давайте есть вместе. Яиц купите. —
И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам глупорожий Кузя, — когда вошла в контору прекраснейшая женщина, Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами. —
— «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат, — корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов» — и на мандате вправо вверху «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — и на документах, на членской книжке — прекрасные обоим слова — Российская Коммунистическая Партия. — «Ваш предшественник убит? — князь убит?» — «Мужики кругом в настоящей в крестьянской войне с лесами.» — Разговор их был длинен, странен и — бодр, бодр как бодрость всего солнца. — У одного — там где-то, лесной институт в Германии, Российские заводы и заводские поселки, быть революционером — это профессия, в заводских казармах, в корридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по комарам будило («вставайте, вставайте, — на смену, — гудок прогудел!») — а мир прекрасен, мир солнечен, потому что — через лесной институт, через окопы на Нароче — от детства на Урале, от книг в картонных переплетах (долины под горою, — а за горою, в дебрях, где кажется и не был человек, медведи и монах в землянке) — твердая воля и твердая вера в прекрасность мира — «без дураков»: — это у Некульева, — и все шахматно верно и здесь, в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на Уральских заводах. — И у нее: — Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, — по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту — чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья — и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги, и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу) и, отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовой за печкой, и черти, — и тринадцати лет в третьем классе гимназии — уже оформилась под коричневым платьицем грудь, — и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки как потолки дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой комнате надо было изводить клопов, — но все же потолки после них — дома, когда умер отец — показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напомнил таинственное детство; — она вошла в дом — как луна в ночь, старший приказчик — бульдогом — принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатили крысами, шарили, шуршали, — ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко право дала красота, и тюремные корридоры стали Петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: — это у Арины Арсеньевой, — и тоже все шахматно верно и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью: семнадцати-летняя обильность к тридцати годам — тяжелое вино, когда все время было не до вин. — «И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно.» —
На солнце от зелени виноградников свет зеленоват, расправляется воздух, — Некульев заметил: О зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть — и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. — В контору вошли трое: мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал:
— Честь имею явиться, второй после Кузи лесничий, с одиннадцатого кордону. Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.
Лесника перебила жена, заговорила обиженно: — «Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей исть хочешь. Как хотишь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже чай Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломощный, грызь у него, мы из Кадом. — Как хотишь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал-мала меньше, а нас всего трое.» — Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. — Некульев молча по очереди пожал всем руку, сказал: «Ступайте с богом, буду знать.» — И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева — тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:
— Вы знаете, когда «влазины» бывают, — влазины, это так называется новоселье, — ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди и надо — по поверью — входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается. —
Глава первая — Ночи, дни.
Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора — расскажут.
— В лесах по суземам и раменьям живет леший — ляд. Стоят леса темные от земли до неба, — и не оберешься всевозможных Марьяшиных фактов. — Неоделимой стеной стоят синеющие леса. Человек по раменьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь, рядом с молодой порослью, стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гробяною парчею мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит, — если же со степей найдет ветер, тогда старцы — дубы трутся друг о друга, скрипят, сыпят гнилыми ветвями, трухой. — Кузе, Маряше, Катяше, Егору — здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На раменьях издревле поселился тот чорт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость черта: красивый кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.
Белый дом в лощине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным Некульевским глазам — на глаза попадалась — битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, — песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленовато стекло колб; днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пяти-минутки он тратил на них; Некульев любил быть без дураков, он не замечал, что у него — помимо сознанья и воли — каждый шорох в доме, каждый глупый мышиный пробег — покрывает гусиной кожей спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казался кто-то — не то третий, не то седьмой какой-то, и каждая ночь была как все. Была луна и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебрянными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Окна Некульев тщательно закрыл, но в окнах не было стекол. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и подпер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы приехать на телеге, если же проберутся сюда, то секретной дверью, оставшейся от помещика-князя и случайно найденной, он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там — ищи, свищи!.. — Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешаны. — Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому, — на кухне он попил у ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, — подпер дверь колом; — и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы, — Некульев стал пересыпать песок, — склонил кудрявую голову к мутно стеклянным колбам.
И тогда — нежданно застучали в окно там, где была лампа, — неуверенный голос окликнул: — «Эй, кто тама, выходите. Милиционер требует!» — Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: — «Ты кто такой?» — Паренек обрадованно заговорил: — «Иди, тебя требует милиционер!» — «Ты почему с багром?» — «А это я от собак. Собак-от нетути? — Милиционер на берегу, в лодке!»
Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:
— Вы что-же, черти, спите, когда лес воруют?! — Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой горы, а с горы с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна, — лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным, — уйду — разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал… Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..
Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщикам, — мужики впряглись в ляму, потащили бичевой дащаный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники скрылись за косой. — Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине. — Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками на перевес, помчали к Мокрой горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке, — вышли к Волге; Волга, горы, тишина, — прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то, — тишина, — и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатилось вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Некульев пошли под обрывом, — в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами, еще сорвалось с вершины бревно, — и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, — и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень, — Некульев толкнул его — вперед — коленом, перезамкнул замок винтовки и — твердо пошел к дощаникам, — толкнул на воду пустой и навалился, чтобы столкнуть нагруженный, — сверху выстрелили из винтовки, — пуля шлепнулась в воду. — «Кузьма! иди, толкай!» — на отвесе, наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку — сейчас же — выстрелил Некульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, лешай! — Не трожь дощаники!»
Некульев сказал:
— Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!
Луна потекла с весла. С берега кричали: «Барин, касатик, прости христа ради, отдай дощаники!»
Некульев сказал:
— Эй, черт, лошадей как бы не украли!
Кузя ответил:
— Пошто, — мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.
Подплыли к Мокрой Балке, к дощанику — трое подошли мужики, — вязовские, в слезах, один из них с винтовкой, — замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя — тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впрег их в ляму, — тогда строго заявил: «Лес воровать, сволоча!? Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!..»
Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:
— На что их брать? Куда мы их денем? — Ничего, постращать не вредно!
Лошади шли берегом по щебню медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным — пред днем — небо, похолодело в рассвете, села на рубашке роса.
— Сказочку вам не рассказать ли? — спросил Кузя.
Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. — (Через два дня — ночью — эти дощаники исчезли, их кто-то украл.)
И опять в ночи задубасили в окна, — «Антон Иванович, — товарищ лесничий, — Некульев, — скорей вставай!» — и дом зашумел боцами, шорохами, шопотами, свечи и зажигалки закачали потолки, — «у Красного Лога — потому как ты коммунист, мужики из Кадом — всем сходом с попом поехали пилить дрова — по всем кордонам эстафеты даны — полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!» — У конного двора, против людской избы стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), — яркая звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?) и рядом под деревом горит Иванов червячек. Кузя вывел лошадей, — но ему лошади не досталось и он побежал пешком.
— Ягор, ты винтовку-то пока повези, чего тащить-то? — На лошадей и карьером в горы, в лес, — «эх черт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!»
Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, — в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат незнакомые какие-то птицы — («эх, прекрасны волжские ночи!»). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.
— Эх, и сволочь же мужичишки. Ведь не столько попользуются сколько повалят и намнут! — Сознательности в мужике нет никакой! — Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, — сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой — на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!
Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:
— Ягорушка, теперь ты побежишь, а я поеду, отдохну малость.
Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:
— Вот бы теперь хоровую грянуть, как разбойники! — И свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом, захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица.
…На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь, — отбыла та минута, когда — на минуту — и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы — затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле — из леса на опушку вылетела сова, пролетела безмолвно, и тогда прокричала в лесу первая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес, скрипы колес, тарахтенья ободьев, конские храпы, человечьи шопоты, плач грудного ребенка, — стали рядом, уперлись в лес. — Два древних дуба у проселка на просеке — у самого корня подпилены, — только-только толкнуть — упадут, завалят, запрудят дорогу.
Тогда из мрака строгий объездчичий окрик:
— Э-эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад!
И тогда от обоза — сразу — сотнеголосый ор и хохот, слов не понять и непонятно — люди-ли кричат иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу, — и обоз ползет все дальше. Тогда — два смельчака, мастеровые, коммунисты, Кандин и Коньков — последнее усилие, храбрость, ловкость — валят на дорогу колоды древних двух дубов, и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана — бессмысленно, по лесу — полетели наганные, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол обоза стало, лошади полезли на задки телег. — «Сворачивай!» — «верти назад!» — «Пали!» — «Касатики, вы бабу задавили!» — «Попа, попа держи!» — Лес темен, непонятен, — на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. — «Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!» — Непонятно, кто стреляет и зачем?
К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в сторонке под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище тихого становища. — Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроенно и шепотом заговорил:
— Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять арестовать, отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться по добру по здорову, чтобы мужики разобрались сами собой, чтобы наши концы в воду, — но тут уже не было возможности сдержать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие…
У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:
— Фу ты, чорт, какая ерунда!
Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:
— Барин, кормилец, касатик! — Отпусти Христа ради. — Больше никогда не будем, научены горьким опытом!
Некульев заорал, — должно быть злобно:
— Встать сию же минуту! Чорт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано — лесов грабить не дам, ни за что! — и недоуменно, должно быть, — а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальченка?!. — Все село телеги перепортило, эх!
— Отпусти Христа ради! — Больше никогда не будем!..
— Да ступайте пожалуйста — человека от этого не вернешь, — поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески! — и злобно, — а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, — расстреляю! — Идите пожалуйста куда хотите.
Коньков, тоже приехавший с Некульевым, спросил — со злобой к Некульеву:
— А попа?!
— Что попа?
— Попа никак нельзя отпускать! Его негодяя, надо в губернскую чеку отослать!
Некульев сказал безразлично:
— Ну что же, шлите!
— Чтобы его мерзавца там расстреляли!
Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.
И опять была ночь. Безмолствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах — Некульев увидел — вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел и четко чекнулась в потолок пуля, посыпалась известка. — Стреляли по Некульеву.
И было бодрое солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков, Егор тащил на загорбке самогонный чан. — Приехал из Вязовов Цыпин, передал бумагу из сельского Совета, — «в виду постановки вопроса об улегулировке леса, немедленно явиться для доклада тов. Некульеву.» — Цыпин был избран председателем сельского совета. — Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. — И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни, и от самой страшной — самосудной — смерти, когда его разорвали-б на куски, когда оторвали-б руки, голову, ноги, — его спасла только глупая случайность — человеческая глупость. — В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред Советом толпились парни и девки, и яро наяривал в присядку паренек — босой, но в шпорах; Некульева шпоры эти поразили, — он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: — да, именно шпоры на босых пятках, и лицо у парня неглупое. — А в Совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В Совете нечем было дышать. В Совете стала тишина. Некульев не слыхал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, — и Некульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:
— Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, — приехал! А еще коммунист! Пущай, говорит, что знает…
Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпоры, шпоры спутали мысль. Некульев заговорил:
— В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад. —
— Ляса таперь наши, жалам их по закону разделить по душам…
Перебили:
— По дворам!
Заорали:
— Нет, по душам!
— Нет, по дворам!
— Нет, говорю, по душам!
— Да что с им говорить, ребята! Бей лесничего своем судом!
Некульев кричал:
— Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад… Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что — помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас, товарищи, гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы — помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам. —
— Мужики! Теперь все наше! Пущай даст ответ, почему Кадомские могут воровать, а мы нет?! Откуда он взялся на нашу голову?!
— Жалам своего лесничего избрать!
— Бей его, робята, своем судом!
Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистно на него. Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. — Некульев кричал почти весело:
— Товарищи, к чорту, тронуть себя я не дам, — вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу! — Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.
Завопил Цыпин:
— Минька, беги за берданкой, — посмотрим, кто кого подстрельнет!
— Стрели его, Цыпин, своим судом.
Некульев закричал:
— Товарищи, черти, дайте говорить!
Толпа подтвердила:
— Пущай говорит!
— Что же вы — враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на места, я сяду, поговорим… — Некульев в тот день говорил обо всем, — о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине, — он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что — что, мол, говорить, бей его своим судом! — И у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже стоял в дверях с берданкой. День сменился стрижеными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать — говорить, говорить обо всем, что влезет в голову. — Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания «союза фронтовиков», молодежь, пьяным пьяна, с гармонией, их коновод — должно быть председатель — влез на стол около Некульева, он был бос, но со шпорами, — он осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:
— Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон — Рыбин орет боле всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет!? Нет! Судить могут только те, которые попадались на порубках, а которые не попадались — катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках ему в холодную, — леса нам и в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с им, как он ему первый помощник и сам леший!
Стрижиный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. — Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор, гвалт: — «Вре!» — «Правильно!» — «Бей их!» — «Цыпина лови, старого чорта!» — И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, запыхтел тяжелый кулачный ор. — Некульева забыли. Некульев, очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг, подобрался к окну и — стремительною кошкой бросился в окно. — Никогда так быстро, так стремительно — бессмысленно — не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке. —
(В сельском совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, — и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а на утро уже много баб говорили, что видели самим глазами — вот провалиться на этом месте, если врут — как потемнел Некульев, натужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен в роде чернозема, — натужился — и провалился сквозь землю, колдун.)
И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал объездчик, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на Зеленый Остров пилить дрова. Некульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать леса. Зеленый Остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, — был бодрый день, — пошли к немцам, чтобы уговорить, — но немцы встретили лесных людей правильнейшей военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, — от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патрон и стали пред дилеммой — или сдаться или убегать на дощанике, — но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, — лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. — Их немцы взяли в плен. Немцы отпустили пленников, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. — Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его — по непонятным для него причинам — выкупил Вязовский сельский Совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентера.) — Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовах, — вязовские мужики заявили немцам, что, — ежели не отпустят они Некульева, — не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадется немец — убьют; необходимо было немцам справлять на пароход масло, мясо, яйца, — немцы Некульева отпустили. —
Глава вторая. — Ночи, письма и постановления.
Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал: — «Мне бы провожатого, господин-товарищ, — глаза-те у меня вытекли.» Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, пустые глазницы уже затянулись; шапку мужик держал в руках, — и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом. — Дом был чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника, — дом был враждебен этим лесам и степи; Некульеву надо было жить здесь. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, — отбросил часы от себя — и они разбились, рассыпался песок… — Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер, и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и заволжье, и там горько пахло полынью. Некульев вышел из дому, прошел усадьбой — у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них Егор и Кузя, и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по летнему в кафтане и в лаптях с белыми обмотками. — Некульев вернулся с горы поздно.
У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и некленом, — Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.
— … ну вот, шасть Аннушка — да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка», — а потом в сторону: — «Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?» — Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда. Неминуемо — заметьте — рассказала мужу. А муж Илья Иваныч, человек рассудительный, говорит: — «Иди в церкву, жди как поп от обедни пойдет и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему — и так и далее. А сама помалкивай.» — Пошла Аннушка, поп идет из церкви: — «Ну, как же, Аннушка, насчет зорьки?» — «Приходите, батюшка, вечерком в половине десятого, — муж к куму уйдет, пьяный напьется.» — И второй поп навстречу: — «Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?» — Ну, она, как муж, и так и далее… Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает — заметьте — из-за пазухи бутылку, белая головка. — «Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать.» — А она ему: — «Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком», — ну, кстати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядком уселся, руку за пазуху к ей засунул, — стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась — «ахти, мол, муж!» — Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: — «Уж и не знаю, куда спрятать? — Вот нешто на подоловке муж новый ларь делает, — в ларь полезай». — Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, — стук-стук в окно. — Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друга шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать — стук в калитку, — муж кричит, вроде выпимши — «жена, отворяй!» — Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: — «В ларе?» Аннушка отвечает: — «В ларе!» — Ну тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, в кураж вошел. — «Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!» — Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре, попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако, вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, — попы жирные, девяти-пудовые, — не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу!.. Да… — Кузя достал кисет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, — собрался было дальше рассказывать.
Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами — Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка:
— Гля, — пошел, Антон-от! Опять пошел — отправился. Костры сжигать… Груня Вязовская, знающая бабочка, баит — колдун и колдун. Я ходил, подозревал: наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и — гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла на носу-те, горят как угли, — а сам травинку жует… Очень страшно!.. А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде, как ничего.
— И к бабе своей ездит, — сказал Кузя. — Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать… Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели — ну, в двух шагах от меня, никак не дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуну говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят, — а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: — «Извините меня, Антон Иваныч, мошка заела!» — Она как вскочит, на него — «это что такое?» — Сердито так. — Мне он ничего не сказал, как бы и не было…
— Надо-ть идтить часы стоять, — пойду я, до-свиданьица, — сказал старик в кафтане.
— И то ступай с богом, спать надо-ть, — отозвалась Маряша и зевнула.
Кузя высек искру, запалил трут, раскурил цигарку, осветились его кошачьи усы. — «Так, стало-ть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно?» — строго спросил он, — «ни молитвой, ни заговором?»
— Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надо-ть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, — сказал старик. — Прощевайте! — старик поднялся, пошел не спеша, с батогом в руке вниз к Волге, светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти.
Вслед ему крикнула Катяша: — Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!
Заговорил напевно Кузя: — Да-а, вот, кстати сказать, выходит, хотел Илья Иваныч над попами потешаться, а вышло совсем наоборот…
— Я тебе яичек принесла, Маряш, — сказала, перебивая Кузю, Катяша. — Для барина. Ты почем ему носишь?
— По сорок пять.
— Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.
— У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба? — спросил Кузя.
— Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет, — сам ворует. В смысле хлеба — табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: — «Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю, — а мне продавать никак некогда.» Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму, — осталось всего три пуда. Тут его и сцапали, брата-то, — милиция. Мука-то выходит ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. — «Где вся мука?» — «Не знаю.» — «Где взял муку?» — «На базаре, у кого — не припомню.» Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал, три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился, — а он на него: — «Ах ты, пятая нога, ворованным торговать?! В ноги кланяйся, что не выдал!» — «А деньги?» — «Все, брат, отобрали, бога надо благодарить, что шкура цела осталась…» — Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставлял… А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит, — прямо с неба свалилось счастье, — Егор помолчал. — Яйца у меня в картузе, восемь штук, — возьми, Маряш.
— Лесничий, кстати сказать, как приехал, — прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень вострый, заметьте, — сказал Кузя.
— И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца, — прямо господская жизнь! — оживленно заговорила Маряша. — Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют, — варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое, — а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает — «Вы ее с мылом мойте», — а я ему: — «что-е-те мыло, баю, у нас почитатца поганым!..»
В избе вдруг полетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный ципленок, закудахтала курица, — на пороге появился мужик, тот, что ослеп, — с протянутыми вперед руками, в белой рубахе, залитой кровью, — бородатая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. — Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:
— Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!.. — упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.
— Вперед лыка не дери, — успокоительно сказал Кузя. — Видишь отца звали, сказал, ничего не выйдет.
Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: — «Потух костер-от, идет, значит, назад. Спать надо-ть», — зевнул и перекрестил рот. — «Отдай тогда яички, сочтемся.» — Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы, в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; — побежали по столу тараканы. На постели на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел), — стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку, — кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок, — в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку — и, качая, спала. Прокричал мирно в корридоре петух.
На утро и у Кузи и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову, бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая — единственная говорившая — Женька, тащила мать за подол, кричала — «тря-ря-ря, тяптя, тяптя» — просила молока. Корова переходила, молока давала мало, — Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей, — Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту, — и со свирепым лицом — «кыш вы, озари!» — стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и — в подоле — восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: — «Стараисси? Спать с собой скоро положит!» — Маряша огрызнулась: — «Ну-к что ж, — мене, а не тебе!» Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела она сорокалетней, высока и худа была, как палка, — Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.
Кузя поутру ушел в лес, винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы, шел не спеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, посматривал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места совсем забытые и заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник, — стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку, — картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере. Кузя окликнул: — «Есть что ли кто? Андрей, Васятка?» — Вышел парень, сказал: — «Отец на Волгу пошел, сейчас придет». — Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда: — «Может хочешь стаканчик свеженькой?» — Кузя ответил: — «Не.» — Замолчали, из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин. Кузя сказал: — «Варите? — Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины исправлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Доставь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше.» — Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень; сказал: — «Кузь, дай бабахнуть!» — Кузя передал ему винтовку, ответил: — «Пальни!» Парень выстрелил, — отец покачал сокрушенно головой, сказал: — «В дизеках ведь ходит, Василий-то…»
На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: — «Например, раз, сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: — пить тебе сегодня водку! Я ему отвечаю: — ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?.. — Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица — она премудрость божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; — я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг налоя посолонь надо ходить или против солнца? А он мне в ответ: — ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы налой вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. — Отпалил, да-а! А я ему: — А как же, например, раз Исус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?.. И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я-бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками… А табак — это верно, чортова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть»…
Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем, — лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев, — поехали в леса.
Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отправить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа — из красного дерева — кивот, — и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге», с золотым соколом по средине, — Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник — влазины; Некульев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике, — на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул, — садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить, — не весть что. Плюнул направо, налево, в Катяшу (та утерлась покорно), и началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, — поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, — одну свечу дал Егору, другую — Катяше: сам же стал что-то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекосилось лицо, — и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе, — Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза — так показалось в темноте и Егорушке и Катяше — налились кровью, закричал: «Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков, вытяни у него жилу живота на тридцать три сажени.» — Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что жить «в новом дому» они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье «через темное число дней, ночей и месяцев», — ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. — Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, — свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом дому подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и попалить столб, а потом с зажженной свечей пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сгорели свечи до-тла и потухли-б сразу, — первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, — и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы. — Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот — «пиво Сокол на Волге», «пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из под монпансье сахарный песок, — слюнил палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, — потом облизывал палец; на окне лежали зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут надолго, — попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой, — взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; — лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички, — Егорушка все их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и сказал: — «Ну что, которые там, лесокрады! — Выходи!..» — В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; — вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот «в соколах на Волге», и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки — одна с черным петухом (вымененным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влазин), — и сундук с Катяшиным — еще от девичества — добром; — и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогону, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала «саратовскую», — «шарабан мой, шарабан»… — Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо; Катяша смолкла, покрестилась, покрестились и Егор, и Маряша, и дети, — Катяша сказала: — «Трогай с богом!» Попросила Маряшу: — «За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи!..» — Поехали, Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: — «Шарабан мой, американка, а я девчонка-а шарлатанка!..» —
При Некульеве единственное было собрание Рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые-коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехались с вечера, — дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на «подторжье», чтобы столковаться перед торгом Рабочкома, — кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и — о воровстве, о гомерическом воровстве в лесах, — говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечей, в зале, Некульев лежал на диване; — сказал тоскливо Коньков: — «Расстреливать надо, товарищи, — и первым делом наших, чтобы была острастка.
Что получается, — мы воюем с мужиками, а кто похитрее из мужиков — идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, — и лесник отпускает ему, что только тот захочет, — получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязался ко мне шиханский мужик, — дай ему лесу на избу, — день, другой, — я сижу голодный, а он и самогону, и белой, — я так ему морду избил, что отвезли в больницу, — не стерпел.» — Ответил Кандин: — «Я морды бил, прямо, скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратно, надо рассудить: — получает лесник жалование, на хлеб перевести, — полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо, — ты смотри, как живут, свиньи у бар чище жили. В лесном деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому — воруют от нужды. А если больше ворует, — значит, от озорства, — тогда, обратно, можно расстрелять. Святых нет, — а дело делать надо!» — Говорили о Рабочкоме. — Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, — ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести на утро заседание Рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. — В парке запели песню и стихли, Некульев пошел к остальным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях всполошенное костром воронье. Некульев присел к огню, стал слушать.
… — И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь — лежат три попа друг на друге и все мертвые, и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, — пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат… Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и — хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже закоченели, — взял одного попа, поставил его около клети, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в трактир и, заметьте, прихватил с собой бутылочку, которую поп не допил, там гармошка играт, народ сидит, — и у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: — «Пей!» — дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал, — ему Илья Иваныч и говорит: — «Дал бы еще, да некогда. Надо иттить, — ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, — надо его в прорубь на Волгу отнести.» — Ну, Ванюша вцепился: — «Давай я отнесу, только угости!» — А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: — «Ну уж коли что, из-за дружбы, — отнесешь, придешь, в избу, угощу!» — Ванюша прямо бегом побег. — «Где утопленник?» — «Вона!» — Ванюша попа схватил, на плечо и прямо к воротам, — а Илья Иваныч к нему: — «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь.» — Положили, заметьте, в мешок, Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в избу: — «Ну, где выпивка?» А ему Илья Иваныч: — «Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал, — он опять вернулся.» — «Кто?» — «Утопленник.» — «Где?» Вышли на двор. Стоит поп у клети. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: — «Ах ты такой сякой, не слушаться!» — схватил второго попа и побег к проруби, — а Илья Иваныч ему в след: — «Ты как будешь его в воду совать, скажи — упокой, господи его душу, — он и не пойдет!» — Это, чтобы помолиться, все-таки, за попа. — Только Ванюша со двора, — Илья Иваныч третьего попа ко клети, — прибегает Ванюша, — а Илья Иваныч ему выговаривает: — «Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести, — ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься.» — Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч, — спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: — «Ну, все-таки, ты Ванюша потрудился, пойдем — угощу!» — Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. — Вот и сказке конец, а мене венец, — сказал Кузя.
Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, — пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному… —
Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи — но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили — по военному — в козлы. Избрали президиум.
От этого собрания остался нижеследующий протокол:
СЛУШАЛИ: 1. Доклад тов. Конькова о Международном положении[1].
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению.
СЛУШАЛИ: 2. Доклад тов. Кандина о плане работ Рабочкома.
а) Культурно-просветительная работа.
б) Средства Рабочкома и расходные статьи.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. В виду разбросанности лесных людей по лесам, Культкомиссии не избирать[2]; выписать на каждую сторожку по газете, расходы — 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3) суточные.
СЛУШАЛИ: 3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устроению памятника революции в Москве.
ПОСТАНОВИЛИ: 3. Отчислить однодневный заработок.
СЛУШАЛИ: 4. Донесение Председателя Кадомского Сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. — Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью Предсельсовета Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.
ПОСТАНОВИЛИ: 4. В виду неясности вопросов и несообразности донесения на самого себя — направить дело к доследованию, отослав копию в Угрозыск.
СЛУШАЛИ: 5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиком и лесниками с 7 кордона; из Племхоза был взят плембык за круговой порукой, — бык был убит и съеден, а в Племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.
ПОСТАНОВИЛИ: 5. В виду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Синицына и Шавелкина и объездчика Усачева удерживать ежемесячно 3-х дневный заработок и направлять его в кассу Племхоза.
СЛУШАЛИ: 6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям[3].
ПОСТАНОВИЛИ: 6. Утвердить.
СЛУШАЛИ: 7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.
ПОСТАНОВИЛИ: 7. Оставить вопрос открытым[4].
Первое письмо, которое написал Некульев с Медынских гор, было такое, — он не докончил его: —
«…у черта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцати верстах, а железной дороги — в ста, — в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня, — в жаре и делах, по истине чертовщинных! — Живу я робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас — 16 верст, но под обрывом идет — „великий водный путь“, и я часто толкую с теми, кто бичевой идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; — так вот дней пять тому назад тащил бичевой мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три черта, один под сердце, другой в „станову жилу“, третий — под мышку — а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять — так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике, — сообщил, что черти изгнаны. — Тема этого письма — люди, с которыми я живу, — это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы, — но это не главное, а главное то, что прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью — для домового, а жена его — голая — обегала дом, чтобы „отворотить глаз“. У него заболел бычок, заслезились глаза, — ветеринар уж не так далеко, в Вязовах, — но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик — арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить, — я и не полагал, что он колдун, — мужик, как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника), — так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял какую-то пленку с глаз у бычка, посыпал солью, — и бычок ослеп; тогда Катяша, жена Егора, достала „змеиной выползины“, высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной — лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника завут Маряшей; сначала я ее звал Машей, — она сказала мне: — „И что-е-те как вы зовете мене? Мене все зовут Маряшей!“ — Детей у нее трое, лет ей 23, — моей „жисти“ она завидует до слюней: — „и-и-иии, и все те с маслом, и молока сколько душа жалат!“ — Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю, — если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею, — а она молоко оставит на масло и творог — и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; она ни разу до меня не видела гречневой крупы — „у нас такой не сеют!“ — и сразу же украла у меня добрую половину для детей; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя, — и ни одного ребенка не принимала у нее даже… знахарка-баба: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, — черт знает, что такое! — Ко мне отношение такое. — Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масла; я спросил, — почем? — „Как раньше брали, по 25.“ — А с меня Маряша и Кузя, и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им — как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи, — ведь я же по-товарищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать, — этакое лирическое нравоучение прочел им. Не сморгнули. — „Мы по нарошку за то, нарочно мы, то-есть!..“»
«А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: — „это мы тебе в подарок!“ — Послал я их к черту со стерлядями. Я для них — барин и больше ничего, — я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, — барин; заставлю я ходить их на четвереньках — пойдут, заставлю вылизать пол — вылижут, и сделают это на 50 % из-за рабственного страха, а на 50 — из-за того, что — может барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов, — сделают все что угодно, — но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть может это излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня „бог послал“ Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я — честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция!.. — Это весь народ, который я вижу вокруг себя, но кроме них есть еще невидимый — это те сотни, а, может и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, — хоть, впрочем, забыл, — я же сам был украден немцами и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. Да, так. Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей часотке, — сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и — было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, — а мясо, там масло, яиц — никогда не видят… А вот Мишка — пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, — нашел в лесу землянку, уже развалившуюся в овраге, в глуши, — землянка в гору вросла, — и в землянке полуистлевшая псалтирь, спасался, должно быть, какой-то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю — „Арендателю“ чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человечьей головой, — телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, — но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вожделеть к коровам — это пусть лежит на его совести»… —
— Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, отекали стеарином, — лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг, Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, — первый раз осознал эти привычные мурашки, — поспешно ощупал револьвер, — вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, — и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:
— Товарищ Антон! Илья Кандин — убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют! —
Глава третья. — О матери сырой земле и о прекрасной любви.
Расспросить мужиков о матери сырой-земле, — слушать человеку уставшему, — станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если-б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики — старики, старухи, — расскажут, что горы и овраги накопали огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами — в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила — она же мать сыра-земля — человека, мужчину и женщину, — манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают — любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырою-землей — как смертью и любовью — клянутся мужики. Мать сыру-землю — опахивают заговорами, и тогда, в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть — матерью сырой-землей. — А сама мать сыра-земля — поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, покой. — Мать сыру-землю можно — иль проклинать, иль любить.
У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу сщемили, щемили.
Волгу спасали Медыни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залогах, — в десятках мест — грузились баржи с дровами, лесами, осмиреками, двенашниками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходы, — ночами сыпали пароходы гейзеры искр, — брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов — приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, — шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь — жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир, — и все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслелись, как рабочие блузы. — Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было — во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом. —
… Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом землистым от пыли, и Коньков сказал шепотом, как заговорщик: — «Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!» — Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе — с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. — Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и в миг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, — и в комнату вошел матрос, покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры. — «Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. — Документы!» — «Вы коммунист, товарищ?» — «Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход». — Земля сворачивала уже в осень и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке выли бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огней. Сели, поплыли. Кузя подсел к Некульеву: — «Это что же, расстреливать нас везут?» — Помолчал. — «Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву»… — Крикнул матрос: — «Не шептаться!» — «А ты куды нас везешь, за то?» — огрызнулся Кузя. — «Там узнаешь, куда.» — Ткнулись о пароходный борт, — «Прими конец», — «Чаль!» — Пароход гудел человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым. — «Веди в рубку!» — В рубке толпились вооруженные люди, у одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валила с ног. — И выяснилось: седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; карта лежала в рубке на столе — вверх ногами; седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, — и чем дольше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, — с ним спорили, не доверяя; а потом всю ночь сидел Некульев со штабистами — матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен; Коньков сказал, что он останется на пароходе; Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их. —
— И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу к седьмому (и первому и двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина. —
… Такие люди, как Некульев, — стыдливы в любви; — они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни они лгут, — это не есть ложь и лицемерие, но есть военная хитрость, — с собою они целомудренно — чисты и прямолинейны и строги. — Тогда, в первый Медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро, — и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю!» — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье — драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. — У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в прямолинейность, — и она возрастала обильно — матерью сырой-землей — как тюльпанная (только две недели по весне) степь, — кожевенница Арина Арсеньева, прекрасная женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть) стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волченок (о волченке потом…). Но за домом и за заборами — дом стоял на краю села — была степь по прежнему, жухлая, одиночащая, в увалах и балках, — такая памятная лунными ночами еще с детства. А каждая женщина — мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны — на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерме, о золении, о дублении, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьем помете), — и надо было иной раз рабочих обложить — в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором стояли низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка, строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов, стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, — и сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо — не надо было склоняться вечерами над волченком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему, и вдыхать его — горький лесной запах! — И вот в солнечный бодрый день — всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, — полюбила, полюбила! — И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал — «люблю, люблю», — остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка-женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. — Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волченком; но волченок был враждебен ему: волченок забивался в угол, съеживался и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно-осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие, — и волченок скалил бессильную маленькую свою морду, и от волченка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека… Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастьи. Некульев не замечал, что всегда она кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина — удосуживалась, все же! — пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, — кожей, что-ли. — Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнц подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами сурки, поднимались на другую сторону балки, — и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей, — Некульев думал, что в руках его солнце. — У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) — потому, что у них были любовь и счастье.
И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. — Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог. —
Некульев приехал днем. В мезонине был только волченок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: — «Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченых, — пошла туда Арина Сергевна.» — Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких протухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, — и там увидел. — На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их как дуги), лошади походили на ужасных нищих старух, лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь — хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню, — четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь итти убиваться, — вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая — живую еще — кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул: — «Арина, что вы делаете?!» — Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву: — «Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все использывается.» — Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, — рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, — лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице. Некульев понял: здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, — повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» — в степи он шел как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волченка. Больше Некульев не видел Арины. —
Леса лежали затаенно, безмолвно, — по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, — горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо — оно услыхало бы как перекликаются дозорные, как валятся деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услыхало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. — Лежала в лесах мать сыра-земля. — Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. — Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:
— Товарищи. Я ухожу от вас, в Красную Армию. Поступайте как знаете. Если хотите, идемте со мной.
Кузя помолчал. Спросил Егора: — «Ты как понимаешь, Ягорушка?» — Егор ответил: — «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак к примеру нельзя, все растащуть, — я лучше в деревню уеду.» — Кузя за обоих ответил — руки по швам:
— Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!
Некульев сел к столу, сказал: — «Ступайте, что останется от меня, разделите по-ровну, я уйду только с винтовкой. Кузьма, приди через час, я дам тебе письма, отвезешь.» — Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.
Некульев написал на клочке, поспешно:
«В Губком. — Товарищи, я покидаю леса. Я спешу, потому что около идет бой. Я ухожу в Красную армию, но это не конец, — я хочу работать, только не с землей, чтобы черти ее прокляли: пошлите меня на завод. Работать надо, необходимо.» —
«Ирине Сергеевне Арсеньевой. — Арина, прости меня. Я был честен — и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером.»
…………………………………………………………………………………………………………….
О волченке.
Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина шла из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе собаки, село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, — поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине — рядом здесь в комнате дышал волченок. Зажгла свечу, склонилась над волченком, зашептала: — «Милый мой, звереныш, ну, пойди ко мне!..» — Волченок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волченка, не мигающие, стали особенно чужие, враждебными навсегда. Ирина нашла волченка еще слепым, она кормила его из соски, она няньчилась с ним как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, — волченок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть, — но навсегда волченок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волченок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, — они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала — он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами — «ешь, ешь, голубчик, — ну ешь-же, все равно я не уйду отсюда!» — волченок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и руками, и был неподвижен, не смотрел на миску, — пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волченок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задирал вверх ноги, — но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно-внимательных глаза. — Ирина поставила свечу на полу, и села против волка на корточки, сказала — говорила: — «милый мой, звереныш, Никитушка, — ну, пойди ко мне, — у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» Свеча коптила, мигала, — мир был ограничен — мир Ирины и волченка — спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг в друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волченка — и волченок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, — впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей; — Ирина отдернула руку, волченок повис на зубах, — на руке, — волченок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, — и сейчас же по-прежнему сел волченок в углу и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно-внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала — не от боли, не от крови, стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия — как ни люби волка, он глядит в лес, — Ирина была бессильна пред инстинктом — вот пред маленьким вонючим, пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, — и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ей, — что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву; — и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волченка, тем злее был он с ней) больно ударила она волченка по голове, по глазам и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастии. Свеча осталась около волченка. —
Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, — и за окном крикнул подавленный голос:
— Товарищ Арсеньева! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли, — казаки в селе, скорей! — Айда в леса! Товарищ Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого, — Сарычев обиделся на него, — говорил: — «…а если вы думаете, что Кадомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, — так он сам первый жулик, а которые фамилии были подписаны — так они люди странные, теперь уехали домой, на Ветлугу.» —
и за окном послышался поспешный топот копыт — от села к степи, к лесам. —
…Степь в осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь… А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. — На дворе на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина — Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета до-нога. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее — красавицы — было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводской двор.
Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и двор были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь было все разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечей и смотрели из за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух, сам себе: — «Убили, что-ли? Либо подранили, — и тут громили, значит, черти!» — Потом остановил свое внимание на волченке, осмотрел, усмехнулся, сказал: — «А говорили, что волченок, ччудакии! Это лиса!» — Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, — взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, — взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман, и пошел вон из комнаты.
Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками, — о лешем он не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.
Кузю, должно быть, поразила история с волченком, потому что он по многу раз рассказывал Егору, и Маряше, и Катяше: — «А говорили, что волченок, ччудаки, а это — лиса! У волченка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть, и, заметьте, — уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю!»
По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волченок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух. —
Москва, 20 ноября 1924 г.
Поварская, 26, 8.
С. Григорьев Казарма
ПОВЕСТЬ
Мобилизация — предварительная смерть… Мокрый от слез на морозе поцелуй жены — и вот — я, не я, стою перед высокой лестницей на виадуке через пути. Морозно. Зеленый свет высоких фонарей. Хлопотня крикливых паровозов. По лестнице вверх серый солдатский ручей. Звякают, поблескивая штыки. Скрипят ступени под новыми сапогами. Крики: «Вот они — Карпаты!» И я с саквояжем в одной руке и с постелью в ремнях в другой, вливаюсь в серый поток и лезу на Карпаты.
У платформы — поезд для маршевой роты — теплушки. Нас, только что взятых, повезут в другом поезде, в «Максиме Горьком», как тут именуют IV класс.
Проиграла труба. У паровоза стал оркестр. Поезд с эшелоном с натугой сдвинулся с места. Оркестр играет все одно и то же колено из веселого и бодрого марша. Мимо проплывают вагоны; из раскрытых дверей машут серыми папахами, и — крики «ура». Седой старик стоит у пути и снимает шапку перед каждым вагоном, низко кланяется. Красный глаз последнего вагона. Оркестр смолк и ушел. Подают поезд для нас.
С руготней и дракой в вагоны лезут «черные» с холщевыми мешками за спиной, с сундуками, котомками, чемоданами… В вагоне темно и холодно. В окна — зеленый неверный свет… Рядом со мной провожают: мать и жена. Старуха мерно причитает, словно читает стихи нынешний поэт. Прислонясь в уголок, прислушиваюсь, настраивая себя на лад иронии, и слышу в потоке слов: «Какая эта трудная минуточка». Хочу усмехнуться и не могу удержать слез… А тот, низко уронив голову, сморкается громко и угрюмо повторяет уж который раз: «Идите с господом домой». Звонок. Жена к нему припала, и оба зашлись в бесконечном поцелуе. Расстались и простились без слов и слез.
Три звонкие капли колокольных ударов. Вагоны дрогнули, и морозно заскрипели под колесами рельсы. «Теперь мы выпьем ханжи?» — «Я не пью». — «Я знаю!» Он достает из корзинки бутылку квасу и большой флакон из-под вежеталя, полный фиолетового спирта. Откупорил квас, прилил туда денатурата, взболтнул, прижав перстом. Из бутылки фонтаном брызнуло прямо мне в лицо вонючей ханжой. Отираюсь смиренно. Он наливает в кружку, пьет и мучительно крякает. Долго кашляет и бранится. Повеселел. — «Что, хорошо?» — «Не хвалю!» — «Рвет с нее?» — «Всяко бывает!»
Баба-кондуктор поставила в фонарь свечу. «Огонька» достали кто откуда, как и мой сосед, все спутники. Затопили печь. И стало жарко так, что в кармане пальто у меня размякли и потекли конфекты, которые на дорогу кто-то мне сунул в карман…
В проходе у стены, схватясь за грудь и выпуча налитые кровью глаза, блюет, судя по одежде хитрованец, оборванный, в опорках. Из него хлещет на пол и стену, как из брандспойта. Где-то на верхней полке запели дико и нескладно: «Последний нонешний денечек».
У каких-то без имени станций поезд без расписания стоит долго. В вагоне — духота. Кричат: «Холодно! Что нас заморозить хотят». У печки груда антрацита — пошли ломать изгородь станционного сада. Трещат ломаемые доски и крашеные весело пылают в печи… С третьего этажа нар один загремел вниз. «Эй, вставай, не до смерти разбился!» Встает и начинает по загаженному полу в присядку: «Вот как картошку копают!» «Молодчина!» В углу бритый, опухший орет с одышкой: «Ельник, подъельник — это не дрова. Любит жену мельник — это не беда».
Брежжит день в мохнатые от инея окна. И все еще: «Ельник, подъельник — это не дрова», но все ближе наша станция. Мой сосед расторговался ханжой. У кубов на станциях хвосты с чайниками: «Кипяток кипит». Какая повсюду грязная, загаженная вода! Попив чайку, пригорюнились, поют: «Прислоняся к стене, безутешно рыдал». А как же мельник?
* * *
4-го ноября. На «Калитниковском» некто бритый, в погонах военного зауряд-чиновника, надо полагать, оперный баритон, крикнул мне певуче: «За спину!» В ту минуту я сразу не понял своего превращения: «Что такое?» — «За спину! Что у меня, две спины?» В вагоне, пока трясло «Максимом Горьким», поговоркой стало: «За спину»…
Вывалились из вагона. Провожатые с винтовками окружили и как-то обидно покрикивают. А в Москве мы их и не видели будто. Мимо проходил и не взглянул носильщик. Сую ему в руку открытку, прошу, чтобы опустил в почтовый ящик — известие домой, что благополучно доехал.
Взял. Даю двугривенную марку, — махнул рукой, не надо. То-есть он меня пожалел… Да, «За спину!»
«Omnia mea mecum porto» — кто это сказал, был мудрый человек. Свои «два места» я связал ремешком и повесил через плечо. Вспоминаю: бывало, с исступлением кричишь на станции, приехав: «Носильщик»! С «двумя местами» через весь город — пять верст до полкового штаба и обратно до казармы пять верст — постигаю, как немного надо солдату вещей. «Спервоначала все так, — говорит мне в утешение провожатый: — потом, если во второй раз — с ложкой да кружкой». В «Максим-Горьком» два бравых солдата вошли в вагон, оглянулись (отстали от того эшелона, дезертиры) и ужами заползли под низкую скамью. На ременном поясе жестяная кружка и ладунка из холста. Под лавку и плевали и окурки, и чай выплескивали, и огрызки. Баба с метлой приходила. «Не вымети солдат». — «Где?» — «Под лавкой». Заглянула: «Там нет». — «Как нет?» — «Да нет». Пришло время, — оказались. Выползли, оправили друг другу шинели, отряхнулись, достали из штанов по огромному серому огрызку сахара и кружки с ремней снизали. И со всех сторон уж чайники рыльцами к солдатской кружке тянутся.
Брал с собой только самое необходимое. Пришли в казарму к темну, — целый день на морозе у канцелярии держали. Пришли. Бросил на пол «вещи» и упал на нары в припадке бессильной ярости. Кругом солдатские сочувственные лица. «Ничего, это скоро пройдет».
Вспомнилось из «Войны и мира», где отступление французов в 1813 году с награбленными вещами. Толстой сравнивает их с обезьяной, запустившей руку в кувшин, полный орехов. Просто освободиться от вещей: разжать кулак!
Походное снаряжение. В Москве те солдаты перед лестницей на «Карпаты». — «Долго эти палки с собой будем таскать?» — «До первого костра — чай кипятить, и дров собирать не надо». Третий год каждому солдату в маршевой роте навьючивают на спину колышки и палки. Говорят, в прифронтовой полосе этими брошенными палками усеяна земля, а в тылу неутомимо точат миллионы новых палок — работают на оборону…
Сегодня в дальнем углу под нарами в нашей роте нашли новенький, совсем пустой чемодан, незапертый… И никто не мог вспомнить, чей это был. Люди в казарме долго не засиживаются. Тот, чей чемодан, быть может давно уж получил «Георгия пятой степени» (крест из двух палочек, связанных лычком на могиле). Ему не то что чемодан (от Мюра и Мерилиза), а и гроб не понадобился. Война — без вещей. (Галицийское отступление в общем смысле).
* * *
5 ноября. Лежу на полу. (На нарах места не успел). Лежат все на боку, как копчушки в коробке. Уйдешь «до ветру», вернулся — места своего не отыщешь. Я улегся в проходе у стойки с винтовками. Долго препирался с дежурным: голова моя, как ей и быть следует, в двенадцатой роте, а ноги пришлись уже в 3-ей. Ма́рочка! И я невозбранно вытягиваю свои ноги в чужую роту. Дежурный прикрутил лампу. Казарма утихает. Я спать не могу. Все еще какая-то горячка. Дышу, как рыба, выброшенная на берег. Дежурный ходит вдоль меня по корридору, жестоко кашляет. Остановился, плюет на пол. Мне кажется, что он плюнул на меня. Опять закашлял и смачно плюнул, совсем рядом с моей головой упал шматок мокроты. Я не виню: плюнуть некуда, спят по всему полу. Лучше лежать с открытыми глазами. Дневальный ходит по узкому проходу между двухъярусных нар и смотрит, как люди спят и «чтобы не было воровства».
Храп. Великолепное разнообразие храпов, свистов и вздохов. В одном углу — лай автомобильного кляксофона, раздраженно и властно остерегающий; в другом — нежно воркует горлинка; сверху чихает паровой копер, забивающий сваю; внизу кто-то дышит так, словно на спор с артистическим проворством откупоривает бутылки — сотню откупорил и хочет откупорить еще тысячу. В сумраке кто-то вскочил на нарах, сел и дико закричал: «В одну шеренгу стройся! Ать! Два!» И повалился опять на свое место. Тихонько спрашиваю у дежурного: «Что это он там?» — «Кадровый. Четвертого кадра. Вчера из учебной команды. Пригрезилось». Где то во сне бормочет непонятно, долго, настойчиво, нежно, глухим басом и заходится всхрапывая. Тоже пригрезилось.
На полу спят в повалку, укрывшись с головой. Вижу, кой-кто трясется от неслышного плача. Корридором от двери по полу тянет холод. Закутываюсь с головой… Сплю или не сплю? Вспоминаю дом и постигаю новое чувство, — солдатскую жаль к покинутым там, в Москве. В сущности, — себя жалко. На дворе вестовой пожарный выбивает в звонкий колокол часы. У окна, приткнувшись к маленькой коптилке, шуршит газетой солдат. Рядом с ним второй, пользуясь случаем (свет) снял рубаху и выискивает вшей. С верхних нар раздается звучно и незаспанно: «Иванов, довольно читать!» Коптилка погасла. Пересмеиваясь и перешоптываясь, крадутся и осторожно разоблачаются двое кадровых, опоздавших к поверке.
Храп, шорохи, вздохи. Крысы, цепко стукоча лапками, бегают под нарами. Дежурный, став на табурет, осторожно закуривает от лампы и, стоя около меня, позванивает, играя штыком.
Воздух густой. «Хоть топор вешай». Нет! Студень. На полу людское крошево, потом слой студня, еще (первый этаж нар) слой крошева из людей и слой студня потолще, еще крошево (второй ярус) и толстый слой студня до потолка. В самой толще студня (союзного) — лампа — золотая назойливая муха, попавшая в клей. И жужжит, жужжит густым голосом. Нет, это в городе завыл гудок снарядного завода, зовущего первую смену… Должно быть у меня жар. — «Двенадцатая вставай!» — неистово орет дежурный, припуская свет лампы.
* * *
10 ноября. Ефимов четыре раза был на фронте, четыре раза был ранен. Сегодня комиссия его признала наконец нестроевым и дали отпуск на поправку. Он плачет и не от радости, а от обиды, что так долго и безжалостно его, умирающего, держали «ни для чего» в казарме. «Трудно на фронте, Ефимов?» Глупейший, конечно, вопрос. — «Эх, и как еще трудно-то, братцы!»
* * *
Над входом в нашу казарму висит красный флаг с номером полка: это знамя полковой пожарной команды. Тут же, у игрушечного подобия пожарной каланчи, и колокол, в который так грустно, что сердце щемит, ночью вестовой отбивает часы.
* * *
Когда, сидя на нижних нарах пьешь чай, то сверху в кружку сыплется — что? — грязь с сапог, солома, крошки хлеба, что-то копошится, беспомощно стараясь выплыть к берегу, живое… Третьего дня один старый солдат с веселым злорадством: «Сегодня у всех новеньких по одной да будет». Есть. И не по одной. О вшах Лев Толстой, — что «согревали тело» (Пьер и Каратаев). Вши не согревают, от них мороз по коже — в первый день, а потом не замечаешь, не до того. И забыл бы совсем, да везде на стенах наклеены видные плакаты: «Берегись вшей». «Не пей сырой воды. Не ешь сырых фруктов. Чаще мой руки». А вода в городском водопроводе едва сякнет — еще бы: войск в городе в три раза больше, чем было все население города до войны. В баню привели роту — по шайке воды на брата не хватило: и вымыться и «обстираться» — выбирай любое.
К кубу за кипятком надо стать за час до крика «вставай» в затылок, а то чаю не успеешь напиться — выгонят на двор строиться. «Не ешь сырых фруктов». Исполняется точно и буквально: ни сырых фруктов, ни даже киевского сухого варенья у нас в казарме не кушают.
* * *
До войны стоял гусарский полк. Гусары спали в мирное время на кроватях с матрацами и простынями. В книжке напечатано: «Довольствие нижних чинов рядового звания — не подлежит заучиванию на память». Но все и без заучивания твердо знают, что солдату по зачислении в часть полагается одеяло, тюфячная наволочка, четыре подушечных наволочки и три простыни. Но «война»!
На память от гусар остались надписи по стенам крупными красными буквами: «Атаману первая чарка и первая палка», «Святослав сказал: мертвые сраму не имеют.» — все это для гусар. Военная культура, как только — война, полетела ко всем чертям. Мы, серая пехота, «берегись вшей».
* * *
Прапорщики на плацу гурьбой обошли нас и переспросили: «чем занимался»? А потом отошли и один горестно тряхнул головой: «И это Москва!» А чего бы вы хотели? Обор остался. Да, это Москва. И вот, если взять равнение по левому флангу, где стоят кривоногие и колченогие оборванцы — так, пожалуй, и не так уж ужасны условия казарменной жизни: многие даже попали в рай, по сравнению с Москвой.
* * *
На фронте убивают и, что страшнее, калечат. Но не следовало бы забывать, что первая жертва стране армией приносится вот тут в казарме. Если бы расставить, как бывало в прошлые войны, войска по обывательским квартирам — во что бы обратился город, что сказали бы жители? И во что обратилось бы само войско. В окопах, там может быть и ужасно, а тут условия роскошные.
* * *
Казарма — сразу по голове. Сразу и надо. Все равно, что при купаньи входить в холодную воду — без жеманства и без бабьего подвизгиванья и поджимания.
* * *
Иначе некогда, да и невозможно во время войны. Вот так и отбираются «серые дьяволы.» Идет не обучение и не подготовка, а в сущности совершается искусственный подбор: кто выдержал эту каторгу, тот и есть «серый дьявол.» Казарма поголовно кашляет. Казарма кишит инвалидами. Все это отбросы, отсев, то, что фабрики и заводы спускают в сточные трубы. Если что и ужасно, то то лишь, что так бедна наша людская руда, так много пустой породы, столько приходится промыть ее, отсеять на этом «грохоте» войны, каким является казарма, чтобы получить чистое золото маршевых рот.
* * *
К ночи. Пробили зорю. Казарма кашляет, охает, вздыхает, отходит к короткому болезненному сну. А на запорошенном снегом казарменном плацу после поверки снова выстроились взводы маршевой роты.
КОЛЫБЕЛЬ.
Тесным хороводом строимся повзводно плечом к плечу. «Плотнее, плотнее становись. Ать! Два! Ать! Два!» Переступая с ноги на ногу, живое кольцо людей начинает мерно колыхаться из стороны в сторону. Стоя в этом хороводе, скоро забываешь про свое тело, изломанное за день. И справа, и слева, и спереди, и сзади мягкая, но мощная опора. И лица перед тобой колышутся вправо и влево. Мерное колыхание покоряет, успокаивает после дневной трепки. Колыбель для целого взвода из собственных тел! У солдата нет ни матери, ни жены — мы убаюкаем, упестуем сами себя… Посреди тесного круга стоят кадровые запевалы. В такт мерному качанию запевают про Василия Рябова. Лица и глаза суровы. В усах у иных — проседь. Но как открыто и широко льется звук. Слова простодушные: — «Гей, гей, гей, герой». А почему герой: «На разведку выходил, все начальству доносил.» А в плен попал, то не сделал того, другого, третьего. Это не то, чтобы убить Минотавра, дракона или Медузу Горгону. Ну, а все-таки! И, может быть, даже труднее… Сколько написано нашими помпонными поэтами стишков в эту войну — и ни одной песни, чтобы проникла в казарму. Только какой-то куплетист написал для прапорщиков «Оружьем на солнце сверкая»… Да и не к чему. Суть не в словах и не в мелодии даже, а вот в этом мерном колыхании плечом к плечу, в выдувании из самых закомор груди городской копоти и вони. Дышать правильно и дышать на открытом воздухе. Надо самому познать, как славно не бояться дышать чистым, хотя бы и морозным воздухом, как приятно на сон действует взводная колыбель. В казарме неизбежно душно, грязно и вонько. В казарме солдат — наименьшее время. Двенадцать часов движения на открытом воздухе. Для меня это переворот, землетрясение! Ведь там, дома, я гулял «для здоровья» не более двух часов в сутки. А мой сосед по отделению, рабочий с Прохоровской мануфактуры, каждый день на воздухе бывал только дойти туда и назад — двенадцать минут, да в праздник иногда на Воробьевы Горы. Дышать в мороз, ветер, слякоть, дождь! Я сразу лишился голоса. Кашель. Жар. Дома я лежал бы в постели и даже позвал бы доктора. Сегодня я иду в строю и шопотом кричу, когда взводный требует: «Ногу!», «Раз, два, три»! К вечеру — о, чудеса, — у меня вернулся голос с оттенком казарменного баритона. А дома хрипел бы и сипел бы целую неделю. Правда — кашель. Но все кашляют. Один — другой свалится от воспаления легких. Зато тут есть чахоточные, которые «не узнают себя» после двухмесячного казарменного режима. Спервоначала меня поразило и возмутило даже, что вместе с нами раным-рано по утру выгоняют на плац за город и «несчастную нестроевщину» — хромоногих, больных. Пройдя до загородного плаца верст восемь, мы успели уж и приустать — и помаршировали и побегали и приемы, а хромые только доковыляли, и сейчас же их назад. Возвращаясь, мы нагоним их у казармы. Жестоко? Как посмотреть — не более ль жестоко было бы держать этих несчастных людей в дохлом, полном заразы тепле казармы, чем гнать их в мороз на улицу. Заболеют? В казарме всюду надписи: «Заболел — иди к доктору.» Положат вместо казарменных голых нар на чистую больничную койку. Вчера, когда у меня захватило грудь, засыпая я слушал, как на дворе кричат и поют взводы маршевой роты и мечтал: «Хорошо бы заболеть.» Все об этом мечтают.
* * *
17-го ноября. Россию любить трудно. Разная в окраске, но у всех народов есть доля простодушия в любви к отечеству: у немца — граничащая с тупостью, у француза тоже довольно забавно выходит, да и английская самоуверенность смешна перед лицом судьбы. Пусть-ка кто-нибудь попробует простодушно полюбить Россию!
СЕРЫЕ ДЬЯВОЛЫ.
В прозвищах солдат тоже оттенки. «Томми Аткинс», «Пуалю». У нас в казарме с ласкательной насмешкой: «Ах, ты серый дьявол.» Да, серые дьяволы. В этом словечке и серость наша в мире, и вошь не забыта.
* * *
В третью роту ждали эшелон из тамбовского уезда. Маты плели из соломы целую неделю — новенькие, целой стопой под потолок сложены на всеобщую зависть. Дежурный сторожит, ровно цепной пес, чтобы кто из соседей не спер мата. К часу приезда — кубы в облаках пара, а кипятильщик с поленом стоит, никого к кубу не пускает. Ввалилась деревня с котомками, сундучками, в лаптях, — крик галочьей стаи. «Эй, длинноволосые, сюда!» В проходе корридора машинкой снимают мохнатый войлок с голов. На полу скоро груда бурой шерсти — человеческой шерсти! — «Ты чего в гриве спать улегся? Кто еще с длинными волосами?» Завтра с утра тамбовскую деревню в баню. Об них так заботятся по двум причинам. Во-первых, из них-то, из этой деревенщины, и выходит настоящий солдат («Не рассуждать, когда я с тобой разговариваю»), а потом — надо оберечь казарму от той заразы, которую они, наверное, принесли с собой.
ТОРТ ПРАЛИНЭ.
За небольшую «сумму» я купил себе место на нарах у окон — хотя и дует от окна, зато нет второго этажа, откуда сыпалась бы всякая дрянь. По одному боку мой сосед — товарищ Прудников с Прохоровской мануфактуры, по другому боку — Торт Пралинэ. На воле он заведывал большой кондитерской торговлей. У него тоже есть православное имя, но так лучше: маленький, пухлый, голова круглая, глазки слегка на выкате, ласковые, сладкие, мутные. Усы, на бритом подбородке — ямочка. Улыбается привычной любезной улыбкой. Говорит скрипуче, лениво ворочает языком — полон рот каши. Неприятного не слышит. Поднимет изумленно брови и переспрашивает: «Чего это?» — «Вы бы, говорю, товарищ, с чайничком хоть раз в затылок постояли». — «А-а!» и кивнет головкой, что «понял.» Смотришь, он уж сидит на нарах в другом взводе и чай с мармеладом (с собой привез) кушает. Белье у Торта Пралинэ — коричневой полосочкой. Взводный подарил ему тюфяк в наволоке…
У товарища Прудникова в корзинке все предметы в особых мешочках с затяжкой. Пошли с баками за обедом. Прудников вынимает из корзины ситцевый мешочек с деревянной ложкой. Сидит на нарах, держа мешочек за шнурочек, им помахивает, как дьякон кадилом, и спрашивает: — «Что же сегодня будет: вермишель с бараниной?» — «Нет, рыба…». Прудников вздохнет, прижмет руку к сердцу: — «Ну, что же, скушаю ложечку горяченького супчику с рыбкой». После супа, в котором плавают головки соленой сельди, каша. «Скушаю ложечку кашки?» спрашивает меня товарищ Прудников. — «Конечно, скушайте». Скушает и говорит: «Так я сегодня доволен остался, что подморозило. Грязь меня смущает!» Облизал ложку, ищет на полу бумажку почище, вытирает ею ложку и прячет в мешочек. — «Покушаем чайку?» — «Покушаем. Только скучно в затылок стоять.» — «А я тому мужику с бородой, который у куба, давеча марочку показал, он без очереди отпустит.»
* * *
«Мушку сушат.» У пирамиды с винтовками два солдата стоят за наказание «под ружьем». Через плечо полотнище палатки с палками, за плечами мешок, нагруженный хлебом. От ужина до зари мне пришлось три раза пройти мимо. Стоят не шевелясь. С лица градом пот и сохнет на лице. Глаза потухшие.
* * *
«Что ты ходишь беременной бабой. Колбасой носись.» «Колбасой летай.» Разве колбаса летает — на прилавке лежит. Не та колбаса: привязной воздушной шар. В свежий ветер грузная с виду колбаса носится в воздухе из стороны в сторону с живостью неподражаемой. Поговорка с фронта.
* * *
Наша винтовка, по отзывам кадровых, лучшая из всех. Винтовок на всех обучаемых не хватает. В пирамидах — целая коллекция ружей с разнообразными штыками, различных стран и систем. Внимание останавливает на себе японская винтовка в светлой ложе. О боевых качествах я не сужу. Но если сравнить с немецкой, например, — японская поражает доведенной до артистичности внешней простотой деталей. Нигде острых выступов. Немецкая продумана до конца в каждом винтике, но грузна зато и неуклюжа. В оружии, как и во всяком орудии (а в орудиях я толк понимаю), очень важно, чтоб нигде не задевало, не терло, не давило. Ничтожный выступ, бугорочек, а держит, мешает. Эта внешне нарядная винтовка сделана в японском стиле — как японский рисунок, облегченный от всех ненужных деталей, в каких мы способны утонуть. Я думаю, что в производстве орудий труда Япония очень быстро опередит нас. Она возьмет в сложнейших наших орудиях и машинах их сущность, их духовную сторону, форму и освободит от излишка грубой материи. В японской винтовке надо отвинтить для разборки всего один винт — и готово. Но уж винт этот так сделан, что «сам» от случайности он не отвинтится ни за что.
Кадровые говорят: наша винтовка «единственная» при точной стрельбе. Наш штык «единственный» при фехтовании и ударе. Да печально бы, если не так: мы — пехота. В увлечении лозунгом «неисчерпаемых запасов живой силы» (во что нас заставили уверовать союзники наши) принцип пехоты у нас доводят до абсурда. В Галиции несчастие-то главное в том и было, что оно явилось следствием принципиального увлечения: падает один стрелок, ружье подхватывает другой, этого убили — третий. И так без конца! К одной винтовке люди должны были заменяться подобно патронам в пулеметной ленте. Перед немцами, бьющими по квадратам даже из ружей, стоит неистребимый стрелок, бьющий прицельно. И вот в то мгновение когда ружье, выпавшее из рук смертельно раненого стрелка, никто не поднимет, мы и скажем «баста.» А до той поры будем воевать… От этой крайности, мы отказались: не пять стрелков на одну винтовку, а на каждого по винтовке. Да откуда их взять?
* * *
Об отбросах казармы — поправка. Что остается — вовсе не мусор, который на свалку. Мало ли на войне, в самом бою, таких условий, в которых и слабосильный хорош. В мусоре бы покопаться и не с точки зрения, что наши людские запасы неисчерпаемы, а что война идет вовсе не так, как мы ее раньше видали.
* * *
Четверг. Когда идем на плац, сколько оттенков во взорах на нас. Вдруг команда «стой.» С троттуара подошел полковник. «Подтяни, подтяни! Откуда? Москвичи? Так!» Осмотрел словно ощупал взглядом прасола: «Веди.» Баба с ведрами, заметив меня: «По всему видно купец, денег не хватило откупиться» — с упреком и что я дурак, да и со злобой, что многие откупились, а ее мужик, поди, в окопах третий год… В автомобиле кто-то черный взглянул на нас аппетитно, надо полагать, он нас одевает, обувает и кормит — вообще работает на оборону. Так бывало, при монополии смотришь на новую стопочку блинов. Барыни в развеваемых ветром юбках поджимаются и косят взором жадно испуганным и отвертываются. Девицы откровенно. Кадровые им кричат: «Идите, красавица, с нами. Все равно скоро и вас брать.» Вильнула хвостом и в калитку. — «Я так и знал, что вы сейчас завернетесь.» Мальчишки глазеют весело и безжалостно дразнят: — «Ногу!» Хочется стервеца поймать за ухо.
* * *
На казарменном углу у корзинок сидят торговки. Хлеб, раскурочная бумага. Кто при деньгах — «огонек.» — Хорош ли хлеб-то? — На яицах, да не хорош! — Ну, уж на яицах? Врешь! — Зачем врать, не сама пекла, пекарь. С яицами. Хороший хлеб.
ОТЦЫ И ДЕТИ.
Было ли это еще когда-нибудь, что война собирает в казарму и отцов и детей? Когда-то, в солдатчину при Николае. С тех пор забыто, и теперь — дико. Обращение: «отцы», «старики». Мальчишки последнего досрочного призыва уже успели пройти учебную команду и учат стариков. На всю жизнь пойдет это, что над отцом война поставила ефрейтором — отец-то, ведь, рядовой. И далеко за казарму это разойдется. Старье из поля вон.
Любо смотреть в казарме: возятся как щенки, веселы как воробьи, гибки словно котята. Что им война! А говорят, как итти в атаку, ревут верблюдом: идут и плачут.
На плацу — крик из конца в конец: — «Четвертый кадр к ротному!» И со всех концов учебного поля легким широким бегом несутся «на носках». Оденьте Поликлетова «копьеносца» в интендантские сапоги и заставьте его пробежаться: вот впечатление от этих будто окрыленных мальчишек, легко несущихся, едва касаясь неуклюжими сапогами кочек замерзшей грязи. Подбежав приставил ногу («стучек чтобы на все поле») и тем же махом рука у папахи. «Явиться» надо уметь. «Зверей» в юнкерских школах на этом «цукают» достаточно, ну и в учебных командах тоже.
* * *
Одежда много значит. Мы были бы «интеллигентнее» (вся нация), если бы нас одеть поизящнее.
«СИНИЕ ШТАНЫ».
Русских учат поляки. Малороссов — ярославцы. Князей из Казани («Здрам желам!») — латыши. Это система. Собрали в казарму все народы России и все еще, «чтобы не соединились».
У ефрейтора Повилковича — самый неспособный ученик извозчик Фурштатов — в Москве у него было шесть закладок, в Можайском уезде — двенадцать коров. У Фурштатова умные, чистые глаза. Сын — на Карпатах. И ему пришлось. На плацу — смех и горе. Фурштатов пришел в казарму в синих посконных штанах: «Синие штаны, смени ногу. Левой! Левой!» Никак не могут «синие штаны» в ногу попасть. Так за Фурштатовым и осталось «синие штаны» хоть давно он в серых. — «Синие штаны! Махай руками!» Фурштатов начинает махать руками невпопад, — не руками, а ручками — так наивно они у него вдруг начинают болтаться. Где уж тут поворот кругом через левое плечо, при чем надлежит занести правую ногу за левую, приподняться на «носках» сапог, повернуться и — полный шаг с левой ноги. Сами кадровые путают, показывая. Фурштатов поворачивается непременно через правое плечо, ноги у него дрыгают и завинчиваются штопором. Явная негодность к строю! Фурштатов это доказывает с трогательной последовательностью. И прав: у него единственный сын на Карпатах, а хозяйство погибает. Велик русский мужик в искусстве обирания. Есть такие жучки — подожмет лапки и швыряй его как знаешь — мертвенький, да и только. И не жучок, а «так», мусоринка, ничего питательного, клюнула птица носом и мимо. У жучка — инстинкт. У мужика — великое искусство. И еще Германия нас мечтает «покорить под нози!» Да и нам таким, с таким искусством затаения, нужна ли «немецкая» победа?
ГАЗЕТА.
Пятница. Газеты получать и читать в казарме не возбраняется. У мальчишки-газетчика — обиженный вид: не успел притти — газеты из рук рвут, окружили, галдят, расхватали — кто заплатил, кто нет, а дежурный кричит: «Пошел вон!» Оттого газета к нам доходит не каждый день. А газета здесь прямо бесценна — сапоги обтереть, высморкаться, с нар после обеда стереть. — Вы читали газету? — Да! — Барабанщик говорит, что — мир? — Нет, про мир ничего не напечатано. — Как не напечатано! Барабанщик читал, что военные действия считаются законченными. — Авторитет барабанщика довольно высок в казарме — он зорю бьет.
Под лампой в арке корридора сгрудилась толпой, не пройти. Газетный лист распялили по стене во всю ширь. Десять рук по краям держат и десять человек бродят в полутьме по газетному листу глазами. Сзади напирают, тянутся. Ищут все того же волшебного слова, которое вычитал в газете барабанщик. Им хотелось бы, чтобы это коротенькое слово было напечатано поперек всего листа полуаршинными буквами. Больше и читать в газете нечего. Я вместе с другими тянусь через плечи меж голов на пустой лист и мысленно читаю в ампирном веночке крупную надпись «Танглефут». Мы прилипли к газетному листу, как к клейкой американской бумаге липнут мухи и безнадежно трепещем крылышками мечты и жужжим. Газета — весь ее смысл, что от нее слова ждешь и покупаешь, а потом и привык и приклеился к сладкому клею. А глядя на тебя летят и вязнут и другие.
* * *
Фурштатов (синие штаны) выиграл в лоттерею часы. Разыгрывал (гривенник за билет) отделенный. Часам цена три целковых, а шли они в пятнадцати рублях. Благотворительная лоттерея. Из уважения подписались все. Я взял (заискивая у начальства), десять билетов. А Фурштатов — один и не для уважения, а чтобы выиграть, и выиграл. Спрятал часы в кошелек. Часы идут. Фурштатов, смеясь глазами, все спрашивает: «А как они заводятся?» Отделенный, растроганный нашею отзывчивостью, три дня заводил, а на четвертый: «Пошел ты, обормот………» Фурштатов так и не понял, как заводятся часы. Умный мужик.
* * *
Нынче утром готовили к смотру маршевую роту. Выстроили взводы по ранжиру. Гляжу вокруг по снегу на четвереньках люди вокруг взводов ползают. Что такое? С большими ножницами. А! Портные из полковой швальни: шинели подравнивают, чтобы как «по нитке» было, когда взвод стоит шеренгой. На земле валяются широкие длинные обрезки, в покрой более явно негодные. Вот отчего у нас сукна не хватает!
* * *
Прививка оспы и брюшного тифа. Повидимому, эти прививки действительны. (Иначе так, как мы живем в казарме, повальные болезни были бы страшнее немца). Оборотная сторона: при прививках, вообще при лечении предупредительном, гигиена, чистота, возведенная в культ, отступают. Два направления, исключающие одно другое. Эрлих или Пастер? Значит, можно жить и в грязи, в воздушном настое из всякого рода болезнетворных начал и пить клоачную воду? Опыт казармы в эту войну убеждает, что так. О чистоте уж не так заботятся. Плакаты, ну, это для очистки совести, «словесность». После войны грязи много разольется по России. Отвыкнем от чистоты. Грязнее станем жить.
Мы проходили длинной вереницей в околодке перед рядом фельдшеров и врачей. Сначала круглый мазок иодом повыше левого соска. Второй фельдшер (для очистки совести) отирает левую руку повыше плеча полотенцем. Первый врач берет со спиртовки, горящей пламенем в виде хризантемы голубой, шприц, набирает из флакончика и ловким, едва болезненным уколом вливает сыворотку под кожу. Следующий прижигает укол, а дальше фельдшер вакциностилем скоблит кожу и втирает оспенную лимфу. Все это они проделывают с такой равнодушной методичностью, как счетчики в банках считают деньги. Впрочем счетчик рано или поздно украдет, а тут и украсть нечего. К нам, разменной монете войны, полное безразличие: брюнет или блондин, социалист или индивидуалист, купец или приказчик.
* * *
«Заболел — иди к доктору.» В околодке и лечат по массовому образцу. Но если бы так просто, так всякий лодырь, уклоняясь от занятий, таскался бы к доктору. В околодок надо записаться. Список за подписью фельдфебеля. Засим, объявивший себя больным, если только он не лежит пластом, вместе со всеми выгоняется в шесть часов утра на плац. Пять верст густой, как ржаное тесто, грязи. На плацу больные строятся отдельно, когда дадут оправиться, и солдат их ведет пять верст назад в город, в околодок, мимо которого мы два часа назад проходили по дороге сюда.
«На что жалуешься» — это для формы. Термометр и внешние видимые признаки болезни — основа диагноза. Что он чувствует, до этого мало дела. Хронических болезней, если они не обострились до крайности, для околодка не существует. Засим несколько сосудов ведерных с ложками вроде суповых: касторка, бром, валерианка с эфиром, банка с иодом — помазок такой, что колеса мазать. Живот — ложка касторки. Дальше. Голова — ложка брому. Дальше. Горло — два щедрых мазка иодом по бокам шеи. Дальше. И уж рука наготове снова зачерпнуть масла… — «Ну, это ты врешь, еще в……… не был. Или из Москвы привез?»
Теперь я понимаю разницу: медицинский и ротный фельдшер. Или «медицинский факультет» и «военно-медицинская академия». Медико-хирургическая, без нежностей. Но тоже почтенное учреждение.
Равнение по первому, так сказать, взводу. На правом фланге стоит образец — рослый сильный здоровый солдат: «Равнение направо. Ать!» «Болен?» «Отставить!» Жизнь «моя» и «твоя» здесь ценна только в эту меру — ценой пехотного солдата. Да мне-то самому она дороже стоит. «Отставить нежности!» Ать, два!
12-го ноября. Завтра приедет генерал, смотр казармам. Показать бы генералу казарму ночью, когда люди спят. Или сам бы он догадался посмотреть. Не догадался!
В три часа ночи подняли весь батальон мыть полы, хотя мыли в субботу. Моем так. Рвем на жгуты несколько соломенных матов (на которых спим). С кухни в больших жестяных чайниках таскают воду и льют на пол, подняв доски нар. Метлами на полу разводим жидкую грязь и сгоняем ее к среднему проходу. По дороге грязь густеет. Тут ее железными скребками собирают в ящик — вдвоем еле поднять на носилках. Взводный с жестяной лампочкой в руке ходит, водит лампой по полу: чисто ли вымыто.
* * *
Валюта рубля в казарме выше, чем на воле. На это есть свои причины. Главная, что в казарме вообще денег немного и держат их, крепко зажавши. Спекуляторы казарменные на хитрости пускаются, чтобы вызвать деньги в оборот.
В полковой лавочке — папиросы, редко махорка. В полку выпекаются французские булки, прекрасные из первосортной крупчатки — но не хватает, разбирают прапорщики, кадровые — стоишь, стоишь в затылок и: «Булки все» — а у торговок хлеб хоть и на яйцах, а темный и сырой. В городе белого хлеба не хватает. Ситного не всегда можно достать. Булка в казарменной лавке — семь копеек. У полка — своя колбасная мастерская: остатками котлов выкармливают свиней. Колбаса чайная с чесноком — 58 копеек за фунт, такую у Белова в Москве я брал по 2 р. 40 коп. Эта даже лучше. И тоже хвост. И колбасы не хватает. Привезут горячую, пар идет, «дух» — и нет… Хорошо еще, что примерно, через час такая же прекрасная колбаса и тоже тепленькая появляется в неограниченном количестве в лавочке за казармами на углу. Тут ей и цена другая, зато сколько угодно. Иногда в полковую лавочку привезут жареных гусей. Жареный гусь средних размеров 2 р. 60 коп. Выкормлен гусь тоже крохами от солдатского стола. Прямо даром гуси. Кроме того, полковая лавочка бойко торгует малоалкогольным пивом. Под казармы был реквизирован пивной завод, так вот, чтобы котлы не гуляли и открыли свою пивоварню. Пиво хорошее — 30 коп. бутылка. И сколько угодно. Очень дорога в полковой лавочке бумага. Тонкий махонький листик бумаги и прозрачный конвертик — пятачок. Деревянные ложки — полон короб. Жестяные кружки для чая. Одеколон, цветом напоминающий денатурированный спирт — питейный что-ли. Вот и весь товар полковой лавки. Тут же столы и скамьи, можно написать письмо. В прорез перегородки высунула зев труба граммофона, но молчит упорно. Шипучий керосиновый фонарь щедро разливает зловещий зеленоватый свет. Единственное светлое место по вечерам. Вот тут и вьются вокруг всех этих соблазнов люди с голодными глазами.
Рубль в казарме «стремительно» падает с приходом каждого нового эшелона вновь мобилизованных. Ведь у самого последнего под мышкой рубахи зашито хоть двадцать рублей. С мобилизацией в казарме начинается то, что в газетах называют «вакханалией». Под разными предлогами, запугиванием и застращиванием, «черных», пока они не осмотрелись в казарме, обирают. Соломенный мат, который полагается выдавать даже по военному времени, — надо купить. В первые дни платят, чтобы не валяться на голом полу, рубль, а с иного и три рубля возьмут, «по господину глядя». Через несколько дней, кто потерпеливее, получали мат уж и за двугривенный. Беда, кто сразу окажет деньги, да если «без образования». Ставят не в очередь на неприятные работы, налагают взыскания, за ропот грозят маршевой ротой — пока не «разденут.» Фурштатов (синие штаны) говорит: — «В казарме надо жить с умом. Безответный солдат в казарме пропадет.»
* * *
Выдают сахар — из девяти кусков не додают два. И к выдаче сахара «пружинка у машинки (для стрижки) сломалась.» На пружинку жертвуют по две копейки. Все жертвуют и получают по семи кусков сахару. Вещество бесценное. В сущности здесь — сахарная валюта. Сейчас кусок сахара равняется семи копейкам. А без сахару как? Надо испытать: шесть часов по грязи в слякоть и ветер — что после этого кружка горячего чая с куском в прикуску крепкого сахара. С устатку есть не хочется, а потом Христа ради у раздатчика выпрашивают хлебца. Или тоже купить. Хлеб черный из полковой пекарни великолепный. Выпекают не совсем опрятно, но качество: в Москве был такой. Хлеб выдается на целый взвод. Паек на-днях уменьшили до двух фунтов. Хлеб «буханками» фунтов по десяти в каждой. Раздатчик Коротин запирает хлеб в шкаф. Глядишь: накинул шинель, раскрылился: под каждой рукой по две буханки, понес в город продавать. — Корм гусям. А перед обедом с раздатчиком идет отчаянная перебранка, кто и сколько взял хлеба на отделение. Потому, что и отделенному надо на табачек выручить. И как рвут куски из рук те солдаты, у которых нет денег и нет возможности украсть — «голодом насидишься.» И «чтобы кусков под головами не оставалось.» Корки, куски, как утверждают, идут снова в квашню… Казарму обкрадывают. Но казарма еще обкрадывает сама себя.
* * *
В неделю раз, хорошо два — «крошонка» из баранины с вермишелью — любимое блюдо в нашем меню. Можно еще есть щи с мясом (изредка). В остальные дни сплошь так называемая «рыба». Когда щи, — выдают «порции.» Приносят в железном запертом сундуке, как некую драгоценность, мясо, нанизанное порциями на лучинки. Мясо плохое и масса песку: для веса. Так и скрипит на зубах, как ни выколачивай. Каши за обедом хороши, да дают так мало, что едва по хорошей ложке на брата. Рыба. От нее в баках плавают всегда несомненные признаки: хребты и головы. Суп — всегда чрезмерно острый с красным стручковым перцем, — свирепее молдаванского «паприкаща.» Обжигает рот. У меня даже рот «обметало.» Говорят, что — против цынги. В конце концов казарменные супы имеют не питательное, а стимулирующее значение, чтобы желудок легче выносил хлеб и кашу. Товарищ Прудников (со вздохом): «Я ломтик черного хлебца утаил — заверните-ка в салфеточку, ужо с чайком скушаем.» Супа не доедают. На лестнице в кухню в обед дежурят мальчишки и девчонки с конскими ведрами: им и сливают, свиней кормить. То-есть, к свиному корму прибавляется и замешивается «для аппетита».
* * *
За городом в бараках стоят несколько полков. Бараки растянулись на десять верст по берегу реки. «Вы живете во дворце, а мы в ночлежке», — говорит москвич, попавший в барак. Начать с того, что у нас в казарме — водопровод, а там надо наносить воду из проруби с реки ведрами. Умывальники у них поставлены на дворе — по спартански закаливают. И кабинеты задумчивости — в ста саженях от иного барака, а это при такой экономии времени, что штаны «в три счета» натянуть полагается, — дело не последнее. А у нас — тут же и промывные!
Как мы живем и работаем строго по часам, так удивительную правильность приобрели все физиологические отправления, словно и тут дисциплина.
САПОГИ.
Уходит маршевая рота, одетая во все новенькое. И стоптанные раскисшие сапоги с них сняли — в починку и нам потом пойдут. Старые сапоги — дрянь. Помню, весной прошлого года, когда армия наша дралась с наседающими германцами палками и разувшись сапогами, — разговор с солдатом, раненым в таком неравном бою. Лежа на носилках, он блаженно затягивался папиросой и с увлечением говорил: «Сапог у нас вполне достаточно. Видишь на мне сапог — совсем крепкий. В лазарет приду — давай другие, пофасонистей. Новенькие дадут. Сапогов у нас хватит!» Теперь, если верно, снаряды есть. Зато с сапогами не вполне благополучно. В нашей роте кадровые и те по грязи ходят без подметок, если нечем заплатить каптенармусу. У Габриловича подошва подвязана к головке веревкой.
* * *
У бывалых солдат ложки за голенищем не кленовые, а железные, луженые. На фронте принесут в блиндаж кашу, а она замерзла, пока донесли. Деревянную ложку сломаешь, а каши не наскребешь.
* * *
Маршируем, требуют «ногу» так, чтобы «земля провалилась». Сколько на этом нелепом стуке стоптано сапог миллионами наших солдат! Пустяк? Нет, не пустяк, если это делается после галицийского отступления. Не одно это, а и многое другое. Сами учителя, из бывших на фронте, говорят: «Все это вам не нужно». Не сапог жалко, а времени. На отдание чести трата времени в среднем семь дней на солдата. То-есть наша армия на это потеряла не менее пятидесяти миллионов суток. Неужели и в Германии так же готовят солдат?
* * *
Идешь по городу и со всех дворов свиное хрюканье и гоготанье гусей. Как же может хватить хлеба: ведь, все это на казарменном хлебу и щах вскармливается.
СЛОВЕСНОСТЬ.
Прапорщик (случайно в казарме) мимоходом поставил на нары шашку и стоит, скрестив на ней руки и подбородком опершись, слушает.
Учитель. Фахретдинов! Что нам напоминает вензель?
Фахретдинов. Вензель напоминает имя императора, который даровал знамя, господин учитель.
Учитель. Отставить. Вензель напоминает первую букву…
Фахретдинов. Никак нет, господин отделенный. Вензель та самая и есть буква.
Учитель. Врешь!
Прапорщик (учителю). Молчи, дурак, если сам не понимаешь, когда тебе верно говорят.
* * *
Торт Пралинэ привез с собой большой флакон с одеколоном. — «Я, говорит, каждый день привык обтираться одеколоном» — «Каким?» Обиженно: — «Конечно, брокаровским!» Ломовой извозчик Романов («Меня все болото в Москве знает, фамилия громкая») посмотрел, фыркнул: — «Одеколон!» С такой силой презрения, что Торт беспокойно замигал глазками: — «А что?» — «Ничего, запах хороший.» Вечером Торт отомкнул сундучек — все в порядке, а флакон пустой. Романов: — «Что, что? Ясное дело, выпили! Кто же нынче одеколоном умывается.» Романов был все время с нами на плацу. Он тут не при чем.
* * *
Казарма про себя мурлыкает обрывки маршевых песен. Чаще всего слышу: — «Ты скажи моей хозяйке, я женился на другой. Я женился на другой.» Больше всего любят: «Вы не вейтеся, черные кудри, над моей больной головой.» И в этой песне любовь не к жене, солдатке, а к «другой.»
* * *
Я купил за три рубля у раздатчика керосина маленькую керосиновую лампочку (в 5 линий). Фактом сей покупки приобрел и право писать. На покупку керосина даю особо. Лампу ставлю на подоконник, а чтобы свет не мешал соседям — ширма из газетного листа. Лежу грудью на изголовьи и пишу карандашом.
* * *
Когда взводному что-нибудь написать: «Ребята, у кого есть карандаш?» Молчание. Проходит полминуты. — «Ребята, у кого есть карандаш?» Молчание, потому что он карандаши зажиливает, домой отправляет — там у него дети учатся. — «Фурсов!» — «Я!» — «На носках! Боевая задача: найти карандаш.» Фурсов: — «Ребята, у кого есть карандаш?» — «Мы неграмотные,» — голос с верхних нар.
* * *
Поговорка «Беглый огонь, один патрон» привилась со времени галицийского отступления.
* * *
У ефрейтора Коротина — баба. Приходит. Лицо бледное. Брови будто проведены тонкой кистью, обмакнутой в китайскую тушь. Что редко бывает: женщина не прилипла, не виснет, не влипается, а все кружится около него, приникает, но не впилась клещом. — «Коротин, нескромный вопрос: жена?» — «Нет, так приблудилась бабенка.» — «Мужняя жена?» — «Нет, солдатка. Мужа у ей в Августовском лесу пришпилило». — «Как пришпилило?» — «Мы отходили. Лес — мачтовый. Лежишь за деревом. А он снарядами лес как машинкой стрижет. Сосны вершину срезало. Она, как оперенная стрелка, концом вниз пала и приколола его к земле. Насквозь пробила. Я ей и рассказал про мужа. Мы с ним рядком за той сосной лежали. Одного взвода. А губерний разных.» — «Что же у ней — дети?» — Неохотно: — «Не знаю. Сказывает, что нет.»
* * *
Все забыто. И никакой боли. Так легко, вероятно, мертвому, если только мертвому дано это счастье последнего успокоения. Если нет — жестоко. У покойников всегда такие мирные лица. Никогда не видал с гримасой мучений. А какие бывают!
Вот если с неба падет оперенная стрела и неловко, не сразу к земле приколет. И вертись на булавке, пока не сдохнешь.
* * *
Всем легко. О доме забываем. Писем не ждем. И мало кто пишет. Там дома, вероятно, какое от этого беспокойство!
Коротин говорит: «Потом опять скушно станет». Еще как!
* * *
Бег начинается с полминуты. Первая полминута ужасна. Ведь я не бегал вот уж сколько лет. Разве иногда трусцой пять сажен к трамваю. Торт Пралинэ упал. Прапорщик подошел: — «Что лежите?» — «Так точно, ваше благородие, лежу!» — «Ну, лежите.»
Потом минута и постепенно до пяти минут. Втягивают в бег дней десять. Иванов в четвертом взводе на девятом дне свалился и горлом кровь.
ПЕСНИ.
Возвращаемся с занятий. Поем: «Вы послушайте, ребята, мы вам песенку споем.» Устали. Поем, словно нищего… тянем. «Пой веселее!» — «Эх, да мы три года прослужили, ни о чем мы не тужили…» — «Не все поют. Рота, стой!» — «Кругом! Бегом марш!» Оттепель. Грязь развезло. Выдергиваешь ноги, — бутылку откупориваешь. «Рота, стой!» — «Кругом! Шагом марш! Песню». Как грянули: «Стал четвертый наставать, стали думать и гадать…»
ПИСЬМО.
К цейхгаузу подвезли воз прелых шинелей. Снимают пластами. Как снимут: пар идет от воза, как от гниющего назьма. Шинели и впрямь горят — руку жжет. Где это их гноили? Попробовал край: ползет сукно, как марля. Шинели ношеные, надо полагать с фронта. Из кармана одной выпала бумажка. — «Не деньги ль.» — «Эва, там уж все перетрясли. Я раз ножик нашел!» — «Письмо.» Кинул. Ветер подхватил и погнал по земле письмо. Я поднял. Почерк женский. С милыми ошибками. «Ты взял себе на память платок порванный и худой. Я бы дала тебе хороший.»
* * *
Вчера после поверки подпрапорщик Сигов (контр-разведка) кричал: — «Командир особого взвода в канцелярию». После обеда всю роту выгнали на двор — кроме отдельного взвода. К отдельному взводу ротный держал речь. Объяснял, что отдельному взводу быть может вскоре придется охранять порядок от злоумышленников. Отдельному взводу выданы боевые патроны по тридцати штук на винтовку и по пятидесяти на револьвер. Вечером после поверки в уголку у взводного разговор у кадровых промеж себя: — «Ну, что ж, если скомандует стрелять — у меня только одним патроном меньше останется — только и всего.» — «Нет, уж если так, то не один, а три: всем им троим по пуле.»
КУХНЯ.
В нашей кухне — три котла емкостью примерно в 50 ведер каждый. Приволокли из склада со двора десять мешков картошки. Вывалили на пол. Картофель с землей, много гнили, проросший. «Чисть!» — «У меня нет ножа.» — «Найди!» Вокруг кучи на корточках уселись двенадцать человек. — «Куда чищеный?» — «Да все туда же». — «Вали на пол в кучу.» Кашевар сидит вверху на обмуровке котлов, как на троне, попыхивает трубочкой и командует нами. Ему на верху тепло. А по полу внизу от двери мороз. Сок картофельный объедает руки. Пальцы леденеют. Медленно растет рядом с грязной — горка тоже грязной чищенной картошки. — «Мой картошку!» — «В чем?» — «Не видишь, бадья.» — «Да в ней помои.» — «Вылей.» От помойной бадьи пахнет сладковатой тошнотой, сколько ее ни окатывай под краном. Вымыли. Вали в котел! Кати тары с рыбой! Прикатили. Кашевар сходит с трона и вышибает днище у бочки. Захватил рыбешку за осклизлую голову, хотел поднять, понюхать. Голова рыбки оторвалась. Кашевар злобно плюнул в бочку: — «Ну и рыбу ставят…» — «Разь можно в пищу плевать?» — «Хуже не будет, хоть… в нее. Вали в котел.» — «Мыть не надо?» — «Мы-ыть!? Одни кости останутся!» Лук: «Перьев не снимай». Перец — целый мешок стручкового перца. Поравняли по котлам. — «Крупу сюда на помост клади.» Сделано. — «Носи дров.» — «Наливай воды в котлы.» — «Мети пол.» — «Посыпь пол песком.» — «Ступай спать.» Идем в роту. Три часа ночи. Через час разбудят полы мыть: «Двенадцатая, вставай!»
РОТА И ОБОЗ.
Навстречу роте крестьянский обоз. На первом возу молодица — в новеньком полушубке, в ярком платке. — «Сворачивай. Не видишь, рота идет?» — «Сам сворачивай. Военный обоз идет». И не смотрит. Воз прямо на солдат. — «Прими влево, ребята, — реквизованный овес везут.» Принимаем в сторону. На увязанных возах — мальчишки, бабы, старики. — «Дед, какого года?» — «А я забыл.» — «Вспоминай, скоро и тебе итти.»
* * *
Вторник. Посылка из Москвы: серая ртутная мазь против вшей, немного сахару, конфекты и печенье. Ко вшам я уже привык. А конфекты — это хорошо.
* * *
Перец. Каждую бабу на улице взором оглаживаешь. В теле ощущение легкости. И памяти нет о том, что — песок и надо бы пить щелочную воду.
Кусок черного хлеба с солью, жиденький чай с куском сахару в день, две ложки «горяченького супчику», ложка каши. С сахаром беда: никак не могу ввести себя в норму шесть золотников. Впрочем, Фурсов утешает: «для вас сахар будет.»
* * *
На прицельной рамке цифры — а солдаты сплошь неграмотны… Я принимал слова солдат о русской винтовке за их мнение, вынесенное из опыта. Оказывается из словесности. Любого сряду «старого» солдата спросить: «Ну, а как наша винтовка, хороша?» — Отвечают слово в слово: «У нас отличное ружье. Оно бьет метко на далекие расстояния и заряжается скоро, а потому из него можно и стрелять скоро». Но что нас стрельбе не научат, в этом у меня не остается более сомнений. Тиров нет, не хватает, а водить на стрельбище за город — взад и вперед шесть часов. Нет, казарма ничему, кроме отдания чести, не научит. Тренировка, только тренировка.
Кавокин за эту войну трижды ранен, а «немца и знати не было.» Какая-ж прицельная стрельба? А на близкие расстояния — эта война воскресила гренадеров. При наступлении «волной» винтовка на ремне, а в руке граната. Винтовка есть не что иное, как штык на палке. Метать гранаты нас не учат. А, ведь, разве один из ста тысяч солдат занимался метанием в каком-нибудь спортивном кружке. Да и то едва ли. В детстве камешки бросали. Армия должна уподобиться Давиду в борьбе с Голиафом. Нам это оружие только показали, для ознакомления. Да и метать холостую гранату, не видя эффекта — это все равно, если бы стрелка учить выстрелами из холостых патронов.
Миллионы людей оторваны и их вооружат винтовкой, как будто мы собираемся вести партизанскую войну. Так оно, повидимому, и будет.
Русская армия и наступает по бабьи, чтобы отступить. Мы до сей поры только «поддавали» немцам. Это не наступление, а контрэктация.
* * *
Бывало смотришь на конькобежца или лыжника: как он не замерзнет, если мне и в шубе холодно. Но какая это прелесть! Шинелишка старая, потертая, видимо была в боях — дыры хорошо заштопаны. Поверх белья шерстяная фуфайка. Ноги обернуты в газетную бумагу и толстую портянку. И все тело радостно дышет. Вероятно, все тело — такое ж пунцовое, как лица. Но надо все время двигаться. Прекрасно, если скомандуют погреться: «Бегом марш». — «Я вам покажу, серые черти. Взвод, стой. Стоять вольно». Другие маршируют, фехтуют, бегают. Мы стоим. Тело стынет, и кажешься себе одетым в сухую рыбью чешую…
* * *
Россия начинала войну, смотрясь в зеркало. Даже летом и осенью 1915 г., когда дело было уже довольно ясно, мы все еще любовались собой, своим порывом, своим напряжением. Восхищение Нарцисса. И казнь будет та же, которой был обречен Нарцисс. Армия поглотила все образованные силы страны. Но как мало разума! Что они внесли в армию? Когда мы маемся на плацу, прапорщики в лихо заломленных папахах гуляют стаей, видимо, скучая. В казарме мы офицеров не видим. Впрочем, ведь, пошел уж второй сорт. Лучшие кадры прапорщиков выбиты. Через школы проходят люди полуобразованные, без всякого жизненного опыта, юнцы… Они добросовестно исполнят свою обязанность: поведут ничему не обученных людей в бой и сами будут убиты в первую голову.
Ничего не выдумано. А если выдумано, то почему от нас держат в секрете? Бежишь, как идиот, орешь «ура» и колешь соломенного немца на колесиках.
ПАЦИФИСТ.
— «Что не поешь?» — «Я эти песни петь не могу — дьявола тешить.» — «А какие же?» — «А вот какие…» И он запел баптистский романс Христу. Именно романс, потому что они по женски как то влюблены в Христа, или его самого трактуют, как даму сердца. — «Замолчи!» — «Молчать я буду, а беса тешить не хочу».
На словесности. — «Что такое присяга?» — «Я на этот вопрос отвечать не могу.» — «Почему не можешь?» — «Потому что мой господь запретил мне клятву».
Учитель опешил. Неловкое молчание. Я обращаюсь к Щенкову: — «Он вас и не заставляет присягать, а только сказать, что такое присяга.» — «На этот вопрос я отвечать не буду. Хоть жгите меня». Учитель отправился за подпрапорщиком Клюйковым (контр-разведка). Мы, сидя на нарах, с любопытством ждем, что будет. Приходит Клюйков. — «Который?» — «Вот этот.» Посмотрел на него, прищурясь: — «Не принуждайте его. Они все делают, только присяги не дают и ружья в руки не берут». И ушел. Тем пока дело и ограничилось. Щенков приосанился, а товарищ Прудников ему с упреком сердечным: «Что ты во Христа веруешь, это ладно, а вот, что других в свою веру сбиваешь, это уж с твоей стороны довольно некрасиво». Щенков торговал на Сухаревке вязаными изделиями. Вот его и спрашивают: — «Ну, а как, если гнилые перчатки, а покупатель спрашивает прочны ли? Ты как ему отвечаешь?» — «А так отвечаю: смотрите сами, какие, я их не вязал, не знаю!» — «Так значит и сам ты, когда товар берешь, не вникаешь гнилые иль как.» — «Вникаю!» — «Вот то-то и есть».
Кой-кто однако-ж к Щенкову приклеился. И слышу разговор вполне разумный. Щенков спрашивает: — «За добровольную сдачу в плен, что полагается?» — «Смертная казнь.» — «А ты знаешь, сколько у нас добровольно в плен попало наших?» — «Сколь?» — «Три миллиона человек.» — «Ай-яй:» — «Три миллиона надо повесить. А знаешь сколько палач с головы берет? Двести рублей. Одним палачам надо заплатить шестьсот миллионов рублей. Да веревки, да то, да се». — «Здорово…» Щенков говорит неутомимо. И в казарме и на плацу, как только дадут оправиться. Вечером укладывается спать и все говорит и говорит, пока на него не заорет взводный: — «Щенков, замолчи! Надоел, сукин сын. Бубнит, как муха.» Щенков смолкает на короткое время, а потом в темноте раскрывает евангелие и громким шопотом начинает читать. Евангелие он знает наизусть. Говорят, что его «уберут» в санитары.
* * *
Приборы, станки, мишени и чучела ночью хранятся в женском монастыре (во дворе). Как приходим, чуть не полроты отправляются выкатывать чучела, выносить станки. Расставляют по полю мишени — поясные, грудные, головные, прицельные станки. Зеркало для наводки. К зеркалу подходят поглядеться прапорщики и франты из нижних чинов… К обеду декорации убирают, после обеда снова ставят. Как пошлют убирать — у всех на поле вздох облегчения — скоро в казарму. Сегодня в яму посреди поля собрались было стрелять дробинкой, да молоток забыли, нечем заколачивать… «Вола пасем». Но, ведь, война еще продолжается? Кого же и для чего мы обманываем!
Монашенки смотрят на нас сокрушенно: «Помоги вам царица небесная». По кочкам замерзшей грязи в монастырский двор солдат бородатый катит за оглоблю соломенного немца на колесиках, — как игрушечный конь. Все руки обил проклятый немец. Солдат, хоть и в святом месте, отчаянно лает, въехав в «святые ворота» — чуточку полегче и более литературно: «Навязался ты на меня, окаянный, будь ты проклят.» Две клирошанки, быстрые и юркие, как мышки. — «Дядя! Да ты его ударь.» — «Ему не больно!» — сердито и угрюмо отвечает солдат.
* * *
На монастырской колокольне недурно звонят, хотя однообразно. Бегать ротой широким кругом под колокольный звон приятнее, чем под барабан. На колокольню набирается монашенок черно: смотрят, как нас «мают.» В большой колокол — не ногой, а сидит на доске и плюхает всем телом толстая старуха.
* * *
На плац приходят, приехав навестить, жены — посмотреть, как нас мучат. Кадровые шутки шутят. К Бермятину приехала, стоит на плацу, слезы платком вытирает: рота бегом — греемся. Муж в строю. С ней еще одна, тоже солдатка, видать. Взводный: — «Эх, красотки…..» Застыдились, повернули, отошли подальше. — «Рота, стой! Фурсов, идем присватаемся, они оврагом пойдут.» Бермятин вышагнул вперед угрожающе. — «Тебе кто позволил выйти из строя.» — «Это моя жена, что… Строй — святое место. Два часа будешь мушку сушить.»
Жена приехала, значит, денег привезла. Вывернуть Бермятина опять на-лицо. На-изнанку уж выворачивали — все вытрясли.
* * *
В поучительной книжке для солдат: турок и русский. «Из кармана перцу зернышко достал.» — «Наше войско невелико, а попробуй, раскуси-ко, так узнаешь каково против мака твоего». Турок предлагал пересчитать пригоршню маку. Книжка старая, конца прошлого века.
* * *
Фельдфебель Лопатин фатоват. Немножко картавит даже. Читает «Сатирикон» и любит рассказывать «пикантные анекдоты»: — «Барышня (телефонистке), дайте мне 606.» На улице видел: Лопатин, колебля туго стянутый поясом стан, что-то нашептывает девице в модной размахайке. Она прячет носик в муфту и фыркает. От Лопатина пахнет одеколоном. Три Георгия. Он так считает, что на всю жизнь тут устроился. Невесту с приданым присматривает. Что ему война!
* * *
Отсюда весь мир представляется разорванной сетью анекдотов. Что-то всплыло в памяти, новое мелькнуло и тотчас утонуло в чем-то еще. Жизнь — в роде того отрывного календаря, что висит у койки взводного. Календарь отрывной, но ни один листок, хоть уж конец года, не сорван. Колодка листков распушилась веером, до желтизны захватана грязными пальцами. Вечером перед поверкой подойдет к календарю какой-нибудь грамотей и вслух по складам читает листок за листком; начинает с восхода солнца, святцы, на обороте анекдот и меню: «Щи ленивые, матлот из рыбы, зразы, пудинг рисовый.» Листок за листом, пока не устанут глаза и мысль. Бросают на пятом, шестом листке. К календарю интереса больше, чем к газете.
* * *
Шванц-парад. Картина забавная. Все внимание направлено в одну точку: — «У солдата это самая главная вещь». Роздали листки с гигиеническими правилами — главное: «не совокупляться с незнакомой женщиной.» Незнакомая-то и влечет. В народе так и говорят про тех, кто любится: «Они знакомы.»
ВОЛНА.
«Ножницы» генерала Жоффра. «Кулак» генерала Гинденбурга, «Фаланга» Макензена. «Волна» генерала Брусилова. По крайней мере в нашей казарме ему приписывают изобретение этого приема тактики. Говорят, что немцы уже переняли наше наступление «волнами». Если так, то это лучшая аттестация, какой только можно ждать. Я, однако, полагаю, что основным принципом немецкой тактики наступление «волной» не сделается. Я бы сказал, что это изобретение не военное, а литературное. Оно тесно примыкает к общему словесному направлению, которое царит у нас до сих пор в военном деле, тогда как на Западе словесность во всех ее модификациях давно уступила место началу техническому, точнее технологическому.
«Волна все смывает на своем пути». «Волна на волну набегала, волна подгоняла волну». «И тридцать воинов прекрасных чредой из вод выходят ясных». Накопление живой силы в казарме через край естественно должно было привести к этой доктрине:
Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой. Расплеснется в скором беге И останутся на бреге В чешуе златой горя, Тридцать три богатыря.Вот так и мы, повинуясь новой военной доктрине, «как волны морские» идем в атаку (здесь, в снежном поле, на воображаемые укрепления противника). Идем, согласно правилам, скорым шагом. Перебежек от укрытия к укрытию, чему нас научили в 1903 году японцы, не полагается. Почти бежим редкой цепью волна за волной, волна за волной.
* * *
Наше ли дело рассуждать? Военные не любят, чтобы о их специальности рассуждали «шпаки». Увы, наша армия, да и армия английская, например, не говоря уж о немецкой, давно сплошь штатская. И все у нас в меру способностей рассуждают. Каждый прием, каждое выражение в военном катехизисе теперь не на веру принимается, а подвергается в казарме критическому рассмотрению. Критический уровень не высок? Верно! И, что еще важнее, точки зрения, независимо от критической способности, весьма разнообразны. С этим тоже надо считаться. Пренебрегать более этим критическим отношением казармы невозможно, если только серьезно думают продолжать войну. Надо принять критику и ее выдержать, а для этого надо ввести столько разума во все, что тут делается, что руки безнадежно опускаются. Где нам разума взять? Если же пренебречь критическим настроением народного ополчения, то оно прорвется в формах неожиданных и вредных.
Фурштатов (синие штаны), евангелист Щенков — рассуждают, и кадровые тоже рассуждают. Извлечь бы из рассуждения этого всю его великую силу!
* * *
Ветер-ли, снег, оттепель иль дождь, на плацу поодаль ходит или стоит нищая дурочка. В руках у ней палочка. Она эту палочку беспрестанно вертит в пальцах, оглаживает и смотрит на солдат стыдливо пьяными глазами. Мальчишки ее бесстыже дразнят. Она бранится сердитым басом и швыряет в мальчишек комки грязи и мерзлого конского помета.
* * *
— «К Трындину баба приехала из деревни. Пять мешков привезла». — «Чего?» — «Без ничего!» — «Для чего?» — «Все для того-же».
* * *
В 12 часов ночи крик: «Особый взвод, вставай!» Вся рота проснулась. Из особого взвода, сердито сопя, одеваются, туго и медля, разбирают винтовки. Фурсов закурил. — «Фурсов, брось папироску!» — «Поди ты…………» И взводный ни слова. Ушли. Проходит час, другой — рота не спит. Вернулись, принесли запах свежего ветра. Тревога — пробная. Прошли до моста и назад. Разряжают винтовки. Смеются, ругаются. Спать не дают, серые черти!
* * *
— «Вот прапорщик Хвостов устроился.» — «А что?» — «Да у своего денщика квартиру снимает.» — «Что же, чистит ему денщик сапоги?» — «Погляди-ка, не он ли денщику чистит.»
* * *
Ночные тактические занятия. В голом лесу. Во мне открылся лесной страх: каждого куста боюсь, везде мерещится, хотя и знаю, что ничего нет и нас сотни. Как в сказке лес. Слушаешь шорох слева, а глазами косишь направо. Слух слышит что-то, а глаза на всякий случай — вдруг — опасность — готовят отступление. А потом лицом к шороху и напрягаешь слух, чтобы определить расстояние. Уши устают — вот неожиданное открытие. Я знал, что глаза могут устать (от чтения, яркого света), но уши, если не оглушительное что, не понимал. А вот от напряжения в тишине устают… Вероятно, на фронте все ощущения обостряются. И лучше будешь видеть.
* * *
Предлагают в учебную команду. Три месяца в учебной команде, командировка в школу прапорщиков, там четыре месяца. В общем 8–9 месяцев гарантия, что не попадешь на фронт. Спрашиваю себя, что выгоднее. Не для себя, а как бы на моем месте рассуждал тот, кого смерть страшит. Не смерть, а риск смерти. И все равно: невыгодно. Если через три месяца на фронт рядовым, то больше шансов получить легкую рану и на два — три месяца в хороший лазарет. А потом опять сюда и не сразу же опять повезут на фронт. А прапорщика через восемь месяцев положат на-смерть наверняка. Прапорщик на фронте живет всего десять дней. В бою. Учебная команда и физически не менее трудна, чем окопы или даже бой. Погоны меня не прельщают.
* * *
Я почти не ощущаю казармы. Сначала была пестрота неразличения, затем многое проглянуло и опять затянуло чем то. Это не туман. Напротив, все четко, ясно, прозрачно, но ничто не задевает, не поражает. И в чувствах нет сна. Я смотрю не на казарму, а из казармы. Галки летят. Звон с белой колокольни, опушенная инеем береза в золоте теплого заката. Небо сквозь берез синее.
ГРАФ ГОРОХОВ.
Всем отпуски в город. Двенадцать человек моего срока отпросились определенно в…… — «А ты, борода?» — добродушно спрашивает меня Сметанин. — «И я схожу.» И мысленно прибавил: «Надо же и солдатский…… посмотреть.» Никогда в жизни ни в одном…. не был, кафе-шантаны не в счет, там все по другому. Мысль явилась, что «посмотреть» и есть разврат. А те, кто за делом идут — свято. — «Вы идите к графу Горохову, сплюнув набежавшую слюну, советует Сметанин: — у него — всяких национальностей.»
«Граф Горохов» в низке. У ворот солдаты группами стоят, курят, пыхая огоньками папирос, и плюют. Девицы ходят вдоль фасада по улице и грудью в упор останавливают кто подошел вновь. И, с угрозой словно, обещают: — «Идем со мной. Хорошо будет!» Дальше вся улица в фонарях. Конкуренция. Единственный товар, с которым, повидимому, невозможна спекуляция.
Граф Горохов в пышной седой гриве. Борода апостола. Золотые очки. В стеганом халате. Взвесил меня взглядом: — «Вы бы прошли в „Аполло“ дальше, там интеллигентнее.» — «Мне не надо, я ради любопытства.» — «Чего ж, вот все мое хозяйство.» Повел рукой. Подвал. По среди корридор. Переборки из нового теса не до верха, двери плохой работы. Беженец. Было в Вильне «прекрасное» заведение. Все пришлось бросить. Обстановка «ампир». Девушек дорогой расхватали. Просил помощи. «Ведь на оборону работаем.» Отказали.
Я заглянул в одну из пустых каморок. — «Изволите видеть, каютка, а не комната.» На гвозде висит какое то отребье. Голая койка. Жестяная керосиновая лампочка на стене. В изголовьи образок.
Граф Горохов вздыхает: «Ничего не попишешь, надо как-нибудь перетерпеть трудное время… А впрочем, есть у меня, так сказать на комиссии, девчонка почище. Держу для случая. Не опоганена еще. Редкость по нынешним временам. И не дорого бы взял. Кричать не станет, ручаюсь.»
Обиделся, что я отклонил выгодное предложение, хихикнул неприязненно: — «Воображением действуете?» Мне стало стыдно перед ним. Вышел из подвала. Красные фонари. Небо темное, высыпали звезды. Небо в накожной болезни. Небо в сифилисе.
* * *
Декабрь. Сбрил бороду. Налипает при учении от усиленного дыхания много инея. Не брился никогда в жизни. Коротин размазывает мне по щекам пальцем пену и дерет тупою бритвой. И больно, и смешно и боюсь, что он полоснет по горлу. Посмотрелся в зеркало: чужая рожа. Чтобы быть бритым, надо иметь твердо очерченную нижнюю челюсть. Русские мало ели, чтобы бриться. Нас же вечно будет есть всякая бритая вошь. Усы буду закручивать.
* * *
Снег — особая русская стихия. Не то, что они белым забелелися и не безкрайность их льдистых просторов, а вот так побарахтаться по пояс в снегу. Рыхлый, сыпучий, неверный, всегда неожиданно уступчивый и вдруг непреклонный. От этих перемен такая напряженная неуверенность в каждом шагу, что сто сажен по снегу целиком — куда труднее пяти верст по дороге. Итти бродом, или плыть — легче.
* * *
Возвращались вечером с плаца. Гляжу, по правому тротуару устало поднимается в гору она, я узнал ее сразу по стану и походке. В шведской куртке, на голове повязка. Крикнул: — «Ольга! Ольга Петровна!» Оглянулась в нашу сторону: она. Смотрит в ряды, ускорила шаг, идет вровень с нами и, видно, не догадывается, недоумевает, кто ее окликнул. — «Твоя?» — спрашивает Коротин. — «Да. Возьми винтовку. Я взводному скажусь.» Отдал ружье, подбегаю к ней, протягиваю руку. Откачнулась. — «Странно, бритый.» — «Да я, я. Поверьте. Вы как сюда попали?» — «Пьяный прапор завез… Вы в каком?.. Я приду. Завтра.» Крепко пожала руку.
* * *
(Из отрывного календаря). Коронованных Габсбургов хоронят так. Ночью, при свете факелов монахи в рясах, подпоясанных веревками, выносят гроб к фамильному склепу. Двери склепа наглухо закрыты. Обер-гоф-маршал три раза ударяет в дверь жезлом: — «Отворите.» — «Кто там?» — «Его величество, светлейший император Франц.» — «Такого я не знаю». — «Император Австро-Венгрии, апостолический король Венгрии». — «Такого я не знаю». Еще три удара жезлом о бронзовую дверь. «Кто там?» — «Грешный человек, наш брат Иосиф…» Двери склепа медленно раскрываются… В этом обряде есть что то половинчатое. «Гнев венчанный.» Иоанн был праведнее в своих монашеских затеях. Я помню похороны Александра III. Тут ложь была доведена до конца. И похороны были царственны. В гробу лежал, хотя и истлевая, «тяготеющий над царствами кумир.»
* * *
Вспомнилось: в первый вечер в казарме ко мне подошел после поверки какой то солдат в очках и вывел меня на двор, увидев, что мне плохо. На плацу я слышал крики и пение, но странно: не видел тех, кто кричал и пел. Площадь для меня была пуста. Будто только мы с тем солдатом вдвоем ходим вдоль дороги, обтыканной стрижеными тополями. Солдат с утомленной грустью мне рассказывает, мигая под очками, что в казарме живется тяжко, что без денег ничего сделать нельзя, его комиссия смотрела дважды, признали оба раза негодным для строя, записали кандидатом в писаря — и вот полгода валяется на нарах без дела. Воздух на ветру тогда меня оживил. Потом я ни разу не встретил этого солдата и не вспоминал до нынешнего дня — а в одном дому и сколько раз в день по одной лестнице. Наверно, и он меня тогда к утру забыл, совсем забыл… Спасибо ему.
* * *
Фельдфебель наигранным каким то голосом выкликнул меня: — «На носках! К тебе пришли…» Ольга. — «Пойдемте ко мне. Я уж вас отпросила.» Фельдфебель: — «К семи утра, чтобы быть на плацу.» Я растерянно глянул на Ольгу. — «Ерунда. Сколько не видались. Поговорим.» — «Куда же. В „приличное“ место меня не пустят.» — «Ко мне. Я — в „Европейской…“»
Дико после казармы — чистая комнатка, коврик перед опрятной постелью, электрическая лампочка под зеленым абажуром на столике. Официант — в синем фартуке. Ушел. Я протянул Ольге руки. — «Тс! Подожди.» Достала из маленького порт — папиросу, пошарила в сумочке — маленький аптекарский флакончик, скрутила меж пальцами комочек ваты, намочила из флакончика и затолкала в папиросу. — «Кури.» — «Я не курю.» — «Ерунда.» И себе тоже. Блаженно затянулась, подошла, мягко прильнула и окадила мне лицо изо рта дымом. Что за манеры! Раньше такого не было, что то новое, чужое. — «Ерунда.» Зажигаю папиросу об ее огонек, курю. Непонятный привкус. Ольга сгорбилась, пригнулась к коленам, жадно сосет папиросу, глотает дым. Швырнула окурок на пол, выпрямилась, омыла лицо руками и кинула мне на плечи руки. — «Теперь поговорим.» Я смотрю ей в глаза, торопливо жгу папиросу, меня колышет неиспытанное волнение и легкая судорога свела колени.
* * *
— «Вставай, вставай.» Блаженно тянусь и сквозь сладость вдруг слышу: где то невдалеке бьет барабан. Отталкиваю Ольгу. Омерзительно. А она смеется: — «Солдата как же разбудить.» Протягивает: — «Папиросочку!» Закуриваю. Голова светлеет. В утреннем сумраке — милое лицо в пятнах сквозь пудру, с глазами мерклыми, в темных кругах. Она сидит на постели, завернувшись в одеяло. — «У тебя есть деньги?.. Я сегодня еду. Дай взаймы.» — «Сколько?» — «Пятьдесят, ну: тридцать.» — «Куда?» — «В госпиталь на рижском фронте.» Я даю ей деньги. Она их торопливо прячет в чулок. Профессиональный жест…… Гонит меня: — «Иди, опоздаешь!»
* * *
На тактических занятиях. За городом в десяти верстах. Окопы. Проволока. Все засыпано снегом. В окопы намело. Так будет через год и с теми окопами, где сейчас идет борьба. Пустыня.
Объяснения прапорщика моему товарищу по звену: — «Вот ты сейчас стоишь выше. Совершенно ровной местности не встречается. На поверхности земли есть горы, холмы, лощины, овраги, ямы и тому подобные неровности. Они имеют огромное значение на войне…» Он говорит все это ровным и скучным голосом и, так же скучая, его слушает солдат. Прапорщик говорит наверное слово в слово по какому-нибудь руководству, точно урок гимназический отвечает. Но ведь солдат то не экзаменатор. Книжки той он и не видывал. Но наверное знает и без книжки, что «с горы виднее». А прапорщик спрашивает: — «Понял?» — «Так точно, ваше благородие» — смущенно отвечает мужик. И наверное думает: — «Вот чему их, дармоедов, в школе прапорщиков учили.»
Лежу на животе, на снежном сугробе. Лежим долго, потому что у всех, начиная с прапорщиков, безнадежная тоска, что мы так только убиваем время, тянем зачем-то волынку.
Сначала застывают колени, будто к ним приделали деревяшки. Потом холод через живот начинает проникать внутрь медленно и настойчиво. Почти два часа лежим в звене. Легонькая метелица намела у меня с правого бока сугробик. Винтовка, ствол жжет сквозь перчатку. Лучше так же лежать где-нибудь на фронте, чем тут. Стараюсь развлечься, вспоминая ночь в «Европейской». Но не греет. И четкости в памяти нет.
Бывают тучи — с вихрем, пылью, громом и пугающим блеском молний, — а упадет две-три крупных капли. Так было с нею раньше. Ходишь, ходишь несытой тучей. А тут вдруг «как бы резвяся и играя» пролился шумящим потоком, и солнце сверкнуло и все блестит, шумят еще, иссякая мутные ручьи, и напоенная легко дышит земля… Но зачем же деньги в чулок. И это: «Прапор завез…» Война ее научила тому, о чем матроны и не догадываются, а даже у графа Горохова знают те, что с угрозой обещают: «Хорошо будет.» — Мерзость.
Пальцы коченеют, не держат карандаш.
* * *
В казарме. Ольга уехала, закинув записку. Лежу и хочу думать о ней, но мысль сама отходит в сторону. Обычно воспоминание растягивает радость: плывут по глади сонного пруда едва заметные круги от падения камня. И уж глаз их не различает, а докатилось до прибрежных камышей и зашелестят стебли от неуловимого волнения.
ЗАБОЛЕТЬ.
Мечта у всех — заболеть и «как следует». Сметанин, синий от холода, трясется и отчаянно лает на ветер: — «И что это за чудо, еее… … дома бы сдох давно… … — а тут хоть бы что.» Заболевают люди относительно здоровые и казалось бы закаленные: мужики, чернорабочие. А интеллигенты заморыши и городские рабочие — хоть бы что. Тоже и с прививками. Из простонародья и ждали прививок с беспокойством, прямо с тоской. И после прививок без притворства хворали. Люди же более развитые, хотя и явно слабые, переносили прививки на ногах и совсем легко.
* * *
Мысль лукаво обходит недавнее и обращается к воспоминаньям дальним. В «Стрельне». Ранний час. Никого еще нет. Мы приехали на «голубчике». В саду одна барышня с цветами. Сидим под крикливо зелеными под ярким светом электричества разлапыми листами пальм. Бурчит фонтан. Кофе. Коньяк. Я говорю. Она слушает благосклонно. Вдруг в кустах кто-то прыснул смехом, и двое мальчишек подручных в белых фартуках порскнули. От нечего делать подслушивали нас. Какой должно быть я молол вздор! А она слушала серьезно и будто забыла про свои оголенные плечи и руки.
* * *
Пленные катят по рельсам вагонетку с углем. Смотрят на нас (проходим мимо), говорят что-то промеж себя и хохочут. Неужели мы им только смешны? И как же не смешно: «Ногу!» И мы, подобно индюкам: — «Раз. Два. Три.» Или этот лай скороговоркой тысячи мужских грудей: — «Здражала, вашеродие!»
* * *
О том, что женщины до пленных добры. Бражкин говорит так: «Бабе в нем — власть да сласть. Она его и побьет, и горшки мыть — мужу в ем отомщает. И коли сама захочет, а не то чтобы он.» Семенов (задумчиво): «Придешь домой, бабу переучивать придется.» — «Смотри, кабы она тебя не переучила.» — «Баба не та будет. Это я вам верно говорю. Избаловались бабенки. Которая и австрияка не пробовала, все равно по примеру прочих избаловалась.» — «А если дети?» — «Что-ж дети. Чай не „липовые.“» — «Какие?» — «Жеребята липовые бывают. Без жеребца. Приедет ветеринар: прыск и готово.» — «Душ больше. Который мужик уж третий год на войне. А землей по войне по сыновьям наделять будут. Видал?» — «От пленного, спроси стариков, всегда мальчишка происходит.» — «Пленный он — гулевой.» — «Так разве не обидно?» — «Чего же обидно. Наши чай в Ермании тоже не в кулак сморкаются.» — «Лучше польки, я тебе откровенно скажу, нет.» — «А немки?» — «Да ничего и немки. Мертвоваты. Которые из евреек, те потуже.»
* * *
Правила приема на военную службу подлежат пересмотру. Если бы при приеме судили правильно, то излишня была бы и система казарменного отбора. И можно бы прямо обучать, а не тренировать. Повторяется то же, что с русским зерном. Военная селекция необходима (в самой гуще населения, в школе и т. д.). Чтобы «на рынок» поступало отборное зерно. Без мусора. На сборных пунктах мобилизации у нас происходит ветеринарный, а не военно-врачебный осмотр. Еще у военных членов комиссий и у старых полицейских врачей есть глаз на солдата. А молодые врачи, особенно из мобилизованных смотрят на новобранца с точки зрения анатомической эстетики.
НАЧАЛО ВОЙНЫ.
Похоже на весеннюю промоину в легкой земле. Посреди памяти образовался какой-то провал. Мутная темная кипучая река роет все глубже, подмывает и обрушивает берега. На этом берегу я борюсь, чтобы удержать воспоминание, не утратить связи с недавно былым. Память трепещет как осинка, едва опахнутая листвой, над весенним яром. Дальше — мутная волна. Она уже смыла два года жизни, проведенных в безысходной тревоге за Россию. От тревоги осталась пустота. А на том берегу, как ясно я вижу первый день войны в Петербурге. В старом «Дононе». Что-то сладко и фальшиво пели брюнеты в шутовских, якобы неаполитанских нарядах, строча на мандолинах. И тут в зал хлынула толпа сегодня произведенных офицеров. С ними один бородач — капитан в роли любимого дядьки. Все закружили. Куда-то пропали неаполитанские, нищие попрошайки у столов. У рояля подпоручик. «Из-за острова на стрежень…» Скатерти залили вином. И крашеных девиц не видно. Чокаемся. Один с бокалом в руке — серьезный, недоступный — не чокается, а только чопорным жестом поднимает свой бокал… Милый мальчик, где сомкнулись твои гордые уста вечным молчанием? Петрысь кричал: — «Смотрите, бейте их как следует! А то мы сами пойдем!» — «Не придется» — спокойно улыбаясь ответил ихний дядька… Тогда у меня в руке сломалась тонкая ножка бокала и острая заноза в палец. Не мог извлечь. Вот и теперь нажму — боль в самом пучке пальца.
Р. не кричал: «А то мы сами пойдем.» И о воле к победе ни одной строчки. Пошел на фронт — профессор, ученый, — рядовым и простенько умер в окопах. Был он со впалой грудью чем-то похожий на Сергия с картины Нестерова. И казался девически целомудренным.
В МАРШЕВОЙ РОТЕ.
Мотивов (для себя) достаточно. Ведь меня они все равно ничему не научат. Я знаю, что с горы виднее. И еще сколько угодно доводов. Одной мучительной для сознания мысли, что Россия прогнила насквозь, довольно… И лукавый темный голос шепчет: а почему-ж ты втерся именно вот в эту маршевую роту, которую посылают на Рижский фронт?
ТЕПЛУШКА.
Теплушку изобрели во время японской войны. В начале японской войны нынешних теплушек еще не было. Ефимов рассказывает, как тогда ехали в приспособленных вагонах до Харбина две недели: «Ночью надышим. В головах лед намерзает. Проснешься утром, головы и рук не отодрать — пристыли. Просишь, кто у печки, затопить. И лежишь, куришь, пока оттает.» В нынешней теплушке — печь непрерывного горения. Набили ее с вечера антрацитом, она и горит «сама» всю ночь. Тепло так, что порой дверь настежь.
* * *
При отправлении играла музыка. Но провожающих мало. Теперь я понимаю, почему все одно и то же колено марша: всем сестрам по серьгам. А то одному вагону пришлось бы бодрое начало, а другим минорное «трио». Мелькнув мимо оркестр вдунул нам в вагон тучу веселых звуков: стая золотых пчел влетела. Все вагоны как один. Из каждого смотрят, бодрясь, «серые черти»…
* * *
Из наставления к стрельбе. Вопрос: Что необходимо, чтобы метко поражать огнем неприятеля? Ответ: Во-первых, не бояться выстрела… т. е. не бояться своего выстрела. Если это во-первых, то никакого во-вторых не может следовать. И надо просить у немцев мира.
* * *
«Офицер для нижнего чина — господин, и даже больше». Куда же больше? Я помню, в школе, пели гимн, обращаясь к портрету царя. После молитвы, в заключение. И как то у меня, при первом слове явилось желание перекреститься: ведь к богу обращаешься. Я повернулся к иконе и перекрестился. Заметили. После молитвы в класс — директор, инспектор, классный наставник. Директор ко всему классу речь, ссылаясь на то, что я перекрестился во время гимна: царь есть бог земной, а бог есть царь небесный… Но вот обосновать то, что офицер для солдата «более чем господин» трудно.
* * *
Отодвинул тяжелую дверь, чтобы освежиться. Ночь. Тихая станция. Стоим «на запасе». Прогремел мимо «пассажир». Высокий могучий паровоз. Освещенные окна. И снова тишина. Белесая тьма снежных полей. Ни огонька. Далеко-далеко воет собака. Звезды. Прямо — семь звезд. Вечное мерцание. Как в детстве, так и теперь. Звезды не изменились. Да и я тот же. Все, что пережито, какой ничтожный прибавок к тому, что я принес в мир с собой при рождении.
* * *
Из уроков тактических: «В церквах алтари всегда располагаются на восток. Много есть и других примет. Ночью можно опознаться по звездам: став к Полярной звезде лицом, у нас будет впереди север, а сзади юг». Списано у Щедрина из сказки о генералах. А ведь составлял это руководство полковник генерального штаба. И конечно человек не глупый. Но какое неуважение к солдату, какое третирование его, как последнего идиота! Нищая, убогая, несчастная Россия!
ЧТО ХОРОШО.
Хорошо ночью задремать на дне плывущей лодки, по разливу в пойме, и пробудиться от шелкового шелеста камышей о днище, увидеть над собой, что качается темное небо в серебряной осыпи звезд. Ухватить, протянув руку за борт, камыш — сухой и жесткий, резнет по коже острым зазубренным краем листов.
* * *
Хорошо обнять спящую, и чтобы руки как чаши для груди. Сладостная полнота в руках.
* * *
Хорошо: блестящий томпаковый самовар. Скатерть с разводами. Сахарница полна синеватых светящихся кусков. Желтый ком масла. В камышевой корзинке хлеб, нарезанный — в коричневой лаковой корочке, утыканной миндалем, и желтый в разрезе: поцеловать кусок — пахнет шафраном. Изюминка разрезалась пополам и раскрылась ее сладкая влажная нутрь: хочется выковырнуть пальцем — в детстве с этого начинал всегда, хотя и запрещали «руками».
* * *
Хорошо: среди осенней пестрой листвы вылетит, цоркнув, вальдшнеп. Ударить и, раздвигая кусты ружьем, кинуться ловить подбитую птицу. Она жарко бьется в руках. Вынуть шило и (тяжко дышешь и всхрапываешь) проколоть сквозь затылок, чтобы «прекратить мучения». Отереть кровь о траву. Собака обнюхивает и чихает. Раскрыть централку: запах пороха. И, обрывая ногти (опять застряла гильза) — от рук пахнет пером, кровью, порохом и медью. И лес в багрянце крови, в звенящей меди золотой листвы — пестрое перо сказочной птицы Земли, летящей в бездне веков.
* * *
Хорошо-бы выпить.
* * *
Хорошо: навернутый на руке жесткий шкот от паруса, налитого ветром. Шорох, взмахи и падение волн, брызги и гребни. В другой руке гладкий, твердый румпель…
* * *
Хорошо: подать руку, чтобы помочь перешагнуть канаву, и когда ждешь, что обопрется, только легкое касание перстов и прыжок. Схватить грубо за руку и потянуть. Смех, неловкое касание — толчек несогнутыми пальцами ее руки.
* * *
Хорошо: в руках звенящий топор и больно отдает в ладони на сучке. Хорошо: полные пригоршни студеной воды в жаркий день — и напиться. После игры в снежки, притти домой и приложить горящие ладони к выбеленной мелом печи. Выхватить из костра уголек и, закуривая от него, держать до тех пор, пока не почуешь острый укус огня.
* * *
На верхних полатях теплушки рядом со мной Петров и Сумгин накрылись одной шинелью, целуются и тяжко вздыхают.
* * *
У всех «зудят руки». На станции стояли долго, (пропускали экспресс), раскидали поленницу дров. Ладони в занозах — приятно выковыркивать. Сумгин кинул поленом в пролетевший яркий поезд. Зазвенело стекло. Прибежал жандарм, начальник станции. Командир эшелона. — «Выпороть! Спускай штаны!»
* * *
17-го декабря. Курю во всю. «Дымил» и раньше. А сладость затяжки: задохнуться табачным дымком — новость для меня. У отца к табаку был какой-то суеверный ужас. Дед тоже не курил. В училище еще у нас была любимая песня: «Здорово, брат служивый, куришь ли табачек. Эх, трубочка не диво. Давай курнем разок!» Хорошая песнь, а забытая. Табак тоже, что карта дана, иль на волка с коня свалиться и за уши, или семифунтового сазана под жабры. И все в одной порошинке. Все в кармане. Чиркнул спичкой, пыхнул и готово дело. Солдату не курить, невозможно. У нас в роте кой-кто кокаин научились нюхать — потерянные люди. И дорого. Зато они ханжу не пьют.
МИМО МОСКВЫ.
Все большие узловые станции без остановки. Так минули и Москву. По «окружной» скатилися под Нескучный сад. Загремел мост, лукой переброшенный от башни к башне. Блеснул золотой звездой купол спасителя. Все двери теплушек распахнуты. Мы машем Москве шапками и надрывно кричим «ура» над пустыми огородами. Золотари остановили внизу свой обоз и отвечают нам поклонами. Несколько солдат — на полном ходу из вагона и покатились взрывая снег, кубарем под откос. Догонят. Я тоже махал папахой и кричал, но, глядя на свою Москву, испытал любезное мне чувство чужести и новизны. Не Москва, а что-то другое. И мышью неясная сразу мысль, что этот город надо завоевать. И не я один испытал это странное чувство. — «Вот она Москва». — «Эх, Москва-матушка». Мы обогнули Москву со стороны Поклонной горы.
* * *
Стоим двенадцать часов на полустанке.
Кремль, кажется, единственная из крепостей, не превратился в тюрьму. Крепости и замки все обращались в места заключения.
АРМИЯ.
Под стенами Кремля сколько раз — неприятель. И Наполеон… Петропавловская крепость ни разу не выстрелила по врагу. Из потешных полков Петра вышла грознейшая армия. А крепость, задуманная грозной мыслью, так и осталась потешной. Тюрьма была грозная.
Весной, когда открывается навигация. Комендант на лодках с фальконетами («каторги»). Огромные гюйсы и флаги на корме. Салют из игрушечных фальконетов и ответ с верков крепости. Игрушечная мощь. Чем-же запугал на двести лет Россию Петр?
Тем запугал, что вывел армию из Москвы «во чисто поле». При Петре да и все двести лет Петербург — лагерь армии, которая противопоставлена стране. «Два века равнение на армию» и, стало быть, на Петербург. Против Петербурга сила одна — всенародное ополчение. Прекрасная мобилизация 1914 года оттого, что всех взятых разом перекинули в чужие края: Орловцев в Вятку, вятичей в Крым, крымчаков в Сибирь. И снова армия была противопоставлена стране. Петербург раскинул свой лагерь на всем просторе русской земли. И уж три года Россия несет это иго. Мы — чужая орда в России. Оттого и Сумгина пороли на людях, что это наше дело.
Первая мобилизация была армейская, и потому к ней был правильно применен исторически оправданный метод. Но потом ведь уже не армия была, а всенародное ополчение. Тут надо было танцовать от печки. Я думаю, что для ратника было бы в воинском отношении полезнее, еслиб он обучался дома и жена его оплакивала месяца три. А потом ударить барабан. Прижать жену к груди «по солдатски», хоть она и жена, поцеловать ребят, хоть они и в болячках. И над ставком в балке — голые ветлы. Кладбище.
* * *
Железные дороги изнемогают оттого, что, применив исторический «армейский» прием мобилизации к народному ополчению, мы задали им двойную работу. Для каждого перевозимого солдата, для каждого пуда военного груза и продовольствия расстояния удвоились. С инженерной точки зрения это было действие «бесчестное». Ведь технически проблема войны сводится к минимуму затрат энергии на передвижение тяжестей при наибольшем эффекте. Невероятные жертвы, принесенные нами в эту войну людьми, должны же были заставить задуматься, как лучше использовать психологию народного ополчения. Но не хватило гения, размаха, мысли. И начали ускоренно готовить солдат. Разве мы — солдаты! Нет, мы — ратники! Мы грузны для армии. Армии тягостно от полноты. Нам привили лишь разврат солдатчины без ее положительных сторон.
* * *
Бондаренко сидит, свесив ноги из вагона, и тихонько поет:
Покинь батька, покинь мати и всю родину, Иди за нами, казаками, на Украину. На Украине суха рыба и с шафраном, — Будем жити за казаком, як за паном.* * *
Все еще стоим. Сухостой.
Всего Германия у нас не отнимет.
ИГРУШКИ.
Удивительные бараки строит «земгор» или «горсоюз» — не разберешь. «Отепленные соломитом» из тонких, как картон, деревянных листов. На станции рассердились наши, что каша у них пригорела (питательный пункт) — дернули за угол, все и рушилось — карточный домик. Вылезают «земгоры», ругаются. Мы думали, что разорили их гнездо, а они как муравьи закопошились, мы и уехать не успели — дом их как был, стоит и из трубы дым идет, щами пахнет.
* * *
У путей на боку лежит паровоз, засыпанный снегом и середь поля, будто разбрелись котята от заснувшей кошки, несколько классных вагонов с выбитыми стеклами. Было крушение. Так и брошено все.
* * *
17 января. Рана. Нет, ранение. В памяти ясно: день на станции, загроможденной санитарными поездами (тиф и цынга). Нам нет ходу. Оттепель. Проталины черной земли. Груды хлама, ящиков, обломков, рухляди, преющей под солнцем. Вышка с мегафоном. Оттуда сигнал, что — аэроплан. Наш или «герман?» Ждем. Слышна трескотня выстрелов, а потом звенящий рев мотора. Спадает ниже. Окружил над станцией и в поле средь белого снега: «раз, два» взмыли грязные столбы и донеслись удары взрывов. Снова круг. Кто-то рядом со мной: — «Вот так птица, чем гадит!» — «Не, это она несется». Еще взрыв ближе к станции. Скверно если так сверху капнет. Птицы иногда — на шляпу, я думаю, что они это намеренно, издеваясь над нами, ползающими по земле. И вот летаем. — Это последние мысли, какие помню, а дальше ничего. Дальше для описания нужны не слова, а какой-то замысловатый гиероглиф. Потому — что меня дальше не было. Наступило не забытье, а полное ничто. Если такова и смерть, то она не страшна. Но я уверен теперь, что смерть не такова. Никто не рассказал, как умирать. Из всего фальшивого, от чего не удержался Лев Толстой, вопреки совести своего дарования, — самые отвратительные по фальши страницы, где смерть Ивана Ильича. Все, что в пределах умирающего человека — гениально (неловко в отношении Толстого такая аппробация, ну — да между своими можно). А как дошел до того, чего ни один не пережил — какая гнусная фальшь. Никто не пережил смерти, никто не воскрес и не рассказал. Зато мы знаем, помним, как рождаемся. И не высшее ли счастие — это возникновения из небытия, это прояснение из тумана. Я испытываю это счастье второй раз. Это не выздоровление. Болел я тяжко в детстве и не один раз. Но в последних степенях забытья, когда родные видели, что я умираю, — я жил с необъяснимой полнотой. В один из кризисов, например, я был в лесу из гигантских алоэ. И по лесу скакал в белом бурнусе араб на вороном коне. Потом мне объяснили, что на окне в горшке стоял куст алоэ, а на книжной полке — том Лермонтова: «Бросал и ловил он копье на скаку». Но уверить меня в том, что у меня был бред, что я не был в том лесу — меня никто не уверит, потому что это — живейшее восприятие действительного за всю мою жизнь. А тут после взрыва подле меня аэропланной бомбы — я кончился. И вот начинаюсь снова. Возникаю из бессветного и бесцветного тумана. Но главное там не было времени, не было никаких перемен. Сначала отрывочно, а потом все в связи. Теперь мне трудно поверить, что с часа раны и контузии прошел месяц и столько-то дней. Теперь все считают 17 января 1917 года от «Р. Х.». Не все, потому что я не считаю. Для меня прошел какой-то иной срок. Я вторично возник из тумана неизмеримой бесконечности времен и пространств. Когда я настаиваю на бессветности, Марья Петровна (сестра в лазарете) не понимает. Она постигает — «Ну, совершенно темно. Черрно». Два «р» у ней мило выходит. Ну, нет, не черно и даже не «черрно». Черноты то и не было.
БЗИК.
Доктор утверждает, что от своего «бзика» я скоро исцелюсь. Не верю, я — не тот, я — другой. Как мне встретиться с женой? Правда, у жены — родинка. Но если даже родинка. Мне не странно второе рождение. Я всегда и до того более верил, прямо ощущал, что я и раньше, в ином образе жил на земле, более верил в то, что жил, чем в то, что буду бессмертен. И мое образование меня убеждало в этом взгляде, что прошлое важнее будущего, что все творится из данного материала. Тот, чем я был, на мой взгляд, был нормальный человек. Испорчен русской жизнью, но в меру. Похотлив, но разве это плохо? А я — с «бзиком».
* * *
У доктора на руках (с тыловой стороны) рыжая шерсть. Брил бы что ли!
* * *
«Родинка» не дает покою. Как вспомню — выростаю на койке: и головой и ногами достаю прутьев железной кровати. Марья Петровна ласково: — «Опять корчится. Будьте умный, не надо». Подтыкает одеяло.
* * *
20 января. Написал жене.
АВТОКЛАВ.
Неприятно то, что у меня вынули два ребра. Говорят: «ничего, еще опять в строй пойдете.» В строй, что же. Неприятно, что мои ребра где то… Куда они девают ребра, руки, ноги. В лазарете ради экономии в каком-то «автоклаве» варят из костей бульон. — «Марья Петровна, что такое автоклав?» — «Котел. Сверху завинчивается наглухо крышкой». — «А я думал, что у автоклава широко раскрытая пасть и зубы в три ряда. Ему кинут кость, а он челюстями щелк… Этот бульон тоже из автоклава?» — «Разве плох». — «Мне не нравится из автоклава». — «Не ребячьтесь». — «Марья Петровна, по секрету». Она склоняется ко мне. Я тяну ее ближе за уголки платка. Улыбается выжидательно. — «А ребра тоже в автоклав?» Отпрянула возмущенно: — «Фу, какая гадость!». — «Мне не давайте бульона. Пустые щи». — «Щей вам еще нельзя». Конечно, это ребячливое кокетство. Ребра просто выкинули, на помойку. Прибежала вороватая собака. Ведь на ребрах осталось мясо. Ой, не буду есть бульона. Бесповоротно… Ощупать, что у меня нет двух ребер еще нельзя.
MANGIATORE DI'CADAVERI.
У князя Павла Трубецкого есть такая скульптура. За столом сидит упитанный и, разумеется, лысый человек. Разрезает мясо ножом. На блюде труп какого-то зверька. А пред столом, на земле, — человеческий череп, кости, оглодки трупа: добыча льва. И гиена, вздыбив гриву, жрет объедки. И у человека и у гиены одинаково трусливо сгорблен стан, — чтобы бежать при первой тревоге. Грубовато, но верно. Самое же верное, что перед человеком на столе рядом с тарелкой — бутылка и стакан. Вот до чего гиена никогда не додумается. Вино. Дух. Спиритус вини. — «Ах, Марья Петровна, хорошо бы выпить!» — Сразу поняла, но делает вид: — «Чаю дать или воды?» — «Водочки, милая. Ведь, можно достать?» — «Нет! Встанете, выпишетесь, — делайте, что угодно!» — «А когда я встану?» — «К лету. Нет раньше, если будете умным. Через месяц». — «Пусть к лету. Мы тогда с вами — на поплавок. Пойдете?» — «Нам запрещено. Да и нижним чинам нельзя». — «Хотите, я поступлю в школу прапорщиков, чтобы с вами на поплавок и водочки холодненькой». — «Водки не подают». — «Да уж дадут». — «А ребра? Без ребер в прапорщики не возьмут».
Ребра пропали. Сгнили, или их сожрал бродячий пес… Без вина труп воняет. А выпить и закусить. Гиена. Где.
Доктор выслушивает вполне серьезно все, что я говорю. Одно из самых первых впечатлений моего пробуждения к новой жизни: таз с красноватой водой, как в кухне, когда моют мясо. «Ведь это была моя кровь?» «Да». — Доктор потер кончик носа и спрашивает: «Вам не приходилось слыхать от матери — трудные были роды?» — «Да, мать всегда говорила: Трудный ты мой». Меня она зато и любила больше всех. — «Вот видите, куда бессознательно обращается память при травматическом неврозе». Он говорит со мной, как с нормальным человеком, что я уж здоров.
Доктор про войну: «Война — травматическая эпидемия». Полагаю, что это не он выдумал. С такими волосами на руках не выдумаешь.
* * *
Ухудшение. Доктор волнуется, разводит руками. Марья Петровна в его отсутствии со злостью: — «Докорячился». Меня охватывает иногда такое чувство полноты, что кажется надуваюсь и вот лопну. А тощой — рука на одеяле, как куриная лапка из супа.
* * *
«Марья Петровна, женщинам не надо в солдатских лазаретах». — «Много вы понимаете». — «Немножко». — «Много бы без нас осталось живых. Он как труп режет. А мы кровь держим». — «А вот у меня швы разошлись». — «Не корячься». — «Меня тянет». — «Хороший признак. Скоро встанете». — «Подите сюда. Можно?» Она терпеливо и серьезно, но без скуки: — «Можно!» Я волнуясь, отстегиваю кнопки у нее на груди и обе руки ей за пазуху. Теплая, мягкая. — «Ну, будет! Вы думаете, он этого не знает? Он то понимает, что без нас — ноль вся его асептика, антисептика. Не корчись. Будь солдатом!»
* * *
В ее словах не все вздор. Он ковыряет с таким равнодушием, что от одной злости не больно. А когда она с ртом сведенным в гримасу сострадания снимает кровь комками ваты — мучительно. Будто рукой попал в осиное гнездо. Но если бы не этот милый рот, сведенный болью за другого, чужого человека, то и ковырять я ему не дал бы ни за что.
* * *
Теперь я и без доктора знаю, что дело быстро идет к «востанию». Хорошее слово, а забытое. Скоро я востану. Сегодня Марья Петровна мне: «Опустила в ящик ваше письмо». — «Как, только теперь!» — «Раньше нельзя было». Письмо жене.
* * *
Прибирает на столике. Спрашиваю: — «Почему у меня отдельная комната?» — «Потому что вы интересный». Переспрашиваю: — «Интересный?!» — «Да». Взглянула на меня. Всплеснула руками и упала в припадке смеха на стул: — «Ой, уморушка. Интересный!» Она вытирает слезы. Я обиженно: — «Не понимаю, чего вы». — «Ему интересный. Ему честь и слава, что он такого на ноги поставил. Контузия интересная». — «Я думал, вам». Вполне огорченно. Она — сердито, устало и брюзгливо: — «У меня таких интересных семь человек да неинтересных…» — «И как же, со всеми то же». — «Кому надо то же, а кому и не надо». Несомненно, я выздоравливаю — новый тон. И будто в первый раз вижу, что она не молода, — нет у ней не старое, а древнее лицо. Мужа убило еще в 1914. Кадровый офицер.
* * *
Что если из головы они у меня какой-нибудь винтик вынули. Беда их, что они и сами не уверены «что к чему». Точно не знают. Эмпирики. Ни одной такой машины не сделали, а смотрят как на машинку. Лежит живое, а эмпирик ковыряет: нужен ли вот этот винтик. Обойдется и без него. Давай-ка вырежем на пробу. Там видно будет. Да ведь во мне есть, и должны быть такие винтики, что он за всю жизнь только один раз и потребуется. Будешь вот ходить, говорить, действовать и вдруг на самом интересном месте: «крак» — винтика не хватает. Того самого!
* * *
Санитар Гарницкий достал разведенного спирта на один прием. Марья Петровна изволила очень сердиться, потому что разит, спирт плохой. Но хорошо — все поплыло и закачалось. Вино сильно тем, что оно все берет под сомнение — даже законы тяготения. Так и поется: «Дурак, зачем он не напился?» Ну, Коперник-то был уж наверное пьяница.
* * *
Пить, как и с женщиной, не надо частить. Хронически и то и другое утрачивает смысл.
* * *
Выйдя из лазарета, я имею формальное право на рукав красную нашивку, что был на войне ранен. Формальное, но не нравственное. Надо дорваться до живого мяса. А я как Иванушка дурачок на Жар-Птицу, задрав голову, смотрел. Она мне и «капнула». Да и тот, который летал, наверное смотрел: что бензин, да нет ли перебоев, да высота. Хлопот полон рот. От того-то и возможна война, говорит Толстой. Нет. Возможна-то она быть может и поэтому, а вот, полагаю, что выше самой яростной любви — наслаждение потаранить дирижабль своим аэропланом, зная наперед, что — гибель. Хотя и миллионные армии, а наслаждаются войной немногие.
* * *
В одной России — двенадцать миллионов под ружьем. Что там великие переселения народов. Никогда еще не было столь грандиозных движений людских масс. Никогда во вселенной на памяти людской. Никакие масштабы, никакие слова неприменимы и никакие принципы. Принципы придут изнутри этих вооруженных масс. Горе невооруженным! Сила «гигантская», «колоссальная» — так сказать, ничего не сказать. Сила эта не-человеческая. Она порядка космического.
* * *
Если сила космического порядка, то как ею распорядиться? Какую ей дать по плечу задачу. На чем вы ее утомите, чем обманете. Слышу голос: — «Обманем».
* * *
Командовать армией в двенадцать миллионов человек нельзя лишь потому, что никто еще в мире такой армией не командовал. «Наштаверх» напоминает — «штаны вверх», т.-е. подтяни штаны, а то — не видишь — они у тебя (от испуга) свалились.
НАГАЕЧКА.
8 февраля. «Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя — воспомни, как гуляла ты восьмого февраля». Студентов больше нет, а есть студенческие роты, откуда прямая дорога — в школу прапорщиков. На погоны звездочку, галифейки, «фрэнч» — хоть недельку другую покрасоваться. И как девушки льнут. Надо забеременеть, а то ведь его убьют… А казарма отдана на съедение вшам.
Мы пели про нагаечку, и считалось чуть ли не революционной, во всяком случае запрещенной песней. Ну, понятно, если бы еще казаки или жандармы пели, которые нас пороли. Мы пели, упивались. Все поротые. И прапорщики поротые (духовно). И Скобелева, нашего непревзойденного военного вождя, запороли на смерть две немки… в гостинице. И он «от неземного блаженства» скончался. Нет, Скобелев, упадочный герой войны. Суворов, а не он, — наш военный гений. Суворова, надеюсь, не пороли. Он-то парывал!
* * *
17 февраля. Приезжала жена. Ахнула, всхлипнула, все как следует быть. Я ей: — «У вас есть родинка?» Вытерла слезы, посмотрелась в зеркальце (в сумочке) и, стрельнув глазами: — «Какая родинка?» Я уже нехотя: — «Та!» — «Да.» — «Покажите.» — «Вы с ума сошли!» Вспыхнула, как девочка. — «Ну, не надо!» Она воровато огляделась, глаза подернулись влагой. — «Могут войти?» — «Могут!» Посмотрела на занавешенное окно и торопливо путается руками в складках платья…
* * *
Прощаюсь с женой. Вялая рука. — «Что же ты мне скажешь?» Кокетливо. И опять слезы и платок и зеркальце. Молчу.
Уехала. На прощанье букет цветов. Плохие этой зимой цветы в Петрограде. Дохлые. Видно здешние.
Женщина — земля. Мы землю обнять хотим, вдохнуть в нее душу.
Опять под подушкой книжка. Новый мученик — Григорий Распутин. Снимок с трупа и объяснено, что одна рука в кулак сжата, а другой благословляет. У Распутина сила в руках была: гладил, ласкал руками, «на руках носил». Женщине нужно и силу и крепость мужской руки ощутить, а не только то. Это мужиковатое искусство ласки в культурном обществе полузабыто. Врачи с своим сомнительным массажем тщетно пытаются воскресить.
СОЛНЦЕ.
Первый раз на улице. И солнце. В Петербурге — солнце! В «Петрограде». Не могу примириться с этим сладковатым словом. Водили в Эрмитаж. Боже мой! Этот откровенный стук сапог, клюшек и подожков по звучному паркету. Им скучно, разве локтем подтолкнешь на Диану Кановы. И стыдливо отведет глаза. Но топают удивительно.
«Я вхожу во дворец к богачу и ковры дорогие топчу». Поэт, а унизился до того, чтобы в этом насладиться. Видно, что ему и харкнуть на ковер, чтобы утвердить себя, необходимо. А солдатики топчут так просто, естественно, как лошадь по мостовой, как ломовики, которые привезли во дворец тяжелый рояль. И гул под сводами. Вот так же наивно топая и войдет во дворцы мужик — прямо с улицы.
* * *
Зашел разговор о дворцах. Петров — из Семеновского полка (два Георгия), объяснил, почему так, а не иначе берется «на караул» по дворцовому. По установленному с 1896 года приему ложа винтовки не отставляется от ноги. Во дворце у дверей стоят парные часовые. Он проходит через дверь. При Александре III — винтовку на шаг вправо, приклад на пол. И от стука двух прикладов о паркет такой гул пойдет по анфиладам! Александру III нравилось. Этому — нет.
ГЕРМАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО.
Окна германского посольства все еще забиты. И как тогда вылили из нижнего окна синие чернила, так на красном граните до сих пор потеки. Голубая кровь.
Вспоминаю тот вечер. Дым, блеск пожарных касок. Запах гари. На мостовой обрывки немецких книг: поднял, что-то о России. Толпа. Студент рвет в мелкие клочки и раздает на память обрывки красной флажной ткани. Над троном в тронном зале посольства висело чернокраснобелое знамя. Его и разорвали в клочки. А трон? Сломали.
* * *
Уныло висят над подъездами тряпки с красным крестом. Закоптели и порвались вывески на коленкоре. И слякоть на мостовой. Солдаты повисли, словно пчелы, когда роятся, на подножках вагонов. Голодные дети. Растерянные взоры. И какая-то новая тихая торопливость в уличном движении. По-мышиному шмыгают. Остановится на миг у гастрономической витрины — шмыгнет дальше к магазину белья, оглянется по сторонам и дальше, чуть не бегом.
Досадно приспособлять свой шаг к тем, кто на клюшках: как с ребенком гуляешь, который только учится ходить. Сестра, наша гувернантка, нет-нет остановится и посчитает свой выводок. На бульваре у Исаакия сели покурить. Еще слабость.
* * *
Раненые надоели. Я этого не ощущаю, потому что в первый раз. А кто с третьей или четвертой раной — те сравнивают. Пища с года на год хуже. Уж теперь тебе миндального пирожного не принесут, или яблок «а то берь» — «какой берь». — «Берь, товарища во рту тает без всякого остатка — только много кушать нельзя, слабит». Сиделка: — «Не довольны еще. В деревне чему были рады, а тут „берь“. Вас еще кормят, а погляди, как чиновники живут». — «И вы, мадмазель, в деревне не в таких туфельках на пяти вершках, как козочка» — «Я деревни-то не помню». — «Напрасно».
* * *
19 февраля. Сегодня был у нас агитатор по случаю дня освобождения крестьян. Писатель. Говорит нам (раненым). — «Не зовите меня барином». — «А как же вас, барин, звать». — «Я такой же как и вы, зовите меня товарищем». — «Гусь свинье не товарищ, барин». Захохотали. И он смущенно, тоненько так вторит нашему смеху. Нашелся: — «Я, говорит, не гусь». И пошел про «гусей лапчатых». «Как сладки гусиные лапки, а ты их едал?» Барин до сих пор кушает гусиные лапки, а мужик?! Слушают и вижу, что мужики наслаждаются словесной тканью, как музыкой — ловко он от слова к слову плетет свою паутину. И тут кто-то с задней скамьи (для таких случаев в столовой вроде школы скамейки сдвигают) — «Да не нежничайте вы, серые черти». И точно — какая вонь! Опять же с задней скамьи: — «Это они, барин, от удовольствия». Хохот, и тот опять подвизгивает. Но со смешком: — «Тут русский дух, тут Русью пахнет». И от этого места снова пошел, пошел, пошел. — Что русский дух. Духа не угощайте. Духоборы. Лев Толстой. Смертная казнь.
Впервой вижу не с той стороны роль, в которой и сам бывал неоднократно. Они, т.-е. мы, раненые, в отношении своем к этому литератору все равно как бывает: видишь, тащит на гору зернышко муравей; отнимешь, скатишь вниз — муравей опять за свое без думы и без передышки и, наверное, без сомнения. Втащил наверх, и опять столкнуть. Жестокая забава. Раненые, по всему сужу, что говорили своего после, видели ясно куда свою речь он клонит каждый раз, как его «стаскивали». И это им было скучно, потому что это то им и без всяких слов давно и лучше известно и понятно. Тому же казалось, что нас (их, мужиков) надлежит сдвинуть с некоей мертвой точки. И он начинал это каждый раз с таким стихийным бессознательным напором инстинкта, что, видимо, начинал физически слабеть перед нашей тупостью. Отирает пот. Пьет чай. А они с добродушной жестокостью репликой, к делу как бы не идущей, все сталкивают его к началу. И устали давиться смехом. Он им доказывал несомненную истину, что «дважды два — четыре», а они ни за что прямо не скажут: «Знаем, и знаем еще больше: что ты сам веришь иначе. Если б так проста была истина, ты и не пришел бы сюда. Дважды два не есть четыре, а четыре плюс какой-то иррациональный остаток, привесок. Сам ты бродишь на краю темноты. И если не хочешь с нами делиться сокровенным горем своего сомнения, а хочешь нас учить — значит, ты барин… и мы начинаем вонять».
Что-же за стена между ними? Он умрет, доказывая. Но если он до смерти станет доказывать, то может довести до озверения: все ярясь, его будут стаскивать: — «Доказывай с начала.» И изойдет духом.
Провожали тепло. — «Спасибо, товарищ-барин, все поняли очень хорошо. Приходите еще».
* * *
Нет, солдаты, облипшие трамвай, никак не похожи на пчел. Это вши. Я видел в казарме — рубашка шевелится, столько. И трамвай, облепленный солдатами, мчится, подобно псу, которого «заели». Он думает, что отстанут, растеряет. Не тут-то было.
* * *
Из лазаретов выйдут люди со вкусами, весьма обогащенными. Война всеобщий, обязательный народный университет, чем бы ни кончилась, хоть позорнейшим миром — она даст победу иначе недостижимую, или в очень большой срок. Такое движение и столько наглядных уроков! Разве еще чудовищный голод мог бы привести в движение эти полчища и так переместить народы России. Где черта оседлости? Где кончается Польша? Куда сдвинута Малороссия? Густо, на крови замешано. Что то испечем из такого крутого теста. И сколько скрещиваний. Жаль, что много впустую. За «в пустую» и наказываются сифилисом. Все-таки много будет детской нови — брюнеток с голубыми глазами и шатенов с карими. Много вздора и предрассудков рассеется.
ТЕМНОЕ ПЯТНЫШКО.
Доктор утверждает, что если я не буду обращать внимания, то действительность в моем самосознании исчезнет. Надо забыть, не центрировать внимания. «Ну, а если вы будете все внимание устремлять на эту точку — то увидите много интересного, только за последствия никто не поручится. Я с вами говорю, как с человеком, вполне владеющим собой.» Точка, о которой он говорит, — неуловимое пятнышко, явилось у меня в зрении (хочешь смахнуть и все вьется). Но как же не смотреть в эту точку, если я и ночью вижу знаю, что пятно будет расти и тьма меня обнимет. Черный зев этой тьмы я вижу. — «Я вам пропишу консервы». На глаза — темные очки. Да ни за что!
* * *
Доктор: — «Контузия интересна тем, что она сотрясает все существо. Рана что — простое механическое повреждение. На мой взгляд ран интересных не бывает. Конечно, и рана сопровождается всегда некоторой психической контузией. Но нет этого общего потрясения, как от близкого взрыва. Знаете — пересыщенный раствор: чист, прозрачен. Встряхнули — и тотчас обнаруживает свое кристаллическое строение. Так и контузия выводит на дневную поверхность дремлющие способности и инстинкты. В эту войну контузии почти преобладают над чистыми ранениями, если не количественно, то качественно. Война встряхивает… И поймите это прямо, физически. От того, что в стране столько „контуженных“, Россия стала иной».
В лазарете есть, по словам доктора, очень интересные больные. Он мне указал двоих.
Петряев. Общая контузия при взрыве «чемодана». Из Епифанского уезда. Ничего сразу заметного. Веселый. Совсем выздоровел. На балалайке играет вальс «На волнах Венеции» так, что хожатки ему «все что угодно». «Чего же интересного?» — «Вы его за общим столом посмотрите». И точно. Зачерпнув супу, он сначала держит ложку над баком и над ложкой пальцем левой руки помахает. Потом вдруг задумается и из ложки льется. Тут на него прикрикнут: — «Не задумывайся!» Он испуганно несет ложку ко рту и хлебает. И торопливо, сконфуженно носит ложку за ложкой. На лице — усилие. — Что это он? — Есть выучить пришлось. Он из голодающей губернии. «Не доедают» нормально, из года в год. Он ложку то не доносил, а то и мимо рта проносил после контузии. Первое время даже рука не подымалась, чтобы есть. Выучили. — А пальцем над ложкой что? «Сам не знай, чего колдует».
Я думал над этим колдовством ночь. И разгадал. Утром спрашиваю: — «Вы, товарищ, из какого села?» — «Из Ивановки. А что?» — «Пашете?» — «А как-же!» — «А навоз вывозите на землю?» — «Да стали вывозить. Отец еще не вывозил. Не родит. Бывало раньше, скотину на двор не загонишь: ноги ей объедает.» — «Мух, чай, было много?» — «До страсти! Ложку ко рту не дают поднести. Смахнешь, да скорее в рот.» — «То-то вы колдуете.» Расцвел: — «Верно ведь!» За обедом, смотрю, — левую руку в карман. И пробует есть «без колдовства». Нет! Взглянул на меня, подмигнул, и попрежнему, спугнув невидимых мух, понес ложку ко рту. Я смотрю ему в рот и вокруг вьется, вьется — моя муха. Мне стало так тошно, я бросил ложку и ушел. — Марья Петровна на меня прикрикнула: — «Снова за старое!»
* * *
Никонов, пока он в лазарете, ничего. Грубый мужик и все. С ним неладное, когда нас с гувернанткой посылают гулять. Он, как все, шутит, занимает сестру разговором (она ему нравится), а потом внезапно, как ветром его дунуло: рванется, кинется за кем-то встречным, смотрит вслед. — «Опять знакомого увидал?» Он, сконфуженный, догоняет нас, постукивая палочкой по панели. — «Да, братцы, чудеса. Опять обмишулился». И в глазах испуг от чужого людского множества. Вначале, после контузии (его вбило в болото взрывом) он «с ума сходил» от того, что во всяком встречном «обознавался» — то «братчика Андрея» встретит, то свата, то шурина. Ночей не спит и до сих пор. И все ладит убежать домой, да нога пока мешала.
* * *
23 февраля. Доктор — убежденный хирург. Он даже по старому говорит, что кончил «медико-хирургическую академию», а не «военно-медицинскую». — «Война», говорит он, «поставит хирургию на ее прежний пьедестал. Профессор Эрлих, казалось, нанес хирургии удар сокрушительный: „одним махом всех побивахом“. Варфоломеевская ночь всем болезнетворным началам. Война все перевернет. И верьте мне: сифилис опять будут лечить каленым железом. Не буквально, а хотя бы оперативной стерилизацией зараженных, чтобы не плодить гнили, и мерами хирургии общественной. О благоустройстве ……… придется подумать да подумать. Смешно сказать, — готовились к войне, а солдату здоровую ……… не обеспечили. Что солдату! Офицеры не обеспечены. И что в результате: в Варшаве в госпитале 200 коек заняты были сестрами в злейшем люесе. О резиновых шинах для автомобилей заботились, а презервативы до таких цен догнали, что не то-ли бы солдату, — прапорщику не доступны».
Он в таком духе говорит. Я передаю в обобщенной форме свод его мыслей.
* * *
Доктор более прав, чем видит в своем окошке свету. Мысль его следует развернуть. И в политике, и в экономике, и во всем восторжествует хирургия. Хирургия magna, а не стерилизация magna. Песенка травоядного социализма спета. Социализм увы, не сальварсан для пораженного злокачественным худосочием людского стада. Социалисты-терапевты уступят свое место смелым операторам. Будут с отвагой эмпириков «резать по живому». Больному будет казаться, что режут зря, по здоровому месту. Ничего, отхватят и выбросят. И прибежит гиена, и пожрет. Гиенам готовится пиршество небывалое.
КОБЗИНА.
Перед приходом Кобзиной проветривают палату сами раненые. И строго, чтобы при ней не «выражаться» и не «нежничать» — таково общее постановление. Накануне урока накурено, где можно, невероятно — помогает «уроки» готовить. Петров с клюшкой по корридору и в такт каждому удару твердит: — «Бег, беда»… Пришла. Они выстраиваются в корридоре. С мороза румяная. — «Здорово, молодцы». — «Здражала госпожа учительша». И учит. Такие загагулины выводят («пальцы не крючатся») и хоть с проседью иной, а голову на бок, щеку языком подпирает, а ноги под столом накрест — не умещаются. — «За что вы ее так любите?» — «Мы ее за то уважаем, что уж очень аккуратненькая и крепенькая такая. Главное — коротышка».
* * *
26/II. Лазарет опустел, кроме прикованных к койкам. Доктор тоже, наверное, на улице — не явился. Ведь — хирургия. Режет где нибудь. Трамваи на улице стоят вереницей.
* * *
27/II. Преображенцы и волынцы обстреливают казармы саперов. «Неужели же Щедрин верно понимал нашу революционную стихию»: «И сбросили с раската Ивашку Беспятова», так кажется написано в нашей сатирической библии.
По улице прошли солдаты. Стреляют вверх. Впереди оркестр, играет великолепный австрийский марш «Под двуглавым орлом». А надо бы играть, если не марсельезу, то хоть преображенский марш. Ну, это выправится.
БЕЗ БАРРИКАД.
Революция без баррикад, революция, сметающая все общественные и политические преграды. Баррикады и в 1905 году были ненарядны — в Москве: собрание хлама с задних дворов. Какие-то романтики отдали все же дань прошлому: на Литейном построили баррикаду. И даже пушка. Снег выпал и покрыл баррикаду и пушку белыми пышками. Видно, что баррикада не нужна. Революция, как дух божий над бездной анархии, носится по улицам в образе автомобилей, битком набитых солдатами. И стреляют или просто вверх или по крышам, где мерещатся полицейские пулеметы. Великая Французская революция вся была в уровне улиц. Воистину — площадная революция. Великая русская революция первая с высоко поднятыми головами. Все время в диком возбуждении толпа глазеет вверх. И если бегут в ужасе, все с поднятыми головами — ждут удара сверху. Так можно споткнуться и шлепнуться.
Да, нельзя не бояться «сверху». Откуда-то с крыши вдруг прочертит по стене и окнам пунктиром дырок и выбоин пулемет. И с каким воем все падают и ложатся на землю пластом. И взывают: — «Броневик, броневик, — сюда!» И несет — в грохоте залпов. Небо и земля. То возносимся, то падаем. И нет краше в жизни этих огромных взмахов душевной качели.
Лазареты высыпали на улицы. Хоть и холод, иные в халатах и туфлях. Сколько инвалидов. Обстреливают крышу дома и одноногий солдат поднял, шутя, свою клюшку и целится из нее по крыше, где сидят городовые.
Полиция забралась на крыши с своими пулеметами, мысленно подмигивая: вы будете строить на земле баррикады, а мы вас сверху. И обманулись. А мы вас снизу. Мчится автомобиль. Ура. Ура. Автомобилю!..
ХЛЕБ.
Первым делом Совет Рабочих Депутатов вспомнил, что войска с утра до ночи на улицах не евши — надо накормить. Первое слово о хлебе. Вот это дело. Отныне власть в руках тех, кто о хлебе первый вспомнил, кто накормил. И горе им, если они об этом потом забудут.
* * *
Иду мимо Казанского собора и потянуло влево, к пестрой «берендеевке» Воскресения на Крови. Молятся, поют панихиду над пустым местом — огражденным решеткой куском булыжной мостовой, где убили царя. Народу очень мало. Но не забыть, что — сегодня первое марта, со стороны попов большое мужество.
Неумно, что на таком месте — кричащий монумент. Как не понимать, как ни толковать событие, памятник-то поставлен чему: «Здесь царя убили». Тысячи, миллионы проходят по Невскому, вся Россия: кто за делом, кто по службе, кто за девочкой. И каждый глаз косит: «Ага, тут однажды царя убили». Скорее бы тогда кровь стереть, песочком свежим засыпать, все привести в самый будничный вид: ничего не случилось. И чтобы знаку никакого. Потом, через столетие что ли, поставить скромный «голубец», какие ставят на месте убийства при дороге. И пусть лампадка горит. А так вышло глуповато. Но если глуповато, то кто же сейчас тут молится. И за кого? Вот каким жарким кустом горит канун. Нет, это не по царю. На коленях женщины под черным крепом. Вдовы, матери и дочери убитых на войне. Свечей сколько — все по воинам, на поле брани убиенным. Воскресение на Крови. И еще говорят, что мы нация мирная…
Что-же на улице: революция, или прямое продолжение войны? Или это немцы пробрались в Петроград и с крыш жарят из пулеметов? Или немцы ворвались в столицу, и наши войска с крыш ведут последнюю оборону? Нет, на крышах — полиция. Бей полицию. Она хуже немца. Хуже немца! Вот где — ужас. Ведь, если «хуже немца»: мы свергли полицию, а она затаится, от корневища пойдет, опять разрастется и вдруг одолеет! Тогда, о, очень просто, мы немца в столицу пустим, потому что полиция «хуже немца». Вот почему и в такой день пришли сюда молиться: полиция то и мечет бомбы, она-то и пристраивает на крышах пулеметы. Боже, спаси Россию от полицейского! — Русское «отче наш».
* * *
Озаглавлено: «Отречение Михаила». Он и не намекает на отречение. Он всецело уповает на волю народную.
* * *
3 марта. Доктор купается в блаженстве: режет, пилит, просвечивает. «Свеженькие». Смеясь, жалеет, что не бросают бомб: контузий нет. Он слышал, что на Суворовском проспекте толпа подкидывала и бросала плашмя о земь какого-то полицейского, пока он не перестал подавать знаки жизни. Жалко, что неизвестно куда увезли: ведь это контузия!
Один из раненых, принесенных в лазарет, потребовал не то морфию, не то кокаину. Отказали. Он схватил со столика браунинг и говорит: — «А это видали, сестрица?» — «Ах, ах, ах!» Санитар сзади навалился, отнял револьвер. — «Да, я, товарищ, пошутил».
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
Временное правительство решило первым делом отменить смертную казнь. Совет Рабочих Депутатов (накормивший в первый же день голодных солдат) медлит дать свое согласие на отмену смертной казни. Мудрость и тут на стороне совета. Мудрый не спешит. Смертная казнь внушает ужас. Смертная казнь не может быть оправдана. Но ведь и война ужасна, и войну трудно оправдать, однако, мы воюем. Право убить неоспоримо. Смертная казнь сопряжена с милостью. Больше мужества и красоты, не отменяя смертной казни, миловать, не велеть казнить, чем написать пером, что смертная казнь отменяется. Но они думают, что революция для того произошла и ради того, чтобы осуществить их программу. Забывают то, что программа-то была для того лишь, чтобы питать святое недовольство. А теперь надо действовать, хотя бы и не по программе. А то получается впечатление, что они прежде всего хотят оградить на всякий случай и свою, и своих пленников безопасность. Мало ли как еще обернется дело: в случае чего и предъявят счет: «Мы вас не вешали, так не вешайте, ради бога, и нас».
* * *
В правительстве не революционеры, а профессиональные политики. Десятилетие с великой революции 1905 года не прошло бесследно. Политики ни с какой стороны не мученики. Они и для себя не хотят Голгофы и для своих противников не наставят крестов. Политика всегда клонится к выигрышу и есть в существе дела игра, в которой принимают участие массы. А в таких играх весь риск раскладывается на «стадо баранов». Главный риск в этой революции несут широкие демократические массы, потому что у них еще нет правильно организованных партий. Видите — совет рабочих депутатов сдался, пошел на отмену казни. Роковой шаг, ибо те, кто с таким легким сердцем первые выкрикнули лозунг отмены казни, с таким же легким сердцем ее и введут. И вот благословить смертную казнь тогда для демократии будет невозможно. Народ отказался от регалии и казни, и милости. Революции нанесен удар.
* * *
Ничего катастрофического в народном сознании от свержения царя не произошло. «Царя сместили» — экое диво. Никогда и не забывали, что царь нами поставлен. А недавно они сами, «отпраздновали» юбилей, напомнили народу, что царствуют вовсе не «божией милостью», а волею народа. Вот их и сместили. Для революционной интеллигенции — событие потрясающее, «все верх ногами» для народного сознания — так, легкое дуновение. Пыль сдунули, посмотреть, что — под пылью.
* * *
Говорят, говорят, говорят. То же, что и в 1905 году. Тогда было нужно. Теперь — время хирургическое. Опытный хирург из щегольства, если у него твердая рука, не прочь и с засученными рукавами за операцией рассказать или выслушать новый анекдот. А если он обливается холодным потом и зубами стучит, да пытается словами прикрыть нерешительность — лучше отложить операцию.
* * *
20 марта. На улице — крик: — «Милицейский! Милицейский!» Кричит баба и так же точно, как она бы кричала: «Полицейский». Была полиция, стала милиция. Иного смысла нет в полицейской реформе. В новом свете после этой революции предстанет и Держиморда и унтер Пришибеев. Милость новой полиции овеет и этих народных героев дымкой поэтического юмора. И будут слушаться полицейского-милицейского не за страх, а за совесть.
* * *
Казак на Невском проспекте: «Если вы, товарищ, слов не понимаете, то нагайки попробуешь».
Поэты будут служить в полицейском участке — и ничего зазорного.
* * *
Отчего же ни одной улыбки? Если и ломают и жгут, то почему с такой унылой мрачностью? Ломать всегда весело. В детстве лишь для того и строили, чтобы все сразу сломать.
«Ослаб народ от голода».
Русская революция и без смеха. Профессиональные смехуны в испуге.
* * *
Грязный Петербург? Вонь? Так всегда было. Революцию бранить не за что. Нечего на нее валить. Только раньше грязь по дворам и темным углам прятали. А теперь правда на улицу показалась. К Петербургу всегда было тягостно подъезжать: кладбища и свалки без конца. Вот грязь и пролилась через край. Столица, а «под себя ходили», как неизлечимый больной. Становище дикарей на берегу океана, куда приплывают заморские гости, чтобы выменять у нас на бутылку рома и нитку стеклярусных бус — все, чем мы богаты: сало, мясо, хлеб, лен и лес. Революция — дело народа. Революция просто плюнула на Петербург. И потонул (харкнул молодецки солдат) в плевке державный город. Ужасен вид оплеванной столицы.
* * *
В Таврическом дворце. Наконец-то дворец снова принял свой подлинный вид — веселого дома. Грязь, галдеж, махорка и всякий войти может. Только красного фонаря не хватает. Кончилась Государственная Дума. А она-то что была? Потому и не удержали власти в своих руках.
* * *
Нет, про Таврический дворец так нельзя. И в церковь ведь войти может всякий. Есть нечто священное и в лупанаре — именно, что может войти каждый… Таврический дворец не………, а казарма, не хуже и не лучше всякой другой. Строили дворец для одного из любовников императрицы — а вот вошли все. Res publica. Все дворцы стали народной собственностью, вот этих овшивевших — по чьей воле? — солдат.
Перед Зимним дворцом солдат мне, кивая на красное знамя, где раньше желтый флаг: — «Все мужицкими руками сработано». — «В мужицких руках и останется». Вижу, что он немного смутился. Своим ответом я выбил у него какую то подпорку. Подумав, продолжает: «Взять — легко взяли. Да кабы удержать». Этот не пойдет громить и поджигать дворцы.
У медного всадника: — «Это кто слитой?» — «Петр Великий». — «Ну, этот пускай стоит. А того (кивок через Исакия) свалить можно». «Можно» еще не значит «должно».
Зачем с такой тупостью ополчаются против гениального монумента, сделанного Трубецким. «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот». Сказано столь же великолепно, как и сделано. Лиговка сказала. Охрипшие девицы прорекли, избравшие панель у нового медного всадника своим рынком. Надо же иметь своего медного всадника и Петербургу черных лестниц, ночных чайных, хороводу мокрохвостых Венер с этого конца Невского. Какой же еще тут и можно поставить монумент у неряшливой столицы, так сказать, под хвостом. Да, гениально, чорт возьми! И пусть стоит во веки веков.
* * *
«Совет рабочих и солдатских депутатов». Сокращенно: С. Р. и С. Д. Так оно и есть — эс-эры и эс-деки. Только накрест — солдаты все сплошь социалисты народники, а рабочие марксисты.
* * *
Хвосты у лавок возобновились.
* * *
В лазарете избран комитет, главным образом для того, чтобы всем отпустить по домам. Докторов и слушать не хотят, что тому, и другому, и третьему надо долечиться. Предъявлено требование, чтобы поторопились с изготовлением протезов. Чудаки! Протезный завод еще только строится. И каменщики на постройке тоже предъявили требование и забастовали. Лежачие больные до злобы раздражены тем, что все собираются домой. Семенов подозвал к себе сестру Долинову. Подошла, нагнулась. Семенов ее ударил по лицу. Надо понимать, за то, что его «плохо» лечат: другие уезжают, а он в лежку лежит. Санитары тоже копошатся, отказываются исполнять грязные работы по лазарету, заставляя сестер. Сестры заявили, что они не могут при таких условиях работать. Война всем надоела. Война и «надоела»!
АНЕКДОТ О ПОЦЕЛУЯХ.
Во временном суде. — «Свидетель, чем вы занимаетесь?» — «Вооруженным восстанием». Профессия, и с незначительным профессиональным риском. Про свидетелей в дореволюционном суде по другому рассказывали: — «Подсудимый, чем вы занимаетесь?» — «Поцелуями». — «Как?» — «Поцелуями кормимся. Извозчикам ночью „поцелуи“ — булки копеечные — продаем»… Да, были в Петрограде копеечные булки и назывались «поцелуями». Название и то вкусное. А теперь нам в лазарет что за хлеб дают. А на воле и такого нет.
1905 ГОД.
Та великая, а не эта, ибо несравненно труднее и важнее сдвинуть душу, чем ворочать камнями. Эта, быть может, перевернет тяжести огромные, но идейно она стоит на месте. До сей поры ни одного свежего слова, ни одной новой нотки. «Углубление революции» встречает главнейшее препятствие не там, где его боятся встретить, а в непобедимой плоскости идей. Не то, что глубины, а и толщины нет. Они совершенно не живут мыслью. И что поразительно: от опыта 1905 года будто и следов не осталось. Ничему не научились. А противники едва ли так. Жандармы поют марсельезу. Ужасна легкость, с какою все произошло. Проглядывает железная дисциплина, сплоченная сознательность, с которой и жандармы, и чиновники, и пристава передались на сторону революции. Тогда же, в 1905 году, была кровавая борьба.
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО.
Мы все еще, по старому, живем в пространстве, но не во времени. Оттого мы и молоды, что для нас, как для всех наций многочисленных, времени, а стало быть и старости, не существовало. Наступил предел пространству. В японскую войну Россия больно почувствовала и осознала свою ограниченность в пространстве. С этого момента, народная мысль, если она жива, должна жить и во времени. Для России началась история по преимуществу, время событий, а не бытия. В пространстве нам более некуда двигаться. Надо жить во времени, то-есть наполнить бескрайние просторы России историческим содержанием. А революционные наши вожди «витают в пространствах», не постигая времени. Они рассматривают деятельность свою, как мгновенную, что она без промедления распространяется и сейчас же ждут благих последствий. Не дождавшись, огорчаются, впадают в отчаяние. А между тем ничто не совершается в один миг, как в сказочном просторе народной сказки, и в адэкватном ему геометрическом сознании русской «интеллигенции».
* * *
Как же они могут перевести на рельсы историзма народное сознание, которое еще и до пространственных граней не доросло. Аграрный вопрос все еще трактуется, как вопрос чисто пространственный, то-есть тут революционная мысль идет на поводке у мужицкого представления о беспредельном земельном богатстве, которым владеет Россия. Уже в 1905 году передовыми аграрными теоретиками эта позиция была оставлена. Не для того же, чтобы снова начать отсюда. В общем у социал-демократов более исторический взор на земельный вопрос в России, чем у социалистов-революционеров. Народники живут, очертя голову, в фантастическом просторе. Страшная ограниченность!
* * *
Завтра похороны. Боятся бесчинств или «ходынки». Бесчинств сейчас и быть не может. Они придут в свое время. Сами по себе бесчинства и неистовства не так опасны, как думают режиссеры завтрашнего спектакля. Бесчинства угрожают отдельным лицам. Для революции несравненно опаснее, что ее продолжают рассматривать как спектакль, и хлопочут, чтобы зрелище вышло феерическое. Предвосхищают ту рецензию, которая будет написана в веках. Но мы той рецензии не прочтем. И как будет записано, зависит от непрерывной связи событий, а не от смены зрелищ и пластических поз.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ.
Не оттого, что сегодня похороны, а оттого, что похороны заняли целый месяц внимания у С. Р. и С. Д., полагающего себя революционным центром. И трупы берегли (подмораживали) три недели слишком. При С. Р. и С. Д. работала «похоронная комиссия». А я то еще радовался, что эта революция (по началу) в мажоре. Меднотрубная, рвущая в клочья воздух марсельеза! Почти не слыхать было похоронного марша — и вот торжество революции — похороны. На улице: — «Ах, вы хотите мне испортить праздник». У русских похороны — праздник. «Два чувства равно близки нам и в них находит сердце, пищу: Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу».
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МОЩИ.
Вот и «мощи святые» у революции есть. Теперь революции надлежит разыскать святые останки предков своих и торжественно собрать в Пантеон. Уже ищут могилы. И найдут — от могилы остается вечный след.
ПЕСНИ.
Похороны под звуки марсельезы. Похороны слушать поучительнее, чем смотреть. «Надгробный плач и пенье…»
Марсельеза звучала, как ей и следует в металлическом звоне оркестровых труб. А когда начинали петь — совсем иначе. Марсельеза в русских словах делалась расплывчатой и вялой. И не потому что не умеют петь. — Русский язык не подходит к марсельезе. В русском языке с его нестойким ударением, с его длиннотами и певучестью, трудно найти достаточное число металлических слов с одним дыханием, оборванным на ударе ноги. А во французском языке все слова такие. Марсельеза ведь не что иное, как солдатская песня. Стремительность и бурнопламенность марсельезы родились от отца — согласно топота солдатских ног и матери — французского языка, где все слова, как фокс-терьеры, с обрубленными хвостами. Первая строчка с треском обрывается словом «патри». У нас на этом месте тянут в тексте, принятом рабочими: «Наро-о-о-д». «Патри» звучит сухо, как выстрел, веще и призывно, как удар в барабан. Русское «о-о-о» — крик, или стон боли. В русский текст марсельезу уложить невозможно. Марсельезу надо исполнять оркестром.
* * *
Петь хочется. А все наши традиционные революционные песни тесно примыкают к похоронному маршу. И раньше, когда революцию только отпевать приходилось, то очень хорошо у нас выходило. Идем за гробом и тянем торжественно: — «Ввы жжертвою ппали вв бборьбе рроковой». А теперь бы надо гимн громоносный.
У нас в казарме просто: сколько надо, столько и ввели в текст добавочных, хотя бы и бессмысленных слогов: «Хорошая моя, чернявая моя, раскудря-кудря-кудря-раскудрява голова». Композитору, который захочет написать гимн победоносной революционной армии, надо поваляться на казарменных нарах. Вечером, после «зори» убаюкать себя в колыбели «серых дьяволов».
Бурный вздох, пушечный удар, вопль восторга, рев пропеллера, взрыв, крик исступленного горя, московский звон дайте нам в революционном гимне. И чтобы было так же крепко и мужественно, как «aux armes citoyens», а не по-бабьи мягко «Оружьем на солнце сверкая». Оружье разит, а не сверкает.
* * *
На могилу Марсова Поля пришли чуть ли не тайком (хотя и открыто) попы из церкви Воскресения на Крови и отпели погребенных. Те самые, что приставлены оплакивать 1-ое марта. Так, конечно, будет покрепче. А то — «без церковного пенья, без ладона, без всего, чем могила крепка». Попы пришли и отпели. Но ведь эту могилу по другому укрепляли. Гробы ставили на цементное основание и залили в бетон. Пройдут тысячелетия. Самое имя «Россия» сотрется из памяти людской. Придут на берега «пустынных волн» незнаемые люди и, копая землю для жилища, наткнутся на каменный массив, разобьют его и что же: внутри — гроба, а в гробах — нетленные тела убиенных. Ведь герметически закупорено!
Этой могилы никто осквернить не посмеет. Казненных в 1907–08 годах хоронили на местах «бесчестных». Кое-где просто бросали в ямы с нечистотами на свалках. Лев Толстой за это и не пожелал себе могилы с попами. Если попы допустили такое, не кричали, не вопили — им это не простится. И на могилу Толстого по просьбе графини приходил какой то поп и служил, и кадил. Да не пахнет! Могила без креста — русская революция.
* * *
Родзянко думал сделать на царя впечатление телеграммой, что Кремль и «могилы ваших предков» в руках народа. То-есть мистическая угроза осквернением могил. Но его предки в Петропавловской крепости. Потому он и не обеспокоился.
* * *
Надо вернуться в казарму. Доктор говорит: — «Потерпите». — Чего ждать — все равно, полным человеком я никогда не буду.
12 апреля. Ехать в вагоне первого класса (положим, я еду во втором), хоть бы и без билета (у меня солдатский билет) — мое право: в скором поезде. Пусть кто угодно и что угодно кричит. Здесь теперь не теснее, чем во вшивой казарме. И удобств не менее, чем в окопной землянке. Я тоже человек с высшим образованием, но не выставляю напоказ значка. Вы заплатили? Они тоже заплатили потом и кровью. Непорядок? Так это вы к тем адресуйтесь, кто распустил на отдых миллион солдат и не подумал о том, как их доставить домой. Солдат не будет тянуться тысячу верст десять дней, когда и отпуск-то всего три недели. Дезертиры? Ну, это еще вопрос, кто тут дезертир, кто нет. Какое я имею право? Да то право, что я, худо хорошо ли, а глянул смерти в глаза. А вы «на оборону работаете!» Что на крыше пляшут и не слезая сверху «оправляются» — это уж нехорошо. Но это оттого, что мы то с вами в теплом (даже чересчур) вагоне, а каково им там на ветру ночью. Особенно на ходу.
Вы знаете, какую нас в первую голову песню петь учили в казарме? — Кадровая песня: «Мы три года прослужили, ни о чем мы не тужили. Стал четвертый наставать — стали думать и гадать. Стали думать и гадать, как нам службицу кончать. — Отца с матерью видать, с молодой женой поспать». Он три года со вшами чай пил, а вы его бычьей скоростью везти хотите. Да, что мы волы что ли…
* * *
Молодой человек в хаки и высоких сапогах. На рукаве — зеленая повязка с белыми буквами: «В. К.». Солдат почесался, встает с дивана: — «Вы, товарищ, в военном комитете?» Неопределенно: — «Да, я в комитете работаю». — «Садитесь, будьте добрый. В ногах правды нет». В. К. садится. — «В каком комитете то, товарищ?» — «В земском.» — «А что же буквы?» — «Это значит „военный корреспондент“». — «Та-ак!» — Недолгое молчание. — «Ну, я устал, дай-кось я посижу. В ногах правды нет».
Надо принять свободу со всей ее теснотой. Тесно стало многим оттого, что всем стало свободнее. Простор для инициативы, энергии, труда. Вот для чего пришла свобода. А кто думает, что ему еще какую то «свободу» или «волю» дадут, тот свою долю проморгает, ибо почин и труд не ждут. Работать. Работать. Работать.
Работа от рабства ведется. А мы только вырвались. Дайте хоть денек погулять!
* * *
Офицеры, хмурые на платформе с чемоданчиками. «До-свидания, счастливо оставаться!» Какой то думал-думал, и как в трамвай, на ходу вскочил, повис на площадке вагона. Сверху десять рук: «Давайте чемодан, товарищ.» И как репку выдернули, втащили офицера через окно в вагон.
Дверь — предрассудок. «Кабы было все равно так бы лазили в окно». Вот и лазим. Барыня едет с нами. Как нужно ей — мы ее осторожненько на руках из окна на платформу спускаем. Повизгивает, но не то, чтобы уж очень не нравилось. Лазить в окно — стало все равно. Кавалер с крыши подмигивает: — «Вы нам ее на крышу подайте.» — «У ней дети!» — «Коли дети, можно…»
Ветер веет веще и таинственно, как бывало. Где то подтаяло, в глубине души. Смотрю на встречу ветру и улыбаюсь прошумевшему мимо саду полустанка. В первый раз всем сердцем говорю революции. — Да.
* * *
15 апреля. Над входом в казарму все та же игрушечная каланча, а на каланче висит, как прежде, красный флаг с номером полка. Но внутри не то. Распустили колченогих и чахоточных, и на нарах куда просторнее стало. Или разбежались и здоровые? Кто ж остался? С января не было ни «черных», вновь мобилизованных, ни на фронт не посылали пополнений — а в казарме вижу много новых лиц. Должно быть произошла перетасовка. Кадровые все на местах — им война иль мир, еще по два, по три года службы. Молодежи как-будто больше стало. На нарах просторно — спишь и не чувствуешь локтем товарища. Клозеты запущены и воздух нестерпимый, нельзя закрывать окон. Днем шумно и бестолково. Занятий нет. Кормят получше, но хлеб плохой, сырой.
* * *
Лежу на том же месте головой к окну. Так же горит тусклая лампа. Только нет на своем месте дежурного, который бывало покрикивал: «Курить в корридоре не позволю, пожалуйте в кабинет задумчивости». Курит, кто хочет, прямо на нарах. От табака сизо. Уж двенадцать пробил пожарный. И все еще приходят солдаты с бабами — все парами. Баба в казарме — это уж не казарма.
Утром. Бабы с чайниками в затылок к кубу, а их кавалеры или мужья еще на нарах полеживают, покуривают: времена настали! На лестнице (на площадке) — корыто, и баба с упоением стирает солдатские портки.
Коротин себе уголок отгородил, где шкаф раздатчика стоит. Занавесился со своей бабой (все та же «приблудная») пологом. — «Не на народе ж миловаться». — «А как же другие?» — «Так то законные супруги». — «И ты выходи за него замуж. Он возьмет». — «Женится-то женится. Да мне на кой сдался солдат. Мне бы теперь какого сорокалетнего да побогаче…»
ЧЕРНЫЙ ХОД.
Я и не подозревал, что в прошлом году все мы ходили в казарму с черного хода. В марте открыли парадный ход прямо с площади. А я все тогда клепал на нелепого строителя. Чтобы попасть в казарму, нам приходилось сначала спускаться вниз в подвал, а потом уж вверх по узким и крутым ступеням. На площадке первого марша и есть те парадные двери, которые открыла революция. Они были забиты и заставлены с тех пор, как из казармы ушли гусары в начале войны. Так тридцать месяцев и таскались с черного крыльца. Десятки тысяч прошли эту казарму по черному крыльцу. Усталые, разбитые после занятий — и лезь зачем то лишний марш вниз, чтобы потом подняться лишний марш вверх… И тут, в мелочи — характерное презрение к солдату, к «святой, серой скотинке» по выражению генерала Драгомирова. Мы сами виноваты, что не видели парадного крыльца? Ведь и я не подозревал. Да и не до того было. Ведь я даже казармы с того фасада ни разу не видал.
Если хотели победы, надо было широко распахнуть двери казармы вместе с манифестом о войне…
Над черным ходом и есть полковая каланча и красный флаг.
* * *
Митинг эвакуированных. Не успевают ведра с водой таскать к ораторской трибуне: ораторы ужасно потеют и их мучит жажда. В чем дело? Эвакуированные — ни за что на фронт, и если беспристрастно разобраться, они правы. Иные из них третий год в серой шинели. Зиму отсидели в окопах все. Болели цынгой, тифом, были ранены. А в тыловых казармах сколько угодно здоровенных ерников, которые и не нюхали пороха. Их в первую голову и послать. — Да они не обучены! Как же не обучены — полгода в казарме даром прожили, и мы же за них отдувайся. — Да вы опытные, на фронте были, а их кадровые мальчишки, из учебных команд выпущенные, обучали. Дали учителей, поротых в учебных командах!
* * *
Наш ротный. Три почти года гулял в тылу. 2-го марта его подстрелил кто то. Кто-нибудь из эвакуированных, а может быть и особый взвод. Его не любили за то, что он только на плацу и прогуливался, а в роте его никогда не видали.
* * *
Занятия невозможны, потому что опрокинулись основы обучения. «Словесность», над которой всегда издевались, была хотя и убогой, но философией солдата. «Солдат есть слуга государя». Нет господина, нет и его слуги. Отечество на митингах взято под сомнение. Когда говорят, что теперь главное для казармы защищать революцию, для чего на фронт не надо, — то это очень уютно укладывается в головах. А потаенные противники революции (их немало в казарме) затаились и никуда: ни на фронт, ни в лагери, ни на занятия, ни домой. Стоят на митингах и слушают, прищурясь. И со всем согласны.
* * *
Винят сочинивших приказ номер первый. Да он сюда и не дошел. Его и не читали. И про декларацию прав солдата большинство только на митинге слыхало. Но все чуть-что на нее ссылаются — «и прикусил язык».
Красное знамя что такое? — великий символ свободы, а здесь хорошо, если знамя бунта. Чувство личного достоинства? Откуда?! Ведь как учили. «Для чего дана солдату лопата?» — «Чтобы делать упор для ружья и укрытие для себя». И попробуй ответить — сначала укрытие для себя — ни за что. Сначала упор для ружья. Вопреки здравому смыслу и инстинкту животному. Если солдат под огнем неприятеля в атаке окапывается, то что ему служит стимулом, что его должно заставлять закапываться с злобной энергией? Да, конечно, самосохранение, простой и здоровый инстинкт животного. Вот когда он окопался, то и используется укрытием, как упором для ружья. Евангелист Щенков на этом пункте не один десяток совратил. — «Если ты себя не укроешь, кто же будет стрелять? Ведь без тебя ружье — мертвая палка. Убьют тебя, если ты сначала для себя укрытие не сделаешь». И хоть все это понимали, но на словесности отвечали по правилу: сначала упор.
* * *
Военный министр поднимался на «колбасе» и решил наступление… Он не может подняться даже на такую высоту, чтобы не стать смешным. О, если бы можно расхохотаться! Но смех — равнодушие, а злоба душит.
Итак, с высоты полета колбасы — наступление возможно. Он по фронту «колбасой носится».
* * *
Школа прапорщиков полностью отказалась от производства в офицеры и уходит на фронт ударным батальоном. В этом хотят видеть подвиг. Просто из двух зол выбирают меньшее. Трусами их назвать — не повернется язык. Но в недостатке мужества их обвинить должно. Они больше смерти на фронте боятся соприкоснуться с революционной казармой. Их запугали казармой. Они тут муку принять боятся. Их ужасает, что офицеров переводят на ротный котел, требуют, чтобы они спали тут же на соломенном мату. Ведь прошли они эту школу и сами в полках. Чего же им бояться? Знают, что это не страшно. Страшно иное, — что нечего сказать, нечему научить. Приди в казарму и устрой так, чтобы по крайней мере муку не воровали и выпекали хлеб, а не свиной корм. И дай казарме, армии новую словесность, такую, чтобы солдат в ней был изображен не презренным рабом, а человеком.
* * *
На плацу, куда три полка собираются митинговать, майданчики вытоптали. Если с балкона смотреть, откуда речи произносятся, — все поле покрыто круглыми пятнышками, как веснушками лицо: все майданы. Отговорил митинг, — и по всему полю рассыплются кружками. Коротин на воле оказывается «юлальщиком» был. Смотрю сидит середь майдана, «юлу» на шесть номеров пускает и покрикивает точь-в-точь, как на Самокатах в ярмарке: — «На рубль рублем, на пятерку пятеркой отвечу». И ставят и рубли и пятерки. Трутся вокруг какие то штатские в бархатных тужурках и лаковых голенищах. На других майданах какие то затейливые машинки: шарик винтом вниз падает и катается по лункам с номерами. Картишки на разостланном носовом платке. У банкомета такое проворство в пальцах и столь оттопыренный большой палец левой руки, что в нем нельзя не признать сразу шулера или балаганного фокусника, что недалеко от того же. Да он и не скрывает. «Выйду из казармы, свою мельницу открою». Мельница — игорный притон. Ефрейтор Гавриков натло продулся. Говорю: — «Ну, как вам не стыдно с ним играть, — ведь явный шулер». — «Так что ж! Поймаем, — жив не будет. Шулеру тоже нельзя под ряд брать. Кому-кому да должен он дать карту». Вот какой нам маленький шанс нужен. С таким китайским мировоззрением нам Германия не страшна.
* * *
На митингах уже сознают (руководители), что казарме надо задать работу. Нельзя в одну дудку, что оберегать революцию. Надо указать цель и предмет. Кого бить, что разрушать. Иначе казарма сама пойдет искать, где же прячется контр-революция. И вижу трепет перед этой задачей. Ну, если вожди революции не решатся, не придумают, что нам делать и «умоют руки» — что тогда может произойти! —
* * *
На базаре. Смотрю издали — на землю брошен яркий зелено-синий шелковый платок и никто не поднимает. Подошел поближе. На земле, на каком то, надо думать, сладком пятне сплошь кишат зелено-голубые золотистые мухи. Трупные. И кишат, не взлетая, от того и кажется издали, что будто играет шелковым платком ветерок. И ведь сколько!
* * *
По ту сторону путей за вокзалом железной дороги — казенный винный склад. Подпрапорщик (контр-разведка) подал мысль, что надо поставить караул, так как он слыхал, что солдаты собираются «посмотреть» склад. Ставить ли караул? На митинге об этом спорили три часа. Познер сказал не речь, а фейерверк, как царское правительство спаивало народ. И все рукой с балкона в ту сторону, где склад. Процитировал даже какого то модерниста, что «Вино, смеясь, весь мир колышет». Как апплодировали! И единогласно решили поставить караул. Мне разводить. Гляжу, мои часовые винтовки и по большому чайнику на брата берут. Зачем? Смущенно, но грубо: — «Жарко, аль нет? — воды запасти». — «Довольно одного». Вечером принесли назад полон чайник спирта. — «Это не дело, говорю. Дайте-ка, я вылью, товарищи». — «Так даром мы что ли караулили». — «Перепьетесь». — «Зачем перепьемся. Продадим. Тут на триста рублей разводки сделать можно». — «Доложу комитету». — «Докладывай хоть чорту, хоть дьяволу». Кругом нас собрались и тянутся с кружками: — «Почем стакан?» Подошел ротный фельдшер: — «Не вздумайте сырой водой разводить». Звоню в штаб. Прошу больше караула не назначать к складу. Голос самого Познера: — «Как не назначать, да вы знаете, там толпа собирается». — «Толпы нет. Несколько солдат. Постоят и разойдутся». — «Нет, нет, надо, товарищ, послать взвод с винтовками». — «Позволю себе, товарищ, не выполнить этого приказания. Приезжайте и посмотрите сами, — никакой толпы. Запереть на ночь ворота и больше ничего». — «Я сейчас приеду». Через полчаса заезжает за мной на автомобиле. Садимся и едем. За нами солдаты гурьбой бегут. И со всего поля, как мы остановились у ворот склада, — играть бросили. Толпа собирается. Познер опять взывает к разуму и сознанию солдат. — «Товари!-Щи! Дайте мне честное слово, что вы сейчас разойдетесь по своим делам». — «Делов у нас немного». — «Наше дело маленькое: выпил да еще». — «Товари!-Щи! Товари!-Щи! Прошу вас не омрачайте светлого лика революции. Дайте мне честное слово». — «Даем! Ура!» — «Товари!-Щи! Я так высоко ценю ваше слово, что не поставлю тут никакого караула». — «Ура». — «Товари!-Щи! Расходитесь». Толпа выростала. Я Познеру потихоньку: — «Поедем. Зовите их на митинг». Но нас уже не слушали. Толпа колыхалась и кричала «ура». Шоффер пустил машину. Нам неохотно уступали дорогу. Стоя в автомобиле я вижу, что толпа раскачивается точно так, как раскачивается при песне взводный круг. Едем в штаб, перекоряемся с Познером: — «Что вы, товарищ наделали?» — «Почему я наделал, это вы наделали». — «Ах, что мы наделали!» — «Разве, говорю, можно требовать от толпы, чтобы она дала честное слово. Смешно!» — «Керенский же берет честное слово, что будут наступать». — «Так Керенский не к толпе обращается, а к определенной войсковой части». — «Все равно, такая же толпа». —
…Стреляли те самые, кто был в особом взводе. Самые надежные. Ядро осталось то же, что в декабре, да еще подобраны люди из молодых. Стреляли, как по подвижной мишени — тяжелые раскатистые залпы. В городе закрылись лавки. Солдаты на улицах срывают с офицеров погоны.
* * *
Врачебная комиссия из себя выходит. Каждый день несколько сот солдат, требующих отпуска по болезни. Много симулянтов. Нет, это не симулянты, от испуга войны, не «палечники», которые на фронте простреливают себе на левой руке один, два пальца, с рассчетом уйти, но сохранить трудоспособность. В казарме — измученные, измотанные люди, чтобы освободиться от службы, прибегают к приемам какого то болезненного изуверства, что ли. Не знаю, как сказать, — потому что мне неясен, темен источник их готовности принять эти мучения, когда, по всему опыту войны, на примере прошедших перед их глазами тысяч эвакуированных, они знают, что риск смерти на войне и риск инвалидности не так уж велик. И вот люди, пользуясь советами ротных фельдшеров и вольных знахарей военной медицины — то-есть болезней, перечисленных в расписании, превращаются в мучеников. Например, как на кол, в течение двух недель ежедневно садятся на коническую пивную бутылку, чем добиваются выпадения прямой кишки. Идут на какую-то сложную операцию с сухожилиями, от которой рука или нога останется недвижимой на всю жизнь. Выжигают на руках и ногах язвы каленым железом или расплавленным оловом и травят эти язвы для придания им типического вида какими то специями. Платят «за хороший совет» последние деньги… Сад пыток! Способность к терпению, к тупому презрению страдания такая, что с этими людьми на войне можно бы чудеса творить. Они сами наносят себе стигматы войны… Чем же лечить, чем остановить эту эпидемию? Война кончается, а безумие войны только начинает проростать. Доктора пытаются бороться легально, роются в уставах, устанавливают членовредительство, что влечет за собой кару, чтобы другим неповадно было.
* * *
Доктор Вашков застрелился. Его в комиссии избил симулянт. До революции за это симулянта повесили бы, а доктор Вашков все равно бы застрелился. Так вот и прибыль есть на счету противников смертной казни.
Если садятся на кол, то будут и казнить себя. Тысячами. А руки останутся чисты. И кто посмеет «благородных мечтателей» назвать палачами?!
Не уметь воспользоваться такой готовностью на муку — не верх ли это бездарности?
* * *
Потребовали из комитета на ту улицу. Садимся в мотор, едем. Зрелище. Почти перед каждым домом хвосты солдат. Солнце к полудню, а хвосты не убывают. Стояли с ночи — и не стыдятся белого дня. Из одного хвоста машут нам руками: сюда! В хвосте ропот; из-за того, что «задерживают», нас и вызвали. «Товари!-Щи. В чем дело?» — Несколько солдат выбежало к нашей машине из хвоста. А там перебегают на их места. Те увидали — назад. Ругань. Свалка… Пытаюсь пройти в дом. Но сени битком набиты пьяными потными солдатами, не пройти. — «Валяй, товарищ, через задний ход. Тут не пройдешь». Иду во двор, провожаемый насмешками и криками: — «Чтобы всех баб в городе реквизовать, а то мы и комитет… в…».
Через кухонный ход спускаюсь в полуподвал. Оттуда истерический крик и визги. Открыл дверь. Баба с растрепанными космами, в исполосованной красной рубахе. Вопит и с нечеловеческой силой возит за собой по корридору четверых солдат, ухвативших ее за руки. Падают и свиваются в ворчащий клубок. Я, не поняв в чем дело, кричу: — «Товари!-Щи! Что вы?! Остановитесь!» Выхватываю браунинг и стреляю в потолок — раз, два, три. Девки, что с воплями толкались кругом, разбежались. — «Давай полотенце. Вяжи ей руки». Солдат вытирает разбитый нос и, взглянув на повязку у меня на рукаве, докладывает: — «Она, товарищ, жизни хотела решиться. Ножик отняли». Баба, связанная, лежит на полу. Глаза закатила и ногами дрыгает, как саранча.
Они ей жизнь спасли. С улицы на мои выстрелы — крики и звон разбитого стекла. В дверь бьют сапогами. Напирают…
Жизнь спасли, а она брыкается, как пойманная «кобылка».
* * *
На нарах со мной рядом — новенький. Прапорщик Ефремов. Пришел на полковой митинг и со слезами (совсем мальчик) сорвал с себя погоны, кинул о земь: не желаю быть офицером, буду, говорит, с вами, товарищи, делить как брат с братом и горе и радости. — «Радости-то мало. Разве — мир!» Из задних рядов злорадно: — «Ага, защемили… барину». — «Что-ж, хлебни горячего до слез». — «А жалованье как-же?» — «И жалованья брать не будет». — «Дурак!» — Вот этот дурак — буржуй и примазался ко мне. И на меня тень бросил. Лежим на нарах, говорим меж себя, а откуда-нибудь с полатей: — «Чего шепчетесь, буржуи». — «А ты, товарищ…………..».
Прапорщик ко мне потому обратился: — «Хотя вы, по внешности судя, и купец, но повидимому — человек более или менее интеллигентный. Хоть словом перекинуться». И, дивное дело, — он меня этими словами, как мальчика задел, и я тотчас ему с задором стал свою «интеллигентность» показывать. — «Гимназию кончил?» — «Да!» — «Из студенческой роты?» — «Да». — «Школу прапорщиков кончил». — «Ну?» — «Так как же ты, пащенок, смеешь так говорить: „словом перекинуться“. Да тебя и словам то разным для того учили, чтобы ты ими не перекидывался, как игрушками, а вон им передал самые настоящие слова». Обиженно, как девушка на двусмысленный намек: — «Я не понимаю вас, товарищ». — «И понимать нечего. Слова настоящие нужны. А если твоих слов не понимают, то выкинь их — слова твои — дрянь». Вижу, что он от меня легонько отодвигается. Вот она сила словесности: лежа плечами пожал. Ведь из романов научился «плечами пожимать». И на нарах в недоумении пожал плечами. Живого места у них нет. — «В футбол в гимназии играл?» — «Нет». — «Напрасно». — «Почему?» — Вижу в глазах детскую обиду и говорю: — «Милый мальчик». Совсем рассердился. Помню и я также обижался, когда мне говорили некстати «молодой человек». Какой он мальчик — он муж, мужчина ускоренного выпуска. — «Волконского читал?.» Радостно: — «Это который Далькроз?..» — «Тот самый. Помните у него о его прадеде Раевском в бою при Дашковке?..» — Не помню. — «Напрасно!» — «Почему?» — А потому, что это прямо вас касается. При Дашковке Раевский повел в бой четырнадцатилетнего сына. А через три года этот мальчишка в офицерском мундире был в Париже. Его в театр не хотели пустить, потому что в партер детям нельзя. А он ответил стихами: «Ie suis jeune, il est vrai, mais aux ames bien nees la valeur n'attend point le nombre des années». И публика потребовала, чтобы его пустили в театр. — «Мне двадцать первый». — «Значит, вы маменькин сынок, если в двадцать лет слюни распускаете. Что вы думаете, тогда не было вшей? Не было сифилиса? Ужаса не было? Женщин не …… до смерти? Все было. И было прекрасное». «Ничего прекрасного я не вижу». — «Значит, вы рождены неладно. Плохо-ли то, что вы на митинге плакали?» — «Я не плакал». — «И то, что слез своих сам не заметил — разве это не прекрасно? И то, что тут лежите. Или это из трусости?» Глаза его загорелись. Наконец, он обиделся, как мужчина. — «Власти над ними не бойтесь». — «Я за тем сюда и пришел, а не попрощаться».
* * *
В городском сквере солдаты валяются на газоне. Почему же нет? В Англии это очень принято. Это только в крепостной России газон зеленое пятно для глаз. Зачем солдат распоясанный? Распущенность! Но позвольте: в цейхгаузе ни одной летней гимнастерки. Жарко. В баню не водят. Распоясаться — немножко продувает. И полегче. Если не будут водить в баню, начнется вторая революция. «Долой свободу и вшей» — будет ее лозунгом. И блохи. Сколько блох! — Я на бульваре видел вчера даму. Она сидела на скамье под солнцем, спустив с плеч белую кофточку. И подставила плечи солнцу. И грудь обнажена до половины. Плечи загорели: видно, она не в первый раз берет тут в общественном саду солнечную ванну. Распущенность? Нет. У ней может быть «верхушечный процесс в легких», а может ли она теперь поехать на курорт, в санаторию? Да все санатории забиты паразитами войны, которые имеют возможность платить по тысяче рублей в месяц только за одни стены. Что-же, ей умирать? Да «начхать» и на ваши приличия. Жизнь дороже. Зачем солдаты шатаются по городу без дела? А можно ли без дела быть в казарме? Вот я сейчас без дела лежу на нарах, и по мне как по трупу ползают мухи. И от мух почернел потолок. Дайте солдату дело. Дайте.
* * *
До хрипоты доказывали в «Иско», что надо полки вывести из города, а то мы сопреем в казарме, как сопрели шинели на интендантском складе. Шерсть в могиле сто лет не тлеет, а тут сопрела в год, пропитанная потом и кровью. В лагери — ни за что. Надо оберегать революцию. Да ведь мы то и есть революция. Себя надо сберечь для революции. Ни за что. «Сначала упор», а потом «укрытие»!
* * *
Ходил за город. Хлеба уже сереют. Чекана кричит, словно кто серебряные рубли считает. Ни жаворонки, ни чекана не думают о том, кому будет принадлежать земля, по которой я иду. И стежка, поросшая кашкой и цепкой травой, не боится землемера с цепью, что он сдвинет стежку вправо или влево. И на новом месте она поростет той же травой и медом будет пахнуть. Таков же и мужик. Это не мужики волнуются о земельном вопросе. Мужик знает, что земля будет его, что бы ни решали в «искосовах» и даже в учредительном собрании. Будет небо, солнце, земля и вырастет колос. Это не деревня, а город спорит о земле. Помещики, в сущности, давно горожане, бегство началось задолго до 19 февраля и завершилось в 1905 г. То, что земельные собственники — горожане и дает силу революционным партиям. Собрали в казарму мужиков. Аграрный вопрос в городе решится, а не в деревне. Раз деревня захватила города, тем самым она и землей овладела. Большевики тоже напрасно за немедленный мир. Распустите деревню по домам — и от революционных партий только пух полетит. А мужику все равно. Земля от него никуда не уйдет. И от земли не уйдешь.
Пробовал «делиться» своими аграрными мечтаниями с Саватеевым. У него хуторок в Донской области. «Нет, говорит, не так. Партии около помещиков кормятся. Помещик трясется над землей. А какой-нибудь хлюст, который и родился то на шестом этаже. А он себя наяривает. Книжки пишет, и прокламации. А помещик в испуге, что у него землю отымут. Вот он и начинает того хлюста обрабатывать, смягчать, чтобы не так „резко“, да не „сразу“, да хоть с „выкупом“, да хоть в „личную собственность“».
СОРНАЯ ТРАВА.
Можем ли мы положить оружие? Мирная ли мы нация? В нас единая душа живет — душа сорной травы. Наш хлеб ржаной — отец наш родной. Рожь ведь сорная трава, занесенная на дикий север с зерном благородной пшеницы. Пшеница вырождалась на северных полях, и постепенно вытеснила ее сорная трава полей Эдема — рожь. Хлеб на севере постепенно серел и стал черным. Тысячелетия шли. И так постепенно, что и старики не могли рассказать. Белый хлеб то мы знаем. Но сорное, ржаное, в каждой русской душе. Лев Толстой куст дикого татарника (чертополох) среди «мертвого» распаханного поля прославил… Мужицкое поле есть наш исторический компромисс: пусть с хлебом и куколь, и василек, и полынь, и лебеда — всякая божья трава. Мы сами дикая трава в мире. Нас топчут, косят, жгут. Но мы возьмем верх. Сорные травы, спросите хозяина, самые воинственные травы. Нужны ли нам заботы разумного хозяина? Мы и так зальем собой Европу… «Худую траву из поля вон». Вот о чем разговор: быть ли России в культурном поле или в залежь итти?
Еще раз, и в последний, вероятно, раз, мир спрашивает Россию: — «Война или мир?» Толстой поставил перед нами вопрос нынешней войны, а для себя лично не мог решить вопроса до предсмертного часа. Такие вопросы разрешаются поступками. И Россия сейчас в предсмертном раздумьи: мертвое поле культуры или запустение дикой свободы. Мы могли бы стать авангардом Азии: опрокинув Германию, прожечь ее насквозь и обратить Запад в поле, поросшее быльем. Пусть отдохнет изнасилованная земля. По чернобыльнику и через сто лет узнаешь, что тут было жилье. Копни землю: мусор, черепки… Вот беда: от культуры семена остаются в земле. В культуре есть та же неистребимая сила дикой травы. Венера Милосская — одно зернышко. Пролежало под спудом чуть не тысячу лет, а дали прорасти — как размножилась… В культуре нет полноты. Тут я не додумываю до конца. Я так же не доношу ложку разума до рта, как тот солдат в лазарете. Он из оскуделой деревни. Три поколения голодали. И я ведь русский человек, голодный умственно, не больше. А мой отец и дед — чем они, боже мой, питались!
* * *
5 июля. Россия — вольная помесь с татарщиной. На гранях России, для защиты могил — всегда полурусские, полутатары: то запорожцы, то донцы, то уральцы, забайкальцы. И кто бы ни кокетничал с исламом, пусть Вильгельм окутывает каску чалмой, — только мы в союзе кровном с исламом.
* * *
12 июля. Иду по Большой улице. Справа штаб, куда мне на собрание. Доктор Катунский (меньшевик) делает доклад о необходимости обороны. Слева — городской собор — ударили ко всенощной. Еще издали (окна в штабе распахнуты) — всплески оживленных женских голосов, рукоплесканий. Затрезвонили. И вижу окна поспешно закрывают, сердито захлопывают. Эта варварская музыка колоколов мешает слушать. Мгновение — хотелось повернуть не направо, а налево к паперти собора. Прошел — прямо по улице, через старинные триумфальные ворота на вокзал. На вокзале сор, сутолока, грязные солдаты… Хочется убежать, умчаться. От себя не убежишь. И никуда не убежишь от страшного взора Медузы. Надо пойти ей навстречу и отрубить голову…
На доктора Катунского (похож на Христа, только с лысинкой) с восхищением смотрит не одна пара лучистых глаз. Он им представляется в военном его пафосе прямо Персеем. Я ему завидую. Не потому, что лучистые глаза. Завидно этой способности опьяняться от капли вина в стакане воды. Он и в самом деле переживает то, что — Персей, раз на него смотрит десяток Андромед. А мне нужна мозоль на ладони от рукоятки меча, которым рубить голову Медузы — жилистая, дьявол!
* * *
15 июля. Веселые дома прикрыли. Положение девушек стало невыносимым, а увеличить их штат нет никакой возможности. «Лучше на фронт уйдем.» Хозяева домов собирались (образовали «искобар») и пришли к заключению, что товара нет в виду высоких цен на женский труд. Познер шутя: — «Это нарушение декларации прав солдата.» Пророк запретил воинам пить вино, а гурии обещаны за победу. Запрещение вина с войной было в духе ислама. Сказалось азиатское. Если бы тогда же догадались повсюду истребить публичные дома. Проституция в главном — порождение казармы. Собирая и держа в мирное время людей в пору возмужания, правительства сами себя только через жертву женщин оберегали от ярости солдат. Поэтому и поощрялось. А во время войны надо было закрыть. И чудовищно было держать в городах столько людей. Здешние…… испытали восстание, которое могло опрокинуться на все население. Целую улицу разгромили. Девушек взялись устроить дамы-патронессы. Их разжалобил доктор Гравировский, напечатав, что было в эти дни в домах. Баб из казарм вымели, чтобы никому не было завидно. У Коротина сорвали в его углу полог. Бедная, как она плакала, прощаясь! И пропала. Коротин ходит презлой и раза два намахивался «съездить» Тафтахуллина за то, что бак после обеда грязно вычищен.
* * *
…полк разгромил ночью летний сад «Аполло». Били мужчин. Певичек не тронули. Они подняли такой возбуждающий визг, что пришлось на солдат вызвать пожарную трубу для охлаждения. И тут солдаты правы: потушить красные фонари по всей земле. Восьмая рота вечером забрала винтовки и патроны и ушла из города. Шли и песни пели. Куда? Кончать войну? Да она еще только начинается, быть может. Тяжко, немыслимо тянуть. Нужен один только удар. То краткое сверхсильное напряжение, на что мы мастера. «Мри душа неделю — царствуй один день». Восьмую роту вернули. Ловить ездили с пулеметами. Оказывается они искали в имении контрреволюцию. Перепились, трех баб… ………. Пошли было дальше — куда глаза глядят.
* * *
Нет, они не чужды России и не подкупленные Германией. Не счастие революции, что они боятся руководиться одним разумом, а хотят из ложно толкуемого демократизма не только опираться на массы, проявляя их интегральную волю, но и «быть в духе народа». Считается со времен расцвета народничества, что русскому народу правда всего дороже. Вот революция и провозглашает справедливость во всем. А казарма за три года войны видела столько несправедливости, что уже не правды жаждет, а хочет в океане невероятной лжи и неправды найти опору, чтобы поступать тоже несправедливо. Око за око, зуб за зуб. Казарму, армию и страну три года грабили с наглой откровенностью, раздевали открыто. Открыто потому, что если молчала патриотствуя печать, то не молчала молва. Грабеж был виден и ощущаем каждым солдатом.
В казарменном сознании это изречение опрокинулось: довести несправедливость до последних степеней, так ее обобщить, что из всеобщего потока и разграбления как-нибудь быть может и правда выйдет. Недаром в день начала войны, молодые, только что произведенные офицеры пели с таким увлечением про Стеньку Разина. И вообще это любимая песня русская последних лет… Вот и разграбляются постепенно цейхгаузы и интендантские склады. И уж теперь грабят не поставщики, работающие на оборону, а «искограбы», немедленно выделенные казармой, как только революция позволила каждому открыть свое лицо. Всенародное ополчение, значит и жуликов в нем столько, сколько полагается по статистике. Казарменное жулье и организовалось в «искограбы». Казарма грабит сама себя. Это безумно. Но что поделать, если только так можно поставить открыто правду, что стране уже нечем оплачивать военные цены, что нечем обогреть, накормить и одеть солдата. Мы еще можем это сделать, но какой ценой: всеобщим голодом и нищетой.
* * *
Пополнили армию арестованными городовыми, урядниками, жандармами, ворами, выпущенными из тюрем, назвали эту армию революционной и ведут ее в наступление.
И теперь опять: всех кадровых, что укрывались в тылу — на фронт Во имя справедливости. Ловят дезертиров и ими пополняют революционную армию… как будто в дезертирах армия-то и нуждается. Да разве это можно, — посылать в армию людей, явно лишенных государственной чести, носивших военный мундир в мирное время, а в начале войны попрятавшихся в тылу! Если попрятались — дрянь. Разве эти духовные гермафродиты пойдут в бой?! Да в русской женщине в тысячу раз больше мужества, (чем в том отвратительном типе полумужчины, который, к сожалению, нередок среди русских в наше время): они и мундир то носили из-за его нарядности.
* * *
Казарме в утешение дают учителями георгиевских кавалеров. Учить поздно. И кавалеров мы видали! Никаким особым обаянием они казарму не обворожили. Опять забывают, что — народное ополчение, а не армия. А теперь — революционное и даже, как думают, республиканское. Да! Армия в массе не дрогнула в момент переворота и потому есть основание ее считать такой. Но если существует революционно-республиканское ополчение в двенадцать миллионов человек, и все несут равные тяготы, то надо понять, что не отличий оно жаждет, и не справедливости, а распространения на всех несправедливости войны. А вы нам кавалеров даете.
* * *
Сизов ставит винтовку в пирамиду: — «Эх, жена, уж и надоела ты мне.» До сего дня он и спал с винтовкой. Коротин подошел к пирамиде, открыл затвор у сизовской винтовки: — «Что ж ты… ставишь ружье и затвор не открыл.» — «Виноват, товарищ.»
* * *
На нарах все больше народу. Одним митинги надоели, другие проигрались в конец, третьи больны от ханжи и любви. Четвертые просто «так» — казарма до смерти надоела…
* * *
В нашем ударном батальоне не будет героев. Все это, как и я, люди потрепанные жизнью и оглушенные войной. И главное: и казарма и война надоели до смерти. Дезертировать, — нет отваги. В дезертиры идут теперь люди с разбойничьей жилкой. Укрываться противно. Работать в казарме, что-нибудь для нее сделать невозможно. «Казарма» этой войны догнивает, и надо скорее ее очищать и обеззаразить. Это дело «хирургов». А я не хирург. Спасать революцию — глупо. Революция происходит и проходит. Погибнет старая Россия, в которой я жил и действовал — и от ее смерти возникнет в множественном сознании иная Россия. Что она иная, это я знаю. И надеюсь, что она мне казалась бы лучшей.
* * *
Война кончилась. Вижу намелочах. У нас думают, что массовую душу можно открыть голосованием на митинге. Мне больше говорит проходящий эшелон. Смотрите, как нагружены солдаты, какие они несут тяжелые мешки, вдобавок к сундучкам и казенным вещевым мешкам. Медно-красные сухие лица облиты лаком пота. Близки к солнечному удару. Но не расстаются — прут. Шагают с надрывной спешкой. И вон на панели отставший от эшелона солдат, слабосильный, небольшого роста. Он несет небольшой, но видно тяжелый сундучок: быть может домой в деревню — боевые патроны, добывать землю и волю… Он несет свой тяжкий груз перебежками. Побежит, побежит, задохнется и с грохотом не ставит, а почти кидает сундучок на панель. Передохнет, схватит срыву другой рукой и опять побежит, побежит. Ноги у него, как у малолетней девчонки, которую послали по воду с непосильным ведром… Куда они идут?.. Наверное по маршруту, точно указанному в приказе. А если так, то им ничего не стоит догадаться и бросить весь свой груз. Устанут и сделают. И того солдатика освободят. Разберут патроны на руки. Чем нести на себе груз — в любом месте добыть можно…
Всеволод Иванов Пустыня Тууб-Коя
РАССКАЗ
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся об травы Тууб-Коя.
И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя — небо.
Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.
Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном, жалком цвете неба — есть ли на нем звезды.
И все же, через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь Уральские и иные степи, пробирался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.
Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет, — алебастровый девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не смогли потревожить его нежнейшей кожи, а он ни мало не млея гордился своими словесами и, особенно, способом своей агитации.
На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом осле, — Командор по кличке, имел Глушков «вполне исправный», по списку, «пулемет». На остальных — кинематографический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.
Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в ципках, а брюки он почему-то (от стыда) не подбирал и густая желтая пыль была в отворотах. Точно он нарочно насыпал туда песку.
Вытянувшись стоял он пред товарищем Омехиным и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.
— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.
— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.
— Несомненно победа, — ответил Глушков, и зубы его сверкнули белее алебастрового его лица.
— Тоды что ж, — сказал Омехин: — мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом… Показывай.
Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучные травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин.
Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».
— Поди так, про любовь?
— Преимущественно про любовь, товарищ.
— Зря. Тут надо про смерть.
— А мы подведем соответствующую структуру!
Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.
И отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:
— Разве что, подведем.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его, трухлявый лысый злодей, подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных — совсем к чорту бы развалился старый мир, — в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.
Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножем семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и по степному обычаю, сам Омехин, первый кусок сваренной «казы» пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейка.
— Вступаю под непосредственное ваше командование, — сказал Палейка быстро глотая кусок.
— Кушайте на здоровье, — ответил Омехин придвигая блюдо: — по поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе и я выходит — против.
— Зачем же? Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь? По моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать, фигурально или в пример аллегорий, присосаться к шее на всю жизнь и пить.
— Не одобряю, — возразил Омехин.
Он хотел было спросить о происхождении Палейка, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.
Всадники вспрыгнули на коней.
Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргиз, от страха старавшихся прямо, по-русски, держаться в седлах. Сказали они, что ак-рус, люди с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада и бии — старшины собираются резать джаташников.
— Мы сами джатак, — сказали они: — пусти нас, мы по вольной тропе пришли.
«Джатак — значит бедняк», — самому себе перевел Глушков: — «необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать…»
Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.
Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки и не вернулись.
Отряд умчался в степь.
В долине Кайги, подле запасных табунов, остались сторожа, пустые палатки; три пасущихся подле саксаулов ослика; и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.
Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутомимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:
— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?
Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычным для него матерком добавил:
— Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.
Тогда же:
На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней отряда.
Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По чолку утонула в груди человека конская нога!
Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.
Крупным песком заносится конец здешней жизни.
Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:
— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.
От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:
— Пленных не брать.
— Так точно, — прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту: — так точно: пленных не брать.
В битве, подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвилли, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвилли.
Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.
— Расстрелять, — сказал, не глядя на пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, он не курил всю ночь и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем шашку.
— Товарищ…
Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейка и он даже поклонился:
— Благодарю вас, товарищ.
Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:
— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат…
Палейка опять зашарил спички.
— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.
Тот тряхнул головой и Палейка тоже наклонил голову.
— И жену… тоже можно расстрелять.
— Можно, — подтвердил Омехин, — и тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.
Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц и также уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, также уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, также смело блистали ледники Тууб-Коя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
— Допросили? Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строят дома: горшок тверже. Знает свое дело.
Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.
Он вынимал тогда один из платков и если приходила нужда — нос туда вкладывал, словно перстень.
Так и тут, он потянул палец за платком, галифэ его заняли весь камень.
— Допросили, Максим Семеныч? — переспросил Омехин.
Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.
— Допросить-то я допросил. Однако, должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвилли. Зовут Еленой и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с Ургой.
И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянучий жар прошел от губ к ушам, упал на шею и ему показалось, что он пятится.
— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.
— Очень рад. У вас связи с городом не имеется, если препроводить…
Чудак Палейка, песенная синяя твоя душа!
Омехин подошел к ветхой, словно истолченной, киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу. «Чорт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь!» «А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь весь накраснелся, кровью налился! Надо и другим!..» «Пу-усти, лайша». Испитой, бледный, как его старая, потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепко-телыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон, ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар. «Я совсем немного, братишки, одним глазком, — умолял хилый парень. — Дай ка, ну-у!..» Другой, тонкий вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких, круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия: «Ай, что за женчин!.. Все только пундрится и мундрится!..» Столпившиеся захохотали: «Неуж еще пундрится? Вот, стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хош бы што.» «Полька она!» «Може и еврейка, только белая!» «А муж генерал, говорят. Его не поймали!» «Ха, что ей муж, его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот чорт баба, в штанах, с ножом, а рожа крашеная!..» Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу, толкаясь к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая пробитая пулями шинель треснула и фалда повисла до земли. Он не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся растрепанный ворох.
Омехин, давно недовольно наблюдавший за партизанами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.
— Обожди, не муха. Чего ползешь! Где караул? Ну отойди, говорят.
Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.
— Сплошь пундрит, — сипло продохнул кто-то позади.
Омехин, обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.
Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.
— Куда вы смотрите-то.
— А ты пониже, пониже, брат.
Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее длинная, узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна.
На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая, плоская, голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск.
Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза или ресницы хватали до бровей.
— Ссс… скоты!..
Скорее свистнула, чем произнесла она.
Лицо бледное, выжженое, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наезничьи, разбежистые. Такой водяной мохнатый паучок несется по воде его сонных степных озер. Лапки, словно иголки, и паучка зовут — «мзя».
Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное молниеносное насекомое.
На его плечо, по-дружески, но крепко, легла рука Палейка. Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.
— Допросили?
— Собираюсь, — ответил Омехин.
— Может препроводить ее при письме? Часть нежелательным возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?
Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:
— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем… Да тут лавочка, дальше коробки с пудрой не двинется. Да… Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу, — повторил Омехин.
Голоса не громкие, не дальше сжатых губ, короткого дыханья, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стене мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно неудивительно будет, если переданное ей тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.
— Я вам не сопутствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения, мне необходимо было бы знать тоже из первых рук.
Палейка вдруг круто, по-военному, повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.
Омехин крикнул уже вслед ему:
— Обождите, Максим… Надо выяснить, чего недоразуметь.
— Верите ли… бродят…
Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.
— В лесу надо поговорить, — через плечо сказал ему Палейка.
— В лесу?
— В лесу. Здесь неудобно.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.
«Хорошее место для могилы» — подумал он.
Палейка, не по-солдатски, широко размахивая руками шел далеко впереди.
Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон, так называются пять верст.
Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы, как палатки, в которых спит смерть.
Одни ледники разорвали желтое небо.
Ледники холодом своим смеются над пустыней.
К горам что ли он идет?
Не дойдешь, брат, в такой тоске.
…Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит, без того сухие, губы. Птица у меня на родине, в Лебяжье, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые и я все-таки недалеко ушел со своей тоской!..
Палейка обессиленный повалился грудью на землю.
Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. «Теплый дождь», — подумал с неудовольствием кустарник.
Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые как трава саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.
— «Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а» — хотел сказать он и, как всегда при речах, потер было о земь и согнул правую ступню.
— Бывает, — только и промолвил он.
И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. «Юхтач» называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.
Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.
Он повернул потную голову к Омехину и сказал:
— Пали.
Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку и Омехин прошептал:
— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?
— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.
— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.
— Пали! Считаю до двух. Кто убьет, тому — баба. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.
Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать… и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:
— Считай.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Женщина лежала на лавке подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в теплушку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.
— Я закричу. Что вам?..
Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок. Оглянулся куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала.
— Стойте так.
Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и открыв голубую коробочку, не глядя на Палейка неподвижно светившего ей, стала пудриться.
Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть, чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.
— Теперь хорошо.
Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейка. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и еще притянув к носу зеркальце тронула рукой грудь Палейка.
— Отойдите дальше.
Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей словно пчела, отступил назад.
В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить ее — но губы ссохлись.
Она опять села и положила зеркальце на колени.
— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз. Вам чего собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.
Она ненадолго задумалась. Опять, словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя — «мзя».
— Я хотела после себя оставить…
— Мне?
— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить… я их люблю!
Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.
«Хитра», — со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.
И он сказал басом:
— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?
— Вот смешно! Это очень серьезно…
— Неужели на меня нельзя расчитывать в смысле легкой, предположим, помощи? Мы, в крайнем случае, где-нибудь и попа наскребем.
— Помощь? Фи! И притом… надо же понимать. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да вот еще что, разрешите мне причесаться к завтрему, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.
Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.
Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и не давая ей опомниться поймал ее руки.
— В помощи? Да. Фу, гадость какая, только подумать… Уходите! И вы еще прикасались ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые… Как окурки…
Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.
Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами пронзительно крича:
— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю, и незачем зеркало бить!
Она бросилась на нары, подогнув под себя колени и уткнувшись головой в папаху зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.
— Ишь, чорт, — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше. — Ишь, чорт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.
Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейка. И любви такой песенной больше не будет. Капут.
— Я его оставлю?
Женщина молчала.
— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как по некоторым соображениям предлагаю отложить ваш расстрел.
— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок!
Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и плотно захлопнув дверь строго сказал двум часовым-татарам:
— Смотреть в оба, потому что, стерва.
Татарин только сплюнул через уголок губ.
— Знаем.
Он поднял винтовку и сплюнул еще:
— Все знаем, солай.
Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.
— Каково?
— Ничего.
— Говорили?
Палейка, высоко взметая пушистые брови, напряженно захохотал.
— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно?..
— Конечно.
— Сволочь, бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день… Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.
— Какая-ж возня? Отправим по месту назначения.
— А вы как, товарищ Палейка?
— Побаловался и будет.
— Да… будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.
— Да, везет, — вздохнул Палейка.
Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Деревянная койка была жестче седла. У посланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин ворочаясь бормотал:
— Швы… вши…
Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но…
— Лешак те дери таку жись, сидишь, как вошь на сковороде — и жирно и жрать нечево. Бабу бы по такой жизни.
«Военком рядом за стенкой спит уже. Как боров храпит, наверное?..»
Омехин прислушался.
«И дыханья совсем нет. Значит, доволен!»
— А ну его, сдался он мне.
Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег накрывшись одной полой шинели. Духота, как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут… И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице… А тут патруль! Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота… пауза… похоть… пахтанье… похоть…
Со скуки читал он словарик иностранных слов, а слова там все были русские. Иностранные — напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.
Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет, словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь, словно каждый день пасха.
Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.
— Пойду, посмотрю караул!
Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.
Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне, там никогда не узнаешь эхо.
Омехин запнулся о порог.
Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках, за лагерем, выли приставшие собаки.
— Тише. Ну-у!.
Кофтанистый партизан схватил его за руку и со смехом указывая на троих татар громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:
— Ты на них посмотри… Ты на эти рожи. Хотел, ка-а!..
— Чего тут, парни, а?
В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей наверное было стыдно видеть себя плачущей и потому она визжала непереносно высоким голоском:
— Изверги, палачи! Стаей хотят… Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!
Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:
— Ну?
Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.
— Баба нету. Четыре месяц терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, надо нам мало-мало прижимат. Он…
Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.
— Он нож — пщак сюда начал меня резать. Пошто нам нету баб?
Кофтоносец даже взвизгнул.
— Эта рожа, браток, смотри эта рожа. Бабу ему надо. Терпи, курва, терпи так, как революция тебя терпит. А?
И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.
— Они для страха в воздух, уф… Припереть ее чтоб!
— Запереть ее, — сказал Омехин с раздражением: — запереть наглухо и… Ты покарауль пока, — указал он кофтоносцу.
Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте и видно было их, казалось, за десять сажен от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.
Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлый ветер чуть шевелил полы шинелей.
— Поскольку, — сказал Омехин глядя на камень. Свеча нагорела и не находилось дурака снять нагар и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение: — поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попускательство не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд, — я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание акредитивов на анархические выходки, — часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой… чем и загладить свою вину. Иначе, к чорту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?
— Нет, — ответил Палейка.
Все также глядя в камень Омехин сказал татарам:
— Приговорены условно к расстрелу. Ступай по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?
Татары вдруг взялись за руки и отступили.
— Ну?
— Э, понял, Лексе Петрович, э… — И сутулый татарин низко, почти до земли, поклонился. — Э…
— Осмелюсь доложить, — сказал Палейка, — могли не понять. Может разъяснить им?
— Какие там разъяснения, если о пощаде не просят? Ясно.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на каром иноходце Палейки мчалась сбоку трех, видимо она, Елена Канашвилли.
Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле вытащив длинные сухие ноги по кошме и глядел с раздражением как Палейка выбирал в табуне лошадь.
— Каки события предпринимаешь, — крикнул он ему: — плохо видно с бабой спал, раз утекла. Плохо видно присосался.
Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт и Палейка выехал на неоседланной лошади.
— Ка-мандер! Без седла ехать хочешь. Не овод. Дать ему седло!
Татары подхватили Палейка.
— Дарю тебе на счастье свое седло, — сказал Омехин: — а коня не дам, прозеваешь.
Вслед за Палейкой помчалось еще шесть всадников.
Палейка метался один, без дорог, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня, тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.
Он словно бежал в догоню за скрывшимися, и в то же время, словно скакал от Омехина.
Но всетаки, на крутой горной тропе, подле горы Айголь, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:
— Они уж, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.
Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четыреугольные, тупые и скучные.
На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы, они увидали труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.
— Тоже баба понадобилась, — не слезая с лошади сказал Омехин: — Я думаю отказался с ними в горы дальше итти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому, закопать его, а то волки сожрут.
Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин, надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.
И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня — рядом.
Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:
— Стрелят пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пуля азрак — азрак капут. Он говорит, бежим убьет, все равно расстрел. Каши говорит: бежим, Закия говорит: бежим, все равно камисар расстреляет. Ха, куда свой полки убежит татарин! Ха!.. Закия баба нет. Закия баран! Закия мне в башку расстрелял, как ево баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.
— Да, — сказал Омехин подбирая свои повода: — кончится скоро. И, верно, не поняли, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.
Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.
— Условно — значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели от того, что хорошие ребятишки.
Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко приподымая пухлые губы она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.
Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди на каменистой тропке, лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.
В него было всажено, в спину, в шею и в голову, четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.
— Это баба стреляла, — сказал Омехин.
Дальше уже шел след одного коня.
Омехин посмотрел в горы. Куст окончился и обнажился голый камень. Высоко, где то в снегах, серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.
Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.
— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но бог даст поймам когда нибудь ее.
Позади его в спину он услышал шопот Палейка:
— Товарищ, вы заметили, у последнего то в руках волосы ее.
— Ну?
— Он, ведь, был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить…
Омехин осадил коня, поровнялся с Палейка и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.
— Ну, а если даже и за волосы? За волосы таких баб бить надо, а не помирать из-за них.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла он забормотал:
— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может она ему жена, может сестра… или польский шпион. Не спал я с ней и ничего не было и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.
— Ну?
— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она…
Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:
— Увезла?
Сухие скулы Палейка опотели, повод скользнул и он соврал:
— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папиросы!
Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.
— А ну ее, — сказал он лениво: — Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко.
А к двери мазанки, там где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый песенный мадьярский платок Палейка.
— Так, — проговорил Омехин задумчиво, — глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок: — так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.
Отъехав немного он остановился, посмотрел на Палейка, покачал головой и вдруг спрыгнув с лошади пошел пешком к палатке. Какой то проходивший партизан подхватил повод его коня.
Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.
Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь непереносно душной и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.
Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь и потому все ему казалось почему то соленым. Виски тучнели и тьма ночи была непереносно тягучей.
Под ногами, казалось, сыпались, сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали и один из них скинул в поток горсть горных орехов.
Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета и здесь он услышал заглушенный топот.
Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шопотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.
— Палейка, ты! — окрикнул его Омехин.
Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:
— Я.
— Подними голову выше. Я тебе покажу куда надо бегать!
Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.
Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.
Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейка. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.
Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собой платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:
— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви?
— Нельзя ее досмотреть, — ответил ему секретарь.
— Пошто же я не могу ее досмотреть?
— Оттого, что две недели назад уже, как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы как известно были задраны волками, за отсутствием стадности и наблюдения.
— Две недели?
— Так точно.
— Ишь ты жизнь то как идет. Жизнь идет прямо… — но не докончил как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.
Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.
Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить!
И все же, через гайдучьи травы, через пески, откуда от Тюмени, через Уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина, пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.
Андрей Соболь Когда цветет вишня
РАССКАЗ
I.
Бумажные цветы.
Город мерз, коробился и застывал, как брюква, вышвырнутая за окно.
С утра до утра висел над городом сизый туман, — покрывало, сотканное морозными стежками в перемежку с белесым дыханием приплюснутых труб.
И было все, как вчера, как пять, десять дней тому назад.
В партере гомозились полушубки, шинели, кожаные куртки на меху, будоражные папахи кренились то влево, то вправо — откуда лучше видать. В проходе вился мокрый снежный след: густо отпечатывали валенки, сапоги и бродни свой зимний шаг. Меж креслами натекали лужицы: всплакнув, оттаивали валенки в ожидании тепла, света и музыки, чтоб опять уйти в ночь, в снег, в темень, потонуть в сугробах.
На мраморной выщербленной стойке театрального буфета ледяными слезами слезились на двух блюдцах конфетки-монпасишки, скулил позеленевший самовар, исходя морковной немочью.
За кулисами Эскамильо дул в посиневшие кулаки, Хозе сговаривался с губнаробразом о концерте во «Дворце Коммуны». Губнаробраз, оперный покровитель, сам флейтист-любитель, обещал полпуда пшена и ордер на шапку с наушниками.
Стуча каблуками, бежала сверху из женского холодильника Кармен, — из-под арестантско-серой бекеши выбивался платок, пестрый, как майдан, ноги в туго натянутых красных чулках нетерпеливо и зябко ждали звонка: чулок о чулок терся.
И было все, как пятнадцать, двадцать дней тому назад, — бумажный цветок в волосах, бумажный цветок во рту, мреют мутные, точно госпитальные лампочки, и муть в голове и муть в глазах…
Но помни, Кармен: ты и сегодня должна смеяться и завлекать, плясать и ускользать сигарным дымком, потому что в честь тебя по медвежьи топают обмякшие валенки.
Кармен, скорее бумажный цветок в копну буйных, черных волос, скорее цветок бумажный в измученный, усталый рот!
Потом, потом в своей холодной комнатушке на улице Карла Либкнехта ты плотно замкнешь его, зубы стиснешь и ничего не ответишь управделу Совнархоза, который несет к твоим красным нездешним чулкам свою управдельческую, смешную, здешнюю, с купонами на сливочное масло, с совнаркомским пайком, но такую пламенную любовь.
Ты не хочешь бумажной любви.
Ты так и сказала ему в воскресный, свободный от папок и ордеров, день, и опять плакал по исходящей управдел, — за каждую слезинку его расплачиваются потом лилово-губые машинистки.
И было все, как вчера.
Бумажный цветок целовал Хозе, пряча его на своей тенорской ячневой кашей попорченной груди, сигаретницы курили бумажные сигары и вихляли тощими бедрами.
И вдруг: стук в дверь женского холодильника и входит в уборную мохнатая бурка с башлыком малиновым, а поверх бурки, поверх башлыка (будто тоже театрального) такие знакомые — чьи, чьи? — непостижимо знакомые глаза.
И голос, — за далью лет как бы чужой, но каким-то своим, присущим оттенком близкий.
Только на одну минуту уйти в себя, одним мигом охватить: годы, Москву, Зиминский театр, эту неуклюжую каменную пустошь, доломан гусарский на углу Кузнецкого, письмо — мужское, напорное, настойчивое, как настойчив был гусарский наскок в антракте между двумя действиями — третье, пятое письмо и цветы, чуть вялые после оранжерейной холи, — снопы цветов в морозное московское с колокольным звоном праздничное утро.
И стремительно, безудержно всплеснулись, ринулись руки к мохнатой бурке:
— Сомов!
Слегка пригнувшись, бурка ответила сдавленно:
— Да, это я. Здравствуйте, Марина Петровна.
Преодолев жестяный насморк, трубы гремели во славу торреадора. Перебивая друг другу шаг, испуганно-суетливо проходили щупленькие молодые еврейчики — испанские пикадоры и бандерильеры — и, словно книжками по пути из библиотеки, помахивали деревянными копьями. В пустой уборной Кармен, перед гвоздем, где обычно висела ее бекеша, замер в отчаянии помощник режиссера. На полу валялся бумажный цветок — смятый, истерзанный.
II.
Государственная пиголица.
Горячо, с посвистом огневым пышет печурка в комнатушке на улице Карла Либкнехта.
Вздулись обои от неожиданного тепла, живая рябь пошла по мертвому зеркалу.
Пышет печурка второй день, кипит на ней кастрюлька с вином, плавится сахар, корица пряно просится в жаркую плавь, — два стакана рядом, два стакана звенят: пьет Кармен за новую жизнь.
Мохнатая бурка кинута на постель, на мохнатой бурке, в путанице черных завитков, вперемежку красные чулки, малиновый башлык, белая подушка: пестрядь, минутный привал, чтоб не жалко было потом покинуть его и, раздвинув оледеневший оскал города, пронестись в визге полозьев сквозь предвечернюю блеснь мимо безличных домов к заставе и дальше, — куда, куда?
Уронив голову на плечо Сомова, Марина полулежала в санях, раскинув руки.
Из под платка оренбургского, пухового (где только раздобыл его Сомов, чего только не приволокла мохнатая бурка) по ветру бились посеребренные пряди волос, бледным румянцем горели чуть смуглые щеки, едва шевелились полуопущенные ресницы.
А когда вдруг приоткрывались они, чтоб, поднявшись, вновь опуститься от сладкого бессилия, затуманенные глаза силились напоследок понять, осмыслить:
— Куда, куда ты меня везешь?
И никли: расстилался бескрайний белый плат снегов, под белым платом чудесно и сладостно не думать, не мыслить, не гадать.
Летела земля, летели пригорки, то вскочив с разбегу, то падая вниз, и тогда вместе с ними, стремглав, падало небо.
И блаженно улыбаясь, говорила Марина, чуть придушенно, как с просонья, от одного слова до друго замерев:
— Вези, вези, куда хочешь… Как хорошо… Будто крылья за спиной. Все равно, куда, но вези. Устала я. Пайки… зубной порошек вместо пудры, крысы в уборной. Чудно: Миша Сомов и я. А я тебя отталкивала, над письмами твоими смеялась. Теперь ты посмеешься… Я голодная государственная… пиголица. От прежнего только песни… И то не те. Согреешь, накормишь и бросишь. Скажи, бросишь? Ты кто: краском? Жулик? Или комиссар очень важный? Все равно… Все равно… Сладко… дух захватывает… Вези, вези, куда хочешь.
Тянулся, тянулся белый, неведомый, неведомо-белый путь.
На рассвете проснулась Марина: серел вокзал, озябшими собаками лаяли натужно одинокие паровозные гудки. Молча повел Сомов Марину рельсовыми разулочьями. Догорали скупые, припавшие вплотную к земле, редкие огни плоских сигнальных фонарей, мычали быки в хвосте застрявшего воинского эшелона, вокруг двух-трех жиденьких костров переминались, точно стреноженные, сонные красноармейцы, сумрачно выползали из снежно-мутной каши пакгаузы, будки.
В нетопленном искалеченном миксте Сомов сказал Марине:
— Жди меня. Я скоро вернусь. Будут спрашивать — запомни: никакого Сомова нет, зовут меня Валико, а по фамилии Цавашвили. Я грузин и ты грузинка-жена. Но ты больна и не встаешь.
— Хорошо, — покорно ответила Марина и легла на бархатные лохмотья.
Точно капли с колодезного сруба падали в пустоту и в пустоте исчезали минуты, часы.
Холод, затохоль, окно в купе застлано, зимний заслон повис сверху до низу, — все, как в уборной театра имени Луначарского: и стужа прежняя, и прежний запашек нежилого квадрата, и те же елочки на стекле, и если подышать на них и в причудливой вязи дырочку просверлить дыханием прерывистым, беспокойным — что увидишь: новую смену старых декораций?
Падали капли…
— Театр, опять театр. — проговорила про себя Марина и крепко, до боли — туже, туже затянула на себе платок, сдавливая виски, щеки, губы…
Бекеша… вдоль истерзанного диванчика… под бекешей комок: и не шевелится.
Кармен, где твой бумажный цветок?
III.
Когда цветет вишня.
В вишневых садах тонул Белый-Крин, — оторвался от степи, махнул на нее рукой, на выжженные просторы ее и укромно укрылся под розовеющим навесом, трепетным, зыбким.
Христианские избы по трубы — по горло — ушли в розовеющую цветень, еврейские домишки более хлопотливые, вылезли тормошливо вперед.
И наказал атаман Дзюба, строго на строго, маузером подкрепляя, вишневые деревья беречь, на варку не рубить и евреев на них не вешать, а вешать на синагогальном дворе: ближе да скорее к ихнему богу, да и вишня не опоганится.
В степь, в никуда убегали евреи и натыкались на плотную цепь тачанок: звено к звену, тачанка к тачанке.
Под колесами, меж лошадиных ног, под тачанками разметались распластанно девичьи косы, женские парики — знак мужниной еврейки-жены — похожие на скальпы, валялись в навозе, белые, полосатые, серые юбки, исступленной схваткой раскромсанные, мокли в лошадиной моче. Расхлыстанный вопль сотни ртов, перекошенных, разодранных до ушей колким ужасом степного одиночества, прорвал, протаранил нерукотворное розовеющее плетенье.
И в это лето на дней десять раньше обычного стал опадать вишневый цвет.
Белый-Крин полюбился Дзюбе, — и в первый же день послал он Бужака, сотника, командира первой конной сотни, вороной, к Сосунцу, к правобережному, сказать, что летовать и зимовать будет в Белом-Крине, стены строить, становище крепить и что просит Сосунца и всю его братву к себе в гости, на новоселье, чайку выпить с дзюбинской молодой вишней, а потом сообща чесануть на Голту, на Вознесенск.
Бужак отнекивался, просил взамен другого послать, а его оставить: сотню свою подтянуть, ибо стали вороные слишком волеваться, не слушаясь командира.
Но прикрикнул Дзюба — и понуро вышел Бужак из хаты.
А когда возился с кобылой, подпругу ладил, потник примащивал — низко гнулся, чтоб дрожанье губ спрятать: щерилась верхняя губа, нетерпеливо ерзали зубы, точно перемалывали, изголодавшиеся, долгожданную пищу.
И стиснул их Бужак и разгрыз ехидно-злую усмешку, а хвостик усмешечки ускользнул и, увиливая, заиграл под короткой щетиной жестких солдатских усов.
Для себя Дзюба занял докторский флигелек, домик раввина отвели первым трем сотникам: штаб, аптеку — фельдшеру, беглецу из красных рядов, под лазарет, а синагогу под командирских любимцев-коней, — у амвона заржал серебристый в яблоках жеребец Дзюбы, «Могильщик», в сафьяновых ногавках, во дворе висели рядом старичек-доктор, аптекарь, раввин и синагогальный служка.
Немного погодя привели еще десятка два евреев, молодых, — «большевиков», вешали с пристрастием: сперва били култышками по детородным местам, потом заставляли целовать икону и отказываться от коммуны.
В квартиру доктора нагнали баб-хохлушек: мыть полы, кипятком ошпаривать мебель — смывать жидовскую нечисть, чтоб мог атаман расположиться с своей женой на долгое и покойное житие.
На грани степи и Белого-Крина расступились дозорные тачанки: пропустить дзюбинскую рессорную карету.
На крыльце докторского домика враскоряку стоял Дзюба: ждал. Вздувались шарами синие широченные шаровары, алели крестики кривого шитого ворота косоворотки, лоснилась бритая с сизым налетом голова, породистый рот (будто с другого, с чужого лица снятый) наглухо замыкался. Близко стучали топоры: новую перекладину мастерили на синагогальном дворе.
Подкатила карета. Дзюба, покачиваясь, сошел вниз, дернул к себе дверцу, — взметнулась темная юбка, шелк зашуршал, мелькнули красные чулки, рванулся высокий желтый гребень из тугого узла черных волос.
И чулки, и переливы шелка сгреб Дзюба в охапку. Но гребень уперся в алые крестики:
— Отпусти! Ноги есть.
Дробь каблучков рассыпалась по крыльцу, дальше покатилась — в комнаты.
И дробный перебой смолк вместе со скрежетом ключа, дважды перевернутом в двери бывшего докторского кабинета.
Дзюба пхнул сапогом насторожившуюся дверь:
— Марина, не балуй.
Заколыхались синие шаровары.
— Марина, открой, — и обмякли, сплюснулись.
И слышно было, как за дверью полетели на пол туфли, гребень, как стукнуло окно закрываясь, как заскрипела кровать.
Поздно вечером Марина сползла с постели, распахнула окно и, обомлев, застыла у подоконника: не переставая, не умолкая, не затихая, одной длинной, длинной, ровной тягучей нотой плыл над Белым-Крином стоустый плач, — в степь, в безлюдь, в ночь гнали дзюбинцы уцелевших евреев.
В ночном трепете, в вишневых садах заколдованно ник Белый-Крин; за палисадниками из окон христианских мазанок ложились на зелень полосы света, — зыбкие, будто пряди туманные.
И падал дождь — дождь неторопливый из лепестков белых, преждевременно умирающих.
IV.
Из песни слов не выкинешь.
По утру сотники развели своих людей по домам покинутым. В полдень приступили к закладке крепостной стены, — десятки подвод затарахтели к северу, к ближайшей каменоломне. На базарной площади поп служил молебен. Дзюбинцы, почистившись, принарядившись, сомкнулись плечем к плечу и не шевелились, только мелькали трехперстные руки, сотники на своих местах командирски охорашивались, гудел колокол, Дзюба, пеший и строгий, стоял впереди и рядом Марина; янтарился под солнцем высокий гребень, Марина сутулилась, — глаза норовили к земле.
— Стой прямо, — хриплым шопотом кинул Дзюба. — На людях стоишь.
Марина выпрямилась, отхлынула кровь от лица, смуглота щек побледнела и будоража яркие разводы, в бахрому платка судорожно впились пальцы, ненавистью и яростью сведенные.
И этим же пальцам приказано было под вечер перебирать гитарные струны.
— Не буду петь. Ни для тебя, ни для твоих негодяев, — сказала Марина и отшвырнула гитару.
Жалуясь протяжным стоном, упала гитара, горестно распластались ленты, словно косы оскорбленной женщины.
Дзюба нагнулся за гитарой. Долго поднимал ее, долго, — не велика будто тяжесть, а набухал, багровел бритый затылок.
А когда Дзюба разогнулся, было лицо его белее белого чесучевого праздничного бешмета.
И побелевшее, уже нечеловеческое лицо вплотную придвинулось к другому, встало над ним, налегло на него, как налегли на отшатнувшиеся женские плечи тяжелые руки.
— Будешь петь. И плясать будешь.
Сузились плечи, чтоб… вскоре, налившись глухим бессилием безудержного гнева и отчаяния, округлиться, распрямиться, завертеться, закружиться в тесном кольце подрагивающих колен, прыгающих бород, разверстых ртов, взбухших колбас, распотрошенных окороков, липких барилок, потных рубах, шершавых рук, вонючих носогреек, жирных сапог, похотливых шаровар, опрокинутых чарок и взмокших усов.
Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, в эти минуты по степи скачет и тоже пьян, но другим, другим опьянением; девятый, Бужак, цепкими горстями пьет хмельную радость; девятый, Бужак, к заветным кострам несется, чтоб там рапортом коротким радость свою расплескать и тут же взять ее на цугундер, свернуть на послушание, как сворачиваются на послушание в час намеченный воинские шинели).
Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, тоже пьян, но другим, другим опьянением, — ищи, ищи-ка ветра в степи!), десятый, Дзюба, глаз с тебя не сводит.
Так глаз своих не сводил с тебя гусар Миша Сомов в первом ряду зиминского партера, когда ты лежала на коврике и гадала на картах, — напророчили тебе, нагадали тебе карты жуткую древнюю женскую русскую долю с санным путем, с разбойничьим посвистом, с виселицами и мукой ночной и жаркой постелью с опостылым.
Пой, Марина, потому что поздно уже, поздно плакать о том, что мохнатая бурка и малиновый башлык, в зимнюю вечернюю стужь тепло и чудо принесшие (а как хорошо было когда-то под этой буркой нежиться!), обернулись ненавистным белым бешметом и подлыми посеребренными пуговицами.
Кружит, кружит голову неуемная, бессильная ненависть… кружился, вертелся, извивался пестрый, как восточный базар, платок, бахромой мазал по волосатым губам, и тогда летела в сторону очередная табуретка и ярая рука, вынырнув из шаровар, пыталась схватить, поймать ускользающий живой волчок.
Два сотника, помоложе, расставив ноги, пригнувшись, остервенело тискали, мяли, дергали гармошки, и гармошки, точно девки, которым в кустах озорно груди ущемили, визжали с всклекотом. Издали из вишневых садов ответно отзывались другие гармошки, тренькали балалайки, неслись женские податливые гульливые смешки: дзюбинские хлопцы водили ночные свадьбы.
И в последний раз пристукнув каблуками, Марина, шатаясь, кинулась к двери; в спину, вдогонку понесся вой обманутых.
— Дзюба! — исходил слюной, перегаром и гнусаво скомканным криком сотник второй пешей сотни, безносый, плоскогубый, выструганный сифилисом Митнюк. — А с песнями как? Мать твою в воблу! Гостей надувать? Гостей не уважаешь?
Дзюба перебил дорогу Марине:
— Теперь пой! — и ухо ожег огневым, спиртом и страстью перевитым шопотом. — Мою любимую… из первого действия.
Марина прикрыла глаза, в стиснутых зубах свистело неукротимое дыхание.
— Дай гитару, — тихо проговорила она, не открывая глаз, а когда открыла, — обвела комнату исподлобным иссушенным взглядом и крикнула Дзюбе:
— Садись по середине.
Отметая все по пути, Дзюба расчищал место; на середину вколотил стул, уселся верхом, на спинку стула легли локти, а над локтями повисли, натекая, воспаленные глаза — две впадины, смолой облитые.
Гогоча, отходили сотники к стенке; детское любопытство пробивалось сквозь икоту и пьяную дурь.
Кошачьей повадкой метнулась Марина на середину, охаживая стул, белый бешмет, лакированные сапоги; в руках у нее истошно заныли первые переборы гитары, но тут же, нытье отшвырнув, обернулись лукавым перебором, — и взмыл поверху дразнящий, завлекающий, густой, словно из сот вытекающий, грудной, низко-глубокий голос:
Любовь свободна, мир чаруя…Дрогнули белые чесучевые локти…
Законов всех она сильней…В кругу кошачьих извивов душно бешмету. Все туже и туже круг… крепче, крепче надавливают локти спинку стула.
И потек голос, едко, угрожающе выговаривая:
Меня… ты любишь, я ненавижу, Так берегись…С треском разлетелась спинка стула.
И, рванув к себе Марину, подбросив ее на руках, смяв, скомкав, подбородком налегая на ее грудь, Дзюба прыгнул к двери — к докторскому кабинету, к постели.
— Ненавидишь? Ты так? Из песни слов… Ведьма… Не выкинешь. Ведьма… счастье мое… Кармен… Любовь моя…
На крыльце грохотали сапоги: спотыкаясь, чертыхаясь, воя от вожделения, сотники мчались к вишневым садам — искать горячую женскую плоть.
V.
Странный жид.
К концу недели вернулся Бужак.
Привез он согласие Сосунца и подарок: доложил Бужак, что следом идут подводы со спиртом; два винокуренных завода обчистил Сосунец на том берегу, завтра будут подводы тут как тут; под охраной едут боченки: ни утечки, ни усушки.
И еще привел с собой Бужак человека одного: встретил его в степи, тот спрашивал, как вернее к Белому-Крину добраться — для разговора одного, для дела одного.
— А кто он? — спросил Дзюба и мельком взглянул на Марину: скрючившись, Марина уткнулась в угол дивана (опять, опять спит, все спит да спит).
— Жид.
— Что? — хрипнул Дзюба и обернулся к двум сотникам, что были в комнате. — Поглядите на дуролома. Не подстрелил да еще сюда приволок.
Бужак ухмыльнулся:
— Да у него винтовка не хуже моей. И конь как будто ничего. И хорошо жидюга языком чешет. Поговорили едучи. Собой он как бы в роде дурачка. Позвать, что ли?
— Зови, — буркнул Дзюба и привстал, когда на пороге неторопливо, спокойно показался невысокого роста, под гребенку стриженный, с белокурой бородкой, худощавый человек, на ходу (так же неторопливо) снимая с плеча винтовку.
Блеснули очки.
— Очкастый! — по бабьи взвизгнул один из сотников и покатился.
Пришедший рассеянно поглядел на него и направился к Дзюбе, неподалеку от стола присел, прислонил винтовку, попробовал, не кренится ли она, снял очки, подул на стеклышко и только тогда повернулся к Дзюбе.
Дзюба, упираясь кулаками в стол, кривился и ждал. Повидимому чего-то ждал и пришедший.
Тогда Дзюба выдавил из себя натужно:
— Ну…
Пришедший снова снял очки, прищурился и негромко, но раздельно сказал:
— Renvoyez vos imbeciles.
На диване встрепенулся комок, развернулся: Марина приподнималась, жадно скользнув загоревшимся взглядом по лицу пришедшего, еще с большей жадностью впилась в Дзюбу.
Дзюба грудью налег на стол. Стол затрещал, навалился на пришедшего. Пришедший, не отодвигаясь, продолжал сидеть: старательно вытирал очки и рассеянно улыбался.
Дзюба нащупал на поясе револьвер, сгреб его и разжал пальцы и дрожь их припрятал за воротом рубахи (давит, давит ворот… жид проклятый… какой выговор французский… пристрелить, как собаку) и обратился к Бужаку, к сотникам, не глядя на них:
— Шкандыбайте, хлопцы. Я уж с ним поговорю — и невесело через силу рассмеялся.
Пришедший надел очки и обхватил колена сухими руками, острой бородкой поддавшись вперед:
— Теперь другое дело. Теперь мы можем поговорить.
Дзюба поглядел на Марину, та опустила голову, — упали руки, упала тень от ресниц на побледневшие щеки.
Пришедший поймал взгляд Дзюбы и проговорил:
— Мадам может остаться. Мадам не помешает нам, — и снова мелькнула рассеянная улыбка.
Марина покраснела, — в угол дивана обратно уполз комок, но уже трепещущий, ожидающий и потрясенный.
— Кто вы? Как вас зовут?.. — с усилием спросил Дзюба.
— Марат.
— Жидов с такими именами не бывает.
— Я анархист.
— Вы жид, — крикнул Дзюба. — Это по носу видно.
Марат поглядел на свои руки и вскинул глаза:
— Да, я был зачат евреем. В прошлом — меня звали Меерович. Но мир треснул. Меерович теперь пустой звук, клопиная шкурка. Марат — это труба, возвещающая новую эпоху. Марат — это осьминог великой идеи: восемь щупальцев вокруг всех частей света, сжать земной шар и как детский глобус опрокинуть его.
— Вы странный жид, — чуть мягче сказал Дзюба.
— Такой же, как вы украинский батько.
— Я повешу вас, — гаркнул Дзюба. — Я всех жидов вешаю.
— И это ваша задача? — раздумчиво проговорил Марат. — Я вам дам другую.
— Почему вы заговорили со мной по французски? Кто вам сказал, что я не…
Марат, как бы защищаясь от нападения, заслонился рукой;
— Не надо об этом.
— Что вам, наконец, нужно от меня? — грубо рванул его Дзюба за край пыльного френча.
Марат медленно освободил свой френч и сказал:
— Не надо лишних телодвижений. Мы одни и можно оставить пейзанские замашки. От вас? Все. Я пишу книгу об анархии. О новой, еще никому неведомой. Каждую строчку моей книги надо претворить в жизнь. Мои формулы должны обратиться в живоносные артерии. Мои формулы должны начать пульсировать. В них есть математика, но нет крови. Мои выводы нуждаются в проверке.
— А я вас все-таки повешу, — медленно сказал Дзюба. — Я ненавижу все: Россию, мужиков, книги, нашу дворянскую белую мразь, красных пророков из газетной подворотни, жидов, теории.
— И себя? — так же медленно спросил Марат.
— И себя — качнул Дзюба сизым костяком, направляясь к выходу и вдруг громко захохотал, шершаво, точно горло струпьями обросло: — Проверка? Будет проверка — и опрометью высунулся по пояс в окно, гаркнув бешенно: — Митька, подать мне «Могильщика». Живей!
И снова на диване встрепенулся комок: Марина вскочила на ноги, но уже шел Дзюба назад от окна, — и нехотя, грузно попятилась Марина.
Дзюба подошел к Марату и смерил его с ног до головы:
— Слушайте вы, тщедушный осьминог…
— Да, это правда… — улыбнулся Марат, и от этой полу-виноватой, полу-смущенной улыбки лицо его стало похожим на лицо самого обыкновенного еврея-экстерна, из тех, что когда-то сдавали латынь при округе и, пламенея, робко бормотали: rosa, rosae, rosis. — Я действительно ростом не вышел.
— Так вот… Пульсация формулы? Так вот: вы на коня, я на коня. Кругом Белого-Крина. Я обгоню — висеть вам, вон там, где уж висят у меня ваши родичи. Вы обгоните — не трону. И… и… и даже поговорим. Честно предупреждаю: мой конь зверь. По шерстке кличка: «Могильщик». Загонит вас в могилу. Идет?
Марат потеребил бородку, задумчиво обвел комнату ушедшим в себя взглядом, на короткий миг задержал его на Марине, — точно запнулся или что-то вспомнил и сказать хотел, увидав застывшее в скорби лицо, — и ответил:
— Хорошо. Я согласен. Это мной не предусмотрено было. Но это в роде иллюстрации к моему тезису о примате личности. В первой главе моей книги, раздел второй…
VI.
Мечта Анархии.
Гнедая кобылка, низкорослая, на привязи мирно пощипывала траву. Марат и Дзюба вышли на крыльцо. Позади, как бы собранная в один тугой узел, кралась Марина, при каждом движении Дзюбы осторожно откидывалась назад, чтоб снова и снова неотступно, по кошачьи, бесшумно продвигаться.
Дзюба глянул в сторону кобылки:
— Ваша? Как зовут?
Задорно, как почудилось Дзюбе, сверкнули очки:
— «Мечта Анархии».
Дзюба вспыхнул:
— Жидовская мечта. Дрянь кляча. Ей бы лапсердак вместо седла и зонтик взамен мундштука. А-а-а! — Дзюба всем корпусом выдвинулся вперед и жадно облизнул губы. — А-а-а, моего ведут, зверюгу мою.
Из-за угла вынырнула серебристая, вольно и гордо посаженная шея, серые яблоки покатились по крутым бокам, на поводу прыгал Митька-конюх, упираясь о землю голыми пятками, приближался Бужак, кое-где в одиночку показывались дзюбинцы. Гнедая кобылка очумело заметалась на привязи. И кинув напорное и ненасытное ржанье, «Могильщик» вырвался из рук Митьки, раскосил вмиг оплывшие кровью глаза и понесся, копытами отчеканивая звериное желание.
Дзюба ахнул, спрыгнул с крыльца и кинулся наперерез, но «Могильщик» отпрянул, приподнявшись в воздухе вычертил дугу и вкось пустил по ветру строптивую, вздыбленную гриву. Не рассчитав, Дзюба грохнулся о земь, — и как бы в злом упоении на крыльце всколыхнулся платок.
А когда близко, у самого крыльца мелькнул серебристо-матовый окатистый круп, Марат, так и не покидавший крыльца, слегка присел и сорвался с места. Горько и сдавленно вскрикнула Марина, и слабый крик ее потонул в цоканьи копыт, в облаке пыли.
Минуты через три в руках Марата «Могильщик» мелко задрожал от холки до хвоста, но уже покорный, послушный. Издали Бужак ухмылялся, — ухмылялся, уже не таясь, а потом быстро завернул за избы и вишневыми садами побежал к степи. Дзюба поднялся, подошел к «Могильщику» и плюнул ему в глаза.
— Отдать его обозным, — крикнул он Митьке и обернулся к Марату.
Марат, присев на корточки, сокрушенно шарил по траве: искал очки; беспомощно щурились на свету глаза в щелочках с краснотой, белокурая в пыли бородка свисала путанной мочалкой, с плеча полз к низу ободранный в схватке рукав.
— Вы свободны, — сумрачно процедил Дзюба, — и как недавно в комнате оглядел Марата с ног до головы. — Победитель вы жи… — и криво и скверно усмехнулся, — живописный.
И впервые за все время однотонное, будто всегда пеплом посыпанное лицо Марата изменилось: пошло вперемежку красными и сизыми пятнами, задрожали белесые веки.
И тихо и брезгливо он проговорил:
— Салдафон! Когда вы гарцевали на армейских попойках, я в прериях месяцами не слезал с седла и на земь не падал, — и не оглядываясь пошел к крыльцу.
Одним прыжком Дзюба настиг его, Марат уже заносил ногу на нижнюю ступеньку.
— Вон! — прохрипел Дзюба. — Уезжай немедленно. Я слово дал. Уезжай… Я за себя не ручаюсь.
— А наше дело? Как с ним? — и Марат повернулся к нему прежним — пепельным, спокойным лицом, на котором бродила, точно заблудившись раз навсегда, рассеянная, не то грустная, не то бесповоротно-безумная улыбка.
— О-о-о!.. — замотал Дзюба головой. — Тошный ты!..
А когда Марат уже сидел в седле и «Мечта Анархии», дожевывая клок травы, лениво-протестующе поводила мордой, — Марина, точно птица, у которой в неволи вдруг выросли крылья, сорвалась с крыльца и промчалась — птицей, птицей, почуявшей открытую дверцу клетки! — мимо Дзюбы, только платком задев его, к Марату, уже на ходу крича:
— Подождите, подождите.
И кричала, — спиной прижимаясь к ногам Марата, назад, через плечи свои, руки забрасывая, алчущими пальцами ловя помощь, надежду, защиту, а лицом пылающим к Дзюбе, глазами несытыми к Дзюбе, глазами ненавидящими к Дзюбе:
— Возьмите меня с собой… Я не жена ему. Зверь! Зверь! Увезите меня. Я полюблю вас… Зверь… Я уже вас…
Сдирая с себя ремень, словно полоску с живого трепещущего мяса, кромсая кобуру, Дзюба выхватил револьвер.
Сотни раз умирая тигрицей на всех театральных подмостках от Читы до Москвы и от Москвы до Житомира, в последний раз умирала Кармен на траве, неподалеку от виселиц, под вишнями Белого-Крина, умирала жалко и безнадежно, как безкрылая птица, как пиголица, подшибленная, смятая вихревой, огненной бурей.
Вечерело…
По степи ложились густые тени, словно плуг неведомый извлек из-под травы черные бархатные полосы и уложил их рядом, полосу за полосой. Все глубже и глубже уходило небо в высоту. Четко, чудесно и волнующе возник в глубине пояс Ориона.
Марат оглянулся — далеко позади расплывалась и таяла последняя вишневая купа Белого-Крина. Марат опустил поводья и поднял к горящему Поясу близорукие, подслеповатые, но широко, широко раскрытые глаза.
«Мечта Анархии» дернула мордой, удовлетворенно фыркнула и ущипнула влажную росную траву.
VII.
Одним словом…
Поздно ночью Митнюк рыскал по Белому-Крину, — шарил по вишневым садам, выуживал сотников из кустов, отрывал их от дебелых бабьих грудей, от разморенных молодух и волок их к атаману: всех сотников созывал Дзюба на спиртное раздолье, на остаточки (завтра новый спирт будет: едут сосунцовские бочки), на бражный разлив за упокой души новопреставленной.
Всех подобрал Митнюк, только Бужака не мог найти.
— Б-у-у-жа-ак! — долго надрывался в вишеньи гнусавый голос.
В ответ только тренькали балалайки, летела матерщина и уплывали из-под самых ног гульливые женские смешки.
И опять в докторском домике завоняли трубки, застучали жирные сапоги, запрыгали бороды, кроваво зазияли раздвинутые рты, запотнели рубахи, растопырились окорока и зазвенели кружки.
И опять Дзюба швырнул стул на середину, снова сел верхом, упершись локтями о спинку стула, и заклокотал, заревел, выкатив на белые локти бешенно-пьяные глаза, — две впадины, облитые смолой, кровью, сумасшедшей мукой:
— Марина, пляши!
И тут как тут на пороге, на свету зачернел Бужак, Митнюк, опрокидывая снедь, бутылки, потянулся к Бужаку через стол:
— Бужак… Стерва. Да я тебя шукал. Живем!
— Есть, — ухмыльнулся Бужак во весь рот. И внезапно, мигом посерел, подтянулся, шагнул к середине и, срываясь с голоса, крикнул:
— По приказу социальной и коммунальной революции… Мать вашу… Одним словом: ни с места! — и приставил маузер к бритому затылку Дзюбы.
В окна, в двери прыгали, лезли, скакали, напирали шинели.
Москва. Январь — июль. 1924 г.
Примечания
1
В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия — географически в разных материках.
(обратно)2
Выяснилось, что половина лесников безграмотны, Кузя шептал, голосуя, Егорушке: — «Ничего, выкурим!»
(обратно)3
Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: — «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелам, чтобы собрание Рабочкома не делали в воскресенье, потому, как гражданины самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймаешь, — а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией.»
(обратно)4
Товарищ Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого, — Сарычев обиделся на него, — говорил: — «…а если вы думаете, что Кадомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, — так он сам первый жулик, а которые фамилии были подписаны — так они люди странные, теперь уехали домой, на Ветлугу.» —
(обратно)


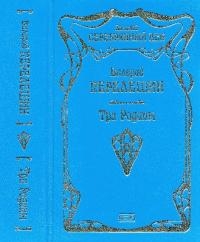


Комментарии к книге «Круг. Альманах артели писателей, книга 4», Александр Васильевич Ширяевец
Всего 0 комментариев