Светлана Кекова В ГЛУБИНЕ ВРЕМЁН
Шмель пирует в самой сердцевине
Розы четырёх координат.
Арсений Тарковский.* * *
Стрекозы, крыльями шурша, восходят вверх в струях эфира. да не пленят тебя, душа, парча и шёлк земного мира. Стволы дорических колонн, дожди и ласки проливные… Да не возьмут тебя в полон, душа моя, цари земные. Тебе предложен рай и ад, и лес в языческом убранстве, где роза трёх координат не умещается в пространстве. И ты не спи, душа моя, иди неведомой дорогой, и, мир на тень и свет двоя, устами уст его не трогай.Великие эпизоды из жизни пчёл
памяти Инны Лиснянской
1
…Адама охватило ликованье, когда он Книгу Бытия прочёл. Он ввёл в простую ткань существованья, а, может быть, и в ткань повествованья фрагмент из жизни медоносных пчёл. Предмет и слово были для Адама единой сутью. Он не различал двух планов жизни, двух её начал, тревожных и простых, как звук тамтама. Адам следил за тем, как из дупла таинственные пчёлы вылетали, рассматривал какие-то детали, которыми украшена пчела: вот усики, вот лапки, вот крыла, вот хоботок подвижный — и так дале. Роились непонятные слова вокруг Адама; жалили, жужжали, но каменные ждали их скрижали — там, на Синае, в глубине времён, где он, Адам, грехом своим пленённый, был смертным мёдом жизни опьянён…2
Как странно сотворён пчелиный рой! Он на роман похож или на повесть, где некий собирательный герой пыльцой цветов свою врачует совесть. Он пьёт нектар, как олимпийский бог, и чёрной не боится он работы, и душу, что отдал ему цветок, спокойно запечатывает в соты. Пчелиный рой, как некий рай, возрос в долине между Тигром и Евфратом, он жив работой восковых желёз, он распылён — и неделим, как атом. А в медоносном улье словаря живут слова — узоры и заря, гора и горе, зло, зола и злато, цветок и ветка, око и окно… И бездна, презирающая дно, вновь на Адама смотрит виновато.3
Мы спать хотим. Но кто из нас поймёт, когда и где мы собирали мёд — в оврагах, ямах, на местах открытых, с каких цветов — целебных, ядовитых, с подсолнухов, крапивы, чабреца? Мы спать хотим. На нас цветов пыльца. Мы спать хотим. Растёт сорочья пряжа, готовятся вьюнок и лебеда губить посевы. Сладкая поклажа пчеле бывает в тягость иногда. Мы спать хотим, но если мы уснём, то кровь Адама загустеет в венах. и кто ему шепнёт, что высыхает днём роса на перуанских хризантемах?4
Разоривший таинственный улей, на каких ты скрижалях прочёл, что сегодня навеки уснули в доме тысячи девственных пчёл? Расторопные слуги убиты… Кто их бедную честь защитит? Молодая царица без свиты над цветущей поляной летит. В эти дни мирового разлома как узнать мне — кто силой возьмёт все сокровища царского дома — воск, пыльцу, созревающий мёд?* * *
Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
Эккл. 9, 121
Ирине
Будем, знать, что прошлое отцвело. Будем прятать голову под крыло. Отсияв, отмучившись, отплясав, будем есть похлёбку, как ел Исав. Был Исав искуснейший зверолов, а Иаков был — человек шатра. Мы когда-то в детстве любили плов, веселились — я и моя сестра. Веселились — а надо бы нам кричать, призывать Тебя, чтобы Ты, Господь, положил на наши сердца печать и ржаного хлеба нам дал ломоть. И хотя я имя Твоё с утра призываю, и с Ним погружаюсь в сон, но похлёбку варит моя сестра, и в пустых полях высевает лён. И когда в лугах, на полях, в лесах голубые звёзды начнут цвести, я шепну с надеждой: «Смотри, Исав, как Иаков тебе говорит: „Прости!“»2
Настеньке
Задыхаясь, солнце во тьму спешит, нет земных морщин на его лице. А под ним колхидский цветёт самшит высоко в горах, на реке Цеце. Было время плакать и время петь, было время ночи — но вспыхнул свет. А вода, огонь, серебро и медь — это тлен и прах, суета сует. Знаю, слово мудрого — гвоздь, игла, ты к сухому дереву пригвождён. потому что смертная тень легла на любого, кто от жены рождён. Как же ты нам близок, Экклезиаст, ибо мы забыли давно о Том, Кто придёт и руку тебе подаст, Кто шеол и смерть победит Крестом. Наступает, видимо, время «икс». Ходит вечность в вывернутой дохе. И идёт форель по реке Курджипс, чтобы в сеть попасть на реке Пшехе.* * *
дочери Маше
Пережитки быта небогатого — деревянных домиков уют… Голуби на улочках Саратова крошки хлеба чёрствого клюют. Полон воздух запахами пьяными: месяц май взошёл на пьедестал. Праздник любования каштанами, словно день прозрения, настал. В книге жизни сбита рубрикация… Что осталось? Только ночь и день, жёлтая и белая акация, белая и сизая сирень. Пьёт японец крепкий чай без сахара, скучный, как роман Эжена Сю, и цветёт классическая сакура где-то там, на острове Хонсю.* * *
дочери Лене
…умирает осень, от ветра скрипит калитка, и цветёт на клумбе последняя маргаритка, и висит на ветке яблочко с червячком, повернувшись к солнцу мёрзлым своим бочком. Облака плывут, похожие на овечек. Появился в мире маленький человечек. Дома ждут младенца глаженые пелёнки, пузырёк зелёнки, и Лик именной иконки, и в углу лампадка, и маленькая кроватка, и грядущей жизни тайнопись и загадка…* * *
Саше Лобычеву
Болит у тополя голова — он будет листвой шуметь… И если всё же мои слова не олово и не медь, и если вправду мои стихи — признанье моей вины, и если будут мои грехи действительно прощены, то, значит, в будущем стану я потоком, текущим с гор, поскольку всё-таки жизнь моя не только словесный сор. Когда-нибудь — ты меня прости — я снова к тебе приду, я буду в зарослях слов цвести, как роза в чужом саду, я буду новые песни петь некстати и невпопад, и буду в воздухе я висеть, как ангел и водопад…




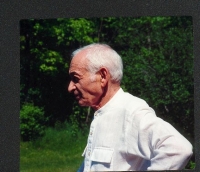

Комментарии к книге «В глубине времён», Светлана Васильевна Кекова
Всего 0 комментариев