Светлана Кекова «ТРИ ПАМЯТИ, ТРИ КРОВИ, ТРИ ЛЮБВИ…»
* * *
Стало время крещальной купелью, и теперь, через тысячу лет, вижу я над пустой колыбелью тихий, влажный, раздробленный свет. Наше прошлое было ошибкой, и теперь ты меня не зови — пусть мерцает над бедною зыбкой образок материнской любви.* * *
В предместьях Берлина звучала шарманка, в зелёной бутылке дымился боржом, и память моя, как консервная банка, была продырявлена ржавым ножом. Я вспомнила всё — и кораблик бумажный в ташкентском арыке и грецкий орех, и, с детства пропитанный звуками — влажный, отважный, прямой, упоительный грех. Был мир, как окно перед смертью, распахнут, и смутно я видела: где-то вдали резные фигуры набоковских шахмат в смешных сюртуках по обочине шли. Сквозь поздние слёзы (куда же их денешь), сквозь взрослую правду и детскую ложь ты видишь: уже ничего не изменишь и словом своим никого не спасёшь. Ты знаешь ли, сколько словесных жемчужин разбросано в мире под хохот и свист? Спроси у соседа: кому же он нужен — набоковский Лужин, слепой шахматист?* * *
Спят скелеты листьев в культурном слое. Пляшет куст лещины, как древний грек. Обрывая осень на полуслове, начинает сыпаться первый снег. Запотело утром воды зерцало, и портрет зимы отразился в нём. А совсем недавно листва мерцала, отливая золотом и огнём. Что же? Ливень листьев — не плод раздумий, отблистал на воле — и был таков. И лежит любовь среди юных мумий фараонов, ибисов и быков. Египтянин выйдет на волжский берег — пусть томится время в гробу пустом! Он поклон отвесит, и рыба жерех голубой ледок разобьёт хвостом.* * *
Три памяти, три крови, три любви: Одна тоскует в сердце юной девой, Другая смотрит грозной королевой И заставляет прихоти свои Нас исполнять. И мы, её рабы, В слезах целуем узкий след судьбы. Но третья приближается любовь, Она грозит тоской и самосудом, Пока ещё струит вторая кровь Ток благодати по больным сосудам. Блестит луна в седой её косе, Загадочна, как смерть, её природа, И месяцы — стальные оси года — Вращаются, как спицы в колесе.* * *
Мы таинственным даром владеем — И Орфей не спускается в ад. Но растениям, как лицедеям, Дан приказ начинать маскарад. В этом райском преддверии ада Раздевается клёнов толпа, Ты под льющийся вальс листопада Повторяешь нехитрые па. Всё невидимым солнцем согрето, Еле движется рыба в реке, Мир бредёт, как безумная Грета, С котелком и корзинкой в руке. А зима ухмыляется нагло, Приподняв подведённую бровь: «Воля к власти над словом ослабла И покинула душу любовь». И художник с кричащей палитрой, Тайно любящий краску одну, Как Орфей, не сумеет молитвой Усмирить ледяную волну. Но, небесному пению вторя, Где-то в жизни и в смерти иной, Лик блаженства с морщинами горя, Как светило, взойдёт надо мной.* * *
Осень приготовит нам коктейли: солнце, ветер, листьев вороха… Но уже сказал Владимир Вейдле: «Наступают сумерки стиха». Это значит, что цветок и птица дарят нам напрасные труды, что уже не может воплотиться солнце в капле дождевой воды. Только мы с тобою, как ни странно, спим без снов до самого утра, и летят созревшие каштаны в воды Иордана и Днепра.* * *
Всё в природе приходит в движение, и выходит в лесу на амвон иерей, запрещённый в служении — потерявший величие клён. Где восторг его, трепет, свечение? Где священной листвы ремесло? Золотое его облачение потемневшей водой унесло. Мы бы тоже заплакали, только ведь заключённая в теле душа всё твердит, что последняя проповедь несказанно была хороша.* * *
Смотрю в окно — выходит он, живущий в нашем околотке, горбун и ангел, фараон, гребец на похоронной лодке. Идёт по улице к реке. Вдали горы дымится кратер. Как губы в женском молоке, испачкан белой краской катер. Понятный, как немой укор, ты, рыцарь, не привыкший к латам, прилежно заведя мотор, поводишь вдруг плечом крылатым. Тут издаёт протяжный вой Анубис, раненный навылет… А над моею головой строгают, рубят, режут, пилят. Любовь, как муха в янтаре, сказавшись мёртвой и невинной, на Лысой прячется горе, на Соколовой, на Алтынной. И выступает кровь из пор, покуда, надвое расколот, спит у подножий мёртвых гор, с рекой обнявшись, вечный город.* * *
Татьяне Кан
Хлеб горячий саратовской выпечки, свет, летящий с небесных высот… Ходит ангел под липами в Липецке с длинным шлейфом сияющих нот. Отломи же хрустящую корочку, не томись непонятной виной — пусть под липами в платьях с оборочкой путешествует запах ржаной. Льются звуки, как ливень лирический,— вертикальное море судьбы, — только хор замирает сферический под архангельский голос трубы. Что за дни нам для радости выпали! Знаю я — где-то там, вдалеке, ходит ангел под бедными липами с остывающим хлебом в руке.* * *
Если всё живое лишь помарка…
О. Мандельштам Света нет. Перегорели пробки. Жду, что будет память коротка я, сидящий в спичечной коробке наподобье майского жука. Дрогнут крылья в теле полусонном. Мне прямого утешенья нет — я не знаю, по каким законам кафкианский строится сюжет. Если космос — тёмная пучина, Кафка — дилетант или профан, то в замочной скважине причина кроется, как змей Левиафан. Жёсткие надкрылья бесполезны для личинок нерождённых слов… Вставь железный ключ в источник бездны и сломай хитиновый покров.* * *
о. Игорю Цветкову
Среди странных взлётов и падений, в лунном свете с головы до пят, богомолы в виде привидений молча над полянами висят. Лишь один из них, лишённый крова, от себя и мира отрешён, силится обманутое слово натянуть на лоб, как капюшон. Но пока он к смысловой палитре добавляет краску или две, странный зверь в пирамидальной митре в разноцветной движется траве. И пока изгой из богомолов с именем нащупывает связь,— торжествует звука странный норов, жизнь проходит, плача и смеясь. И среди растений в виде свечек, ничего не видя впереди, засыпает навсегда кузнечик с маленькою арфой на груди.



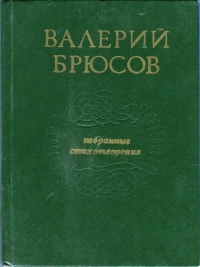


Комментарии к книге ««Три памяти, три крови, три любви…»», Светлана Васильевна Кекова
Всего 0 комментариев