Марина Ивановна Цветаева Стихотворения
Марина Цветаева: «я м<ожет> б<ыть> столь же чудовище как чудо»
1
Имя «Марина Цветаева» обманчиво. Уж очень оно поэтическое в том расхожем смысле слова, который подразумевает нечто сладкозвучное, напевное, красочное, исполненное грез и мечтаний, любовных томлений, вздохов при луне под пение птиц и в благоухании роз. Оно почти как псевдоним, придуманный специально, чтобы подписываться под строками:
Шепот сердца, уст дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья…Или:
Опять весна! Опять какой-то гений Мне шепчет незнакомые слова, И сердце жаждет новых песнопений, И в забытьи кружится голова…И даже:
Погасло дневное светило; На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан…[1]И, раскрывая том ее стихов, никак не ждешь прочесть:
Вскрыла жилы: неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки! Всякая тарелка будет – мелкой, Миска – плоской, Через край – и мимо — В землю черную, питать тростник. Невозвратно, неостановимо, Невосстановимо хлещет стих[2].Как удар электрического тока. Как звон пощечины. Как вызов Пушкина Дантесу.
Обманчивое имя.
«Марина Цветаева» – милая барышня, с розовым румянцем на щеках, с голубыми глазами, с пышным бантом и в платье с оборками?… Приветливо-стыдливый наклон головы, плавные движения рук, букет фиалок, неспешная походка; голос ровный, грудной, тихий; нежные пальцы изящно сжимают перо, кокетливым дамским почерком записывая строки, пришедшие на ум в ночной тиши; что-то шепчут нежные губы?…
Вовсе нет!
Современник пишет: «Марина Цветаева – статная, широкоплечая женщина с широко расставленными серо-зелеными глазами. Ее русые волосы коротко острижены, высокий лоб спрятан под челку. Темно-синее платье не модного, да и не старомодного, а самого что ни на есть простейшего покроя, напоминающего подрясник, туго стянуто в талии широким желтым ремнем. Через плечо перекинута желтая кожаная сумка вроде офицерской полевой или охотничьего патронташа – и в этой не женской сумке умещаются и сотни папирос, и клеенчатая тетрадь со стихами. Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей. Широкими мужскими шагами пересекает она Арбат и близлежащие переулки, выгребая правым плечом против ветра, дождя, вьюги, – не то монастырская послушница, не то только что мобилизованная сестра милосердия. Все ее существо горит поэтическим огнем, и он дает знать о себе в первый же час знакомства»[3]
Рассказывает дочь: «Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедра, тонка в талии…
Черты лица и контуры его были точны и четки: никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.
Две вертикальные бороздки разделяли русые брови…
Руки были крепкие, деятельные, трудовые…
Голос был девически высок, звонок, гибок.
Речь – сжата, реплики – формулы…
Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.
Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.
Курила: в России – папиросы, которые сама набивала, за границей – крепкие мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.
Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.
С природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности; поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала, что делать. Просто любоваться им не умела…
Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала – за их мускулистость и долговечность – плющ, вереск, дикий виноград, кустарники…
Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.
В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.
Считалась с юностью, чтила старость…
К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.
Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.
При всей своей скромности знала себе цену»[4].
И все же…
Свои первые сборники Марина Цветаева назвала вполне «поэтически» – «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».
В них были такие, посвященные воображаемому маленькому пажу стихи:
Этот крошка с душой безутешной Был рожден, чтобы рыцарем пасть За улыбку возлюбленной дамы. Но она находила потешной, Как наивные драмы, Эту детскую страсть…(I, 50)
И другие, памяти Нины Джавахи, героини популярного у девушек романа Лидии Чарской:
Всему внимая чутким ухом, – Так недоступна! Так нежна! — Она была лицом и духом Во всем джигитка и княжна…(I, 55)
И еще множество подобных, с характерными названиями: «Эльфочка в зале», «Сара в Версальском саду», «Наши царства», «Чародею», «Добрый колдун», «Потомок шведских королей», «Невеста мудрецов», «Из сказки в жизнь», «Мальчик с розой», «Принц и лебеди», «Жар-птица», «Призрак царевны», «Зимняя сказка», «Рождественская дама», «Белоснежка» и т. п.
А вот какой увидела Цветаеву современница: «Спешу к зеркалу поправить прическу. Увы! Зеркало занято! Я вижу в нем лицо незнакомой девушки в капоре. Она развязывает у подбородка ленты, рот ее крепко сжат, нежно-розовое лицо строго. Ленты развязаны, капор снят, и я вижу пышную шапку золотых ее тонких волос… Какое на ней платье! Я испытываю настоящий восторг!.. Необыкновенное! Восхитительное платье принцессы! Шелковое, коричнево-золотое. Широкая, пышная юбка до полу, а наверху густые сборки крепко обняли ее тонкую талию, старинный корсаж, у чуть острой шеи – камея. Это волшебная девушка из XVIII века…
Я не спускаю глаз с Марины Цветаевой. Под золотой шапкой волос я вижу овал ее лица, вверху широкий, книзу сужающийся, вижу тонкий нос с чуть заметной горбинкой и зеленоватые глаза ее, глаза волшебницы»[5].
Марина Цветаева – обманчивое имя?
Она и сама об этом задумывалась.
Кто создан из камня, кто создан из глины, — А я серебрюсь и сверкаю! Мне дело – измена, мне имя – Марина, Я – бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти — Тем гроб и надгробные плиты… – В купели морской крещена – и в полете Своем – непрестанно разбита! Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня – видишь кудри беспутные эти? — Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной – воскресаю! Да здравствует пена – веселая пена — Высокая пена морская!(I, 534)
Это стихотворение датировано 23 мая 1920 года. Цветаевой – двадцать семь с половиной лет. Она еще не знает, но интуиция поэта подсказывает – она на экваторе своего земного пути.
На экваторе судьбы.
Идя от буквального значения имени Марина – в переводе с латинского «морская», – Цветаева создает собственную космогонию, личную историю сотворения мира и его устройства, в центре которой – она, «бренная пена», «веселая пена», «высокая пена морская». Отчетливо, как никогда, видит она свою избранность, уникальность, неповторимость. «У меня ведь тоже есть святая, хотя я ощущаю себя первенцем своего имени», – напишет она чуть позже (письмо Р. М. Рильке, 2 августа 1926 г., т. VII, с. 68. Курсив мой. – П. Ф.).
Нет ничего более эфемерного и недолговечного, более мимолетного и неуловимого, чем морская пена. Из воздуха и воды – не воздух и не вода. Из волны и камня – не волна и не камень. На границе стихий, в столкновении стихий – дитя стихий. Белоснежная, светоносная, нежная. Трепетная, игривая, бурлящая.
Ее дело – «измена»: постоянное изменение, преображение, обновление.
Она – вся в движении: «в полете», «непрестанно разбита» на мелкие брызги, «серебрится и сверкает».
Она – «своевольна»: независима, самостоятельна, упряма.
Ее кудри – «беспутные»: свободные, не связанные путами – лентами, бантами, заколками.
Она в «купели морской крещена» и «с каждой волной» – воскресает.
Ее участь – быть самой Жизнью. Быть бессмертной. Вне смерти.
Цветаева пишет лирический автопортрет – портрет души. Души самой по себе, вне личности, вне времени, вне судьбы. Портрет Психеи.
«Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, – вспоминает Цветаеву дочь, – потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.
Но мало кто умел читать в нем»[6]
Особенно те, «кто создан из камня», «из глины», «из плоти». Чей мир прочен и основателен, неподвижен и мертв. О них – с иронией, со снисхождением. С отчуждением. Им – «гроб и надгробные плиты». И поделом! По делам их. Они забрасывают «сети», чтобы уловить и опутать волну. Они мечтают обратить «пену морскую» в «земную соль», абсолютное движение – в абсолютную скованность, превратить непригодную в хозяйстве красоту в полезное ископаемое. Об их «гранитные колена» «дробится», «разбита» Марина-Психея.
«Из глины» Бог создал первочеловека Адама.
Марина – не из этого племени.
«Из камня» под резцом Пигмалиона возникла Галатея, ожившая под любящим взглядом ваятеля.
Это не ее случай. «Из плоти» сотворены обычные люди. Вот именно – обычные!
Венера, богиня любви, вышла из пены морской.
Только ей одной и равна. Только ей одной и родственна.
Единственной – единственная.
Двумя годами ранее Цветаева писала:
Каждый стих – дитя любви, Нищий незаконнорожденный. Первенец – у колеи На поклон ветрам положенный.(I, 419)
И потому она поет гимн «измене», «беспутству», «своеволию» – этим вечным спутникам страсти, любовного безумия, одержимости и неудержимости. Вечным спутникам Жизни. Они – источник и условие творческого бессмертия.
Если кого и могло обмануть имя Цветаевой, то только не ее. О себе она все знала наверняка.
2
Биография Цветаевой разрублена тяжелым топором русской революции на две половины. Они зеркально отражаются друг в друге. До революции жизнь шла естественным чередом, со своими радостями и заботами, удачами и потерями – «в руце Божией». После – все перевернулось вверх дном, начался сплошной «дьяволов водевиль».
Марина Цветаева родилась 26 сентября (по ст. ст.) 1892 года, ровно в полночь с субботы на воскресенье, в день Иоанна Богослова, в Москве.
Семь холмов – как семь колоколов! На семи холмах – колокольни. Всех счетом – сорок сороков. Колокольное семихолмие! В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова.(I, 272)
Святой евангелист, автор пророческого «Откровения» о конце света, один из величайших поэтов в истории человечества стал ее небесным покровителем.
Москва, Третий Рим, сердце святой Руси, – ее колыбелью.
Благовест, колокольный перезвон, слился с криком новорожденного поэта, сделал его полнозвучным, сильным, богатым интонациями, наполнил многоголосием миров дольнего и горнего, наделил душой и смыслом.
Юные годы прошли в уютном родительском доме в Трехпрудном переулке («Дом – пряник, а вокруг плетень»), в семье профессора изящных искусств, под звуки фортепиано, на котором мать вдохновенно играла пьесы Бетховена, Гайдна, Шопена, в ревнивой дружбе с братом и сестрами[7], в чтении взахлеб волшебных сказок и романтических романов. Отец, Иван Владимирович Цветаев, погруженный в академические заботы и труды по устроению небывалого ранее в России музея изобразительных искусств[8], был сух и, казалось, не очень внимателен к детям, кажется, даже немного побаивался их. Тем не менее именно ему обязаны они своим спокойным и беззаботным миром: размеренным московским бытом, учебой в гимназии, ежегодными летними выездами на дачу в Тарусу, окрестности которой – лес, луга, неспешное течение Оки – войдут навсегда в их память.
Атмосферу дома создавала мать, Мария Александровна, в девичестве Мейн, молодая, в два раза моложе мужа, красивая, нервная и эмоциональная женщина, родом из немецко-польской семьи. Она деятельно заботилась о духовном и интеллектуальном воспитании детей, учила музыке, языкам, читала им в оригинале немецкие и французские книги, рассказывала легенды и мифы, знакомила с героическими страницами истории – их будущность виделась ей среди муз и граций. Строгая и сдержанная на вид, Мария Александровна страстно любила дочерей и отдавала им всю себя, как бы предчувствуя свой недолгий век.
«О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с «Ундинами»[9], с «Джейн Эйрами»[10], с «Антонами Горемыками»[11], с презрением к физической боли, со Св. Еленой[12], с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и еще это… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно?… Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика… Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики… После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом» (IV, 13–14).
В 1906 году Мария Александровна в возрасте тридцати восьми лет скончалась от чахотки. Но перед этим три года они с мужем боролись за ее здоровье – сначала на курортах и в клиниках Италии, потом Швейцарии и Германии. Все эти годы дети сопровождали мать. Перед смертью она подарила им то, что сама так любила всю жизнь, – мир западноевропейской цивилизации. В том детском путешествии Цветаевой открылась праздничная природа Средиземноморья, блистательная величественность Альп и волшебные туманы Шварцвальда. Она вслушивалась в шумное полногласие итальянской речи, осваивала изысканную отточенность французского языка, постигала строгость немецкой мысли. Особенно близка оказалась ей немецкая культура. Позже Цветаева неоднократно подчеркивала свою равную любовь к России и Германии. Две великие войны между этими державами, свидетельницей которых ей суждено было быть, жестоко ранили ее сердце.
Со смертью матери закончилось детство. Отец пытался наладить жизнь в доме, приглашая воспитательниц и гувернанток, но семейный строй был навеки разрушен. Дети начали жить своей жизнью. Пробыв долгие годы под присмотром матери, почти не видясь со сверстниками, теперь они жадно восполняли дефицит общения, заводили знакомства и дружбы, влюблялись и ревновали. Важной вехой в судьбе Цветаевой стала встреча с поэтом-символистом Эллисом[13], сотрудником издательства «Мусагет», другом Андрея Белого. Он ввел ее в круг профессиональных литераторов, способствовал в 1910 году выходу в свет первой книги ее стихов «Вечерний альбом».
Литературный дебют не прошел незамеченным. Метр символистов Валерий Брюсов посвятил ей целую страницу в своем обзоре новостей поэзии и, высказав ряд замечаний, оценил книгу молодой поэтессы вполне положительно, точно обозначив главное достоинство цветаевской лирики – ее небывалую интимность и откровенность. «Когда читаешь ее книгу, – писал Брюсов, – минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние». <…> Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни»[14]. Ценитель поэтического искусства Николай Гумилев, вслед за своим учителем Брюсовым отметивший «смелую (иногда чрезмерно) интимность» «Вечернего альбома», особо обратил внимание на то, что «здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга – не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов»[15]. Сочувственно откликнулись М. Цетлин, М. Шагинян, М. Волошин.
С Максимилианом Волошиным[16] Цветаева познакомилась в «Мусагете». Они быстро прониклись взаимной симпатией. Близкие, дружеские отношения связали их на долгие годы. Эта встреча стала для Цветаевой, без преувеличения, судьбоносной. Вспоминая своего старшего друга в 1932 году, Марина Ивановна писала: «Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей» (IV, 178). Именно в доме Волошина в Коктебеле летом 1911 года Цветаева впервые увидела своего будущего мужа – Сергея Эфрона.
Как в книжке, любовь вспыхнула с первого взгляда – и на всю жизнь.
Сергей был на год моложе Марины (а ей самой еще не исполнилось девятнадцати!) и невероятно красив. «У него узкое лицо, темный разлет бровей, и под ними такие огромные, совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серо-зеленоватые и сияют добротой и счастьем»[17].
Его чрезмерно узкое лицо Подобно шпаге. Безмолвен рот его, углами вниз, Мучительно-великолепны брови. В его лице трагически слились Две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза – прекрасно-бесполезны! — Под крыльями распахнутых бровей — Две бездны…(I, 202)
Это был принц из сказки. «Царевич». «Рыцарь». С благородной грустью в глазах, высоких нравственных убеждений, деликатный, нежный, доверчивый. И – мужественный.
Вашего полка – драгун, Декабристы и версальцы! И не знаешь – так он юн — Кисти, шпаги или струн Просят пальцы.(I, 184–185)
Он еще учился в гимназии. Был увлечен театром, пробовал силы в литературе. Любил шутки и розыгрыши. Но когда пробил час испытаний, оказался достойным всех лирических авансов, которые выдала ему Цветаева.
В его лице я рыцарству верна. – Всем вам, кто жил и умирал без страху. — Такие – в роковые времена — Слагают стансы – и идут на плаху.(I, 202)
В январе 1912 года они обвенчались. В свадебное путешествие отправились в Париж, по дороге посещая города Германии, Франции, Италии. Наследство, оставшееся от родителей, было достаточным, чтобы не только вести безбедную жизнь, но даже организовать собственное издательство, названное в честь героя андерсеновской сказки «Оле-Лукойе».
В феврале 1912 года в нем вышла вторая книга Цветаевой «Волшебный фонарь» и сборник рассказов Эфрона «Детство». 5 сентября этого же года родилась дочь Ариадна, Аля. В следующем, 1913 году вышел еще один сборник стихов Цветаевой «Из двух книг». Она с успехом выступала на литературных вечерах в Москве и Петербурге. Летом был неизменный, солнечный, шумный, радостный Коктебель с мудрым и озорным Максом Волошиным. Эфрон поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Ничто не предвещало скорого, необратимого, катастрофического переворота в их судьбе.
Но грянула мировая война. Эфрон был призван в армию. Первое время был санитаром военно-санитарного поезда, в 1917 году отправлен в Нижний Новгород в школу прапорщиков. Все это было тревожно, но еще в порядке вещей, поддавалось осмыслению и логике. Жизнь шла своим чередом. Цветаева ждала второго ребенка. И вдруг роковое известие: царь отрекся от престола. Цветаева не была монархисткой в политическом смысле слова, да и вообще политикой не интересовалась. Но, как живое сердце России, она сразу поняла истинный смысл произошедшего. Не случайно же дан ей был в наставники и поводыри автор Апокалипсиса.
Пал без славы Орел двуглавый. – Царь! – Вы были не правы. Помянёт потомство Еще не раз — Византийское вероломство Ваших ясных глаз.(I, 340)
С этого дня в биографии Цветаевой начался обратный отсчет времени.
3
В октябре 1917 года власть в Петрограде захватили большевики. Москва сопротивлялась. Отряд офицеров и юнкеров держал оборону в Кремле. Среди его защитников был и Сергей Эфрон. Он ни минуты не сомневался, на чьей стороне быть. И когда пушки красных расстреляли Спасскую башню и Патриаршее подворье, Тайницкий сад и Чудов монастырь, когда кончились боеприпасы и провизия, он вместе с оставшимися в живых ушел из крепости, чтобы через некоторое время встать под знамена Добровольческой армии и продолжить сопротивление наступавшему хаосу и террору.
Цветаева осталась в Москве одна с двумя дочерьми (13 апреля 1917 года родилась вторая дочь, Ирина). Деньги обесценились. Банковские вклады пропали. Городская инфраструктура разрушалась на глазах. Бытовые проблемы приняли масштаб космический. Нужно было кормить детей, добывать дрова, вести хозяйство. Она не была барыней, но не была и прислугой. Свалившиеся на нее заботы отнимали силы, здоровье, жизнь, раздражали и унижали.
Соловья приковали к плугу и заставили пахать. Вопреки абсурдности ситуации, соловей, выбиваясь из сил, тянет за собой неподъемную тяжесть, бьет крыльями воздух, надрывается – и поет.
Соловьиное горло – всему взамен! — Получила от певчего бога – я… Сколько в горле струн – все сорву дотла! Соловьиное горло свое сберечь Не на тот на свет – соловьем пришла!(I, 449)
Только молодость, только природная выносливость и воспитанный матерью жизненный стоицизм помогли Цветаевой вынести кошмар первых послереволюционных лет.
Не вынесла маленькая Ирина – умерла от голода зимой 1920 года.
Еле-еле осталась в живых Ариадна.
Удивительный документ рисует нам картину и настроение тех лет. Восьмилетняя Аля пишет письмо в Петербург Анне Ахматовой: «Мы с Мариной живем в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем углам трубы (куски). – Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру в новом доме, а в трущобу – может…
Марина все время пишет, я тоже пишу, но меньше. К нам почти никто не приходит»[18].
Случайного гостя – «принца»? – торжественно встретят и проведут в
Чердачный дворец мой, дворцовый чердак! Взойдите. Гора рукописных бумаг… Так. – Руку! – Держите направо, — Здесь лужа от крыши дырявой… – А что с Вами будет, как выйдут дрова? – Дрова? Но на то у поэта – слова Всегда – огневые – в запасе! Нам нынешний год не опасен…(I, 488, 489)
Еще одно письмо Ариадны – матери Волошина: «Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: «Кочевники дома». Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить…»[19]
Яростной агрессии быта Цветаева противопоставила лютую энергию творчества. Стихи идут лавиной. Стихи-письма, мысленно обращенные к мужу. Они составят сборник «Лебединый стан». Стихи-очерки. Стихи-молитвы. Рожденные новыми встречами и знакомствами лирические циклы «Комедьянт», «Памяти А. А. Стаховича», «<Н. Н. В.>», «Стихи к Сонечке», «Ученик», «Разлука», «Благая весть», «Сугробы». Навеянные мыслями о судьбах России исторические циклы – «Стенька Разин», «Марина», «Георгий». Цветаева пробует себя в драматургии, в течение полутора лет (1918–1919) создает шесть стихотворных пьес: «Червонный валет», «Метель», «Фортуна», «Каменный Ангел», «Приключение» и «Феникс». Из-под ее пера выходят поэмы «На Красном Коне», «Царь-девица», «Переулочки».
Тысячи стихотворных строк.
Кажется, чем разрушительнее был мир вокруг нее, тем больше пробуждалось внутренних сил для встречного созидания. Противо-действие рождало действие. Интуицией гения Цветаева нашла единственно возможный – и посильный – и всесильный! – ответ разрухе и безобразию. Творчество.
В статье 1932 года «Искусство при свете совести» Цветаева, размышляя над знаменитой песнью Вальсингама в пушкинском «Пире во время чумы» («Есть упоение в бою…»), напишет:
«Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.
Гибель поэта – отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы» (V, 351).
В этих словах, несомненно, нашел отражение личный опыт Цветаевой 1918–1921 годов. Опыт противостояния стихии революционной чумы.
4
Летом 1921 года приходит «благая весть»: давно пропавший из виду Сергей Эфрон жив! Спасся на корабле. Направляется в Прагу. Ликованию нет предела:
Мертв – и воскрес?! Вздоху в обрез, Камнем с небес, Ломом По голове — Нет, по эфес Шпагою в грудь — Радость!(II, 45)
Цветаева лихорадочно собирается в отъезд. К мужу. К герою. К рыцарю. «Узнала, что до Риги – в ожидании там визы включительно – нужно 10 миллионов. Для меня это все равно, что: везти с собой храм Христа Спасителя… С трудом наскребу 4 миллиона, – да и то навряд ли: в моих руках и золото – жесть, и мука – опилки» (письмо И. Г. Эренбургу, 2 ноября 1921 г., т. VI, с. 212). Как она добилась выезда, получила визы, собрала деньги на билет? Чудом. И – волей. Велением сердца. Любовью.
Я с вызовом ношу его кольцо. – Да, в Вечности – жена, не на бумаге… —(I, 202)
написала она еще в 1914 году и повторяла про себя все годы разлуки, ибо знала, ни на минуту не усомнилась:
На кортике своем: Марина — Ты начертал, встав за Отчизну. Была я первой и единой В твоей великолепной жизни.(I, 385)
11 мая 1921 года Цветаева выехала из Советской России. Начались долгие годы чужбины. «Кочевники дома» стали настоящими кочевниками.
Бесчисленные переезды были вызваны крайней нуждой и непрерывной заботой об экономии средств, скудных и нерегулярных. Где бы ни жила Цветаева после отъезда из России – в Германии ли, Чехии или Франции, – всегда под гнетом бытовых забот.
Из письма 1922 года: «Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей – таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть, – пожалуй, даже бедней!.. Месяцами никого не вижу» (письмо Б. Л. Пастернаку, 19 ноября 1922 г., т. VI, с. 227).
Из дневниковой записи 1924 года: «20 июля переехала из Иловищ в Дольние Мокропсы, в разваленный домик с огромной русской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом, во дворе огромной (бывшей) экономии. Огромный сарай… сад с каменной загородкой, над самым полотном железной дороги. – Поезда»[20].
Из письма 1925 года, Париж: «Квартал, где мы живем, ужасен, – точно из бульварного романа «Лондонские трущобы». Гнилой квартал, неба не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот (грузовые автомобили). Гулять негде – ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы, в холод нельзя. Так и гуляем – вдоль гниющего канала» (письмо А. А. Тесковой, 7 декабря 1925 г., т. VI, с. 343).
Из письма 1930 года: «Жизнь трудная… Живем в долг в лавочке, и часто нет 1 франка 15 сантимов, чтобы ехать в Париж… Распродаю вещи, прекрасные шелковые платья, которые когда-то подарили – за грош» (письмо А. А. Тесковой, 17 октября 1930 г., т. VI, с. 388–389).
Из письма 1931 года: «Удушены долгами, утром в лавке – мука. Курю, как в Сов. России, в допайковые годы… окурковый табак – полная коробка окурков, хранила про черный день и дождалась» (письмо Р. Н. Ломоносовой, 6 марта 1931 г., т. VII, с. 332).
Из письма 1934 года: «Я в вечной грязи, вечно со щеткой и с совком, в вечной спешке, в вечных узлах, и углах, и углях – живая помойка! И с соответствующими «чертями» – «А, черт! Еще это! А ччче-ерт!», ибо смириться не могу, ибо все это – не во имя высшего, а во имя низшего: чужой грязи и лени» (письмо В. Н. Буниной, 28 апреля 1934 г., т. VII, с. 270).
Из письма 1938 года: «О себе. Живу в холоде или в дыму: на выбор. Когда мороз (как сейчас), предпочитаю – дым. Руки совсем обгорели: сгорел весь верхний слой кожи, п. ч. тяги нет, уголь непрерывно гаснет, и приходится сверху пихать щепки, – таково устройство, вернее – расстройство. Но скоро весна и, будем надеяться, худшее – позади… Пробую жить как все, но – плохо удается, что-то грызет… Почти все время уходит на быт, раньше все-таки немножко легче было» (письмо А. Э. Берг, 15 февраля 1938 г., т. VII, с. 517).
Подобных строк в письмах Цветаевой – сотни. И других – с просьбами о деньгах, благо были люди, готовые безвозмездно поддерживать поэта (но всякий раз – ежемесячно! – просить).
И еще – с возмущениями о задержанных, недоплаченных, невыплаченных гонорарах.
И – о непрерывных болезнях.
И – просто непонимании.
Но, как и в Москве, Цветаева противостояла судьбе творчеством. «Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать – жить. Т. е. все осуществляется и даже живется (понимается) только в тетради. А в жизни – что? В жизни – хозяйство: уборка, стирка, топка, забота. В жизни – функция и отсутствие» (IV, 606).
Рассказывает дочь: «Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.
Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.
Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно.
Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера…
Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю, любые.
Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару»[21].
Еще в Москве 1920-х годов в творчестве Цветаевой наметился сдвиг в сторону крупных поэтических форм. В Чехию она приехала в разгар работы над самой своей большой поэмой «Молодец». Время отдельных лирических стихотворений уходило в прошлое. Их количество резко сократилось. Цветаева комментировала эти изменения так: «Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге – столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение – катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая саморастрава. Лирикой – утешаться! Отравляться лирикой – как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом – не наелся, ртом – не нацеловался и т. д.
В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, от дня ко дню крепчающая и весчающая. Одна – здесь – жизнь, другая – там (в тетради). И посмотрим еще, какая сильней!
Из лирического стихотворения я выхожу разбитой» (письмо П. П. Сувчинскому, 4 сентября 1926 г., т. VI, с. 323).
«Взрыв», «пожар», «пустырь», «катастрофа» – сколько их было в реальной действительности! Обращение к большим формам происходит на уровне инстинкта самосохранения. Она устала «отравляться» мечтой, быть «непрестанно разбитой», и в то же время у нее достаточно сил, чтобы жить «деятельно», «от дня ко дню» – пусть даже только «в тетради». В эмиграции Цветаева создает свои лучшие поэмы, которые многие считают вершиной ее творчества: «Поэма Горы» (1924), «Поэма Конца» (1924), «Крысолов» (1925), «Поэма Лестницы» (1926), «Новогоднее» (1927), «Поэма Воздуха» (1927). В 1930-е годы Цветаева несколько лет работала над несохранившейся «Поэмой о Царской Семье».
В эмиграции Цветаева стала писать прозу. Вынуждали обстоятельства: стихи издатели брали неохотно, да и платили за них значительно меньше. «Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно – и проза моя, и лучшее в мире после стихов, это – лирическая проза, но все-таки – после стихов!.. Когда получу премию Нобеля (никогда) – буду писать стихи» (письмо А. А. Тесковой, 24 ноября 1933 г., т. VI, с. 406–407). Цветаева создает цикл мемуарных очерков, пишет серию литературных портретов (В. Брюсова, Б. Пастернака, М. Волошина, Н. Гончаровой, К. Бальмонта, Андрея Белого), выступает в качестве литературного критика-полемиста. Предвосхищая пути развития современной прозы, Цветаева обращается к жанру лирической документалистики («Флорентийские ночи», «Повесть о Сонечке»). Ее эссе «Искусство при свете совести» (1932) – один из шедевров в истории мировой эстетической мысли.
Обстоятельства лишь подтолкнули Цветаеву к созданию прозаических произведений. На самом деле она давно была готова к этой форме литературной деятельности. Фактически прозу она писала всегда: ее письма, частые и пространные, были для нее столь же важны, как и стихи. «Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям»[22]. Слово было высочайшей ценностью для Цветаевой. И не только в стихах. Даже официальный документ не могла составить формально: «Начинаю прошение – просыпается мысль, юмор, «игра ума». Если два раза «что» или два раза «бы» – беру другой лист, не нравится, хочется безукоризненной формы, привычка слуха и руки» (письмо А. А. Тесковой, 24 сентября 1926 г., т. VI, с. 350). Проза Цветаевой глубока, многослойна, парадоксальна. Она во всей полноте раскрывает интеллектуальную мощь и масштаб писательского дара Цветаевой. Каждая мысль выкована в кузнице разума и закалена в горниле души.
5
Революция лишила Цветаеву всего: России, культурной среды, привычного уклада жизни, материальной стабильности[23], дома, мужа, дочери. Прошлое лежало в руинах. Незыблемыми оставались лишь вечные ценности. Для Цветаевой они зримее всего предстали в освященных Церковью семейных узах. Таинство брака, клятва верности, данная перед Богом, таинство крещения были теми нитями, которые связывали с вечностью, с былым и грядущим. Этого отнять не мог никто. Семья стала главной святыней Цветаевой. Не в силах противостоять обстоятельствам, но и не желая сдаваться, она, как только появился слабый призрак надежды, сделала все, чтобы вновь воссоединиться с мужем. Здесь была не одна любовь, но и вызов – действительности, времени, судьбе.
Ее наградой в этой битве стало рождение в 1925 году сына, названного в честь святого великомученика Георгия Победоносца – небесного покровителя Москвы.
Ждала его давно. Мечтала. Однажды, в пасхальную неделю 1920 года, увидела в рассветном кремлевском небе: «глаза блистают сталью», «весь – как струна», «светлее солнца» (I, 519).
Ему слагала гимны в 1921-м, услышав известие о спасении мужа:
Синие версты И зарева горние! Победоносного Славьте – Георгия! Славьте, жемчужные Грозди полуночи, Дивного мужа, Пречистого юношу: Огненный плащ его, Посвист копья его, Кровокипящего Славьте – коня его!(II, 38)
Преданность Семье стала мучительным испытанием для Цветаевой. Ее победа над обстоятельствами 1920-х годов оказалась кратковременной. Впереди ждали иные испытания. Прежнего взаимопонимания между супругами уже не было. Каждый прожил в эти годы слишком разные жизни. Это стало ясно не сразу, но чем дальше, тем становилось заметнее. Надо отдать им должное, они прилагали все усилия, чтобы быть взаимно терпимыми, понимать и прощать друг друга.
Цветаева оставалась поэтом. Романтиком чувств. Ее время от времени сотрясали душевные бури. Она влюблялась – очно и заочно, – неистово переживала свои романы, сокрушительно разочаровывалась в них и бесповоротно обрывала. Во время одного из них Эфрон с горечью понимания признавался М. Волошину, верному другу и старшему товарищу: «М<арина> – человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше – до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – не важно. Почти всегда (теперь так же, как и раньше), вернее, всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается – и ураган начался… Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние»[24]. «Ураганы» управляли творчеством. Творчество пробуждало «ураганы». Отдельные стихи и лирические циклы, поэмы, эпистолярные сериалы, каждый из которых может составить самостоятельный роман в письмах, рождались «у бездны на краю».
Сам Эфрон все больше и больше увязал в политике. Романтик идей, он предпринял ревизию собственных взглядов, стремясь понять логику революции. Он внимательно следил за событиями в Советской России, чтобы найти ответ на вопрос, в чем правда победившего народа. К началу 1930-х годов бывший белый офицер Сергей Эфрон сначала теоретически, а потом и делом встал на позиции советской власти. В 1932 году он подал прошение о получении советского паспорта. Но его еще надо было заслужить. Не представляя масштаба личной катастрофы, Эфрон стал тайным агентом НКВД и после провала одной секретной операции осенью 1937 года вынужден был спасаться бегством в СССР, бросив одних жену и сына.
Дочь Ариадна, подрастая, начала отдаляться от матери. Ей хотелось жить самостоятельно. После четырнадцати лет непрерывного обожания мать стала ей вдруг ненавистна. Все чаще возникали конфликты и ссоры. Эфрон занял сторону дочери, тем более что ее тоже захватили тенета советской пропаганды, и она мечтала о возвращении на родину, сотрудничала в агитационном журнале «Наш Союз», выходившем во Франции на деньги из СССР. Она уехала в Россию 15 марта 1937 года.
Георгий тоже рос трудным мальчиком. С характером. Он стал последней любовью Цветаевой, как и все другие, – радостной и мучительной, спасительной и гибельной. Она ласково звала его Мур. В ответ же часто слышала просто: «Р-р-р!» Котенок был львиной породы (Львом называла Цветаева мужа).
Семья распадалась.
И все же Цветаева оставалась ей верна. Несмотря на отчуждение, боль, на оскорбления и упреки. Она готова была жертвовать ради нее всем – любовью, жизнью, стихами.
И жертвовала.
«Семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась» (письмо В. Н. Буниной, 22 ноября 1934 г., т. VI, с. 279).
Еще в 1928 году Цветаева писала: «России (звука) нет, есть буквы: СССР – не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно» (письмо А. А. Тесковой, февраль 1928 г. т. VI, с. 366). Но обстоятельства неумолимо гнали ее в эту «свистящую гущу». С 1938 года, когда переезд в СССР стал неотвратимым, Цветаева перестала писать стихи. Перестала их записывать: к чему? Занималась своим архивом. «Весь прошлый год я дописывала, разбирала и отбирала, – сообщает она Тесковой в канун 1939 года, – сейчас – все кончено, а нового начинать – нет куражу. Раз – все равно не уцелеет. Я, как кукушка, рассовала свои детища по чужим гнездам. А растить – на убой…» (письмо А. А. Тесковой, 26 декабря 1938 г., т. VI, с. 472–473). Через год после возвращения в Советскую Россию, в дневниковой записи 5 сентября 1940 года, она подтвердит – себе, нам: «Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим – кончено» (IV, 610).
Лишь однажды, когда германские войска оккупируют Чехию, она нарушит обет молчания, чтобы в лебединой песне своей воспеть страну, вернувшую ей мужа, давшую сына, любовь, вдохновение. Но вместе с гимном порабощенной стране в «Стихах к Чехии» звучит проклятие миру, потерявшему человеческий облик, миру насилия над личностью, свободой, здравым смыслом:
Отказываюсь – быть. В Бедламе нелюдей Отказываюсь жить. С волками площадей Отказываюсь – выть. С акулами равнин Отказываюсь плыть — Вниз – по теченью спин. Не надо мне ни дыр Ушных, ни вещих глаз. На Твой безумный мир Ответ один – отказ.(II, 360)
18 июня 1939 года Цветаева с сыном приехала в СССР.
28 августа в Москве была арестована Ариадна.
10 октября арестовали Эфрона.
2 июля 1940 года вынесен приговор по делу Ариадны: 10 лет лагерей[25].
22 июня 1941 года Германия напала на СССР.
8 августа Цветаева с сыном выехали в эвакуацию в Елабугу.
31 августа Марина Цветаева покончила с собой.
10 октября расстрелян Сергей Эфрон.
В 1944-м на фронте погиб Георгий.
Жестокий финал земного пути жены, матери, поэта.
Абсолютной Жены. Абсолютной Матери. Абсолютного Поэта.
Кто создан из глины, кто создан из плоти — Тем гроб и надгробные плиты… – В купели морской крещена – и в полете Своем – непрестанно разбита!Могила Цветаевой неизвестна. Ее и не могло быть.
6
Марину Цветаеву часто называют поэтом Серебряного века. Ряд формальных оснований дает повод к такому утверждению. Действительно, Цветаева вступила в литературу в начале XX века, когда русская поэзия переживала очередной подъем и была главным выразителем чувств и настроений эпохи. Лирическая действительность Цветаевой тех лет осваивалась читателями с восторженным сочувствием. В ее ранних стихах отчетливо прослеживаются черты неоромантического мировосприятия, столь характерного для ее современников. Первые книги Цветаевой появились в самый разгар эстетических битв между символизмом и акмеизмом, с одной стороны, и между символизмом и футуризмом, с другой, и привлекли всеобщее внимание. Ее охотно приглашали на литературные вечера. Она была лично знакома практически со всеми значительными поэтами своего времени (кроме, пожалуй, только Гумилева, и то – по случайности).
Но с самого начала и всегда Цветаева отличалась резкой индивидуальностью и самостоятельностью – самостью. Она не признавала никаких творческих сообществ – кружков, цехов, объединений, союзов. Даже коллективных сборников и журналов. П. Антокольский вспоминал, как однажды, в 1920-е годы, Цветаева привела его «в некий респектабельный литературный дом, по тогдашней терминологии – «салон», в чью-то буржуазную квартиру, где собирались чуть ли не все известные поэты, проживавшие в Москве. Оказалось, что Марина ни с кем из них не близка, да и не нуждается в близости»[26]. Этот эпизод очень символичен. Именно такой предстает Цветаева при внимательном рассмотрении вопроса о ее месте в литературе начала века: признанная современниками, но чуждая им. Отчужденная.
Говоря о своей внепартийности, Цветаева писала в 1931 году: «…не принадлежу ни к какому классу, ни к какой партии, ни к какой литер<атурной> группе НИКОГДА. Помню даже афишу такую на заборах Москвы 1920 г. ВЕЧЕР ВСЕХ ПОЭТОВ. АКМЕИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, НЕОАКМЕИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, ИМАЖИНИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, ИСТЫ-ИСТЫ-ИСТЫ – и, в самом конце, под пустотой:
– и —
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
(вроде как – голая?)
Так было, так будет» (письмо Р. Н. Ломоносовой, 11 марта 1931 г., т. VII, с. 334).
Творчество Цветаевой стоит особняком в русской поэзии первой половины XX века. Оно – при всей своей дневниковой конкретности и ситуативной точности – менее всего принадлежит своему времени. «Я сама – вне, из третьего царства – не неба, не земли, – из моей тридевятой страны, откуда все стихи» (письмо Д. А. Шаховскому, 1 июля 1926 г., т. VII, с. 39). Дух цветаевской поэзии живет в пространстве «миров иных». Его пересечение с эпохой было случайным и кратковременным. Да, материалом поэзии была реальная жизнь – во плоти быта и социума, в неизбежности политики и экономики, в мельчайших подробностях и деталях дня. Да, стихи рождались из встреч с живыми людьми, в реалиях их биографий и характеров, в очевидности их тел и душ, из подлинных, несочиненных чувств к ним. Но то, как и что видела и слышала Цветаева, не имеет ни малейшего отношения к действительности. «Думаю, в жизни со мной поступали обычно, а я чувствовала необычно…»[27]При этом, по справедливому наблюдению Иосифа Бродского, «необходимо отметить, что речь ее была абсолютно чужда какой бы то ни было «надмирности». Ровно наоборот: Цветаева – поэт в высшей степени посюсторонний, конкретный, точностью деталей превосходящий акмеистов, афористичностью и сарказмом – всех. Сродни более птице, чем ангелу, ее голос всегда знал, над чем он возвышен; знал, что – там, внизу (верней, чего – там – не дано)»[28]. Поэзия Цветаевой – преодоление и преображение земного, исторического мира по законам высшей гармонии, лад и строй которой определен божественным промыслом и внятен только избранным. А время, события, люди в этой системе измерения всегда одни и те же. Поэт их видит, но не на них смотрит.
«Ни одной вещи в жизни я не видела просто, мне… в каждой вещи и за каждой вещью мерещилась – тайна, т. е. ее, вещи, истинная суть»[29]. Цветаева обладала каким-то особым восприятием действительности. Его можно назвать метафизическим, то есть таким, когда мир видится в единстве материального, вещного, земного и идеального, духовного, небесного, когда день сегодняшний вписан в перспективу всей жизни, а сама жизнь воспринимается на фоне вечности. Некоторые считают это «романтизмом». Достоевский называл «реализмом в высшем смысле».
Реальность Цветаевой отличается от действительности обычных людей, в том числе и многих поэтов (сама Цветаева считала, что она сродни только Р. М. Рильке и Б. Пастернаку), тем, что в ней нет места таким понятиям, как повседневность, будничность, рутина, просто обычность – всего того, что принято называть «прозой жизни». «Проза – это то, что примелькалось. Мне ничто не примелькалось: Этна – п. ч. сродни, куры – п. ч. ненавижу, даже кастрюльки не примелькались, п. ч. их: либо ненавижу, либо: не вижу, я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, за всем и надо всем: боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты – какая тут может быть «проза». Когда всё на вертящемся шаре?! Внутри которого – ОГОНЬ»[30]. В этих словах – ключ к пониманию мировидения-мирочувствования Цветаевой. Она обладала особым даром воспринимать мир в его драматической полноте, когда все взаимодействует со всем, движется, дышит, живет.
Во времени и пространстве – вне времени и пространства. В бесконечной вечности сущего.
На это у нее был абсолютный слух. «Я – то Дионисиево ухо (эхо) в Сиракузах, утысячеряющее каждый звук. Но, утверждаю, звук всегда есть. Только вам его простым ухом (как: простым глазом) не слыхать»[31].
Ее дар был пророческим, каким описан он в вещем стихотворении Пушкина, – от Бога.
Природное христианство было основой личности Цветаевой: «Мне был дан в колыбель ужасный дар – совести: неможéние чужого страдания» (письмо В. Н. Буниной, 22 ноября 1934 г., т. VI, с. 280). Какие бы человеческие страсти ни одолевали ее, она оставалась верна евангельским заветам. Способность всегда – ежедневно, ежечасно, ежеминутно – ощущать под ногами непрерывно кипящую лаву напрямую связана с постоянным – ежедневным, ежечасным, ежеминутным – переживанием главного События в истории человечества – явления Христа: акт сотворения Мира неотделим от акта сотворения Человека. И как процесс созидания Бытия длится по сей день, так и процесс созидания человека непрерывен. С редкой для искусства XX века прозорливостью видела Цветаева эту деятельную, огненную, рождественскую и пасхальную связь всего тварного мира.
Религиозное чувство Цветаевой – природное, глубокое, лишенное обрядовой суеты (особенно в стихах), хотя и не отвергающее церковные установления. Оно не только в умении видеть во всем (даже «в кастрюльке») проявление божественной воли, жить «при свете совести», но и в чуткой родственности миру природы и особенно в интенсивном диалоге с прошлым, с предками, с предшественниками – «с отцами». Душа поэта свободно общалась с деревьями и травами, птицами и камнями, вживалась во все эпохи, говорила на всех языках. «Получалось как-то так, – вспоминал современник, – что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире быть не может и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево»[32]
Многие современники, среди которых можно встретить даже самых близких Цветаевой людей (муж, дочь, сын), часто упрекали ее в том, что она выдумывает реальность, наделяет ее несуществующими качествами и смыслами. Впрочем, мирились с этим – и прощали. Кто с насмешкой, кто с сочувствием: «Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам»[33]. (Так писал друг!)
А нужно было не «прощать», а внимать: напрягать ум, воображение, душу.
Чтение Цветаевой требует не просто понимания, но и – сотворчества: «Книга должна быть исполнена читателем как соната. Буквы – ноты»[34]. И – сотрудничества: «исполнять» Цветаеву совсем не просто. Особая образность Цветаевой облечена в особые ритмы. «Перенасыщенный ударениями гармонически цветаевский стих непредсказуем; она тяготеет более к хореям и к дактилям, нежели к определенности ямба, начала ее строк скорее трохеические, нежели ударные, окончания – причитающие, дактилические. Трудно найти другого поэта, столь же мастерски и избыточно пользовавшегося цезурой и усечением стоп. Формально Цветаева значительно интересней всех своих современников, включая футуристов, и ее рифмовка изобретательней пастернаковской»[35]. Поэтика Цветаевой отличается не только технической изощренностью, но и предельной концентрацией смысла: каждая строфа, каждый стих, каждое слово и даже слог рассчитаны на многоуровневое восприятие – чтение и перепрочтение.
По отношению к своему читателю Цветаева строга, требовательна, но и великодушна. Сколько доверия, душевного благородства и подлинного уважения к личности в ее творческом кредо: «Ничего не облегчать читателю, как не терплю, чтоб облегчали мне. Чтоб сам»[36] Иногда целый день уходил у нее на то, чтобы найти нужное слово. И не зазорно потратить целый день на то, чтобы это с таким трудом найденное слово услышать!
Поэзия Цветаевой – рука, протянутая другу.
Невидимому другу.
Неведомому.
Им может стать каждый. Только протянуть руку.
Павел Фокин
Детское
«He смейтесь вы над юным поколеньем!..»
He смейтесь вы над юным поколеньем! Вы не поймете никогда, Как можно жить одним стремленьем, Лишь жаждой воли и добра… Вы не поймете, как пылает Отвагой бранной грудь бойца, Как свято отрок умирает, Девизу верный до конца! Так не зовите их домой И не мешайте их стремленьям, — Ведь каждый из бойцов – герой! Гордитесь юным поколеньем!<1906>
Лесное царство
Асе[37]
Ты – принцесса из царства не светского, Он – твой рыцарь, готовый на все… О, как много в вас милого, детского, Как понятно мне счастье твое! В светлой чаше берез, где просветами Голубеет сквозь листья вода, Хорошо обменяться ответами, Хорошо быть принцессой. О, да! Тихим вечером, медленно тающим, Там, где сосны, болото и мхи, Хорошо над костром догорающим Говорить о закате стихи; Возвращаться опасной дорогою С соучастницей вечной – луной, Быть принцессой лукавой и строгою Лунной ночью, дорогой лесной. Наслаждайтесь весенними звонами, Милый рыцарь, влюбленный, как паж, И принцесса с глазами зелеными, — Этот миг, он короткий, но ваш! Не смущайтесь словами нетвердыми! Знайте: молодость, ветер – одно! Вы сошлись и расстанетесь гордыми, Если чаши завидится дно. Хорошо быть красивыми, быстрыми И, кострами дразня темноту, Любоваться безумными искрами, И как искры сгореть – на лету!Таруса, лето 1908
В зале
Над миром вечерних видений Мы, дети, сегодня цари. Спускаются длинные тени, Горят за окном фонари, Темнеет высокая зала, Уходят в себя зеркала… Не медлим! Минута настала! Уж кто-то идет из угла. Нас двое над темной роялью Склонилось, и крадется жуть. Укутаны маминой шалью, Бледнеем, не смеем вздохнуть. Посмотрим, что ныне творится Под пологом вражеской тьмы? Темнее, чем прежде, их лица, — Опять победители мы! Мы цепи таинственной звенья, Нам духом в борьбе не упасть, Последнее близко сраженье, И темных окончится власть. Мы старших за то презираем, Что скучны и просты их дни… Мы знаем, мы многое знаем Того, что не знают они!Вокзальный силуэт
Не знаю вас и не хочу Терять, узнав, иллюзий звездных. С таким лицом и в худших безднах Бывают преданны лучу. У всех, отмеченных судьбой, Такие замкнутые лица. Вы непрочтенная страница И, нет, не станете рабой! С таким лицом рабой? О, нет! И здесь ошибки нет случайной. Я знаю: многим будут тайной Ваш взгляд и тонкий силуэт, Волос тяжелое кольцо Из-под наброшенного шарфа (Вам шла б гитара или арфа) И ваше бледное лицо. Я вас не знаю. Может быть, И вы, как все, любезно-средни… Пусть так! Пусть это будут бредни! Ведь только бредней можно жить! Быть может, день недалеко, Я всё пойму, что неприглядно… Но ошибаться – так отрадно! Но ошибиться – так легко! Слегка за шарф держась рукой, Там, где свистки гудят с тревогой, Стояли вы загадкой строгой. Я буду помнить вас – такой.Севастополь. Пасха, 1909
«Как простор наших горестных нив…»
Как простор наших горестных нив, Вы окутаны грустною дымкой; Вы живете для всех невидимкой, Слишком много в груди схоронив. В вас певучий и мерный отлив, Не сродни вам с людьми поединки, Вы живете, с кристальностью льдинки Бесконечную ласковость слив. Я люблю в вас большие глаза, Тонкий профиль задумчиво-четкий, Ожерелье на шее, как четки, Ваши речи – ни против, ни за… Из страны утомленной луны Вы спустились на тоненькой нитке. Вы, как все самородные слитки, Так невольно, так гордо скромны. За отливом приходит прилив, Тая, льдинки светлее, чем слезки, Потухают и лунные блестки, Замирает и лучший мотив… Вы ж останетесь той, что теперь, На огне затаенном сгорая… Вы чисты, и далекого рая Вам откроется светлая дверь!В Париже[38]
Дома до звезд, а небо ниже, Земля в чаду ему близка. В большом и радостном Париже Все та же тайная тоска. Шумны вечерние бульвары, Последний луч зари угас, Везде, везде всё пары, пары, Дрожанье губ и дерзость глаз. Я здесь одна. К стволу каштана Прильнуть так сладко голове! И в сердце плачет стих Ростана[39], Как там, в покинутой Москве. Париж в ночи мне чужд и жалок, Дороже сердцу прежний бред! Иду домой, там грусть фиалок И чей-то ласковый портрет. Там чей-то взор печально-братский. Там нежный профиль на стене. Rostand и мученик Рейхштадтский[40] И Сара – все придут во сне![41] В большом и радостном Париже Мне снятся травы, облака, И дальше смех, и тени ближе, И боль, как прежде, глубока.Париж, июнь 1909
Камерата
Au moment où je me disposais à monter l'escalier, voilá qu'une femme, envelopée dans un manteau, me saisit vivement la main et l'embrassa.
Prokesh-Osten. MesrelationsavecleducdeReichstadt[42][43] Его любя сильней, чем брата, — Любя в нем род, и трон, и кровь, — О, дочь Элизы, Камерата[44], Ты знала, как горит любовь. Ты вдруг, не венчана обрядом, Без пенья хора, мирт и лент, Рука с рукой вошла с ним рядом В прекраснейшую из легенд. Благословив его на муку, Склонившись, как идут к гробам, Ты, как святыню, принца руку, Бледнея, поднесла к губам. И опустились принца веки, И понял он без слов, в тиши, Что этим жестом вдруг навеки Соединились две души. Вас не постигнула расплата, Затем, что в вас – дремала кровь… О, дочь Элизы, Камерата, Ты знала, как горит любовь!Молитва
Христос и Бог! Я жажду чуда Теперь, сейчас, в начале дня! О, дай мне умереть, покуда Вся жизнь как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго: «Терпи, еще не кончен срок». Ты сам мне подал – слишком много! Я жажду сразу – всех дорог! Всего хочу: с душой цыгана Идти под песни на разбой, За всех страдать под звук органа И амазонкой мчаться в бой: Гадать по звездам в черной башне, Вести детей вперед, сквозь тень… Чтоб был легендой – день вчерашний, Чтоб был безумьем – каждый день! Люблю и крест и шелк, и каски, Моя душа мгновений след… Ты дал мне детство – лучше сказки И дай мне смерть – в семнадцать лет!Таруса, 26 сентября 1909
Как мы читали «Lichtenstein»[45]
Тишь и зной, везде синеют сливы, Усыпительно жужжанье мух, Мы в траве уселись, молчаливы, Мама «Lichtenstein» читает вслух. В пятнах губы, фартучек и платье, Сливу руки нехотя берут. Ярким золотом горит распятье Там, внизу, где склон дороги крут[46]. Ульрих – мой герой, а Гéорг – Асин[47], Каждый доблестью пленить сумел: Герцог Ульрих так светло-несчастен, Рыцарь Георг так влюбленно-смел! Словно песня – милый голос мамы, Волшебство творят ее уста. Ввысь уходят ели, стройно-прямы, Там, на солнце, нежен лик Христа… Мы лежим, от счастья молчаливы, Замирает сладко детский дух. Мы в траве, вокруг синеют сливы, Мама «Lichtenstein» читает вслух.Наши царства
Владенья наши царственно-богаты, Их красоты не рассказать стиху: В них ручейки, деревья, поле, скаты И вишни прошлогодние во мху. Мы обе – феи, добрые соседки, Владенья наши делит темный лес. Лежим в траве и смотрим, как сквозь ветки Белеет облачко в выси небес. Мы обе – феи, но большие (странно!) Двух диких девочек лишь видят в нас. Что ясно нам – для них совсем туманно: Как и на всё – на фею нужен глаз! Нам хороню. Пока еще в постели Все старшие и воздух летний свеж, Бежим к себе. Деревья нам качели. Беги, танцуй, сражайся, палки режь!.. Но день прошел, и снова феи – дети, Которых ждут и шаг которых тих… Ах, этот мир и счастье быть на свете Еще не взрослый передаст ли стих?Книги в красном переплете
Из рая детского житья Вы мне привет прощальный шлете, Неизменившие друзья В потертом красном переплете. Чуть легкий выучен урок, Бегу тотчас же к вам, бывало. «Уж поздно!» – «Мама, десять строк!..» Но, к счастью, мама забывала. Дрожат на люстрах огоньки… Как хорошо за книгой дома! Под Грига, Шумана и Кюи[48] Я узнавала судьбы Тома. Темнеет… В воздухе свежо… Том в счастье с Бэкки полон веры. Вот с факелом Индеец Джо[49] Блуждает в сумраке пещеры… Кладбище… Вещий крик совы… (Мне страшно!) Вот летит чрез кочки Приемыш чопорной вдовы[50], Как Диоген, живущий в бочке[51]. Светлее солнца тронный зал, Над стройным мальчиком – корона… Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: «Позвольте, я наследник трона!» Ушел во тьму, кто в ней возник. Британии печальны судьбы… О, почему средь красных книг Опять за лампой не уснуть бы? О золотые времена, Где взор смелей и сердце чище! О золотые имена: Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий![52]Мама за книгой
… Сдавленный шепот… Сверканье кинжала… – Мама, построй мне из кубиков домик! Мама взволнованно к сердцу прижала Маленький томик. … Гневом глаза загорелись у графа: «Здесь я, княгиня, по благости рока!» – Мама, а в море не тонет жирафа? Мама душою – далёко! – Мама, смотри: паутинка в котлете! В голосе детском упрек и угроза. Мама очнулась от вымыслов: дети — Горькая проза!В Люксембургском саду[53]
Склоняются низко цветущие ветки, Фонтана в бассейне лепечут струи, В тенистых аллеях всё детки, всё детки… О детки в траве, почему не мои? Как будто на каждой головке коронка От взоров, детей стерегущих, любя. И матери каждой, что гладит ребенка, Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!» Как бабочки, девочек платьица пестры, Здесь ссора, там хохот, там сборы домой… И шепчутся мамы, как нежные сестры: «Подумайте, сын мой…» – «Да что вы! А мой»… Я женщин люблю, что в бою не робели, Умевших и шпагу держать, и копье, — Но знаю, что только в плену колыбели Обычное – женское – счастье мое!Следующей
Святая ль ты иль нет тебя грешнее, Вступаешь в жизнь иль путь твой позади, — О, лишь люби, люби его нежнее! Как мальчика, баюкай на груди, Не забывай, что ласки сон нужнее, И вдруг от сна объятьем не буди. Будь вечно с ним: пусть верности научат Тебя печаль его и нежный взор. Будь вечно с ним: его сомненья мучат, Коснись его движением сестер. Но если сны безгрешностью наскучат, Сумей зажечь чудовищный костер! Ни с кем кивком не обменяйся смело, В себе тоску о прошлом усыпи. Будь той ему, кем быть я не посмела: Его мечты боязнью не сгуби! Будь той ему, кем быть я не сумела: Люби без мер и до конца люби!Ошибка
Когда снежинку, что легко летает, Как звездочка упавшая скользя, Берешь рукой – она слезинкой тает, И возвратить воздушность ей нельзя. Когда пленясь прозрачностью медузы, Ее коснемся мы капризом рук, Она, как пленник, заключенный в узы, Вдруг побледнеет и погибнет вдруг. Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах Видать не грезу, а земную быль — Где их наряд? От них на наших пальцах Одна зарей раскрашенная пыль! Оставь полет снежинкам с мотыльками И не губи медузу на песках! Нельзя мечту свою хватать руками, Нельзя мечту свою держать в руках! Нельзя тому, что было грустью зыбкой, Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!» Твоя любовь была такой ошибкой, — Но без любви мы гибнем, Чародей![54]Встреча («Гаснул вечер, как мы, умиленный…»)
… есть встречи случайные…
Из дорогого письма Гаснул вечер, как мы, умиленный Этим первым весенним теплом. Был тревожен Арбат оживленный; Добрый ветер с участливой лаской Нас касался усталым крылом. В наших душах, воспитанных сказкой, Тихо плакала грусть о былом. Он прошел – так нежданно! так спешно! — Тот, кто прежде помог бы всему. А вдали чередой безутешно Фонарей лучезарные точки Загорались сквозь легкую тьму… Все кругом покупали цветочки; Мы купили букетик… К чему? В небесах фиолетово-алых Тихо вянул неведомый сад. Как спастись от тревог запоздалых? Все вернулось. На миг ли? На много ль? Мы глядели без слов на закат, И кивал нам задумчивый Гоголь С пьедестала[55], как горестный брат.Недоумение[56]
Как не стыдно! Ты, такой неробкий, Ты, в стихах поющий новолунье, И дриад, и глохнущие тропки[57], — Испугался маленькой колдуньи! Испугался глаз ее янтарных, Этих детских, слишком алых губок, Убоявшись чар ее коварных, Не посмел испить шипящий кубок?[58] Был испуган пламенной отравой Светлых глаз, где только искры видно? Испугался девочки кудрявой? О поэт, тебе да будет стыдно!«На солнце, на ветер, на вольный простор…»
На солнце, на ветер, на вольный простор Любовь уносите свою! Чтоб только не видел ваш радостный взор Во всяком прохожем судью. Бегите на волю, в долины, в поля, На травке танцуйте легко И пейте, как резвые дети шаля, Из кружек больших молоко. О, ты, что впервые смущенно влюблен, Доверься превратностям грез! Беги с ней на волю, под ветлы, под клен, Под юную зелень берез; Пасите на розовых склонах стада, Внимайте журчанию струй; И друга, шалунья, ты здесь без стыда В красивые губы целуй! Кто юному счастью прошепчет укор? Кто скажет «Пора!» забытью? На солнце, на ветер, на вольный простор Любовь уносите свою!Шолохове, февраль 1910
От четырех до семи
В сердце, как в зеркале, тень, Скучно одной – и с людьми… Медленно тянется день От четырех до семи! К людям не надо – солгут, В сумерках каждый жесток. Хочется плакать мне. В жгут Пальцы скрутили платок. Если обидишь – прощу, Только меня не томи! Я бесконечно грущу От четырех до семи.Предсказанье
«У вас в душе приливы и отливы!» — Ты сам сказал, ты это понял сам! О, как же ты, не верящий часам, Мог осудить меня за миг счастливый? Что принесет грядущая минута? Чей давний образ вынырнет из сна? Веселый день, а завтра ночь грустна… Как осуждать за что-то, почему-то? О, как ты мог! О, мудрый, как могли вы Сказать «враги» двум белым парусам? Ведь знали вы… Ты это понял сам: В моей душе приливы и отливы!Оба луча
Солнечный? Лунный? О мудрые Парки[59], Что мне ответить? Ни воли, ни сил! Луч серебристый молился, а яркий Нежно любил. Солнечный? Лунный? Напрасная битва! Каждую искорку, сердце, лови! В каждой молитве – любовь, и молитва — В каждой любви! Знаю одно лишь: погашенных в плаче Жалкая мне не заменит свеча. Буду любить, не умея иначе — Оба луча!Weisser Hirsch, лето 1910
«Курлык»
Детство: молчание дома большого, Страшной колдуньи оскаленный клык; Детство: одно непонятное слово, Милое слово «курлык». Вдруг беспричинно в парадной столовой Чопорной гостье покажешь язык И задрожишь и заплачешь под слово, Глупое слово «курлык». Бедная Frӓulein[60] в накидке лиловой, Шею до боли стянувший башлык, — Все воскресает под милое слово, Детское слово «курлык».Баярд[61]
За умноженьем – черепаха, Зато чертенок за игрой, Мой первый рыцарь был без страха, Не без упрека, но герой! Его в мечтах носили кони, Он был разбойником в лесу, Но приносил мне на ладони С магнолий снятую росу. Ему на шее загорелой Я поправляла талисман, И мне, как он, чужой и смелой, Он покорялся, атаман! Улыбкой принц и школьник платьем, С кудрями точно из огня, Учителям он был проклятьем И совершенством для меня! За принужденье мстил жестоко, — Великий враг чернил и парт! И был, хотя не без упрека, Не без упрека, но Баярд!«Мы с тобою лишь два отголоска…»
Мы с тобою лишь два отголоска: Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска Отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом Наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом Мне порою до слез тяжело. Станет горечь улыбкою скоро, И усталостью станет печаль. Жаль не слова, поверь, и не взора, — Только тайны утраченной жаль! От тебя, утомленный анатом, Я познала сладчайшее зло. Оттого тебя чувствовать братом Мне порою до слез тяжело.Памятью сердца
Памятью сердца – венком незабудок Я окружила твой милый портрет. Днем утоляет и лечит рассудок, Вечером – нет. Бродят шаги в опечаленной зале, Бродят и ждут, не идут ли в ответ. «Все заживает», – мне люди сказали… Вечером – нет.В раю
Воспоминанье слишком давит плечи, Я о земном заплачу и в раю, Я старых слов при нашей новой встрече Не утаю. Где сонмы ангелов летают стройно, Где арфы, лилии и детский хор, Где всё покой, я буду беспокойно Ловить твой взор. Виденья райские с усмешкой провожая, Одна в кругу невинно-строгих дев, Я буду петь, земная и чужая, Земной напев! Воспоминанье слишком давит плечи, Настанет миг – я слез не утаю… Ни здесь, ни там, – нигде не надо встречи, И не для встреч проснемся мы в раю!Эпилог
Очарованье своих же обетов, Жажда любви и незнанье о ней… Что же осталось от блещущих дней? Новый портрет в галерее портретов, Новая тень меж теней. Несколько строк из любимых поэтов, Прелесть опасных, иных ступеней… Вот и разгадка таинственных дней! Лишний портрет в галерее портретов, Лишняя тень меж теней.Не в нашей власти
Возвращение в жизнь – не обман, не измена. Пусть твердим мы: «Твоя, вся твоя!» – чуть дыша, Все же сердце вернется из плена, И вернется душа. Эти речи в бреду не обманны, не лживы, (Разве может солгать, – ошибается бред!) Но проходят недели, – мы живы, Забывая обет. В этот миг расставанья мучительно-скорый Нам казалось: на солнце навек пелена, Нам казалось: подвинутся горы И погаснет луна. В этот горестный миг – на печаль или радость — Мы и душу и сердце, мы всё отдаем, Прозревая великую сладость В отрешенье своем. К утешителю-сну простираются руки, Мы томительно спим от зари до зари. Но за дверью знакомые звуки: «Мы пришли, отвори!» В этот миг, улыбаясь раздвинутым стенам, Мы кидаемся в жизнь, облегченно дыша. Наше сердце смеется над пленом, И смеется душа!Итог дня
Ах, какая усталость под вечер! Недовольство собою и миром и всем! Слишком много я им улыбалась при встрече, Улыбалась, не зная зачем. Слишком много вопросов без жажды За ответ заплатить возлиянием слез. Говорили, гадали, и каждый Неизвестность с собою унес. Слишком много потупленных взоров, Слишком много ненужных бесед в терему, Вышивания бисером слишком ненужных узоров. Вот гирлянда, вот ангел… К чему? Ах, какая усталость! Как слабы Наши лучшие сны! Как легка в обыденность ступень! Я могла бы уйти, я замкнуться могла бы… Я Христа предавала весь день!«И уж опять они в полуистоме…»
И уж опять они в полуистоме О каждом сне волнуются тайком; И уж опять в полууснувшем доме Ведут беседу с давним дневником. Опять под музыку на маленьком диване Звенит-звучит таинственный рассказ О рудниках, о мертвом караване, О подземелье, где зарыт алмаз. Улыбка сумерок, как прежде, в окна льется; Как прежде, им о лампе думать лень; И уж опять из темного колодца Встает Ундины плачущая тень[62]. Да, мы по-прежнему мечтою сердце лечим, В недетский бред вплетая детства нить, Но близок день, – и станет грезить нечем, Как и теперь уже нам нечем жить!Дикая воля
Я люблю такие игры, Где надменны все и злы. Чтоб врагами были тигры И орлы! Чтобы пел надменный голос: «Гибель здесь, а там тюрьма!» Чтобы ночь со мной боролась, Ночь сама! Я несусь, – за мною пасти, Я смеюсь, – в руках аркан… Чтобы рвал меня на части Ураган! Чтобы все враги – герои! Чтоб войной кончался пир! Чтобы в мире было двое: Я и мир!Aeternum vale[63]
Aeternum vale! Сброшен крест! Иду искать под новым бредом И новых бездн и новых звезд, От поражения – к победам! Aeternum vale! Дух окреп И новым сном из сна разбужен. Я вся – любовь, и мягкий хлеб Дареной дружбы мне не нужен. Aeternum vale! В путь иной Меня ведет иная твердость. Меж нами вечною стеной Неумолимо встала – гордость.Только девочка
Я только девочка. Мой долг До брачного венца Не забывать, что всюду – волк И помнить: я – овца. Мечтать о замке золотом, Качать, кружить, трясти Сначала куклу, а потом Не куклу, а почти. В моей руке не быть мечу, Не зазвенеть струне. Я только девочка, – молчу. Ах, если бы и мне, Взглянув на звезды, знать, что там И мне звезда зажглась, И улыбаться всем глазам, Не опуская глаз!Барабан
В майское утро качать колыбель? Гордую шею в аркан? Пленнице – прялка, пастушке – свирель, Мне – барабан. Женская доля меня не влечет: Скуки боюсь, а не ран! Всё мне дарует, – и власть и почет Мой барабан. Солнышко встало, деревья в цвету… Сколько невиданных стран! Всякую грусть убивай на лету, Бей, барабан! Быть барабанщиком! Всех впереди! Всё остальное – обман! Что покоряет сердца на пути, Как барабан?Жажда
Лидии Александровне Тамбурер
Наше сердце тоскует о пире И не спорит и всё позволяет. Почему же ничто в этом мире Не утоляет? И рубины, и розы, и лица, — Всё вблизи безнадежно тускнеет. Наше сердце о книги пылится, Но не умнеет. Вот и юг, – мы томились по зною… Был он дерзок, – теперь умоляет… Почему же ничто под луною Не утоляет?Розовая юность
С улыбкой на розовых лицах Стоим у скалы мы во мраке. Сгорело бы небо в зарницах При первом решительном знаке, И рухнула в бездну скала бы При первом решительном стуке… – Но если б вы знали, как слабы У розовой юности руки.Полночь
Снова стрелки обежали целый круг: Для кого-то много счастья позади. Подымается с мольбою сколько рук! Сколько писем прижимается к груди! Где-то кормчий наклоняется к рулю, Кто-то бредит о короне и жезле, Чьи-то губы прошептали: «Не люблю», Чьи-то локоны запутались в петле. Где-то свищут, где-то рыщут по кустам, Где-то пленнику приснились палачи, Там, в ночи, кого-то душат, там Зажигаются кому-то три свечи. Там, над капищем безумья и грехов, Собирается великая гроза, И над томиком излюбленных стихов Чьи-то юные печалятся глаза.Первый бал
О, первый бал – самообман! Как первая глава романа, Что по ошибке детям дан, Его просившим слишком рано, Как радуга в струях фонтана Ты, первый бал, – самообман. Ты, как восточный талисман, Как подвиги в стихах Ростана[64]. Огни сквозь розовый туман, Виденья пестрого экрана… О, первый бал – самообман! Незаживающая рана!Домики старой Москвы
Слава прабабушек томных, Домики старой Москвы, Из переулочков скромных Все исчезаете вы, Точно дворцы ледяные По мановенью жезла. Где потолки расписные, До потолков зеркала? Где клавесина аккорды, Темные шторы в цветах, Великолепные морды На вековых воротах, Кудри, склоненные к пяльцам, Взгляды портретов в упор… Странно постукивать пальцем О деревянный забор! Домики с знаком породы, С видом ее сторожей, Вас заменили уроды, — Грузные, в шесть этажей. Домовладельцы – их право! И погибаете вы, Томных прабабушек слава, Домики старой Москвы.Юношеские стихи
Литературным прокурорам
Всё таить, чтобы люди забыли, Как растаявший снег и свечу? Быть в грядущем лишь горсточкой пыли Под могильным крестом? Не хочу! Каждый миг, содрогаясь от боли, К одному возвращаюсь опять: Навсегда умереть! Для того ли Мне судьбою дано всё понять? Вечер в детской, где с куклами сяду, На лугу паутинную нить, Осужденную душу по взгляду… Всё понять и за всех пережить! Для того я (в проявленном – сила) Всё родное на суд отдаю, Чтобы молодость вечно хранила Беспокойную юность мою.«Идешь, на меня похожий…»
Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала – тоже! Прохожий, остановись! Прочти – слепоты куриной И маков набрав букет — Что звали меня Мариной И сколько мне было лет. Не думай, что здесь – могила, Что я появлюсь, грозя… Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя! И кровь приливала к коже, И кудри мои вились… Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись! Сорви себе стебель дикий И ягоду ему вслед: Кладбищенской земляники Крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, Главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, Легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает! Ты весь в золотой пыли… – И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли.Коктебель, 3 мая 1913
«Моим стихам, написанным так рано…»
Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я – поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, — Нечитанным стихам! Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.Коктебель, 13 мая 1913
«Солнцем жилки налиты – не кровью…»
Солнцем жилки налиты – не кровью — На руке, коричневой уже. Я одна с моей большой любовью К собственной моей душе. Жду кузнечика, считаю дó ста, Стебелек срываю и жую… – Странно чувствовать так сильно и так просто Мимолетность жизни – и свою.15 мая 1913
«Вы, идущие мимо меня…»
Вы, идущие мимо меня К не моим и сомнительным чарам, — Если б знали вы, сколько огня, Сколько жизни, растраченной даром, И какой героический пыл На случайную тень и на шорох… – И как сердце мне испепелил Этот даром истраченный порох! О летящие в ночь поезда, Уносящие сон на вокзале… Впрочем, знаю я, что и тогда Не узнали бы вы – если б знали, — Почему мои речи резки В вечном дыме моей папиросы, — Сколько темной и грозной тоски В голове моей светловолосой.17 мая 1913
«Сердце, пламени капризней…»
Сердце, пламени капризней, В этих диких лепестках, Я найду в своих стихах Все, чего не будет в жизни. Жизнь подобна кораблю: Чуть испанский замок – мимо! Все, что неосуществимо, Я сама осуществлю. Всем случайностям навстречу! Путь – не все ли мне равно? Пусть ответа не дано, — Я сама себе отвечу! С детской песней на устах Я иду – к какой отчизне? Все, чего не будет в жизни Я найду в своих стихах!Коктебель, 22 мая 1913
«Мальчиком, бегущим резво…»
Мальчиком, бегущим резво, Я предстала Вам. Вы посмеивались трезво Злым моим словам: «Шалость – жизнь мне, имя – шалость. Смейся, кто не глуп!» И не видели усталость Побледневших губ. Вас притягивали луны Двух огромных глаз. – Слишком розовой и юной Я была для Вас! Тающая легче снега, Я была – как сталь. Мячик, прыгнувший с разбега Прямо на рояль, Скрип песка под зубом или Стали по стеклу… – Только Вы не уловили Грозную стрелу Легких слов моих, и нежность Гнева напоказ… – Каменную безнадежность Всех моих проказ!29 мая 1913
Сергею Эфрон-Дурново[65]
1 "Есть такие голоса…"
Есть такие голоса, Что смолкаешь, им не вторя, Что предвидишь чудеса. Есть огромные глаза Цвета моря. Вот он встал перед тобой: Посмотри на лоб и брови И сравни его с собой! То усталость голубой, Ветхой крови. Торжествует синева Каждой благородной веной. Жест царевича и льва Повторяют кружева Белой пеной. Вашего полка – драгун, Декабристы и версальцы![66] И не знаешь – так он юн — Кисти, шпаги или струн Просят пальцы.Коктебель, 19 июля 1913
2 "Как водоросли Ваши члены…"
Как водоросли Ваши члены, Как ветви мальмэзонских ив[67]… Так Вы лежали в брызгах пены, Рассеянно остановив На светло-золотистых дынях Аквамарин и хризопраз[68] Сине-зеленых, серо-синих, Всегда полузакрытых глаз. Летели солнечные стрелы И волны – бешеные львы. Так Вы лежали, слишком белый От нестерпимой синевы… А за спиной была пустыня И где-то станция Джанкой[69]… И тихо золотилась дыня Под Вашей длинною рукой. Так, драгоценный и спокойный, Лежите, взглядом не даря, Но взглянете – и вспыхнут войны, И горы двинутся в моря, И новые зажгутся луны, И лягут яростные львы — По наклоненью Вашей юной, Великолепной головы.1 августа 1913
Байрону[70]
Я думаю об утре Вашей славы, Об утре Ваших дней, Когда очнулись демоном от сна Вы И богом для людей. Я думаю о том, как Ваши брови Сошлись над факелами Ваших глаз, О том, как лава древней крови По Вашим жилам разлилась. Я думаю о пальцах – очень длинных — В волнистых волосах, И обо всех – в аллеях и в гостиных — Вас жаждущих глазах. И о сердцах, которых – слишком юный — Вы не имели времени прочесть В те времена, когда всходили луны И гасли в Вашу честь. Я думаю о полутемной зале, О бархате, склоненном к кружевам, О всех стихах, какие бы сказали Вы – мне, я – Вам. Я думаю еще о горсти пыли, Оставшейся от Ваших губ и глаз… О всех глазах, которые в могиле. О них и нас.Ялта, 24 сентября 1913
Встреча с Пушкиным
Я подымаюсь по белой дороге, Пыльной, звенящей, крутой. Не устают мои легкие ноги Выситься над высотой. Слева – крутая спина Аю-Дага[71], Синяя бездна – окрест. Я вспоминаю курчавого мага Этих лирических мест. Вижу его на дороге и в гроте… Смуглую руку у лба… – Точно стеклянная на повороте Продребезжала арба… — Запах – из детства – какого-то дыма Или каких-то племен… Очарование прежнего Крыма Пушкинских милых времен. Пушкин! – Ты знал бы по первому взору, Кто у тебя на пути. И просиял бы, и под руку в гору Не предложил мне идти. Не опираясь о смуглую руку, Я говорила б, идя, Как глубоко презираю науку И отвергаю вождя, Как я люблю имена и знамена, Волосы и голоса, Старые вина и старые троны, – Каждого встречного пса! — Полуулыбки в ответ на вопросы, И молодых королей… Как я люблю огонек папиросы В бархатной чаще аллей, Комедиантов и звон тамбурина[72], Золото и серебро, Неповторимое имя: Марина, Байрона и болеро[73], Ладанки, карты, флаконы и свечи, Запах кочевий и шуб, Лживые, в душу идущие, речи Очаровательных губ. Эти слова: никогда и навеки, За колесом – колею… Смуглые руки и синие реки, – Ах, – Мариулу[74] твою! — Треск барабана – мундир властелина — Окна дворцов и карет, Рощи в сияющей пасти камина, Красные звезды ракет… Вечное сердце свое и служенье Только ему, Королю! Сердце свое и свое отраженье В зеркале… – Как я люблю… Кончено… – Я бы уж не говорила, Я посмотрела бы вниз… Вы бы молчали, так грустно, так мило Тонкий обняв кипарис. Мы помолчали бы оба – не так ли? — Глядя, как где-то у ног, В милой какой-нибудь маленькой сакле[75] Первый блеснул огонек. И – потому что от худшей печали Шаг – и не больше – к игре! — Мы рассмеялись бы и побежали За руку вниз по горе.1 октября 1913
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет всё, что пело и боролось, Сияло и рвалось: И зелень глаз моих, и нежный голос, И золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня. И будет всё – как будто бы под небом И не было меня! Изменчивой, как дети, в каждой мине И так недолго злой, Любившей час, когда дрова в камине Становятся золой, Виолончель и кавалькады[76] в чаще, И колокол в селе… – Меня, такой живой и настоящей На ласковой земле! – К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры, Чужие и свои?! Я обращаюсь с требованьем веры И с просьбой о любви. И день и ночь, и письменно и устно: За правду да и нет, За то, что мне так часто – слишком грустно И только двадцать лет, За то, что мне – прямая неизбежность — Прощение обид, За всю мою безудержную нежность, И слишком гордый вид, За быстроту стремительных событий, За правду, за игру… – Послушайте! – Еще меня любите За то, что я умру.8 декабря 1913
«Быть нежной, бешеной и шумной…»
Быть нежной, бешеной и шумной, – Так жаждать жить! — Очаровательной и умной, — Прелестной быть! Нежнее всех, кто есть и были, Не знать вины… – О возмущенье, что в могиле Мы все равны! Стать тем, что никому не мило, – О, стать как лед! — Не зная ни того, что было, Ни что придет. Забыть, как сердце раскололось И вновь срослось, Забыть свои слова и голос, И блеск волос. Браслет из бирюзы старинной — На стебельке, На этой узкой, этой длинной Моей руке… Как зарисовывая тучку Издалека, За перламутровую ручку Бралась рука, Как перепрыгивали ноги Через плетень, Забыть, как рядом по дороге Бежала тень. Забыть, как пламенно в лазури, Как дни тихи… – Все шалости свои, все бури И все стихи! Мое свершившееся чудо Разгонит смех. Я, вечно розовая, буду Бледнее всех. И не раскроются – так надо – О, пожалей! — Ни для заката, ни для взгляда, Ни для полей — Мои опущенные веки. – Ни для цветка! — Моя земля, прости навеки, На все века. И так же будут таять луны И таять снег, Когда промчится этот юный, Прелестный век.Феодосия, Сочельник 1913
Генералам двенадцатого года
Сергею
Вы, чьи широкие шинели Напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели И голоса. И чьи глаза, как бриллианты, На сердце вырезали след — Очаровательные франты Минувших лет. Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу, — Цари на каждом бранном поле И на балу. Вас охраняла длань Господня И сердце матери. Вчера — Малютки-мальчики, сегодня — Офицерá. Вам все вершины были малы И мягок – самый черствый хлеб, О молодые генералы Своих судеб! Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучков-четвертый[77], Ваш нежный лик, И вашу хрупкую фигуру, И золотые ордена… И я, поцеловав гравюру, Не знала сна. О, как – мне кажется – могли вы Рукою, полною перстней, И кудри дев ласкать – и гривы Своих коней. В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век… И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. Три сотни побеждало – трое! Лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, Вы всё могли. Что так же трогательно-юно, Как ваша бешеная рать?… Вас златокудрая Фортуна Вела, как мать. Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие — И весело переходили В небытие.Феодосия, 26 декабря 1913
«Ты, чьи сны еще непробудны…»
Ты, чьи сны еще непробудны, Чьи движенья еще тихи, В переулок сходи Трехпрудный[78], Если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звездно Начат жизненный первый том, Умоляю – пока не поздно, Приходи посмотреть наш дом! Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь еще не срублен И не продан еще наш дом. Этот тополь! Под ним ютятся Наши детские вечера. Этот тополь среди акаций Цвета пепла и серебра. Этот мир невозвратно-чудный Ты застанешь еще, спеши! В переулок сходи Трехпрудный, В эту душу моей души.<1913>
С. Э ("Я с вызовом ношу его кольцо…)[79]
Я с вызовом ношу его кольцо, – Да, в Вечности – жена, не на бумаге. — Его чрезмерно узкое лицо Подобно шпаге. Безмолвен рот его, углами вниз, Мучительно-великолепны брови. В его лице трагически слились Две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза – прекрасно-бесполезны! — Под крыльями распахнутых бровей — Две бездны. В его лице я рыцарству верна, – Всем вам, кто жил и умирал без страху. — Такие – в роковые времена — Слагают стансы[80] – и идут на плаху.Коктебель, 1914 – Ванв, 1937
Але[81]
1 "Ты будешь невинной, тонкой…"
Ты будешь невинной, тонкой, Прелестной – и всем чужой. Пленительной амазонкой, Стремительной госпожой. И косы свои, пожалуй, Ты будешь носить, как шлем, Ты будешь царицей бала — И всех молодых поэм. И многих пронзит, царица, Насмешливый твой клинок, И всё, что мне – только снится, Ты будешь иметь у ног. Всё будет тебе покорно. И все при тебе – тихи. Ты будешь, как я бесспорно — И лучше писать стихи… Но будешь ли ты – кто знает — Смертельно виски сжимать, Как их вот сейчас сжимает Твоя молодая мать.5 июня 1914
2 "Да, я тебя уже ревную…"
Да, я тебя уже ревную, Такою ревностью, такой! Да, я тебя уже волную Своей тоской. Моя несчастная природа В тебе до ужаса ясна: В твои без месяца два года — Ты так грустна. Все куклы мира, все лошадки Ты без раздумия отдашь — За листик из моей тетрадки И карандаш. Ты с няньками в какой-то ссоре — Все делать хочется самой. И вдруг отчаянье, что «море Ушло домой». Не передашь тебя – как гордо Я о тебе ни повествуй! — Когда ты просишь: «Мама, морду Мне поцелуй». Ты знаешь, все во мне смеется, Когда кому-нибудь опять Никак тебя не удается Поцеловать. Я – змей, похитивший царевну, — Дракон! – Всем женихам – жених! — О свет очей моих! – О ревность Ночей моих!6 июня 1914
Бабушке[82]
Продолговатый и твердый овал, Черного платья раструбы… Юная бабушка! Кто целовал Ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца Вальсы Шопена играли… По сторонам ледяного лица — Локоны в виде спирали. Темный, прямой и взыскательный взгляд. Взгляд, к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, – кто Вы? Сколько возможностей Вы унесли И невозможностей – сколько? — В ненасытимую прорву земли, Двадцатилетняя полька! День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. – Бабушка! Этот жестокий мятеж В сердце моем – не от Вас ли?…4 сентября 1914
Из цикла «Подруга»[83]
2 "Под лаской плюшевого пледа…"
Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон. Что это было? – Чья победа? — Кто побежден? Всё передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь? Кто был охотник? – Кто – добыча? Всё дьявольски наоборот! Что понял, длительно мурлыча, Сибирский кот? В том поединке своеволий Кто, в чьей руке был только мяч? Чье сердце – Ваше ли, мое ли Летело вскачь? И все-таки – что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль?23 октября 1914
3 "Сегодня таяло, сегодня…"
Сегодня таяло, сегодня Я простояла у окна. Взгляд отрезвленней, грудь свободней, Опять умиротворена. Не знаю почему. Должно быть, Устала попросту душа, И как-то не хотелось трогать Мятежного карандаша. Так простояла я – в тумане — Далекая добру и злу, Тихонько пальцем барабаня По чуть звенящему стеклу. Душой не лучше и не хуже, Чем первый встречный – этот вот, — Чем перламутровые лужи, Где расплескался небосвод, Чем пролетающая птица И попросту бегущий пес, И даже нищая певица Меня не довела до слез. Забвенья милое искусство Душой усвоено уже. Какое-то большое чувство Сегодня таяло в душе.24 октября 1914
12 "Сини подмосковные холмы…"
Сини подмосковные холмы, В воздухе чуть теплом – пыль и деготь. Сплю весь день, весь день смеюсь, – должно быть, Выздоравливаю от зимы. Я иду домой возможно тише: Ненаписанных стихов – не жаль! Стук колес и жареный миндаль Мне дороже всех четверостиший. Голова до прелести пуста, Оттого что сердце – слишком полно! Дни мои – как маленькие волны, На которые гляжу с моста. Чьи-то взгляды слишком уж нежны В нежном воздухе, едва нагретом… Я уже заболеваю летом, Еле выздоровев от зимы.13 марта 1915
15 "Хочу у зеркала, где муть…"
Хочу у зеркала, где муть И сон туманящий, Я выпытать – куда Вам путь И где пристанище. Я вижу: мачта корабля, И Вы – на палубе… Вы – в дыме поезда… Поля В вечерней жалобе… Вечерние поля в росе, Над ними – во́роны… – Благословляю Вас на все Четыре стороны!3 мая 1915
«Безумье – и благоразумье…»
Безумье – и благоразумье, Позор – и честь, Все, что наводит на раздумье, Все слишком есть — Во мне. – Все каторжные страсти Свились в одну! — Так в волосах моих – все масти Ведут войну! Я знаю весь любовный шепот, – Ах, наизусть! — Мой двадцатидвухлетний опыт — Сплошная грусть! Но облик мой – невинно розов, – Что ни скажи! — Я виртуоз из виртуозов В искусстве лжи. В ней, запускаемой как мячик, – Ловимый вновь! — Моих прабабушек-полячек Сказалась кровь. Лгу оттого, что по кладбищам Трава растет, Лгу оттого, что по кладбищам Метель метет… От скрипки – от автомобиля — Шелков, огня… От пытки, что не все любили Одну меня! От боли, что не я – невеста У жениха… От жеста и стиха – для жеста И для стиха! От нежного боа[84] на шее… И как могу Не лгать, – раз голос мой нежнее, — Когда я лгу…3 января 1915
Анне Ахматовой[85]
Узкий, нерусский стан — Над фолиантами. Шаль из турецких стран Пала, как мантия. Вас передашь одной Ломаной черной линией. Холод – в веселье, зной — В Вашем унынии. Вся Ваша жизнь – озноб, И завершится – чем она? Облачный – темен – лоб Юного демона. Каждого из земных Вам заиграть – безделица! И безоружный стих В сердце нам целится. В утренний сонный час, – Кажется, четверть пятого, — Я полюбила Вас, Анна Ахматова.11 февраля 1915
«Легкомыслие! – Милый грех…»
Легкомыслие! – Милый грех, Милый спутник и враг мой милый! Ты в глаза мои вбрызнул смех, Ты мазурку мне вбрызнул в жилы. Научил не хранить кольца, — С кем бы жизнь меня ни венчала! Начинать наугад с конца И кончать еще до начала. Быть как стебель и быть как сталь, В жизни, где мы так мало можем… – Шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим!3 марта 1915
«Бессрочно кораблю не плыть…»
Бессрочно кораблю не плыть И соловью не петь. Я столько раз хотела жить И столько умереть! Устав, как в детстве от лото, Я встану от игры, Счастливая не верить в то, Что есть еще миры.9 мая 1915
«Что видят они? – Пальто…»
Что видят они? – Пальто На юношеской фигуре. Никто не узнал, никто, Что полы его как буря. Остер, как мои лета, Мой шаг молодой и четкий[86]. И вся моя правота Вот в этой моей походке. А я ухожу навек И думаю: день весенний Запомнит мой бег – и бег Моей сумасшедшей тени. Весь воздух такая лесть, Что я быстроту удвою, Нет ветра, но ветер есть Над этою головою! Летит за крыльцом крыльцо, Весь мир пролетает сбоку. Я знаю свое лицо. Сегодня оно жестоко. Как птицы полночный крик, Пронзителен бег летучий. Я чувствую: в этот миг Мой лоб рассекает – тучи!Вознесение, 1915
«Мне нравится, что Вы больны не мной…»[87]
Мне нравится, что Вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не Вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной — Распущенной – и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что Вы при мне Спокойно обнимаете другую, Не прочите мне в адовом огне Гореть за то, что я не Вас целую. Что имя нежное мое, мой нежный, не Упоминаете ни днем ни ночью – всуе… Что никогда в церковной тишине Не пропоют над нами: аллилуйя! Спасибо Вам и сердцем и рукой За то, что Вы меня – не зная сами! — Так любите: за мой ночной покой, За редкость встреч закатными часами, За наши не-гулянья под луной, За солнце не у нас над головами, За то, что Вы больны – увы! – не мной, За то, что я больна – увы! – не Вами.3 мая 1915
«Какой-нибудь предок мой был – скрипач…»
Какой-нибудь предок мой был – скрипач, Наездник и вор при этом. Не потому ли мой нрав бродяч И волосы пахнут ветром! Не он ли, смуглый, крадет с арбы Рукой моей – абрикосы, Виновник страстной моей судьбы, Курчавый и горбоносый. Дивясь на пахаря за сохой, Вертел между губ – шиповник. Плохой товарищ он был, – лихой И ласковый был любовник! Любитель трубки, луны и бус, И всех молодых соседок… Еще мне думается, что – трус Был мой желтоглазый предок. Что, душу черту продав за грош, Он в полночь не шел кладби́щем! Еще мне думается, что нож Носил он за голенищем. Что не однажды из-за угла Он прыгал – как кошка – гибкий… И почему-то я поняла, Что он – не играл на скрипке! И было всё ему нипочем, — Как снег прошлогодний – летом! Таким мой предок был скрипачом. Я стала – таким поэтом.23 июня 1915
«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..»
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем – поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется, уже земля в росе, Уж скоро звездная в небе застынет вьюга, И под землею скоро уснем мы все, Кто на земле не давали уснуть друг другу.3 октября 1915
«Цыганская страсть разлуки!..»
Цыганская страсть разлуки! Чуть встретишь – уж рвешься прочь! Я лоб уронила в руки И думаю, глядя в ночь: Никто, в наших письмах роясь, Не понял до глубины, Как мы вероломны, то есть — Как сами себе верны.Октябрь 1915
«Лежат они, написанные наспех…»
Лежат они, написанные наспех, Тяжелые от горечи и нег. Между любовью и любовью распят Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. И слышу я, что где-то в мире – грозы, Что амазонок копья блещут вновь. – А я пера не удержу! – Две розы Сердечную мне высосали кровь.Москва, 20 декабря 1915
«Никто ничего не отнял!..»[88]
Никто ничего не отнял! Мне сладостно, что мы врозь. Целую Вас – через сотни Разъединяющих верст. Я знаю, наш дар – неравен, Мой голос впервые – тих. Что Вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих! На страшный полет крещу Вас: Лети, молодой орел! Ты солнце стерпел, не щурясь, — Юный ли взгляд мой тяжел? Нежней и бесповоротней Никто не глядел Вам вслед… Целую Вас – через сотни Разъединяющих лет.12 февраля 1916
«Ты запрокидываешь голову…»
Ты запрокидываешь голову Затем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого Привел мне нынешний февраль! Преследуемы оборванцами И медленно пуская дым, Торжественными чужестранцами Проходим городом родным. Чьи руки бережные нежили Твои ресницы, красота, И по каким терновалежиям Лавровая тебя верста… — Не спрашиваю. Дух мой алчущий Переборол уже мечту. В тебе божественного мальчика, — Десятилетнего я чту. Помедлим у реки, полощущей Цветные бусы фонарей. Я доведу тебя до площади, Видавшей отроков-царей… Мальчишескую боль высвистывай И сердце зажимай в горсти… Мой хладнокровный, мой неистовый Вольноотпущенник – прости!18 февраля 1916
«Откуда такая нежность?..»
Откуда такая нежность? Не первые – эти кудри Разглаживаю, и губы Знавала темней твоих. Всходили и гасли звезды, – Откуда такая нежность? — Всходили и гасли очи У самых моих очей. Еще не такие гимны Я слушала ночью темной, Венчаемая – о нежность! — На самой груди певца. Откуда такая нежность И что с нею делать, отрок Лукавый, певец захожий, С ресницами – нет длинней?18 февраля 1916
Из цикла «Стихи о Москве»
1 "Облака – вокруг…"
Облака – вокруг, Купола – вокруг, Надо всей Москвой Сколько хватит рук! — Возношу тебя, бремя лучшее, Деревцо мое Невесомое! В дивном граде сем, В мирном граде сем, Где и мертвой – мне Будет радостно, — Царевать тебе, горевать тебе, Принимать венец, О мой первенец![89] Ты постом говей[90], Не сурьми бровей[91] И все сорок – чти — Сороков церквей[92]. Исходи пешком – молодым шажком! — Все привольное Семихолмие[93]. Будет твой черед: Тоже – дочери Передашь Москву С нежной горечью. Мне же вольный сон, колокольный звон, Зори ранние — На Ваганькове[94].31 марта 1916
2 "Из рук моих – нерукотворный град…"
Из рук моих – нерукотворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат[95]. По церковке – все сорок сороков, И реющих над ними голубков. И Спасские – с цветами – ворота́, Где шапка православного снята[96]. Часовню звездную[97] – приют от зол — Где вытертый от поцелуев – пол. Пятисоборный несравненный круг[98] Прими, мой древний, вдохновенный друг. К Нечаянныя Радости в саду[99] Я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, Бессонные взгремят колокола, И на тебя с багряных облаков Уронит Богородица покров, И встанешь ты, исполнен дивных сил… Ты не раскаешься, что ты меня любил.31 марта 1916
4 "Настанет день – печальный, говорят!.."
Настанет день – печальный, говорят! Отцарствуют, отплачут, отгорят, – Остужены чужими пятаками[100] — Мои глаза, подвижные как пламя. И – двойника нащупавший двойник — Сквозь легкое лицо проступит лик. О, наконец тебя я удостоюсь, Благообразия прекрасный пояс! А издали – завижу ли и Вас? — Потянется, растерянно крестясь, Паломничество по дорожке черной К моей руке, которой не отдерну, К моей руке, с которой снят запрет, К моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, о, живые, Я ничего не возражу – впервые. Меня окутал с головы до пят Благообразия прекрасный плат. Ничто меня уже не вгонит в краску, Святая у меня сегодня Пасха. По улицам оставленной Москвы Поеду – я, и побредете – вы. И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, — И наконец-то будет разрешен Себялюбивый, одинокий сон. И ничего не надобно отныне Новопреставленной болярыне Марине.11 апреля 1916, первый день Пасхи
5 "Над городом, отвергнутым Петром…"
Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой Над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала! Но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы — Неоспоримо первенство Москвы. И целых сорок сороков церквей Смеются над гордынею царей!28 мая 1916
6 "Над синевою подмосковных рощ…"
Над синевою подмосковных рощ Накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы калужскою дорогой, — Калужской – песенной – прекрасной, и она Смывает и смывает имена Смиренных странников, во тьме поющих Бога. И думаю: когда-нибудь и я, Устав от вас, враги, от вас, друзья, И от уступчивости речи русской, — Одену крест серебряный на грудь, Перекрещусь и тихо тронусь в путь По старой по дороге по калужской.Троицын день. 1916
7 "Семь холмов – как семь колоколов!.."
Семь холмов – как семь колоколов! На семи колоколах – колокольни. Всех счетом – сорок сороков. Колокольное семихолмие! В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова[101]. Дом – пряник, а вокруг плетень И церковки златоголовые. И любила же, любила же я первый звон, Как монашки потекут к обедне, Вой в печке, и жаркий сон, И знахарку с двора соседнего. Провожай же меня, весь московский сброд, Юродивый, воровской, хлыстовский![102] Поп, крепче позаткни мне рот Колокольной землей московскою!8 июля 1916. Казанская
8 "– Москва! – Какой огромный…"
– Москва! – Какой огромный Странноприимный дом![103] Всяк на Руси – бездомный. Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, За голенищем нож. Издалека-далече Ты все же позовешь. На каторжные клейма, На всякую болесть — Младенец Пантелеймон У нас, целитель[104], есть. А вон за тою дверцей, Куда народ валит, — Там Иверское сердце[105] Червонное горит. И льется аллилуйя На смуглые поля. Я в грудь тебя целую, Московская земля!8 июля 1916. Казанская
9 "Красною кистью…"
Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья, Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов[106]. Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть.16 августа 1916
«Да с этой львиною…»
Да с этой львиною Златою россыпью, Да с этим поясом, Да с этой поступью, — Как не бежать за ним По белу по́ свету — За этим поясом, За этим посвистом! Иду по улице — Народ сторонится. Как от разбойницы, Как от покойницы. Уж знают все, каким Молюсь угодникам Да по зелененьким Да по часовенкам. Моя, подруженьки, Моя, моя вина. Из голубого льна Не тките савана. На вечный сон за то, Что не спала одна, — Под дикой яблоней Ложусь без ладана.2 апреля 1916. Вербная Суббота
«Веселись, душа, пей и ешь!..»
Веселись, душа, пей и ешь! А настанет срок — Положите меня промеж Четырех дорог. Там, где во́ поле во пустом Воронье да волк, Становись надо мной крестом, Раздорожный столб! Не чуралася я в ночи Окаянных мест. Высоко надо мной торчи, Безымянный крест. Не один из вас, други, мной Был и сыт и пьян. С головою меня укрой, Полевой бурьян! Не запаливайте свечу Во церковной мгле. Вечной памяти не хочу На родной земле.4 апреля 1916
Из цикла «Бессонница»
3 "В огромном городе моем – ночь…"
В огромном городе моем – ночь. Из дома сонного иду – прочь. И люди думают: жена, дочь, — А я запомнила одно: ночь. Июльский ветер мне метет – путь, И где-то музыка в окне – чуть. Ах, нынче ветру до зари – дуть Сквозь стенки тонкие груди – в грудь. Есть черный тополь, и в окне – свет, И звон на башне, и в руке – цвет, И шаг вот этот – никому – вслед, И тень вот эта, а меня – нет. Огни – как нити золотых бус, Ночного листика во рту – вкус. Освободите от дневных уз, Друзья, поймите, что я вам – снюсь.17 июля 1916 Москва
4 "После бессонной ночи слабеет тело…"
После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не своим, – ничьим. В медленных жилах еще занывают стрелы — И улыбаешься людям, как серафим. После бессонной ночи слабеют руки И глубоко равнодушен и враг и друг. Целая радуга – в каждом случайном звуке, И на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Нежно светлеют губы, и тень золоче Возле запавших глаз. Это ночь зажгла Этот светлейший лик, – и от темной ночи Только одно темнеет у нас – глаза.19 июля 1916
6 "Сегодня ночью я одна в ночи́…"
Сегодня ночью я одна в ночи́ — Бессонная, бездомная черница![107] — Сегодня ночью у меня ключи От всех ворот единственной столицы! Бессонница меня толкнула в путь. – О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! — Сегодня ночью я целую в грудь Всю круглую воюющую землю! Вздымаются не волосы – а мех, И душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, — Кого жалеют и кого целуют.1 августа 1916
10 "Вот опять окно…"
Вот опять окно, Где опять не спят. Может – пьют вино, Может – так сидят. Или просто – рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое. Крик разлук и встреч — Ты, окно в ночи́! Может – сотни свеч, Может – три свечи… Нет и нет уму Моему – покоя. И в моем дому Завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем!23 декабря 1916
Из цикла «Стихи к Блоку» [108]
1 "Имя твое – птица в руке…"
Имя твое – птица в руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно-единственное движенье губ, Имя твое – пять букв[109]. Мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту, Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт Громкое имя твое гремит. И назовет его нам в висок Звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя! — Имя твое – поцелуй в глаза, В нежную стужу недвижных век, Имя твое – поцелуй в снег. Ключевой, ледяной, голубой глоток… С именем твоим – сон глубок.15 апреля 1916
3 "Ты проходишь на Запад Солнца…"
Ты проходишь на Запад Солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на Запад Солнца, И метель заметает след. Мимо окон моих – бесстрастный — Ты пройдешь в снеговой тиши, Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий моей души. Я на душу твою – не зарюсь! Нерушима твоя стезя. В руку, бледную от лобзаний, Не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, И руками не потянусь. Восковому святому лику Только издали поклонюсь. И, под медленным снегом стоя, Опущусь на колени в снег, И во имя твое святое Поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой Ты прошел в гробовой тиши, Свете тихий – святыя славы — Вседержитель моей души.2 мая 1916
5 "У меня в Москве – купола горят!.."
У меня в Москве – купола горят! У меня в Москве – колокола звонят! И гробницы в ряд у меня стоят, — В них царицы спят и цари[110]. И не знаешь ты, что зарей в Кремле Легче дышится – чем на всей земле! И не знаешь ты, что зарей в Кремле Я молюсь тебе – до зари! И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой Москвой Я стою с опущенной головой, И слипаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю — О ту пору, как по всему Кремлю Просыпаются звонари… Но моя река – да с твоей рекой, Но моя рука – да с твоей рукой Не сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит заря – зари.7 мая 1916
7 "Должно быть – за той рощей…"
Должно быть – за той рощей Деревня, где я жила, Должно быть – любовь проще И легче, чем я ждала. – Эй, идолы, чтоб вы сдохли! — Привстал и занес кнут, И окрику вслед – óхлест, И вновь бубенцы поют. Над валким и жалким хлебом За жердью встает – жердь. И проволока под небом Поет и поет смерть.13 мая 1916
8 "И тучи оводов вокруг равнодушных кляч…"
И тучи оводов вокруг равнодушных кляч, И ветром вздутый калужский родной кумач, И посвист перепелов, и большое небо, И волны колоколов над волнами хлеба, И толк о немце, доколе не надоест, И желтый-желтый – за синею рощей – крест, И сладкий жар, и такое на всем сиянье, И имя твое, звучащее словно: ангел.18 мая 1916
9 "Как слабый луч сквозь черный морок адов…"
Как слабый луч сквозь черный морок адов — Так голос твой под рокот рвущихся снарядов. И вот в громах, как некий серафим, Оповещает голосом глухим, — Откуда-то из древних утр туманных — Как нас любил, слепых и безымянных, За синий плащ, за вероломства – грех… И как нежнее всех – ту, глубже всех В ночь канувшую – на дела лихие! И как не разлюбил тебя, Россия. И вдоль виска – потерянным перстом Все водит, водит… И еще о том, Какие дни нас ждут, как Бог обманет, Как станешь солнце звать – и как не встанет… Так, узником с собой наедине (Или ребенок говорит во сне?), Предстало нам – всей площади широкой! — Святое сердце Александра Блока.9 мая 1920
12 "Други его – не тревожьте его!.."
Други его – не тревожьте его! Слуги его – не тревожьте его! Было так ясно на лике его: Царство мое не от мира сего. Вещие вьюги кружили вдоль жил, — Плечи сутулые гнулись от крыл, В певчую прорезь, в запекшийся пыл — Лебедем душу свою упустил! Падай же, падай же, тяжкая медь! Крылья изведали право: лететь! Губы, кричавшие слово: ответь! — Знают, что этого нет – умереть! Зори пьет, море пьет – в полную сыть Бражничает. – Панихид не служить! У навсегда повелевшего: быть! — Хлеба достанет его накормить!15 августа 1921
13 "А над равниной…"
А над равниной — Крик лебединый. Матерь, ужель не узнала сына? Это с заоблачной – он – версты, Это последнее – он – прости. А над равниной — Вещая вьюга. Дева, ужель не узнала друга? Рваные ризы, крыло в крови… Это последнее он: – Живи! Над окаянной — Взлет осиянный. Праведник душу урвал – осанна![111] Каторжник койку – обрел – теплынь. Пасынок к матери в дом. – Аминь.Между 15 и 25 августа 1921
17 "Так, Господи! И мой обол…"
Так, Господи! И мой обол Прими на утвержденье храма[112]. Не свой любовный произвол Пою – своей отчизны рану. Не скаредника ржавый ларь — Гранит, коленами протертый. Всем отданы герой и царь, Всем – праведник – певец – и мертвый. Днепром разламывая лед, Гробовым не смущаясь тесом, Русь – Пасхою к тебе плывет, Разливом тысячеголосым. Так, сердце, плачь и славословь! Пусть вопль твой – тысяча который? — Ревнует смертная любовь. Другая – радуется хору.2 декабря 1921
Ахматовой
1 "О, Муза плача, прекраснейшая из муз!.."
О, Муза плача, прекраснейшая из муз! О ты, шальное исчадие ночи белой! Ты черную насылаешь метель на Русь, И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. И мы шарахаемся и глухое: ох! — Стотысячное – тебе присягает: Анна Ахматова! Это имя – огромный вздох, И в глубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой Мы землю топчем, что небо над нами – то же! И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, Уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, И Спаса светлого славит слепец бродячий… И я дарю тебе свой колокольный град, – Ахматова! – и сердце свое в придачу.19 июня 1916
2 "Охватила голову и стою…"
Охватила голову и стою, – Что людские козни! — Охватила голову и пою На заре на поздней. Ах, неистовая меня волна Подняла на гребень! Я тебя пою, что у нас – одна, Как луна на небе! Что, на сердце вороном налетев, В облака вонзилась. Горбоносую, чей смертелен гнев[113] И смертельна – милость. Что и над червонным моим Кремлем Свою ночь простерла, Что певучей негою, как ремнем, Мне стянула горло. Ах, я счастлива! Никогда заря Не сгорала чище. Ах, я счастлива, что, тебя даря, Удаляюсь – нищей, Что тебя, чей голос – о глубь, о мгла! — Мне дыханье сузил, Я впервые именем назвала Царскосельской Музы[114].22 июня 1916
3 "Еще один огромный взмах…"
Еще один огромный взмах — И спят ресницы. О, тело милое! О, прах Легчайшей птицы! Что делала в тумане дней? Ждала и пела… Так много вздоха было в ней, Так мало – тела. Не человечески мила Ее дремота. От ангела и от орла В ней было что-то. И спит, а хор ее манит В сады Эдема. Как будто песнями не сыт Уснувший демон! Часы, года, века. – Ни нас, Ни наших комнат. И памятник, накоренясь, Уже не помнит. Давно бездействует метла, И никнут льстиво Над Музой Царского Села Кресты крапивы.23 июня 1916
4 "Имя ребенка – Лев…"
Имя ребенка – Лев[115], Матери – Анна. В имени его – гнев, В материнском – тишь. Волосом он рыж – Голова тюльпана! — Что ж, осанна Маленькому царю. Дай ему Бог – вздох И улыбку матери, Взгляд – искателя Жемчугов[116]. Бог, внимательней За ним присматривай: Царский сын – гадательней Остальных сынов. Рыжий львеныш С глазами зелеными, Страшное наследье тебе нести! Северный Океан и Южный И нить жемчужных Черных четок – в твоей горсти![117]24 июня 1916
5 "Сколько спутников и друзей!.."[118]
Сколько спутников и друзей! Ты никому не вторишь. Правят юностью нежной сей — Гордость и горечь. Помнишь бешеный день в порту, Южных ветров угрозы, Рев Каспия – и во рту Крылышко розы. Как цыганка тебе дала Камень в резной оправе, Как цыганка тебе врала Что-то о славе… И – высо́ко у парусов — Отрока в синей блузе. Гром моря и грозный зов Раненой Музы.25 июня 1916
6 "Не отстать тебе! Я – острожник…"
Не отстать тебе! Я – острожник, Ты – конвойный. Судьба одна. И одна в пустоте порожней Подорожная нам дана. Уж и нрав у меня спокойный! Уж и очи мои ясны! Отпусти-ка меня, конвойный, Прогуляться до той сосны!26 июня 1916
7 "Ты, срывающая покров…"
Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Разъярительница ветров, Насылательница метелей, Лихорадок, стихов и войн, – Чернокнижница! – Крепостница! — Я заслышала грозный вой Львов, вещающих колесницу. Слышу страстные голоса — И один, что молчит упорно. Вижу красные паруса — И один – между ними – черный[119]. Океаном ли правишь путь Или воздухом – всею грудью Жду, как солнцу, подставив грудь Смертоносному правосудью.26 июня 1916
8 "На базаре кричал народ…"
На базаре кричал народ, Пар вылетал из булочной. Я запомнила алый рот Узколицей певицы уличной. В темном – с цветиками – платке, – Милости удостоиться Ты, потупленная, в толпе Богомолок у Сергий-Троицы[120], Помолись за меня, краса Грустная и бесовская, Как поставят тебя леса Богородицей хлыстовскою[121].27 июня 1916
9 "Златоустой Анне – всея Руси…"
Златоустой Анне – всея Руси Искупительному глаголу, — Ветер, голос мой донеси И вот этот мой вздох тяжелый. Расскажи, сгорающий небось он, Про глаза, что черны от боли, И про тихий земной поклон Посреди золотого поля. Ты, в грозовой выси Обретенный вновь! Ты! – Безымянный! Донеси любовь мою Златоустой Анне – всея Руси!27 июня 1916
10 "У тонкой проволоки над волной овсов…"
У тонкой проволоки над волной овсов Сегодня голос – как тысяча голосов! И бубенцы проезжие – свят, свят, свят — Не тем же ль голосом, Господи, говорят. Стою и слушаю и растираю колос, И темным куполом меня замыкает – голос. Не этих ивовых плавающих ветвей Касаюсь истово, – а руки твоей. Для всех, в томленье славящих твой подъезд, — Земная женщина, мне же – небесный крест! Тебе одной ночами кладу поклоны, И все́ твоими очами глядят иконы!1 июля 1916
11 "Ты солнце в выси мне застишь…"
Ты солнце в выси мне застишь, Все звезды в твоей горсти! Ах, если бы – двери настежь! — Как ветер к тебе войти! И залепетать, и вспыхнуть, И круто потупить взгляд, И, всхлипывая, затихнуть, Как в детстве, когда простят.2 июля 1916
12 "Руки даны мне – протягивать каждому обе…"
Руки даны мне – протягивать каждому обе,
Не удержать ни одной, губы – давать имена,
Очи – не видеть, высокие брови над ними —
Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви.
А этот колокол там, что кремлевских тяжéле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, —
Это – кто знает? – не знаю, – быть может, —
должно быть —
Мне загоститься не дать на российской земле!
2 июля 1916
<13> "А что, если кудри в плат…"
А что, если кудри в плат Упрячу – что вьются валом, И в синий вечерний хлад Побреду себе… – Куда это держишь путь, Красавица, – аль в обитель? – Нет, милый, хочу взглянуть На царицу, на царевича, на Питер. – Ну, дай тебе Бог! – Тебе! — Стоим опустив ресницы. – Поклон от меня Неве, Коль запомнишь, да царевичу с царицей. … И вот меж крылец – крыльцо Горит заревою пылью, И вот – промеж лиц – лицо Горбоносое и волосы, как крылья. На лестницу нам нельзя, — Следы по ступенькам лягут. И снизу – глаза в глаза: – Не потребуется ли, барынька, ягод?28 июня 1916
«Белое солнце и низкие, низкие тучи…»[122]
Белое солнце и низкие, низкие тучи, Вдоль огородов – за белой стеною – погост. И на песке вереница соломенных чучел Под перекладинами в человеческий рост. И, перевесившись через заборные колья, Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд… Старая баба – посыпанный крупною солью Черный ломоть у калитки жует и жует. Чем прогневили тебя эти серые хаты, Господи! – и для чего стольким простреливать грудь? Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты, И запылил, запылил отступающий путь… Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!3 июля 1916
«И взглянул, как в первые раза…»
И взглянул, как в первые раза Не глядят. Черные глаза глотнули взгляд. Вскинула ресницы и стою. – Что, – светла? — Не скажу, что выпита дотла. Всё до капли поглотил зрачок. И стою. И течет твоя душа в мою.7 августа 1916
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…»
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес, Оттого что я на земле стою – лишь одной ногой, Оттого что я тебе спою – как никто другой. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, У всех золотых знамен, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других – у той, одной, Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой, И в последнем споре возьму тебя – замолчи! — У того, с которым Иаков стоял в ночи[123]. Но пока тебе не скрещу на груди персты — О проклятия – у тебя остаешься – ты: Два крыла твои, нацеленные в эфир, — Оттого что мир – твоя колыбель, и могила – мир!15 августа 1916
В революционной Москве
«Над церкóвкой – голубые облака…»
Над церкóвкой – голубые облака, Крик вороний… И проходят – цвета пепла и песка — Революционные войска. Ох ты барская, ты царская моя тоска! Нету лиц у них и нет имен, — Песен нету! Заблудился ты, кремлевский звон, В этом ветреном лесу знамен. Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!Москва, 2 марта 1917
Царю – на Пасху
Настежь, настежь Царские врата! Сгасла, схлынула чернота. Чистым жаром Горит алтарь. – Христос воскресе, Вчерашний царь![124] Пал без славы Орел двуглавый. – Царь! – Вы были неправы. Помянёт потомство Еще не раз — Византийское вероломство Ваших ясных глаз. Ваши судьи — Гроза и вал! Царь! Не люди — Вас Бог взыскал. Но нынче Пасха По всей стране, Спокойно спите В своем Селе[125], Не видьте красных Знамен во сне. Царь! – Потомки И предки – сон. Есть – котомка, Коль отнят – трон[126].Москва, 2 апреля 1917, первый день Пасхи
«За Отрока – за Голубя – за Сына…»
За Отрока – за Голубя – за Сына, За царевича младого Алексия[127] Помолись, церковная Россия! Очи ангельские вытри, Вспомяни, как пал на плиты Голубь углицкий – Димитрий[128]. Ласковая ты, Россия, матерь! Ах, ужели у тебя не хватит На него – любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне. Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия!4 апреля 1917, третий день Пасхи
Стенька Разин
1 "Ветры спать ушли – с золотой зарей…"
Ветры спать ушли – с золотой зарей, Ночь подходит – каменною горой, И с своей княжною из жарких стран Отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб, Да заслушался, запрокинув лоб, Как гремит над жарким его шатром — Соловьиный гром.22 апреля 1917
2 "А над Волгой – ночь…"
А над Волгой – ночь, А над Волгой – сон. Расстелили ковры узорные, И возлег на них атаман с княжной Персиянкою – Брови Черные. И не видно звезд, и не слышно волн, Только весла да темь кромешная! И уносит в ночь атаманов чёлн Персиянскую душу грешную. И услышала Ночь – такую речь: – Аль не хочешь, что ль, Потеснее лечь? Ты меж наших баб — Что жемчужинка! Аль уж страшен так? Я твой вечный раб, Персияночка! Полоняночка! А она – брови насупила, Брови длинные. А она – очи потупила Персиянские. И из уст ее — Только вздох один: – Джаль-Эддин! А над Волгой – заря румяная, А над Волгой – рай. И грохочет ватага пьяная: – Атаман, вставай! Належался с басурманскою собакою! Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы! А она – что смерть, Рот закушен в кровь. — Так и ходит атаманова крутая бровь. – Не поладила ты с нашею постелью, Так поладь, собака, с нашею купелью! В небе-то – ясно, Темно – на дне. Красный один Башмачок на корме. И стоит Степан – ровно грозный дуб, Побелел Степан – аж до самых губ. Закачался, зашатался. – Ох, томно! Поддержите, нехристи, – в очах темно! Вот и вся тебе персияночка, Полоняночка.25 апреля 1917
3 (Сон Разина) "И снится Разину – сон…"
И снится Разину – сон: Словно плачется болотная цапля. И снится Разину – звон: Ровно капельки серебряные каплют. И снится Разину дно: Цветами – что плат ковровый. И снится лицо одно — Забытое, чернобровое. Сидит ровно Божья Мать Да жемчуг на нитку нижет. И хочет он ей сказать, Да только губами движет… Сдавило дыханье – аж Стеклянный, в груди, осколок. И ходит, как сонный страж, Стеклянный – меж ними – полог. Рулевой зарею правил Вниз по Волге-реке. Ты зачем меня оставил Об одном башмачке? Кто красавицу захочет В башмачке одном? Я приду к тебе, дружочек, За другим башмачком! И звенят-звенят, звенят-звенят запястья: – Затонуло ты, Степаново счастье!8 мая 1917
«Из строгого, стройного храма…»
Из строгого, стройного храма Ты вышла на визг площадей… – Свобода! – Прекрасная Дама Маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, — Обедня еще впереди! – Свобода! – Гулящая девка На шалой солдатской груди!26 мая 1917
(Бальмонт, выслушав: – Мне не нравится – твое презрение к девке! Я – обижен за девку! Потому что – (блаженно заведенные глаза) – иная девка… Я: – Как жаль, что я не могу тебе ответить: – «Как и иной солдат…»)
«Горечь! Горечь! Вечный привкус…»
Горечь! Горечь! Вечный привкус На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь! Вечный искус — Окончательнее пасть. Я от горечи – целую Всех, кто молод и хорош. Ты от горечи – другую Ночью за руку ведешь. С хлебом ем, с водой глотаю Горечь-горе, горечь-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Русь.10 июня 1917
Але («А когда – когда-нибудь – как в воду…»)[129]
А когда – когда-нибудь – как в воду И тебя потянет – в вечный путь, Оправдай змеиную породу: Дом – меня – мои стихи – забудь. Знай одно: что завтра будешь старой. Пей вино, правь тройкой, пой у Яра[130], Синеокою цыганкой будь. Знай одно: никто тебе не пара — И бросайся каждому на грудь. Ах, горят парижские бульвары! (Понимаешь – миллионы глаз!) Ах, гремят мадридские гитары! (Я о них писала – столько раз!) Знай одно: (твой взгляд широк от жара, Паруса надулись – добрый путь!) Знай одно: что завтра будешь старой, Остальное, деточка, – забудь.11 июня 1917
«Молодую рощу шумную…»
Молодую рощу шумную — Дровосек перерубил. То, что Господом задумано — Человек перерешил. И уж роща не колышется — Только пни, покрыты ржой. В голосах родных мне слышится Темный голос твой чужой. Все мерещатся мне дивные Темных глаз твоих круги. – Мы с тобою – неразрывные, Неразрывные враги.20 августа 1917
Руан[131]
И я вошла, и я сказала: – Здравствуй! Пора, король, во Францию, домой! — И я опять веду тебя на царство, И ты опять обманешь, Карл Седьмой![132] Не ждите, принц, скупой и невеселый, Бескровный принц, не распрямивший плеч, Чтоб Иоанна разлюбила – голос[133], Чтоб Иоанна разлюбила – меч. И был Руан, в Руане – Старый рынок… – Все будет вновь: последний взор коня, И первый треск невинных хворостинок, И первый всплеск соснового огня. А за плечом – товарищ мой крылатый Опять шепнет: – Терпение, сестра! — Когда сверкнут серебряные латы Сосновой кровью моего костра.4 декабря 1917
«На кортике своем: Марина…»
На кортике своем: Марина — Ты начертал, встав за Отчизну. Была я первой и единой В твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик пресветлый В аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, Я в ларчике храню погоны.Москва, 18 января 1918
«Кровных коней запрягайте в дровни!..»
Кровных коней запрягайте в дровни! Графские вина пейте из луж! Единодержцы штыков и душ! Распродавайте – на вес – часовни, Монастыри – с молотка – на слом. Рвитесь на лошади в Божий дом! Перепивайтесь кровавым пойлом! Стойла – в соборы! Соборы – в стойла! В чертову дюжину – календарь! Нас под рогожу за слово: царь! Единодержцы грошей и часа! На куполах вымещайте злость! Распродавая нас всех на мясо, Раб худородный увидит – Расу: Черная кость – белую кость.Москва. 2 марта 1918. Первый день весны
Дон
1 "Белая гвардия, путь твой высок…"
Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу – грудь и висок. Божье да белое твое дело: Белое тело твое – в песок. Не лебедей это в небе стая: Белогвардейская рать святая Белым видением тает, тает… Старого мира – последний сон: Молодость – Доблесть – Вандея[134] – Дон.24 марта 1918
2 "Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет…"
Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину: – Где были вы? – Вопрос как громом грянет, Ответ как громом грянет: – На Дону! – Что делали? – Да принимали муки, Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки За словом: долг напишут слово: Дон.30 марта 1918.
NB!Мои любимые
3 "Волны и молодость – вне закона!.."
Волны и молодость – вне закона! Тронулся Дон. – Погибаем. – Тонем. Ветру веков доверяем снесть Внукам – лихую весть: Да! Проломилась донская глыба! Белая гвардия – да! – погибла. Но покидая детей и жен, Но уходя на Дон, Белою стаей летя на плаху, Мы за одно умирали: хаты! Перекрестясь на последний храм, Белогвардейская рать – векам.Москва, Благовещение 1918 – дни разгрома Дона
«Идет по луговинам лития…»
Идет по луговинам лития[135]. Таинственная книга бытия Российского – где судьбы мира скрыты — Дочитана и наглухо закрыта. И рыщет ветер, рыщет по степи: – Россия! – Мученица! – С миром – спи!30 марта 1918
«Трудно и чудно – верность до гроба!..»
Трудно и чудно – верность до гроба! Царская роскошь – в век площадей! Стойкие души, стойкие ребра, — Где вы, о люди минувших дней?! Рыжим татарином рыщет вольность, С прахом равняя алтарь и трон. Над пепелищами – рев застольный Беглых солдат и неверных жен.11 апреля 1918
Андрей Шенье[136]
1 "Андрей Шенье взошел на эшафот…"
Андрей Шенье взошел на эшафот, А я живу – и это страшный грех. Есть времена – железные – для всех. И не певец, кто в порохе – поет. И не отец, кто с сына у ворот Дрожа срывает воинский доспех. Есть времена, где солнце – смертный грех. Не человек – кто в наши дни живет.1 7 апреля 1918
2 "Не узнаю́ в темноте…"
Не узнаю́ в темноте Руки – свои иль чужие? Мечется в страшной мечте Черная Консьержерия[137]. Руки роняют тетрадь, Щупают тонкую шею. Утро крадется как тать. Я дописать не успею.17 апреля 1918
«Не самозванка – я пришла домой…»
Не самозванка – я пришла домой, И не служанка – мне не надо хлеба. Я – страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой день седьмой, твое седьмое небо. Там на земле мне подавали грош И жерновов навешали на шею. – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? Я ласточка твоя – Психея![138]Апрель 1918
«Коли в землю солдаты всадили – штык…»
Коли в землю солдаты всадили – штык, Коли красною тряпкой затмили – Лик[139][140], Коли Бог под ударами – глух и нем, Коль на Пасху народ не пустили в Кремль — Надо бражникам старым засесть за холст, Рыбам – петь, бабам – умствовать, птицам – ползть, Конь на всаднике должен скакать верхом, Новорожденных надо поить вином[141], Реки – жечь, мертвецов выносить – в окно, Солнце красное в полночь всходить должно, Имя суженой должен забыть жених… Государыням нужно любить – простых[142].Третий день Пасхи 1918
«Московский герб: герой пронзает гада…»[143]
Московский герб: герой пронзает гада[144]. Дракон в крови. Герой в луче. – Так надо. Во имя Бога и души живой Сойди с ворот, Господень часовой! Верни нам вольность, Воин, им – живот[145]. Страж роковой Москвы – сойди с ворот! И докажи – народу и дракону — Что спят мужи – сражаются иконы[146].9 мая 1918
«Бог – прав…»
Бог – прав Тлением трав, Сухостью рек, Воплем калек, Вором и гадом, Мором и гладом, Срамом и смрадом, Громом и градом. Попранным Словом. Про́клятым годом. Пленом царёвым. Вставшим народом.12 мая 1918
NB! Очевидно, нужно понять: Бог все-таки прав, прав – вопреки.)
«В черном небе слова начертаны…»
В черном небе слова начертаны — И ослепли глаза прекрасные… И не страшно нам ложе смертное, И не сладко нам ложе страстное. В поте – пишущий, в поте пашущий! Нам знакомо иное рвение: Легкий огнь, над кудрями пляшущий, — Дуновение – Вдохновения!14 мая 1918
«Благословляю ежедневный труд…»
Благословляю ежедневный труд, Благословляю еженощный сон. Господню милость и Господень суд, Благой закон – и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, И пыльный посох свой, где все лучи… – Еще, Господь, благословляю мир В чужом дому – и хлеб в чужой печи.21 мая 1918
«Наградил меня Господь…»
Наградил меня Господь Сердцем светлым и железным, Даром певчим, даром слезным. Оградил меня Господь Белым знаменем. Обошел меня Господь Плотским пламенем. Выше – знамя! Бог над нами! Тяжче камня — Плотский пламень!Май 1918
«Хочешь знать мое богачество?..»
Хочешь знать мое богачество? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам – свищется. Юным – рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. – Слезный дар – мое богачество!Май 1918
«Мракобесие. – Смерч. – Содом…»
Мракобесие. – Смерч. – Содом[147]. Берегите Гнездо и Дом. Долг и Верность спустив с цепи, Человек молодой – не спи! В воротах, как Благая Весть, Белым стражем да встанет – Честь. Обведите свой дом – межой, Да не вни́дет в него – Чужой. Берегите от злобы волн Садик сына и дедов холм. Под ударами злой судьбы — Выше – пра́дедовы дубы!6 июня 1918
«Я – страница твоему перу…»
Я – страница твоему перу. Всё приму. Я белая страница. Я – хранитель твоему добру: Возращу и возвращу сторицей. Я – деревня, черная земля. Ты мне – луч и дождевая влага. Ты – Господь и Господин, а я — Чернозем – и белая бумага!10 июля 1918
«Как правая и левая рука…»
Как правая и левая рука, Твоя душа моей душе близка. Мы смежены, блаженно и тепло, Как правое и левое крыло. Но вихрь встает – и бездна пролегла От правого – до левого крыла!10 июля 1918
«Рыцарь ангелоподобный…»
Рыцарь ангелоподобный — Долг! – Небесный часовой! Белый памятник надгробный На моей груди живой. За моей спиной крылатой Вырастающий ключарь, Еженощный соглядатай, Ежеутренний звонарь. Страсть, и юность, и гордыня — Все сдалось без мятежа, Оттого что ты рабыне Первый молвил: – Госпожа!14 июля 1918
«Доблесть и девственность! – Сей союз…»
Доблесть и девственность! – Сей союз Древен и дивен, как Смерть и Слава. Красною кровью своей клянусь И головою своей кудрявой — Ноши не будет у этих плеч, Кроме божественной ноши – Мира! Нежную руку кладу на меч: На лебединую шею Лиры.27 июля 1918
«Мой день беспутен и нелеп…»
Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, В иголку продеваю – луч, Грабителю вручаю – ключ, Белилами румяню бледность. Мне нищий хлеба не дает, Богатый денег не берет, Луч не вдевается в иголку, Грабитель входит без ключа, А дура плачет в три ручья — Над днем без славы и без толку.27 июля 1918
«Клонится, клонится лоб тяжелый…»
Клонится, клонится лоб тяжелый, Колосом клонится, ждет жнеца. Друг! Равнодушье – дурная школа! Ожесточает оно сердца. Жнец – милосерден: сожнет и свяжет, Поле опять прорастет травой… А равнодушного – Бог накажет! Страшно ступать по душе живой. Друг! Неизжитая нежность – душит. Хоть на алтын полюби – приму! Друг равнодушный! – Так страшно слушать Черную полночь в пустом дому!Июль 1918
«Есть колосья тучные, есть колосья тощие…»
Есть колосья тучные, есть колосья тощие. Всех – равно – без промаху – бьет Господень цеп. Я видала нищего на соборной площади: Сто годов без малости, – и просил на хлеб. Борода столетняя! – Чай, забыл, что смолоду Есть беда насущнее, чем насущный хлеб. Ты на старость, дедушка, просишь, я – на молодость! Всех равно – без промаху – бьет Господень цеп!5 августа 1918
«– Где лебеди? – А лебеди ушли…»
– Где лебеди? – А лебеди ушли. – А вороны? – А вороны – остались. – Куда ушли? – Куда и журавли. – Зачем ушли? – Чтоб крылья не достались. – А папа где? – Спи, спи, за нами Сон, Сон на степном коне сейчас приедет. – Куда возьмет? – На лебединый Дон. Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь…9 августа 1918
«Белогвардейцы! Гордиев узел…»
Белогвардейцы! Гордиев узел Доблести русской! Белогвардейцы! Белые грузди Песенки русской! Белогвардейцы! Белые звезды! С неба не выскрести! Белогвардейцы! Черные гвозди В ребра Антихристу!9 августа 1918
«Стихи растут, как звезды и как розы…»
Стихи растут, как звезды и как розы, Как красота – ненужная в семье. А на венцы и на апофеозы — Один ответ: – Откуда мне сие? Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты, Небесный гость в четыре лепестка. О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты Закон звезды и формула цветка.14 августа 1918
«Каждый стих – дитя любви…»
Каждый стих – дитя любви, Нищий незаконнорожденный. Первенец – у колеи На поклон ветрам – положенный. Сердцу ад и алтарь, Сердцу – рай и позор. Кто отец? – Может – царь. Может – царь, может – вор.14 августа 1918
«Надобно смело признаться, Лира!..»
Надобно смело признаться, Лира! Мы тяготели к великим мира: Мачтам, знаменам, церквам, царям, Бардам, героям, орлам и старцам, Так, присягнувши на верность – царствам, Не доверяют Шатра – ветрам. Знаешь царя – так псаря не жалуй! Верность как якорем нас держала: Верность величью – вине – беде, Верность великой вине венчанной! Так, присягнувши на верность – Хану, Не присягают его орде. Ветреный век мы застали, Лира! Ветер, в клоки изодрав мундиры, Треплет последний лоскут Шатра… Новые толпы – иные флаги! Мы ж остаемся верны присяге, Ибо дурные вожди – ветра.14 августа 1918
«Если душа родилась крылатой…»
Если душа родилась крылатой — Что́ ей хоромы – и что́ ей хаты! Что Чингисхан[148] ей и что – Орда! Два на миру у меня врага, Два близнеца, неразрывно слитых: Голод голодных – и сытость сытых!18 августа 1918
«Что другим не нужно – несите мне…»
Что другим не нужно – несите мне: Все должно сгореть на моем огне! Я и жизнь маню, я и смерть маню В легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества: Прошлогодний хворост – венки – слова… Пламень пышет с подобной пищи! Вы ж восстанете – пепла чище! Птица-Феникс я, только в огне пою![149] Поддержите высокую жизнь мою! Высоко горю и горю дотла, И да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан! Высоко несу свой высокий стан, Высоко несу свой высокий сан — Собеседницы и Наследницы!2 сентября 1918
«Любовь! Любовь! Куда ушла ты?..»
Любовь! Любовь! Куда ушла ты? – Оставила свой дом богатый, Надела воинские латы. – Я стала Голосом и Гневом, Я стала Орлеанской Девой[150].10 октября 1918
«Я берег покидал туманный Альбиона…»[151]
Я берег покидал туманный Альбиона…[152]
Батюшков «Я берег покидал туманный Альбиона…» Божественная высь! – Божественная грусть! Я вижу тусклых вод взволнованное лоно И тусклый небосвод, знакомый наизусть. И, прислоненного к вольнолюбивой мачте, Укутанного в плащ – прекрасного, как сон — Я вижу юношу. – О плачьте, девы, плачьте! Плачь, мужественность! – Плачь, туманный Альбион![153] Свершилось! – Он один меж небом и водою! Вот школа для тебя, о ненавистник школ! И в роковую грудь, пронзенную звездою, Царь роковых ветров врывается – Эол[154]. А рокот тусклых вод слагается в балладу О том, как он погиб, звездою заклеймен… Плачь, Юность! – Плачь, Любовь! – Плачь, Мир! – Рыдай, Эллада![155] Плачь, крошка Ада![156] – Плачь, туманный Альбион!30 октября 1918
«Царь и Бог! Простите малым…»
Царь и Бог! Простите малым — Слабым – глупым – грешным – шалым, В страшную воронку втянутым, Обольщенным и обманутым, — Царь и Бог! Жестокой казнию Не казните Стеньку Разина! Царь! Господь тебе отплатит! С нас сиротских воплей – хватит! Хватит, хватит с нас покойников! Царский Сын, – прости Разбойнику! В отчий дом – дороги разные. Пощадите Стеньку Разина! Разин! Разин! Сказ твой сказан! Красный зверь смирён и связан. Зубья страшные поломаны, Но за жизнь его за темную Да за удаль несуразную — Развяжите Стеньку Разина! Родина! Исток и устье! Радость! Снова пахнет Русью! Просияйте, очи тусклые! Веселися, сердце русское! Царь и Бог! Для-ради празднику — Отпустите Стеньку Разина!Москва, 1-я годовщина Октября
Дни, когда Мамонтов подходил к Москве – и вся буржуазия меняла керенские на царские – а я одна не меняла (не только потому, что их не было, но и) потому что знала, что не войдет в Столицу – Белый Полк!
«Благодарю, о Господь…»
Благодарю, о Господь, За Океан и за Сушу, И за прелестную плоть, И за бессмертную душу, И за горячую кровь, И за холодную воду. – Благодарю за любовь. Благодарю за погоду.9 ноября 1918
«Я счастлива жить образцово и просто…»
Я счастлива жить образцово и просто: Как солнце c как маятник – как календарь. Быть светской пустынницей стройного роста, Премудрой – как всякая Божия тварь. Знать: Дух – мой сподвижник и Дух – мой вожатый! Входить без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато, — Как Бог повелел и друзья не велят.22 ноября 1919
Из цикла «Комедьянт»[157]
– Посвящение —
– Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта, – не все равно ли, раз – Вашей милостью – я вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – нежную.
1 "Я помню ночь на склоне ноября…"
Я помню ночь на склоне ноября. Туман и дождь. При свете фонаря Ваш нежный лик – сомнительный и странный, По-диккенсовски[158] – тусклый и туманный, Знобящий грудь, как зимние моря… – Ваш нежный лик при свете фонаря. И ветер дул, и лестница вилась… От Ваших губ не отрывая глаз, Полусмеясь, свивая пальцы в узел, Стояла я, как маленькая Муза, Невинная – как самый поздний час… И ветер дул, и лестница вилась. А на меня из-под усталых вежд Струился сонм сомнительных надежд. – Затронув губы, взор змеился мимо… — Так серафим, томимый и хранимый Таинственною святостью одежд, Прельщает Мир – из-под усталых вежд. Сегодня снова диккенсова ночь. И тоже дождь, и так же не помочь Ни мне, ни Вам, – и так же хлещут трубы, И лестница летит… И те же губы… И тот же шаг, уже спешащий прочь — Туда – куда-то – в диккенсову ночь.2 ноября 1918
3 "Не любовь, а лихорадка!.."
Не любовь, а лихорадка! Легкий бой лукав и лжив. Нынче тошно, завтра сладко, Нынче помер, завтра жив. Бой кипит. Смешно обоим: Как умен – и как умна! Героиней и героем Я равно обольщена. Жезл пастуший – или шпага? Зритель, бой – или гавот?[159] Шаг вперед – назад три шага, Шаг назад – и три вперед. Рот как мед, в очах доверье, Но уже взлетает бровь. Не любовь, а лицемерье, Лицедейство – не любовь! И итогом этих (в скобках — Несодеянных!) грехов — Будет легонькая стопка Восхитительных стихов.20 ноября 1918
5 "Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно!.."
Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно! Прекрасные глаза, глядите осторожно! Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться. Тебе ль остановить кружа́щееся сердце? Порукою тетрадь – не выйдешь господином! Пристало ли вздыхать над действом комедийным? Любовный крест тяжел – и мы его не тронем. Вчерашний день прошел – и мы его схороним.20 ноября 1918
7 "Не успокоюсь, пока не увижу…"
Не успокоюсь, пока не увижу. Не успокоюсь, пока не услышу. Вашего взора пока не увижу, Вашего слова пока не услышу. Что-то не сходится – самая малость! Кто мне в задаче исправит ошибку? Солоно-солоно сердцу досталась Сладкая-сладкая Ваша улыбка! – Баба! – мне внуки на урне напишут. И повторяю – упрямо и слабо: Не успокоюсь, пока не увижу, Не успокоюсь, пока не услышу.23 ноября 1918
8 "Вы столь забывчивы, сколь незабвенны…"
Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. – Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! — Сказать еще? – Златого утра краше! Сказать еще? – Один во всей вселенной! Самой Любви младой военнопленный, Рукой Челлини ваянная чаша[160]. Друг, разрешите мне на лад старинный Сказать любовь, нежнейшую на свете. Я Вас люблю. – В камине воет ветер. Облокотясь – уставясь в жар каминный — Я Вас люблю. Моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг! Всё пройдет! Виски в ладонях сжаты, Жизнь разожмет! – Младой военнопленный, Любовь отпустит Вас, но – вдохновенный — Всем пророкочет голос мой крылатый — О том, что жили на земле когда-то Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный!25 ноября 1918
11 "Мне тебя уже не надо…"
Мне тебя уже не надо, Милый, – и не оттого что С первой почтой – не писал. И не оттого что эти Строки, писанные с грустью, Будешь разбирать – смеясь. (Писанные мной одною — Одному тебе! – впервые! — Расколдуешь – не один.) И не оттого что кудри До щеки коснутся – мастер Я сама читать вдвоем! — И не оттого что вместе – Над неясностью заглавных! — Вы вздохнете, наклонясь. И не оттого что дружно Веки вдруг смежатся – труден Почерк, – да к тому – стихи! Нет, дружочек! – Это проще, Это пуще, чем досада: Мне тебя уже не надо — Оттого что – оттого что — Мне тебя уже не надо!3 декабря 1918
16 "Это и много и мало…"
Это и много и мало. Это и просто и темно. Та, что была вероломной, За́ вечер – верная стала. Белой монашкою скромной, – Парой опущенных глаз. — Та, что была неуемной, За вечер вдруг унялась.Начало января 1919
23 "Солнце – одно, а шагает по всем городам…"
Солнце – одно, а шагает по всем городам. Солнце – мое. Я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. – Никому. – Никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города! В руки возьму! Чтоб не смело вертеться в кругу! Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу! В вечную ночь пропадет – погонюсь по следам… Солнце мое! Я тебя никому не отдам!Февраль 1919
25 "Сам Черт изъявил мне милость!.."
Сам Черт изъявил мне милость! Пока я в полночный час На красные губы льстилась — Там красная кровь лилась. Пока легион гигантов Редел на донском песке, Я с бандой комедиантов Браталась в чумной Москве. Хребет вероломства – гибок. О, сколько их шло на зов …моих улыбок …моих стихов. Чтоб Совесть не жгла под шалью — Сам Черт мне вставал помочь. Ни утра, ни дня – сплошная Шальная, чумная ночь. И только порой, в тумане, Клонясь, как речной тростник, Над женщиной плакал – Ангел О том, что забыла – Лик.Март 1919
Из цикла «Стихи к Сонечке» [161]
3 "В мое окошко дождь стучится…"
В мое окошко дождь стучится. Скрипит рабочий над станком. Была я уличной певицей, А ты был княжеским сынком. Я пела про судьбу-злодейку, И с раззолоченных перил Ты мне не рупь и не копейку, — Ты мне улыбку подарил. Но старый князь узнал затею: Сорвал он с сына ордена И повелел слуге-лакею Прогнать девчонку со двора. И напилась же я в ту ночку! Зато в блаженном мире – том — Была я – княжескою дочкой, А ты был уличным певцом!24 апреля 1919
4 "Заря малиновые полосы…"
Заря малиновые полосы Разбрасывает на снегу, А я пою нежнейшим голосом Любезной девушки судьбу. О том, как редкостным растением Цвела в светлейшей из теплиц: В высокосветском заведении Для благороднейших девиц. Как белым личиком в передничек Ныряла от словца «жених»; И как перед самим Наследником На выпуске читала стих, И как чужих сирот-проказников Водила в храм и на бульвар, И как потом домой на праздники Приехал первенец-гусар. Гусар! – Еще не кончив с куклами, – Ах! – в люльке мы гусара ждем! О, дом вверх дном! Букварь – вниз буквами! Давайте дух переведем! Посмотрим, как невинно-розовый Цветок сажает на фаянс. Проверим три старинных козыря: Пасьянс – романс – и контраданс. Во всей девчонке – ни кровиночки… Вся, как косыночка, бела. Махнула белою косыночкой, Султаном помахал с седла. И как потом к старухе чопорной Свалилась под ноги, как сноп, И как сам граф, ногами топая, Ее с крыльца спустил в сугроб… И как потом со свертком капельным – Отцу ненадобным дитём! — В царевом доме Воспитательном Прощалася… И как – потом — Предавши розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное девичество Его Величества полкам… И как художникам-безбожникам В долг одолжала красоту, И как потом с воро́м-острожником Толк заводила на мосту… И как рыбак на дальнем взмории Нашел двух туфелек следы… Вот вам старинная история, А мне за песню – две слезы.Апрель 1919
7 "Маленькая сигарера!.."
Маленькая сигарера![162] Смех и танец всей Севильи! Что тебе в том длинном, длинном Чужестранце длинноногом? Оттого, что ноги длинны, — Не суди: приходит первым! И у цапли ноги – длинны: Всё на том же на болоте! Невидаль, что белорук он! И у кошки ручки – белы. Оттого, что белы ручки, — Не суди: ласкает лучше! Невидаль – что белокур он! И у пены – кудри белы, И у дыма – кудри белы, И у куры – перья белы! Берегись того, кто утром Подымается без песен, Берегись того, кто трезвым — Как капель – ко сну отходит, Кто от солнца и от женщин Прячется в собор и в погреб, Как ножа бежит – загару, Как чумы бежит – улыбки. Стыд и скромность, сигарера, Украшенье для девицы, Украшенье для девицы, Посрамленье для мужчины. Кто приятелям не должен — Тот навряд ли щедр к подругам. Кто к жидам не знал дороги — Сам жидом под старость станет. Посему, малютка-сердце, Маленькая сигарера, Ты иного приложенья Поищи для красных губок. Губки красные – что розы: Нынче пышут, завтра вянут, Жалко их – на привиденье, И живой души – на камень.Москва – Ванв, 1919–1937
Бабушка
1 "Когда я буду бабушкой…"
Когда я буду бабушкой — Годов через десяточек — Причудницей, забавницей, — Вихрь с головы до пяточек! И внук – кудряш – Егорушка Взревет: «Давай ружье!» — Я брошу лист и перышко — Сокровище мое! Мать всплачет: «Год три месяца, А уж, гляди, как зол!» А я скажу: «Пусть бесится! Знать, в бабушку пошел!» Егор, моя утробушка! Егор, ребро от ребрышка! Егорушка, Егорушка, Егорий – свет – храбрец! Когда я буду бабушкой — Седой каргою с трубкою! — И внучка, в полночь крадучись, Шепнет, взметнувши юбками: «Кого, скажите, бабушка, Мне взять из семерых?» — Я опрокину лавочку, Я закружусь, как вихрь. Мать: «Ни стыда, ни совести! И в гроб пойдет пляша!» А я-то: «На здоровьице! Знать, в бабушку пошла!» Кто хо́док в пляске рыночной — Тот лих и на перинушке, — Маринушка, Маринушка, Марина – синь-моря! «А целовалась, бабушка, Голубушка, со сколькими?» — «Я дань платила песнями, Я дань взымала кольцами. Ни ночки, даром проспанной: Всё в райском во саду!» — «А как же, бабка, Господу Предстанешь на суду?» «Свистят скворцы в скворешнице, Весна-то – глянь! – бела… Скажу: – Родимый, – грешница! Счастливая была! Вы ж, ребрышко от ребрышка, Маринушка с Егорушкой, Моей землицы горсточку Возьмите в узелок».23 июля 1919
2 "А как бабушке…"
А как бабушке Помирать, помирать, Стали голуби Ворковать, ворковать: «Что ты, старая, Так лихуешься?» А она в ответ: «Что воркуете?» «А воркуем мы Про твою весну!» — «А лихуюсь я, Что идти ко сну, Что навек засну Сном закованным — Я, бессонная, Я, фартовая![163] Что луга мои яицкие не скошены[164], Жемчуга мои бурмицкие не сношены[165], Что леса мои волынские не срублены[166], На Руси не все мальчишки перелюблены!» А как бабушке Отходить, отходить, — Стали голуби В окно крыльями бить. «Что уж страшен так, Бабка, голос твой?» — «Не хочу отдать Девкам – молодцев». «Нагулялась ты, — Пора знать и стыд!» — «Этой малостью — Разве будешь сыт? Что над тем костром Я – холодная, Что за тем столом Я – голодная». А как бабушку Понесли, понесли, — Все-то голуби Полегли, полегли: Книзу – крылышком, Кверху – лапочкой… – Помолитесь, внучки юные, за бабушку!25 июля 1919
Тебе – через сто лет
К тебе, имеющему быть рожденным Столетие спустя, как отдышу, — Из самых недр, – как на́ смерть осужденный, Своей рукой – пишу: – Друг! Не ищи меня! Другая мода! Меня не помнят даже старики. – Ртом не достать! – Через летейски воды[167] Протягиваю две руки. Как два костра, глаза твои я вижу, Пылающие мне в могилу – в ад, — Ту видящие, что рукой не движет, Умершую сто лет назад. Со мной в руке – почти что горстка пыли — Мои стихи! – я вижу: на ветру Ты ищешь дом, где родилась я – или В котором я умру. На встречных женщин – тех, живых, счастливых, — Горжусь, как смотришь, и ловлю слова: «Сборище самозванок! Все́ мертвы вы! Она одна жива!» Я ей служил служеньем добровольца! Все тайны знал, весь склад ее перстней! Грабительницы мертвых! Эти кольца Украдены у ней! О, сто моих колец! Мне тянет жилы, Раскаиваюсь в первый раз, Что столько я их вкривь и вкось дарила, — Тебя не дождалась! И грустно мне еще, что в этот вечер, Сегодняшний – так долго шла я вслед Садящемуся солнцу, – и навстречу Тебе – через сто лет. Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье Моим друзьям, во мглу могил: – Всé восхваляли! Розового платья Никто не подарил! Кто бескорыстней был?! – Нет, я корыстна! Раз не убьешь, – корысти нет скрывать, Что я у всех выпрашивала письма, Чтоб ночью целовать. Сказать? – Скажу! Небытие – условность. Ты мне сейчас – страстнейший из гостей, И ты откажешь перлу всех любовниц Во имя той – костей.Август 1919
«Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..»
Чердачный дворец мой, дворцовый чердак! Взойдите. Гора рукописных бумаг… Так. – Руку! – Держите направо, — Здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, Какую мне Фландрию вывел паук[168]. Не слушайте толков досужих, Что женщина – может без кружев! Ну-с, перечень наших чердачных чудес: Здесь нас посещают и ангел, и бес, И тот, кто обоих превыше. Недолго ведь с неба – на крышу! Вам дети мои – два чердачных царька, С веселою музой моею, – пока Вам призрачный ужин согрею, — Покажут мою эмпирею[169]. – А что с Вами будет, как выйдут дрова? – Дрова? Но на то у поэта – слова Всегда – огневые – в запасе! Нам нынешний год не опасен… От века поэтовы корки черствы, И дела нам нету до Красной Москвы! Глядите: от края – до края — Вот наша Москва – голубая! А если уж слишком поэта доймет Московский, чумной, девятнадцатый год, — Что ж, – мы проживем и без хлеба! Недолго ведь с крыши – на небо.Октябрь 1919
С. Э («Хочешь знать, как дни проходят…»)
Хочешь знать, как дни проходят, Дни мои в стране обид? Две руки пилою водят, Сердце – имя говорит. Эх! Прошел бы ты по дому — Знал бы! Та́к в ночи пою, Точно по чему другому — Не по дереву – пилю. И чудят, чудят пилою Руки – вольные досель. И метет, метет метлою Богородица-Метель.Ноябрь 1919
«Высокó мое оконце!..»
Высокó мое оконце! Не достанешь перстеньком! На стене чердачной солнце От окна легло крестом. Тонкий крест оконной рамы, Мир. – На вечны времена. И мерещится мне: в самом Небе я погребена!Ноябрь 1919
Але
1 "Когда-нибудь, прелестное созданье…"
Когда-нибудь, прелестное созданье, Я стану для тебя воспоминаньем. Там, в памяти твоей голубоокой, Затерянным – так далекó-далёко. Забудешь ты мой профиль горбоносый, И лоб в апофеозе папиросы[170], И вечный смех мой, коим всех морочу, И сотню – на руке моей рабочей — Серебряных перстней, – чердак-каюту, Моих бумаг божественную смуту… Как в страшный год, возвышены Бедою, Ты – маленькой была, я – молодою.2 "О бродяга, родства не помнящий…"
О бродяга, родства не помнящий — Юность! – Помню: метель мела, Сердце пело. – Из нежной комнаты Я в метель тебя увела. И твой голос в метельной мгле: «Остригите мне, мама, волосы! Они тянут меня к земле!»Ноябрь 1919
3 "Маленький домашний дух…"
Маленький домашний дух, Мой домашний гений! Вот она, разлука двух Сродных вдохновений! Жалко мне, когда в печи Жар, – а ты не видишь! В дверь – звезда в моей ночи! — Не взойдешь, не выйдешь! Платьица твои висят, Точно плод запретный. На окне чердачном – сад Расцветает – тщетно. Голуби в окно стучат, — Скучно с голубями! Мне ветра привет кричат, — Бог с ними, с ветрами! Не сказать ветрам седым, Стаям голубиным — Чудодейственным твоим Голосом: – Марина!Ноябрь 1919
«Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить…»
Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить. А так: руки скрестить – тихонько плыть Глазами по пустому небосклону. Ни за свободу я – ни против оной — О, Господи! – не шевельну перстом. Я не дышать хочу – руки крестом!Декабрь 1919
«Простите Любви – она нищая!..»
Простите Любви – она нищая! У ней башмаки не чищены, — И вовсе без башмаков! Стояла вчерась на паперти, Молилася Божьей Матери, — Ей в дар башмачок сняла. Другой – на углу, у булочной, Сняла ребятишкам уличным: Где милый – узнать – прошел. Босая теперь – как ангелы! Не знает, что ей сафьянные В раю башмачки стоят.30 декабря 1919, Кунцево – Госпиталь
Памяти Г. Гейне[171]
Хочешь не хочешь – дам тебе знак! Спор наш не кончен – а только начат! В нынешней жизни – выпало так: Мальчик поет, а девчонка плачет. В будущей жизни – любо глядеть! — Ты будешь плакать, я буду – петь! Бубен в руке! Дьявол в крови! Красная юбка В черных сердцах! Красною юбкой – в небо пылю! Честь молодую – ковром подстелешь. Как с мотыльками тебя делю — Так с моряками меня поделишь! Красная юбка? – Как бы не так! Огненный парус! – Красный маяк! Бубен в руке! Дьявол в крови! Красная юбка В черных сердцах! Слушай приметы: бела как мел, И не смеюсь, а губами движу. А чтобы – как увидал – сгорел! — Не позабудь, что приду я – рыжей. Рыжей, как этот кленовый лист, Рыжей, как тот, что в лесах повис. Бубен в руке! Дьявол в крови! Красная юбка В черных сердцах!Начало апреля 1920
Сын
Так, левою рукой упершись в талью И ногу выставив вперед, Стоишь. Глаза блистают сталью, Не улыбается твой рот. Краснее губы и чернее брови Встречаются, но эта масть! Светлее солнца! Час не пробил Руну – под ножницами пасть. Все женщины тебе целуют руки И забывают сыновей. Весь – как струна! Славянской скуки Ни тени – в красоте твоей. Остолбеневши от такого света, Я знаю: мой последний час! И как не умереть поэту, Когда поэма удалась! Так, выступив из черноты бессонной Кремлевских башенных вершин, Предстал мне в предрассветном сонме Тот, кто еще придет – мой сын.Пасхальная неделя 1920
Из цикла «Н. Н. В.»[172]
Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. – Но Аллах мудрее…
Тысяча и одна ночь1 "Большими тихими дорогами…"
Большими тихими дорогами, Большими тихими шагами… Душа, как камень, в воду брошенный — Всё расширяющимися кругами… Та глубока – вода, и та темна – вода… Душа на все века – схоронена́ в груди. И так достать ее оттуда надо мне, И так сказать я ей хочу: в мою иди!27 апреля 1920
3 "Пахну́ло Англией – и морем…"
… то – вопреки всему – Англия…
Пахну́ло Англией – и морем — И доблестью. Суров и статен. — Так, связываясь с новым горем, Смеюсь, как юнга на канате Смеется в час великой бури, Наедине с Господним гневом, В блаженной, обезьяньей дури Пляша над пенящимся зевом. Упорны эти руки, – прочен Канат, – привык к морской метели! И сердце доблестно, – а впрочем, Не всем же умирать в постели! И вот, весь холод тьмы беззвездной Вдохнув – на самой мачте – с краю — Над разверзающейся бездной — Смеясь! – ресницы опускаю…27 апреля 1920
6 "Мой путь не лежит мимо дому – твоего…"
«А впрочем, Вы ведь никогда не ходите мимо моего дому…»
Мой путь не лежит мимо дому – твоего. Мой путь не лежит мимо дому – ничьего. А всё же с пути сбиваюсь (Особо весной!), А всё же по людям маюсь, Как пес под луной. Желанная всюду гостья! Всем спать не даю! Я с дедом играю в кости, А с внуком – пою. Ко мне не ревнуют жены: Я – голос и взгляд. И мне не один влюбленный Не вывел палат. Смешно от щедрот незваных Мне ваших, купцы! Сама воздвигаю за́ ночь — Мосты и дворцы. (А что говорю, не слушай! Всё мелет – бабье!) Сама поутру разрушу Творенье свое. Хоромы – как сноп соломы – ничего! Мой путь не лежит мимо дому – твоего.27 апреля 1920
7 "Глаза участливой соседки…"
Глаза участливой соседки И ровные шаги старушьи. В руках, свисающих как ветки — Божественное равнодушье. А юноша греметь с трибуны Устал. – Все молнии иссякли. — Лишь изредка на лоб мой юный Слова – тяжелые, как капли. Луна как рубище льняное Вдоль членов, кажущихся дымом. — Как хорошо мне под луною — С нелюбящим и нелюбимым.29 апреля 1920
9 "В мешок и в воду – подвиг доблестный!.."
В мешок и в воду – подвиг доблестный! Любить немножко – грех большой. Ты, ласковый с малейшим волосом, Неласковый с моей душой. Червонным куполом прельщаются И во́роны, и голубки. Кудрям – все прихоти прощаются, Как гиацинту – завитки. Грех над церковкой златоглавою Кружить – и не молиться в ней. Под этой шапкою кудрявою Не хочешь ты души моей! Вникая в прядки золотистые, Не слышишь жалобы смешной: О, если б ты – вот так же истово Клонился над моей душой!14 мая 1920
10 "На бренность бедную мою…"
На бренность бедную мою Взираешь, слов не расточая. Ты – каменный, а я пою, Ты – памятник, а я летаю. Я знаю, что нежнейший май Пред оком Вечности – ничтожен. Но птица я – и не пеняй, Что легкий мне закон положен.16 мая 1920
12 "Сказавший всем страстям: прости…"
Сказавший всем страстям: прости — Прости и ты. Обиды наглоталась всласть. Как хлещущий библейский стих, Читаю я в глазах твоих: «Дурная страсть!» В руках, тебе несущих есть, Читаешь – лесть. И смех мой – ревность всех сердец! — Как прокаженных бубенец — Гремит тебе. И по тому, как в руки вдруг Кирку берешь – чтоб рук Не взять (не те же ли цветы?), Так ясно мне – до тьмы в очах! — Что не было в твоих стадах Черней – овцы. Есть остров – благостью Отца, — Где мне не надо бубенца, Где черный пух — Вдоль каждой изгороди. – Да. Есть в мире – черные стада. Другой пастух.17 мая 1920
14 "Суда поспешно не чини…"
Суда поспешно не чини: Непрочен суд земной! И голубиной – не черни Галчонка – белизной. А впрочем – что ж, коли не лень! Но, всех перелюбя, Быть может, я в тот черный день Очнусь – белей тебя!17 мая 1920
16 "Восхи́щенной и восхищённой…"
Восхи́щенной и восхищённой, Сны видящей средь бела дня, Все спящей видели меня, Никто меня не видел сонной. И оттого, что целый день Сны проплывают пред глазами, Уж ночью мне ложиться – лень. И вот, тоскующая тень, Стою над спящими друзьями.17–19 мая 1920
17 "Пригвождена к позорному столбу…"
Пригвождена к позорному столбу Славянской совести старинной, С змеею в сердце и с клеймом на лбу, Я утверждаю, что – невинна. Я утверждаю, что во мне покой Причастницы перед причастьем. Что не моя вина, что я с рукой По площадям стою – за счастьем. Пересмотрите всё мое добро, Скажите – или я ослепла? Где золото мое? Где серебро? В моей руке – лишь горстка пепла! И это всё, что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. И это всё, что я возьму с собой В край целований молчаливых.21 "И не спасут ни стансы, ни созвездья…"
И не спасут ни стансы, ни созвездья. А это называется – возмездье За то, что каждый раз, Стан разгибая над строкой упорной, Искала я над лбом своим просторным Звезд только, а не глаз. Что самодержцем Вас признав на веру, — Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос, Без Вас мне не был пуст! Что по ночам, в торжественных туманах, Искала я у нежных уст румяных — Рифм только, а не уст. Возмездие за то, что злейшим судьям Была – как снег, что здесь, под левой грудью — Вечный апофеоз! Что с глазу на́ глаз с молодым Востоком Искала я на лбу своем высоком Зорь только, а не роз!20 мая 1920
22 "Не так уж подло и не так уж просто…"
Не так уж подло и не так уж просто, Как хочется тебе, чтоб крепче спать. Теперь иди. С высокого помоста Кивну тебе опять. И, удивленно подымая брови, Увидишь ты, что зря меня чернил: Что я писала – чернотою крови, Не пурпуром чернил.23 "Кто создан из камня, кто создан из глины…"
Кто создан из камня, кто создан из глины, — А я серебрюсь и сверкаю! Мне дело – измена, мне имя – Марина, Я – бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти — Тем гроб и надгробные плиты… — В купели морской крещена – и в полете Своем – непрестанно разбита! Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня – видишь кудри беспутные эти? — Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной – воскресаю! Да здравствует пена – веселая пена — Высокая пена морская!23 мая 1920
«Писала я на аспидной доске…»
С. Э.
Писала я на аспидной доске[173], И на листочках вееров поблёклых, И на речном, и на морском песке, Коньками по́ льду и кольцом на стеклах, — И на стволах, которым сотни зим, И, наконец – чтоб было всем известно! — Что ты любим! любим! любим! – любим! — Расписывалась – радугой небесной. Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной! под пальцами моими! И как потом, склонивши лоб на стол, Крест-накрест перечеркивала – имя… Но ты, в руке продажного писца Зажатое! ты, что мне сердце жалишь! Непроданное мной! внутри кольца![174] Ты – уцелеешь на скрижалях.18 мая 1920
Песенки из пьесы «Ученик»
3 "Я пришел к тебе за хлебом…"
Я пришел к тебе за хлебом За святым насущным. Точно в самое я небо — Не под кровлю впущен! Только Бог на звездном троне Так накормит вдоволь! Бог, храни в своей ладони Пастыря благого! Не забуду я хлеб-соли, Как поставлю парус! Есть на свете три неволи: Голод – страсть – и старость… От одной меня избавил, До другой – далёко! Ничего я не оставил У голубоокой! Мы, певцы, что мореходы: Покидаем вскоре! Есть на свете три свободы: Песня – хлеб – и море…<8> "И что тому костер остылый…"
И что тому костер остылый, Кому разлука – ремесло! Одной волною накатило, Другой волною унесло. Ужели в раболепном гневе За милым поползу ползком — Я, выношенная во чреве Не материнском, а морском! Кусай себе, дружочек родный, Как яблоко – весь шар земной! Беседуя с пучиной водной, Ты всё ж беседуешь со мной. Подобно земнородной деве, Не скрестит две руки крестом — Дщерь, выношенная во чреве Не материнском, а морском! Нет, наши девушки не плачут, Не пишут и не ждут вестей! Нет, снова я пущусь рыбачить Без невода и без сетей! Какая власть в моем напеве, — Одна не ведаю о том, — Я, выношенная во чреве Не материнском, а морском. Такое уж мое именье: Весь век дарю – не издарю! Зато прибрежные каменья Дробя, – свою же грудь дроблю! Подобно пленной королеве, Что молвлю на суду простом — Я, выношенная во чреве Не материнском, а морском.13 июня 1920
<9> "Вчера еще в глаза глядел…"
Вчера еще в глаза глядел, А нынче – всё косится в сторону! Вчера еще до птиц сидел, — Все жаворонки нынче – вороны! Я глупая, а ты умен, Живой, а я остолбенелая. О вопль женщин всех времен: «Мой милый, чтó тебе я сделала?!» И слезы ей – вода, и кровь — Вода, – в крови, в слезах умылася! Не мать, а мачеха – Любовь: Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая… И стон стоит вдоль всей земли: «Мой милый, чтó тебе я сделала?» Вчера еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, — Жизнь выпала – копейкой ржавою! Детоубийцей на суду Стою – немилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу: «Мой милый, чтó тебе я сделала?» Спрошу я стул, спрошу кровать: «За что, за что терплю и бедствую?» «Отцеловал – колесовать: Другую целовать», – ответствуют. Жить приучил в само́м огне, Сам бросил – в степь заледенелую! Вот что ты, милый, сделал мне! Мой милый, чтó тебе – я сделала? Всё ведаю – не прекословь! Вновь зрячая – уж не любовница! Где отступается Любовь, Там подступает Смерть-садовница. Само – что́ дерево трясти! — В срок яблоко спадает спелое… — За всё, за всё меня прости, Мой милый, – что тебе я сделала!14 июня 1920
«Другие – с очами и с личиком светлым…»
Другие – с очами и с личиком светлым, А я-то ночами беседую с ветром. Не с тем – италийским Зефиром младым, — С хорошим, с широким, Российским, сквозным! Другие всей плотью по плоти плутают, Из уст пересохших – дыханье глотают… А я – руки настежь! – застыла – столбняк! Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк! Другие – о, нежные, цепкие путы! Нет, с нами Эол обращается круто. — Небось не растаешь! Одна – мол – семья! — Как будто и вправду – не женщина я!2 августа 1920
«Проста моя осанка…»
Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу – никто не нужен! Взошел – ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю. Взглянул – так и знакомый. Взошел – так и живи. Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь – коли мила! Ну а ушел – как не был, И я – как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: пить.Август 1920
«Есть в стане моем – офицерская прямость…»
Есть в стане моем – офицерская прямость, Есть в ребрах моих – офицерская честь. На всякую му́ку иду не упрямясь: Терпенье солдатское есть! Как будто когда-то прикладом и сталью Мне выправили этот шаг. Недаром, недаром черкесская талья И тесный ремённый кушак. А зорю заслышу – Отец ты мой родный! — Хоть райские – штурмом – врата! Как будто нарочно для сумки походной — Раскинутых плеч широта. Всё может – какой инвалид ошалелый Над люлькой мне песенку спел… И что-то от этого дня – уцелело: Я слово беру – на прицел! И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром Скрежещет – корми не корми! — Как будто сама я была офицером В Октябрьские смертные дни.Сентябрь 1920
(NB! Эти стихи в Москве назывались «про красного офицера», и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов.)
Волк
Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк! Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг! Заедай верстою вёрсту, Отсылай версту к версте! Перегладила по шерстке, — Стосковался по тоске! Не взвожу тебя в злодеи, — Не твоя вина – мой грех: Ненасытностью своею Перекармливаю всех! Чем на вас с кремнем-огнивом В лес ходить – как Бог судил, — К одному бабье ревниво: Чтобы лап не остудил. Удержать – перстом не двину: Перст – не шест, а лес велик. Уноси свои седины, Бог с тобою, брат мой клык! Прощевай, седая шкура! И во сне не вспомяну! Новая найдется дура — Верить в волчью седину.Октябрь 1920
«Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…»
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь. О милая! – Ни в гробовом сугробе, Ни в облачном с тобою не прощусь. И не на то мне пара крыл прекрасных Дана, чтоб на сердце держать пуды. Спеленутых, безглазых и безгласных Я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки! – Стан упругий Единым взмахом из твоих пелен — Смерть – выбью! Верст на тысячу в округе Растоплены снега и лес спален. И если всё ж – плеча, крыла, колена Сжав – на погост дала себя увесть, — То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом, Стихом восстать – иль розаном расцвесть!Около 28 ноября 1920
«Знаю, умру на заре! На которой из двух…»
Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с которой из двух – не решить по заказу! Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь! С полным передником роз! – Ни ростка не наруша! Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь Бог не пошлет по мою лебединую душу! Нежной рукой отведя нецелованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом. Прорезь зари – и ответной улыбки прорез… Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!Москва, декабрь 1920
«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..»
Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь! То, шатаясь, причитает в поле – Русь. Помогите – на ногах нетверда! Затуманила меня кровь-руда! И справа и слева Кровавые зевы, И каждая рана: – Мама! И только и это И внятно мне, пьяной, Из чрева – и в чрево: – Мама! Все рядком лежат — Не развесть межой. Поглядеть: солдат. Где свой, где чужой? Белый был – красным стал: Кровь обагрила. Красным был – белый стал: Смерть побелила. – Кто ты? – белый? – не пойму! – привстань! Аль у красных пропадал? – Ря-азань. И справа и слева И сзади и прямо И красный и белый: – Мама! Без воли – без гнева — Протяжно – упрямо — До самого неба: – Мама!Декабрь 1920
Роландов рог
Как нежный шут о злом своем уродстве, Я повествую о своем сиротстве… За князем – род, за серафимом – сонм, За каждым – тысячи таких, как он, Чтоб, пошатнувшись, – на живую стену Упал и знал, что – тысячи на смену! Солдат – полком, бес – легионом горд. За вором – сброд, а за шутом – всё горб. Так, наконец, усталая держаться Сознаньем: перст и назначеньем: драться, Под свист глупца и мещанина смех — Одна из всех – за всех – противу всех! — Стою и шлю, закаменев от взлёту, Сей громкий зов в небесные пустоты. И сей пожар в груди тому залог, Что некий Карл тебя услышит, рог![175]Март 1921
Из цикла «Ученик» [176]
Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом, потом В гроб – под одним плащом.1 "Быть мальчиком твоим светлоголовым…"
Быть мальчиком твоим светлоголовым, – О, через все века! — За пыльным пурпуром твоим брести в суровом Плаще ученика. Улавливать сквозь всю людскую гущу Твой вздох животворящ Душой, дыханием твоим живущей, Как дуновеньем – плащ. Победоноснее Царя Давида[177] Чернь раздвигать плечом. От всех обид, от всей земной обиды Служить тебе плащом. Быть между спящими учениками Тем, кто во сне – не спит. При первом чернью занесенном камне Уже не плащ – а щит! (О, этот стих не самовольно прерван! Нож чересчур остер!) И – вдохновенно улыбнувшись – первым Взойти на твой костер.15 апреля 1921
2 "Есть некий час – как сброшенная клажа…"
Есть некий час… Тютчев Есть некий час – как сброшенная клажа: Когда в себе гордыню укротим. Час ученичества, он в жизни каждой Торжественно-неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружье К ногам указанного нам – Перстом, Мы пурпур Воина на мех верблюжий Сменяем на песке морском. О этот час, на подвиг нас – как Голос — Вздымающий из своеволья дней! О этот час, когда как спелый колос Мы клонимся от тяжести своей. И колос взрос, и час веселый пробил, И жерновов возжаждало зерно. Закон! Закон! Еще в земной утробе Мной вожделенное ярмо. Час ученичества! Но зрим и ведом Другой нам свет, – еще заря зажглась. Благословен ему грядущий следом Ты – одиночества верховный час!15 апреля 1921
«Душа, не знающая меры…»
Душа, не знающая меры, Душа хлыста и изувера, Тоскующая по бичу. Душа – навстречу палачу, Как бабочка из хризалиды! Душа, не съевшая обиды, Что больше колдунов не жгут. Как смоляной высокий жгут, Дымящая под власяницей… Скрежещущая еретица, — Саванароловой сестра[178] — Душа, достойная костра!10 мая 1921
«Как разгораются – каким валежником!..»
Как разгораются – каким валежником! На площадях ночных – святыни кровные! Пред самозванческим указом Нежности — Что наши доблести и родословные! С какой торжественною постепенностью Спадают выспренные обветшалости! О наши прадедовы драгоценности Под самозванческим ударом Жалости! А проще: лоб склонивши в глубь ладонную, В сознаньи низости и неизбежности — Вниз по отлогому – по неуклонному — Неумолимому наклону Нежности…Май 1921
Кн. С. М. Волконскому
Стальная выправка хребта И вороненой стали волос. И чудодейственный – слегка — Чуть прикасающийся голос. Какое-то скольженье вдоль — Ввысь – без малейшего нажима… О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь неуязвимый! Земли не чующий, ничей, О безучастие, с которым — Сиятельный – лишь тень вещей Следишь высокомерным взором. Вмиг отрывающийся – весь! В лад дышащий – с одной вселенной! Всегда отсутствующий здесь, Чтоб там присутствовать бессменно.Май 1921
«Два зарева! – нет, зеркалá!..»[179]
М. А. Кузмину
Два зарева! – нет, зеркалá! Нет, два недуга! Два серафических жерла, Два черных круга Обугленных – из льда зеркал, С плит тротуарных, Через тысячеверстья зал Дымят – полярных. Ужасные! – Пламень и мрак! Две черных ямы. Бессонные мальчишки – так — В больницах: – Мама! Страх и укор, ах и аминь… Взмах величавый… Над каменностию простынь — Две черных славы. Так знайте же, что реки – вспять, Что камни – помнят! Что уж опять они, опять В лучах огромных Встают – два солнца, два жерла, — Нет, два алмаза! — Подземной бездны зеркала: Два смертных глаза.2 июля 1921
Возвращение вождя
Конь – хром, Меч – ржав. Кто – сей? Вождь толп. Шаг – час, Вздох – век, Взор – вниз. Все – там. Враг. – Друг. Терн. – Лавр. Всё – сон… — Он. – Конь. Конь – хром. Меч – ржав. Плащ – стар. Стан – прям.16 июля 1921
«Прямо в эфир…»
Прямо в эфир Рвется тропа. – Остановись! — Юность слепа. Ввысь им и ввысь! В синюю рожь! – Остановись! — В небо ступнешь.25 августа 1921
Из цикла «Отрок» [180]
Геликону [181]
1 "Пусто́ты отроческих глаз! Провалы…"
Пусто́ты отроческих глаз! Провалы В лазурь! Как ни черны – лазурь! Игралища для битвы небывалой, Дарохранительницы бурь. Зеркальные! Ни зыби в них, ни лона, Вселенная в них правит ход. Лазурь! Лазурь! Пустынная до звону! Книгохранилища пустот! Провалы отроческих глаз! – Пролеты! Душ раскаленных – водопой. — Оазисы! – Чтоб всяк хлебнул и отпил, И захлебнулся пустотой. Пью – не напьюсь. Вздох – и огромный выдох, И крови ропщущей подземный гул. Так по ночам, тревожа сон Давидов, Захлебывался Царь Саул[182].25 августа 1921
2 "Огнепоклонник! Красная масть!.."
Огнепоклонник![183] Красная масть! Заворожённый и ворожащий! Как годовалый – в красную пасть Льва, в пурпуровую кипь, в чащу — Око и бровь! Перст и ладонь! В самый огонь, в самый огонь! Огнепоклонник! Страшен твой бог! Пляшет твой бог, на́смерть ударив! Думаешь – глаз? Красный всполох — Око твое! – Перебег зарев… А пока жив – прядай и сыпь В самую кипь! В самую кипь! Огнепоклонник! Не опалюсь! По мановенью – горят, гаснут! Огнепоклонник! Не поклонюсь! В черных пустотах твоих красных Стройную мощь выкрутив в жгут, Мой это бьет – красный лоскут!27 августа 1921
Маяковскому[184]
Превыше крестов и труб, Крещенный в огне и дыме, Архангел – тяжелоступ — Здорово, в веках Владимир! Он возчик и он же конь, Он прихоть и он же право. Вздохнул, поплевал в ладонь: – Держись, ломовая слава! Певец площадных чудес — Здорово, гордец чумазый, Что камнем – тяжеловес Избрал, не прельстясь алмазом. Здорово, булыжный гром! Зевнул, козырнул – и снова Оглоблей гребет – крылом Архангела ломового[185].18 сентября 1921
«Гордость и робость – ро́дные сестры…»
Гордость и робость – ро́дные сестры, Над колыбелью, дружные, встали. «Лоб запрокинув!» – гордость велела. «Очи потупив!» – робость шепнула. Так прохожу я – очи потупив — Лоб запрокинув – Гордость и Робость.20 сентября 1921
Молодость
1 "Молодость моя! Моя чужая…"
Молодость моя! Моя чужая Молодость! Мой сапожок непарный! Воспаленные глаза сужая, Так листок срывают календарный. Ничего из всей твоей добычи Не взяла задумчивая Муза. Молодость моя! – Назад не кличу. Ты была мне ношей и обузой. Ты в ночи нашептывала гребнем, Ты в ночи оттачивала стрелы. Щедростью твоей давясь, как щебнем, За чужие я грехи терпела. Скипетр тебе вернув до сроку — Что уже душе до яств и брашна![186] Молодость моя! Моя морока — Молодость! Мой лоскуток кумашный![187]18 ноября 1921
2 "Скоро уж из ласточек – в колдуньи!.."
Скоро уж из ласточек – в колдуньи! Молодость! Простимся накануне… Постоим с тобою на ветру! Смуглая моя! Утешь сестру! Полыхни малинового юбкой, Молодость моя! Моя голубка Смуглая! Раззор моей души! Молодость моя! Утешь, спляши! Полосни лазоревою шалью, Шалая моя! Пошалевали Досыта с тобой! – Спляши, ошпарь! Золотце мое – прощай – янтарь! Неспроста руки твоей касаюсь, Как с любовником, с тобой прощаюсь. Вырванная из грудных глубин — Молодость моя! – Иди к другим!20 ноября 1921
«He для льстивых этих риз, лживых ряс…»
He для льстивых этих риз, лживых ряс — Голосистою на свет родилась! Не ночные мои сны – наяву! Шипом-шепотом, как вы, не живу! От тебя у меня, шепот-тот-шип — Лира, лира, лебединый загиб! С лавром, с зорями, с ветрами союз, Не монашествую я – веселюсь! И мальчишка – недурён-белокур! Ну, а накривь уж пошло чересчур, — От тебя у меня, шепот-тот-шип — Лира, лира, лебединый загиб! Доля женская, слыхать, тяжела! А не знаю – на весы не брала! Не продажный мой товар – даровой! Ну, а ноготь как пойдет синевой, — От тебя у меня, клекот-тот-хрип — Лира, лира, лебединый загиб!4 декабря 1921
Ахматовой
Кем полосынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! Дни полночные твои, Век твой таборный… Все работнички твои Разом забраны. Где сподручники твои, Те сподвижнички? Белорученька моя, Чернокнижница! Не загладить тех могил Слезой, славою[188]. Один заживо ходил — Как удавленный[189]. Другой к стеночке пошел Искать прибыли[190]. (И гордец же был – соко́л!) Разом выбыли. Высоко твои братья́! Не докличешься! Яснооконька моя, Чернокнижница! А из тучи-то (хвала — Диво дивное!) Соколиная стрела, Голубиная… Знать, в два перышка тебе Пишут тамотка, Знать, уж в скорости тебе Выйдет грамотка[191]: – Будет крылышки трепать О булыжники! Чернокрылонька моя! Чернокнижница!29 декабря 1921
«Не похорошела за годы разлуки!..»
С. Э.
Не похорошела за годы разлуки! Не будешь сердиться на грубые руки, Хватающиеся за хлеб и за соль? — Товарищества трудовая мозоль! О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на просторечье Речей, – не советовала б пренебречь: То летописи огнестрельная речь. Разочаровался? Скажи без боязни! То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу якорей и надежд Прозрения непоправимая брешь!23 января 1922
«Верстами – врозь – разлетаются брови…»
Верстами – врозь – разлетаются брови. Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи — Дальнодорожные брови твои! Ветлами – вслед – подымаются руки. Две достоверности верной разлуки, Кровь без слезы пролитая! По ветру жизнь! – Брови твои! Летописи лебединые стрелы, Две достоверности белого дела, Радугою – в Божьи бои Вброшенные – брови твои!23 января 1922
После России
Из цикла «Земные приметы»
1 "Так, в скудном труженичестве дней…"
Так, в скудном труженичестве дней, Так, в трудной судорожности к ней, Забудешь дружественный хорей Подруги мужественной своей. Ее суровости горький дар, И легкой робостью скрытый жар, И тот беспроволочный удар, Которому имя – даль. Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой Неверующим Фомой[192]. Мой неженка! Сединой отцов: Сей беженки не бери под кров! Да здравствует левогрудый ков Немудрствующих концов! Но может, в щебетах и в счетах От вечных женственностей устав — И вспомнишь руку мою без прав И мужественный рукав. Уста, не требующие смет, Права, не следующие вслед, Глаза, не ведающие век, Исследующие: свет.15 июня 1922
2 "Ищи себе доверчивых подруг…"
Ищи себе доверчивых подруг, Не выправивших чуда на число. Я знаю, что Венера – дело рук, Ремесленник – и знаю ремесло. От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу божественную – от: Дыхание мое – до: не дыши!18 июня 1922
«Неподражаемо лжет жизнь…»
Неподражаемо лжет жизнь: Сверх ожидания, сверх лжи… Но по дрожанию всех жил Можешь узнать: жизнь! Словно во ржи лежишь: звон, синь… (Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал… Бормот – сквозь жимолость – ста жал… Радуйся же! – Звал! И не кори меня, друг, столь Заворожимы у нас, тел, Души – что вот уже: лбом в сон. Ибо – зачем пел? В белую книгу твоих тишизн, В дикую глину твоих «да» — Тихо склоняю облом лба: Ибо ладонь – жизнь.8 июля 1922
Из цикла «Деревья» [193]
(Моему чешскому другу, Анне Антоновне Тесковой)
1 "В смертных изверясь…"
В смертных изверясь, Зачароваться не тщусь. В старческий вереск, В среброскользящую сушь, — Пусть моей тени Славу трубят трубачи! — В вереск-потери, В вереск-сухие ручьи. Старческий вереск! Голого камня нарост! Удостоверясь В тождестве наших сиротств, Сняв и отринув Клочья последней парчи — В вереск-руины, В вереск-сухие ручьи. Жизнь: двоедушье Дружб и удушье уродств. Седью и сушью, (Ибо вожатый – суров), Ввысь, где рябина Краше Давида-Царя! В вереск-седины, В вереск-сухие моря.5 сентября 1922
2 "Когда обидой – опилась…"
Когда обидой – опилась Душа разгневанная, Когда семижды зареклась Сражаться с демонами — Не с теми, ливнями огней В бездну нисхлестнутыми: С земными низостями дней, С людскими косностями — Деревья! К вам иду! Спастись От рева рыночного! Вашими вымахами ввысь Как сердце выдышано! Дуб богоборческий! В бои Всем корнем шествующий! Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! Вяз – яростный Авессалом[194], На пытке вздыбленная Сосна – ты, уст моих псалом: Горечь рябиновая… К вам! В живоплещущую ртуть Листвы – пусть рушащейся! Впервые руки распахнуть! Забросить рукописи! Зеленых отсветов рои… Как в руки – плещущие… Простоволосые мои, Мои трепещущие!8 сентября 1922
8 "Кто-то едет – к смертной победе…"
Кто-то едет – к смертной победе. У деревьев – жесты трагедий. Иудеи – жертвенный танец! У деревьев – трепеты таинств. Это – заговор против века: Веса, счета, времени, дроби. Се – разодранная завеса: У деревьев – жесты надгробий… Кто-то едет. Небо – как въезд. У деревьев – жесты торжеств.7 мая 1923
9 "Каким наитием…"
Каким наитием, Какими истинами, О чем шумите вы, Разливы лиственные? Какой неистовой Сивиллы таинствами — О чем шумите вы, О чем беспамятствуете? Что в вашем веяньи? Но знаю – лечите Обиду Времени — Прохладой Вечности. Но юным гением Восстав – порочите Ложь лицезрения Перстом заочности. Чтоб вновь, как некогда, Земля – казалась нам. Чтобы под веками Свершались замыслы. Чтобы монетами Чудес – не чваниться! Чтобы под веками Свершались таинства! И прочь от прочности! И прочь от срочности! В поток! – В пророчества Речами косвенными… Листва ли – листьями? Сивилла ль – выстонала? … Лавины лиственные, Руины лиственные…9 мая 1923[195]
«Золото моих волос…»
Золото моих волос Тихо переходит в седость. – Не жалейте! Всё сбылось, Всё в груди слилось и спелось. Спелось – как вся даль слилась В стонущей трубе окраины. Господи! Душа сбылась: Умысел твой самый тайный. Несгорающую соль Дум моих – ужели пепел Фениксов отдам за смоль Временных великолепий? Да и ты посеребрел, Спутник мой! К громам и дымам, К молодым сединам дел — Дум моих причти седины. Горделивый златоцвет, Роскошью своей не чванствуй: Молодым сединам бед Лавр пристал – и дуб гражданский.Между 17 и 23 сентября 1922
Хвала богатым
И засим, упредив заране, Что меж мной и тобою – мили! Что себя причисляю к рвани, Что честно́ мое место в мире: Под колесами всех излишеств: Стол уродов, калек, горбатых… И засим, с колокольной крыши Объявляю: люблю богатых! За их корень, гнилой и шаткий, С колыбели растящий рану, За растерянную повадку Из кармана и вновь к карману. За тишайшую просьбу уст их, Исполняемую как окрик. И за то, что их в рай не впустят, И за то, что в глаза не смотрят. За их тайны – всегда с нарочным! За их страсти – всегда с рассыльным! За навязанные им ночи (И целуют и пьют насильно!) И за то, что в учетах, в скуках, В позолотах, в зевотах, в ватах Вот меня, наглеца, не купят — Подтверждаю: люблю богатых! А еще, несмотря на бритость, Сытость, питость (моргну – и трачу!), За какую-то – вдруг – побитость, За какой-то их взгляд собачий Сомневающийся… – не стержень ли к нулям? Не шалят ли гири? И за то, что меж всех отверженств Нет – такого сиротства в мире! Есть такая дурная басня: Как верблюды в иглу пролезли. … За их взгляд, изумленный на-смерть, Извиняющийся в болезни, Как в банкротстве… «Ссудил бы… Рад бы — Да»… За тихое, с уст зажатых: «По каратам считал, я – брат был»… Присягаю: люблю богатых!30 сентября 1922
Рассвет на рельсах
Покамест день не встал С его страстями стравленными, Из сырости и шпал Россию восстанавливаю. Из сырости – и свай, Из сырости – и серости. Покамест день не встал И не вмешался стрелочник. Туман еще щадит, Еще, в холсты запахнутый, Спит ломовой гранит, Полей не видно шахматных… Из сырости – и стай… Еще вестями шалыми Лжет вороная сталь — Еще Москва за шпалами! Так, под упорством глаз — Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия – в три полотнища! И – шире раскручу! Невидимыми рельсами По сырости пущу Вагоны с погорельцами: С пропавшими навек Для Бога и людей! (Знак: сорок человек И восемь лошадей.)[196] Так, посредине шпал, Где даль шлагбаумом выросла, Из сырости и шпал, Из сырости – и сирости, Покамест день не встал С его страстями стравленными — Во всю горизонталь Россию восстанавливаю! Без низости, без лжи: Даль – да две рельсы синие… Эй, вот она! – Держи! По линиям, по линиям…12 октября 1922
Офелия – Гамлету
Гамлетом – перетянутым – натуго, В нимбе разуверенья и знания, Бледный – до последнего атома… (Год тысяча который – издания?) Наглостью и пустотой – не тронете! (Отроческие чердачные залежи!) Некоей тяжеловесной хроникой Вы на этой груди – лежали уже! Девственник! Женоненавистник! Вздорную Нежить предпочедший!.. Думали ль Раз хотя бы о том – что сорвано В маленьком цветнике безумия… Розы?… Но ведь это же – тссс! – Будущность! Рвем – и новые растут! Предали ль Розы хотя бы раз? Любящих — Розы хотя бы раз? – Убыли ль? Выполнив (проблагоухав!) тонете… – Не было! – Но встанем в памяти В час, когда над ручьевой хроникой Гамлетом – перетянутым – встанете…28 февраля 1923
Офелия – в защиту королевы
Принц Гамлет! Довольно червивую залежь Тревожить… На розы взгляни! Подумай о той, что – единого дня лишь — Считает последние дни. Принц Гамлет! Довольно царицыны недра Порочить… Не девственным – суд Над страстью. Тяжéле виновная – Федра[197]: О ней и поныне поют. И будут! – А Вы с Вашей примесью мела И тлена… С костями злословь, Принц Гамлет! Не Вашего разума дело Судить воспаленную кровь. Но если… Тогда берегитесь!.. Сквозь плиты — Ввысь – в опочивальню – и всласть! Своей Королеве встаю на защиту — Я, Ваша бессмертная страсть.28 февраля 1923
Эвридика – Орфею[198]
Для тех, отженивших последние клочья Покрова (ни уст, ни ланит!..), О, не превышение ли полномочий Орфей, нисходящий в Аид? Для тех, отрешивших последние звенья Земного… На ложе из лож Сложившим великую ложь лицезренья, Внутрь зрящим – свидание нож. Уплочено же – всеми розами крови За этот просторный покрой Бессмертья… До самых летейских верховий Любивший – мне нужен покой Беспамятности… Ибо в призрачном доме Сем – призрак ты, сущий, а явь — Я, мертвая… Что же скажу тебе, кроме: «Ты это забудь и оставь!» Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть Устами! – С бессмертья змеиным укусом Кончается женская страсть. Уплочено же – вспомяни мои крики! — За этот последний простор. Не надо Орфею сходить к Эвридике И братьям тревожить сестер.23 марта 1923
Поэты
1 "Поэт – издалека заводит речь…"
Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь. Планетами, приметами, окольных Притч рытвинами… Между да и нет Он, даже размахнувшись с колокольни, Крюк выморочит… Ибо путь комет — Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности – вот связь его! Кверх лбом — Отчаетесь! Поэтовы затменья Не предугаданы календарем. Он тот, кто смешивает карты, Обманывает вес и счет, Он тот, кто спрашивает с парты, Кто Канта наголову бьет[199], Кто в каменном гробу Бастилии[200] Как дерево в своей красе. Тот, чьи следы – всегда простыли, Тот поезд, на который все Опаздывают… – ибо путь комет Поэтов путь: жжа, а не согревая. Рвя, а не взращивая – взрыв и взлом — Твоя стезя, гривастая кривая, Не предугадана календарем!8 апреля 1923
2 "Есть в мире лишние, добавочные…"
Есть в мире лишние, добавочные, Не вписанные в окоём. (Не числящимся в ваших справочниках, Им свалочная яма – дом.) Есть в мире полые, затолканные, Немотствующие – навоз, Гвоздь – вашему подолу шелковому! Грязь брезгует из-под колес! Есть в мире мнимые, невидимые: (Знак: лепрозариумов крап![201]). Есть в мире Иовы[202], что Иову Завидовали бы – когда б: Поэты мы – и в рифму с париями[203], Но, выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И девственницу у богов!22 апреля 1923
3 "Что же мне делать, слепцу и пасынку…"
Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч, Где по анафемам, как по насыпям[204] — Страсти! где насморком Назван – плач! Что же мне делать, ребром и промыслом Певчей! – как провод! загар! Сибирь! По наважденьям своим – как по́ мосту! С их невесомостью В мире гирь. Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, где наичернейший – сер! Где вдохновенье хранят, как в термосе! С этой безмерностью В мире мер?!22 апреля 1923
Так вслушиваются…
1 "Так вслушиваются (в исток…)"
Так вслушиваются (в исток Вслушивается – устье). Так внюхиваются в цветок: Вглубь – до потери чувства! Так в воздухе, который синь — Жажда, которой дна нет. Так дети, в синеве простынь, Всматриваются в память. Так вчувствовывается в кровь Отрок – доселе лотос. … Так влюбливаются в любовь: Впадываются в пропасть.2 "Друг! Не кори меня за тот…"
Друг! Не кори меня за тот Взгляд, деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток: Вглубь – до потери чувства! Так, в ткань врабатываясь, ткач Ткет свой последний пропад. Так дети, вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Так вплясываются… (Велик Бог – посему крутитесь!) Так дети, вкрикиваясь в крик, Вмалчиваются в тихость. Так жалом тронутая кровь Жалуется – без ядов! Так вбаливаются в любовь: Впадываются в: падать.3 мая 1923
Хвала времени
Вере Аренской[205]
Беженская мостовая! Гикнуло – и понеслось Опрометями колес. Время! Я не поспеваю. В летописях и в лобзаньях Пойманное… но песка Струечкою шелестя… Время, ты меня обманешь! Стрелками часов, морщин Рытвинами – и Америк Новшествами… – Пуст кувшин! — Время, ты меня обмеришь! Время, ты меня предашь! Блудною женой – обнову Выронишь… – «Хоть час, да наш!» – Поездá с тобой иного Следования!.. — Ибо мимо родилась Времени! Вотще и всуе Ратуешь! Калиф на час: Время! Я тебя миную.10 мая 1923
Ночь "(Час обнажающихся верховий…)"
Час обнажающихся верховий, Час, когда в души глядишь – как в очи. Это – разверстые шлюзы крови! Это – разверстые шлюзы ночи! Хлынула кровь, наподобье ночи Хлынула кровь, – наподобье крови Хлынула ночь! (Слуховых верховий Час: когда в уши нам мир – как в очи!) Зримости сдернутая завеса! Времени явственное затишье! Час, когда, ухо разъяв, как веко, Больше не весим, не дышим: слышим. Мир обернулся сплошной ушною Раковиною: сосущей звуки Раковиною, – сплошной душою!.. (Час, когда в души идешь – как в руки!)12 мая 1923
Прокрасться…
А может, лучшая победа Над временем и тяготеньем — Пройти, чтоб не оставить следа, Пройти, чтоб не оставить тени На стенах… Может быть – отказом Взять? Вычеркнуться из зеркал? Так: Лермонтовым по Кавказу Прокрасться, не встревожив скал. А может – лучшая потеха Перстом Себастиана Баха Органного не тронуть эха? Распасться, не оставив праха На урну… Может быть – обманом Взять? Выписаться из широт? Так: Временем как океаном Прокрасться, не встревожив вод…14 мая 1923
Диалог Гамлета с совестью
– На дне она, где ил И водоросли… Спать в них Ушла, – но сна и там нет! – Но я ее любил, Как сорок тысяч братьев Любить не могут! – Гамлет! На дне она, где ил: Ил!.. И последний венчик Всплыл на приречных бревнах… – Но я ее любил, Как сорок тысяч… – Меньше Все ж, чем один любовник. На дне она, где ил. – Но я ее — (недоуменно) – любил??5 июня 1923
Расщелина
Чем окончился этот случай, Не узнать ни любви, ни дружбе. С каждым днем отвечаешь глуше, С каждым днем пропадаешь глубже. Так, ничем уже не волнуем, – Только дерево ветви зыблет — Как в расщелину ледяную — В грудь, что так о тебя расшиблась! Из сокровищницы подобий Вот тебе – наугад – гаданье: Ты во мне как в хрустальном гробе Спишь, – во мне как в глубокой ране. Спишь, – тесна ледяная прорезь! Льды к своим мертвецам ревнивы: Перстень – панцирь – печать – и пояс… Без возврата и без отзыва. Зря Елену клянете, вдовы![206] Не Елениной красной Трои Огнь! Расщелины ледниковой Синь, на дне опочиешь коей… Сочетавшись с тобой, как Этна С Эмпедоклом[207]… Усни, сновидец! А домашним скажи, что тщетно: Грудь своих мертвецов не выдаст.17 июня 1923
«На назначенное свиданье…»
На назначенное свиданье Опоздаю. Весну в придачу Захвативши – приду седая. Ты его высоко́ назначил! Буду годы идти – не дрогнул Вкус Офелии к горькой руте! Через горы идти – и стогны, Через души идти – и руки. Землю долго прожить! Трущоба — Кровь! и каждая капля – заводь. Но всегда стороной ручьевой Лик Офелии в горьких травах. Той, что, страсти хлебнув, лишь ила Нахлебалась! – Снопом на щебень! Я тебя высоко́ любила: Я себя схоронила в небе!18 июня 1923
«Рано еще – не быть!..»
Рано еще – не быть! Рано еще – не жечь! Нежность! Жестокий бич Потусторонних встреч. Как глубоко́ ни льни — Небо – бездонный чан! О, для такой любви Рано еще – без ран! Ревностью жизнь жива! Кровь вожделеет течь В землю. Отдаст вдова Право свое – на меч? Ревностью жизнь жива! Благословен ущерб Сердцу! Отдаст трава Право свое – на серп? Тайная жажда трав… Каждый росток: «сломи»… До лоскута раздав, Раны еще – мои! И пока общий шов – Льюсь! – не наложишь Сам — Рано еще для льдов Потусторонних стран!19 июня 1923
Занавес
Водопадами занавеса, как пеной — Хвоей – пламенем – прошумя. Нету тайны у занавеса от сцены: (Сцена – ты, занавес – я). Сновиденными зарослями (в высоком Зале – оторопь разлилась) Я скрываю героя в борьбе с Роком, Место действия – и – час. Водопадными радугами, обвалом Лавра (вверился же! знал!) Я тебя загораживаю от зала. (Завораживаю – зал!) Тайна занавеса! Сновиденным лесом Сонных снадобий, трав, зёрн… (За уже содрогающейся завесой Ход трагедии – как – шторм!) Ложи, в слезы! В набат, ярус! Срок, исполнься! Герой, будь! Ходит занавес – как – парус, Ходит занавес – как – грудь. Из последнего сердца тебя, о недра, Загораживаю. – Взрыв! Над ужа – ленною – Федрой Взвился занавес – как – гриф. Нате! Рвите! Глядите! Течет, не так ли? Заготавливайте – чан! Я державную рану отдам до капли! (Зритель бел, занавес рдян.) И тогда, сострадательным покрывалом Долу, знаменем прошумя. Нету тайны у занавеса – от зала. (Зала – жизнь, занавес – я.)23 июня 1923
Рельсы[208]
В некой разлинованности нотной Нежась наподобие простынь — Железнодорожные полотна, Рельсовая режущая синь! Пушкинское: сколько их, куда их Гонит! (Миновало – не поют!) Это уезжают-покидают, Это остывают-отстают. Это – остаются. Боль как нота Высящаяся… Поверх любви Высящаяся… Женою Лота Насыпью застывшие столбы[209]… Час, когда отчаяньем как свахой Простыни разостланы. – Твоя! — И обезголосившая Сафо[210] Плачет, как последняя швея. Плач безропотности! Плач болотной Цапли, знающей уже… Глубок Железнодорожные полотна Ножницами режущий гудок. Растекись напрасною зарею, Красное напрасное пятно! … Молодые женщины порою Льстятся на такое полотно.10 июля 1923
Наклон
Материнское – сквозь сон – ухо. У меня к тебе наклон слуха, Духа – к страждущему: жжет? да? У меня к тебе наклон лба, Дозирающего вер – ховья. У меня к тебе наклон крови К сердцу, неба – к островам нег. У меня к тебе наклон рек, Век… Беспамятства наклон светлый К лютне, лестницы к садам, ветви Ивовой к убеганью вех… У меня к тебе наклон всех Звезд к земле (родовая тяга Звезд к звезде!) – тяготенье стяга К лаврам выстраданных мо – гил. У меня к тебе наклон крыл, Жил… К дуплу тяготенье совье, Тяга темени к изголовью Гроба, – годы ведь уснуть тщусь! У меня к тебе наклон уст К роднику…28 июля 1923
Клинок
Между нами – клинок двуострый Присягнувши – и в мыслях класть… Но бывают – страстные сестры! Но бывает – братская страсть! Но бывает такая примесь Прерий в ветре и бездны в губ Дуновении… Меч, храни нас От бессмертных душ наших двух! Меч, терзай нас и, меч, пронзай нас, Меч, казни нас, но, меч, знай, Что бывает такая крайность Правды, крыши такой край… Двусторонний клинок – рознит? Он же сводит! Прорвав плащ, Так своди же нас, страж грозный, Рана в рану и хрящ в хрящ! (Слушай! если звезда, срываясь… Не по воле дитя с ладьи В море падает… Острова есть, Острова для любой любви…) Двусторонний клинок, синим Ливший, красным пойдет… Меч Двусторонний – в себя вдвинем. Это будет – лучшее лечь! Это будет – братская рана! Так, под звездами, и ни в чем Неповинные… Точно два мы Брата, спаянные мечом!18 августа 1923
Крик станций
Крик станций: останься! Вокзалов: о жалость! И крик полустанков: Не Дантов ли Возглас: «Надежду оставь!»[211] И крик паровозов. Железом потряс И громом волны океанской. В окошечках касс, Ты думал – торгуют пространством? Морями и сушей? Живейшим из мяс: Мы мясо – не души! Мы губы – не розы! От нас? Нет – по нас Колеса любимых увозят! С такой и такою-то скоростью в час. Окошечки касс. Костяшечки страсти игорной. Прав кто-то из нас, Сказавши: любовь – живодерня! «Жизнь – рельсы! Не плачь!» Полотна – полотна – полотна… (В глаза этих кляч Владельцы глядят неохотно.) «Без рва и без шва Нет счастья. Ведь с тем покупала?» Та швейка права, На это смолчавши: «Есть шпалы».24 сентября 1923
Пражский рыцарь[212]
Бледно – лицый Страж над плеском века — Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку. (О найду ль в ней Мир от губ и рук?!) Ка – ра – ульный На посту разлук. Клятвы, кольца… Да, но камнем в реку Нас-то – сколько За четыре века! В воду пропуск Вольный. Розам – цвесть! Бросил – брошусь! Вот тебе и месть! Не устанем Мы – доколе страсть есть! Мстить мостами. Широко расправьтесь, Крылья! В тину, В пену – как в парчу! Мосто – вины[213] Нынче не плачу! – «С рокового мосту Вниз – отважься!» Я тебе по росту, Рыцарь пражский. Сласть ли, грусть ли В ней – тебе видней, Рыцарь, стерегущий Реку – дней.27 сентября 1923
Побег
Под занавесом дождя От глаз равнодушных кроясь, – О завтра мое! – тебя Выглядываю – как поезд. Выглядывает бомбист[214] С еще-сотрясеньем взрыва В руке… (Не одних убийств Бежим, зарываясь в гриву Дождя!) Не расправы страх, Не… – Но облака! но звоны! То Завтра на всех парах Проносится вдоль перрона Пропавшего… Бог! Благой! Бог! И в дымовую опушь — Как о́б стену… (Под ногой Подножка – или ни ног уж, Ни рук?) Верстовая снасть Столба… Фонари из бреда… О нет, не любовь, не страсть, Ты поезд, которым еду В Бессмертье…14 октября 1923
«Ты, меня любивший фальшью…»
Ты, меня любивший фальшью Истины – и правдой лжи, Ты, меня любивший – дальше Некуда! – За рубежи! Ты, меня любивший дольше Времени. – Десницы взмах! Ты меня не любишь больше: Истина в пяти словах.12 декабря 1923
Попытка ревности
Как живется вам с другою, — Проще ведь? – Удар весла! — Линией береговою Скоро ль память отошла Обо мне, плавучем острове (По́ небу – не по водам)! Души, души! быть вам сестрами, Не любовницами – вам! Как живется вам с простою Женщиною? Без божеств? Государыню с престола Свергши (с оного сошед), Как живется вам – хлопочется — Ежится? Встается – как? С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк? «Судорог да перебоев — Хватит! Дом себе найму». Как живется вам с любою — Избранному моему! Свойственнее и съедобнее — Снедь? Приестся – не пеняй… Как живется вам с подобием — Вам, поправшему Синай![215] Как живется вам с чужою, Здешнею? Ребром – люба? Стыд Зевесовой вожжою Не охлёстывает лба? Как живется вам – здоровится — Можется? Поётся – как? С язвою бессмертной совести Как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром Рыночным? Оброк – крутой? После мраморов Каррары[216] Как живется вам с трухой Гипсовой? (Из глыбы высечен Бог – и начисто разбит!) Как живется вам с сто-тысячной — Вам, познавшему Лилит![217] Рыночною новизною Сыты ли? К волшбам остыв, Как живется вам с земною Женщиною, без шестых Чувств? Ну, за голову: счастливы? Нет? В провале без глубин — Как живется, милый? Тяжче ли — Так же ли – как мне с другим?19 ноября 1924
Приметы
Точно гору несла в подоле — Всего тела боль! Я любовь узнаю по боли Всего тела вдоль. Точно поле во мне разъяли Для любой грозы. Я любовь узнаю по дали Всех и вся вблизи. Точно но́ру во мне прорыли До основ, где смоль. Я любовь узнаю по жиле, Всего тела вдоль Стонущей. Сквозняком как гривой Овеваясь гунн: Я любовь узнаю по срыву Самых верных струн Горловых, – горловых ущелий Ржавь, живая соль. Я любовь узнаю по щели, Нет! – по трели Всего тела вдоль!29 ноября 1924
Жизни
1 "Не возьмешь моего румянца…"
Не возьмешь моего румянца — Сильного – как разливы рек! Ты охотник, но я не дамся, Ты погоня, но я есмь бег. Не возьмешь мою душу живу! Та́к, на полном скаку погонь — Пригибающийся – и жилу Перекусывающий конь Аравийский.25 декабря 1924
2 "Не возьмешь мою душу жи́ву…"
Не возьмешь мою душу жи́ву, Не дающуюся как пух. Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, — Безошибочен певчий слух! Не задумана старожилом! Отпусти к берегам чужим! Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром: Жизнь: держи его! жизнь: нажим. Жестоки у ножных костяшек Кольца, в кость проникает ржа! Жизнь: ножи, на которых пляшет Любящая. – Заждалась ножа!28 декабря 1924
«Жив, а не умер…»
Жив, а не умер Демон во мне! В теле как в трюме, В себе как в тюрьме. Мир – это стены. Выход – топор. («Мир – это сцена»[218], — Лепечет актер.) И не слукавил, Шут колченогий. В теле – как в славе. В теле – как в тоге. Многие лета! Жив – дорожи! (Только поэты В кости́ – как во лжи!) Нет, не гулять нам, Певчая братья, В теле как в ватном Отчем халате. Лучшего стоим. Чахнем в тепле. В теле – как в стойле. В себе – как в котле. Бренных не копим Великолепий. В теле – как в топи, В теле – как в склепе, В теле – как в крайней Ссылке. – Зачах! В теле – как в тайне, В висках – как в тисках Маски железной[219].5 января 1925
«Дней сползающие слизни…»
Дней сползающие слизни, … Строк поденная швея… Что до собственной мне жизни? Не моя, раз не твоя. И до бед мне мало дела Собственных… – Еда? Спанье? Что до смертного мне тела? Не мое, раз не твое.Январь 1925
«В седину – висок…»
В седину – висок, В колею – солдат, – Небо! – морем в тебя окрашиваюсь. Как на каждый слог — Что на тайный взгляд Оборачиваюсь, Охорашиваюсь. В перестрелку – скиф, В христопляску – хлыст, – Море! – небом в тебя отваживаюсь. Как на каждый стих — Что на тайный свист Останавливаюсь, Настораживаюсь. В каждой строчке: стой! В каждой точке – клад. – Око! – светом в тебя расслаиваюсь, Расхожусь. Тоской На гитарный лад Перестраиваюсь, Перекраиваюсь. Не в пуху – в пере Лебедином – брак! Браки розные есть, разные есть! Как на знак тире — Что на тайный знак Брови вздрагивают — Заподазриваешь? Не в чаю спитом Славы – дух мой креп. И казна моя – немалая есть! Под твоим перстом Что Господень хлеб Перемалываюсь, Переламываюсь.22 января 1925
«Рас – стояние: версты, мили…»[220]
Рас – стояние: версты, мили… Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Рас – стояние: версты, дали… Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это – сплав Вдохновений и сухожилий… Не рассо́рили – рассори́ли, Расслоили… Стена да ров. Расселили нас, как орлов — Заговорщиков: версты, дали… Не расстроили – растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который – март?! Разбили нас – как колоду карт!24 марта 1925
«Слава падает так, как слива…»
Слава падает так, как слива: На́ голову, в подол. Быть красивой и быть счастливой! (А неплохой глагол — Быть? Без всякого приставного — Быть, и точка. За ней простор.) Слава падает так, как слово Милости на топор Плахи, или же как на плиты Храма – полдень сухим дождем. Быть счастливой и знаменитой? Меньшего обождем Часа. Или же так, как целый Рим – на розовые кусты. – Слава! – Я тебя не хотела: Я б тебя не сумела нести.17 мая 1925
«Брат по песенной беде…»[221]
Брат по песенной беде — Я завидую тебе. Пусть хоть так она исполнится – Помереть в отдельной комнате! — Скольких лет моих? лет ста? Каждодневная мечта. И не жалость: мало жил, И не горечь: мало дал. Много жил – кто в наши жил Дни: всё дал, – кто песню дал. Жить (конечно, не новей Смерти!)[222] жилам вопреки. Для чего-нибудь да есть — Потолочные крюки.Начало января 1926
«Тише, хвала!..»
Тише, хвала! Дверью не хлопать, Слава! Стола Угол – и локоть. Сутолочь, стоп! Сердце, уймись! Локоть – и лоб. Локоть – и мысль. Юность – любить, Старость – погреться: Некогда – быть, Некуда деться. Хоть бы закут — Только без прочих! Краны – текут, Стулья – грохочут, Рты говорят: Кашей во рту Благодарят «За красоту». Знали бы вы, Ближний и дальний, Как головы Собственной жаль мне — Бога в орде! Степь – каземат — Рай – это где Не говорят! Юбочник – скот — Лавочник – частность! Богом мне – тот Будет, кто даст мне – Не времени́! Дни сочтены! — Для тишины — Четыре стены.Париж, 26 января 1926
Маяковскому[223]
1 "Чтобы край земной не вымер…"
Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дяде́й, Будь, младенец, Володимир: Целым миром володей!2 "Литературная – не в ней…"
Литературная – не в ней Суть, а вот – кровь пролейте! Выходит каждые семь дней[224]. Ушедший – раз в столетье Приходит. Сбит передовой Боец. Каких, столица, Еще тебе вестей, какой Еще – передовицы?[225] Ведь это, милые, у нас, Черновец – милюковцу[226]: «Владимир Маяковский? Да-с. Бас, говорят, и в кофте Ходил»[227]… Эх кровь-твоя-кровца! Как с новью примириться, Раз первого ее бойца Кровь – на второй странице (Известий).3 "В сапогах, подкованных железом…"
В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции.
«Однодневная газета», 24 апреля 1920 г.[228] В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал — Никаким обходом ни объездом Не доставшийся бы перевал — Израсходованных до сиянья За двадцатилетний перегон. Гору пролетарского Синая[229], На котором праводатель – он. В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел[230] — В сапогах, в которых, понаморщась, Гору нес – и брал – и клял – и пел — В сапогах и до и без отказу По невспаханностям Октября, В сапогах – почти что водолаза: Пехотинца, чище ж говоря: В сапогах великого похода, На донбассовских небось гвоздях[231]. Гору горя своего народа Стапятидесяти (Госиздат) Миллионного[232]… – В котором роде Своего, когда который год: «Ничего-де своего в заводе!» Всех народов горя гору – вот. Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы Говорок[233] еще не приутих — Мертвый пионерам крикнул: Стройся![234] В сапогах – свидетельствующих.4 "И полушки не поставишь…"
Любовная лодка разбилась о быт.[235] И полушки не поставишь[236] На такого главаря. Лодка-то твоя, товарищ, Из какого словаря? В лодке, да еще в любовной Запрокинуться – скандал! Разин – чем тебе не ро́вня? — Лучше с бытом совладал. Эко новшество – лекарство Хлещущее, что твой кран! Парень, не по-пролетарски Действуешь – а что твой пан! Стоило ж в богов и в матку Нас[237], чтоб – кровь, а не рассвет! — Класса белую подкладку Выворотить напослед. Вроде юнкера, на Тóске[238] Выстрелившего – с тоски! Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски́[239]. Фуражечку б на бровишки И – прощай, моя джаным! Правнуком своим проживши, Кончил – прадедом своим. То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер[240]. Дворяно-российский жест. Только раньше – в околодок[241], Нынче – Враг ты мой родной! Никаких любовных лодок Новых – нету под луной.5 "Выстрел – в самую душу…"
Выстрел – в самую душу, Как только что по врагам. Богоборцем разрушен Сегодня последний храм. Еще раз не осекся[242], И, в точку попав – усоп. Было, стало быть, сердце, Коль выстрелу следом – стоп. (Зарубежье, встречаясь: «Ну, казус! Каков фугас! Значит – тоже сердца есть? И с той же, что и у нас?») Выстрел – в самую точку, Как в ярмарочную цель. (Часто – левую мочку Отбривши – с женой в постель.) Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – Подумавши – назовешь. Лишь одним, зато знатно, Нас лефовец удивил[243]: Только вправо и знавший Палить-то, а тут – слевил. Кабы в правую – свёрк бы Ланцетик – и здрав ваш шеф. Выстрел в левую створку: Ну в самый-те Центропев![244]6 "Зерна огненного цвета…"
Зерна огненного цвета Брошу на ладонь. Чтоб предстал он в бездне света Красный, как огонь.[245] Советским вельможей, При полном Синоде…[246] – Здорово, Сережа![247] – Здорово, Володя! Умаялся? – Малость. – По общим? – По личным. – Стрелялось? – Привычно[248]. – Горелось? – Отлично. – Так, стало быть, пожил? – Пас в нек'тором роде. — … Негоже, Сережа! … Негоже, Володя! А помнишь, как матом Во весь свой эстрадный Басище – меня-то Обкладывал?[249] – Ладно Уж… – Вот-те и шлюпка Любовная лодка![250] Ужель из-за юбки? – Хужей из-за водки. Опухшая рожа[251]. С тех пор и на взводе? Негоже, Сережа. – Негоже, Володя. А впрочем – не бритва[252] — Сработано чисто. Так, стало быть, бита Картишка? – Сочится. – Приложь подорожник. – Хорош и коллодий[253]. Приложим, Сережа? – Приложим, Володя. А что на Рассее — На матушке? – То есть Где? – В Эсэсэсере Что нового? – Строят. Родители – ро́дят, Вредители – точут, Издатели – водят, Писатели – строчут. Мост новый заложен, Да смыт половодьем. Все то же, Сережа![254] – Все то же, Володя. А певчая стая? – Народ, знаешь, тертый! Нам лавры сплетая, У нас, как у мертвых, Прут. Старую Росту[255] Да завтрашним лаком. Да не обойдешься С одним Пастернаком. Хошь, руку приложим На ихнем безводье? Приложим, Сережа? – Приложим, Володя! Еще тебе кланяется… – А что добрый Наш Льсан Алексаныч?[256] – Вон – ангелом! – Федор Кузьмич?[257] – На канале: По красные щеки Пошел. – Гумилев Николай? – На Востоке. (В кровавой рогоже, На полной подводе…) – Все то же, Сережа. – Все то же, Володя. А коли все то же, Володя, мил-друг мой — Вновь руки наложим, Володя, хоть рук – и — Нет. – Хотя и нету, Сережа, мил-брат мой, Под царство и это Подложим гранату! И на раствороженном Нами Восходе — Заложим, Сережа! – Заложим, Володя!7 "Много храмов разрушил…"
Много храмов разрушил[258], А этот – ценней всего. Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего.Савойя, август 1930
Из цикла «Стихи к Пушкину»
1 "Бич жандармов, бог студентов…"
Бич жандармов, бог студентов, Желчь мужей, услада жен, Пушкин – в роли монумента? Гостя каменного?[259] – он, Скалозубый, нагловзорый Пушкин – в роли Командора?[260] Критик – но́я, нытик – вторя: «Где же пушкинское (взрыд) Чувство меры?» Чувство – моря Позабыли – о гранит Бьющегося?[261] Тот, солёный Пушкин – в роли лексикона?[262] Две ноги свои – погреться — Вытянувший[263] и на стол Вспрыгнувший при Самодержце[264] Африканский самовол — Наших прадедов умора — Пушкин – в роли гувернера?[265] Черного не перекрасить В белого – неисправим! Недурён российский классик, Небо Африки – своим Звавший[266], невское – проклятым! – Пушкин – в роли русопята? Ох, брадатые авгуры![267] Задал, задал бы вам бал Тот, кто царскую цензуру Только с дурой рифмовал[268], А «Европы Вестник» – с[269]… Пушкин – в роли гробокопа? К пушкинскому юбилею Тоже речь произнесем: Всех румяней и смуглее[270] До сих пор на свете всем, Всех живучей и живее! Пушкин – в роли мавзолея?[271] То-то к пушкинским избушкам Лепитесь, что сами – хлам! Как из душа! Как из пушки — Пушкиным – по соловьям Сло́ва, сокола́м полета! – Пушкин – в роли пулемета! Уши лопнули от вопля: «Перед Пушкиным во фрунт!» А куда девали пекло Губ, куда девали – бунт Пушкинский? уст окаянство? Пушкин – в меру пушкиньянца![272] Томики поставив в шкафчик — Посмешаете ж его, Беженство свое смешавши С белым бешенством его! Белокровье мозга, морга Синь – с оскалом негра, горло Кажущим… Поскакал бы, Всадник Медный, Он со всех копыт – назад. Трусоват был Ваня бедный[273], Ну, а он – не трусоват. Сей, глядевший во все страны — В роли собственной Татьяны?[274] Что́ вы делаете, карлы, Этот – голубей олив — Самый вольный, самый крайний Лоб[275] – навеки заклеймив Низостию двуединой Золота и середины? «Пушкин – тога, Пушкин – схима[276], Пушкин – мера, Пушкин – грань…» Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя Благородное – как брань Площадную – попугаи. – Пушкин? Очень испугали!25 июня 1931
2 Петр и Пушкин
Не флотом, не по́том, не задом Не ростом – из всякого ряду, Не сносом – всего, чему срок, Не лотом, не бо́том, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым[277] И даже и не Петро-дивом Своим (Петро-делом своим!). И бо́льшего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) — Когда б не привез Ганнибала — Арапа[278] на белую Русь. Сего афричонка в науку Взяв, всем россиянам носы Утер и наставил, – от внука — то негрского – свет на Руси! Уж он бы вертлявого – в струнку Не стал бы! – «На волю? Изволь! Такой же ты камерный юнкер[279], Как я – машкерадный король!»[280] Поняв, что ни пеной, ни пемзой — Той Африки, – царь-грамотей Решил бы: «Отныне я́ – цензор Твоих африканских страстей»[281]. И дав бы ему по загривку Курчавому (стричь-не остричь!): «Иди-ка, сынок, на побывку В свою африканскую дичь! Плыви – ни об чем не печалься! Чай, есть в паруса кому дуть! Соскучишься – так ворочайся, А нет – хошь и дверь позабудь! Приказ: ледяные туманы Покинув – за пядию пядь Обследовать жаркие страны И виршами нам описать». И мимо наставленной свиты, Отставленной – прямо на склад, Гигант, отпустивши пииту, Помчал – по земле или над! Сей не по снегам смуглолицый Российским – снегов Измаил![282] Уж он бы заморскую птицу Архивами не заморил![283] Сей, не по кровям торопливый Славянским, сей тоже – метис![284] Уж ты б у него по архивам Отечественным не закис! Уж он бы с тобою – поладил! За непринужденный поклон Разжалованный – Николаем, Пожалованный бы – Петром! Уж он бы жандармского сыска Не крыл бы «отечеством чувств»! Уж он бы тебе – василиска Взгляд![285] – не замораживал уст. Уж он бы полтавских не комкал Концов, не тупил бы пера. За что недостойным потомком — Подонком – опенком Петра Был сослан в румынскую область[286], Да ею б – пожалован был Сим – так ненавидевшим робость Мужскую, – что сына убил[287] Сробевшего. – «Эта мякина — Я? – Вот и роди! и расти!» Был негр ему истинным сыном, Так истинным правнуком – ты Останешься. Заговор равных. И вот, не спросясь повитух, Гигантова крестника правнук Петров унаследовал дух. И шаг, и светлейший из светлых Взгляд, коим поныне светла… Последний – посмертный – бессмертный Подарок России – Петра.2 июля 1931
3 (Станок)
Вся его наука — Мощь. Светло́, – гляжу: Пушкинскую руку Жму, а не лижу. Прадеду – товарка: В той же мастерской! Каждая помарка — Как своей рукой. Вольному – под стопки? Мне, в котле чудес Сём – открытой скобки Ведающей – вес, Мнящейся описки — Смысл, короче – всё. Ибо нету сыска Пуще, чем родство! Пелось как – поется И поныне – та́к. Знаем, как «дается»! Над тобой, «пустяк», Знаем – как потелось! От тебя, мазок, Знаю – как хотелось В лес – на бал – в возок… И как – спать хотелось! Над цветком любви — Знаю, как скрипел ось Негрскими зубьми! Перья на востро́ты — Знаю, как чинил! Пальцы не просохли От его чернил! А зато – меж талых Свеч, картежных сеч — Знаю – как стрясалось! От зеркал, от плеч Голых, от бокалов, Битых на полу, — Знаю, как бежалось К голому столу! В битву без злодейства: Самого́ – с самим! – Пушкиным не бейте! Ибо бью вас – им!1931
4 "Преодоленье…"
Преодоленье Косности русской — Пушкинский гений? Пушкинский мускул На кашалотьей Туше судьбы — Мускул полета, Бега, Борьбы. С утренней негой Бившийся – бодро! Ровного бега, Долгого хода — Мускул. Побегов Мускул степных, Шлюпки, что к брегу Тщится сквозь вихрь. Не онеду́жен Русскою кровью — О, не верблюжья И не воловья Жила (усердство Из-под ремня!) — Конского сердца Мышца – моя! Больше балласту — Краше осанка! Мускул гимнаста И арестанта, Что на канате Собственных жил Из каземата — Соколом взмыл! Пушкин – с монаршьих Рук руководством Бившийся так же На́смерть – как бьется (Мощь – прибывала, Сила – росла) С мускулом вала Мускул весла. Кто-то, на фуру Несший: «Атлета Мускулатура, А не поэта!» То – серафима Сила – была: Несокрушимый Мускул – крыла.10 июля 1931
Страна
С фонарем обшарьте Весь подлунный свет! Той страны на карте — Нет, в пространстве – нет. Выпита как с блюдца — Донышко блестит. Можно ли вернуться В дом, который – срыт? Заново родися — В новую страну! Ну-ка, воротися На спину коню Сбросившему! Кости Целы-то – хотя? Эдакому гостю Булочник – ломтя Ломаного, плотник — Гроба не продаст! То́й ее – несчетных Верст, небесных царств, Той, где на монетах — Молодость моя, Той России – нету. – Как и той меня.Конец июня 1931
Из цикла «Ода пешему ходу»
1 "В век сплошных скоропадских…"
В век сплошных скоропадских, Роковых скоростей — Слава стойкому братству Пешехожих ступней! Всéутёсно, всéрощно, Прямиком, без дорог, Обивающих мощно Лишь природы – порог, Дерзко попранный веком. (В век турбин и динам[288] Только жить, что калекам!) … Но и мстящей же вам За рекламные клейма На вскормившую грудь. – Нет, безногое племя, Даль – ногами добудь! Слава толстым подметкам, Сапогам на гвоздях, Ходокам, скороходкам — Божествам в сапогах! Если есть в мире – ода Богу сил, богу гор — Это взгляд пешехода На застрявший мотор. Сей ухмыл в пол-аршина, Просто – шире лица: Пешехода на шину Взгляд – что лопается! Поглядите на чванством Распираемый торс! Паразиты пространства, Алкоголики верст — Что сквозь пыльную тучу Рукоплещущих толп Расшибаются. – Случай? – Дури собственной – столб.Медон, 26 августа 1931 – Кламар, 30 марта 1933
Бузина[289]
Бузина цельный сад залила! Бузина зелена, зелена, Зеленее, чем плесень на чане! Зелена, значит, лето в начале! Синева – до скончания дней! Бузина моих глаз зеленей! А потом – через ночь – костром Ростопчинским![290] – в очах красно От бузинной пузырчатой трели. Красней кори на собственном теле По всем порам твоим, лазорь, Рассыпающаяся корь Бузины – до зимы, до зимы! Что за краски разведены В мелкой ягоде слаще яда! Кумача, сургуча и ада — Смесь, коралловых мелких бус Блеск, запекшейся крови вкус. Бузина казнена, казнена! Бузина – целый сад залила Кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек огнекистых — Веселейшей из всех кровей: Кровью сердца – твоей, моей… А потом – водопад зерна, А потом – бузина черна: С чем-то сливовым, с чем-то липким. Над калиткой, стонавшей скрипкой, Возле дома, который пуст, Одинокий бузинный куст. Бузина, без ума, без ума Я от бус твоих, бузина! Степь – хунхузу, Кавказ – грузину[291], Мне – мой куст под окном бузинный Дайте. Вместо Дворцов Искусств Только этот бузинный куст… Новосёлы моей страны! Из-за ягоды – бузины, Детской жажды моей багровой, Из-за древа и из-за слова: Бузина (по сей день – ночьми…), Яда – всосанного очьми… Бузина багрова, багрова! Бузина – целый край забрала В лапы. Детство мое у власти. Нечто вроде преступной страсти, Бузина, меж тобой и мной. Я бы века болезнь – бузиной Назвала…11 сентября 1931, Медон – 21 мая 1935, Ванв
«– Не нужен твой стих…»
– Не нужен твой стих — Как бабушкин сон. – А мы для иных Сновидим времен. – Докучен твой стих — Как дедушкин вздох. – А мы для иных Дозóрим эпох. – В пять лет – целый свет[292] — Вот сон наш каков! – Ваш – на́ пять лишь лет. Мой – на́ пять веков. – Иди, куда дни! – Дни мимо идут… – Иди, куда мы. – Слепые ведут. А быть или нет Стихам на Руси — Потоки спроси, Потомков спроси.14 сентября 1931
Стихи к сыну
1 "Ни к городу и ни к селу…"
Ни к городу и ни к селу — Езжай, мой сын, в свою страну, — В край – всем краям наоборот! — Куда назад идти – вперед Идти – особенно – тебе, Руси не видывавшее Дитя мое[293]… Мое? Ее — Дитя! То самое былье, Которым порастает быль. Землицу, стершуюся в пыль, Ужель ребенку в колыбель Нести в трясущихся горстях: «Русь – этот прах, чти – этот прах!» От неиспытанных утрат — Иди – куда глаза глядят! Всех стран – глаза, со всей земли — Глаза, и синие твои Глаза, в которые гляжусь: В глаза, глядящие на Русь. Да не поклонимся словам! Русь – прадедам, Россия – нам, Вам – просветители пещер — Призывное: СССР, — Не менее во тьме небес Призывное, чем: SOS. Нас родина не позовет! Езжай, мой сын, домой – вперед — В свой край, в свой век, в свой час, – от нас — В Россию – вас, в Россию – масс, В наш-час – страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас – страну!Январь 1932
2 "Наша совесть – не ваша совесть!.."
Наша совесть – не ваша совесть! Полно! – Вольно! – О всем забыв, Дети, сами пишите повесть Дней своих и страстей своих. Соляное семейство Лота[294] — Вот семейственный ваш альбом! Дети! Сами сводите счеты С выдаваемым за Содом — Градом. С братом своим не дравшись — Дело чисто твое, кудряш! Ваш край, ваш век, ваш день, ваш час, Наш грех, наш крест, наш спор, наш — Гнев. В сиротские пелеринки Облаченные отродясь — Перестаньте справлять поминки По Эдему, в котором вас Не было! по плодам – и видом Не видали! Поймите: слеп — Вас ведущий на панихиду По народу, который хлеб Ест, и вам его даст, – как скоро Из Медона – да на Кубань[295]. Наша ссора – не ваша ссора! Дети! Сами творите брань Дней своих.Январь 1932
3 "Не быть тебе нулем…"
Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! Ни медным королем, Ни пóпросту – спортсмедным Лбом, ни слепцом путей, Коптителем кают, Ни парой челюстей, Которые жуют, — В сём полагая цель. Ибо в любую щель — Я – с моим ветром буйным! Не быть тебе буржуем. Ни галльским петухом[296], Хвост заложившим в банке. Ни томным женихом Седой американки, — Нет, ни одним из тех, Дописанных, как лист, Которым – только смех Остался, только свист Достался от отцов! С той стороны весов Я – с черноземным грузом! Не быть тебе французом. Но также – ни одним Из нас, досадных внукам! Кем будешь – Бог один… Не будешь кем – порукой — Я, что в тебя – всю Русь Вкачала – как насосом! Бог видит – побожусь! — Не будешь ты отбросом Страны своей.22 января 1932
Родина ("О неподатливый язык!..")
О неподатливый язык! Чего бы попросту – мужик, Пойми, певал и до меня: – Россия, родина моя! Но и с калужского холма Мне открывалася она — Даль – тридевятая земля! Чужбина, родина моя! Даль, прирожденная, как боль, Настолько родина и столь Рок, что повсюду, через всю Даль – всю ее с собой несу! Даль, отдалившая мне близь, Даль, говорящая: «Вернись Домой!» Со всех – до горних звéзд — Меня снимающая мест! Недаром, голубей воды, Я далью обдавала лбы. Ты! Сей руки своей лишусь, — Хоть двух! Губами подпишусь На плахе: распрь моих земля — Гордыня, родина моя!12 мая 1932
«Закрыв глаза – раз и́наче нельзя…»
Закрыв глаза – раз и́наче нельзя — (А и́наче – нельзя!) закрыв глаза На бывшее (чем топтаннее Травка — Тем гуще лишь!), но ждущее – до завтра ж! Не ждущее уже: смерть, у меня Не ждущая до завтрашнего дня… Так, опустив глубокую завесу, Закрыв глаза, как занавес над пьесой: Над местом, по которому – метла… (А голова, как комната – светла!) На голову свою — – да по́просту – от света Закрыв глаза и не закрыв, а сжав — Всем существом в ребро, в плечо, в рукав – Как скрипачу вовек не разучиться! — В знакомую, глубокую ключицу — В тот жаркий ключ, изустный и живой — Что нам воды – дороже – ключевой.Сентябрь 1932
Ici – Haut[297][298]
1 "Товарищи, как нравится…"
Товарищи, как нравится Вам в проходном дворе Всеравенства – перст главенства: – Заройте на горе![299] В век распевай, как хочется Нам – либо упраздним, В век скопищ – одиночества – Хочу лежать один — Вздох.17 октября 1932
2 "Ветхозаветная тишина…"
Ветхозаветная тишина, Сирой полыни крестик. Похоронили поэта на Самом высоком месте. Так и во гробе еще – подъем Он даровал – несущим. … Стало быть, именно на своем Месте, ему присущем. Выше которого только вздох, Мой из моей неволи. Выше которого – только Бог! Бог – и ни вещи боле. Всечеловека среди высот Вечных при каждом строе. Как подобает поэта – под Небом и над землею. После России, где меньше он Был, чем последний Смазчик — Равным в ряду – всех из ряда вон Равенства – выходящих. В гор ряду, в зорь ряду, в гнезд ряду, Орльих, по всем утесам. На пятьдесят, хоть, восьмом году — Стал рядовым, был способ! Уединенный вошедший в круг — Горе? – Нет, радость в доме! На́ сорок верст высоты вокруг — Солнечного, да кроме Лунного – ни одного лица, Ибо соседей – нету. Место откуплено до конца Памяти и планеты.3 "В стране, которая – одна…"
В стране, которая – одна Из всех звалась Господней, Теперь меняют имена Всяк, как ему сегодня На ум или не-ум (потом Решим!) взбредет. «Леонтьем Крещеный – просит о таком — то прозвище». – Извольте! А впрочем, что́ ему с холма, Как звать такую малость? Я гору знаю, что сама Переименовалась. Среди казарм, и шахт, и школ: Чтобы душа не билась! — Я гору знаю, что в престол Души преобразилась. В котлов и общего котла, Всеобщей котловины Век – гору знаю, что светла Тем, что на ней единый Спит – на отвесном пустыре Над уровнем движенья. Преображенье на горе? Горы – преображенье. Гора, как все была: стара, Меж прочих не отметишь. Днесь Вечной Памяти Гора, Доколе солнце светит — Вожатому – душ, а не масс! Не двести лет, не двадцать, Гора та – как бы ни звалась — До веку будет зваться Волошинской.23 октября 1932
4 "– «Переименовать!» Приказ…"
– «Переименовать!» Приказ — Одно, народный глас – другое. Так, погребенья через час, Пошла «Волошинскою горою» Гора, названье Янычар Носившая – четыре века. А у почтительных татар: – Гора Большого Человека.22 мая 1935
5 "Над вороны́м утесом…"
Над вороны́м утесом — Белой зари рукав. Ногу – уже с заносом Бега – с трудом вкопав В землю, смеясь, что первой Встала, в зари венце — Макс! мне было – так верно Ждать на твоем крыльце![300] Позже, отвесным полднем, Под колокольцы коз, С всхолмья да на восхолмье, С глыбы да на утес — По трехсаженным креслам: – Тронам иных эпох! — Макс! мне было – так лестно Лезть за тобою – Бог Знает куда! Да, виды Видящим – путь скалист. С глыбы на пирамиду, С рыбы – на обелиск… Ну, а потом, на плоской Вышке – орлы вокруг — Макс! мне было – так просто Есть у тебя из рук, Божьих или медвежьих, Опережавших «дай», Рук неизменно-брежных, За воспаленный край Раны умевших браться В веры сплошном луче. Макс, мне было так братски Спать на твоем плече! (Горы… Себе на горе Видится мне одно Место: с него два моря Были видны по дно Бездны… два моря сразу! Дщери иной поры, Кто вам свои два глаза Преподнесет с горы?) … Только теперь, в подполье, Вижу, когда потух Свет – до чего мне вольно Было в охвате двух Рук твоих… В первых встречных Царстве – о, сам суди, Макс, до чего мне вечно Было в твоей груди! Пусть ни единой травки, Площе, чем на столе — Макс! мне будет – так мягко Спать на твоей скале!28 октября 1932
«Темная сила!..»
Темная сила! Мра-ремесло![301] Скольких сгубило, Как малых – спасло.<1932>
Стол[302]
1 "Мой письменный верный стол!.."
Мой письменный верный стол! Спасибо за то, что шел Со мною по всем путям. Меня охранял – как шрам. Мой письменный вьючный мул! Спасибо, что ног не гнул Под ношей, поклажу грез — Спасибо – что нес и нес. Строжайшее из зерцал![303] Спасибо за то, что стал – Соблазнам мирским порог — Всем радостям поперек, Всем низостям – наотрез! Дубовый противовес Льву ненависти, слону Обиды – всему, всему. Мой за́живо смертный тес! Спасибо, что рос и рос Со мною, по мере дел Настольных – большая, ширел, Так ширился, до широт — Таких, что, раскрывши рот, Схватясь за столовый кант… – Меня заливал, как штранд![304] К себе пригвоздив чуть свет — Спасибо за то, что – вслед Срывался! На всех путях Меня настигал, как шах — Беглянку. – Назад, на стул! Спасибо за то, что блюл И гнул. У невечных благ Меня отбивал – как маг — Сомнамбулу. Битв рубцы, Стол, выстроивший в столбцы Горящие: жил багрец! Деяний моих столбец! Столп столпника, уст затвор — Ты был мне престол, Простор — Тем был мне, что морю толп Еврейских – горящий столп![305] Так будь же благословен — Лбом, ло́ктем, узлом колен Испытанный, – как пила В грудь въевшийся – край стола!Июль 1933
2 "Тридцатая годовщина…"
Тридцатая годовщина Союза – верней любви. Я знаю твои морщины, Как знаешь и ты – мои, Которых – не ты ли – автор? Съедавший за дестью десть, Учивший, что нету – завтра, Что только сегодня – есть. И деньги, и письма с почты — Стол – сбрасывавший – в поток! Твердивший, что каждой строчки Сегодня – последний срок. Грозивший, что счетом ложек Создателю не воздашь, Что завтра меня положат — Дури́щу – да на тебя ж!3 "Тридцатая годовщина…"
Тридцатая годовщина Союза – держись, злецы! Я знаю твои морщины, Изъяны, рубцы, зубцы — Малейшую из зазубрин! (Зубами – коль стих не шел!) Да, был человек возлюблен! И сей человек был – стол Сосновый. Не мне на всхолмье Березу берёг карел![306] Порой еще с слезкой смольной, Но вдруг – через ночь – старел, Разумнел – так школьник дерзость Сдает под мужской нажим. Сажусь – еле доску держит, Побьюсь – точно век дружи́м! Ты – стоя, в упор, я – спину Согнувши – пиши! пиши! — Которую десятину Вспахали, версту – прошли, Покрыли: письмом – красивей Не сыщешь в державе всей! Не меньше, чем пол-России Покрыто рукою сей! Сосновый, дубовый, в лаке Грошовом, с кольцом в ноздрях, Садовый, столовый – всякий, Лишь бы́ не на трех ногах! Как трех Самозванцев в браке Признавшая тёзка[307] – тот! Бильярдный, базарный – всякий — Лишь бы не сдавал высот Заветных. Когда ж подастся Железный – под локтевым Напором, столов – богатство! Вот пень: не обнять двоим! А паперть? А край колодца? А старой могилы – пласт? Лишь только б мои два локтя Всегда утверждали: – даст Бог! Есть Бог! Поэт – устройчив: Всё – стол ему, всё – престол! Но лучше всего, всех стойче — Ты, – мой наколенный стол!Около 15 июля 1933 – 29–30 октября 1935
4 "Обидел и обошел?.."
Обидел и обошел? Спасибо за то, что – стол Дал, стойкий, врагам на страх Стол – на четырех ногах Упорства. Скорей – скалу Своротишь! И лоб – к столу Подстатный, и локоть под — Чтоб лоб свой держать, как свод. – А прочего дал в обрез? А прочный, во весь мой вес, Просторный, – во весь мой бег, Стол – вечный – на весь мой век! Спасибо тебе, Столяр, За до́ску – во весь мой дар, За ножки – прочней химер Парижских[308], за вещь – в размер.5 "Мой письменный верный стол!.."
Мой письменный верный стол! Спасибо за то, что ствол Отдав мне, чтоб стать – столом, Остался – живым стволом! С листвы молодой игрой Над бровью, с живой корой, С слезами живой смолы, С корнями до дна земли!17 июля 1933
6 "Квиты: вами я объедена…"
Квиты: вами я объедена, Мною – живопи́саны. Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный. Оттого что, йотой счастлива, Яств иных не ведала. Оттого что слишком часто вы, Долго вы обедали. Всяк на выбранном заранее — <Много до рождения! – > Месте своего деяния, Своего радения: Вы – с отрыжками, я – с книжками, С трюфелем, я – с грифелем, Вы – с оливками, я – с рифмами, С пикулем[309], я – с дактилем. В головах – свечами смертными Спаржа толстоногая. Полосатая десертная Скатерть вам – дорогою! Табачку пыхнем гаванского Слева вам – и справа вам. Полотняная голландская Скатерть вам – да саваном! А чтоб скатертью не тратиться — В яму, место низкое, Вытряхнут <вас всех со скатерти:> С крошками, с огрызками. Каплуном-то вместо голубя – Порх! душа – при вскрытии. А меня положат – голую: Два крыла прикрытием.Конец июля 1933
«Вскрыла жилы: неостановимо…»
Вскрыла жилы: неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки![310] Всякая тарелка будет – мелкой, Миска – плоской, Через край – и мимо — В землю черную, питать тростник. Невозвратно, неостановимо, Невосстановимо хлещет стих.6 января 1934
«Тоска по родине! Давно…»
Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно все равно — Где совершенно одинокой Быть, по каким камням домой Брести с кошелкою базарной В дом, и не знающий, что – мой, Как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть вытесненной – непременно — В себя, в единоличье чувств. Камчатским медведём без льдины Где не ужиться (и не тщусь!), Где унижаться – мне едино. Не обольщусь и языком Родным, его призывом млечным. Мне безразлично – на каком Непонимаемой быть встречным! (Читателем, газетных тонн Глотателем, доильцем сплетен…) Двадцатого столетья – он, А я – до всякого столетья! Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все́ – равны, мне всё – равно, И, может быть, всего равнее — Роднее бывшее – всего. Все признаки с меня, все меты, Все даты – как рукой сняло: Душа, родившаяся – где-то. Та́к край меня не уберег Мой, что и самый зоркий сыщик Вдоль всей души, всей – поперек! Родимого пятна не сыщет! Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И все – равно, и все – едино. Но если по дороге – куст Встает, особенно – рябина…3 мая 1934
«А Бог с вами!..»
А Бог с вами! Будьте овцами! Ходите стадами, стаями Без меты, без мысли собственной Вслед Гитлеру или Сталину Являйте из тел расплавленных Звезду или свасты крюки[311].23 июня 1934
«Это жизнь моя пропела – провыла…»
Это жизнь моя пропела – провыла — Прогудела – как осенний прибой — И проплакала сама над собой.Июнь 1934
Куст
1 "Что́ нужно кусту от меня?.."
Что́ нужно кусту от меня? Не речи ж! Не доли собачьей Моей человечьей, кляня Которую – голову прячу В него же (седей – день от дня!). Сей мощи, и плещи, и гущи — Что нужно кусту – от меня? Имущему – от неимущей! А нужно! иначе б не шел Мне в очи, и в мысли, и в уши. Не нужно б – тогда бы не цвел Мне прямо в разверстую душу, Что только кустом не пуста: Окном моих всех захолустий! Что, полная чаша куста, Находишь на сем – месте пусте? Чего не видал (на ветвях Твоих – хоть бы лист одинаков!) В моих преткновения пнях, Сплошных препинания знаках? Чего не слыхал (на ветвях Молва не рождается в муках!) В моих преткновения пнях, Сплошных препинания звуках? Да вот и сейчас, словарю Придавши бессмертную силу, — Да разве я то́ говорю, Что знала, пока не раскрыла Рта, знала еще на черте Губ, той – за которой осколки… И снова, во всей полноте, Знать буду, как только умолкну.2 "А мне от куста – не шуми…"
А мне от куста – не шуми Минуточку, мир человечий! — А мне от куста – тишины: Той, – между молчаньем и речью. Той, – можешь – ничем, можешь – всем Назвать: глубока, неизбывна. Невнятности! наших поэм Посмертных – невнятицы дивной. Невнятицы старых садов, Невнятицы музыки новой, Невнятицы первых слогов, Невнятицы Фауста Второго[312]. Той – до всего, после всего. Гул множеств, идущих на форум. Ну – шума ушного того, Всё соединилось в котором. Как будто бы все кувшины Востока – на лобное всхолмье. Такой от куста тишины, Полнее не выразишь: полной.Около 20 августа 1934
«Уединение: уйди…»
Уединение: уйди В себя, как прадеды в феоды. Уединение: в груди Ищи и находи свободу. Чтоб ни души, чтоб ни ноги — На свете нет такого саду Уединению. В груди Ищи и находи прохладу. Кто́ победил на площади́ — Про то не думай и не ведай. В уединении груди — Справляй и погребай победу Уединения в груди. Уединение: уйди, Жизнь!Сентябрь 1934
«О поэте не подумал…»
О поэте не подумал Век – и мне не до него. Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом Времени не моего! Если веку не до предков — Не до правнуков мне: стад. Век мой – яд мой, век мой – вред мой, Век мой – враг мой, век мой – ад.Сентябрь 1934ъ
Сад
За этот ад, За этот бред, Пошли мне сад На старость лет. На старость лет, На старость бед: Рабочих – лет, Горбатых – лет… На старость лет Собачьих – клад: Горячих лет — Прохладный сад… Для беглеца Мне сад пошли: Без ни-лица, Без ни-души! Сад: ни шажка! Сад: ни глазка! Сад: ни смешка! Сад: ни свистка! Без ни-ушка Мне сад пошли: Без ни-душка! Без ни-души! Скажи: довольно му́ки – на́ Сад – одинокий, как сама. (Но около и Сам не стань!) – Сад, одинокий, как ты Сам. Такой мне сад на старость лет… – Тот сад? А может быть – тот свет? — На старость лет моих пошли — На отпущение души.1 октября 1934
Челюскинцы[313]
Челюскинцы! Звук — Как сжатые челюсти. Мороз из них прет, Медведь из них щерится. И впрямь челюстьми – На славу всемирную — Из льдин челюстей Товарищей вырвали! На льдине (не то Что – черт его – Нобиле!)[314] Родили – дитё[315] И псов не угробили — На льдине! Эол Доносит по кабелю[316]: – На льдов произвол Ни пса не оставили! И спасши – мечта Для младшего возраста! — И псов и дитя Умчали по воздуху. – «Европа, глядишь? Так льды у нас колются!» Щекастый малыш, Спеленатый – полюсом! А рядом – сердит На гро́мы виктории — Второй уже Шмидт[317] В российской истории: Седыми бровьми Стесненная ласковость… Сегодня – смеюсь! Сегодня – да здравствует Советский Союз! За вас каждым мускулом Держусь – и горжусь: Челюскинцы – русские!3 октября 1934
«Человека защищать не надо…»
Человека защищать не надо Перед Богом, Бога – от него. Человек заслуживает ада. Но и сада Семиверстного – для одного. Человек заслуживает – танка! Но и замка Феодального – для одного.Осень 1934
«Есть счастливцы и счастливицы…»
Есть счастливцы и счастливицы, Петь не могущие. Им — Слезы лить! Как сладко вылиться Горю – ливнем проливным! Чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж – призвание как плеть — Меж стенания надгробного Долг повелевает – петь. Пел же над другом своим Давид, Хоть пополам расколот! Если б Орфей не сошел в Аид Сам, а послал бы голос Свой, только голос послал во тьму, Сам у порога лишним Встав, – Эвридика бы по нему Как по канату вышла… Как по канату и как на свет, Слепо и без возврата. Ибо раз голос тебе, поэт, Дан, остальное – взято.Ноябрь – декабрь 1934
«Рябину…»
Рябину Рубили Зорькою. Рябина — Судьбина Горькая. Рябина — Седыми Спусками… Рябина! Судьбина Русская.1934
«Никому не отмстила и не отмщу…»
Никому не отмстила и не отмщу — Одному не простила и не прощу С дня, как очи раскрыла, – по гроб дубов Ничего не спустила – и видит Бог Не спущу до великого спуска век… – Но достоин ли человек?… – Нет. Впустую дерусь: ни с кем. Одному не простила: всем.26 января 1935
Отцам
1 "В мире, ревущем…"
В мире, ревущем: – Слава грядущим! Что́ во мне шепчет: – Слава прошедшим! Вам, проходящим, В счет не идущим, Чад не родящим, Мне – предыдущим. С клавишем, с кистью ль Спорили, с дестью ль Писчего – чисто Прожили, с честью. Белые – краше Снега сокровищ! — Волосы – вашей Совести – повесть.14 – 15 сентября 1935
2 "Поколенью с сиренью…"
Поколенью с сиренью И с Пасхой в Кремле, Мой привет поколенью По колено в земле, А сединами – в звездах! Вам, слышней камыша, – Чуть зазыблется воздух — Говорящим: ду – ша! Только душу и спасшим Из фамильных богатств, Современникам старшим — Вам, без равенств и братств, Руку веры и дружбы, Как кавказец – кувшин С виноградным! – врагу же — Две – протягивавшим! Не Сиреной – сиренью Заключенное в грот[318], Поколенье – с пареньем! С тяготением – от Земли, над землей, прочь от И червя и зерна! Поколенье – без почвы, Но с такою – до дна, Днища – узренной бездной, Что из впалых орбит Ликом девы любезной — Как живая глядит. Поколенье, где краше Был – кто жарче страдал! Поколенье! Я – ваша! Продолженье зеркал. Ваша – сутью и статью, И почтеньем к уму, И презрением к платью Плоти – временному! Вы – ребенку, поэтом Обреченному быть, Кроме звонкой монеты Всё – внушившие – чтить: Кроме бога Ваала![319] Всех богов – всех времен – и племен… Поколенью – с провалом — Мой бессмертный поклон! Вам, в одном небывалом Умудрившимся – быть, Вам, средь шумного бала[320] Так умевшим – любить! До последнего часа Обращенным к звезде — Уходящая раса, Спасибо тебе!16 октября 1935
«Двух станов не боец, а – если гость случайный…»
Двух станов не боец, а только гость случайный…[321] Двух станов не боец, а – если гость случайный — То гость – как в глотке кость, гость — как в подметке гвоздь. Была мне голова дана – по ней стучали В два молота: одних – корысть и прочих – злость. Вы с этой головы – к создателеву чуду Терпение мое, рабочее, прибавь — Вы с этой головы – что́ требовали? – Блуда! Дивяся на ответ упорный: обезглавь. Вы с этой головы, уравненной – как гряды Гор, вписанной в вершин божественный чертеж, Вы с этой головы – что́ требовали? – Ряда. Дивяся на ответ (безмолвный): обезножь! Вы с этой головы, настроенной – как лира: На самый высший лад: лирический… – Нет, стой! Два строя: Домострой – и Днепрострой – на выбор![322] Дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй. И с этой головы, с лба – серого гранита, Вы требовали: нас – люби! те́х – ненавидь! Не все ли ей равно – с какого боку битой, С какого профиля души – глушимой быть? Бывают времена, когда голов – не надо. Но слово низводить до свеклы кормовой — Честнее с головой Орфеевой – менады! Иродиада с Иоанна головой![323] – Ты царь: живи один[324]… (Но у царей – наложниц Минута.) Бог – один. Тот – в пустоте небес. Двух станов не боец: судья – истец – заложник — Двух – противубоец! Дух – противубоец.25 октября 1935
Читатели газет
Ползет подземный змей, Ползет, везет людей. И каждый – со своей Газетой (со своей Экземой!)[325]. Жвачный тик, Газетный костоед. Жеватели мастик, Читатели газет. Кто – чтец? Старик? Атлет? Солдат? – Ни че́рт, ни лиц, Ни лет. Скелет – раз нет Лица: газетный лист! Которым – весь Париж С лба до пупа одет. Брось, девушка! Родишь — Читателя газет. Кача – «живет с сестрой» — ются – «убил отца!» — Качаются – тщетой Накачиваются. Что́ для таких господ — Закат или рассвет? Глотатели пустот, Читатели газет! Газет – читай: клевет, Газет – читай: растрат. Что ни столбец – навет, Что ни абзац – отврат… О, с чем на Страшный суд Предстанете: на свет! Хвататели минут, Читатели газет! – Пошел! Пропал! Исчез! Стар материнский страх. Мать! Гуттенбергов пресс[326] Страшней, чем Шварцев прах[327]. Уж лучше на погост, — Чем в гнойный лазарет Чесателей корост, Читателей газет! Кто наших сыновей Гноит во цвете лет? Смесители крове́й, Писатели газет! Вот, други, – и куда Сильней, чем в сих строках! — Что́ думаю, когда С рукописью в руках Стою перед лицом – Пустее места – нет! — Так значит – нелицом Редактора газет — ной нечисти.Ванв, 1-15 ноября 1935
Из цикла «Стихи сироте»[328]
Шел по улице малютка, Посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка, Пожалела сироту…1 "Ледяная тиара гор…"
Ледяная тиара гор — Только бренному лику – рамка. Я сегодня плющу – пробор Провела на граните замка. Я сегодня сосновый стан Обгоняла на всех дорогах. Я сегодня взяла тюльпан — Как ребенка за подбородок.16–17 августа 1936
2 "Обнимаю тебя кругозором…"
Обнимаю тебя кругозором Гор, гранитной короною скал. (Занимаю тебя разговором — Чтобы легче дышал, крепче спал.) Феодального замка боками, Меховыми руками плюща — Знаешь – плющ, обнимающий камень — В сто четыре руки и ручья? Но не жимолость я – и не плющ я! Даже ты, что руки мне родней, Не расплю́щен – а вольноотпущен На все стороны мысли моей! … Кру́гом клумбы и кру́гом колодца, Куда камень придет – седым! Круговою порукой сиротства, — Одиночеством – круглым моим! (Та́к вплелась в мои русые пряди — Не одна серебристая прядь!) … И рекой, разошедшейся на две — Чтобы остров создать – и обнять. Всей Савойей и всем Пиемонтом, И – немножко хребет надломя — Обнимаю тебя горизонтом Голубым – и руками двумя!21–24 августа 1936
6 "Наконец-то встретила…"
Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого-то смертная Надоба – во мне. Что́ для ока – радуга, Злаку – чернозем — Человеку – надоба Человека – в нем. Мне дождя, и радуги, И руки – нужней Человека надоба Рук – в руке моей. Это – шире Ладоги И горы верней — Человека надоба Ран – в руке моей. И за то, что с язвою Мне принес ладонь — Эту руку – сразу бы За тебя в огонь!11 сентября 1936
<7> "В мыслях об ином, инаком…"
В мыслях об ином, инаком, И ненайденном, как клад, Шаг за шагом, мак за маком — Обезглавила весь сад. Так, когда-нибудь, в сухое Лето, поля на краю, Смерть рассеянной рукою Снимет голову – мою.5–6 сентября 1936
«Когда я гляжу на летящие листья…»
Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые – как художника кистью, Картину кончающего наконец, Я думаю (уж никому не по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), Что явственно желтый, решительно ржавый Один такой лист на вершине – забыт.Октябрь 1936
«Опустивши забрало…»
Опустивши забрало, Со всем – в борьбе, У меня уже – мало Улыбок – себе… Здравствуй, зелени новой Зеленый дым! У меня еще много Улыбок другим…22 марта 1938
Из цикла «Стихи к Чехии»[329] Март
4 Германии
О, дева всех румянее Среди зеленых гор — Германия! Германия! Германия! Позор! Полкарты прикарманила, Астральная душа![330] Встарь – сказками туманила, Днесь – танками пошла. Пред чешскою крестьянкою — Не опускаешь вежд, Прокатываясь танками По ржи ее надежд? Пред горестью безмерною Сей маленькой страны, Что чувствуете, Германы: Германии сыны?? О мания! О мумия Величия! Сгоришь, Германия! Безумие, Безумие Творишь! С объятьями удавьими Расправится силач! За здравие, Моравия! Словакия[331], словачь! В хрустальное подземие[332] Уйдя – готовь удар: Богемия! Богемия! Богемия! Наздар![333]9 – 10 апреля 1939
8
О слезы на глазах! Плач гнева и любви! О Чехия в слезах! Испания в крови! О черная гора, Затмившая – весь свет! Пора – пора – пора Творцу вернуть билет[334]. Отказываюсь – быть. В Бедламе нелюдей[335] Отказываюсь – жить. С волками площадей Отказываюсь – выть. С акулами равнин Отказываюсь плыть — Вниз – по теченью спин. Не надо мне ни дыр Ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир Ответ один – отказ.15 марта – 11 мая 1939
"– Пора! для этого огня…"
– Пора! для этого огня — Стара! – Любовь – старей меня! – Пятидесяти январей Гора! – Любовь – еще старей: Стара, как хвощ, стара, как змей, Старей ливонских янтарей[336], Всех привиденских кораблей Старей! – камней, старей – морей… Но боль, которая в груди, Старей любви, старей любви.23 января 1940
«Всё повторяю первый стих…»
Я стол накрыл на шестерых… Всё повторяю первый стих[337] И всё переправляю слово: – «Я стол накрыл на шестерых»… Ты одного забыл – седьмого. Невесело вам вшестером. На лицах – дождевые струи… Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть – седьмую… Невесело твоим гостям, Бездействует графин хрустальный. Печально – им, печален – сам, Непозванная – всех печальней. Невесело и несветло. Ах! не едите и не пьете. – Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог, как смел ты не понять, Что шестеро (два брата, третий — Ты сам – с женой, отец и мать) Есть семеро – раз я́ на свете! Ты стол накрыл на шестерых, Но шестерыми мир не вымер. Чем пугалом среди живых — Быть призраком хочу – с твоими, (Своими)… Робкая, как вор, О – ни души не задевая! — За непоставленный прибор Сажусь незваная, седьмая. Раз! – опрокинула стакан! И всё, что жаждало пролиться, — Вся соль из глаз, вся кровь из ран — Со скатерти – на половицы. И – гроба нет! Разлуки – нет! Стол расколдован, дом разбужен. Как смерть – на свадебный обед, Я – жизнь, пришедшая на ужин. … Никто: не брат, не сын, не муж, Не друг – и всё же укоряю: – Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не посадивший – с краю.6 марта 1941
Переводы
Райнер Мария Рильке[338] 1875–1926
«Кто нам сказал, что всё исчезает?..»
Кто нам сказал, что всё исчезает? Птица, которую ты ранил, Кто знает? – не останется ли ее полет? И, может быть, стебли объятий Переживают нас, свою почву. Длится не жест, Но жест облекает вас в латы, Золотые – от груди до колен. И так чиста была битва, Что ангел несет ее вслед.Уильям Шекспир 1564–1616
Песня Стефано (из второго акта драмы «Буря»)
Капитан, пушкарь и боцман — Штурман тоже, хоть и сед, — Мэгги, Мод, Марион и Молли — Всех любили, – кроме Кэт. Не почтят сию девицу Ни улыбкой, ни хулой, — Ибо дегтем тяготится, Черной брезгует смолой. Потерявши равновесье, Штурман к ней направил ход. А она в ответ: «Повесься!» Но давно уж толк идет, Что хромой портняжка потный — В чем душа еще сидит! — Там ей чешет, где щекотно, Там щекочет, где зудит. Кэт же за его услуги Платит лучшей из монет… – В море, в море, в море, други! И на виселицу – Кэт!Федерико Гарсиа Лорка 1898–1936
Гитара
Начинается Плач гитары, Разбивается Чаша утра. Начинается Плач гитары. О, не жди от нее Молчанья, Не проси у нее Молчанья! Гитара плачет, Как вода по наклонам – плачет, Как ветра над снегами – плачет, Не моли ее О молчаньи! Так плачет закат о рассвете, Так плачет стрела без цели, Так песок раскаленный плачет О прохладной красе камелий, Так прощается с жизнью птица Под угрозой змеиного жала. О, гитара, Бедная жертва Пяти проворных кинжалов!Пейзаж
Масличная равнина Распахивает веер. Над порослью масличной Склонилось небо низко, И льются темным ливнем Холодные светила. На берегу канала Дрожат тростник и сумрак, А третий – серый ветер. Полным-полны маслины Тоскливых птичьих криков. О, бедных пленниц стая! Играет тьма ночная Их длинными хвостами.Селенье
На темени горном, На темени голом — Часовня. В жемчужные воды Столетие никнут Маслины. Расходятся люди в плащах, А на башне Вращается флюгер, Вращается денно, Вращается нощно, Вращается вечно. О, где-то затерянное селенье В моей Андалусии Слезной…Пустыня
Прорытые временем Лабиринты — Исчезли. Пустыня — Осталась. Несмолчное сердце — Источник желаний — Иссякло. Пустыня — Осталась. Закатное марево И поцелуи Пропали. Пустыня — Осталась. Умолкло, заглохло, Остыло, иссякло, Исчезло. Пустыня — Осталась.Пещера
Из пещеры – вздох за вздохом, Сотни вздохов, сонмы вздохов, Фиолетовых на красном. Глот цыгана воскрешает Страны, канувшие в вечность, Башни, врезанные в небо, Чужеземцев, полных тайны… В прерывающемся стоне Голоса, и под высокой Бровью – черное на красном. Известковую пещеру Дрожь берет. Дрожит пещера Золотом. Лежит пещера — В блеске – белая на красном — Павою… – Струит пещера Слезы: белое на красном…Иоганн Вольфганг Гёте 1749–1832
«Кто с плачем хлеба не вкушал…»
Кто с плачем хлеба не вкушал, Кто, плачем проводив светило, Его слезами не встречал, Тот вас не знал, небесные силы! Вы завлекаете нас в сад, Где обольщения и чары; Затем ввергаете нас в ад: Нет прегрешения без кары! Увы, содеявшему зло Аврора кажется геенной! И остудить повинное чело Ни капли влаги нет у всех морей вселенной!Шарль Бодлер[339] 1821–1867
Плаванье
Максиму дю Кан [340]
1 "Для отрока, в ночи́ глядящего эстампы…"
Для отрока, в ночи́ глядящего эстампы, За каждым валом – даль, за каждой далью – вал. Как этот мир велик в лучах рабочей лампы! Ах, в памяти очах – как бесконечно мал! В один ненастный день, в тоске нечеловечьей, Не вынеся тяго́т, под скрежет якорей, Мы всходим на корабль – и происходит встреча Безмерности мечты с предельностью морей. Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне, Тех – скука очага, еще иных – в тени Цирцеиных ресниц[341] оставивших полжизни, — Надежда отстоять оставшиеся дни. В Цирцеиных садах дабы не стать скотами, Плывут, плывут, плывут в оцепененьи чувств, Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя Не вытравят следов волшебницыных уст. Но истые пловцы – те, что плывут без цели: Плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт, Что каждую зарю справляют новоселье И даже в смертный час еще твердят: вперед! На облако взгляни: вот облик их желаний! Как отроку – любовь, как рекруту – картечь, Так край желанен им, которому названья Доселе не нашла еще людская речь.2 "О, ужас! Мы шарам катящимся подобны…"
О, ужас! Мы шарам катящимся подобны, Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры Нас Лихорадка бьет – как тот Архангел злобный, Невидимым бичом стегающий миры. О, странная игра с подвижною мишенью! Не будучи нигде, цель может быть – везде! Игра, где человек охотится за тенью, За призраком ладьи на призрачной воде… Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо[342]. В блаженную страну ведет – какой пролив? Вдруг, среди гор и бездн и гидр морского ада — Крик вахтенного: – Рай! Любовь! Блаженство! – Риф. Малейший островок, завиденный дозорным, Нам чудится землей с плодами янтаря, Лазоревой водой и с изумрудным дерном. Базальтовый утес являет нам заря. О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег! Скормить его зыбям иль в цепи заковать, — Безвинного лгуна, выдумщика Америк, От вымысла чьего еще серее гладь. Так старый пешеход, ночующий в канаве, Вперяется в Мечту всей силою зрачка. Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве, Мигающей свечи на вышке чердака.3 "Чудесные пловцы! Что за повествованья…"
Чудесные пловцы! Что за повествованья Встают из ваших глаз – бездоннее морей! Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний, Сокровища, каких не видывал Нерей[343]. Умчите нас вперед – без паруса и пара! Явите нам (на льне натянутых холстин Так некогда рука очам являла чару) Видения свои, обрамленные в синь. Что видели вы, что?4 "– Созвездия. И зыби…"
– Созвездия. И зыби, И желтые пески, нас жгущие поднесь, Но, несмотря на бурь удары, рифов глыбы, — Ах, нечего скрывать! – скучали мы, как здесь. Лиловые моря в венце вечерней славы, Морские города в тиаре из лучей Рождали в нас тоску, надежнее отравы, Как воин опочить на поле славы – сей. Стройнейшие мосты, славнейшие строенья, Увы, хотя бы раз сравнились с градом – тем, Что из небесных туч возводит Случай-Гений… И ту́пились глаза, узревшие Эдем. От сладостей земных – Мечта еще жесточе! Мечта, извечный дуб, питаемый землей! Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь Достигнуть до небес с их солнцем и луной. Докуда дорастешь, о древо – кипариса Живучее?… Для вас мы привезли с морей Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса, — Всем вам, которым вещь чем дальше – тем милей! Приветствовали мы кумиров с хобота́ми[344], С порфировых столпов взирающих на мир, Резьбы такой – дворцы, такого взлету – камень, Что от одной мечты – банкротом бы – банкир… Надежнее вина пьянящие наряды, Жен, выкрашенных в хну[345] – до ноготка ноги, И бронзовых мужей в зеленых кольцах гада…5 "– И что, и что – еще?.."
– И что, и что – еще?6 "– О, детские мозги!.."
– О, детские мозги!.. Но чтобы не забыть итога наших странствий: От пальмовой лозы до ледяного мха, Везде – везде – везде – на всем земном пространстве Мы видели всё ту ж комедию греха: Ее, рабу одра, с ребячливостью самки Встающую пятой на мыслящие лбы, Его, раба рабы: что в хижине, что в замке Наследственном – всегда – везде – раба рабы! Мучителя в цветах и мученика в ранах, Обжорство на крови и пляску на костях, Безропотностью толп разнузданных тиранов, — Владык, несущих страх, рабов, метущих прах. С десяток или два – единственных религий, Все сплошь ведущих в рай – и сплошь вводящих в грех! Подвижничество, так носящее вериги[346], Как сибаритство – шелк и сладострастье – мех. Болтливый род людской, двухдневными делами Кичащийся. Борец, осиленный в борьбе, Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя: – Мой равный! Мой Господь! Проклятие тебе! И несколько умов, любовников Безумья, Решивших сократить докучный жизни день И в опия морей нырнувших без раздумья, — Вот Матери-Земли извечный бюллетень!7 "Бесплодна и горька наука дальних странствий…"
Бесплодна и горька наука дальних странствий: Сегодня, как вчера, до гробовой доски — Всё наше же лицо встречает нас в пространстве: Оазис ужаса в песчаности тоски. Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя — Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит, Чтоб только обмануть лихого старца – Время. Есть племя бегунов. Оно – как Вечный Жид[347]. И как апостолы, по всем морям и сушам Проносится. Убить зовущееся днем — Ни парус им не скор, ни пар. Иные души И в четырех стенах справляются с врагом. В тот миг, когда злодей настигнет нас – вся вера Вернется нам, и вновь воскликнем мы: – вперед! Как на заре веков мы отплывали в Пе́ру, Авророю лица приветствуя восход[348]. Чернильною водой – морями глаже лака — Мы весело пойдем между подземных скал. О, эти голоса, так вкрадчиво из мрака Взывающие: – К нам! – О, каждый, кто взалкал Лотосова плода! Сюда! В любую пору Здесь собирают плод и отжимают сок. Сюда, где круглый год – день лотосова сбора, Где лотосову сну вовек не минет срок. О, вкрадчивая речь! Нездешней лести не́ктар! К нам руки тянет друг – чрез черный водоем. – Чтоб сердце освежить – плыви к своей Электре![349] — Нам некая поет – нас жегшая огнем.8 "Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!.."
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило![350] Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь! Пусть небо и вода – куда черней чернила, Знай, тысячами солнц сияет наша грудь! Обманутым пловцам раскрой свои глубины! Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! — В неведомого глубь – чтоб новое обресть!Герш Вебер
Тропы бытия
На трудных тропах бытия Мой спутник – молодость моя. Бегут как дети по бокам Ум с глупостью, в середке – сам. А впереди – крылатый взмах: Любовь на золотых крылах. А этот шелест за спиной — То поступь Вечности за мной.Примечания
1
Строки из стихотворений А. Фета, А. Апухтина, А. Пушкина.
(обратно)2
Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М.: Эллис Лак, 1994–1995. С. 315. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
(обратно)3
Антокольский П. Из цикла очерков «Современники» // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 86.
(обратно)4
Эфрон А. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 143–146.
(обратно)5
Кузнецова (Гринева) М. Воспоминания // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 57–58.
(обратно)6
Эфрон А. Указ. соч. С. 143.
(обратно)7
У Цветаевой были единокровные, от первого брака И. В. Цветаева, брат Андрей и сестра Валерия и родная, младшая сестра Анастасия.
(обратно)8
Императорский музей Александра III открыт 31 мая (ст. ст.) 1912 г. Ныне – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
(обратно)9
«Ундина» (1811) – роман из рыцарских времен немецкого писателя-романтика Фридриха де ла Мотт Фуке. В 1837 г. вышел стихотворный перевод романа на русский язык, выполненный В. А. Жуковским.
(обратно)10
«Джейн Эйр» (1847) – любовный роман английской писательницы Ш. Бронте.
(обратно)11
«Антон Горемыка» (1847) – сентиментальная повесть из народного быта русского писателя Д. Григоровича, имевшая большую популярность в демократической среде российской интеллигенции во второй половине XIX в.
(обратно)12
Святая Елена – остров в Средиземном море, на который был сослан Наполеон и где он скончался.
(обратно)13
Эллис (наст. фам. и имя Кобылинский Лев Львович; 1879–1947) – поэт, переводчик, критик, беллетрист, драматург, теоретик символизма, мемуарист. В 1913 г. уехал за границу, перешел в католичество и стал монахом иезуитского ордена.
(обратно)14
Брюсов В. Я. Стихи 1911 года: Статья первая// Собр. соч.: В 7 т. Т. VI. М., 1975. С. 365–366.
(обратно)15
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 121.
(обратно)16
Волошин М. А. (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932) – поэт, литературный критик, художник.
(обратно)17
Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1974. С. 415.
(обратно)18
Цит. по кн.: Саакянц А. А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 250.
(обратно)19
Саакянц А. А. Указ. соч. С. 269.
(обратно)20
Саакянц А. А. Указ. соч. С. 384.
(обратно)21
Эфрон А. С. Указ. соч. С. 146–147.
(обратно)22
Эфрон А. С. Указ. соч. С. 147.
(обратно)23
По признанию М. Цветаевой в одном из писем, ко времени революции на ее счете в банке было почти 100 тысяч рублей, сумма достаточная для многолетнего безбедного существования семьи. Впрочем, как пишет Цветаева в том же письме, их потерю она эмоционально никак не восприняла.
(обратно)24
С. Я. Эфрон – М. А. Волошину, декабрь 1923 г. // Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999. С. 306.
(обратно)25
18 мая 1949 года был вынесен повторный приговор. Всего в лагерях А. С. Эфрон провела 16 лет – до освобождения и реабилитации в 1955 году.
(обратно)26
Антокольский П. Указ. соч. С. 88.
(обратно)27
Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 104.
(обратно)28
Бродский И. А. Об одном стихотворении // Иосиф Бродский размером подлинника. Сборник, посвященный 50-летию И. Бродского. Б. м., 1990. С. 76.
(обратно)29
Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 156.
(обратно)30
Указ. соч. С. 222.
(обратно)31
Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 123.
(обратно)32
Степун Ф. Из книги «Бывшее и несбывшееся»// Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 80.
(обратно)33
Указ. соч.
(обратно)34
Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 133.
(обратно)35
Бродский И. А. Указ. соч. С. 69.
(обратно)36
Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 137.
(обратно)37
Ася – Анастасия Ивановна Цветаева [14(26).9.1894-7.9.1993],младшая сестра М. И. Цветаевой. Писательница, переводчица, поэтесса, мемуаристка. Автор стихотворных сборников «Королевские размышления» (М., 1914), «Дым, дым, дым» (М., 1916), книги «Воспоминания» (Последнее, 4-е изд. М., 2002). Асе посвящены многие стихотворения 1908–1913 гг.
(обратно)38
Впервые Цветаева побывала в Париже летом 1909 г.
(обратно)39
И в сердце плачет стих Ростана… – Ростан (Rostand) Эдмон (1868–1918), французский поэт и драматург, творчеством которого Цветаева увлекалась в юности. В письме В. Я. Брюсову 15 марта 1910 г. Цветаева писала: «Для меня Rostand – часть души, очень большая часть. Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю – никто, никто не знает, не любит, не ценит его, как я». Над переводом пьесы Ростана «Орленок» (1900), посвященной драматической судьбе сына Наполеона, герцога Рейхштадтского (см. ниже), Цветаева работала в осенне-зимний сезон 1908/09 г. Собираясь в Париж, Цветаева просила у находившегося там М. Волошина узнать адрес Ростана.
(обратно)40
…мученик Рейхштадтский… – Наполеон II Бонапарт (полностью Наполеон Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811–1832), сын Наполеона I Бонапарта. В 1815 г. Наполеон I вынужден был отречься от французского престола в пользу малолетнего сына, который впоследствии никогда не правил Францией, жил при дворе деда – австрийского императора Франца I Габсбурга, с 1818 г. – титуловался герцогом Рейхштадтским.
(обратно)41
И Сара – все придут во сне! – Сара Бернар (1844–1923), французская актриса. В 1872–1880 гг. в «Комеди Франсез», в 1898–1922 гг. возглавляла «Театр Сары Бернар» (Париж). В пьесе Ростана «Орленок» Сара Бернар исполняла главную роль.
(обратно)42
В тот момент, как я собирался подняться по лестнице, какая-то женщина в запахнутом плаще живо схватила меня за руку и поцеловала ее. Прокеш-Остен. «Мои отношения с герцогом Рейхштадтским» (фр.).
(обратно)43
Прокеш Остен Антуан фон (1795–1876) – австрийский государственный деятель, автор мемуаров.
(обратно)44
Графиня Камерата – двоюродная сестра Наполеона II Бонапарта.
(обратно)45
«Lichtenstein» – «Лихтенштейн» (1826), исторический роман немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа (1802–1827) на основе событий XVI в. Семейное чтение романа было любимым занятием в летние каникулы 1904 г., которые Цветаевы проводили в местечке Хорбен под Фрайбургом. Анастасия Цветаева вспоминала: «Вечерние чтения! Мама читает нам по-немецки «Лихтенштейн» Гауфа. Несчастный герцог Ульрих, река Некар, бои, рыцарь Георг, Мария, образ девушки в узорчатом окне… Мама чудно читает! Мы не помним, что скоро ночь. И когда раздается папин голос: «Дети, пора спать», – мы кидаемся к маме, прося защиты, нельзя прервать сейчас, надо кончить главу…» (Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1974. С. 171).
(обратно)46
Там, внизу, где склон дороги крут. – Местечко Хорбен находится на высоком склоне одной из вершин горной цепи Шварцвальд. Гостиница «Zum Engel» («У ангела»), в которой жили Цветаевы, находится на крутом обрыве, откуда открывается живописная панорама долины и гор.
(обратно)47
Ульрих – мой герой, а Гéорг – Асин… – В детстве сестры Цветаевы непрерывно все между собой делили, вплоть до литературных героев, и даже иногда из-за этого ссорились. Особенно ревностно отстаивала свои права Марина. «Жажда отчуждения ее радости от других, властная жадность встречать и любить все – одной: ее зоркое знание, что это все принадлежит ей, ей, ей, – больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы деревья – луга – путь – весну – так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания – книгами, музыкой, природой – на тех (на меня), кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить… быть единственной и первой – во всем!» (Цветаева А. И. Указ. соч. С. 73).
(обратно)48
Под Грига, Шумана и Кюи… – Мать Цветаевой по профессии была пианисткой и постоянно музицировала дома за роялем. Чаще всего исполнялись романтические произведения, в том числе композиторов Э. Грига (1843–1907), Р. Шумана (1810–1856), Ц. Кюи (1835–1918).
(обратно)49
Том, Бэкки, Индеец Джо, Гекк Финн – персонажи романа американского писателя Марка Твена (1835–1910) «Приключения Тома Сойера» (1876).
(обратно)50
Приемыш чопорной вдовы… – Том Сойер.
(обратно)51
Как Диоген, живущий в бочке… – Диоген Синопский (ок. 400 – ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник, проповедовал и практиковал крайний аскетизм и воздержание. По преданию, жил в бочке.
(обратно)52
Принц и Нищий – персонажи романа М. Твена «Принц и нищий» (1882).
(обратно)53
Люксембургский сад – парк в Париже.
(обратно)54
Но без любви мы гибнем, Чародей! – Чародей – прозвище, данное Цветаевой поэту Эллису (наст. фам. и имя Кобылинский Лев Львович; 1879–1947). Поэт, переводчик, критик, беллетрист, драматург, теоретик символизма, мемуарист («Годы странствий»). В 1909–1910 гг. – старший товарищ сестер Цветаевых, предмет их девичьей влюбленности. «Маринин творческий дар Эллис чтил, слушал ее стихи, восхищался. Хвалил ее перевод «Орленка» (пьеса Э. Ростана. – П. Ф.). С первого дня учуял и ее нрав, ни с чем не мирившийся» (Цветаева А. И. Указ. соч. С. 305–306).
(обратно)55
И кивал нам задумчивый Гоголь С пьедестала… – Памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева (1873–1932) был открыт в Москве 26 апреля 1909 г. по случаю столетия со дня рождения писателя. В 1952 г. на его месте на Гоголевском бульваре был установлен новый памятник Гоголю, а памятник работы Андреева демонтирован и в 1959 г. установлен во дворе дома № 7 по Суворовскому (Никитскому) бульвару, где умер Гоголь. В. В. Розанов писал о нем: «Это – портрет живого, натурального человека, что очень много для памятника, который всегда являет схему или идею изображаемого человека…» (Розанов В. В. Среди художников. М., 1994. С. 303).
(обратно)56
Стихотворение обращено к В. Я. Брюсову (1873–1924) и навеяно рассказом А. Цветаевой о встрече с поэтом: «В один весенний день я ехала на трамвае по бульварному кольцу «А», как часто, с книгой стихов. На этот раз это был сборник Брюсова. Перевертывая страницу, я подняла глаза и заметила, восхищенно, с испугом: напротив меня сидел Валерий Брюсов. Я знала его по портретам. Перебарывая сердцебиение, я, будто глядя в книгу, а на деле – наизусть, начала вполголоса (а когда шум трамвая заглушал, то и громче) читать – в воздух – его стихи. <…> Брюсов не мог не слышать, не узнать своих стихов. Он не смог скрыть этого. Его лицо стало встревоженным, вспыхивало – он не знал, как повести себя. Я понимала отлично, как мой вид – девочка в очках, с волосами до плеч – полнил его недоумением. Наконец он не выдержал – встал и направился к выходу. Зачем я сделала это? Я не знала сама. Я, не заражаясь Марининой нелюбовью к нему, так любила стихи Брюсова! А его – своим непонятным поведением – испугала… Но Марина совсем иначе отнеслась к происшедшему. Она возмутилась не мною, а Брюсовым» (Цветаева А. И. Указ соч. С. 304–305).
(обратно)57
Ты, в стихах поющий новолунье, И дриад, и глохнущие тропки… – Упоминаются темы и образы неоромантической поэзии Брюсова. Например, стихотворение «Лесная дева» (1903). Дриады – лесные нимфы, покровительницы деревьев (гр. миф.).
(обратно)58
Не посмел испить шипящий кубок? – ироническая отсылка к стихотворению Брюсова «Кубок» (1904). Ср.:
Вновь тот же кубок с влагой черной, Вновь кубок с влагой огневой! Любовь, противник необорный, Я узнаю твой кубок черный И меч, взнесенный надо мной. О, дай припасть устами к краю Бокала смертного вина! Я бросил щит, я уступаю — Лишь дай, припав устами к краю, Огонь отравы пить до дна. (обратно)59
О мудрые Парки… – Парки – богини судьбы (рим. миф.).
(обратно)60
Барышня (нем.).
(обратно)61
Баярд Пьер дю Террайль (1476–1524) – прославленный французский военачальник, прозванный «рыцарем без страха и упрека». Обращено к товарищу по детским играм Володе Миллеру, сыну хозяина пансиона в городе Нерви (Италия), в котором в 1902 г. жили Цветаевы. «Володя, в не первой свежести матроске, рыжеголовый, веснушчатый, такой же широкий, как у отца, нос с озорно подрагивающими ноздрями, лукавый взгляд синих глаз, застенчивых и дерзких…» (Цветаева А. И. Указ. соч. С. 107).
(обратно)62
Встает Ундины плачущая тень… – Ундина – героиня одноименного романа (1811) немецкого писателя-романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777–1843).
(обратно)63
Прощай навеки (лат.).
(обратно)64
Как подвиги в стихах Ростана. – См. примеч. к стихотворению «В Париже».
(обратно)65
Эфрон Сергей Яковлевич [8(20). 10.1893-16.11.1941, расстрелян], литератор, муж М. Цветаевой, которому она посвятила поэмы «Лебединый стан» и «Перекоп». С Сергеем Эфроном Цветаева познакомилась в июле 1911 г. в Коктебеле. Дурново – фамилия матери Сергея Елизаветы Петровны (1855–1910).
(обратно)66
Декабристы и версальцы. – Декабристы – участники восстания 14 декабря 1825 г. в Петербурге на Сенатской площади во время вступления на трон императора Николая I. Версальцы – здесь: защитники Версальского дворца (уже без короля) во времена Великой Французской революции.
(обратно)67
Как ветви мальмэзонских ив… – Мальмезон (Malmaison) – замок в окрестностях Парижа, подаренный императором Наполеоном своей супруге Жозефине Богарне.
(обратно)68
Аквамарин и хризопраз… – Аквамарин (от лат. aqua marina – «морская вода») – минерал, драгоценный камень прозрачного синевато-зеленого или голубого цвета, разновидность берилла. Хризопраз – минерал яблочно-зеленого цвета, разновидность халцедона.
(обратно)69
И где-то станция Джанкой… – Джанкой – населенный пункт в Крыму.
(обратно)70
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), великий английский поэт, культовая фигура эпохи романтизма, участник национально-освободительного движения греческого народа. Автор лирических стихов, поэм «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1809–1818), «Гяур» (1813), «Корсар», «Лара» (обе – 1814), «Шильонский узник» (1816), драматических сочинений «Манфред» (1817), «Каин» (1821), «Сарданапал» (1821) и др.
(обратно)71
Аю-Даг (Медведь-гора) – горный массив, мыс на южном берегу Крыма, к северо-востоку от Гурзуфа.
(обратно)72
Тамбурин (фр. tambourin) – большой двусторонний барабан цилиндрической формы, или бубен.
(обратно)73
Болеро (исп. bolero) – испанский парный размеренно-плавный танец под сопровождение гитары, тамбурина и кастаньет, часто с пением танцующих.
(обратно)74
Мариула – персонаж поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824), мать Земфиры.
(обратно)75
Сакля (сахли – дом; груз.) – каменное, глинобитное или саманное жилище горцев.
(обратно)76
Кавалькада (фр. cavalcade) – группа всадников, едущих вместе.
(обратно)77
Тучков-четвертый Александр Алексеевич (1778–1812), российский генерал-майор (1808), герой Отечественной войны 1812 г. Погиб в Бородинском сражении у Семеновских флешей.
(обратно)78
Трехпрудный переулок – переулок в центре Москвы, между Бульварным и Садовым кольцом, в районе большой Бронной улицы. В доме № 8 по Трехпрудному переулку родилась и прожила первые двадцать лет Цветаева. Дом был разобран на дрова в революционные годы. Старшая сестра Цветаевой – Валерия вспоминала: «В доме одиннадцать комнат, за домом зеленый двор в тополях, флигель в семь комнат, каретный сарай, два погреба, сарай со стойлами, отдельная, через двор, кухня и просторная при ней комната, раньше называвшаяся «прачечная». <…> Летом двор зарастал густой травой, и жаль было видеть, как водовоз, въезжавший во двор со своей бочкой, приминал траву колесами. Кроме тополей, акаций, во дворе росла и белая сирень возле флигеля и деревце калины у черного входа. <…> У ворот наших стоял столетний серебристый тополь, его тяжелые ветви, поверх забора, висели над улицей. <…> Вход в дом был со двора. Парадное крыльцо имело полосатый тамбур, в белую и красную полоску; темные ступени вели к тяжелой двери с медной ручкой старинного звонка-колокольчика» (Цветаева В. И. Записки. Воспоминания. Цит. по кн.: Швейцер В. А. Марина Цветаева. М.: Мол. гвардия, 2002. С. 34–35).
(обратно)79
С. Э. – Сергей Эфрон, муж Цветаевой.
(обратно)80
Стансы (фр. stance – «строфа») – небольшое элегическое стихотворение с несложным строфическим строением.
(обратно)81
Аля – домашнее имя Ариадны Сергеевны Эфрон, старшей дочери Цветаевой. Родилась 5 (18) сентября 1912 г.
(обратно)82
Стихотворение посвящено памяти бабушки Цветаевой по материнской линии – Марии Лукиничне Бернацкой, в замужестве Мейн (1841–1869). Она происходила из старинного, но обедневшего дворянского польского рода. Умерла на девятнадцатый день после рождения дочери.
(обратно)83
Цикл стихов посвящен поэтессе Софье Яковлевне Парнок (наст. фам. Парнох; псевд. Андрей Полянин; 1885–1932). Автор стихотворных сборников «Стихотворения» (Пг., 1916), «Розы Пиерии» (М.; Пг., 1922), «Лоза» (М., 1923), «Музыка» (М., 1926), «Вполголоса» (М., 1928)
(обратно)84
Боа (фр. boa от лат. boa – «змея») – длинный узкий женский шарф, дамское украшение из меха или перьев (напр., страусовых).
(обратно)85
Ахматова (урожд. Горенко; псевд. Ахматова от фамилии бабушки) Анна Андреевна (1889–1966), поэт, член «Цеха поэтов» (с 1911 г.). С творчеством Ахматовой Цветаева познакомилась впервые в 1912 г., когда прочла ее книгу стихов «Вечер». К ее образу неоднократно обращалась в лирике разных лет. Состояла с ней в переписке. Единственная личная встреча поэтов состоялась 7–8 июня 1940 г. в Москве.
(обратно)86
Мой шаг, молодой и четкий… – Цветаева была отличный ходок, ей была свойственна особая манера двигаться. Современница вспоминала: «Из-за угла Ржевского переулка выплыла тонкая женская фигура в чем-то длинном, черном и… нежданно свернув на Малую Молчановку, шла как-то особенно, бесшумно, как бы едва касаясь тротуара. Шаг ее был так легок и так стремителен, что казалось – она очень спешит, но это ей совсем не трудно, так послушны ее легкие длинные ноги. Они несли ее, и им было легко ее нести, она была почти невесома. <…> Я никогда не видела, чтобы кто-то шел так, словно ветер нес его. И вот она идет уже мимо балкона, уже прошла его, я вижу ее теперь со спины. <…>
Вечером к нам пришли Сережа с Мариной. Я открыла им дверь. <…>
– Я проходила сегодня вечером мимо вашего дома и видела вас на балконе.
– Как? Это были вы? – удивилась я, еще более пораженная. – Вы были в черном?
– Да, это мое старое черное пальто, сшитое еще в талию. Я люблю его. Ненавижу эти модные широченные халаты.
– Марина! А я вас не узнала. Вы не шли. Вы летели!
– Да. Я всегда хожу быстро. Терпеть не могу тащиться, я тогда сразу устаю! – сказала Марина» (Кузнецова (Гринева) М. Воспоминания // Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 62–63).
(обратно)87
Обращено к Маврикию Александровичу Минцу (1886–1917), впоследствии мужу А. И. Цветаевой.
(обратно)88
Как и два последующих стихотворения, обращено к поэту О. Э. Мандельштаму (1891–1938), с которым Цветаева познакомилась зимой 1915 г., когда Мандельштам приезжал в Москву. Летом 1916 г. между ними вспыхнул непродолжительный роман. Цветаева посвятила Мандельштаму ряд стихотворений, высоко ценила его поэтический дар, сравнивая его с Державиным. Мандельштам посвятил Цветаевой стихи «В разноголосице девического хора…», «Не веря воскресенья чуду…», «На розвальнях, уложенных соломой…».
(обратно)89
О мой первенец! – дочь Цветаевой Ариадна.
(обратно)90
Ты постом говей… – Пост – предписанный церковным распорядком срок воздержания от пищи животного происхождения. Говеть – придерживаться поста и посещать церковные службы, приготовляясь к исповеди и причастию.
(обратно)91
Не сурьми бровей… – Сурьмить – красить, подводить брови черной краской (сурьмой).
(обратно)92
Сорок… сороков – бесчисленное множество, большое количество чего-либо. От старинной русской единицы счета, в основе которой лежало число 40. Обилие церквей в дореволюционной Москве вошло в поговорку: сорок сороков церквей на Москве.
(обратно)93
Семихолмие – по преданию, Москва построена на семи холмах.
(обратно)94
Ваганьково – Ваганьковское кладбище в Москве.
(обратно)95
Прими, мой странный, мой прекрасный брат… – Стихотворение обращено к О. Э. Мандельштаму.
(обратно)96
И Спасские – с цветами – ворота́, Где шапка православного снята. – Спасские ворота Московского Кремля (1491) считались святыми. Обычай требовал миновать их с непокрытой головой. Этот обычай был узаконен указом царя Алексея Михайловича от 16 апреля 1648 г. «на вечные времена». За хождение через них в шапках виновные должны были публично класть 50 земных поклонов или подвергаться наказанию батогами.
(обратно)97
Часовню звездную… – Часовня Иверской Божьей Матери в Воскресенских воротах Китай-города. Возведена в 1782 г. на месте деревянной часовни 1680 г. В 1929 г. была снесена. Восстановлена в 1996-м. Купол часовни синего цвета украшен золотыми звездами. Это была самая почитаемая часовня старой Москвы. По древнему обычаю, цари и императоры при въезде в Кремль останавливались у Воскресенских ворот и молились в ней перед иконой Иверской Божьей Матери.
(обратно)98
Пятисоборный несравненный круг… – Соборная площадь Московского Кремля, на которую выходят собор Успения Божьей Матери (Успенский) (1475–1479), собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Благовещенский) (1484–1489), собор Архистратига Михаила (Архангельский) (1505–1508), церковь Двунадесяти Апостолов (1656) и церковь Иоанна Лествичника «под колоколами» (1505–1508).
(обратно)99
К Нечаянныя Радости в саду… – Церковь иконы Богоматери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще (1899).
(обратно)100
Остужены чужими пятаками… – По старинному обычаю, глаза усопшего закрывали монетами, в дореволюционной России – медными пятаками.
(обратно)101
…во червонный день Иоанна родилась Богослова… – Иоанн Богослов – один из апостолов Иисуса Христа, автор Откровения (Апокалипсиса). День Иоанна Богослова празднуется 26 сентября (8 октября н. ст.). В этот день родилась Марина Цветаева.
(обратно)102
….сброд… хлыстовский… – Хлысты (Христы) – распространенная в России в начале XX в. религиозная секта.
(обратно)103
Странноприимный дом – название гостиницы для паломников, странников.
(обратно)104
Младенец Пантелеймон… целитель… – святой великомученик Пантелеймон. Родился в городе Никомидии в конце III в. н. э. в семье знатного язычника и матери-христианки. Овладел врачебным искусством. Однажды увидел на улице мертвого ребенка, укушенного змеей, которая была еще рядом. Он обратился с молитвой к Христу о воскрешении ребенка, решив, что, если чудо свершится, он примет христианство. Ребенок ожил, а змея умерла на глазах юноши. После этого он принял крещение и посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим; посещал в темницах узников, особенно христиан, лечил их от ран и болезней. Был казнен императором Максимианом в 305 г. за отказ приносить жертвы римским богам. Пантелеймон – «всемилостивый» (гр.). Изображается на иконах в виде отрока.
(обратно)105
Иверское сердце… – См. примеч. к стихотворению «Из рук моих – нерукотворный град…».
(обратно)106
День был субботний Иоанн Богослов… – В 1892 г. в день рождения Цветаевой празднование дня Иоанна Богослова пришлось на субботу.
(обратно)107
Черница – монахиня, по цвету черной монашеской рясы.
(обратно)108
По воспоминаниям дочери, «Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по «струнному ремеслу», а как божество от поэзии и которому, как божеству, поклонялась. Всех остальных, ею любимых, она ощущала соратниками своими, вернее – себя ощущала собратом и соратником их… <…>
Творчество одного лишь Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную – не отрешенностью от жизни, а очищенностью ею (так огнем очищаются!), что ни о какой сопричастности этой творческой высоте она в «греховности» своей и помыслить не смела – только коленопреклонялась. Таким поэтическим коленопреклонением, таким сплошным «аллилуйя» были все ее стихи, посвященные Блоку в 1916-м и 1920–1921 гг., и проза о нем, с чтением которой она выступала в начале 1930-х гг. в Париже; нигде не опубликованная, рукопись эта не сохранилась… <…>
Видела и слышала она Блока дважды на протяжении нескольких дней, в Москве, 9 и 14 мая 1920 г., на его чтениях в Политехническом музее и во Дворце искусств. Знакома с ним не была и познакомиться не отважилась, о чем жалела и – чему радовалась, зная, что только воображаемые встречи не приносят ей разочарования» (Эфрон А. С. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 176–177). На вечере 14 мая Цветаева через дочь передала Блоку свои стихи «Как слабый луч сквозь черный морок адов…».
(обратно)109
Имя твое пять букв… – По дореволюционной орфографии имя Блока писалось с твердым знаком на конце: Блокъ.
(обратно)110
И гробницы в ряд у меня стоят, В них царицы спят, и цари… – С XIV в. соборы Московского Кремля служили усыпальницами для великих князей и царей, а также княжон и цариц. В Архангельском соборе погребены великие князья и цари с 1340 по 1696 г., от Ивана Калиты до Петра II, всего 53 гробницы. Местом захоронения цариц и великих княжон был храм Вознесения Вознесенского женского монастыря на территории Кремля. В нем были погребены 33 супруги и дочери русских царей с 1645 по 1693 г. В 1929 г. храм и монастырь были разрушены, а гробницы перенесены в подвал Архангельского собора, где находятся до сих пор.
(обратно)111
Осанна (гр. ōsanna, др. – евр. hōsa'nā! – «помоги же!») – спаси! (возглас в христианском богослужении, прославление).
(обратно)112
….И мой обол Прими на утвержденье храма. – Обол (гр. οβολοζ – четырехгранный стержень) – весовая единица; серебряная, а впоследствии медная монета в Древней Греции. Здесь имеется в виду евангельская притча о бедной вдове, положившей две лепты (монеты) в сокровищницу Иерусалимского храма.
(обратно)113
Горбоносую, чей смертелен гнев… – Имеется в виду портретная деталь Ахматовой, приметной чертой лица которой был нос с горбинкой.
(обратно)114
Царскосельской Музы. – В 1910–1916 гг. Ахматова жила в Царском Селе в доме мужа, Н. С. Гумилева.
(обратно)115
Имя ребенка – Лев… – Имеется в виду сын Ахматовой и Гумилева Лев Николаевич Гумилев (1912–1992).
(обратно)116
Взгляд – искателя Жемчугов… – «Жемчуга» – сборник стихотворений Н. С. Гумилева 1910 г.
(обратно)117
И нить жемчужных Черных четок – в твоей горсти! – «Четки» – сборник стихотворений А. Ахматовой 1913 г.
(обратно)118
Стихотворение представляет свободное лирическое переложение поэмы А. Ахматовой «У самого моря» (1914).
(обратно)119
Вижу красные паруса – И один – между ними – черный. – Черный, траурный парус поднимался над судном погибшего царя или героя (гр. миф.).
(обратно)120
Богомолок у Сергий-Троицы – Троице-Сергиева лавра – крупнейший православный монастырь в Сергиевом Посаде Московской области, основан в 1337 г. преподобным Сергием Радонежским.
(обратно)121
Богородицей хлыстовскою. – См. примеч. к стихотворению «Семь холмов – как семь колоколов…».
(обратно)122
Стихотворение написано в Александрове Владимирской области в 1916 г. под впечатлением от сцены проводов на войну рекрутов. В очерке «История одного посвящения» (1931) Цветаева вспоминала: «Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну. <…> Махали – мы – платками, нам фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударял в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз» (Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 139, 141).
(обратно)123
…У Того, с Которым Иаков стоял в ночи – то есть у Бога, с которым, по библейскому преданию, Иаков, младший сын Исаака, боролся у Иавока (приток Иоардана) и, не уступив, получил за это благословение и новое имя – Израиль (Бытие, 32; 24–32).
(обратно)124
Вчерашний царь! – Стихотворение обращено к Николаю II и помечено 2 апреля 1917 г. Николай II отрекся от престола 2 (15) марта 1917 г. и находился под арестом в Царском Селе.
(обратно)125
…в своем Селе – то есть Царском Селе.
(обратно)126
Есть – котомка, Коль отнят – трон. – Царь Эдип, изгнанный с трона, обратился в нищего странника. По народному преданию, русский царь Александр I не умер, а стал странником Федором Кузьмичом.
(обратно)127
За царевича младого Алексия… – Царевич Алексей (1904–1918) – единственный сын Николая II, наследник царского престола. Расстрелян вместе со всей царской семьей в ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.
(обратно)128
Голубь углицкий – Димитрий. – Царевич Димитрий (1582–1591), младший сын Ивана Грозного. В 1584 г. отправлен с матерью (М. Ф. Нагой) в Углич. Трагически погиб при неясных обстоятельствах. Канонизирован Русской Православной Церковью.
(обратно)129
Обращено к дочери А. С. Эфрон.
(обратно)130
…пой у Яра. – «Яр» – загородный ресторан в Москве, знаменитый цыганскими хорами.
(обратно)131
Посвящено памяти Жанны (Иоанны) д'Арк (1412–1431), народной героини Франции, обвиненной инквизицией в колдовстве и сожженной в Руане на площади Старого рынка. Реабилитирована в 1456 г. 16 мая 1920 г. канонизирована Католической церковью.
(обратно)132
Карл Седьмой (1403–1461) – французский король. Коронован 17 июля 1429 г. в Реймсе. Во время торжественной церемонии Жанна д'Арк держала над ним знамя.
(обратно)133
Чтоб Иоанна разлюбила – голос… – По уверению Жанны, всеми ее поступками и подвигами руководил некий Голос, который она слышала в трудные минуты жизни. Она считала, что это – голос ангела.
(обратно)134
Вандея – департамент на западе Франции, центр роялистских мятежей в период Великой французской революции и Директории. Символ контрреволюционного сопротивления.
(обратно)135
Лития (от гр. lite – «усердное моление») – часть церковной службы, краткое моление об умерших, которое совершается в притворе после вечерни и утрени. Усиленное моление выражается в многократном воззвании «Господи, помилуй!».
(обратно)136
Шенье Андре Мари (1762–1794) – французский поэт и публицист, автор революционных стихов. Казнен якобинцами накануне падения Директории.
(обратно)137
Консьержерия – тюрьма в Париже.
(обратно)138
Психея (гр. psyche – «душа»). – В античной мифологии олицетворение человеческой души. История девушки Психеи, покорившей своей красотой Эрота (Амура), описана во вставной новелле в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой Осел». Психея – ключевой образ в творчестве Цветаевой, которая часто отождествляла себя с Психеей-душой.
(обратно)139
Красный флаг, к<отор>ым завесили лик Николая Чудотворца. Продолжение – известно. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)140
Коли красною тряпкой затмили – Лик. – 1 мая 1918 г. большевики впервые решили провести праздничную демонстрацию на Красной площади. В связи с этим надвратные иконы на Никольской и Спасской башнях Кремля были заделаны красным кумачом. 1 мая в этот год пришлось на Страстной Четверг. В ночь перед праздником ткань истлела и свалилась, что было воспринято москвичами как чудо и вызвало волнение. Об этом см. запись в дневнике И. А. Бунина (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Сов. писатель, 1990. С. 61).
(обратно)141
Поили: г<оспо>жу де Жанлис. В Бургундии. Называлось «lá miaulee». И жила, кажется, до 90-ста лет. Но была
ужасная лицемерка. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)142
Любили. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)143
Стихотворение посвящено памяти защитников Кремля во время октябрьских дней 1917 г.
(обратно)144
Московский герб: герой пронзает гада… – Гербом Москвы было изображение святого Георгия на коне, пронзающего змия.
(обратно)145
Верни нам вольность, Воин, им – живот… – Живот – жизнь (устар.).
(обратно)146
Что спят мужи – сражаются иконы. – В данном случае «спят» – смертным сном, погибли. Смысл строки: если погибли герои, в бой вступают иконы.
(обратно)147
Содом – город, погрязший во грехе и разврате и уничтоженный Господом пламенем, сошедшим с небес. Символ безобразия и гибели (библ.).
(обратно)148
Чингис-Хан – Чингисхан (тюрк, «океан, море») (1155? – август 1227), основатель Монгольской империи, крупнейший завоеватель и государственный деятель азиатского средневековья.
(обратно)149
Птица-Феникс я, только в огне пою!.. – Феникс – волшебная птица огненно-золотой окраски, похожая на орла. Предчувствуя свой конец, Феникс сжигает себя в гнезде, но тут же из пепла возрождается в новой плоти (гр. миф.).
(обратно)150
Я стала Орлеанской Девой. – Орлеанская Дева – прозвание Жанны д'Арк. См. примеч. к стихотворению «Руан».
(обратно)151
Стихотворение посвящено Дж. Г. Байрону.
(обратно)152
Я берег покидал туманный Альбиона… – строка из стихотворения К. Н. Батюшкова (1787–1855) «Тень друга» (1814).
(обратно)153
Туманный Альбион – Альбион (Albion – слово кельтского происхождения; по другой версии от лат. albus – «белый», от меловых скал близ Дувра) – название Англии в греческой географии.
(обратно)154
Эол – владыка ветров, обитавший на острове Эолия (гр. миф.). Во время посещения острова Одиссеем, Эол вручил путнику завязанный мешок с бурными ветрами, чтобы он мог благополучно добраться до дома. Но его спутники, движимые любопытством, развязали мешок и навлекли страшную бурю, которая вновь прибила корабль Одиссея к Эолии. Разгневанный царь прогнал странника.
(обратно)155
Рыдай, Эллада! – Эллада – название Греции в греческом языке. Байрон погиб в рядах борцов за независимость Греции.
(обратно)156
Ада – Огаста Ада Кинг, графиня Лавлейс, урожденная Байрон (1815–1852), дочь Байрона. Байрон покинул Англию сразу после рождения дочери, которая, таким образом, никогда не знала отца. Впоследствии – известный английский математик.
(обратно)157
«Цикл обращен к Ю. А. Завадскому (1894–1977), актеру студии Е. Б. Вахтангова, в которого осенью 1918 – зимой 1919 г. Цветаева была безответно влюблена. Из записей Цветаевой: «Во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос… <…> Он восприимчив, как душевно, так и накожно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего вы не сказали и, может быть, и не сказали бы… если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он, не желая, заставляет вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно, – ему ничего не угодно.)
Добр? Нет. Ласков? Да.
Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие… <…>
Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.
– А в любви?
Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту прихоть за собой» (Цит. по кн.: Саакянц А. А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1977. С. 147–148).
(обратно)158
По-диккенсовски… – Чарлз Диккенс (1812–1870), английский романист.
(обратно)159
Зритель, бой – или гавот?… – Гавот (фр. gavotte) – старинный французский танец.
(обратно)160
Рукой Челлини ваянная чаша. – Челлини Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор, ювелир, писатель.
(обратно)161
Стихи посвящены С. Е. Голлидэй (1894–1934), актрисе Второй студии МХТа, с которой Цветаева дружила в Москве в первые послереволюционные годы. Для нее Цветаева специально написала пьесы «Фортуна», «Приключение», «Каменный ангел», «Феникс». История отношений между Цветаевой и Голлидэй легла в основу автобиографической прозы «Повесть о Сонечке» (1937). В 2003 г. вышла книга Г. Бродской «Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба».
(обратно)162
Маленькая сигарера! – Как казалось Цветаевой, Голлидэй внешне походила на испанскую девушку – например, какую-нибудь работницу с табачной фабрики, скручивающую сигары, – «сигареру».
(обратно)163
Я, фартовая! – Фарт – удача; фартовая – удачливая (жарг.).
(обратно)164
Что луга мои яицкие не скошены… – Яик – название реки Урал до 1775 г.
(обратно)165
Жемчуга мои бурмицкие не сношены… – Бурмитское зерно – крупный окатистый жемчуг (устар.).
(обратно)166
Что леса мои волынские не срублены… – Волынь (Волынская земля) – историческая область IX–XVIII вв. в бассейнах южных притоков р. Припять и верховьев Западного Буга (современная территория Волынской, Ровенской, Житомирской, северных частей Тернопольской и Хмельницкой обл. Украины, восточной части Люблинского воеводства Польши).
(обратно)167
Через летейски воды… – Лета – река забвения, протекающая в загробном царстве (гр. миф.).
(обратно)168
Какую мне Фландрию вывел паук. – Фландрия (флам. Vlaanderen, фр. Flandre) – средневековое графство, затем одна из 17 провинций исторических Нидерландов, один из наиболее экономически развитых районов средневековой Европы. В последующем основная часть Фландрии – в составе Бельгии, часть – в составе Франции и Нидерландов. Особой известностью пользовались в Европе кружева, произведенные во Фландрии.
(обратно)169
Покажут мою эмпирею… – Эмпирей (от гр. empyros – «огненный»), в античной натурфилософии верхняя часть неба, наполненная огнем; у ряда средневековых христианских философов – символ потустороннего мира. В переносном смысле – высь, высота.
(обратно)170
….и лоб в апофеозе папиросы. – Апофеоз (фр. apotheose, лат. apotheosis – «обожествление») – прославление, возвеличение.
(обратно)171
Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт, драматург, публицист, эссеист. Автор поэтических сборников «Книга песен» (1827), «Современные стихотворения» (1843–1844), «Романсеро» (1851), сатирической поэмы «Германия. Зимняя сказка» (1844) и др. произведений. В стихотворении заявлена полемика с «Книгой песен». Цветаева называла Гейне «поэтом из поэтов».
(обратно)172
Цикл обращен к художнику-графику Н. Н. Вышеславцеву (1890–1952). Учился в студии И. Машкова в Москве (1906–1908), в Италии и Франции (1908–1914). Среди его станковых работ (акварель, карандаш, сангина, тушь) портреты А. Белого, Вяч. Иванова, П. Флоренского, В. Ходасевича, Г. Шпета, а также графическая серия «Воображаемые портреты» (Гёте, Марк Аврелий, Наполеон, Микеланджело, Пушкин и др.). Участник выставок объединений «Мир искусства» (1921), «Союз русских художников» (1922).
(обратно)173
Писала я на аспидной доске… – Аспидная доска – доска для письма мелом в учебной аудитории из аспида – разновидности горного сланца черного цвета.
(обратно)174
….внутри кольца! – По православному обыкновению, имя супруга гравировалось на внутренней стороне обручального кольца.
(обратно)175
Что некий Карл тебя услышит, рог! – Роланд (ум. 778 г.), рыцарь Карла Великого, герой французского эпоса «Песнь о Роланде». Погибая в неравном бою с сарацинами, затрубил в свой боевой рог, услышав который Карл поспешил ему на выручку и отомстил за храброго воина.
(обратно)176
Цикл обращен к князю С. М. Волконскому (1860–1937), внуку декабриста С. Г. Волконского, театральному деятелю (в 1899–1901 гг. занимал должность директора Императорских театров), мемуаристу («О декабристах. По семейным воспоминаниям». Париж. 1921; «Мои воспоминания», т. 1–2. Берлин, 1923–1924). С Волконским Цветаева познакомилась и подружилась в Москве в 1919 г. Цветаева благоговела перед Волконским и поддерживала с ним теплые отношения до последних дней жизни князя. В статье 1923 г. «Кедр» Цветаева прямо напишет: «Кн. Волконского я смело могу назвать – учителем жизни» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1994. Т. 4. С. 264). В письме Л. Е. Чириковой 1923 г. Цветаева писала о своем отношении к Волконскому: «Это моя лучшая дружба за жизнь, умнейший, обаятельнейший, стариннейший, страннейший и – гениальнейший человек на свете. Ему 63 года. Когда Вы выйдете от него, Вы забудете, сколько Вам. И город забудете, и век, и число. <…> Это большая духовная ценность… (Цветаева М. И. Указ. соч., 1995. Т. 6. С. 304–305). И в другом письме: «Это последние отлетающие лебеди того мира! (NB! Если С. М. лебедь – то черный. Но он скорей старый орел.)» (Указ. соч. С. 306). 1. Быть мальчиком твоим светлоголовым…
(обратно)177
Победоноснее Царя Давида. – Имеется в виду легендарный царь Иудеи библейских времен, автор «Псалтыри».
(обратно)178
Савонароловой сестра… – Савонарола Джироламо (1452–1498), итальянский религиозный проповедник и реформатор эпохи Возрождения, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал Церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру (организовывал сожжение произведений искусства). После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. способствовал установлению республиканского строя. В 1497 г. отлучен от Церкви и в следующем году казнен.
(обратно)179
Стихотворение обращено к поэту М. А. Кузмину (1875–1936), с которым Цветаева встречалась во время поездки в Петербург зимой 1915/16 г. Яркая внешность Кузмина, особенно его глаза, произвели на Цветаеву исключительное впечатление. В очерке «Нездешний вечер» (1936), посвященном тому давнему визиту в Петербург, Цветаева вспоминала: «Над Петербургом стояла вьюга, и в этой вьюге – неподвижно как две планеты – стояли глаза.
Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что сопутствующее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези в глазах, точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край.
С того конца залы – неподвижно как две планеты – на меня шли глаза.
Глаза были – здесь.
Передо мной стоял – Кузмин.
Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого остального было мало: почти ничего» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1994. Т. 4. С. 281).
(обратно)180
Цикл «Отрок» был написан летом 1921 г. и вдохновлен общением с молодым поэтом Э. Л. Миндлиным (1900–1981), который позже описал историю его создания в книге воспоминаний «Необыкновенные собеседники» (М., 1965. См. также: Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 110–135).
В 1922 г. Цветаева перепосвятила цикл А. Г. Вишняку (1895–1943), владельцу русского издательства «Геликон», с которым познакомилась в первые недели пребывания в эмиграции в Берлине. В 1923 г. в издательстве «Геликон» вышла книга стихов Цветаевой «Ремесло».
(обратно)181
Геликон – гора в Средней Греции, где обитали музы (гр. миф.).
(обратно)182
…тревожа сон Давидов, Захлебывался Царь Саул. – Библейский царь Саул завидовал добродетелям и славе будущего царя Иудеи Давида и непрестанно преследовал его, стремясь убить.
(обратно)183
Огнепоклонник!.. – Э. Л. Миндлин вспоминал: «У «буржуйки»… не текли – стояли наши тихие вечера. <…> Я с самого детства пристрастился слушать огонь в печи и чуть ли не в печь окунался лицом. Марина Ивановна подшучивала надо мной, называла «огнепоклонником» (Воспоминания о Марине Цветаевой. С. 116–117).
(обратно)184
Стихотворение обращено к поэту В. В. Маяковскому (1893–1930). По свидетельству А. С. Эфрон: «Всю жизнь Маяковский оставался для нее (Цветаевой. – П. Ф.)истиной неизменной; всю жизнь хранила она ему высокую верность собрата» (Эфрон А. С. О Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1989. С. 140). Цветаева несколько раз встречалась с Маяковским, и в России, и после отъезда за границу, когда Маяковский приезжал в 1928 г. в Париж. Стихотворение «Превыше крестов и труб…» Цветаева читала Маяковскому в Москве.
(обратно)185
….Архангела ломового. – Ломовой – конь-тяжеловоз для перевозки грузов. Ср.: ломовой извозчик.
(обратно)186
….Что уже душе до яств и брашна! – Яство (старослав.), брашно (церк.) – еда.
(обратно)187
….Мой лоскуток кумашный! – Кумашный – кумачовый, из кумача – из хлопчатобумажной ткани ярко-красного цвета (разг.).
(обратно)188
Не загладить тех могил Слезой, славою. – Сюжет стихотворения связан со смертью в августе 1921 г. А. Блока и расстрелом Н. Гумилева.
(обратно)189
Один заживо ходил – Как удавленный. – Имеется в виду А. Блок.
(обратно)190
Другой к стеночке пошел Искать прибыли. – Имеется в виду Н. Н. Гумилев.
(обратно)191
Знать, уж в скорости тебе Выйдет грамотка… – В августе – сентябре 1921 г. по Москве ходили слухи о смерти Ахматовой.
(обратно)192
Неверующим Фомой. – Имеется в виду апостол Фома, один из двенадцати учеников Христа. После чудесного Воскресения Спасителя не мог уверовать в Событие до тех пор, пока лично не убедился в его подлинности, дотронувшись до ран на Теле Христовом. Из-за этого получил прозвище – Неверующий.
(обратно)193
Цикл посвящен подруге Цветаевой А. А. Тесковой (1872–1954), чешской писательнице, переводчице произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Д. С. Мережковского и др. Тескова была основательницей Чешско-русской Едноты – культурно-благотворительного общества помощи русским эмигрантам в Чехии. Цветаева познакомилась с Тесковой в Чехии в 1922 г. и поддерживала с ней отношения до последних дней своей эмиграции. Ее письма к Тесковой из Франции (135 писем) были опубликованы в Праге в 1969 г. и представляют собой уникальный памятник духовной близости двух писательниц. Последнее письмо из эмиграции, написанное на вокзале 12 июня 1939 г., адресовано Тесковой. В письме 7 июня 1939 г., прощаясь перед отъездом в СССР, Цветаева писала: «Шею себе сверну – глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир… Но одно знайте: когда бы Вы обо мне ни подумали – знайте, что думаете – в ответ. В моей деревне – тоже сосны, буду вспоминать тот можжевеловый куст. <…>
Вы человек, который исполнил все мои просьбы и превзошел все мои (молчаливые) требования преданности и памяти. Так, как Вы, меня – никто не любил. Помню все и за все бесконечно и навечно благодарна» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1995. Т. 6. С. 479).
(обратно)194
Вяз – яростный Авессалом… – Авессалом – сын царя Давида, восставший на отца, чтобы овладеть троном. Спасаясь от преследования, он запутался волосами в ветвях дуба, был настигнут и убит. Давид горько оплакивал сына (библ.).
(обратно)195
Два последних стихотворения перенесены сюда из будущего по внутренней принадлежности. (Примеч. М. Цветаевой).
(обратно)196
Знак: сорок человек И восемь лошадей – в дореволюционной России норма загрузки товарных вагонов, обозначавшаяся на их стенках специальными значками.
(обратно)197
Тяжéле виновная – Федра… – Федра – вторая жена Тесея. Влюбилась в пасынка Ипполита, но была им отвергнута, за что наслала на него проклятия и гибель (гр. миф.).
(обратно)198
В сюжетной основе стихотворения греческий миф о молодом певце – любимце богов Орфее, спустившимся в царство мертвых, Аид, за своей возлюбленной Эвридикой.
(обратно)199
Кто Канта наголову бьет… – Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, основоположник классической немецкой философии.
(обратно)200
Кто в каменном гробу Бастилии… – Бастилия – знаменитая политическая тюрьма в центре Парижа, построена в 1370–1382 гг. В ней были заточены Вольтер, А. Шенье. В 1789 г. со штурма Бастилии началась Великая Французская революция. В 1790 г. Бастилия была разрушена.
(обратно)201
….лепрозориумов крап! – Лепрозорий – лечебно-трудовое учреждение для больных проказой (лепрой). Крап – мелкие брызги; на теле больного проказой образуются многочисленные мелкие язвы.
(обратно)202
Есть в мире Иовы… – Иов – в Ветхом Завете праведный муж, чью веру Господь решил испытать, поразив проказой, отобрав у него все – имущество, семью, детей, но Иов остался верен Богу и был вознагражден выздоровлением, новым достатком, семьей и детьми.
(обратно)203
….и в рифму с париями… – Пария – отверженное, бесправное существо, по названию одной из низших каст в Южной Индии, лишенной всяких прав, так называемых неприкасаемых.
(обратно)204
Где по анафемам, как по насыпям… – Анафема – проклятие отступнику от веры (церк. – слав.).
(обратно)205
B. А. Аренская (урожд. Завадская; ок. 1895–1930) – сестра актера Ю. А. Завадского, соученица Цветаевой по гимназии.
(обратно)206
Зря Елену клянете, вдовы! – Имеется в виду Елена Прекрасная, жена царя Агамемнона, похищенная троянцами, из-за чего началась Троянская война (гр. миф).
(обратно)207
Сочетавшись с тобой, как Этна с Эмпедоклом. – Эмпедокл из Агригента (ок. 490 – ок. 430 до н. э.) – древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель. По преданию, бросился в жерло вулкана Этна, чтобы доказать свое право называться богом.
(обратно)208
Пушкинское: сколько их, куда их Гонит!.. – цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы»:
Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре… Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают? (обратно)209
…Женою Лота Насыпью застывшие столбы. – Согласно Библии, Господь проклял города Содом и Гоморру за разврат и пороки и предал их огню, предварительно предупредив праведника Лота, который с семьей покинул Содом. Гнев Господень был столь велик, что Он запретил беженцам под страхом смерти оглядываться назад, но жена Лота не удержалась, желая в последний раз взглянуть на родной город, и в наказание обратилась в соляной столб.
(обратно)210
И обезголосившая Сафо… – Сафо (Сапфо; ок. 610 до н. э. – ок. 580 до н. э.) – древнегреческая поэтесса, родом с острова Лесбос.
(обратно)211
Не Дантов ли Возглас: «Надежду оставь!» – Цветаева ссылается на текст поэмы Данте Алигьери (1265–1321) «Божественная комедия» (книга первая «Ад», песнь третья). В ней описывается вход в царство мертвых, над вратами которого надпись гласит: «Оставь надежду всякий сюда входящий».
(обратно)212
Пражский рыцарь – скульптура в честь легендарного героя чешского народа рыцаря Брунцвика (копия XIX в. со скульптуры XVI в.), установленная на колонне возле Карлова моста в Праге (на острове Кампа), в виде рыцаря в латах с поднятым мечом, на щите – герб Праги. Цветаева считала, что Пражский рыцарь внешне похож на нее.
(обратно)213
Мосто – вины. – Мостовина – плата за переход по мосту.
(обратно)214
Выглядывает бомбист… – Бомбист – террорист (устар.).
(обратно)215
Вам, поправшему Синай! – Синай – гора на Ближнем Востоке, на которой, по библейскому преданию, Господь явился Моисею, чтобы даровать еврейскому народу скрижали закона (Исход, 20; Второзаконие, 50).
(обратно)216
После мраморов Каррары… – Каррара – город в Центральной Италии, в Тоскане, с античных времен известный каменоломнями белого мрамора.
(обратно)217
Вам, познавшему Лилит! – По древнему преданию, первая женщина и жена Адама, до сотворения Евы. В европейской культуре со времен Возрождения является воплощением женской красоты и соблазна.
(обратно)218
«Мир – это сцена»… – В другом переводе: «Вся жизнь – театр». Реплика Жака-изгнанника, персонажа комедии В. Шекспира «Как вам это понравится» (второй акт).
(обратно)219
Маски железной. – В железную маску был закован один из узников Бастилии XVII в., личность которого до сих пор остается тайной и порождает многочисленные романтические версии. По одной из них, этим узником был брат-близнец короля Франции. Тайна Железной маски послужила основой сюжета популярного романа А. Дюма.
(обратно)220
Стихотворение обращено к поэту Б. Л. Пастернаку (1890–1960), с которым Цветаеву связывала духовная близость и дружба. Цветаева встретилась с Пастернаком в 1922 г. в Берлине. После возвращения Пастернака в СССР они в течение нескольких лет поддерживали интенсивную переписку. Пастернаку посвящено эссе Цветаевой «Световой ливень» (1922).
В 1933 г. в записной тетради Цветаева сделала примечание к этому стихотворению: «Любопытна судьба этих стихов: от меня – к Борису, о Борисе и мне. Часто, и даже годы спустя, мне приходилось слышать: «Самое замеч[ательное] во всей книге», узнавать, что – чьи-то любимые: гвоздь в доску и перст в рану. Оказывается, они большинством были поняты, как о нас (здесь) и тех (там), о нас и России, о нас вне России, без России.
И теперь, перечитывая: всё, каждая строка совпадает, особенно:
Разбили нас – как колоду карт!Строка, за выразительностью, тогда мною оставленная, но с огорчительным сознанием несоответствия образа: двух нельзя разбить как колоду, колода – множество, даже зрительно: карты летят.
Даже мое, самое личное, единоличное:
Который уж, ну – который март? (Месяц того потока стихов к Борису) март – почти что пароль нашего с Б[орисом] заговора – даже этот март оказался общим, всеобщим («Которую весну здесь сидим и сколько еще??»).
Редкий, редчайший случай расширения читателем писательского образа, обобщения, даже увечнения частности.
Ни о какой эмиграции и России, пиша, не думала. Ни секунды. Думала о себе и о Борисе. – И вот…» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1994. Т. 4. С. 605).
(обратно)221
Стихотворение обращено к С. Есенину (1895–1925) и вызвано известием о его гибели.
(обратно)222
Жить (конечно, не новей Смерти!).… — перифраза предсмертного стихотворения С. Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья!..»:
В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. (обратно)223
Цикл написан как отклик на смерть Маяковского, покончившего с собой 13 апреля 1930 г. выстрелом в сердце. К трагическому финалу Маяковского Цветаева мысленно обращалась не раз. В эссе «Искусство при свете совести» (1932) она подведет итог своим размышлениям в следующих словах: «Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший —
Всю свою звонкую силу поэта Я тебе отдаю, атакующий класс!– кончил сильнее, чем лирическим стихотворением, – лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил.
Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни.
Никогда державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой.
Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства, ибо первое – подвиг, второе – праздник. Превозможение природы и прославление природы.
Прожил как человек и умер как поэт» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1994. Т. 4. С. 374).
(обратно)224
Литературная… выходит каждые семь дней. – Речь идет о спецвыпуске «Литературной газеты» от 17 апреля 1930 г., целиком посвященной Маяковскому. «Литературная газета» – еженедельная писательская газета, основана в 1929 г.
(обратно)225
…Еще – передовицы? – Передовица (передовая статья) – в партийной печати главная (программная) статья номера, как правило, без подписи – от лица всей редакции, на первой полосе газеты. Цветаева негодует по поводу того факта, что сообщение о смерти Маяковского опубликовано не как главная новость, на первой полосе, а лишь: «Кровь – на второй странице (Известий)». «Известия» – «Известия Верховного Совета СССР» – вторая (после «Правды») по значимости официальная газета в СССР. Основана в 1927 г. На самом деле материалы, связанные с гибелью Маяковского, опубликованы на 3-й странице «Известий».
(обратно)226
Черновец – Милюковцу… – то есть: эсер – кадету, по фамилии лидеров этих партий В. М. Чернова (1873–1952) и П. Н. Милюкова (1859–1943).
(обратно)227
Бас, говорят, и в кофте Ходил… – Маяковский имел низкий тембр голоса. В пору футуристической молодости выступал с эстрады в желтой домашней кофте, не имея другого выходного костюма. Вызывавшая раздражение публики, привыкшей к строгим костюмам и фракам, желтая кофта стала частью имиджа Маяковского и символом футуристического эпатажа, своего рода материализованной «пощечиной общественному вкусу».
(обратно)228
Эпиграф – цитата из заметки Б. Лихарева «Владимир Маяковский» в «Однодневной газете» от 24 апреля 1930 г.
(обратно)229
Гору пролетарского Синая… – Синай – см. примеч. к стихотворению «Попытка ревности».
(обратно)230
Чтоб не вмешивался жилотдел… – Жилотдел – жилищный отдел, муниципальное управление по распределению жилплощади в городах.
(обратно)231
На донбассовских небось гвоздях. – Донбасс (Донецкий угольный бассейн) – одна из ударных строек первых пятилеток СССР. Цветаева, очевидно, путает Донбасс с Кузнецкстроем – другой ударной стройкой тех лет, связанной с разработкой и освоением железной руды горы Магнитной. Строителям Кузнецкого металлургического комбината посвящено стихотворение Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» (1929). Слово «Донбасс» могло запечатлеться в сознании Цветаевой в связи с именем Маяковского потому, что в выпуске газеты «Известия», на который ссылается Цветаева в предыдущем стихотворении цикла, на странице с материалами о Маяковском в рубрике «По Советскому Союзу» присутствует информация «Полугодовые итоги работы Донбасса». Заметка и набранный жирным шрифтом заголовок непосредственно соседствуют с фотографией посмертной маски Маяковского.
(обратно)232
Стапятидесяти (Госиздат) Миллионного… – Имеется в виду поэма Маяковского «150 000 000» (1920), отдельное издание которой выпущено Госиздатом (Государственным издательством РСФСР) в 1921 г.
(обратно)233
Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы Говорок… – «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce PLC) – английская компания по выпуску дорогих престижных автомобилей класса люкс. Цветаева имеет в виду сплетни, вызванные покупкой Маяковским в 1928 г. по просьбе его возлюбленной Л. Ю. Брик автомобиля марки «рено», который он привез из парижской поездки и который стал главной новостью окололитературной Москвы.
(обратно)234
Мертвый пионерам крикнул: Стройся! – Пионеры – члены массовой детской коммунистической организации, объединявшей советских детей в возрасте от 9 до 14 лет. Одной из форм проведения торжественных пионерских мероприятий была так называемая пионерская линейка. Команда «Стройся!» – призыв к построению на линейку.
(обратно)235
Эпиграф – строка из предсмертного стихотворения Маяковского, опубликованного в газетах.
Как говорят — «инциндент исперчен», Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень Взаимных болей бед и обид. (обратно)236
И полушки не поставишь… – Полушка – разговорное название дореволюционной монеты достоинством в ½ копейки. Поставить – сделать ставку в игре. Маяковский был известным и азартным игроком, в частности в рулетку, на тотализаторе, в бильярд и др.
(обратно)237
Стоило ж в богов и в матку Нас… – незаконченное измененное разговорное выражение «ругаться в Бога и в мать», то есть грубо, матом.
(обратно)238
Вроде юнкера, на Тоске… – «Тоска» (1899) – опера Джакомо Пуччини (1858–1924).
(обратно)239
Действуешь: по-шаховски́ – то есть по-дворянски. Образовано от известной княжеской фамилии Шаховских.
(обратно)240
Совето-российский Вертер. – Вертер – герой романа И. В. Гёте (1749–1832) «Страдания молодого Вертера» (1774), застрелившийся из-за несчастной любви.
(обратно)241
Только раньше – в околодок… – Околодок – полицейский участок в дореволюционной России (разг.).
(обратно)242
Еще раз не осекся… – Однажды, еще до революции, Маяковский пытался застрелиться из-за любви к Л. О. Брик, но в тот раз пистолет дал осечку.
(обратно)243
Нас лефовец удивил… – Лефовец – член литературно-художественного объединения ЛЕФ (Левый фронт искусств) (разг.). Возникло в 1922 г. при непосредственном участии и руководстве В. Маяковского. В середине 1928 г. Маяковский вышел из состава объединения.
(обратно)244
Ну в самый-те Центропев! – Цветаева пародирует советские словообразования вроде Центропечать (Центральная печать), Центросоюз (Центральный союз) и т. п.
(обратно)245
Эпиграф – измененная цитата из романа Андрея Белого (1880–1934) «Петербург» (1914), глава 5, главка «Красный как огонь» (у Белого: «Краски огненного цвета…»).
(обратно)246
При полном Синоде… – Синод – в дореволюционной России высшее учреждение, управляющее Православной Церковью. В данном случае употреблено в метафорическом смысле.
(обратно)247
Здорово, Сережа! – Имеется в виду Есенин. Стихотворение представляет собой рассказ о встрече на том свете Есенина и Маяковского. Очевидно, Цветаева была знакома со статьей Маяковского «Как делать стихи?» (1926), в которой поэт рассказывает историю создания стихотворения «Сергею Есенину». В частности, в ней обсуждается возможность обращения в стихотворении к Есенину по имени «Сережа». Маяковский решительно его отвергает: «Я никогда так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, несвойственных мне и нашим отношениям словечек: «ты», «милый», «брат» и т. д. (Маяковский В. В. Собр. соч.: В 13 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 12. С. 103).
(обратно)248
– Стрелялось? – Привычно. – См. примеч. к предыдущему стихотворению.
(обратно)249
А помнишь, как матом… меня-то обкладывал?… – Имеется в виду стихотворение Маяковского «Сергею Есенину» (1926), выдержанное в тоне упрека к покойному. Цветаева утрирует критическую интонацию Маяковского, резкость которого все же не доходила до брани:
Для веселия планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно, Сделать жизнь значительно трудней.(Маяковский В. В. Указ. соч., 1958. Т. 7. С. 105).
Возможно, Цветаева помнила слова Маяковского из статьи «Как делать стихи?»: «Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм» (Маяковский В. В. Указ. соч., 1959. Т. 12. С. 94).
(обратно)250
Любовная лодка… – См. примеч. к стихотворению 4 из этого цикла.
(обратно)251
– Хужей из-за водки. Опухшая рожа. – Среди современников главной причиной самоубийства Есенина считалось его пьянство. В статье «Как делать стихи?» Маяковский вспоминал о последней встрече с Есениным: «Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина» (Маяковский В. В. Указ. соч., 1958. Т. 12. С. 95).
(обратно)252
А впрочем – не бритва… – Перед тем как оказаться в петле, Есенин вскрыл вены бритвой.
(обратно)253
– Хорош и коллодий. – Коллодий (нем. Kollodium, фр. collodion < гр. kollōdēs) – «клейкий». Спиртоэфирный раствор нитроцеллюлозы, дающий после испарения растворителя тонкую пленку и применяемый в медицине, фотографии и др.
(обратно)254
А что на Рассее… Что нового? – Строят… Все то же, Сережа! – Подтекст диалога яснее предстает на фоне исторического анекдота, по которому Н. М. Карамзин (1766–1826) однажды на вопрос «Что нового в России?» ответил: «Все по-прежнему. Воруют».
(обратно)255
Старую Росту… – Имеется в виду деятельность Маяковского в пропагандистской акции Российского телеграфного агентства (РОСТА) «Окна РОСТА» (1919).
(обратно)256
Наш Льсан Алексаныч?… – то есть А. А. Блок.
(обратно)257
Федор Кузьмич?… – Имеется в виду Сологуб (1863–1927) – поэт, прозаик, представитель старшего поколения русских символистов.
(обратно)258
Цветаева перефразирует слова православной заупокойной молитвы: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего в месте светлее, в месте злачнее, в месте покойнее».
(обратно)259
Гостя каменного?… – «Каменный гость» – одна из четырех трагедий Пушкина в составе «Маленьких трагедий» (1830).
(обратно)260
Пушкин – в роли Командора? – Командор – персонаж трагедии Пушкина «Каменный гость».
(обратно)261
Чувство – моря Позабыли – о гранит Бьющегося?… – Отсылка к картине И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» (1887).
(обратно)262
Пушкин – в роли лексикона? – Лексикон – словарь, энциклопедия. Намек на характеристику В. Г. Белинским романа Пушкина «Евгений Онегин» как «энциклопедии русской жизни».
(обратно)263
Две ноги свои – погреться – Вытянувший… – Во время аудиенции 8 сентября 1826 г., данной императором Николаем I Пушкину, поэт, будучи только что с дороги и с холода, «оборотился спиною к камину и говорил с Государем, обогревая себе ноги» (Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Минск, 1986. С. 26).
(обратно)264
…и на стол Вспрыгнувший при Самодержце… – «Государь принял Пушкина с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних поступках и давал ему наставления, как любящий отец. Поэт и здесь вышел поэтом; ободренный снисходительностью Государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошло до того, что он, незаметно для себя самого, приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым!» (Вересаев В. В. Указ. соч.).
(обратно)265
Пушкин – в роли гувернера… – Гувернер – воспитатель (фр.).
(обратно)266
Небо Африки своим Звавший… – Имеется в виду строка из романа Пушкина «Евгений Онегин»: «Под небом Африки моей».
(обратно)267
Ох, брадатые авгуры! – Авгур (лат. augur < avis – «птица») – в Древнем Риме жрец, толковавший волю богов по пению и полету птиц; прорицатель. В переносном смысле – человек, делающий вид, что он посвящен в особые тайны.
(обратно)268
Тот, кто царскую цензуру Только с дурой рифмовал… – В стихотворении Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей» (1822) читаем:
Как бы это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной дуры, Слишком чопорной цензуры? (обратно)269
А «Европы Вестник» – с… – в эпиграмме, приписывавшейся Пушкину. Опубликована в 1-м томе Полного собрания сочинений Пушкина (М., 1919. С. 384).
(обратно)270
Всех румяней и смуглее… – переделанная строка из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»: «Всех румяней и белее…»
(обратно)271
Всех живучей и живее! Пушкин – в роли мавзолея? – Ср. со строками В. В. Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924), ставшими лозунгом: «Ленин и теперь живее всех живых» (Маяковский В. В. Указ. соч., 1957. Т. 6. С. 233). Мавзолей – большое надгробное мемориальное сооружение. В 1924 г. после смерти Ленина его тело было забальзамировано и помещено в Мавзолей на Красной площади возле стен Кремля. Первоначальный деревянный мавзолей, сооруженный по проекту архитектора А. В. Щусева, в 1930 г. был заменен каменным.
(обратно)272
Пушкин – в меру пушкиньянца! – Пушкиньянец – пушкинист, исследователь творчества Пушкина.
(обратно)273
Трусоват был Ваня бедный… – начальная строка стихотворения Пушкина «Вурдалак» («Песни западных славян», 1834).
(обратно)274
В роли собственной Татьяны? – Татьяна – персонаж романа Пушкина «Евгений Онегин».
(обратно)275
… голубей олив… Лоб… – перифраз из стихотворного цикла Б. Пастернака «Вариации» (4. «Облако. Звезды. И сбоку…»), обращенного к Пушкину.
(обратно)276
Пушкин – тога, Пушкин – схима… – Тога (лат. toga < tēgere – «покрывать») – верхняя мужская одежда у граждан Древнего Рима, род мантии, конец которой перекидывался через левое плечо. Схима (ср. – гр. schema – «монашеское облачение») – высшая монашеская степень в Православной Церкви, требующая от посвященного в нее строгого аскетизма.
(обратно)277
Немецким сквозь кнастеров дым… – Кнастер – сорт табака.
(обратно)278
… привез Ганнибала-Арапа… – Ганнибал А. П. (1697–1781) – прадед Пушкина со стороны матери.
(обратно)279
Такой же ты камерный юнкер… – Камер-юнкер (нем. Kammerjunker) – младшее придворное звание в Российской империи. Чин камер-юнкера пожалован Пушкину Николаем I в 1831 г. и был воспринят поэтом как оскорбление, так как его обычно присваивали юношам, тогда как Пушкин к этому времени был уже зрелым мужчиной, семьянином и прославленным поэтом.
(обратно)280
Как я – машкерадный король! – Машкерадный – маскарадный.
(обратно)281
…«Отныне я – цензор Твоих африканских страстей». – Николай I, освободив Пушкина от Михайловской ссылки, на личном свидании в 1826 г. пожелал быть его цензором.
(обратно)282
Российским – снегов Измаил! – Измаил – в Библии сын патриарха Авраама и его рабыни Агари, считался родоначальником арабов.
(обратно)283
Уж он бы заморскую птицу Архивами не заморил! – В 1834 г. Пушкин просил у Николая I разрешения уволиться со службы, однако император отказал, дав понять, что Пушкин лишится возможности работать в архивах.
(обратно)284
…тоже – метис! – Метис – полукровка.
(обратно)285
Уж он бы тебе – василиска Взгляд!.. – Василиск – мифический чудовищный змей, обладал способностью убивать не только ядом, но и взглядом, дыханием. По воспоминаниям современников, таким же завораживающим, гипнотизирующим взглядом – «взглядом василиска» – обладал и Николай I.
(обратно)286
Был сослан в румынскую область… – В 1819 г. Пушкин был сослан Александром I в Южную ссылку, в Кишинев – столицу Молдавии (Бессарабии), с 1812 г. входившей в состав Российской империи, с 1918 по 1940 г. в состав Румынского царства.
(обратно)287
Сим… что сына убил… – Петр I заточил собственного сына, царевича Алексея, за попытку переворота в Петропавловской крепости, где тот в 1817 г. погиб при не до конца выясненных обстоятельствах.
(обратно)288
В век турбин и динам… – Динамо-машина – устаревшее название электрического генератора постоянного тока.
(обратно)289
В стихотворении обыгрывается форма и цвет ягод бузины: зеленых – в начале лета, красных – в середине и черных – в конце, когда плоды окончательно созревают.
(обратно)290
….костром Ростопчинским!.. – В 1812 г. пожар, постигший Москву во время ее оккупации войсками Наполеона, был спровоцирован распоряжением московского военного губернатора графа Ф. В. Ростопчина (1763–1826).
(обратно)291
Степь – хунхузу, Кавказ – грузину… – Хунхузы – наемные воины в средневековом Китае.
(обратно)292
В пять лет – целый свет… – В 1928 г. в СССР была принята форма пятилетнего планирования экономического развития страны, так называемые пятилетки.
(обратно)293
Руси не видавшее Дитя мое… – Сын Цветаевой Георгий родился 1 февраля 1925 г. в Чехии.
(обратно)294
Соляное семейство Лота… – См. примеч. к стихотворению «Рельсы».
(обратно)295
Из Медона – да на Кубань. – Медон – пригород Парижа, в котором жила семья Цветаевой с 1927 по 1932 г.
(обратно)296
Ни галльским петухом… – то есть французом.
(обратно)297
Здесь – в поднебесье (фр.).
(обратно)298
Цикл является откликом на известие о смерти поэта Максимилиана (Макса) Александровича Волошина (1877–1932), с которым Цветаева была дружна долгие годы. Ему посвящен очерк Цветаевой «Живое о живом» (1932).
(обратно)299
Заройте на горе! – По просьбе Волошина он похоронен в Коктебеле на горе Кучук-Янышар.
(обратно)300
Макс! мне было – так верно Ждать на твоем крыльце! – В 1910-е гг. Цветаева несколько раз гостила у Волошина в Коктебеле.
(обратно)301
Мра-ремесло! – В статье «Искусство при свете совести» Цветаева поясняет: «Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание – смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть, где-нибудь, когда-нибудь называлась – Мра» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1994. Т. 5. С. 363).
(обратно)302
Цикл посвящен тридцатилетию творческой деятельности Цветаевой, символом которой был для нее письменный стол. Речь здесь идет не о каком-то конкретном предмете, а о письменном столе как о непременном условии творческого процесса. А. Эфрон вспоминала: «Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.
Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.
Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно.
Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера» (Эфрон А. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 146).
(обратно)303
Строжайшее из зерцал! – Зерцало – зеркало (устар.).
(обратно)304
Меня заливал, как штранд! – Штранд (калька с нем. Strand) – морской берег, пляж.
(обратно)305
.…что морю толп Еврейских – горящий столп! – По библейскому преданию, во время исхода евреев из Египта Бог в образе огненного столба указывал им дорогу.
(обратно)306
Березу берег карел! – Карельская береза – ценная порода древесины, используемая в мебельном деле.
(обратно)307
Как трех Самозванцев в браке Признавшая тезка… – Имеется в виду Марина Мнишек (Mniszech; ок. 1588 – ок. 1614) – дочь польского магната, русская царица, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.
(обратно)308
….прочней химер Парижских… – Имеются в виду каменные изваяния химер на фасаде Собора Парижской Богоматери.
(обратно)309
С трюфелем… С пикулем… – Деликатесы французской кухни: трюфели – грибы; пикули (англ. pickles < pickle – «солить, мариновать») – мелкие овощи, маринованные в уксусе с пряностями.
(обратно)310
Вскрыла жилы… Подставляйте миски и тарелки!.. – В старину в медицинской практике одним из средств снижения кровяного давления было вскрытие вен. Во время процедуры кровь спускали в плоскую посуду, обычно тарелку или небольшой таз.
(обратно)311
Являйте из тел распластанных Звезду или свасты крюки. – В 1930-е гг. в СССР и фашистской Германии во время спортивных парадов и других массовых мероприятий в моду вошло построение различных композиций из живых тел физкультурников, в том числе государственных эмблем – пятиконечной звезды в СССР и свастики в Германии.
(обратно)312
Невнятицы Фауста Второго… – Имеется в виду вторая часть поэмы И. В. Гёте «Фауст» (1808–1831), чрезвычайно сложная по своему философскому содержанию.
(обратно)313
В 1933 г. на пароходе «Челюскин» (построен в 1933 г.) была предпринята попытка за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток (руководитель экспедиции О. Ю. Шмидт, капитан В. И. Воронин). 13 февраля 1934 г. пароход был раздавлен льдами в Чукотском море. Участники рейса – челюскинцы – высадились на льдину и были спасены летчиками, которые первыми в СССР получили звания Героев Советского Союза.
(обратно)314
Что – черт его – Нобиле! – Нобиле Умберто (1885–1978) – итальянский дирижаблестроитель, генерал. Командир дирижабля «Норвегия» в экспедиции Р. Амундсена (1926), руководил итальянской экспедицией к Северному полюсу на дирижабле «Италия» (1928).
(обратно)315
Родили – дите… – Во время экспедиции на пароходе «Челюскин» родилась девочка.
(обратно)316
Эол Доносит по кабелю… – Эол – См. примеч. к стихотворению «Я берег покидал туманный Альбиона…».
(обратно)317
Второй уже Шмидт… – Руководитель экспедиции О. Ю. Шмидт (1891–1956). «Первый» – лейтенант П. П. Шмидт (1867–1906), руководитель Севастопольского восстания в 1905 г. на крейсере «Очаков». П. П. Шмидту посвящена поэма Б. Л. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (1926–1927).
(обратно)318
Не Сиреной – сиренью Заключенное в грот… – Здесь подразумеваются испытания, перенесенные Одиссеем при возвращении домой из Трои, – остров Сирен (поющих морских птиц-дев), семилетнее пребывание в гроте у нимфы Калисто.
(обратно)319
Кроме бога Ваала! – Ваал (Баал, Балу – букв. «хозяин, владыка») – в семитской мифологии бог бури, грома и молний, дождя и плодородия, в эллинской мифологии отождествлялся с Зевсом.
(обратно)320
….средь шумного бала… – строка из стихотворения А. К. Толстого «Средь шумного бала, случайно…» (1851).
(обратно)321
Эпиграф – измененная строка из стихотворения А. К. Толстого «Двух станов не боец, но только гость случайный…» (1858).
(обратно)322
Два строя: Домострой – и Днепрострой – на выбор! – Домострой – памятник древнерусской литературы XVI в., свод житейских правил и наставлений, которые необходимо соблюдать в патриархальном быту. Днепрострой (1927–1931) – ударная стройка первой пятилетки, Днепровская ГЭС в г. Запорожье на Днепре.
(обратно)323
Иродиада с Иоанна головой! – Библейский сюжет, связанный с трагической кончиной Иоанна Крестителя, который выступал, в частности, с обличением тетрарха Галилеи Ирода Антипы, отнявшего у своего брата жену Иродиаду и женившегося на ней, поправ иудейские обычаи. Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу, но боялся казнить его, опасаясь его популярности. На пиру по случаю дня рождения Ирода его падчерица Саломея так угодила отчиму, что тот приказал выполнить любое ее пожелание. Наученная Иродиадой, Саломея попросила голову Иоанна. Приказ был исполнен и вскоре в праздничную залу на блюде была внесена отсеченная голова Иоанна Крестителя.
(обратно)324
Ты царь: живи один… – строка из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).
(обратно)325
…(со своей Экземой!) – Экзема (от гр. ekzema – высыпание на коже) – хроническое заболевание кожи, сопровождающееся зудом и сыпью.
(обратно)326
Гуттенбергов пресс – печатный станок, по имени изобретателя Иоанна Гуттенберга (1400–1468).
(обратно)327
Шварцев прах – то есть порох, по имени изобретателя монаха Б. Шварца (XIV в.).
(обратно)328
Цикл обращен к поэту А. С. Штейгеру (1907–1944), с которым Цветаева была знакома по переписке. Летом 1936 г., живя в Савойе, в горном селении Сен-Лоран, она получила от Штейгера, больного туберкулезом, письмо с просьбой о помощи и мгновенно откликнулась – ежедневными письмами и стихами. Это был последний заочный роман Цветаевой.
(обратно)329
Последний крупный лирический цикл Цветаевой. Написан как отклик на вторжение фашистских войск Германии на территорию Чехии в марте 1939 г. Этому предшествовало соглашение между Германией, Англией, Италией и Францией, заключенное в Мюнхене в сентябре 1938 г., по которому Судетская область Чехии была поделена между Германией, Польшей и Венгрией. Для Цветаевой Чехия была местом встречи с мужем после многолетней разлуки, местом самого сильного любовного увлечения, чуть не поставившего под угрозу ее семейную жизнь, наконец, родиной сына. События вокруг Чехии глубоко взволновали Цветаеву. Она писала своей чешской подруге А. Тесковой 24 сентября 1938 г.: «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней, с ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец. Вся Чехия сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только одним: тем же, чем и мое» (Цветаева М. И. Указ. соч., 1995. Т. 6. С. 458). Ей же 3 октября 1938 г.: «Бесконечно люблю Чехию и бесконечно ей благодарна, но не хочу плакать над ней (над здоровыми не плачут, а она среди стран – единственная здоровая, больны – те!), итак, не хочу плакать над ней, а хочу ее петь». (Указ. соч. С. 463).
(обратно)330
Астральная душа! – Астральный (фр. astral < лат. astralis – «звездный» < гр. aster – «звезда») – звездный, мистически связанный с небесными светилами. В данном случае – отвлеченный, надмирный. Намек на Германию как родину романтизма.
(обратно)331
Моравия, Словакия – исторические названия областей Чехии.
(обратно)332
В хрустальное подземие… – В Чехии добывается и обрабатывается горный хрусталь.
(обратно)333
Наздар! – чешское приветствие: «Да здравствует!»
(обратно)334
….пора Творцу вернуть билет. – Измененная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», книга пятая «Pro et contra», глава IV «Бунт». Герой романа Иван Карамазов в разговоре с младшим братом Алешей отказывается принять царство мировой гармонии, достигнутое страданиями невинных жертв: «Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет Ему почтительнейше возвращаю.
– Это бунт, – тихо и потупившись проговорил Алеша» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 223).
(обратно)335
….в Бедламе нелюдей… – Бедлам (англ. bedlam < Bethlehem – Вифлеем, город в Иудее) – первоначально больница им. Марии Вифлеемской, затем дом для умалишенных в Лондоне, в переносном смысле – сумасшедший дом, хаос, неразбериха.
(обратно)336
Старей ливонских янтарей… – Ливонский орден (1237–1561) – рыцарское средневековое государство в Восточной Прибалтике, известное промыслом природного янтаря.
(обратно)337
Обращено к поэту Арсению Александровичу Тарковскому (1907–1989) и является ответом на его стихотворение «Стол накрыт на шестерых…».
(обратно)338
Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт, автор поэтических сборников «Жертвы ларам» (1895), «Венчанный снами» (1896), «Сочельник» (1897), «Часослов» (1905), «Новые стихотворения» (Ч. 1–2. 1907–1908), «Дуинские элегии» (1923), «Сонеты к Орфею» (1923), автобиографического романа «Записки Мальте Лауридса Бриге» (1910). Цветаева считала Рильке воплощением поэта, в течение 1926 г. вела с ним интенсивную переписку. Известие о его смерти потрясло Цветаеву и стало толчком к созданию поэмы «Новогоднее» (1927).
(обратно)339
Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт. Участник революции 1848 года. Автор поэтических сборников «Цветы зла» (1857), «Искусственный рай» (1860), предтеча французского символизма.
(обратно)340
Максим дю Кан (1822–1894) – французский поэт, автор прогрессистских «Современных песен» (1855).
(обратно)341
…в тени Цирцеиных ресниц… – Цирцея – в поэме Гомера «Одиссея» волшебница, дочь Гелиоса, обратившая спутников Одиссея в свиней, а его самого волшебными чарами удерживавшая на своем острове в течение года.
(обратно)342
….корабль, идущий в Эльдорадо. – Эльдорадо (исп. el dorado – букв. «золоченый, золотой») – мифическая страна, богатая золотом и драгоценными камнями, которую искали на территории Латинской Америки испанские завоеватели. В переносном смысле – страна богатств, сказочных чудес.
(обратно)343
…сокровища, каких не видывал Нерей. – Божество моря, отец нереид (гр. миф.).
(обратно)344
Приветствовали мы кумиров с хобота́ми… – обобщенный образ языческого идола (кумира) на основе изображений древнеиндийских божеств.
(обратно)345
Жен, выкрашенных в хну… – Хна (араб.) – красно-желтая краска, получаемая из листьев кустарника или небольшого дерева лавсонии. Используется в косметике.
(обратно)346
Подвижничество, так носящее вериги… – Вериги – цепи, надеваемые на голое тело монахами для умерщвления плоти.
(обратно)347
Оно – как Вечный Жид. – Вечный Жид, Агасфер – персонаж позднехристианской легенды, по которой Христос, в Своем Крестном пути на Голгофу, остановился у двери Агасфера с просьбой об отдыхе, но был отринут. За это Агасфер был проклят и осужден на бессмертие и вечное скитание на земле до Второго Пришествия Христа, Который Один может снять с него наказание.
(обратно)348
Авророю лица приветствуя восход… – Аврора – богиня утренней зари (рим. миф.).
(обратно)349
.…плыви к своей Электре! – Электра – дочь Агамемнона и Клитемнестры, спасительница и помощница брата Ореста, которому помогла отомстить за отца, убив мать и ее возлюбленного Эгисфа (гр. миф.).
(обратно)350
Ставь ветрило! – Ветрило – парус (устар.).
(обратно)




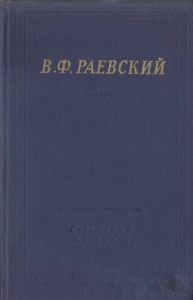

Комментарии к книге «Стихотворения», Марина Ивановна Цветаева
Всего 0 комментариев