Н. Некрасов Стихотворения Поэмы
{1}
Корней Чуковский. Н. А. Некрасов
1
В одной из рукописей поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов изображает деревенский пожар. Загорелась барская усадьба.
И было так безветренно, — Как <будто> свечка в комнате, Спокойным, ровным пламенем Горел господский дом.Дальше — еще три строки о пожаре, причем снова подчеркивается, что погода была очень тиха:
И было так безветренно, Что дым над этим зданием Стоял прямым столбом.К горящему дому сбежались крестьяне, — очевидно, из ближайшей деревни. Пользуясь отсутствием ветра, они при желании могли бы без труда погасить это тихое пламя, но среди них не нашлось никого, кто выразил бы такое желание.
То был пожар особенный: Ведра воды не вылито Никем на весь пожар!Как бы сговорившись заранее, крестьяне предпочли воздержаться от тушения пожара и до самого конца оставались пассивными зрителями. Молча, как будто в театре, они смотрели на горящее здание. Конечно, никто из них не осмелился высказать свою радость вслух, но была, говорит Некрасов,
Какая-то игривая Усмешка чуть заметная У каждого в очах, — усмешка торжества и ликования.Эти строки, недавно найденные среди рукописей Некрасова, так и не появились при его жизни в печати. Между тем для нас, для читателей, эти строки имеют особую ценность: здесь описывается подлинный случай, происшедший с родительским домом Некрасова. Дом загорелся от неизвестной причины (не от поджога ли?) «в ясную погоду при тихом ветре» и весь сгорел дотла, так как никому из крестьян не хотелось тушить пожар.
«Ведра воды не было вылито», — сказала мне одна баба». — вспоминает об этом пожаре Некрасов. «Воля божья», — сказал на вопрос мой крестьянин не без добродушной усмешки».
Дом был большой, двухэтажный. Здесь Некрасов провел свое детство, здесь жили когда-то его отец, мать, братья, сестры; и все же, узнав о пожаре, он обрадовался не меньше крестьян, так как тоже ненавидел этот дом и вместе с крестьянами желал ему гибели.
Казалось бы, как не любить то жилище, где прошло твое раннее детство! Сколько в нашей литературе существует поэтических книг, авторы которых с чувством любви и признательности вспоминают свои детские годы, проведенные в отцовских усадьбах! А Некрасов, глядя на свой родительский дом глазами закабаленных крестьян, отзывался о нем в своих стихах с отвращением.
Угрюмый дом, похожий на тюрьму, —воскликнул он в одном стихотворении.
И в другом повторил то же самое:
…Я рос в дому. Напоминающем тюрьму.Не только отцовский дом был ненавистен Некрасову. Так же враждебно он относился и к отцовскому лесу, и к отцовскому полю, и даже к тому ручью, что протекал по отцовским лугам, ибо на все это он тоже смотрел глазами порабощенных крестьян. В знаменитом стихотворении «Родина», написанном задолго до пожара, поэт радостно приветствовал уничтожение и гибель этих отцовских владений:
И, с отвращением кругом кидая взор, С отрадой вижу я, что срублен темный бор — В томящий летний зной защита и прохлада, — И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, Понурив голову над высохшим ручьем…Этот бор, эти нивы и пастбища, этот барский дом со всевозможными службами, среди которых были и конюшни, и псарня, и флигель для крепостных музыкантов, этот темный, тенистый сад с великолепными дубами и липами — все это принадлежало старинному роду Некрасовых. Здесь лето и зиму безвыездно проживала семья поэта. Здесь слушал он нянины сказки, здесь звучали песни его матери, о которых он с таким умилением вспоминал до конца своих дней, здесь семилетним мальчиком он начал писать стихи. Почему же такою страстною ненавистью возненавидел он эту родную усадьбу? Почему не жалобой, а каким-то победным весельем звучат его строки о том, что ее уже нет:
Сгорело ты, гнездо моих отцов! Мой сад заглох, мой дом бесследно сгинул.Либеральные авторы жизнеописаний Некрасова, стремившиеся изобразить его кротким «печальником горя народного», объясняли такие стихи жалостью к несчастным крепостным, которых в этой самой усадьбе жестоко обижал его отец. Но в том и заключается историческая заслуга Некрасова, что он ни разу не сделал порабощенный народ предметом этой оскорбительной жалости, не унизил ни его, ни себя какими бы то ни было «гуманствами», а полностью отождествил себя с ним и стал выразителем его боли и гнева. Стихами Некрасова впервые в истории заговорили о себе сами народные массы, пробуждавшиеся к революционному действию. Поэт с детства научился смотреть на помещиков глазами крепостных «мужиков». Их-то настроения и сказались в его стихах о сгоревшей отцовской усадьбе; их настроениями насыщено все его творчество. Вспомним, что было сказано Лениным по поводу письма Белинского к Гоголю, когда контрреволюционные публицисты пытались уверить, будто настроения масс не оказывали никакого влияния на прогрессивные идеи писателей.
«…Может быть, — писал Ленин, — по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»[1]
То же «настроение крепостных крестьян», возмущенных и «крепостническим гнетом», и «остатками крепостнического гнета», выразилось в поэзии Некрасова. Зависимость некрасовского творчества от настроений трудящихся масс и сделала его народным поэтом. Некрасов понял, что его задача не в том, чтобы скорбеть о порабощенном народе и сокрушаться о его печальной судьбе, а в том, чтобы самому приобщиться к народу, сделать свою поэзию его подлинным голосом, его криком и стоном, воплощением его мыслей и чувств.
В ту пору на Украине был такой же народный поэт, который за несколько лет до Некрасова явился выразителем тех же народных стремлений и чувств, — Шевченко. Но Шевченко и сам был крестьянином, сам испытал на себе весь гнет крепостничества, а Некрасов, взращенный в прадедовском дворянском гнезде, — какую колоссальную работу должен был он произвести над собою, какую страшную ломку должен был пережить, чтобы сделать «мужицкие очи» своими и научиться глядеть на каждое явление тогдашней действительности — и на самого себя — этими «мужицкими очами»!
Здесь основное отличие Некрасова от всех других русских поэтов той эпохи. Жалеющих народ было много, но говорить от лица народа, от лица пробудившихся к протесту трудящихся масс умел в ту пору один лишь Некрасов.
В его поэзии народ постоянно выступает судьей, выносящим суровые приговоры врагам.
В поэме «Кому на Руси жить хорошо» перед этим грозным судьей предстают всевозможные Последыши, Оболт-Оболдуевы, Глуховские, Шалашниковы, Фогели. В «Железной дороге» — злодей Клейнмихель со всеми своими приспешниками. В «Размышлениях у парадного подъезда» — «владелец роскошных палат». Некрасов клеймит и казнит его именно от лица той «оборванной черни», которую этот сановник довел до обнищания и гибели.
Каким же образом могло случиться, что поэт, принадлежавший к дворянской среде, порвал со своим классом, возненавидел все то, чему служили поколения его предков, и, примкнув к самому крайнему — революционному — крылу молодой демократии, на всю жизнь ушел «в стан погибающих за великое дело любви»?
Для ответа на этот вопрос попытаемся вспомнить хотя бы в самых общих чертах важнейшие вехи его биографии.
2
Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года (по новому стилю) в украинском местечке Немирове, Винницкого уезда, Подольской губернии.
Его отец, Алексей Сергеевич, небогатый помещик, служил в то время в армии в чине капитана. Через три года после рождения сына он, выйдя в отставку майором, навсегда поселился в своем родовом ярославском имении Грешневе.
Сельцо Грешнево находится неподалеку от Волги, на равнине, среди бесконечных полей и лугов. Тут же, по соседству, густой лес. Хотя мальчику запрещали водиться с детьми крепостных, он пользовался всякой свободной минутой, чтобы тайком убежать к деревенским ребятам. Он участвовал во всех их затеях, удил с ними рыбу, купался в Самарке, уходил в лес за грибами, за ягодами, и вряд ли была в Грешневе такая изба, с жителями которой он не был бы близко знаком. Чтобы незаметно пробираться в деревню, он проделал в заборе отцовского сада лазейку.
Круг его деревенских знакомств уже в детстве был очень широк. Усадьба стояла у самой дороги, которая в ту пору была многолюдной и бойкой: она соединяла Кострому с Ярославлем. Отойдя на несколько шагов от усадьбы, мальчик встречался на этой дороге со всяким рабочим народом: с печниками, малярами, кузнецами, землекопами, плотниками, переходившими из деревни в деревню, из города в город в поисках работы. То были по большей части талантливые, бывалые люди. Будущий поэт с увлечением вслушивался в их «рассказы», «прибаутки» и «притчи»:
Под наши густые, старинные вязы На отдых тянуло усталых людей. Ребята обступят: начнутся рассказы Про Киев, про турку, про чудных зверей. Иной подгуляет, так только держися — Начнет с Волочка, до Казани дойдет! Чухну передразнит, мордву, черемиса, И сказкой потешит, и притчу ввернет… Случалось, тут целые дни пролетали, Что новый прохожий, то новый рассказ…Водился мальчик и с рыбаками на Волге, убегал к ним из дому еще до рассвета:
Когда еще все в мире спит И алый блеск едва скользит По темно-голубым волнам, Я убегал к родной реке. Иду на помощь к рыбакам, Катаюсь с ними в челноке…Не мудрено, что уже в те ранние годы поэт до мельчайших подробностей узнал жизнь крепостного крестьянина и усвоил его богатую, образную, меткую, певучую речь. Впоследствии он не раз восхищался красотой и силой этой речи. Он утверждал, что крестьянам зачастую случается обмолвиться таким выразительным словом,
Какого не придумаешь, Хоть проглоти перо!И разве мог бы он написать «Коробейников», «Крестьянских детей», «Мороз, Красный нос». «Кому на Руси жить хорошо», если бы не провел свое детство в такой непосредственной близости к родному народу! В детстве у него не было ни гувернанток, ни бонн. Его няня была крепостная крестьянка. Из его стихотворений мы знаем, с какой любовью он, маленький мальчик, слушал «рассказы нянюшки своей» — старинные русские народные сказки, те самые, что в течение многих столетий сказывались в каждой крестьянской семье каждому крестьянскому ребенку.
Любовь к полям и лесам своей родины, к ее «зеленому шуму» тоже впервые зародилась у него в те ранние годы:
Мне лепетал любимый лес: Верь, нет милей родных небес! Нигде не дышится вольней Родных лугов, родных полей.В одном из своих стихотворных набросков он пишет, что грешневская природа милее ему всех прославленных зарубежных краев:
Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, Но я нигде так сладко не дышал, Как в Грешневе…Горячим поэтическим чувством проникнуты написанные им родные пейзажи:
Там зелень ярче изумруда, Нежнее шелковых ковров, И, как серебряные блюда, На ровной скатерти лугов Стоят озера…И едва ли поэт создал бы свои бессмертные песни о русской природе, если бы не сроднился с нею в первые же годы своей жизни. В поэмах «Саша», «Тишина», «Мороз, Красный нос» его восхищение красотою русских лесов и полей выражено с непревзойденной лирической силой:
Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор! За дальним Средиземным морем, Под небом ярче твоего, Искал я примиренья с горем, И не нашел я ничего!Детские воспоминания поэта связаны, как мы только что видели, с Волгой:
О Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?«Благословенная река, кормилица народа!» — говорил он о ней.
Но здесь, на этой «благословенной реке», ему довелось испытать и первое глубокое горе. Как-то знойным летом он бродил у самой воды по раскаленным пескам и вдруг услышал какие-то стоны. Вдали показалась гурьба бурлаков, которые шли вдоль реки,
Почти пригнувшись головой К ногам, обвитым бечевой.Они стонали от непосильной работы. Потрясенный, испуганный мальчик долго бежал вслед за ними и услышал, как один из них без всякой жалобы, очень спокойно сказал, что ему хотелось бы скорей умереть. Эти слова ужаснули Некрасова:
О, горько, горько я рыдал, Когда в то утро я стоял На берегу родной реки. И в первый раз ее назвал Рекою рабства и тоски!..В этом впечатлительном мальчике уже тогда проявилась та «страстность к чужому страданию», без которой он не был бы великим поэтом.
И сердце, обливаясь кровью, Чужою скорбию болит… —говорил он в своих стихах о себе. Этот живой и, казалось бы, беззаботный дворянский подросток рано стал не по-детски задумываться над жестокостями окружающей жизни. Рано открылось ему «зрелище бедствий народных», к которому были так нечувствительны многие другие дворянские дети. Но не жалость, а протест вызывали в нем «народные бедствия». Уже тогда, при встрече с бурлаками, сказалась его действенная, боевая натура. Он не только «рыдал» над их мучительной долей, но тут же, на Волге, решил кинуться в бой, чтобы освободить их от гнета:
Что я в ту пору замышлял, Созвав товарищей-детей, Какие клятвы я давал — Пускай умрет в душе моей, Чтоб кто-нибудь не осмеял!«Зрелище бедствий народных» не ограничивалось для него бурлаками. По той же дороге, которая проходила мимо усадьбы Некрасовых, — по знаменитой Владимирке — часто гнали под конвоем в Сибирь арестантов, закованных в железные цепи. Будущий поэт на всю жизнь запомнил «печальный звон — кандальный звон», раздававшийся на этой «проторенной цепями» дороге.
Еще одно горе довелось ему видеть в «золотую пору малолетства» — горе в родной семье. Его мать, Елена Андреевна, мечтательная, кроткая женщина, очень страдала в замужестве. Она была человеком высокой культуры, а муж у нее был невежественный, распутный, сварливый и грубый. Целыми днями Елена Андреевна оставалась в усадьбе одна, так как муж постоянно разъезжал по соседним помещикам; его излюбленными развлечениями были карты, попойки, псовая охота на зайцев. Он даже не пытался скрывать от жены и детей свои бесчисленные связи с крепостными крестьянками. Несчастная, глубоко оскорбленная женщина чувствовала себя как в тюрьме. Бывали такие дни, когда она, играя на рояле, целыми часами плакала и пела о своей горькой неволе. «Она была певица с удивительным голосом», — вспоминал впоследствии поэт.
С участием относилась она к принадлежавшим ее мужу крестьянам и нередко вступалась за них, когда тот угрожал им расправой. Но попытки обуздать его ярость не всегда удавались ей. Бывали случаи, что при этих попытках муж набрасывался и на нее с кулаками. Можно себе представить, как ненавидел его в такие минуты сын! «Дикарь», «угрюмый невежда», «деспот», «палач» — иного имени и нет в стихах Некрасова для этого семейного тирана.
Елена Андреевна хорошо знала мировую поэзию и часто пересказывала малолетнему сыну те отрывки из творений великих писателей, которые были доступны его пониманию. Через много лет он вспоминал в стихотворении «Мать»:
И голос твой мне слышался впотьмах, Исполненный мелодии и ласки, Которым ты мне сказывала сказки О рыцарях, монахах, королях. Потом, когда читал я Данта и Шекспира, Казалось, я встречал знакомые черты: То образы из их живого мира В моем уме напечатлела ты.Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благоговейной любовью воскрешал бы в своих стихах образ матери. Этот трагический образ увековечен Некрасовым в стихотворениях «Родина», «Мать», «Рыцарь на час», «Баюшки-баю» и других.
Он утверждал, что именно страдания матери побудили его написать столько стихов, протестующих против угнетения женщин («В дороге», «Убогая и нарядная», «В полном разгаре страда деревенская…», «Мороз, Красный нос» и другие).
Во всех этих произведениях любовь к угнетенным всегда сочетается с ненавистью к их угнетателям.
Еще в пору его детства эту ненависть чувствовали в нем все окружающие:
Смеются гости над ребенком, И чей-то голое говорит: «Не правда ль, он всегда глядит Каким-то травленым волчонком? Поди сюда!» Бледнеет мать; Волчонок смотрит — и ни шагу. «Упрямство надо наказать — Поди сюда!» Волчонок тягу… «Ату его!..»Таким образом, уже тогда наметилась в мальчике «правая ненависть» к «ликующим, праздно болтающим, обагряющим руки в крови». Уже тогда он испытывал приступы недетского гнева при всяком столкновении с ними.
Но, конечно, все это относится к более позднему детству поэта, к тому времени, когда из ребенка он становился подростком. А в первые годы жизни он ничем не отличался от сверстников. Как бы ни были тягостны те впечатления, которые угнетали его в отцовской усадьбе, их значение было осознано им лишь через несколько лет. Тогда же он, как и всякий ребенок, не вдумывался в них, не отягощал себя ими. В одном из стихотворений, посвященных воспоминаниям о матери, он прямо говорит, что ее горе было непонятно ему и что, когда она плакала, его, как и всякого мальчика, влекли к себе детские игры и шалости:
Я был тогда ребенком; долго, долго Не думал я, родная, ни о чем, Не ты, не сад, — меня манила Волга, Я с кручи там катался кубарем… А ты лила неведомые слезы — Я лишь поздней узнал, о чем они.Эти слезы не остались бесследными, он вспоминал их всю жизнь, но это не значит, что он, говоря его же словами, не взял с «ликующего детства» всей «дани забав и радостей».
Так что глубоко не правы биографы, которые приписывают ему с первых же лет его жизни какое-то сплошное страдальчество. При всей своей ранней чуткости к горю угнетаемых людей он в детстве не чуждался ребяческих игр и радостей. Уже тогда проявилось в нем то душевное качество, которое он сохранил до конца своей жизни: воля, упорство, настойчивость. Обучаясь верховой езде, он то и дело падал с лошади, и был такой день, когда он упал восемнадцать раз подряд, но в конце концов добился своего: сделался хорошим наездником. С тех пор, по рассказу его сестры, он уже не боялся никаких лошадей и смело садился на бешеного жеребца.
Уже после его смерти Чернышевский, вспоминая о нем, говорил: «Он был великодушный человек сильного характера», «человек с сильной волей»[2].
Добиться своего ценою любого подвига, любого труда стало с детства для него законом.
Но настоящее свое призвание нашел он не скоро. Много пришлось ему испытать неудач и тревог, прежде чем он вышел на прямую дорогу.
В 1832 году будущий поэт вместе со своим братом Андреем поступил в первый класс Ярославской гимназии. Единственное воспоминание, которое осталось в его поэзии от этих гимназических лет, полностью вместилось в две стихотворные строчки:
…придешь, бывало, в класс И знаешь: сечь начнут сейчас!Один из гимназических товарищей Некрасова вспоминает: «В классах в то время секли; учителя иногда дрались…»[3] Школьная дисциплина поддерживалась драньем за волосы, пощечинами, ударами линейкой по рукам.
Отец не хотел платить за обучение сына, ссорился с его учителями. Учителя были плохие, невежественные и поощряли тупую зубрежку. Среди них было много пьяниц. Естественно, что мальчик невзлюбил свою школу и учился очень неохотно. Гораздо больше увлекало его чтение. «В классах Некрасов, бывало, все сидит и читает»[4], — рассказывает о нем тот же товарищ. Читал он что придется, главным образом тогдашние журналы. Сильное впечатление произвели на него ходившая в списках запрещенная ода Пушкина «Вольность» и поэма Байрона «Корсар» — о свободолюбивом и гордом мятежнике (в пересказе одного литератора). Ода «Вольность» сыграла, очевидно, немаловажную роль в духовном развитии Некрасова: он дважды вспоминает о ней в своих предсмертных записках. Судя по его черновикам, он даже пытался прославить эту оду в стихах:
Хотите знать, что я читал? Есть ода У Пушкина, названье ей: Свобода. Я рылся раз в заброшенном шкафу…Характерно, что эта ода оставила такой же глубокий след в биографии двух других народных заступников — Герцена и Огарева, которые познакомились с нею приблизительно в том же возрасте (см. «Былое и думы» Герцена, гл. II и IV).
В гимназии у Некрасова впервые обнаружилось призвание сатирика: мальчик стал писать эпиграммы на учителей и товарищей.
В 1837 году отец решил взять его из гимназии и отправить в Петербург, в Дворянский полк — так называлась тогда военная школа, отличавшаяся бессмысленной и грубой муштрой. Возможность поездки в столицу привлекала Некрасова, так как он уже несколько лет тайно писал стихи и мечтал напечатать их в столичных журналах.
В конце июля 1838 года шестнадцатилетний подросток после многодневного путешествия в ямщицкой телеге приехал в Петербург с тетрадью стихов и несколькими рублями в кармане. «За славой я в столицу торопился», — шутя вспоминал он в позднейших стихах, так как с детства решил сделаться во что бы то ни стало писателем.
Еще в деревне, когда он только собирался в Петербург, его мать, страстно желавшая, чтобы из него вышел образованный человек, не раз говорила сыну, что он должен поступить в университет.
В Петербурге Некрасов стал готовиться к университетским экзаменам и даже не сделал попытки поступить в ту военную школу, куда направил его отец. Узнав об этом, отец рассердился и послал сыну грозное письмо, где извещал, что не будет высылать ему денег, если он нарушит отцовскую волю.
Юноша гордо ответил отцу: «Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма».
Свою угрозу отец привел в исполнение. Поэт остался в столице без всяких средств. Он часто голодал, не имел пристанища, спал в ночлежных домах, целую зиму ходил без пальто. Но его влекло литературное поприще, и ради того, чтобы стать литератором, он обрек себя на голод и холод.
Вскоре Некрасов исполнил желание матери: в сентябре 1839 года поступил вольнослушателем в университет.
Некоторые его стихотворения были напечатаны в разных журналах, но за них почти ничего не платили, и он продолжал голодать. В 1840 году он с помощью друзей издал книжку своих полудетских стихов под заглавием «Мечты и звуки». Книжка не имела успеха. Она была не хуже и не лучше других книжек подобного рода, появлявшихся тогда в большом количестве. То же фразерство, те же приемы обветшалой романтики, те же «ангелы», «демоны», «рыцари», Гюльнары, Амариллы, Дианы, Роланды, «гурии», «вакханки» и т. д. Читавшему эти стихи было невозможно предвидеть, что автор их станет величайшим поэтом-реалистом, правдивым изобразителем русской действительности. Как и все молодые поэты, он подражал в своей книжке другим стихотворцам. «Что ни прочту, тому и подражаю», — вспоминал он впоследствии об этих ранних стихах. Кудрявым и напыщенным слогом перепевал он то Жуковского, то Баратынского, то Бенедиктова. Но если вспомнить, что написаны эти стихи шестнадцатилетним — семнадцатилетним подростком, вдали от культурной среды, придется признать их незаурядным явлением, потому что даже в их ритмах, в их дикции иногда проявляется темперамент большого поэта.
Неуспех книги не обескуражил Некрасова. Этот юноша, вышедший из праздной дворянской среды, оказался на диво неутомимым работником. В 1840 и 1841 годах он написал столько стихотворений, рассказов, сказок, фельетонов, критических заметок, рецензий, комедий, водевилей и т. д., сколько другому не написать во всю жизнь.
Вот краткий перечень написанного им в эти два года:
Повести и рассказы: «Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Певица», «Двадцать пять рублей», «Ростовщик», «Капитан Кук», «Карета», «Жизнь Александры Ивановны», «Опытная женщина», «Несчастливец в любви».
Театральные пьесы: «Великодушный поступок», «Федя и Володя», «Юность Ломоносова», «Утро в редакции», «Шила в мешке не утаишь», «Феоклист Онуфрич Боб», «Актер», «Дедушкины попугаи», «Вот что значит влюбиться в актрису!»
Стихотворения: «Провинциальный подьячий в Петербурге», «Мелодия», «Офелия», «Скорбь и слезы», «Баба-яга», «Сказка о царевне Ясносвете» — несколько тысяч стихов!
А сколько напечатано им в те же два года критических статей и рецензий!
Не разгибая спины, исписывал он десятки страниц своим быстрым, стремительным почерком. Недаром он сказал перед смертью, вспоминая свою голодную юность: «Уму непостижимо, сколько я работал! Господи, сколько я работал!»
Количество работ с каждым годом росло. В 1843–1845 годах Некрасов печатал стихи и статьи под псевдонимами: Перепельский, Пружинин, Бухалов, Иван Бородавкин, Афанасий Пахоменко, Назар Вымочкин, Ник. — Нек и другими. В его лице в русскую литературу вошел один из самых замечательных тружеников.
Но так мало платили поэту за его колоссальный труд, что и тогда он не спасся от нужды, хотя, казалось бы, одни его пьесы, поставленные в Александрийском театре и выдержавшие много представлений, должны были давать ему изрядный доход.
«Мне горько и стыдно вспоминать, — рассказывает о юном Некрасове известная артистка А. И. Шуберт, — что мы с маменькой прозвали его «несчастным».
— Кто там пришел? — бывало, спросит маменька. — «Несчастный»? — И потом обратится к нему: — Небось есть хотите?
— Позвольте.
— Акулина, подай ему, что от обеда осталось.
Особенно жалким выглядел Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как-то дрожал и пожимался. Руки у него были голые, красные, белья не было видно, но шею обертывал он красным вязаным шарфом, очень изорванным. Раз я имела нахальство спросить его:
— Вы зачем такой шарф надели?
Он окинул меня сердитым взглядом и резко ответил:
— Этот шарф вязала моя мать…
Я сконфузилась»[5].
Бедствовал он долго — пять лет. Эта печальная молодость, «убитая под бременем труда», оказала большое влияние на все его дальнейшее творчество, ибо, испытав на себе, каково живется бедноте в условиях унижения и рабства, он еще сильнее возненавидел ее притеснителей. Впервые критическое понимание действительности сказалось в его фельетонном стихотворении «Говорун», появившемся в 1843 году:
Столица наша чудная Богата через край. Житье в ней нищим трудное, Миллионерам — рай. Здесь всюду наслаждения Для сердца и очей. Здесь все без исключения Возможно для людей: При деньгах вдвое вырасти, Чертовски разжиреть, От голода и сырости Без денег умереть… и т. д.В том же году в одной своей прозаической повести он написал: «Я узнал, что… есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые дома».
В начале 1843 года или несколько раньше в жизни Некрасова случилось большое событие: он познакомился и близко сошелся с великим русским критиком, революционным демократом Белинским, который полюбил молодого поэта именно за его непримиримую злобу к «сильным и сытым» «счастливцам». Белинский подолгу беседовал с ним и открыл ему глаза на все злое и мерзкое, что совершалось вокруг. Некрасов понял, что ограбление трудящихся есть многовековая система, узаконенная государственным строем. Ему стало ясно, что все благополучие «сильных и сытых» основано на эксплуатации миллионов людей, закабаленных и крепостниками-помещиками, и нарождающейся в стране буржуазией. Слушая взволнованные речи Белинского, поэт впервые по-новому прочувствовал впечатления детства, вспомнил деспота-отца и страдалицу-мать, вспомнил горькую жизнь крестьян,
Верченых, крученых, Сеченых, мученых,и решил посвятить все свое дальнейшее творчество борьбе за народное счастье.
«Ясно припоминаю, — рассказывал впоследствии Некрасов, — как мы с ним, вдвоем <с Белинским>, часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях… Моя ветреча с Белинским была для меня спасением»[6].
Белинский требовал от современных писателей правдивого, реалистического изображения русской действительности — и, в меру цензурных возможностей, суда над нею, раскрытия ее зол и уродств. Под влиянием Белинского поэт обратился к реальным сюжетам, подсказанным ему подлинной жизнью, стал писать проще, без всяких прикрас, о самых, казалось бы, обыденных, заурядных явлениях жизни, и тогда в нем сразу проявился его свежий, многосторонний и глубоко правдивый талант художника-реалиста.
Впоследствии Некрасов неоднократно пытался прославить в стихах образ своего учителя. К числу таких попыток принадлежит и поэма «Несчастные», главный герой которой, революционный борец, как теперь установлено, списан поэтом с Белинского. В «Несчастных» воспроизводятся те оптимистические речи о русском народе, которые Некрасов слыхал от великого критика:
Он не жалел, что мы не немцы, Он говорил: «Во многом нас Опередили иноземцы, Но мы догоним в добрый час! Лишь бог помог бы русской груди Вздохнуть пошире, повольней — Покажет Русь, что есть в ней люди, Что есть грядущее у ней».Поэт вполне разделял эту веру Белинского в чудотворные силы народа, в огромность его исторических судеб. Не раз повторял он в позднейших стихах, что русский народ — богатырь и что революционное служение народу есть наш патриотический долг:
Иди в огонь за честь отчизны, За убежденье, за любовь… Иди и гибни безупречно. Умрешь не даром: дело прочно, Когда под ним струится кровь…Белинский первый пробудил это революционное сознание в Некрасове.
Не забудем, что как раз в те годы, когда Некрасов сблизился с Белинским, великий критик был охвачен ненавистью к «гнусной рассейской действительности». Он уже пришел к убеждению, что единственным путем, который приведет человечество к счастью, является социализм. «Я теперь в новой крайности, — писал он одному из друзей в 1841 году, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия… Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди»[7]. Насколько было возможно по цензурным условиям, эту же «идею идей» Белинский пропагандировал в своих тогдашних статьях.
Он помог Некрасову найти самого себя, понять основные качества своего дарования, и после встречи с Белинским творчество молодого поэта определилось раз навсегда.
«В 1843 году я видел, — вспоминал о Некрасове один современник, — как принялся за него Белинский, раскрывая ему сущность его собственной натуры и ее силы»[8].
Поэт до конца жизни остался благодарен учителю и всегда вспоминал те уроки, которые получил от него.
Через десять лет после смерти великого критика Некрасов писал: «Постоянно… имел я мысль сделать что-нибудь, чем бы я мог хоть немного воздать ему за все доброе, что он сделал для меня как мой духовный воспитатель, как человек, заметивший, полюбивший и руководивший меня в трудное время моей жизни».
Свое преклонение перед ним и его жизненным подвигом Некрасов выразил в таких произведениях, как «Памяти приятеля», «В. Г. Белинский», «Кому на Руси жить хорошо», и в следующем отрывке из «Медвежьей охоты»:
Белинский был особенно любим… Молясь твоей многострадальной тени, Учитель! перед именем твоим Позволь смиренно преклонить колени! В те дни, как все коснело на Руси, Дремля и раболепствуя позорно, Твой ум кипел — и новые стези Прокладывал, работая упорно… Ты нас гуманно мыслить научил. Едва ль не первый вспомнил о народе, Едва ль не первый ты заговорил О равенстве, о братстве, о свободе…«Свобода, братство и равенство» были лозунгом французской революции 1789 года. Этими словами Некрасов попытался высказать в подцензурной печати, что Белинский учил его революционной борьбе.
3
Другим учителем Некрасова был Гоголь. Поэт всю жизнь преклонялся перед ним и ставил его рядом с Белинским. «Мертвые души», «Ревизор», «Шинель» были для него высшими образцами реалистического искусства. Гоголь, как и Белинский, в глазах Некрасова являлся «народным заступником», обличителем полицейско-самодержавного строя, «великим вождем» страны «на пути сознания, развития, прогресса». У Некрасова есть стихотворение о Гоголе, которое кончается такими строками:
Со всех сторон его клянут, И, только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он — ненавидя!«Любить, ненавидя» — этому научился Некрасов у своих великих наставников.
В тот же период он, раздобывшись кое-какими деньгами, начинает издавать под непосредственным руководством Белинского и при его ближайшем участии ряд альманахов, где страстно борется за гоголевское направление в искусстве.
В первом — двухтомном — сборнике, названном «Физиология Петербурга», он печатает свой замечательный очерк «Петербургские углы» — одно из первых по времени произведений гоголевской школы. В этом очерке он с тем же «смехом сквозь слезы», какой слышится в творениях Гоголя, изобразил жизнь городской бедноты, загнанной нуждою «на дно», в мрачный и зловонный подвал. Успех «Физиологии Петербурга» дал Некрасову возможность выпустить новый альманах, «Петербургский сборник» (1846), знаменующий окончательную победу гоголевского направления в русской литературе. В этом сборнике наряду с произведениями Белинского, Тургенева, Герцена, с «Бедными людьми» Достоевского были напечатаны такие стихотворения Некрасова, как «В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть, что находит…», «Колыбельная песня» и другие, окончательно определившие новаторский стиль его творчества.
Весь демократический лагерь — вся бурно растущая масса молодых разночинцев — отнесся к «Петербургскому сборнику» с горячим сочувствием. В стихах Некрасова эта молодежь ощутила отголосок своих собственных убеждений и чувств.
Властители дум молодой демократии — Грановский, Белинский, Герцен — приветствовали эти новые произведения Некрасова. До какой степени стихи «Петербургского сборника» были в духе тогдашней эпохи, видно хотя бы из того, что через два-три года после напечатания «В дороге» явились «Антон Горемыка» Григоровича, «Записки охотника» Тургенева, «Сорока-воровка» Герцена, воплощающие тот же протест против крепостной неволи крестьян. Вскоре Некрасов написал стихотворение «Родина», где этот протест сказался с особенной силой. Оно, по словам одного современника, привело Белинского в восторг. Белинский выучил его наизусть и послал в Москву своим приятелям.
«А каков Некрасов-то! — восклицал Белинский. — Сколько скорби и желчи в его стихе!» В кружке Белинского особенно привлекало к Некрасову то, что он был «человек из низов». Правда, по паспорту он числился дворянином, но его биография была типичной биографией бедняка-разночинца, и этим он был близок «плебею» Белинскому и тем широким читательским массам, которые шли за Белинским. Именно с этими массами Некрасов уже тогда ощущал свою кровную связь, и, когда какой-то критик из враждебного лагеря попытался напасть на него с позиций «чистого», салонного искусства, поэт горделиво ответил ему:
Против твоей я публики грешу, Но только я не для нее пишу… —и тут же указал очень четко, к какому читателю обращено его творчество:
Друзья мои по тяжкому труду, По музе гордой и несчастной, Кипящей злобою безгласной! Мою тоску, мою беду Пою для вас…Эта «кипящая злоба» с каждым годом росла, так как она отражала в себе растущее негодование порабощенных крестьян. Именно с этого времени (с 1843–1845 годов) поэзия Некрасова стала питаться, по выражению Герцена, «свирепеющим океаном народа», то есть настроениями крепостного крестьянства, пробуждающегося к революционному действию. По заведомо уменьшенным официальным данным, в первое десятилетие царствования Николая I крестьянских восстаний происходило около шестнадцати в год, а в последнее десятилетие (именно в то, которое начинается 1845 годом) средняя годовая цифра поднимается уже до тридцати пяти, то есть увеличивается больше чем вдвое. «При этом… не только увеличивается число случаев крестьянских выступлений, но… крестьянские выступления принимают все более активный, все более решительный характер и захватывают все большую массу крестьянства»[9]. Медленно, но верно в эти годы шла консолидация русского освободительного движения, которое после краха декабристского восстания многим казалось безнадежно заглохшим, но теперь возрождалось опять, на этот раз в кругах передовых разночинцев, плотью от плоти которых были и Белинский и Некрасов. Отражением растущего народного гнева явилось все творчество молодого Некрасова, заклеймившего в своих тогдашних стихах и помещиков («В дороге». «Родина»), и царских бюрократов («Колыбельная песня»), и типичных для той эпохи капиталистических хищников, этих новых врагов трудового народа («Современная ода»). Выступать в печати с такими стихами было тогда чрезвычайно опасно. Продажные писаки Фаддей Булгарин, Сенковский и Греч, эти раболепные холопы правительства, сплотили вокруг себя в своих журналах, альманахах, газетах обширную группу стихотворцев, романистов, публицистов, которые изо дня в день, отвлекая внимание читателей от ужасов окружавшей их жизни, восхваляли крепостнический строй как высшее воплощение государственной мудрости и всенародного счастья.
Все эти реакционные писаки набросились на Некрасова с яростной бранью. Царская цензура применила к нему свои инквизиционные меры. Грязный клеветник Фаддей Булгарин то и дело писал на ненавистного ему поэта доносы в так называемое Третье отделение (то есть в тайную полицию Николая I), утверждая, что Некрасов — «коммунист», который «страшно вопиет в пользу революции»[10].
Но Некрасова не смутили ни доносы, ни ругань врагов, ни самоуправство цензуры. Окрыленный успехом «Петербургского сборника», он задумал еще одно, наиболее трудное и опасное литературное дело, для осуществления которого потребовалась вся его беспримерная смелость и весь его организаторский талант. Он задумал, в противовес ретроградной печати, поддерживавшей крепостнический строй, основать оппозиционный журнал, который, невзирая на цензурные строгости, ратовал бы за освобождение крестьян, за разрушение феодально-буржуазного строя.
В конце 1846 года Некрасов при поддержке друзей взял в аренду вместе с писателем Иваном Панаевым журнал «Современник», основанный Пушкиным. В «Современник» перешел из другого журнала Белинский со всеми своими приверженцами — молодыми передовыми писателями. Таким образом, в журнале Некрасова сосредоточились лучшие литературные силы, объединенные ненавистью к «проклятой рассейской действительности».
В «Современнике» первых двух лет были напечатаны «Кто виноват?», «Из записок доктора Крупова», «Сорока-воровка» Герцена. «Обыкновенная история» Гончарова, многие из тургеневских «Записок охотника», «Антон Горемыка» Григоровича, «Тройка», «Нравственный человек» Некрасова, стихи Огарева, статьи Белинского и другие произведения, заключавшие в себе резкий протест против тогдашнего строя.
Но в начале 1848 года, когда правительство Николая I, испуганное крестьянскими восстаниями и революцией во Франции, приняло крутые полицейские меры для борьбы с прогрессивными идеями, издание передового журнала стало делом почти невозможным. Наступила эпоха цензурного террора. По распоряжению царя был учрежден негласный комитет, контролировавший действия цензуры. «Темная, семилетняя ночь пала на Россию», — писал Герцен. Случалось, что больше половины рассказов, статей и романов, предназначенных для помещения в «Современнике», погибало под красными чернилами цензора. Нужно было спешить добывать новые статьи, которым зачастую грозила та же плачевная участь. Только такой необыкновенный работник, как Некрасов, мог столько лет нести это бремя. Когда «Современнику» пришлось особенно туго, поэт принялся вместе с А. Я. Панаевой, ставшей к тому времени его гражданской женой, за писание огромного романа «Три страны света» (1848–1849), над которым трудился по ночам, так как днем был занят журнальными хлопотами. Хотя этот роман был написан исключительно для того, чтобы заполнить опустошенный цензурой журнал и дать подписчикам непритязательное чтиво, к которому правительство не могло бы придраться, Некрасову и здесь удалось, правда на немногих страницах, выразить протест против гиблого строя и прославить духовную мощь русского крестьянина. «Ни в ком, кроме русского крестьянина, — писал он в восьмой части этого романа, цитируя записки своего героя Каютина. — не встречал я такой удали, такой отважности, при совершенном отсутствии хвастовства (заметьте, черта важная!), и, опять повторяю, такой удивительной насмешливости… Я много люблю русского крестьянина, потому что хорошо его знаю…». В дальнейших строках поэт утверждает, что всякий «в столкновении с народом увидит, что много жизни, здоровых и свежих сил в нашем милом и дорогом отечестве…».
Роман этот стоил Некрасову большого труда. «Я, бывало, запрусь, засвечу огни и пишу, пишу, — вспоминал он потом. — Мне случалось писать без отдыху более суток. Времени не замечаешь, никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой и опять за то же».
Поразительно, как не надорвался он от такой тяжелой работы. У него заболели глаза, его каждый день трясла лихорадка. Чтобы составить одну только книжку журнала, он читал около двенадцати тысяч страниц разных рукописей, правил до шестидесяти печатных листов корректуры (то есть девятьсот шестьдесят страниц), из которых половину уничтожала цензура, писал множество писем сотрудникам, книгопродавцам, цензорам и порою сам удивлялся, что «паралич не хватил его правую руку».
Редактором он был превосходным. Журналов, подобных его «Современнику», до той поры не бывало в России. Достаточно сказать, что в качестве редактора Некрасов первый открыл дарования таких начинавших в разное время писателей, как Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Григорович и другие.
Некрасов стоял во главе «Современника» двадцать лет (1847–1866), и если бы он не написал ни одного стихотворения, он и тогда заслужил бы благодарную память потомства как величайший журналист своей эпохи.
Принимаясь за издание «Современника», Некрасов надеялся, что в этом журнале Белинский будет играть руководящую роль. Но Белинский был тяжко болен и через полтора года скончался. То была незаменимая потеря. «Современник» осиротел. Не было в тогдашней России другого писателя, который мог бы стать таким же «властителем дум» своего поколения, каким был Белинский.
Под гнетом изуверской цензуры «мрачного семилетия» журнал был вынужден временно затушевать и ослабить свои боевые тенденции. Некрасов, верный заветам Белинского, продолжал писать «гражданские» стихи («На улице», «Вино», «Вчерашний день, часу в шестом…» и другие), но они оставались в рукописи, и он даже не пытался посылать их в цензуру, так как знал наверное, что цензура запретит их. На первое место в «Современнике» выдвинулись такие сотрудники, как Дружинин, Анненков, Боткин, далекие от демократических масс, тяготевшие к «чистому искусству». Они не понимали и не ценили Некрасова. Он чувствовал себя среди них одиноким.
Так продолжалось до 1855 года, когда поражение царского правительства в Крымской войне обнаружило слабость кнутобойной монархии и несокрушимую мощь трудового народа. Крестьянские восстания умножились и приобрели небывалый размах. Николай I, к общему облегчению, скончался. Новое правительство с воцарением Александра II сочло себя вынужденным пойти на уступки. Громко заговорили о близком освобождении крестьян. Некрасовский «Современник» воспрянул. В стране стала явственно намечаться революционная ситуация.
Грозовая эпоха выдвинула двух великих писателей, вождей революционной демократии — Чернышевского и Добролюбова, учеников и продолжателей дела Белинского.
Некрасов угадал их дарования по первым же их статьям и предоставил им в своем «Современнике» руководящую роль.
С самого начала совместной литературной работы он дружески сблизился с ними и, вдохновляемый общественным подъемом, создал свои лучшие произведения. Начиная с 1855 года наступил расцвет его творчества. Он закончил поэму «Саша», поразившую читателей и яркостью живописи, и могучей лирической силой, и жгучим, злободневным сюжетом: поэма была направлена против так называемых «лишних людей», то есть либеральных дворян, выражавших свои чувства к народу не делами, а громкими фразами. Тогда же Некрасовым написаны такие стихи, как «Забытая деревня», «Школьник», «В больнице», «Тяжелый крест достался ей на долю…», «Поэт и гражданин», впервые раскрывшие перед читателями весь широкий диапазон его творчества. Он стал любимейшим поэтом демократической интеллигенции, которая именно в то «благодатное время» сделалась влиятельной общественной силой в стране.
Еще в начале пятидесятых годов Некрасов тяжело заболел. Болезнь поразила ею горло, он лишился голоса, сильно исхудал и стал кашлять. Ему казалось, что его дни сочтены.
Дожигай последние остатки Жизни, брошенной в огонь! —писал он в то время одному из друзей. Его страдания выразились в стихотворениях «Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Тяжелый год — сломил меня недуг…», «Замолкни, Муза мести и печали!..» и другие. В 1856 году он уехал лечиться в Рим, передав «Современник» в руки Чернышевского. То была его первая поездка за границу. На душе у него было так тяжело, что он чуть не бросился в море.
Понемногу силы его восстановились, он с новой страстью вернулся к труду, и в тридцать девять дней, не отходя от стола, создал поэму «Несчастные». Композиция «Несчастных» сложна и трудна: в сущности, вся поэма, за исключением немногих страниц, являет собой прихотливое чередование картин, стремительно бегущих одна за другой, и только такой силач, как Некрасов, мог привести эти картины к единству могучим дыханием своей темпераментной лирики. В широкую раму поэмы вместилась от края до края вся тогдашняя Русь, в ее наиболее типичных аспектах, и хотя Некрасов не скрывает, что страна в современный ему период истории «черна, куда ни погляди», но тут же всеми задушевными и светлыми образами поэмы внушает читателю, что неисчерпаемы силы, которые таятся в народе, и что — дай только срок! — эти силы преобразят и осчастливят Россию.
Когда Некрасов с таким увлечением работал в Риме над поэмой «Несчастные», в Москве вышло первое собрание его стихов («Стихотворения Н. Некрасова», 1856). Книга имела грандиозный успех — такой же, как в свое время «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Все издание было раскуплено в несколько дней, и, так как спрос на книгу продолжал возрастать, вскоре появились ее рукописные копии, продававшиеся за удесятеренную цену. Книга вызвала большое возмущение в придворных и бюрократических кругах. Царский министр Норов, испугавшись ее популярности, запретил переиздавать ее вновь и предписал газетам и журналам не печатать о ней хвалебных рецензий. Особенно раздражено было правительство стихотворением «Поэт и гражданин», которое Чернышевский перепечатал из книги Некрасова на страницах «Современника». Над журналом нависла цензурная буря. Говорили, что Некрасову по возвращении в Россию угрожает заключение в Петропавловской крепости. Все это взволновало больного поэта, но он мужественно писал в Петербург П. В. Анненкову: «Хоть бы эти размеры <грозившего ему наказания> и точно были велики — я не ребенок; я знал, что делал»[11], и Тургеневу через несколько дней: «Мы видывали цензурные бури и пострашней — при <Николае 1>, да пережили»[12].
Причины успеха его книги понятны. К тому времени в русском обществе выдвинулись и заняли передовые позиции «новые люди»: разночинцы, демократы, страстно ненавидевшие дворянскую, помещичью Русь. Некрасов, единственный из русских поэтов, говорил о том, что было близко душе бедняка: о сырых подвалах, о тяготах подневольной работы, о ненависти к богачам-угнетателям, — и говорил таким языком, каким не говорили другие поэты, пусть и демократически «грубым», но родным этой новой читательской массе.
4
Приближалась эпоха шестидесятых годов. Еще за несколько лет до нее Некрасов окончательно пришел к убеждению, что у закабаленных крестьян, кроме таких явных, открытых врагов, как жандармы, царские чиновники, крепостники, кулаки, есть еще тайные враги, пожалуй, наиболее вредные: либералы дворянской формации, лицемерно объявляющие себя друзьями народа.
Некрасов был уверен, что путь частичных, половинчатых реформ, так называемый «мирный прогресс», который прославляют либералы, не только не принесет крестьянам никаких облегчений, но, напротив, сделает их рабство еще более тяжелым. Поэту было ясно, что, как бы громко ни кричали либералы о своих благожелательных чувствах к народу, их народолюбие — маска, под которой они скрывают свои корыстные интересы и цели. Резко отмежевавшись от представителей либерального лагеря, поэт стал разоблачать реакционный характер их деятельности, ибо хорошо сознавал, что спасение народа — в революции. Отсюда многочисленные сатиры поэта, клеймящие «народолюбцев» либерального лагеря, этих
Самодовольных болтунов. Охотников до споров модных, Где много благородных слов, А дел не видно благородных.К концу пятидесятых годов «Современник» поставил в центре своей политической программы борьбу с либералами. Борьба велась разнообразным оружием. Чернышевский громил их главным образом в своей публицистике, Добролюбов — в критических статьях, Некрасов — в поэмах, сатирах, эпиграммах, пародиях. В знаменитом диалоге «Поэт и гражданин» он ставил либеральных «мудрецов» на одну доску со «стяжателями и ворами»:
Одни — стяжатели и воры, Другие — сладкие певцы, А третьи… третьи — мудрецы: Их назначенье — разговоры, —разговоры, в которых сказывается «презренная логика» этих людей, пытавшихся высокими словами о благе народа затушевать свою постыдную трусость[13].
Борьбы с либералами Некрасов не прекращал до конца своей жизни. Либерал сороковых годов, по утверждению поэта, был еще «честен мыслью, сердцем чист», но не таков он стал в более поздний период. С омерзением изображает Некрасов либерала шестидесятых годов, этого «салонного якобинца», который только и делал, что выступал в великосветских гостиных и «говорил, говорил, говорил» о своих мнимых демократических чувствах:
Сам себе с наслажденьем внимая, Формируя парламентский слог, Всем недугам родимого края Подводил он жестокий итог; Человеком идей прогрессивных Не без цели стараясь прослыть, Убеждал старикашек наивных Встрепенуться и Русь полюбить! Все отдать для отчизны священной, Умереть, если так суждено!.. Ты не пой, соловей современный, Эту песню мы знаем давно!Характерно, что в одном из черновых вариантов «салонный якобинец» именуется так: «Прогрессист, Чернышевский салонный» — то есть указывается, как далеко заходили эти лицемерные хищники в маскировке своих аппетитов.
Весь реакционный смысл либеральных речей раскрылся Некрасову в шестидесятых годах, когда в связи с реформами Александра II мелкое обличительство мелких общественных зол стало считаться в среде либералов великим гражданским подвигом. Пресловутая крестьянская реформа 1861 года привела либералов в восторг. Эту реформу они прославляли как великодушное благодеяние царя, якобы дарующего крестьянам свободу. Либеральные стихотворцы один за другим восклицали в либеральных журналах:
Пойдем, свободы луч блеснул с родных небес… И стала наша Русь страной людей свободных.Но Некрасов, как и Чернышевский и другие революционные демократы, хорошо понимал, что эта «свобода» есть, в сущности, новая кабала для крестьян, и в противовес всем восторгам либерального лагеря написал в том же 1861 году:
Мать-отчизна! дойду до могилы, Не дождавшись свободы твоей! —подлинной свободы, которую завоюет народ, когда восстанет против своих угнетателей. А об этой ложной «свободе», так громко восхвалявшейся в либеральных кругах, Некрасов настойчиво спрашивал:
Народ освобожден, но счастлив ли народ? —и в его вопросе уже заключался ответ, который в другом, позднейшем его стихотворении сформулирован еще более отчетливо:
В жизни крестьянина, ныне свободного, Бедность, невежество, мрак.Сделав «Современник» боевым органом революционной демократии, Некрасов привлек к нему молодых демократических писателей: Слепцова, Николая и Глеба Успенских, Помяловского. Решетникова, Елисеева, Антоновича и многих других. Писатели-дворяне, бывшие до той поры его сотрудниками, демонстративно ушли из журнала и сделались врагами поэта.
Порвать с этими писателями Некрасову было не так-то легко. Еще со времен Белинского он сблизился с ними за общей журнальной работой. С некоторыми из них его связывала давняя дружба. Тем больше чести ему, что служение народу он поставил выше своих личных привязанностей. Впрочем, бывали такие периоды, когда этот великий борец за революционное освобождение народа временно начинал тяготеть к либеральным воззрениям своих бывших друзей, и тогда, по его собственным словам, «у лиры звук неверный исторгала» его рука. По поводу подобных редких уступок Некрасова либеральным идеям Ленин в одной из своих статей указал, что хотя Некрасов порой колебался между Чернышевским и либералами, «но все симпатии его были на стороне Чернышевского»[14].
Влияние «Современника» росло с каждым годом, но вскоре над журналом разразилась гроза.
В 1861 году умер Добролюбов, изнуренный непосильным трудом в тяжелых условиях цензурного гнета. Летом 1862 года был арестован и после заключения в крепости сослан в Сибирь Чернышевский. «Современник» остался без главных сотрудников и был приостановлен властями на несколько месяцев. Правительство, вступившее на путь мстительной расправы с «нигилистами» (так назывались тогда носители революционных идей), решило уничтожить ненавистный журнал.
Чтобы спасти «Современник», Некрасов решился на отчаянный шаг. Он выступил со стихами на официальном обеде в честь диктатора Муравьева Вешателя, от которого в значительной мере зависела судьба «Современника». Но этот поступок оказался напрасным: по приказу Александра II журнал был прекращен навсегда (1866 год).
Долго существовать без журнальной трибуны Некрасов не мог. Не прошло и двух лет, как он взял в аренду журнал «Отечественные записки» и пригласил в качестве одного из соредакторов М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«Отечественные записки» под руководством Некрасова стали таким же боевым журналом, как и «Современник»; они следовали революционным заветам Чернышевского, в них впервые проявился во всей своей мощи сатирический гений Салтыкова.
Цензура жестоко преследовала «Отечественные записки», и Некрасову (вместе с Салтыковым) приходилось вести с ней такую же упорную борьбу, как и во времена «Современника».
5
Журнальная работа утомляла поэта, и он бывал поистине счастлив, когда ему удавалось вырваться из душного города куда-нибудь в деревенскую глушь. В деревне, среди крестьян, он чувствовал себя легко и привольно и забывал городские тревоги, особенно если при этом ему случалось хорошо поохотиться. Охота с детства была его любимейшим отдыхом. Захватив собаку и ружье, он на несколько дней уходил с кем-нибудь из местных крестьян побродить по лесам и болотам и возвращался домой с новыми силами, освеженный и бодрый. Охота была для него лучшим средством дружеского сближения с народом. Он говорил, что в деревне охотниками обычно бывают талантливейшие из русских крестьян.
Странствуя с ружьем из деревни в деревню, Некрасов попадал на сельские ярмарки, на крестьянские праздники, на сходы, на свадьбы, на похороны, знакомился с множеством деревенских людей, наблюдал их нравы и обычаи и жадно вслушивался в их непринужденные речи. С каждым годом он, если так можно выразиться, все больше и больше влюблялся в народ.
Эта любовь нашла наиболее яркое выражение в стихах, которые были написаны им летом 1861 года в деревне Грешнево, где он провел несколько месяцев в близком общении с крестьянами. Большинство этих крестьян он знал с детства. Они были товарищами его мальчишеских игр и потому каждое лето, когда он поселялся в деревне, встречали его как приятеля. Едва он въезжал за околицу Грешнева, он говорил ямщику:
Останови же лошадок! Видишь: из каждых ворот Спешно идет обыватель. Все-то знакомый народ, Что ни мужик, то приятель.Летние месяцы 1861 года, проведенные Некрасовым в Грешневе, можно приравнять к болдинской осени Пушкина: необычайный прилив творческих сил, могучая власть над своим вдохновением, которое уже не взрывается мгновенными вспышками, как это бывало с Некрасовым раньше, а горит ровным негаснущим пламенем изо дня в день, из недели в неделю. Самое количество стихов, созданных им в «грешиевское лето», свидетельствует о небывалом взлете его дарования. Сохранилась большая тетрадь, которую он вывез из Грешнева в 1861 году. Вся она исписана стихами, посвященными деревенской тематике, — лучшими стихами Некрасова. Здесь раньше всего самобытная, до сих пор сохранившая всю свою первозданную свежесть поэма «Крестьянские дети», в каждом слове которой чувствуется веселая и даже немного озорная улыбка. В мировой литературе едва ли существует другое стихотворение, где с таким благодушным сочувственным юмором воссоздавалось бы «обаяние поэзии детства», Повествуя о Савосях, Кузяхах, Корнеях и Глашках, поэт как бы сам приобщается к их ясному, гармоническому восприятию природы и жизни.
Правда, он здесь же разрушает гармонию напоминанием о том, что любому из этих детей «никто не мешает» погибнуть в любую минуту, что их жизнь находится под вечной угрозой со стороны душегубного строя, но эта скорбная мысль не окрашивает собой всей поэмы; ей отведено всего несколько строк.
Основная же тональность «Крестьянских детей» определяется той гениальной идиллией, которая органически входит в их текст и с давнего времени носит во всех хрестоматиях название «Мужичок с ноготок». Здесь вершина некрасовского мастерства. Читая этот короткий отрывок — всего двадцать стихов, — не знаешь, чему больше удивляться: лаконизму ли поэтической речи, благодаря чему каждое слово воспроизводимого здесь диалога насыщено таким огромным содержанием; мудрой ли простоте языка, делающей эти стихи доступными детским умам; или подспудной, но явственно ощутимой лиричности, которая проникает собою весь этот небольшой эпизод и придает повествованию о нем обобщенный характер восторженной песни о русском народе, у которого «привычка к труду благородная» начинается уже с шестилетнего возраста.
Этот мальчишка не «идет», не «бредет», не «шагает», но «шествует». «Шествует» — торжественное слово, никогда не применявшееся к походке детей. Так говорили обычно о какой-нибудь важной, напыщенной, помпезной особе. Одним этим словом Некрасов дает нам понять, как уважает себя «мужичок с ноготок» за то, что ему поручили такое серьезное дело. Потому-то и сказано о нем, что он ведет свою лошадь «в спокойствии чинном», то есть не суетится, не егозит, не подпрыгивает, как поступал бы при других обстоятельствах, а во всем подражает бородатым, степенным крестьянам, уважающим себя и свой труд. Когда незнакомый прохожий называет его с усмешкой «парнище», это наименование оскорбляет «мужичка с ноготок», так как оно подчеркивает, что он мал и годами и ростом. Поэтому он надменно отвечает обидчику: «Ступай себе мимо». А когда прохожий, желая во что бы то ни стало продолжить беседу, задает ему никчемный вопрос: «Откуда дровишки?» — он отвечает ему: «Из лесу, вестимо», и в этом «вестимо» слышится упрек вопрошающему: зачем же спрашивать о том, что и без разговоров понятно. Так уважает себя этот малолетний крестьянин, так великолепно умеет он постоять за себя и дать суровый отпор всякому, кто вздумает обидеть его.
Вековое рабство не растлило народа; чувство свободы и чести сохранилось даже в малолетних его представителях:
В рабстве спасенное Сердце свободное — Золото, золото Сердце народное!В следующем некрасовском стихотворении, «Похороны», написанном в том же Грешневе и тоже посвященном деревенской тематике, поэт уже не довольствуется изображением крестьян, хотя бы самым нежным и сочувственным, — он решается заговорить от их лица, воспроизвести в поэзии их подлинный голос:
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село, Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело.Правда, он воспроизводил этот голос и раньше, хотя бы, например, в «Огороднике», но то была нарядная стилизация на основе фольклора, здесь же полное овладение стилем будничных, обыденных, ничем не приукрашенных, отнюдь не фольклорных крестьянских речей. Ближайшие же годы показали, что здесь было великое завоевание Некрасова. С этого времени он начал писать о народе не только для интеллигентных читателей, но и для самого народа, начал обращаться к народу на его языке. Первым произведением такого подлинно народного стиля были «Коробейники», созданные им тогда же, в «грешневское лето» 1861 года. Это — одно из совершеннейших творений Некрасова, где новаторская самобытность и смелость поэта сказались наиболее явственно. Самый ритм «Коробейников», хотя и внушенный народными песнями, но вполне оригинальный, «некрасовский», является находкой поэта, ибо не имеет никаких прецедентов во всей предшествующей русской словесности. Этот бойкий и задорный хорей в сочетании с протяжными дактилями (в рифмах нечетных стихов) впервые прозвучал в «Коробейниках». Не только идея поэмы, но самое ее звучание оказалось так близко народу, что некоторые ее строфы тогда же вошли в живой народный обиход и стали народной песней, которая в бесчисленных песенниках получила наименование «Коробочка».
Дактические рифмы, придающие звучанию поэмы такой глубоко национальный характер, вообще изобилуют в русских народных песнях. Эти рифмы труднее других, так как они требуют созвучия всех трех слогов, завершающих нечетные строки. В изобретении этих рифм Некрасов обнаружил искусство, до сих пор никем не превзойденное. Он распоряжается этими рифмами так непринужденно, легко и свободно, они так естественно входят в самую фактуру стиха, нигде не нарушая его идеально простого и четкого синтаксиса, что эта изощренная работа над словом остается для читателя почти незаметной: нигде не чувствуется ни малейшей натуги. Вообще «Коробейники» являются лучшим опровержением клеветнической выдумки реакционных эстетов, будто рифмы у Некрасова «бесцветны и бедны». Здесь, в «Коробейниках», рифмы кажутся даже слишком затейливыми («дома я» — «знакомое»; «скоро бы» — «коробы»; «понамотано» — «бьет оно»), и, если бы поэт не подчинял их могучей динамике ритма, они выделялись бы из текста своей чрезмерной изысканностью.
«Мастерство такое, что не видать мастерства» — эти слова Льва Толстого, сказанные по другому поводу, вполне применимы к поэме Некрасова. Мастерства не видно оттого, что оно заслоняется от сознания читателей и увлекательным, эмоциональным сюжетом, и яркой образностью крестьянских речей, и реалистической, жизненной правдой развернутых в поэме ситуаций, и, главное, глубокой народностью заключающихся в ней мыслей и чувств. В то время нередко считались народными такие повести, рассказы и стихи, в которых более или менее верно передавалась крестьянская речь да фотографически точно описывались различные детали крестьянского быта. Некрасов в своей поэме не ограничивается этими внешними деталями: народность его «Коробейников» раньше всего заключается в том, что здесь с изумительной поэтической силой воспроизведено самое миросозерцание народа, подлинно народное восприятие вещей и явлений, словно эту поэму написали сами крестьяне. Все изображенные в ней эпизоды, предметы и лица представлены здесь в таком виде, в каком они должны представляться Ваньке, Катерине и Тихонычу. Конечно, в характере этих людей есть немало отрицательных черт, объясняемых их темнотой, но в основном они человечны, талантливы, полны бодрого, житейского юмора, помогающего им нести свои тяготы, и отличаются несокрушимым душевным здоровьем.
Этим душевным здоровьем так и пышет героиня поэмы Катерина, деревенская «девка». Она первая в ряду тех «славянок», которых Некрасов возвеличил в позднейших стихах: младшая сестра величавой красавицы Дарьи, воспетой в поэме «Мороз, Красный нос», и Матрены Корчагиной, страдальческая биография которой дана в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Нравственная сила Катерины заключается в том, что она видит все свое право на жизнь в труде. Труд — норма ее бытия. Трудом определяется вся ее личность. Даже в пору своей первой влюбленности, когда она, как пожаром, охвачена страстью к «сердечному дружку», коробейнику Ваньке, она ни на миг не изменяет своему трудовому призванию: истерзанная ревностью, измученная страхом, что Ванька покинул ее, она все же не расстается ни с косой, ни с серпом:
Как ни часто приходилося Молодице невтерпеж, Под косой трава валилася, Под серпом горела рожь.И любовь этой труженицы раньше всего выражается в великодушной готовности облегчить своему будущему мужу его нелегкую жизнь, быть его помощницей и другом:
Ты не нудь себя работою, Силы мне не занимать, Я за милого с охотою Буду пашенку пахать. Ты живи себе гуляючи За работницей женой, По базарам разъезжаючи, Веселися, песни пой!Ванька отвечает Катерине взаимностью, но чувство реализма заставляет поэта указать, что, по неписаному уставу тогдашней деревни, молодой коробейник в своих отношениях к этой беззащитной и самоотверженно-преданной девушке считает нужным иногда напустить на себя развязную грубоватость, заносчивость:
То-то дуры вы, молодочки! Не сама ли принесла Полуштофик сладкой водочки? А подарков не взяла!Но все это говорится для форсу, для поддержания мнимого «мужского достоинства», на самом же деле:
Опорожнится коробушка, На покров домой приду И тебя, душа-зазнобушка, В божью церковь поведу!Не нужно забывать, что коробейники, изображенные здесь, еще не порвали своих связей с деревней. И Ванька и Тихоныч — типичные «пахари», уходящие из дому на временный промысел. Недаром в одном месте поэмы Некрасов называет их «мужичками». И мировоззрение у них типично крестьянское. Окрашивая этим крестьянским мировоззрением свою стихотворную повесть, Некрасов постоянно подчеркивает, сколько накипело в них злобы к угнетающему их жестокому строю. О причинах севастопольской кампании Тихоныч, например, отзывается так:
Царь дурит — народу горюшко! Точит русскую казну, Красит кровью Черно морюшко, Корабли валит ко дну.Как и все трудовое крестьянство, они от души ненавидят кровопийц-кулаков:
Ты попомни целовальника. Что сказал — подлец седой! «Выше нет меня начальника, Весь народ — работник мой!»Та же ярая ненависть чувствуется в повествовании Тихоныча о волоките и кривде, господствовавших в тогдашнем суде: из-за ошибки бездушных чиновников некий Титушка, ни в чем не повинный, был брошен в тюрьму и томился в ней около двенадцати лет; когда же вышел наконец «на свободу», оказалось, что он дочиста обокраден, что у него нет ни семьи, ни жилья, и он запел свою страшную песню о доведенной до крайнего разорения России:
Я лугами иду — ветер свищет в лугах: Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименькой, холодно! Я лесами иду — звери воют в лесах: Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименькой, голодно!Словарь этой песни скуден: вся она состоит из бесчисленных повторений одних и тех же интонаций и слов, одного и того же мотива, и потребовалась гениальность Некрасова, чтобы из такой скудости создать бессмертную песню, потрясающую своей лирической силой.
В той же грешневской тетради есть еще одно крестьянское стихотворение Некрасова, озаглавленное «По дороге зимой». Это не что иное, как начало поэмы «Мороз, Красный нос», которую, оказывается, Некрасов начал писать в то самое лето 1861 года, когда были написаны им «Коробейники» и «Крестьянские дети». Так как то был год так называемого «раскрепощения» крестьян, крестьянство, естественно, привлекало к себе внимание всей русской общественности; о крестьянстве печатались сотни рассказов, стихотворений, трактатов, брошюр и статей, но все это в огромном своем большинстве давно уже покрылось архивною пылью, а поэма Некрасова «Мороз, Красный нос» все так же жива и свежа, как в первый день своего появления в печати, словно с тех пор не прошло больше ста лет.
Эта величавая поэма — самое зрелое произведение Некрасова. В ней — классическая стройность, соразмерность деталей, классическая строгость композиции. Ее повествовательный стиль постоянно стремится к песенному. По глубокому проникновению в жизнь крестьян она едва ли не превосходит все, что было сказано в поэзии о русской деревне. И, главное, всеми своими образами она говорит не то, что думают о народе другие, а то, что думает о себе сам народ. Вся она словно продиктована поэту народом. Каждое явление окружающей жизни представлено здесь именно таким, каким его чувствует и понимает народ. Здесь полное слияние художника с народными массами. Особенно рельефно это слияние выразилось в том «внутреннем монологе», который произносит героиня поэмы, когда бежит поздней ночью сквозь лесную чащу по безлюдной тропе, чтобы спасти своего гибнущего мужа. Поэт буквально преобразился в нее и на нескольких страницах поэмы (начиная с XIX главы по XXIV) говорит от ее лица и живет ее жизнью, такой одухотворенной, поэтичной и трогательной:
Я ли о нем не старалась? Я ли жалела чего? Я ему молвить боялась, Как я любила его! ………………… Едет он, зябнет… а я-то, печальная, Из волокнистого льну, Словно дорога его чужедальная, Долгую — нитку тяну.Выразительность этих лирических строф чрезвычайно усиливается благодаря причудливому многообразию ритмики, которая чуть не на каждой странице меняется здесь по нескольку раз в зависимости от душевного состояния женщины. Эта живая изменчивость ритмики — непревзойденное явление даже в поэзии Некрасова. Четырехстопные, трехстопные, двустопные дактили легко и свободно переливаются здесь из одной вариации в другую — в строгом соответствии с движением лирической темы…
Закончив это стихотворение, Некрасов стал исподволь готовиться к новому литературному подвигу — к созданию всеобъемлющей, монументальной поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Он начал писать ее на сорок втором году жизни, в пору полного расцвета своего дарования.
Героем этой поэмы он избрал не какого-нибудь одного человека, а опять-таки весь русский народ, все многомиллионное «мужицкое царство», «кряжистую Корежину», «сермяжную Русь». Поэмы с таким широким охватом всех социальных слоев России еще не бывало в литературе.
С первого взгляда народная жизнь, изображенная в этой поэме, представляется очень печальной. Уже самые названия деревень — Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож — говорят о безрадостном существовании их жителей. И хотя одна из глав поэмы изображает деревенских счастливцев и даже носит название «Счастливые», но на самом-то деле, как выясняется из ее содержания, эти «счастливые» глубоко несчастны: замученные нуждою, больные, голодные люди. И сколько человеческих страданий в той части поэмы, где изображается жизнь крестьянки Матрены!
Нет косточки неломаной, Нет жилочки нетянутой, —говорит эта крестьянка о себе. Вообще, когда читаешь первые главы поэмы, кажется, что на вопрос, поставленный в ее заголовке: «Кому на Руси жить хорошо?» — можно дать единственный ответ: каждому живется очень плохо, особенно же «освобожденным» крестьянам, о счастье которых Некрасов в той же поэме писал:
Эй, счастие мужицкое! Дырявое с заплатами, Горбатое с мозолями, Проваливай домой!Некрасов начал поэму в 1863 году, вскоре после «освобождения» крестьян. Он очень хорошо понимал, что, в сущности, никакого освобождения не было, что крестьяне по-прежнему остались под ярмом у помещиков и что, кроме того,
…на место сетей крепостных Люди придумали много иных.Всеми своими образами поэма свидетельствовала, что в обнищавшей деревне назревает бурный протест, который рано или поздно приведет ее к революционному взрыву. Особенно рельефно выразилась эта тема в главе «Крестьянка» (1873), где поэт изображает Савелия, «богатыря святорусского», человека огромных душевных и физических сил, могучего представителя тех слоев трудового крестьянства, которые уже не желали мириться с помещичьим гнетом; мстя за обиды, нанесенные его односельчанам, он вместе с ними закапывает в землю ненавистного управителя Фогеля, и ни розги, ни сибирская каторга не могут смирить его гнев. В одном из первоначальных набросков к поэме Савелий вспоминает о том, как, находясь на поселении в Сибири, он расправлялся с жестоким начальством:
А двери-то каменьями, Корнями, всякой всячиной Снаружи заложу, Кругом избы валежнику Понавалю дубового, Зажгу со всех сторон. Горите все, проклятые! Не выскочишь, не выбежишь! Кричи, не докричишь!Создавая образ народного мстителя, Некрасов указывал читателю семидесятых годов, что в народе уже накопляются силы для борьбы за раскрепощение трудящихся масс.
Савелий не единственный богатырь на Руси. Он знает, что таких богатырей миллионы — все «мужицкое царство», «вся сермяжная Русь»:
Ты думаешь, Матренушка, Мужик — не богатырь?.. …Цепями руки кручены, Железом ноги кованы, Спина… леса дремучие Прошли по ней — сломалися… …И гнется, да не ломится, Не ломится, не валится.. Уж ли не богатырь?Рядом с Савелием в поэме встают такие же величавые образы русских крестьян: Якима Нагого — вдохновенного защитника чести трудового народа, Ермила Гирина — деревенского праведника, проникнутого чувством социальной ответственности, и Матрены Корчагиной, сумевшей отстоять свое человеческое достоинство в условиях разнузданного произвола и рабства. Появление в народной массе таких нравственно сильных людей служило для поэта порукой будущей победы народа. Отсюда оптимизм поэмы:
Сила народная, Сила могучая — Совесть спокойная, Правда живучая!Сознание этой нравственной «силы народной», предвещавшей верную победу народа, и было источником того бодрого чувства, которое слышится даже в ритмах поэмы Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» писалась в течение нескольких лет, но в начале семидесятых годов Некрасова отвлекла от нее другая великая тема — декабристы.
До той поры в русской подцензурной печати о декабристском восстании не появлялось ни единого слова, за исключением лживых и клеветнических официозных отчетов. Но в 1870 году цензурный запрет был немного ослаблен, и Некрасов воспользовался первой возможностью, чтобы напомнить молодым поколениям о зачинателях революционной борьбы.
В поэме «Дедушка» он изобразил старика декабриста, который в маленьком внуке видит своего боевого наследника и завещает ему свою ненависть к народным врагам. Декабристы были духовными отцами Белинского, Герцена, Огарева, Чернышевского и множества безымянных героев, ушедших в сибирскую каторгу. Некрасов видел прямую преемственность между старыми борцами и новыми. Он хотел, чтобы подвиги декабристов вдохновляли на такие же подвиги революционную молодежь его времени.
Образы жен декабристов — особенно Трубецкой и Волконской — так волновали Некрасова, что, слушая, например, чтение записок Волконской, он, пожилой человек, плакал навзрыд, как ребенок. В 1871–1872 годах он написал об этих героинях поэму «Русские женщины». Ни в одном своем произведении не отразил он с такой прямотой клокочущую ненависть к самодержавному строю, к царю Николаю и его бессердечным приспешникам. Словно забыв, что в России существует цензура, он называл в этих стихах Николая «мстительным трусом», «мучителем», «палачом свободных и святых». В поэме было столько проклятий народным врагам, в ней чувствовалось столько благоговейной любви к декабристам, что в подлинном своем виде она могла появиться только после Октябрьской революции, а до той поры почти полстолетия печаталась с большими искажениями, с пропусками многих стихов. Но и в таком исковерканном виде она имела небывалый успех, и ее идейное влияние было огромно, особенно на передовую молодежь.
В первой части поэмы под видом сонного видения своей героини поэт изобразил восстание на Сенатской площади; то были первые стихи в подцензурной печати, трактующие эту запретную тему.
А поэма «Кому на Руси жить хорошо» так и оставалась незаконченной. В 1876 году, когда Некрасов снова вернулся к своей эпопее, у него уже не было сил, чтобы закончить ее. Он тяжело заболел. Врачи отправили его в Ялту, на берег моря. Но ему с каждым днем становилось все хуже. Некрасов знал, что болезнь смертельна, и потому трудился с неутомимым упорством. «Ведь каждый день может оказаться последним», — говорил он окружающим.
Новая часть поэмы была названа им «Пир — на весь мир». Ему хотелось во что бы то ни стало закончить ее, потому что он видел в ней свое завещание, свое последнее напутственное слово молодым революционным борцам. Середина семидесятых годов, когда писалась поэма, характеризуется новым подъемом освободительного движения в России. «Главным, массовым деятелем» этого движения был, по словам В. И. Ленина, разночинец[15]. В поэме этот «главный, массовый деятель» представлен семинаристом Григорием Добросклоновым, которому Некрасов придал многие черты Добролюбова. Будущее Добросклонова, по словам Некрасова, трагично:
Ему судьба готовила Путь славный, имя громкое Народного заступника, Чахотку и Сибирь.Но хотя ему угрожает сибирская каторга и ранняя смерть, он единственный истинный счастливец в поэме. Здесь-то и заключается настоящий ответ на поставленный Некрасовым вопрос о возможности счастья в тогдашней России: истинно счастливыми Некрасов считал тех самоотверженных борцов за народное благо, которые, подобно Добросклонову, видят в служении народу единственную цель своей жизни:
Слышал он в груди своей силы необъятные, Услаждали слух его звуки благодатные, Звуки лучезарные гимна благородного — Пел он воплощение счастия народного!..Оптимизм поэмы основан на твердой уверенности, что дело освобождения народа находится в верных руках. «Сила народная, сила могучая» — на эту могучую, «народную силу» и возлагал Некрасов все надежды. Подлинным призывом к беспощадной борьбе с насильниками звучит входящая в «Пир — на весь мир» притча «О двух великих грешниках», где говорится, что казнь тирана есть правое, священное дело.
Счастье отдельной личности — только в революционном служении народу. Таковы последние строки последней поэмы Некрасова. Мысль, высказанная в «Пире — на весь мир», была так дорога Некрасову, что он хотел возможно скорее обнародовать эти стихи. Но едва они появились в журнале, как цензура конфисковала журнал и заставила вырезать оттуда произведение Некрасова.
Для умирающего это было тяжелым ударом и увеличило его предсмертные страдания.
«Вот оно, наше ремесло литератора! — сказал он одному из докторов. — Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами; прошло с тех пор тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами»[16].
Кроме этой поэмы, Некрасов буквально на смертном одре создал целый цикл лирических стихов, где слышится та же тревога и боль о народе.
Поэт перенес мучительную операцию, которая лишь на несколько месяцев отсрочила смерть. Спать Некрасов мог только под сильным наркозом, страдания его были ужасны, и все же нечеловеческим напряжением воли он находил в себе силы слагать свои «Последние песни».
Когда читатели узнали из этих песен, что Некрасов смертельно болен, его квартира была засыпана телеграммами и письмами, где выражалась скорбь о любимом поэте.
В «Последних песнях» поэт говорил:
Скоро стану добычею тленья. Тяжело умирать, хорошо умереть; Ничьего не прошу сожаленья, Да и некому будет жалеть.Прочтя эти грустные строки (напечатанные в «Отечественных записках» в январе 1877 года), студенты нескольких высших учебных заведений Петербурга и Харькова поднесли Некрасову приветственный адрес. В адресе они говорили:
«Тяжело было читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение «Да и некому будет жалеть»… Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненавистью к его притеснителям. Из уст в уста передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья»[17].
Особенно растрогал больного прощальный привет Чернышевского, присланный из далекой Сибири в августе 1877 года. «Скажи ему, — писал Чернышевский одному литератору, — что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума»[18].
Умирающий выслушал этот привет и сказал еле слышным шепотом: «Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарил его; я теперь утешен; его слова мне дороже, чем чьи-либо слова…»[19].
Умер Некрасов 27 декабря 1877 года (по новому стилю 8 января 1878 года). Его гроб, несмотря на сильный мороз, провожало множество народа. Перед гробом несли венки: «От русских женщин», «Некрасову — студенты», «Певцу народных страданий», «Бессмертному певцу народа» и другие. По воспоминаниям Г. В. Плеханова, в процессии участвовали революционеры (землевольцы и южнорусские «бунтари»), проживавшие в столице нелегально. Они несли венок «От социалистов». Вместе с ними вокруг этого венка сомкнулись и члены рабочих революционных кружков, которых к тому времени уже было немало на петербургских заводах и фабриках. «Бунтари» и землевольцы захватили с собой револьверы, твердо вознамерившись пустить их в дело, если полиция вздумает отнять венок силой.
Над гробом поэта говорили речи Ф. М. Достоевский. В. А. Панаев и — от лица землевольцев — молодой Г. В. Плеханов, который, не стесняясь присутствием тайной и явной полиции, подчеркнул революционное значение поэзии Некрасова.
6
В своих воспоминаниях о Некрасове один из его современников, хорошо знавший его в течение десятков лет, отзывался о нем так:
«Это был человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой… человек с настоящею… русскою натурой — бесхитростный, веселый и грустный, способный увлекаться и весельем и горем до чрезмерности…»[20]
Чудесные душевные свойства Некрасова отразились в его поэзии. Ее основной источник — сочувствие угнетаемым людям:
Иди к униженным, Иди к обиженным — Там нужен ты.Эту свою заповедь Некрасов не нарушал никогда. Он называл свою музу «печальной спутницей печальных бедняков, рожденных для труда, страданий и оков». Он так и говорил о революции: «великое дело любви».
Но как бы ни были искренни и благородны убеждения Некрасова, он не мог бы воздействовать ими на многие и многие поколения русских людей, если бы был слабым, неискусным писателем, неумело владеющим поэтической формой.
В чем же заключалась великая художественная сила Некрасова?
Прежде всего в реализме, но не в том равнодушно-протокольном, фотографическом воспроизведении действительности, которое прикрывается иногда этим названием. Реализм Некрасова был лирически страстен, исполнен то яростной злобы, то порывистой нежности. В стихотворении «Элегия» поэт говорит о себе:
Народному врагу проклятия сулю, А другу у небес могущества молю.Здесь дана точная формула его реалистического отношения к миру. Изобразить или отразить современность — этого ему было мало, он жаждал преобразить, переделать ее. Его реализм был действенным. Это был реализм борца.
Обладая изумительной зоркостью к малейшим деталям окружающей жизни, он в то же время широко обобщал все свои сюжеты и образы. И его Савелий, «богатырь святорусский», и Матрена Корчагина, и Иким Нагой, и Последыш, и помещик Оболт-Оболдуев (в поэме «Кому на Руси жить хорошо»), и Агарин, и Саша (в поэме «Саша»), и Прокл, и Дарья (в поэме «Мороз, Красный нос»), и «рыцарь на час», и «филантроп» — все это не только индивидуумы, наделенные такими-то и такими-то личными качествами, но и обобщенные типы, представители той или иной категории людей. В лице Савелия и Матрены Корчагиной Некрасов дал монументальные образы, типичные для представителей дореформенного, крепостного крестьянства. В каждом из этих образов Некрасов запечатлел самую сущность данного социально-исторического явления: образы Савелия и Якима Нагого характеризуют собой пробуждение революционного протеста в забитой и темной крестьянской среде, образ Агарина — идейное банкротство дворянского либерализма сороковых годов, и т. д. Критический реализм Некрасова всегда был связан с социальной оценкой людей и событий. Вспомним хотя бы «Забытую деревню», «Размышления у парадного подъезда», «Железную дорогу».
Огромно разнообразие поэтических форм и жанров, которые были доступны Некрасову.
Одной из его наиболее излюбленных форм была форма песни. Ею Некрасов владел в совершенстве. Недаром он так часто называл свои стихотворения песнями: «Песня Еремушке», «Колыбельная песня», «Песня убогого странника». В них именно такая конструкция, такой ритмо-синтаксический строй, какие свойственны песням. Уже то, что многие стихотворения Некрасова — такие, как, например, знаменитая «Тройка», «Ой, полна, полна коробушка…» (из поэмы «Коробейники»), «Огородник», «Зеленый шум», «Катерина», «Было двенадцать разбойников…», — до сих пор поются как народные песни, свидетельствует о его мастерстве в области песенной лирики. Этим ценным даром песне-творчества обладали почти все крупнейшие поэты демократии: Шевченко, Кольцов, Никитин — в России, Беранже — во Франции, Роберт Бернс — в Шотландии. Влияние их поэзии на широкие массы в значительной мере обусловлено тем, что они были поэты-песенники. В литературе нет более могучего средства боевой пропаганды, чем песня. Недаром наши современные советские поэты Твардовский, Исаковский, Сурков и другие, в творчестве которых традиции Некрасова нашли свое дальнейшее развитие, так мастерски владеют формой песни.
Песни не единственный жанр поэзии Некрасова. Поэт был мастером стихотворных новелл, то есть фабульных, сюжетных повестей и рассказов, таких, как «Филантроп», «Секрет», «Саша», «Русские женщины», «Коробейники». Ни один из его современников не мог бы сравниться с ним в этом повествовательном жанре.
Таким же мастером был он в области глубоко интимной, хватающей за душу лирики. Вспомним хотя бы его гениальное стихотворение «Рыцарь на час», над которым рыдал Чернышевский.
И еще один жанр был доступен Некрасову: обличительная, грозная сатира, в которой ирония так часто сменяется то слезами обиды и боли, то взрывами неистовой ярости («Железная дорога», «Убогая и нарядная», «Размышления у парадного подъезда» и другие).
Так же мастерски владел он еще одним поэтическим даром: торжественной, патетической, ораторской речью. Этот жанр чрезвычайно далек от фольклора и, можно даже сказать, противоположен ему. Но диапазон некрасовской поэзии был так широк, что и в этой, казалось бы, чуждой Некрасову форме поэт создал такие шедевры декламационной, патетической речи, как «Родина», «Элегия», «Муза», «Страшный год», «Смолкли честные, доблестно павшие…» и многие другие. В этом жанре он прямой продолжатель Лермонтова, который вообще оказал сильное влияние на содержание и стиль его творчества.
Некрасов никогда не заботился о той внешней красивости, какая требовалась так называемой «чистой эстетикой». Многие формы его демократической речи нередко возмущали реакционных рецензентов и критиков, которые в журнально-газетных статьях часто называли его поэзию «вульгарной», «корявой». Они были намеренно слепы к его мастерству, к его смелой новаторской технике, к его изумительной песенной силе.
Но Некрасов умел презирать их суждения.
…мой судья — читатель-гражданин. Лишь в суд его храню слепую веру, —сказал он в поэме «Уныние», разумея под читателем-гражданином революционно настроенную, демократическую молодежь того времени.
Добролюбов писал в 1860 году от лица революционной демократии: «Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова»[21]. Из дальнейших его статей можно было понять, что этот поэт уже есть и что этот поэт — Некрасов.
В одном из своих писем Добролюбов говорил о Некрасове: «Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила»[22].
Поэзию Некрасова высоко ценил В. И. Ленин. Н. К. Крупская сообщает, что, будучи в сибирской ссылке, Владимир Ильич «перечитывал по вечерам вновь и вновь»[23] стихотворения Некрасова. Часто в статьях и речах Ленин подкреплял свои мысли некрасовскими стихами. Всякому, кто прочтет такие статьи Ленина, как «Памяти графа Гейдена» и «Еще один поход на демократию», станет ясно, что в глазах великого революционного вождя Некрасов был одним из народных заступников, разоблачителем «хищных интересов», «лицемерия и бездушия» командующих классов России. В тридцать пятую годовщину со дня смерти Некрасова газета «Правда» говорила о нем: «Если кто трудится и борется в надежде на лучшее будущее, какой бы черный и неблагодарный труд ни утомлял его к концу рабочего дня, нужен его душе и отдых, и светлый праздник мысли, и поддержка дружеского сочувствия… Пусть позовет он к себе Некрасова, пусть перечтет его страницы, полные горячей любви к человеку, — с этих страниц вольются в утомленную душу такое тепло и такая жажда иной, лучшей жизни, что захочется снова работать, снова бороться, снова отдавать свои силы черному дню настоящего во имя света завтрашнего дня…»[24]
7
Некрасов владел русской речью с непревзойденным искусством. Его словарь богат, разнообразен и гибок. В основе его речи лежит тот же общенациональный словарный фонд, какой лежит в основе всей русской литературы — от Пушкина до нашей эпохи.
Опираясь на общенациональный язык, он с большим искусством воспроизводил стилистические особенности и оттенки речи, свойственные отдельным общественным группам, существовавшим в тогдашней России. Он давал в своих стихах социальные портреты людей средствами речевой характеристики. Прочтя, например, такое двустишие:
Мы-ста тебя взбутетеним дубьем, Вместе с горластым твоим холуем! —вы сразу услышите здесь голос крестьянина. И «взбутетеним», и «дубьем», и «мы-ста», и «холуй», и «горластый» — все эти слова в совокупности рисуют портрет говорящего; вы буквально видите этого разъяренного деревенского парня, которому его социальная среда подсказала те, а не другие слова для выражения пламенной ненависти.
Так же выразительна речь дворового, прошедшего в барской усадьбе долгую школу холопства:
Отцы! руководители!.. Хранители! радетели! Вам на роду написано Блюсти крестьянство глупое, А нам работать, слушаться, Молиться за господ!С таким же совершенством Некрасов воспроизводит канцелярскую, чиновничью речь:
Частию по глупой честности, Частию по простоте, Пропадаю в неизвестности, Пресмыкаюсь в нищете… Все такие обстоятельства И в мундиришке изъян Привели его сиятельство К заключенью, что я пьян.Такие слова, как «обстоятельства», «частию», «привели к заключению», заимствованные из казенных бумаг, стилистически окрашивают у Некрасова чиновничью речь, которую поэт начал воспроизводить еще в ранних стихах, относящихся к 1840–1845 годам.
Характерна в поэзии Некрасова и речь всевозможных церковников — от попа до мелкого дьячка:
«…счастие не в пажитях, Не в дорогих камнях». — «А в чем же?» — «В благодушестве! Пределы есть владениям Господ, вельмож, царей земных, А мудрого владение — Весь вертоград Христов!..»Это типическая речь церковного служки, которая характеризуется не только такими словами, как «пажити», «вертоград», «благодушество», «земные цари» и т. д., но и своей интонацией, своим грамматическим строем.
Совсем другая окраска придана Некрасовым речи биржевиков, спекулянтов, банковских и железнодорожных дельцов.
Плод этой меры в графе дивиденда Акционеры найдут: На сорок три с половиной процента Разом понизился труд!.. —говорит один из персонажей сатиры «Современники».
В каждом из этих случаев Некрасов производил строгий отбор слов и словесных конструкций для характеристики того или иного лица, являющегося типичным представителем определенного социального слоя. Особенно пристально изучал он в течение всей своей жизни народную речь. Он знакомился с нею не только «по наслуху», во время своих скитаний по русским деревням и селениям; он пристально читал всевозможные книги, где были собраны произведения устного народного творчества: песни, причитания, загадки, поговорки, пословицы и т. д. Следы этого изучения встречаются в его поэзии нередко. Например, та часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая носит заглавие «Крестьянка», в значительной мере основана на песнях олонецкой крестьянки Ирины Федосовой, собранных в 1872 году известным ученым Е. В. Барсовым («Причитания Северного края»). Так же пристально изучались Некрасовым фольклорные сборники Даля и Рыбникова. Встречая в фольклорном тексте какое-нибудь областное слово, не входящее в общенациональную речь, Некрасов почти всегда отвергал его и заменял таким, которое было доступно для всех.
8
В центре своей поэзии Некрасов поставил крестьянина. Больше всего стихов написано им о деревне. Поэт-реалист был далек от огульного восхваления крестьян: он видел их темноту, их забитость, порожденную тысячелетней неволей, и не скрывал от себя, что в их среде есть «великие грешники» — Глебы, Калистраты, Власы. Но именно потому, что Некрасов был органически связан с народными массами, он знал, как неисчерпаемы силы народа. Оттого-то таким оптимизмом проникнуты его вещие строки о том «широком пути», к которому «рано или поздно» пробьется талантливый русский народ:
…ни работою, Ни вечною заботою, Ни игом рабства долгого, Ни кабаком самим Еще народу русскому Пределы не поставлены, Пред ним широкий путь.О тех людях, что чуждаются народа и не видят его нравственных сил, он говорил как об отщепенцах и выродках:
Разумной-то головушке Как не понять крестьянина? А свиньи ходят по земи — Не видят неба век!..В городе Некрасов увидел таких же бесчисленных тружеников, эксплуатируемых теми же верхами помещичье-буржуазного общества. Капиталистический город всегда изображался Некрасовым с точки зрения этих «униженных и оскорбленных» людей.
Душа болит. Не в залах бальных, Где торжествует суета, В приютах нищеты печальных Блуждает грустная мечта.Но не только «грустную мечту» открыл Некрасов в городской бедноте, — он зорко подметил в ней «тайную злобу» и все растущий протест:
Запуганный, задавленный, С поникшей головой, Идешь, как обесславленный, Гнушаясь сам собой; Сгораешь злобой тайною…«Тайная злоба» городской бедноты впервые стала явной в поэзии Некрасова. «Злоба во мне и сильна, и дика», — писал он еще в 1845 году и громко выражал эту революционную «злобу», эту «святую ненависть» в течение всей своей творческой жизни.
В его «злобе» не было отчаяния. Он любил напоминать, что Петербург порождает не только эксплуататоров городской бедноты, но и бесстрашных борцов за народное счастье, отдающих все силы на разрушение того общественного порядка, при котором такая эксплуатация возможна. Обращаясь к Петербургу, он писал:
…В стенах твоих И есть и были в стары годы Друзья народа и свободы, А посреди могил немых Найдутся громкие могилы.Этими строками он, несмотря на цензурные препятствия, стремился напомнить читателям, что в том же царском Петербурге возникли и Радищев, и декабристы, и петрашевцы, и Чернышевский, и несметное множество идущих за ними борцов.
Ни обнищание трудящихся масс, ни их беспросветное рабство не поколебали веры Некрасова в то, что они завоюют себе счастливое будущее, и всякий раз, когда он заговаривает об этом будущем счастье народа, его сумрачный стих становится неузнаваемо светел:
Русь не шелохнется, Русь — как убитая! А загорелась в ней Искра сокрытая — Встали — небужены, Вышли — непрошены, Жита по зернышку Горы наношены! Рать подымается — Неисчислимая, Сила в ней скажется Несокрушимая! Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и забитая, Ты и всесильная, Матушка-Русь!..КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ
Стихотворения Поэмы
Современная ода
{2}
Украшают тебя добродетели, До которых другим далеко, И — беру небеса во свидетели — Уважаю тебя глубоко… Не обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готов, И червонцы твои не украдены У сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь, И без умыслу с ним оставляешь ты С глазу на глаз красавицу дочь. Не гнушаешься темной породою: «Братья нам по Христу мужички!» И родню свою длиннобородую Не гоняешь с порога в толчки. Не спрошу я, откуда явилося, Что теперь в сундуках твоих есть; Знаю: с неба к тебе всё свалилося За твою добродетель и честь!.. Украшают тебя добродетели, До которых другим далеко, И — беру небеса во свидетели — Уважаю тебя глубоко…1845
В дороге
{3}
— Скучно! скучно!.. Ямщик удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку! Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку; Небылицей какой посмеши Или, что ты видал, расскажи — Буду, братец, за все благодарен. «Самому мне невесело, барин: Сокрушила злодейка жена!.. Слышь ты, смолоду, сударь, она В барском доме была учена Вместе с барышней разным наукам, Понимаешь-ста, шить и вязать, На варгане играть и читать — Всем дворянским манерам и штукам. Одевалась не то что у нас На селе сарафанницы наши, А примерно представить, в атлас; Ела вдоволь и меду и каши. Вид вальяжной имела такой, Хоть бы барыне, слышь ты, природной, И не то что наш брат крепостной, Тоись, сватался к ней благородной (Слышь, учитель-ста врезамшись был, Баит кучер, Иваныч Торопка), Да, знать, счастья ей бог не судил: Не нужна-ста в дворянстве холопка! Вышла замуж господская дочь, Да и в Питер… А справивши свадьбу, Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу, Захворал и на троицу в ночь Отдал богу господскую душу, Сиротинкой оставивши Грушу… Через месяц приехал зятек — Перебрал по ревизии души И с запашки ссадил на оброк, А потом добрался и до Груши. Знать, она согрубила ему В чем-нибудь, али напросто тесно Вместе жить показалось в дому, Понимаешь-ста, нам неизвестно, — Воротил он ее на село — Знай-де место свое ты, мужичка! Взвыла девка — крутенько пришло: Белоручка, вишь ты, белоличка! Как на грех, девятнадцатый год Мне в ту пору случись… посадили На тягло — да на ней и женили… Тоись, сколько я нажил хлопот! Вид такой, понимаешь, суровой… Ни косить, ни ходить за коровой!.. Грех сказать, чтоб ленива была, Да, вишь, дело в руках не спорилось! Как дрова или воду несла, Как на барщину шла — становилось Инда жалко подчас… да куды! — Не утешишь ее и обновкой: То натерли ей ногу коты, То, слышь, ей в сарафане неловко. При чужих и туда и сюда, А украдкой ревет как шальная… Погубили ее господа, А была бы бабенка лихая! На какой-то патрет все глядит Да читает какую-то книжку… Инда страх меня, слышь ты, щемит, Что погубит она и сынишку: Учит грамоте, моет, стрижет, Словно барченка, каждый день чешет, Бить не бьет — бить и мне не дает… Да недолго пострела потешит! Слышь, как щепка худа и бледна, Ходит, тоись, совсем через силу, В день двух ложек не съест толокна — Чай, свалим через месяц в могилу… А с чего?.. Видит бог, не томил Я ее безустанной работой… Одевал и кормил, без пути не бранил, Уважал, тоись, вот как, с охотой… А, слышь, бить — так почти не бивал, Разве только под пьяную руку…» — Ну, довольно, ямщик! Разогнал Ты мою неотвязную скуку!..1845
Колыбельная песня
(Подражание Лермонтову)
{4}
Спи, пострел, пока безвредный! Баюшки-баю. Тускло смотрит месяц медный В колыбель твою. Стану сказывать не сказки — Правду пропою; Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю. По губернии раздался Всем отрадный клик: Твой отец под суд попался — Явных тьма улик. Но отец твой — плут известный — Знает роль свою. Спи, пострел, покуда честный! Баюшки-баю. Подрастешь — и мир крещеный Скоро сам поймешь, Купишь фрак темно-зеленый И перо возьмешь. Скажешь: «я благонамерен, За добро стою!» Спи — твой путь грядущий верен! Баюшки-баю. Будешь ты чиновник с виду И подлец душой, Провожать тебя я выду — И махну рукой! В день привыкнешь ты картинно Спину гнуть свою… Спи, пострел, пока невинный! Баюшки-баю. Тих и кроток, как овечка, И крепонек лбом, До хорошего местечка Доползешь ужом — И охулки не положишь На руку свою. Спи, покуда красть не можешь! Баюшки-баю. Купишь дом многоэтажный, Схватишь крупный чин И вдруг станешь барин важный, Русский дворянин. Заживешь — и мирно, ясно Кончишь жизнь свою… Спи, чиновник мой прекрасный! Баюшки-баю.1845
«Я за то глубоко презираю себя…»
{5}
Я за то глубоко презираю себя, Что живу — день за днем бесполезно губя; Что я, силы своей не пытав ни на чем, Осудил сам себя беспощадным судом, И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб; Что, доживши кой-как до тридцатой весны, Не скопил я себе хоть богатой казны, Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног, Да и умник подчас позавидовать мог! Я за то глубоко презираю себя, Что потратил свой век, никого не любя, Что любить я хочу… что люблю я весь мир, А брожу дикарем — бесприютен и сир, И что злоба во мне и сильна и дика, А хватаюсь за нож — замирает рука!1845
Родина
{6}
И вот они опять, знакомые места, Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, Текла среди пиров, бессмысленного чванства, Разврата грязного и мелкого тиранства; Где рой подавленных и трепетных рабов Завидовал житью последних барских псов, Где было суждено мне божий свет увидеть, Где научился я терпеть и ненавидеть, Но, ненависть в душе постыдно притая, Где иногда бывал помещиком и я; Где от души моей, довременно растленной, Так рано отлетел покой благословенный, И неребяческих желаний и тревог Огонь томительный до срока сердце жег… Воспоминания дней юности — известных Под громким именем роскошных и чудесных, — Наполнив грудь мою и злобой и хандрой, Во всей своей красе проходят предо мной… Вот темный, темный сад… Чей лик в аллее дальной Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный? Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя! Кто жизнь твою сгубил… о! знаю, знаю я!.. Навеки отдана угрюмому невежде, Не предавалась ты несбыточной надежде — Тебя пугала мысль восстать против судьбы, Ты жребий свой несла в молчании рабы… Но знаю: не была душа твоя бесстрастна, Она была горда, упорна и прекрасна, И все, что вынести в тебе достало сил, Предсмертный шепот твой губителю простил!.. И ты, делившая с страдалицей безгласной И горе и позор судьбы ее ужасной, Тебя уж также нет, сестра души моей! Из дома крепостных любовниц и псарей Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила Тому, которого не знала, не любила… Но, матери своей печальную судьбу На свете повторив, лежала ты в гробу С такой холодною и строгою улыбкой, Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой. Вот серый, старый дом… Теперь он пуст и глух: Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг, А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило, Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло. Я к няне убегал… Ах, няня! сколько раз Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час; При имени ее впадая в умиленье, Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?.. Ее бессмысленной и вредной доброты На память мне пришли немногие черты, И грудь моя полна враждой и злостью новой… Нет! в юности моей, мятежной и суровой, Отрадного душе воспоминанья нет; Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет, Проклятьем на меня легло неотразимым, — Всему начало здесь, в краю моем родимом!.. И, с отвращением кругом кидая взор, С отрадой вижу я, что срублен темный бор — В томящий летний зной защита и прохлада, — И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, Понурив голову над высохшим ручьем, И набок валится пустой и мрачный дом, Где вторил звону чаш и гласу ликований Глухой и вечный гул подавленных страданий И только тот один, кто всех собой давил, Свободно и дышал, и действовал, и жил…1846
Огородник
{7}
Не гулял с кистенем я в дремучем лесу, Не лежал я во рву в непроглядную ночь, — Я свой век загубил за девицу-красу, За девицу-красу, за дворянскую дочь. Я в немецком саду работал по весне, Вот однажды сгребаю сучки да пою, Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне, Смотрит в оба да слушает песню мою. По торговым селам, по большим городам Я не даром живал, огородник лихой, Раскрасавиц девиц насмотрелся я там, А такой не видал, да и нету другой. Черноброва, статна, словно сахар бела!.. Стало жутко, я песни своей не допел. А она — ничего, постояла, прошла, Оглянулась: за ней как шальной я глядел. Я слыхал на селе от своих молодиц, Что и сам я пригож, не уродом рожден, — Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц, У меня ль, молодца, кудри — чесаный лен… Разыгралась душа на часок, на другой… Да как глянул я вдруг на хоромы ее — Посвистал и махнул молодецкой рукой, Да скорей за мужицкое дело свое! А частенько она приходила с тех пор Погулять, посмотреть на работу мою, И смеялась со мной и вела разговор: Отчего приуныл? что давно не пою? Я кудрями тряхну, ничего не скажу, Только буйную голову свешу на грудь… «Дай-ка яблоньку я за тебя посажу, Ты устал, чай, пора уж тебе отдохнуть». — Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись, Пособи мужику, поработай часок. — Да как заступ брала у меня, смеючись, Увидала на правой руке перстенек: Очи стали темней непогодного дня, На губах, на щеках разыгралася кровь. «Что с тобой, госпожа? Отчего на меня Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?» — От кого у тебя перстенек золотой? «Скоро старость придет, коли будешь все знать». — Дай-ка я погляжу, несговорный какой! — И за палец меня белой рученькой хвать! Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь, Я давал — не давал золотой перстенек… Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож, Да не знаю уж как — в щеку девицу чмок!.. Много с ней скоротал невозвратных ночей Огородник лихой… В ясны очи глядел, Расплетал, заплетал русу косыньку ей, Целовал-миловал, песни волжские пел. Мигом лето прошло, ночи стали свежей, А под утро мороз под ногами хрустит. Вот однажды, как я крался в горенку к ней, Кто-то цап за плечо: «держи вора!» — кричит. Со стыдом молодца на допрос привели, Я стоял да молчал, говорить не хотел… И красу с головы острой бритвой снесли, И железный убор на ногах зазвенел. Постегали плетьми, и уводят дружка От родной стороны и от лапушки прочь На печаль и страду!.. Знать, любить не рука Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!1846
Тройка
{8}
Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу — Все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо За промчавшейся тройкой вослед?.. На тебя, подбоченясь красиво, Загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, Полюбить тебя всякий не прочь: Вьется алая лента игриво В волосах твоих, черных как ночь; Сквозь румянец щеки твоей смуглой Пробивается легкий пушок, Из-под брови твоей полукруглой Смотрит бойко лукавый глазок. Взгляд один чернобровой дикарки, Полный чар, зажигающих кровь, Старика разорит на подарки, В сердце юноши кинет любовь. Поживешь и попразднуешь вволю, Будет жизнь и полна и легка… Да не то тебе пало на долю: За неряху пойдешь мужика. Завязавши под мышки передник, Перетянешь уродливо грудь, Будет бить тебя муж-привередник И свекровь в три погибели гнуть. От работы и черной и трудной Отцветешь, не успевши расцвесть, Погрузишься ты в сон непробудный. Будешь нянчить, работать и есть. И в лице твоем, полном движенья, Полном жизни — появится вдруг Выраженье тупого терпенья И бессмысленный, вечный испуг. И схоронят в сырую могилу, Как пройдешь ты тяжелый свой путь, Бесполезно угасшую силу И ничем не согретую грудь. Не гляди же с тоской на дорогу И за тройкой вослед не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши! Не нагнать тебе бешеной тройки: Кони крепки и сыты и бойки, — И ямщик под хмельком, и к другой Мчится вихрем корнет молодой…1846
Нравственный человек
{9}
1
Живя согласно с строгою моралью, Я никому не сделал в жизни зла. Жена моя, закрыв лицо вуалью, Под вечерок к любовнику пошла: Я в дом к нему с полицией прокрался И уличил… Он вызвал: я не дрался! Она слегла в постель и умерла, Истерзана позором и печалью… Живя согласно с строгою моралью, Я никому не сделал в жизни зла.2
Приятель в срок мне долга не представил. Я, намекнув по-дружески ему, Закону рассудить нас предоставил: Закон приговорил его в тюрьму. В ней умер он, не заплатив алтына, Но я не злюсь, хоть злиться есть причина Я долг ему простил того ж числа, Почтив его слезами и печалью… Живя согласно с строгою моралью, Я никому не сделал в жизни зла.3
Крестьянина я отдал в повара: Он удался; хороший повар — счастье! Но часто отлучался со двора И званью неприличное пристрастье Имел: любил читать и рассуждать. Я, утомясь грозить и распекать, Отечески посек его, каналью, Он взял да утопился: дурь нашла! Живя согласно с строгою моралью, Я никому не сделал в жизни зла.4
Имел я дочь; в учителя влюбилась И с ним бежать хотела сгоряча. Я погрозил проклятьем ей: смирилась И вышла за седого богача. Их дом блестящ и полон был, как чаша: Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша И через год в чахотке умерла, Сразив весь дом глубокою печалью… Живя согласно с строгою моралью, Я никому не сделал в жизни зла…1847
«Еду ли ночью по улице темной…»
«Еду ли ночью по улице темной…»
{10}
Еду ли ночью по улице темной, Бури заслушаюсь в пасмурный день — Друг беззащитный, больной и бездомный, Вдруг предо мной промелькнет твоя тень! Сердце сожмется мучительной думой. С детства судьба невзлюбила тебя: Беден и зол был отец твой угрюмый, Замуж пошла ты — другого любя. Муж тебе выпал недобрый на долю: С бешеным нравом, с тяжелой рукой; Не покорилась — ушла ты на волю, Да не на радость сошлась и со мной… Помнишь ли день, как, больной и голодный, Я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, Пар от дыханья волнами ходил. Помнишь ли труб заунывные звуки, Брызги дождя, полусвет, полутьму? Плакал твой сын, и холодные руки Ты согревала дыханьем ему. Он не смолкал — и пронзительно звонок Был его крик… Становилось темней; Вдоволь поплакал и умер ребенок… Бедная! слез безрассудных не лей! С горя да с голоду завтра мы оба Также глубоко и сладко заснем; Купит хозяин, с проклятьем, три гроба — Вместе свезут и положат рядком… В разных углах мы сидели угрюмо. Помню, была ты бледна и слаба, Зрела в тебе сокровенная дума, В сердце твоем совершалась борьба. Я задремал. Ты ушла молчаливо, Принарядившись, как будто к венцу, И через час принесла торопливо Гробик ребенку и ужин отцу. Голод мучительный мы утолили, В комнате темной зажгли огонек, Сына одели и в гроб положили… Случай нас выручил? Бог ли помог? Ты не спешила печальным признаньем, Я ничего не спросил, Только мы оба глядели с рыданьем, Только угрюм и озлоблен я был… Где ты теперь? С нищетой горемычной Злая тебя сокрушила борьба? Или пошла ты дорогой обычной, И роковая свершится судьба? Кто ж защитит тебя? Все без изъятья Именем страшным тебя назовут. Только во мне шевельнутся проклятья — И бесполезно замрут!..1847
Вино
1
Не водись-ка на свете вина, Тошен был бы мне свет. И пожалуй — силен сатана! — Натворил бы я бед. Без вины меня барин посек, Сам не знаю, что сталось со мной? Я не то чтоб большой человек, Да, вишь, дело-то было впервой. Как подумаю, весь задрожу, На душе все черней да черней. Как теперь на людей погляжу? Как приду к ненаглядной моей? И я долго лежал на печи, Все молчал, не отведывал щей; Нашептал мне нечистый в ночи Неразумных и буйных речей, И наутро я сумрачен встал; Помолиться хотел, да не мог, Ни словечка ни с кем не сказал И пошел, не крестясь, за порог. Вдруг: «не хочешь ли, братик, вина?» — Мне вослед закричала сестра. Целый штоф осушил я до дна И в тот день не ходил со двора.2
Не водись-ка на свете вина, Тошен был бы мне свет. И пожалуй — силен сатана! — Натворил бы я бед. Зазнобила меня, молодца, Степанида, соседская дочь, Я посватал ее у отца — И старик, да и девка не прочь. Да, знать, старосте вплоть до земли Поклонился другой молодец, И с немилым ее повели Мимо окон моих под венец. Не из камня душа! Невтерпеж! Расходилась, что буря, она, Наточил я на старосту нож И для смелости выпил вина. Да попался Петруха, свой брат, В кабаке: назвался угостить; Даровому ленивый не рад — Я остался полштофа распить. А за первым — другой; в кураже От души невзначай отлегло, Позабыл я в тот день об ноже, А наутро раздумье пришло…3
Не водись-ка на свете вина, Тошен был бы мне свет. И пожалуй — силен сатана! — Натворил бы я бед. Я с артелью взялся у купца Переделать все печи в дому, В месяц дело довел до конца И пришел за расчетом к нему. Обсчитал, воровская душа! Я корить, я судом угрожать: «Так не будет тебе ни гроша!» — И велел меня в шею прогнать. Я ходил к нему восемь недель, Да застать его дома не мог; Рассчитать было нечем артель, И меня, слышь, потянут в острог… Наточивши широкий топор, «Пропадай!» — сам себе я сказал; Побежал, притаился, как вор, У знакомого дома — и ждал. Да прозяб, а напротив кабак, Рассудил: отчего не зайти? На последний хватил четвертак, Подрался — и проснулся в части…1848
«Вчерашний день, часу в шестом…»
{11}
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную, Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя… И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!»1848 (?)
«Поражена потерей невозвратной…»
{12}
Поражена потерей невозвратной, Душа моя уныла и слаба: Ни гордости, ни веры благодатной — Постыдное бессилие раба! Ей все равно — холодный сумрак гроба, Позор ли, слава, ненависть, любовь, — Погасла и спасительная злоба, Что долго так разогревала кровь. Я жду… но ночь не близится к рассвету, И мертвый мрак кругом… и та, Которая воззвать могла бы к свету — Как будто смерть сковала ей уста! Лицо без мысли, полное смятенья, Сухие, напряженные глаза — И, кажется, зарею обновленья В них никогда не заблестит слеза.1848 (?)
«Я не люблю иронии твоей…»
Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и не жившим, А нам с тобой, так горячо любившим, Еще остаток чувства сохранившим, — Нам рано предаваться ей! Пока еще застенчиво и нежно Свидание продлить желаешь ты, Пока еще кипят во мне мятежно Ревнивые тревоги и мечты — Не торопи развязки неизбежной! И без того она не далека: Кипим сильней, последней жаждой полны, Но в сердце тайный холод и тоска… Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны…1850
На улице
{13}
1. Вор
Спеша на званый пир по улице прегрязной, Вчера был поражен я сценой безобразной: Торгаш, у коего украден был калач, Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач. И, бросясь от лотка, кричал: держите вора! И вор был окружен и остановлен скоро. Закушенный калач дрожал в его руке; Он был без сапогов, в дырявом сюртуке; Лицо являло след недавнего недуга, Стыда, отчаянья, моленья и испуга… Пришел городовой, подчаска подозвал, По пунктам отобрал допрос отменно строгий, И вора повели торжественно в квартал. Я крикнул кучеру: «пошел своей дорогой!» — И богу поспешил молебствие принесть За то, что у меня наследственное есть…2. Проводы
Мать касатиком сына зовет, Сын любовно глядит на старуху, Молодая бабенка ревет И все просит остаться Ванюху, А старик непреклонно молчит: Напряженная строгость во взоре, Словно сам на себя он сердит За свое бесполезное горе. Сивка дернул дровнишки слегка — Чуть с дровней не свалилась старуха. Ну! нагрел же он сивке бока, Да помог старику и Ванюха…3. Гробок
Вот идет солдат. Под мышкою Детский гроб несет, детинушка. На глаза его суровые Слезы выжала кручинушка. А как было живо дитятко, То и дело говорилося: «Чтоб ты лопнуло, проклятое! Да зачем ты и родилося?»4. Ванька
Смешная сцена! Ванька дуралей, Чтоб седока промыслить побогаче, Украдкой чистит бляхи на своей Ободранной и заморенной кляче. Не так ли ты, продажная краса, Себе придать желая блеск фальшивый, Старательно взбиваешь волоса На голове давно полуплешивой? Но оба вы — извозчик дуралей И ты, смешно причесанная дама, — Вы пробуждаете не смех в душе моей — Мерещится мне всюду драма.1850
«Блажен незлобивый поэт…»
{14}
Блажен незлобивый поэт, В ком мало желчи, много чувства: Ему так искренен привет Друзей спокойного искусства; Ему сочувствие в толпе, Как ропот волы, ласкает ухо; Он чужд сомнения в себе — Сей пытки творческого духа; Любя беспечность и покой, Гнушаясь дерзкою сатирой, Он прочно властвует толпой С своей миролюбивой лирой. Дивясь великому уму, Его не гонят, не злословят, И современники ему При жизни памятник готовят… Но нет пощады у судьбы Тому, чей благородный гений Стал обличителем толпы, Ее страстей и заблуждений. Питая ненавистью грудь, Уста вооружив сатирой, Проходит он тернистый путь С своей карающею лирой. Его преследуют хулы: Он ловит звуки одобренья Не в сладком ропоте хвалы, А в диких криках озлобленья. И веря и не веря вновь Мечте высокого призванья, Он проповедует любовь Враждебным словом отрицанья, — И каждый звук его речей Плодит ему врагов суровых, И умных, и пустых людей, Равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, И, только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он — ненавидя!В день смерти Гоголя,
21 февраля 1852.
Муза («Нет, Музы ласково поющей и прекрасной…»)
{15}
Нет, Музы ласково поющей и прекрасной Не помню над собой я песни сладкогласной! В небесной красоте, неслышимо, как дух, Слетая с высоты, младенческий мой слух Она гармонии волшебной не учила, В пеленках у меня свирели не забыла, Среди забав моих и отроческих дум Мечтой неясною не волновала ум И не явилась вдруг восторженному взору Подругой любящей в блаженную ту пору, Когда томительно волнуют нашу кровь Неразделимые и Муза и Любовь… Но рано надо мной отяготели узы Другой, неласковой и нелюбимой Музы, Печальной спутницы печальных бедняков, Рожденных для труда, страданья и оков, — Той Музы плачущей, скорбящей и болящей, Всечасно жаждущей, униженно просящей, Которой золото — единственный кумир… В усладу нового пришельца в божий мир, В убогой хижине, пред дымною лучиной, Согбенная трудом, убитая кручиной, Она певала мне — и полон был тоской И вечной жалобой напев ее простой. Случалось, не стерпев томительного горя, Вдруг плакала она, моим рыданьям вторя, Или тревожила младенческий мой сон Разгульной песнею… Но тот же скорбный стон Еще пронзительней звучал в разгуле шумном. Все слышалося в нем в смешении безумном: Расчеты мелочной и грязной суеты, И юношеских лет прекрасные мечты, Погибшая любовь, подавленные слезы, Проклятья, жалобы, бессильные угрозы. В порыве ярости, с неправдою людской Безумная клялась начать упорный бой. Предавшись дикому и мрачному веселью, Играла бешено моею колыбелью, Кричала: мщение! и буйным языком На головы врагов звала господень гром! В душе озлобленной, но любящей и нежной Непрочен был порыв жестокости мятежной. Слабея медленно, томительный недуг Смирялся, утихал… и выкупалось вдруг Все буйство дикое страстей и скорби лютой Одной божественно-прекрасною минутой, Когда страдалица, поникнув головой, «Прощай врагам своим!» шептала надо мной… Так вечно плачущей и непонятной девы Лелеяли мой слух суровые напевы, Покуда наконец обычной чередой Я с нею не вступил в ожесточенный бой. Но с детства прочного и кровного союза Со мною разорвать не торопилась Муза: Чрез бездны темные Насилия и Зла, Труда и Голода она меня вела — Почувствовать свои страданья научила И свету возвестить о них благословила…1852
За городом
«Смешно! нас веселит ручей, вдали журчащий, И этот темный дуб, таинственно шумящий; Нас тешит песнею задумчивой своей, Как праздных юношей, вечерний соловей; Далекий свод небес, усеянный звездами, Нам кажется, простерт с любовию над нами; Любуясь месяцем, оглядывая даль, Мы чувствуем в душе ту тихую печаль, Что слаще радости… Откуда чувства эти? Чем так довольны мы?.. Ведь мы уже не дети! Ужель поденный труд наклонности к мечтам Еще в нас не убил?.. И нам ли, беднякам, На отвлеченные природой наслажденья Свободы краткие истрачивать мгновенья?» — Э! полно рассуждать! искать всему причин! Деревня согнала с души давнишний сплин. Забыта тяжкая, гнетущая работа, Докучной бедности бессменная забота — И сердцу весело… И лучше поскорей Судьбе воздать хвалу, что в нищете своей, Лишенные даров довольства и свободы, Мы живо чувствуем сокровища природы, Которых сильные и сытые земли Отнять у бедняков голодных не могли…1852
«Ах, были счастливые годы!..»
(Из Гейне)
{16}
Ах, были счастливые годы! Жил шумно и весело я, Имел я большие доходы, Со мной пировали друзья; Я с ними последним делился, И не было дружбы нежней, Но мой кошелек истощился — И нет моих милых друзей! Теперь у постели больного — Как зимняя вьюга шумит — В ночной своей кофте, сурово Старуха Забота сидит. Скрипя, раздирает мне ухо Ее табакерка порой. Как страшно кивает старуха Седою своей головой! Случается, снова мне снится То полное счастья житье, И станет отраднее биться Изнывшее сердце мое… Вдруг скрип, раздирающий ухо, — И мигом исчезла мечта! Сморкается громко старуха, Зевает и крестит уста.1852
Памяти приятеля
{17}
Наивная и страстная душа, В ком помыслы прекрасные кипели, Упорствуя, волнуясь и спеша, Ты честно шел к одной высокой цели; Кипел, горел — и быстро ты угас! Ты нас любил, ты дружеству был верен — И мы тебя почтили в добрый час! Ты по судьбе печальной беспримерен: Твой труд живет и долго не умрет, А ты погиб, несчастлив и незнаем! И с дерева неведомого плод, Беспечные, беспечно мы вкушаем. Нам дела нет, кто возрастил его, Кто посвящал ему и труд и время, И о тебе не скажет ничего Своим потомкам сдержанное племя… И, с каждым днем окружена тесней, Затеряна давно твоя могила, И память благодарная друзей Дороги к ней не проторила…1853
Филантроп
{18}
Частию по глупой честности, Частию по простоте, Пропадаю в неизвестности, Пресмыкаюсь в нищете. Место я имел доходное, А доходу не имел: Бескорыстье благородное! Да и брать-то не умел. В Провиянтскую комиссию Поступивши, например, Покупал свою провизию — Вот какой миллионер! Не взыщите! честность ярая Одолела до ногтей; Даже стыдно вспомнить старое — Ведь имел уж и детей! Сожалели по Житомиру: «Ты-де нищим кончишь век И семейство пустишь по миру, Беспокойный человек!» Я не слушал. Сожаления В недовольство перешли, Оказались упущения: Подвели — и упекли! Совершилося пророчество Благомыслящих людей: Холод, голод, одиночество, Переменчивость друзей — Всё мы, бедные, изведали, Чашу выпили до дна: Плачут дети — не обедали, — Убивается жена, Проклинает поведение, Гордость глупую мою; Я брожу, как привидение, Но — свидетель бог — не пью! Каждый день встаю ранехонько, Достаю насущный хлеб… Так мы десять лет ровнехонько Бились, волею судеб. Вдруг — известье незабвенное! — Получаю письмецо, Что в столице есть отменное, Благородное лицо; Муж, которому подобного, Может быть, не знали вы, Сердца ангельски-незлобного И умнейшей головы. Славен не короной графскою, Не приездом ко двору, Не звездою станиславскою, А любовию к добру, — О народном просвещении Соревнуя, генерал В популярном изложении Восемь томов написал. Продавал в большом количестве Их дешевле пятака, Вразумить об электричестве В них стараясь мужика. Словно с равными беседуя, Он и с нищими учтив, Нам терпенье проповедуя, Как Сократ, красноречив. Он мое же поведение Мне как будто объяснил, И ко взяткам отвращение Я тогда благословил; Перестал стыдиться бедности: Да! лохмотья нищеты Не свидетельство зловредности, А скорее правоты! Снова благородной гордости (Человек самолюбив), Упования и твердости Я почувствовал прилив. «Нам господь послал спасителя, — Говорю тогда жене, — Нашим крошкам покровителя!» И бедняжка верит мне. Горе мы забвенью предали, Сколотили сто рублей, Все, как следует, разведали И в столицу поскорей. Прикатили прямо к сроднику, Не пустил — я в нумера… Вся семья моя угоднику В ночь молилась. Со двора Вышел я чем свет. Дорогою, Чтоб участие привлечь, Я всю жизнь мою убогую Совместил в такую речь: «Оттого-де ныне с голоду Умираю, словно тварь, Что был глуп и честен смолоду, Знал, что значит бог и царь. Не скажу: по справедливости (Невелик я генерал), По ребяческой стыдливости Даже с правого не брал — И погиб… Я горе мыкаю, Я работаю за двух, Но не чаркой — вашей книгою Подкрепляю слабый дух, Защитите!..» Не заставили Ждать минуты ни одной. Вот в приемную поставили, Доложили чередой. Вот идут — остановилися. Я сробел, чуть жив стою: Замер дух, виски забилися, И забыл я речь свою! Тер и лоб и переносицу, В потолок косил глаза, Бормотал лишь околесицу, А о деле — ни аза! Изумились, брови сдвинули: «Что вам нужно?» — говорят. — Нужно мне… — Тут слезы хлынули Совершенно невпопад. Просто вещь непостижимая Приключилася со мной: Грусть, печаль неудержимая Овладела всей душой. Все, чем жизнь богата с младости Даже в нищенском быту — Той поры счастливой радости, Попросту сказать: мечту — Все, что кануло и сгинуло В треволненьях жизни сей, Все я вспомнил, все прихлынуло К сердцу… Жалкий дуралей! Под влиянием прошедшего, В лоб ударив кулаком, Взвыл я вроде сумасшедшего Пред сиятельным лицом!.. Все такие обстоятельства И в мундиришке изъян Привели его сиятельство К заключенью, что я пьян. Экзекутора, холопа ли Попрекнули, что пустил, И ногами так затопали… Я лишился чувств и сил! Жаль, одним не осчастливили — Сами не дали пинка… Пьяницу с почетом вывели Два огромных гайдука. Словно кипятком ошпаренный, Я бежал, не слыша ног, Мимо лавки пивоваренной, Мимо погребальных дрог, Мимо магазина швейного, Мимо бань, церквей и школ, Вплоть до здания питейного — И уж дальше не пошел! Дальше нечего рассказывать! Минет сорок лет зимой, Как я щеку стал подвязывать, Отморозивши хмельной. Чувства словно как заржавели, Одолела страсть к вину; Дети пьяницу оставили, Схоронил давно жену. При отшествии к родителям, Хоть кротка была весь век, Попрекнула покровителем. Точно: странный человек! Верст на тысячу в окружности Повестят свой добрый нрав, А осудят по наружности: Неказист — так и неправ! Пишут, как бы свет весь заново К общей пользе изменить, А голодного от пьяного Не умеют отличить…1853
Отрывки из путевых записок графа Гаранского
(Перевод с французского: Trois mois dans la Patrie. Essais de Poésie et de Prose, suivis d’un Discours sur les moyens de parvenir au développenent des forces morales de la Nation Russe et des richesses naturelles de et État. Par un Russe, comte de Garansky. 8 vol. in 4°. Paris. 1836 [25])
{19}
Я путешествовал недурно: русский край Оригинальности имеет отпечаток; Не то чтоб в деревнях трактиры были — рай, Не то чтоб в городах писцы не брали взяток — Природа нравится громадностью своей. Такой громадности не встретите нигде вы: Пространства широко раскинутых степей Лугами здесь зовут; начнутся ли посевы — Не ждите им конца! подобно островам, Зеленые леса и серые селенья Пестрят равнину их, и любо видеть вам Картину сельского обычного движенья… Подобно муравью, трудолюбив мужик: Ни грубости их рук, ни лицам загорелым Я больше не дивлюсь: я видеть их привык В работах полевых чуть не по суткам целым. Не только мужики здесь преданы труду, Но даже дети их, беременные бабы — Все терпят общую, по их словам, «страду», И грустно видеть, как иные бледны, слабы! Я думаю, земель избыток и лесов Способствует к труду всегдашней их охоте, Но должно б вразумлять корыстных мужиков, Что изнурительно излишество в работе. Не такова ли цель — в немецких сюртуках Особенных фигур, бродящих между ними? Нагайки у иных заметил я в руках… Как быть! не вразумишь их средствами другими: Натуры грубые!.. Какие реки здесь! Какие здесь леса! Пейзаж природы русской Со временем собьет, я вам ручаюсь, спесь С природы рейнской, но только не с французской! Во Франции провел я молодость свою; Пред ней, как говорят в стихах, все клонит выю, Но все ж, по совести и громко признаю, Что я не ожидал найти такой Россию! Природа недурна: в том отдаю ей честь, — Я славно ел и спал, подьячим не дал штрафа… Да, средство странствовать и по России есть — С французской кухнею и с русским титлом графа!.. Но только худо то, что каждый здесь мужик Дворянский гонор мой, спокойствие и совесть Безбожно возмущал; одну и ту же повесть Бормочет каждому негодный их язык: Помещик — лиходей! а если управитель, То, верно, — живодер, отъявленный грабитель! Спрошу ли ямщика: «чей, братец, виден дом?» — Помещика… — «Что, добр?» — Нешто, хороший барин, Да только… — «Что, мой друг?» — С тяжелым кулаком, Как хватит — год хворай. — «Неужто? вот татарин!» — Э, нету, ничего! маненичко ретив, А добрая душа, не тяготит оброком, Почасту с мужиком и ласков и правдив, А то скулу свернет, вестимо ненароком! Куда б еще ни шло за барином таким, А то и хуже есть. Вот памятное место: Тут славно мужички расправились с одним… «А что?» — Да сделали из барина-то тесто. «Как тесто?» — Да в куски живого изрубил Его один мужик… попал такому в лапы… «За что же?» — Да за то, что барин лаком был На свой, примерно, гвоздь чужие вешать шляпы. «Как так?» — Да так, сударь, чуть женится мужик, Веди к нему жену; проспит с ней перву ночку, А там и к мужу в дом… да наш народец дик, Сначала потерпел — не всяко лыко в строчку, — А после и того… А вот, примерно, тут, Извольте посмотреть — домок на косогоре, Четыре барышни-сестрицы в нем живут, Так мужикам от них уж просто смех и горе: Именья — семь дворов; так бедно, что с трудом Дай бог своих детей прохарчить мужичонку, А тут еще беда: что год, то в каждый дом Сестрицы-барышни подкинут по ребенку. «Как, что ты говоришь?» — А то, что в восемь лет Так тридцать три души прибавилось в именье. Убытку барышням, известно дело, нет, Да, судырь, мужичкам какое разоренье! Ну, словом, все одно: тот с дворней выезжал Разбойничать, тот затравил мальчишку, Таких рассказов здесь так много я слыхал, Что скучно наконец записывать их в книжку. Ужель помещики в России таковы? Я к многим заезжал: иные, точно, грубы — Муж ты своей жене, жена супругу вы, Сивуха, грязь и вонь, овчинные тулупы. Но есть премилые: прилично убран дом, У дочерей рояль, а чаще фортепьяно, Хозяин с Францией и с Англией знаком, Хозяйка не заснет без модного романа; Ну, все, как водится у развитых людей, Которые глядят прилично на предметы И вряд ли мужиков трактуют, как свиней… Я также наблюдал — в окно моей кареты — И быт крестьянина: он нищеты далек! По собственным моим владеньям проезжая, Созвал я мужиков: составили кружок И гаркнули: «ура!..» С балкона наблюдая, Спросил: довольны ли?., кричат «довольны всем!». — И управляющим? — «Довольны»… О работах Я с ними говорил, поил их — и затем, Бекаса подстрелив в наследственных болотах, Поехал далее… Я мало с ними был, Но видел, что мужик свободно ел и пил, Плясал и песни пел; а немец-управитель Казался между них отец и покровитель… Чего же им еще?.. А если точно есть Любители кнута, поборники тиранства, Которые, забыв гуманность, долг и честь, Пятнают родину и русское дворянство — Чего же медлишь ты, сатиры грозный бич?.. Я книги русские перебирал все лето: Пустейшая мораль, напыщенная дичь! — И лучшие темны, как стертая монета! Жаль, дремлет русский ум. А то, чего б верней? Правительство казнит открытого злодея, Сатира действует и шире и смелей, Как пуля находить виновного умея. Сатире уж не раз обязана была Европа (кажется, отчасти и Россия) Услугой важною…………1853
Буря
Долго не сдавалась Любушка-соседка, Наконец шепнула: «есть в саду беседка, Как темнее станет — понимаешь ты?..» Ждал я, исстрадался, ночки-темноты! Кровь-то молодая: закипит — не шутка! Да взглянул на небо — и поверить жутко! Небо обложилось тучами кругом… Полил дождь ручьями — прокатился гром! Брови я нахмурил и пошел угрюмый — «Свидеться сегодня лучше и не думай! Люба белоручка, Любушка пуглива, В бурю за ворота выбежать ей в диво; Правда, не была бы буря ей страшна, Если б… да настолько любит ли она?..» Без надежды, скучен прихожу в беседку, Прихожу и вижу — Любушку-соседку! Промочила ножки и хоть выжми шубку… Было мне заботы обсушить голубку! Да зато с той ночи я бровей не хмурю, Только усмехаюсь, как заслышу бурю…1853
В деревне
{20}
1
Право, не клуб ли вороньего рода Около нашего нынче прихода? Вот и сегодня… ну, просто беда! Глупое карканье, дикие стоны… Кажется, с целого света вороны По вечерам прилетают сюда. Вот и еще, и еще эскадроны… Рядышком сели на купол, на крест, На колокольне, на ближней избушке, — Вот у плетня покачнувшийся шест: Две уместились на самой верхушке, Крыльями машут… Все то же опять, Что и вчера… посидят, и в дорогу! Полно лениться! ворон наблюдать! Черные тучи ушли, слава богу, Ветер смирился: пройдусь до полей. С самого утра унылый, дождливый Выдался нынче денек несчастливый: Даром в болоте промок до костей, Вздумал работать, да труд не дается, Глядь, уж и вечер — вороны летят… Две старушонки сошлись у колодца, Дай-ка послушаю, что говорят…2
— Здравствуй, родная. — «Как можется, кумушка? Все еще плачешь, никак? Ходит, знать, по сердцу горькая думушка, Словно хозяин-большак?» — Как же не плакать? Пропала я, грешная! Душенька ноет, болит… Умер, Касьяновна, умер, сердешная, Умер и в землю зарыт? Ведь наскочил же на экую гадину! Сын ли мой не был удал? Сорок медведей поддел на рогатину — На сорок первом сплошал! Росту большого, рука что железная, Плечи — косая сажень; Умер, Касьяновна, умер, болезная, — Вот уж тринадцатый день! Шкуру с медведя-то содрали, продали; Деньги — семнадцать рублей — За душу бедного Савушки подали, Царство небесное ей! Добрая барыня Марья Романовна На панихиду дала… Умер, голубушка, умер, Касьяновна, — Чуть я домой добрела. Ветер шатает избенку убогую, Весь развалился овин… Словно шальная пошла я дорогою: Не попадется ли сын? Взял бы топорик, — беда поправимая, — Мать бы утешил свою… Умер, Касьяновна, умер, родимая, — Надо ль? топор продаю. Кто приголубит старуху безродную? Вся обнищала вконец! В осень ненастную, в зиму холодную Кто запасет мне дровец? Кто, как доносится теплая шубушка, Зайчиков новых набьет? Умер, Касьяновна, умер, голубушка, — Даром ружье пропадет! Веришь, родная: с тоской да с заботами Так опостылел мне свет! Лягу в каморку, покроюсь тенетами, Словно как саваном… Нет! Смерть не приходит… Брожу нелюдимая, Попусту жалоблю всех… Умер, Касьяновна, умер, родимая, — Эх! кабы только не грех… Ну, да и так… дай бог зиму промаяться, Свежей травы мне не мять! Скоро избенка совсем расшатается, Некому поле вспахать. В город сбирается Марья Романовна, По миру сил нет ходить… Умер, голубушка, умер, Касьяновна, И не велел долго жить!3
Плачет старуха. А мне что за дело? Что и жалеть, коли нечем помочь?.. Слабо мое изнуренное тело, Время ко сну. Недолга моя ночь: Завтра раненько пойду на охоту, До свету надо покрепче уснуть… Вот и вороны готовы к отлету, Кончился раут… Ну, трогайся в путь! Вот поднялись и закаркали разом. — Слушай, равняйся! — Вся стая летит: Кажется, будто меж небом и глазом Черная сетка висит.1854
Несжатая полоса
{21}
Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоска одна… Грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу: «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, Скучно склоняться до самой земли, Тучные зерна купая в пыли! Нас, что ни ночь, разоряют станицы{22} Всякой пролетной прожорливой птицы, Заяц нас топчет, и буря нас бьет… Где же наш пахарь? чего еще ждет? Или мы хуже других уродились? Или не дружно цвели-колосились? Нет! мы не хуже других — и давно В нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял, Чтобы нас ветер осенний развеял?..» Ветер несет им печальный ответ: — Вашему пахарю моченьки нет. Знал, для чего и пахал он и сеял, Да не по силам работу затеял. Плохо бедняге — не ест и не пьет, Червь ему сердце больное сосет, Руки, что вывели борозды эти, Высохли в щепку, повисли, как плети, Очи потускли, и голос пропал, Что заунывную песню певал, Как, на соху налегая рукою, Пахарь задумчиво шел полосою.1854
Маша
Белый день занялся над столицей, Сладко спит молодая жена, Только труженик муж бледнолицый Не ложится — ему не до сна! Завтра Маше подруга покажет Дорогой и красивый наряд… Ничего ему Маша не скажет, Только взглянет… убийственный взгляд! В ней одной его жизни отрада, Так пускай в нем не видит врага: Два таких он ей купит наряда. А столичная жизнь дорога! Есть, конечно, прекрасное средство: Под рукою казенный сундук; Но испорчен он был с малолетства Изученьем опасных наук. Человек он был новой породы: Исключительно честь понимал, И безгрешные даже доходы Называл воровством, либерал! Лучше жить бы хотел он попроще, Не франтить, не тянуться бы в свет, — Да обидно покажется теще, Да осудит богатый сосед! Все бы вздор… только с Машей не сладишь. Не втолкуешь — глупа, молода! Скажет: «так за любовь мою платишь!» Нет! упреки тошнее труда! И кипит-поспевает работа, И болит-надрывается грудь… Наконец наступила суббота: Вот и праздник — пора отдохнуть! Он лелеет красавицу Машу, Выпив полную чашу труда, Наслаждения полную чашу Жадно пьет… и он счастлив тогда! Если дни его полны печали, То минуты порой хороши, Но и самая радость едва ли Не вредна для усталой души. Скоро в гроб его Маша уложит, Проклянет свой сиротский удел И, бедняжка! ума не приложит: Отчего он так скоро сгорел?1855
«Праздник жизни — молодости годы…»
{23}
Праздник жизни — молодости годы — Я убил под тяжестью труда И поэтом, баловнем свободы, Другом лени — не был никогда. Если долго сдержанные муки, Накипев, под сердце подойдут, Я пишу: рифмованные звуки Нарушают мой обычный труд. Все ж они не хуже плоской прозы И волнуют мягкие сердца, Как внезапно хлынувшие слезы С огорченного лица. Но не льщусь, чтоб в памяти народной Уцелело что-нибудь из них… Нет в тебе поэзии свободной, Мой суровый, неуклюжий стих! Нет в тебе творящего искусства… Но кипит в тебе живая кровь, Торжествует мстительное чувство, Догорая, теплится любовь, — Та любовь, что добрых прославляет, Что клеймит злодея и глупца И венком терновым наделяет Беззащитного певца…1855
«Я сегодня так грустно настроен…»
Я сегодня так грустно настроен, Так устал от мучительных дум, Так глубоко, глубоко спокоен Мой истерзанный пыткою ум, — Что недуг, мое сердце гнетущий, Как-то горько меня веселит — Встречу смерти, грозящей, идущей, Сам пошел бы… Но сон освежит — Завтра встану и выбегу жадно Встречу первому солнца лучу: Вся душа встрепенется отрадно, И мучительно жить захочу! А недуг, сокрушающий силы, Будет так же и завтра томить, И о близости темной могилы Так же внятно душе говорить…1855
Влас
{24}
В армяке с открытым воротом, С обнаженной головой, Медленно проходит городом Дядя Влас — старик седой. На груди икона медная; Просит он на божий храм, Весь в веригах, обувь бедная, На щеке глубокий шрам; Да с железным наконешником Палка длинная в руке… Говорят, великим грешником Был он прежде. В мужике Бога не было; побоями В гроб жену свою вогнал; Промышляющих разбоями, Конокрадов укрывал; У всего соседства бедного Скупит хлеб, а в черный год Не поверит гроша медного, Втрое с нищего сдерет! Брал с родного, брал с убогого, Слыл кащеем-мужиком; Нрава был крутого, строгого… Наконец и грянул гром! Власу худо; кличет знахаря — Да поможешь ли тому, Кто снимал рубашку с пахаря, Крал у нищего суму? Только пуще все неможется. Год прошел — а Влас лежит, И построить церковь божится, Если смерти избежит. Говорят, ему видение Все мерещилось в бреду: Видел света преставление, Видел грешников в аду: Мучат бесы их проворные, Жалит ведьма-егоза. Ефиопы — видом черные И как углие глаза, Крокодилы, змии, скорпии Припекают, режут, жгут… Воют грешники в прискорбии, Цепи ржавые грызут. Гром глушит их вечным грохотом, Удушает лютый смрад, И кружит над ними с хохотом Черный тигр-шестокрылат. Те на длинный шест нанизаны, Те горячий лижут пол… Там, на хартиях написаны, Влас грехи свои прочел… Влас увидел тьму кромешную И последний дал обет… Внял господь — и душу грешную Воротил на вольный свет. Роздал Влас свое имение, Сам остался бос и гол, И сбирать на построение Храма божьего пошел. С той поры мужик скитается Вот уж скоро тридцать лет, Подаянием питается — Строго держит свой обет. Сила вся души великая В дело божие ушла: Словно сроду жадность дикая Непричастна ей была… Полон скорбью неутешною, Смуглолиц, высок и прям, Ходит он стопой неспешною По селеньям, городам. Нет ему пути далекого: Был у матушки Москвы, И у Каспия широкого, И у царственной Невы. Ходит с образом и с книгою, Сам с собой все говорит, И железною веригою Тихо на ходу звенит. Ходит в зимушку студеную, Ходит в летние жары, Вызывая Русь крещеную На посильные дары, — И дают, дают прохожие… Так из лепты трудовой Вырастают храмы божии По лицу земли родной…1855
В больнице
{25}
Вот и больница. Светя, показал В угол нам сонный смотритель. Трудно и медленно там угасал Честный бедняк сочинитель. Мы попрекнули невольно его, Что, зануждавшись в столице, Не известил он друзей никого, А приютился в больнице… «Что за беда, — он шутя отвечал: — Мне и в больнице покойно. Я все соседей моих наблюдал: Многое, право, достойно Гоголя Кисти. Вот этот субъект, Что меж кроватями бродит, — Есть у него превосходный проект, Только — беда! не находит Денег… а то бы давно превращал Он в бриллианты крапиву. Он покровительство мне обещал И миллион на разживу! Вот старикашка-актер: на людей И на судьбу негодует; Перевирая, из старых ролей Всюду двустишия сует; Он добродушен, задорен и мил, Жалко — уснул (или умер?) — А то бы, верно, он вас посмешил… Смолк и семнадцатый нумер! А как он бредил деревней своей, Как, о семействе тоскуя, Ласки последней просил у детей, А у жены поцелуя! Не просыпайся же, бедный больной! Так в забытьи и умри ты… Очи твои не любимой рукой — Сторожем будут закрыты! Завтра дежурные нас обойдут, Саваном мертвых накроют, Счетом в мертвецкий покой отнесут, Счетом в могилу зароют. И уж тогда не являйся жена, Чуткая сердцем, в больницу — Бедного мужа не сыщет она, Хоть раскопай всю столицу! Случай недавно ужасный тут был: Пастор какой-то немецкий К сыну приехал — и долго ходил… «Вы поищите в мертвецкой», — Сторож ему равнодушно сказал; Бедный старик пошатнулся, В страшном испуге туда побежал Да, говорят, и рехнулся! Слезы ручьями текут по лицу, Он между трупами бродит: Молча заглянет в лицо мертвецу, Молча к другому подходит… Впрочем, не вечно чужою рукой Здесь закрываются очи. Помню: с прошибленной в кровь головой К нам привели среди ночи Старого вора: в остроге его Буйный товарищ изранил. Он не хотел исполнять ничего, Только грозил и буянил. Наша сиделка к нему подошла, Вздрогнула вдруг — и ни слова… В странном молчанье минута прошла: Смотрят один на другого! Кончилось тем, что угрюмый злодей, Пьяный, обрызганный кровью, Вдруг зарыдал — перед первой своей Светлой и честной любовью. (Смолоду знали друг друга они…) Круто старик изменился: Плачет да молится целые дни, Перед врачами смирился. Не было средства, однако, помочь… Час его смерти был странен (Помню я эту печальную ночь): Он уже был бездыханен, А всепрощающий голос любви, Полный мольбы бесконечной, Тихо над ним раздавался: «живи, Милый, желанный, сердечный!» Все, что имела она, продала — С честью его схоронила. Бедная! как она мало жила! Как она много любила! А что любовь ей дала, кроме бед, Кроме печали и муки? Смолоду — стыд, а на старости лет — Ужас последней разлуки!.. Есть и писатели здесь, господа. Вот, посмотрите: украдкой, Бледен и робок, подходит сюда Юноша с толстой тетрадкой. С юга пешком привела его страсть В дальнюю нашу столицу — Думал бедняга в храм славы попасть — Рад, что попал и в больницу! Всем он читал свой ребяческий бред — Было тут смеху и шуму! Я лишь один не смеялся… о нет! Думал я горькую думу. Братья писатели! в нашей судьбе Что-то лежит роковое: Если бы все мы, не веря себе, Выбрали дело другое — Не было б, точно, согласен и я, Жалких писак и педантов — Только бы не было также, друзья, Скоттов, Шекспиров и Дантов! Чтоб одного возвеличить, борьба Тысячи слабых уносит — Даром ничто не дается: судьба Жертв искупительных просит». Тут наш приятель глубоко вздохнул, Начал метаться тревожно; Мы посидели, пока он уснул, — И разошлись осторожно…1855
«Вино»
В. Г. Белинский
{26}
В одном из переулков дальных Среди друзей своих печальных Поэт в подвале умирал И перед смертью им сказал: «Как я, назад тому семь лет Другой бедняк покинул свет, Таким же сокрушен недугом. Я был его ближайшим другом И братом по судьбе. Мы шли Одной тернистою дорогой И пересилить не могли Судьбы, — равно к обоим строгой. Он честно истине служил, Он духом был смелей и чище. Зато и раньше проложил Себе дорогу на кладбище… А ныне очередь моя… Его я пережил не много; Я сделал мало, волей бога Погибла даром жизнь моя. Мои страданья были люты, Но многих был я сам виной; Теперь, в последние минуты, Хочу я долг исполнить мой, Хочу сказать о бедном друге Все, что я видел, что я знал И что в мучительном недуге Он честным людям завещал… Родился он почти плебеем (Что мы бесславьем разумеем, Что он иначе понимал). Его отец был лекарь жалкий, Он только пить любил да палкой К ученью сына поощрял. Процесс развития — в России Не чуждый многим — проходя, Книжонки дельные, пустые Читало с жадностью дитя, Притом, как водится, украдкой… Тоска мечтательности сладкой Им овладела с малых лет… Какой прозаик иль поэт Помог душе его развиться, К добру и славе прилепиться — Не знаю я. Но в нем кипел Родник богатых сил природных — Источник мыслей благородных И честных, бескорыстных дел!.. С кончиной лекаря, на свете Остался он убог и мал; Попал в Москву, учиться стал В московском университете; Но выгнан был, не доказав Каких-то о рожденье прав, Не удостоенный патентом{27}, — И оставался целый век Недоучившимся студентом. (Один ученый человек Колол его неоднократно Таким прозванием печатно,{28} Но, впрочем, бог ему судья!..) Бедняк, терпя нужду и горе, В подвале жил — и начал вскоре Писать в журналах. Помню я: Писал он много… Мыслью новой, Стремленьем к истине суровой Горячий труд его дышал, — Его заметили… В ту пору Пришла охота прожектеру{29}, Который барышей желал, Обширный основать журнал… Вникая в дело неглубоко, Искал он одного, чтоб тот, Кто место главное займет, Писал разборчиво — и срока В доставке своего труда Не нарушал бы никогда. Белинский как-то с ним списался И жить на север перебрался… Тогда все глухо и мертво В литературе нашей было: Скончался Пушкин; без него Любовь к ней в публике остыла… В боренье пошлых мелочей Она, погрязнув, поглупела… До общества, до жизни ей Как будто не было и дела. В то время как в родном краю Открыто зло торжествовало, Ему лишь «баюшки-баю» Литература распевала. Ничья могучая рука Ее не направляла к цели; Лишь два задорных поляка На первом плане в ней шумели{30}, Уж новый гений подымал Тогда главу свою меж нами,{31} Но он один изнемогал, Тесним бесстыдными врагами; К нему под знамя приносил Запас идей, надежд и сил Кружок еще несмелый, тесный… Потребность сильная была В могучем слове правды честной, В открытом обличенье зла… И он пришел, плебей безвестный!.. Не пощадил он ни льстецов, Ни подлецов, ни идиотов, Ни в маске жарких патриотов Благонамеренных воров! Он все предания проверил, Без ложного стыда измерил Всю бездну дикости и зла, Куда, заснув под говор лести, В забвенье истины и чести, Отчизна бедная зашла! Он расточал ей укоризны За рабство — вековой недуг — И прокричал врагом отчизны Его — отчизны ложный друг. Над ним уж тучи собирались. Враги шумели, ополчались. Но дикий вопль клеветника Не помешал ему пока… В нем силы пуще разгорались, И между тем, как перед ним Его соратники редели, Смирялись, пятились, немели, Он шел один неколебим!.. О! Сколько есть душой свободных Сынов у родины моей, Великодушных, благородных И неподкупно верных ей, Кто в человеке брата видит, Кто зло клеймит и ненавидит, Чей светел ум и ясен взгляд, Кому рассудок не теснят Преданья ржавые оковы, — Не все ль они признать готовы Его учителем своим?.. Судьбой и случаем храним, Трудился долго он — и много (Конечно, не без воли бога) Сказать полезного успел И может быть бы уцелел… Но поднялась тогда тревога В Париже буйном{32} — и у нас По-своему отозвалась… Скрутили бедную цензуру — Послушав, наконец, клевет, И разбирать литературу Созвали целый комитет. По счастью, в нем сидели люди Честней, чем был из них один, Палач науки Бутурлин{33}, Который, не жалея груди, Беснуясь, повторял одно: «Закройте университеты{34}, И будет зло пресечено!..» (О муж бессмертный! не воспеты Еще никем твои слова, Но твердо помнит их молва! Пусть червь тебя могильный гложет, Но сей совет тебе поможет В потомство перейти верней, Чем том истории твоей{35}…) Почти полгода нас судили, Читали, справки наводили — И не остался прав никто… Как быть! спасибо и за то, Что не был суд бесчеловечен… Настала грустная пора, И честный сеятель добра Как враг отчизны был отмечен; За ним следили, и тюрьму Враги пророчили ему… Но тут услужливо могила Ему объятья растворила: Замучен жизнью трудовой И постоянной нищетой, Он умер… Помянуть печатно Его не смели… Так о нем Слабеет память с каждым днем И скоро сгибнет невозвратно!..» Поэт умолк. А через день Скончался он. Друзья сложились И над усопшим согласились Поставить памятник, но лень Исполнить помешала вскоре Благое дело, а потом Могила заросла кругом: Не сыщешь… Не велико горе! Живой печется о живом, А мертвый спи глубоким сном…1855
Свадьба
{36}
В сумерки в церковь вхожу. Малолюдно, Светят лампады печально и скудно, Темны просторного храма углы; Длинные окна, то полные мглы, То озаренные беглым мерцаньем, Тихо колеблются с робким бряцаньем. В куполе темень такая висит, Что поглядеть туда — дрожь пробежит! С каменных плит и со стен полутемных Сыростью веет: на петлях огромных Словно заплакана тяжкая дверь… Нет богомольцев, не служба теперь — Свадьба. Венчаются люди простые. Вот у налоя стоят молодые: Парень-ремесленник фертом глядит, Красен с лица и с затылка подбрит — Видно: разгульного сорта детина! Рядом невеста: такая кручина В бледном лице, что глядеть тяжело… Бедная женщина! Что вас свело? Вижу я, стан твой немного полнее, Чем бы… Я понял! Стыдливо краснея И нагибаясь, свой длинный платок Ты на него потянула… Увлек, Видно, гуляка подарком да лаской, Песней, гитарой да честною маской? Ты ему сердце свое отдала… Сколько ночей ты потом не спала! Сколько ты плакала!.. Он не оставил, Волей ли, нет ли, он дело поправил — Бог не без милости — ты спасена… Что же ты так безнадежно грустна? Ждет тебя много попреков жестоких, Дней трудовых, вечеров одиноких: Будешь ребенка больного качать, Буйного мужа домой поджидать, Плакать, работать — да думать уныло, Что тебе жизнь молодая сулила, Чем подарила, что даст впереди… Бедная! лучше вперед не гляди!1855
«Давно — отвергнутый тобою…»
{37}
Давно — отвергнутый тобою, Я шел по этим берегам И, полон думой роковою, Мгновенно кинулся к волнам. Они приветливо яснели. На край обрыва я ступил — Вдруг волны грозно потемнели, И страх меня остановил! Поздней — любви и счастья полны, Ходили часто мы сюда, И ты благословляла волны, Меня отвергшие тогда. Теперь — один, забыт тобою, Чрез много роковых годов, Брожу с убитою душою Опять у этих берегов. И та же мысль приходит снова — И на обрыве я стою, Но волны не грозят сурово, А манят в глубину свою…1855
Саша
{38}
1
Словно как мать над сыновней могилой, Стонет кулик над равниной унылой, Пахарь ли песню вдали запоет — Долгая песня за сердце берет; Лес ли начнется — сосна да осина… Не весела ты, родная картина! Что же молчит мой озлобленный ум?.. Сладок мне леса знакомого шум, Любо мне видеть знакомую ниву — Дам же я волю благому порыву И на родимую землю мою Все накипевшие слезы пролью! Злобою сердце питаться устало — Много в ней правды, да радости мало; Спящих в могилах виновных теней Не разбужу я враждою моей. Родина-мать! я душою смирился, Любящим сыном к тебе воротился. Сколько б на нивах бесплодных твоих Даром ни сгинуло сил молодых, Сколько бы ранней тоски и печали Вечные бури твои ни нагнали На боязливую душу мою — Я побежден пред тобою стою! Силу сломили могучие страсти, Гордую волю погнули напасти, И про убитую музу мою Я похоронные песни пою. Перед тобою мне плакать не стыдно, Ласку твою мне принять не обидно — Дай мне отраду объятий родных, Дай мне забвенье страданий моих! Жизнью измят я… и скоро я сгину… Мать не враждебна и к блудному сыну: Только что ей я объятья раскрыл — Хлынули слезы, прибавилось сил, Чудо свершилось: убогая нива Вдруг просветлела, пышна и красива, Ласковей машет вершинами лес, Солнце приветливей смотрит с небес. Весело въехал я в дом тот угрюмый, Что, осенив сокрушительной думой, Некогда стих мне суровый внушил… Как он печален, запущен и хил! Скучно в нем будет. Нет, лучше поеду, Благо не поздно, теперь же к соседу И поселюсь среди мирной семьи. Славные люди — соседи мои, Славные люди! Радушье их честно, Лесть им противна, а спесь неизвестна. Как-то они доживают свой век? Он уже дряхлый, седой человек, Да и старушка не многим моложе. Весело будет увидеть мне тоже Сашу, их дочь… Недалеко их дом. Все ли застану по-прежнему в нем?2
Добрые люди, спокойно вы жили, Милую дочь свою нежно любили. Дико росла, как цветок полевой, Смуглая Саша в деревне степной. Всем окружив ее тихое детство, Что позволяли убогие средства, Только развить воспитаньем, увы! Эту головку не думали вы. Книги ребенку — напрасная мука, Ум деревенский пугает наука; Но сохраняется дольше в глуши Первоначальная ясность души, Рдеет румянец и ярче и краше… Мило и молодо дитятко ваше, — Бегает живо, горит, как алмаз, Черный и влажный смеющийся глаз, Щеки румяны, и полны, и смуглы, Брови так тонки, а плечи так круглы! Саша не знает забот и страстей, А уж шестнадцать исполнилось ей… Выспится Саша, поднимется рано, Черные косы завяжет у стана И убежит, и в просторе полей Сладко и вольно так дышится ей. Та ли, другая пред нею дорожка — Смело ей вверится бойкая ножка; Да и чего побоится она?.. Все так спокойно; кругом тишина, Сосны вершинами машут приветно, Кажется, шепчут, струясь незаметно, Волны под сводом зеленых ветвей: «Путник усталый! бросайся скорей В наши объятья: мы добры и рады Дать тебе, сколько ты хочешь, прохлады». Полем идешь — всё цветы да цветы, В небо глядишь — с голубой высоты Солнце смеется… Ликует природа! Всюду приволье, покой и свобода; Только у мельницы злится река: Нет ей простора… неволя горька! Бедная! как она вырваться хочет! Брызжется пеной, бурлит и клокочет, Но не прорвать ей плотины своей. «Не суждена, видно, волюшка ей, — Думает Саша, — безумно роптанье…» Жизни кругом разлитой ликованье Саше порукой, что милостив бог… Саша не знает сомненья тревог. Вот по распаханной, черной поляне, Землю взрывая, бредут поселяне — Саша в них видит довольных судьбой Мирных хранителей жизни простой: Знает она, что недаром с любовью Землю польют они потом и кровью… Весело видеть семью поселян, В землю бросающих горсти семян; Дорого-любо, кормилица-нива, Видеть, как ты колосишься красиво, Как ты янтарным зерном налита, Гордо стоишь, высока и густа! Но веселей нет поры обмолота: Легкая дружно спорится работа; Вторит ей эхо лесов и полей, Словно кричит: «поскорей! поскорей!» Звук благодатный! Кого он разбудит, Верно, весь день тому весело будет! Саша проснется — бежит на гумно. Солнышка нет — ни светло, ни темно, Только что шумное стадо прогнали. Как на подмерзлой грязи натоптали Лошади, овцы!.. Парным молоком В воздухе пахнет. Мотая хвостом, За нагруженной снопами телегой Чинно идет жеребеночек пегий, Пар из отворенной риги валит, Кто-то в огне там у печки сидит. А на гумне только руки мелькают Да высоко молотила взлетают, Не успевает улечься их тень. Солнце взошло — начинается день… Саша сбирала цветы полевые, С детства любимые, сердцу родные, Каждую травку соседних полей Знала по имени. Нравилось ей В пестром смешении звуков знакомых Птиц различать, узнавать насекомых. Время к полудню, а Саши все нет. «Где же ты, Саша? простынет обед, Сашенька! Саша!..» С желтеющей нивы Слышатся песни простой переливы; Вот раздалося «ау!» вдалеке; Вот над колосьями в синем венке Черная быстро мелькнула головка… «Вишь ты, куда забежала, плутовка! Э!.. да, никак, колосистую рожь Переросла наша дочка!» — Так что ж? «Что? ничего! понимай, как умеешь! Что теперь надо, сама разумеешь: Спелому колосу — серп удалой, Девице взрослой — жених молодой!» — Вот еще выдумал, старый проказник! «Думай не думай, а будет нам праздник!» Так рассуждая, идут старики Саше навстречу; в кустах у реки Смирно присядут, подкрадутся ловко, С криком внезапным: «попалась, плутовка!» Сашу поймают, и весело им Свидеться с дитятком бойким своим… В зимние сумерки нянины сказки Саша любила. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, Полная счастья, с горы ледяной. Няня кричит: «не убейся, родная!» Саша, салазки свои погоняя, Весело мчится. На полном бегу Набок салазки — и Саша в снегу! Выбьются косы, растреплется шубка — Снег отряхает, смеется, голубка! Не до ворчанья и няне седой: Любит она ее смех молодой… Саше случалось знавать и печали: Плакала Саша, как лес вырубали, Ей и теперь его жалко до слез. Сколько тут было кудрявых берез! Там из-за старой, нахмуренной ели Красные грозды калины глядели, Там поднимался дубок молодой. Птицы царили в вершине лесной, Понизу всякие звери таились. Вдруг мужики с топорами явились — Лес зазвенел, застонал, затрещал. Заяц послушал — и вон побежал. В темную нору забилась лисица, Машет крылом осторожнее птица, В недоуменье тащат муравьи Что ни попало в жилища свои. С песнями труд человека спорился: Словно подкошен, осинник валился, С треском ломали сухой березняк, Корчили с корнем упорный дубняк, Старую сосну сперва подрубали, После арканом ее нагибали И, поваливши, плясали на ней, Чтобы к земле прилегла поплотней. Так, победив после долгого боя, Враг уже мертвого топчет героя. Много тут было печальных картин: Стоном стонали верхушки осин, Из перерубленной старой березы Градом лилися прощальные слезы И пропадали одна за другой Данью последней на почве родной. Кончились поздно труды роковые. Вышли на небо светила ночные, И над поверженным лесом луна Остановилась, кругла и ясна, — Трупы деревьев недвижно лежали; Сучья ломались, скрипели, трещали, Жалобно листья шумели кругом. Так, после битвы, во мраке ночном Раненый стонет, зовет, проклинает. Ветер над полем кровавым летает — Праздно лежащим оружьем звенит, Волосы мертвых бойцов шевелит! Тени ходили по пням беловатым, Жидким осинам, березам косматым; Низко летали, вились колесом Совы, шарахаясь оземь крылом; Звонко кукушка вдали куковала, Да, как безумная, галка кричала, Шумно летая над лесом… но ей Не отыскать неразумных детей! С дерева комом галчата упали, Желтые рты широко разевали, Прыгали, злились. Наскучил их крик — И придавил их ногою мужик. Утром работа опять закипела. Саша туда и ходить не хотела, Да через месяц — пришла. Перед ней Взрытые глыбы и тысячи пней; Только, уныло повиснув ветвями, Старые сосны стояли местами, — Так на селе остаются одни Старые люди в рабочие дни. Верхние ветви так плотно сплелися, Словно там гнезда жар-птиц завелися, Что, по словам долговечных людей, Дважды в полвека выводят детей. Саше казалось, пришло уже время: Вылетит скоро волшебное племя, Чудные птицы посядут на пни, Чудные песни споют ей они! Саша стояла и чутко внимала. В красках вечерних заря догорала — Через соседний несрубленный лес С пышно-румяного края небес Солнце пронзалось стрелой лучезарной, Шло через пни полосою янтарной И наводило на дальний бугор Света и теней недвижный узор. Долго в ту ночь, не смыкая ресницы, Думает Саша: что петь будут птицы? В комнате словно тесней и душней. Саше не спится, — но весело ей. Пестрые грезы сменяются живо, Щеки румянцем горят не стыдливо, Утренний сон ее крепок и тих… Первые зорьки страстей молодых! Полны вы чары и неги беспечной, Нет еще муки в тревоге сердечной; Туча близка, но угрюмая тень Медлит испортить смеющийся день, Будто жалея… И день еще ясен… Он и в грозе будет чудно-прекрасен; Но безотчетно пугает гроза… Эти ли детски живые глаза, Эти ли полные жизни ланиты Грустно поблекнут, слезами покрыты? Эту ли резвую волю во власть Гордо возьмет всегубящая страсть?.. Мимо идите, угрюмые тучи! Горды вы силой! свободой могучи: С вами ли, грозные, вынести бой Слабой и робкой былинке степной?..3
Третьего года, наш край покидая, Старых соседей моих обнимая, Помню, пророчил я Саше моей Доброго мужа, румяных детей, Долгую жизнь без тоски и страданья… Да не сбылися мои предсказанья! В страшной беде стариков я застал. Вот что про Сашу отец рассказал: «В нашем соседстве усадьба большая Лет уже сорок стояла пустая; В третьем году наконец прикатил Барин в усадьбу и нас посетил, Именем: Лев Алексеич Агарин, Ласков с прислугой, как будто не барин, Тонок и бледен. В лорнетку глядел, Мало волос на макушке имел. Звал он себя перелетною птицей: Был, говорит, я теперь за границей, Много видал я больших городов, Синих морей и подводных мостов — Все там приволье, и роскошь, и чудо, Да высылали доходы мне худо. На пароходе в Кронштадт я пришел, И надо мной все кружился орел, Словно пророчил великую долю. Мы со старухой дивилися вволю, Саша смеялась, смеялся он сам… Начал он часто похаживать к нам, Начал гулять, разговаривать с Сашей Да над природой подтрунивать нашей — Есть-де на свете такая страна, Где никогда не проходит весна, Там и зимою открыты балконы, Там поспевают на солнце лимоны, И начинал, в потолок посмотрев, Грустное что-то читать нараспев. Право, как песня слова выходили. Господи! сколько они говорили! Мало того: он ей книжки читал И по-французски ее обучал. Словно брала их чужая кручина, Всё рассуждали: какая причина, Вот уж который теперича век Беден, несчастлив и зол человек? Но, говорит, не слабейте сердцами: Солнышко правды взойдет и над нами! И в подтвержденье надежды своей Старой рябиновкой чокался с ней. Саша туда же — отстать-то не хочет — Выпить не выпьет, а губы обмочит; Грешные люди — пивали и мы. Стал он прощаться в начале зимы: Бил, говорит, я довольно баклуши, Будьте вы счастливы, добрые души, Благословите на дело… пора! Перекрестился — и съехал с двора… В первое время печалилась Саша, Видим: скучна ей компания наша. Годы ей, что ли, такие пришли? Только узнать мы ее не могли: Скучны ей песни, гаданья и сказки. Вот и зима! — да не тешат салазки. Думает думу, как будто у ней Больше забот, чем у старых людей. Книжки читает, украдкою плачет. Видели: письма всё пишет и прячет. Книжки выписывать стала сама — И наконец набралась же ума! Что ни спроси, растолкует, научит, С ней говорить никогда не наскучит; А доброта… Я такой доброты Век не видал, не увидишь и ты! Бедные все ей приятели-други: Кормит, ласкает и лечит недуги. Так девятнадцать ей минуло лет. Мы поживаем — и горюшка нет. Надо же было вернуться соседу! Слышим: приехал и будет к обеду. Как его весело Саша ждала! В комнату свежих цветов принесла, Книги свои уложила исправно, Просто оделась, да так-то ли славно; Вышла навстречу — и ахнул сосед! Словно оробел. Мудреного нет: В два-то последние года на диво Сашенька стала пышна и красива, Прежний румянец в лице заиграл. Он же бледней и плешивее стал… Все, что ни делала, что ни читала, Саша тотчас же ему рассказала; Только не впрок угожденье пошло! Он ей перечил, как будто назло: — Оба тогда мы болтали пустое! Умные люди решили другое, Род человеческий низок и зол. — Да и пошел! и пошел! и пошел!.. Что говорил — мы понять не умеем, Только покоя с тех пор не имеем: Вот уж сегодня семнадцатый день Саша тоскует и бродит как тень! Книжки свои то читает, то бросит, Гость навестит, так молчать его просит. Был он три раза; однажды застал Сашу за делом: мужик диктовал Ей письмецо, да какая-то баба Травки просила — была у ней жаба. Он поглядел и сказал нам шутя: — Тешится новой игрушкой дитя! Саша ушла — не ответила слова… Он было к ней; говорит: «нездорова». Книжек прислал — не хотела читать И приказала назад отослать. Плачет, печалится, молится богу… Он говорит: «я собрался в дорогу». Сашенька вышла, простилась при нас, Да и опять наверху заперлась. Что ж?., он письмо ей прислал. Между нами: Грешные люди, с испугу мы сами Прежде его прочитали тайком: Руку свою предлагает ей в нем. Саша сначала отказ отослала, Да уж потом нам письмо показала. Мы уговаривать: чем не жених? Молод, богат, да и нравом-то тих. «Нет, не пойду». А сама неспокойна; То говорит: «я его недостойна», То: «он меня недостоин: он стал Зол и печален и духом упал!» А как уехал, так пуще тоскует, Письма его потихоньку целует!.. Что тут такое? родной, объясни! Хочешь, на бедную Сашу взгляни. Долго ли будет она убиваться? Или уж ей не певать, не смеяться, И погубил он бедняжку навек? Ты нам скажи: он простой человек Или какой чернокнижник-губитель? Или не сам ли он бес-искуситель?..»4
Полноте, добрые люди, тужить! Будете скоро по-прежнему жить: Саша поправится — бог ей поможет. Околдовать никого он не может: Он… не могу приложить головы, Как объяснить, чтобы поняли вы… Странное племя, мудреное племя В нашем отечестве создало время! Это не бес, искуситель людской, Это, увы! — современный герой! Книги читает да по свету рыщет — Дела себе исполинского ищет, Благо наследье богатых отцов Освободило от малых трудов, Благо идти по дороге избитой Лень помешала да разум развитый. — Нет, я души не растрачу моей На муравьиной работе людей: Или под бременем собственной силы Сделаюсь жертвою ранней могилы, Или по свету звездой пролечу! Мир, говорит, осчастливить хочу! Что ж под руками, того он не любит, То мимоходом без умыслу губит. В наши великие, трудные дни Книги не шутка: укажут они Все недостойное, дикое, злое, Но не дадут они сил на благое, Но не научат любить глубоко… Дело веков поправлять не легко! В ком не воспитано чувство свободы, Тот не займет его; нужны не годы — Нужны столетья, и кровь, и борьба, Чтоб человека создать из раба. Все, что высоко, разумно, свободно, Сердцу его и доступно и сродно, Только дающая силу и власть В слове и деле чужда ему страсть! Любит он сильно, сильней ненавидит, А доведись — комара не обидит! Да говорят, что ему и любовь Голову больше волнует — не кровь! Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет: Верить, не верить — ему все равно, Лишь бы доказано было умно! Сам на душе ничего не имеет, Что вчера сжал, то сегодня и сеет; Нынче не знает, что завтра сожнет, Только наверное сеять пойдет. Это в простом переводе выходит, Что в разговорах он время проводит; Если ж за дело возьмется — беда! Мир виноват в неудаче тогда; Чуть поослабнут нетвердые крылья, Бедный кричит: «бесполезны усилья!» И уж куда как становится зол Крылья свои опаливший орел… Поняли?., нет!.. Ну, беда небольшая! Лишь поняла бы бедняжка больная. Благо теперь догадалась она, Что отдаваться ему не должна, А остальное все сделает время. Сеет он все-таки доброе семя! В нашей степной полосе, что ни шаг, Знаете вы, — то бугор, то овраг: В летнюю пору безводны овраги, Выжжены солнцем, песчаны и наги, Осенью грязны, не видны зимой, Но погодите: повеет весной С теплого края, оттуда, где люди Дышат вольнее, — в три четверти груди, — Красное солнце растопит снега, Реки покинут свои берега, — Чуждые волны кругом разливая, Будет и дерзок и полон до края Жалкий овраг… Пролетела весна — Выжжет опять его солнце до дна, Но уже зреет на ниве поемной, Что оросил он волною заемной, Пышная жатва. Нетронутых сил В Саше так много сосед пробудил… Эх! говорю я хитро, непонятно! Знайте и верьте, друзья: благодатна Всякая буря душе молодой — Зреет и крепнет душа под грозой. Чем неутешнее дитятко ваше, Тем встрепенется светлее и краше: В добрую почву упало зерно — Пышным плодом отродится оно!1855
Извозчик
1
Парень был Ванюха ражий, Рослый человек, — Не поддайся силе вражей, Жил бы долгий век. Полусонный по природе, Знай зевал в кулак, И прозвание в народе Получил: вахлак! Правда, с ним случилось диво, Как в Грязной стоял{39}: Ел он мало и лениво, По ночам не спал… Все глядит, бывало, в оба В супротивный дом: Там жила его зазноба — Кралечка лицом! Под ворота словно птичка Вылетит с гнезда, Белоручка, белоличка… Жаль одно: горда! Прокатив ее, учтиво Он ей раз сказал: «Вишь, ты больно тороплива», — И за ручку взял… Рассердилась: «Не позволю! Полно — не замай! Прежде выкупись на волю, Да потом хватай!» Поглядел за нею Ваня, Головой тряхнул: «Не про нас ты, — молвил, — Таня», — И рукой махнул… Скоро лето наступило, С барыней своей Таня в Тулу укатила. Ванька стал умней: Он по прежнему порядку Полюбил чаек, Наблюдал свою лошадку, Добывал оброк, Пил умеренно горелку, Знал копейке вес, Да какую же проделку Сочинил с ним бес!..2
Раз купец ему попался Из родимых мест; Ванька с ним с утра катался До вечерних звезд. А потом наелся плотно, Обрядил коня И улегся беззаботно До другого дня… Спит и слышит стук в ворота. Чу! шумят, встают… Не пожар ли? вот забота! Чу! к нему идут. Он вскочил, как заяц сгонный, Видит: с фонарем Перед ним хозяин сонный С седоком-купцом. «Санки где твои, детина? Покажи ступай!» — Говорит ему купчина — И ведет в сарай… Помутился ум у Вани, Он как лист дрожал… Поглядел купчина в сани И, крестясь, сказал: «Слава богу! слава богу! Цел мешок-то мой! Не взыщите за тревогу — Капитал большой. Понимаете, с походом Будет тысяч пять…» И купец перед народом Деньги стал считать… И пока рубли звенели, Поднялся весь дом — Ваньки сонные глядели, Оступя кругом. «Цело все!» — сказал купчина Парня подозвал: «Вот на чай тебе полтина! Благо ты не знал: Серебро-то не бумажки, Нет приметы, брат; Мне ходить бы без рубашки, Ты бы стал богат, — Да господь-то справедливый Попугал шутя…» И ушел купец счастливый, Под мешком кряхтя… Над разиней поглумились И опять легли, А как утром пробудились И в сарай пришли, Глядь — и обмерли с испугу… Ни гугу — молчат; Показали вверх друг другу И пошли назад… Прибежал хозяин бледный, Вся сошлась семья: «Что такое?..» Ванька бедный Бог ему судья! — Совладать с лукавым бесом, Видно, не сумел: Над санями под навесом На вожжах висел! А ведь был детина ражий, Рослый человек, — Не поддайся силе вражей, Жил бы долгий век…1855
«Безвестен я. Я вами не стяжал…»
{40}
Безвестен я. Я вами не стяжал Ни почестей, ни денег, ни похвал, Стихи мои — плод жизни несчастливой, У отдыха похищенных часов, Сокрытых слез и думы боязливой; Но вами я не восхвалял глупцов, Но с подлостью не заключал союза, Нет! свой венец терновый приняла, Не дрогнув, обесславленная Муза И под кнутом без звука умерла.1855
«Тяжелый крест достался ей на долю…»
{41}
Тяжелый крест достался ей на долю: Страдай, молчи, притворствуй и не плачь; Кому и страсть, и молодость, и волю — Все отдала — тот стал ее палач! Давно ни с кем она не знает встречи; Угнетена, пуглива и грустна, Безумные, язвительные речи Безропотно выслушивать должна: «Не говори, что молодость сгубила Ты, ревностью истерзана моей; Не говори!., близка моя могила, А ты цветка весеннего свежей! Тот день, когда меня ты полюбила И от меня услышала: люблю — Не проклинай! близка моя могила: Поправлю все, все смертью искуплю! Не говори, что дни твои унылы, Тюремщиком больного не зови: Передо мной — холодный мрак могилы, Перед тобой — объятия любви! Я знаю: ты другого полюбила, Щадить и ждать наскучило тебе… О, погоди! близка моя могила — Начатое и кончить дай судьбе!..» Ужасные, убийственные звуки!.. Как статуя прекрасна и бледна, Она молчит, свои ломая руки… И что сказать могла б ему она?..1855
Секрет
(Опыт современной баллады)
1
В счастливой Москве, на Неглинной, Со львами, с решеткой кругом, Стоит одиноко старинный, Гербами украшенный дом. Он с роскошью барской построен, Как будто векам напоказ; А ныне в нем несколько боен И с юфтью просторный лабаз. Картофель да кочни капусты Растут перед ним на грядах; В нем лучшие комнаты пусты, И мебель и бронза — в чехлах. Не ведает мудрый владелец Тщеславья и роскоши нег; Он в собственном доме пришелец, Занявший в конуре ночлег. В его деревянной пристройке Свеча одиноко горит; Скупец умирает на койке И детям своим говорит:2
«Огни зажигались вечерние, Выл ветер и дождик мочил, Когда из Полтавской губернии Я в город столичный входил. В руках была палка предлинная, Котомка пустая на ней, На плечах шубенка овчинная, В кармане пятнадцать грошей. Ни денег, ни званья, ни племени, Мал ростом и с виду смешон, Да сорок лет минуло времени — В кармане моем миллион! И сам я теперь благоденствую И счастье вокруг себя лью: Я нравы людей совершенствую, Полезный пример подаю. Я сделался важной персоною, Пожертвовав тысячу в год: Имею и Анну с короною{42}, И звание «друга сирот». Но дни наступили унылые, Смерть близко — спасения нет! И время вам, детушки милые, Узнать мой великий секрет. Квартиру я нанял у дворника, Дрова к постояльцам таскал; Подбился я к дочери шорника И с нею отца обокрал; Потом и ее, бестолковую, За нужное счел обокрасть И в практику бросился новую, — Запрегся в питейную часть. Потом…»3
Вдруг лицо потемнело, Раздался мучительный крик — Лежит, словно мертвое тело, И больше ни слова старик! Но, видно, секрет был угадан. Сынки угодили в отца: Старик еще дышит на ладан И ждет боязливо конца, А дети гуляют с ключами. Вот старший в шкатулку проник! Старик осадил бы словами — Нет слов: непокорен язык! В меньшом родилось подозренье, И ссора кипит о ключах — Не слух бы тут нужен, не зренье, А сила в руках и ногах: Воспрянул бы, словно из гроба, И словом и делом могуч — Смирились бы дерзкие оба И отдали б старому ключ. Но брат поднимает на брата Преступную руку свою… И вот тебе, коршун, награда За жизнь воровскую твою!1855
На родине
{43}
Роскошны вы, хлеба заповедные Родимых нив, — Цветут, растут колосья наливные, А я чуть жив! Ах, странно так я создан небесами, Таков мой рок, Что хлеб полей, возделанных рабами, Нейдет мне впрок!1855
Гадающей невесте
У него прекрасные манеры, Он не глуп, не беден и хорош, Что гадать? ты влюблена без меры, И судьбы своей ты не уйдешь. Я могу сказать и без гаданья: Если сердце есть в его груди — Ждут тебя, быть может, испытанья, Но и счастье будет впереди… Не из тех ли только он бездушных, Что в столице много встретишь ты, Одному лишь голосу послушных — Голосу тщеславной суеты? Что гордятся ровностью пробора, Щегольски обутою ногой, Потеряв сознание позора Жизни дикой, праздной и пустой? Если так — плоха порука счастью! Как бы чудно ты ни расцвела, Ни умом, ни красотой, ни страстью Не поправишь рокового зла. Он твои пленительные взоры, Нежность сердца, музыку речей — Все отдаст за плоские рессоры И за пару кровных лошадей!1855
«Влас»
Забытая деревня
{44}
1
У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет! «Вот приедет барин — барин нас рассудит, Барин сам увидит, что плоха избушка, И велит дать лесу», — думает старушка.2
Кто-то по соседству, лихоимец жадный, У крестьян землицы косячок изрядный Оттягал, отрезал плутовским манером — «Вот приедет барин: будет землемерам! — Думают крестьяне. — Скажет барин слово — И землицу нашу отдадут нам снова».3
Полюбил Наташу хлебопашец вольный, Да перечит девке немец сердобольный, Главный управитель. «Погодим, Игнаша, Вот приедет барин!» — говорит Наташа. Малые, большие — дело чуть за спором — «Вот приедет барин!» — повторяют хором…4
Умерла Ненила; на чужой землице У соседа-плута — урожай сторицей; Прежние парнишки ходят бородаты, Хлебопашец вольный угодил в солдаты, И сама Наташа свадьбой уж не бредит… Барина все нету… барин все не едет!5
Наконец однажды середи дороги Шестернею цугом показались дроги: На дрогах высоких гроб стоит дубовый, А в гробу-то барин; а за гробом — новый. Старого отпели, новый слезы вытер, Сел в свою карету — и уехал в Питер.1855
«Замолкни, Муза мести и печали!..»
{45}
Замолкни, Муза мести и печали! Я сон чужой тревожить не хочу, Довольно мы с тобою проклинали. Один я умираю — и молчу. К чему хандрить, оплакивать потери? Когда б хоть легче было от того! Мне самому, как скрип тюремной двери, Противны стоны сердца моего. Всему конец. Ненастьем и грозою Мой темный путь недаром омрача, Не просветлеет небо надо мною, Не бросит в душу теплого луча… Волшебный луч любви и возрожденья! Я звал тебя — во сне и наяву, В труде, в борьбе, на рубеже паденья Я звал тебя, — теперь уж не зову! Той бездны сам я не хотел бы видеть, Которую ты можешь осветить… То сердце не научится любить, Которое устало ненавидеть.1855
«Внимая ужасам войны…»
{46}
Внимая ужасам войны, При каждой новой жертве боя Мне жаль не друга, не жены, Мне жаль не самого героя… Увы! утешится жена, И друга лучший друг забудет; Но где-то есть душа одна — Она до гроба помнить будет! Средь лицемерных наших дел И всякой пошлости и прозы Одни я в мире подсмотрел Святые, искренние слезы — То слезы бедных матерей! Им не забыть своих детей, Погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве Своих поникнувших ветвей…1856
Княгиня
{47}
Дом — дворец роскошный, длинный, двухэтажный, С садом и с решеткой; муж — сановник важный. Красота, богатство, знатность и свобода — Все ей даровали случай и природа. Только показалась — и над светским миром Солнцем засияла, вознеслась кумиром! Воин, царедворец, дипломат, посланник — Красоты волшебной раболепный данник; Свет ей рукоплещет, свет ей подражает. Властвует княгиня, цепи налагает, Но цепей не носит; прихоти послушна, Ни за что полюбит, бросит равнодушно: Ей чужое счастье ничего не стоит — Если и погибнет, торжество удвоит! Сердце ли в ней билось чересчур спокойно, Иль кругом все было страсти недостойно, Только ни однажды в молодые лета Грудь ее любовью не была согрета. Годы пролетали. В вихре жизни бальной До поры осенней — пышной и печальной — Дожила княгиня… Тут супруг скончался… Труден был ей траур, — доктор догадался И нашел, что воды были б ей полезны (Доктора в столицах вообще любезны). Если только русский едет за границу, Посылай в Палермо, в Пизу или в Ниццу, Быть ему в Париже — так судьбам угодно! Год в столице моды шумно и свободно Прожила княгиня; на второй влюбилась В доктора-француза — и сама дивилась! Не был он красавец, но ей было ново Страстно и свободно льющееся слово, Смелое, живое… Свергнуть иго страсти Нет и помышленья… да уж нет и власти! Решено! В Россию тотчас написали: Немец-управитель без большой печали Продал за бесценок, в силу повеленья, Английские парки, русские селенья, Земли, лес и воды, дачу и усадьбу… Получили деньги — и сыграли свадьбу… Тут пришла развязка. Круто изменился Доктор-спекулятор: деспотом явился! Деньги, бриллианты — все пустил в аферы, А жену тиранил, ревновал без меры, И когда бедняжка с горя захворала, Свез ее в больницу… Навещал сначала, А потом уехал — словно канул в воду! Скорбная, больная, гасла больше году В нищете княгиня… и тот год тяжелый Был ей долгим годом думы невеселой! Смерть ее в Париже не была заметна: Бедно нарядили, схоронили бедно… А в отчизне дальной словно были рады: Целый год судили — резко, без пощады, Наконец устали… И одна осталась Память: что с отличным вкусом одевалась! Да еще остался дом с ее гербами, Доверху набитый бедными жильцами, Да в строфах небрежных русского поэта Вдохновенных ею чудных два куплета, Да голяк-потомок отрасли старинной, Светом позабытый — и ни в чем невинный.1856
«Как ты кротка, как ты послушна…»
Как ты кротка, как ты послушна, Ты рада быть его рабой, Но он внимает равнодушно, Уныл и холоден душой. А прежде… помнишь? Молода, Горда, надменна и прекрасна, Ты им играла самовластно, Но он любил, любил тогда! Так солнце осени — без туч Стоит не грея на лазури, А летом и сквозь сумрак бури Бросает животворный луч…1856
Школьник
— Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок — Невеселая дорога… Эй! садись ко мне, дружок! Ноги босы, грязно тело, И едва прикрыта грудь… Не стыдися! что за дело? Это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь… Знаю: батька на сынишку Издержал последний грош. Знаю, старая дьячиха Отдала четвертачок, Что проезжая купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты дворовый Из отпущенных?.. Ну, что ж! Случай тоже уж не новый — Не робей, не пропадешь! Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик{48} По своей и божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете — Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в университете — Сон свершится наяву! Там уж поприще широко: Знай работай да не трусь… Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь! Не бездарна та природа, Не погиб еще тот край, Что выводит из народа Столько славных то и знай, — Столько добрых, благородных, Сильных любящей душой Посреди тупых, холодных И напыщенных собой!1856
«Я посетил твое кладбище…»
Я посетил твое кладбище, Подруга трудных, трудных дней! И образ твой светлей и чище Рисуется душе моей. Бывало, натерпевшись муки, Устав и телом и душой, Под игом молчаливой скуки Встречался грустно я с тобой. Ни смех, ни говор твой веселый Не прогоняли темных дум: Они бесили мой тяжелый, Больной и раздраженный ум. Я думал: нет в душе беспечной Сочувствия душе моей, И горе в глубине сердечной Держалось дольше и сильней… Увы, то время невозвратно! В ошибках юность не вольна: Без слез ей горе не понятно, Без смеху радость не видна… Ты умерла… Смирились грозы. Другую женщину я знал, Я поминутно видел слезы И часто смех твой вспоминал. Теперь мне дороги и милы Те грустно прожитые дни. — Как много нежности и силы Душевной вызвали они! Твержу с упреком и тоскою: «Зачем я не ценил тогда?» Забудусь, ты передо мною Стоишь — жива и молода: Глаза блистают, локон вьется, Ты говоришь: «будь веселей!» И звонкий смех твой отдается Больнее слез в душе моей…1856
Поэт и гражданин
{49}
Гражданин
(входит)
Опять один, опять суров, Лежит — и ничего не пишет.Поэт
Прибавь: хандрит и еле дышит — И будет мой портрет готов.Гражданин
Хорош портрет! Ни благородства, Ни красоты в нем нет, поверь, А просто пошлое юродство. Лежать умеет дикий зверь…Поэт
Так что же?Гражданин
Да глядеть обидно.Поэт
Ну, так уйди.Гражданин
Послушай: стыдно! Пора вставать! Ты знаешь сам, Какое время наступило; В ком чувство долга не остыло, Кто сердцем неподкупно прям, В ком дарованье, сила, меткость, Тому теперь не должно спать…Поэт
Положим, я такая редкость, Но нужно прежде дело дать.Гражданин
Вот новость! Ты имеешь дело, Ты только временно уснул, Проснись: громи пороки смело…Поэт
А! знаю: «вишь, куда метнул!» Но я обстрелянная птица. Жаль, нет охоты говорить. (Берет книгу.) Спаситель Пушкин! — Вот страница: Прочти и перестань корить!Гражданин
(читает)
«Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв».Поэт
(с восторгом)
Неподражаемые звуки!.. Когда бы с Музою моей Я был немного поумней, Клянусь, пера бы не взял в руки!Гражданин
Да, звуки чудные… ура! Так поразительна их сила, Что даже сонная хандра С души поэта соскочила. Душевно радуюсь — пора! И я восторг твой разделяю, Но, признаюсь, твои стихи Живее к сердцу принимаю.Поэт
Не говори же чепухи! Ты рьяный чтец, но критик дикий. Так я, по-твоему, — великий, Повыше Пушкина поэт? Скажи пожалуйста?!Гражданин
Ну, нет! Твои поэмы бестолковы, Твои элегии не новы, Сатиры чужды красоты, Неблагородны и обидны, Твой стих тягуч. Заметен ты, Но так без солнца звезды видны. В ночи, которую теперь Мы доживаем боязливо, Когда свободно рыщет зверь, А человек бредет пугливо, — Ты твердо светоч свой держал, Но небу было неугодно, Чтоб он под бурей запылал, Путь освещая всенародно; Дрожащей искрою впотьмах Он чуть горел, мигал, метался. Моли, чтоб солнца он дождался И потонул в его лучах! Нет, ты не Пушкин. Но покуда Не видно солнца ниоткуда, С твоим талантом стыдно спать; Еще етыдней в годину горя Красу долин, небес и моря И ласку милой воспевать… Гроза молчит, с волной бездонной В сиянье спорят небеса, И ветер ласковый и сонный Едва колеблет паруса, — Корабль бежит красиво, стройно, И сердце путников спокойно, Как будто вместо корабля Под ними твердая земля. Но гром ударил; буря стонет И снасти рвет и мачту клонит, — Не время в шахматы играть, Не время песни распевать! Вот пес — и тот опасность знает И бешено на ветер лает: Ему другого дела нет… А ты что делал бы, поэт? Ужель в каюте отдаленной Ты стал бы лирой вдохновенной Ленивцев уши услаждать И бури грохот заглушать? Пускай ты верен назначенью, Но легче ль родине твоей, Где каждый предан поклоненью Единой личности своей? Наперечет сердца благие, Которым родина свята. Бог помочь им!., а остальные? Их цель мелка, их жизнь пуста. Одни — стяжатели и воры, Другие — сладкие певцы, А третьи… третьи — мудрецы: Их назначенье — разговоры. Свою особу оградя, Они бездействуют, твердя: «Неисправимо наше племя, Мы даром гибнуть не хотим, Мы ждем: авось поможет время, И горды тем, что не вредим!» Хитро скрывает ум надменный Себялюбивые мечты, Но… брат мой! кто бы ни был ты, Не верь сей логике презренной! Страшись их участь разделить, Богатых словом, делом бедных, И не иди во стан безвредных, Когда полезным можешь быть! Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной, Не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой, Ему нет горше укоризны… Иди в огонь за честь отчизны, За убежденье, за любовь… Иди и гибни безупречно. Умрешь не даром: дело прочно, Когда под ним струится кровь… А ты, поэт! избранник неба, Глашатай истин вековых, Не верь, что неимущий хлеба Не стоит вещих струн твоих! Не верь, чтоб вовсе пали люди; Не умер бог в душе людей, И вопль из верующей груди Всегда доступен будет ей! Будь гражданин! служа искусству, Для блага ближнего живи, Свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей Любви; И если ты богат дарами, Их выставлять не хлопочи: В твоем труде заблещут сами Их животворные лучи. Взгляни: в осколки твердый камень Убогий труженик дробит, А из-под молота летит И брызжет сам собою пламень!Поэт
Ты кончил?., чуть я не уснул, Куда нам до таких воззрений! Ты слишком далеко шагнул. Учить других — потребен гений, Потребна сильная душа, А мы с своей душой ленивой, Самолюбивой и пугливой, Не стоим медного гроша. Спеша известности добиться, Боимся мы с дороги сбиться И тропкой торною идем, А если в сторону свернем — Пропали, хоть беги со света! Куда жалка ты, роль поэта! Блажен безмолвный гражданин: Он, Музам чуждый с колыбели, Своих поступков господин, Ведет их к благодарной цели, И труд его успешен, спор…Гражданин
Не очень лестный приговор. Но твой ли он? тобой ли сказан? Ты мог бы правильней судить: Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечества достойный сын. Ах! будет с нас купцов, кадетов, Мещан, чиновников, дворян, Довольно даже нам поэтов, Но нужно, нужно нам граждан! Но где ж они? Кто не сенатор, Не сочинитель, не герой, Не предводитель, не плантатор, Кто гражданин страны родной? Где ты? откликнись! Нет ответа. И даже чужд душе поэта Его могучий идеал! Но если есть он между нами, Какими плачет он слезами!.. Ему тяжелый жребий пал, Но доли лучшей он не просит: Он, как свои, на теле носит Все язвы родины своей. ……………… ……………… Гроза шумит и к бездне гонит Свободы шаткую ладью, Поэт клянет или хоть стонет, А гражданин молчит и клонит Под иго голову свою. Когда же… но молчу. Хоть мало И среди нас судьба являла Достойных граждан… Знаешь ты Их участь?.. Преклони колени!.. Лентяй! смешны твои мечты И легкомысленные пени! В твоем сравненье смыслу нет. Вот слово правды беспристрастной: Блажен болтающий поэт, И жалок гражданин безгласный!Поэт
Не мудрено того добить, Кого уж добивать не надо. Ты прав: поэту легче жить — В свободном слове есть отрада. Но был ли я причастен ей? Ах, в годы юности моей, Печальной, бескорыстной, трудной, Короче — очень безрассудной, — Куда ретив был мой Пегас! Не розы — я вплетал крапиву В его размашистую гриву И гордо покидал Парнас. Без отвращенья, без боязни Я шел в тюрьму и к месту казни, В суды, в больницы я входил. Не повторю, что там я видел… Клянусь, я честно ненавидел! Клянусь, я искренно любил! И что ж?.. мои послышав звуки, Сочли их черной клеветой; Пришлось сложить смиренно руки Иль поплатиться головой… Что было делать? Безрассудно Винить людей, винить судьбу. Когда б я видел хоть борьбу, Бороться стал бы, как ни трудно, Но… гибнуть, гибнуть… и когда? Мне было двадцать лет тогда! Лукаво жизнь вперед манила, Как моря вольные струи, И ласково любовь сулила Мне блага лучшие свои — Душа пугливо отступила… Но сколько б ни было причин, Я горькой правды не скрываю И робко голову склоняю При слове: честный гражданин. Тот роковой, напрасный пламень Доныне сожигает грудь, И рад я, если кто-нибудь В меня с презреньем бросит камень. Бедняк! и из чего попрал Ты долг священный человека? Какую подать с жизни взял Ты — сын больной больного века?.. Когда бы знали жизнь мою, Мою любовь, мои волненья… Угрюм и полон озлобленья, У двери гроба я стою… Ах! песнею моей прощальной Та песня первая была! Склонила Муза лик печальный И, тихо зарыдав, ушла. С тех пор не часты были встречи: Украдкой, бледная, придет, И шепчет пламенные речи, И песни гордые поет. Зовет то в города, то в степи, Заветным умыслом полна, Но загремят внезапно цепи, И мигом скроется она. Не вовсе я ее чуждался, Но как боялся! как боялся! Когда мой ближний утопал В волнах существенного горя — То гром небес, то ярость моря Я добродушно воспевал. Бичуя маленьких воришек Для удовольствия больших, Дивил я дерзостью мальчишек И похвалой гордился их. Под игом лет душа погнулась. Остыла ко всему она, И Муза вовсе отвернулась, Презренья горького полна. Теперь напрасно к ней взываю — Увы! сокрылась навсегда. Как свет, я сам ее не знаю И не узнаю никогда. О Муза, гостьею случайной Являлась ты душе моей? Иль песен дар необычайный Судьба предназначала ей? Увы! кто знает? рок суровый Все скрыл в глубокой темноте. Но шел один венок терновый К твоей угрюмой красоте…1856
Прости
{50}
Прости! Не помни дней паденья, Тоски, унынья, озлобленья, — Не помни бурь, не помни слез, Не помни ревности угроз! Но дни, когда любви светило Над нами ласково всходило И бодро мы свершали путь — Благослови и не забудь!1856
«В столицах шум, гремят витии…»
{51}
В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России, — Там вековая тишина. Лишь ветер не дает покою Вершинам придорожных ив, И выгибаются дугою, Целуясь с матерью-землею, Колосья бесконечных нив…1857
Тишина
{52}
1
Все рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор… Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор! За дальним Средиземным морем, Под небом ярче твоего, Искал я примиренья с горем, И не нашел я ничего! Я там не свой: хандрю, немею, Не одолев мою судьбу, Я там погнулся перед нею, Но ты дохнула — и сумею, Быть может, выдержать борьбу! Я твой. Пусть ропот укоризны За мною по пятам бежал, Не небесам чужой отчизны — Я песни родине слагал! И ныне жадно поверяю Мечту любимую мою, И в умиленье посылаю Всему привет… Я узнаю Суровость рек, всегда готовых С грозою выдержать войну, И ровный шум лесов сосновых, И деревенек тишину, И нив широкие размеры… Храм божий на горе мелькнул И детски чистым чувством веры Внезапно на душу пахнул. Нет отрицанья, нет сомненья, И шепчет голос неземной: Лови минуту умиленья, Войди с открытой головой! Как ни тепло чужое море, Как ни красна чужая даль, Не ей поправить наше горе, Размыкать русскую печаль! Храм воздыханья, храм печали — Убогий храм земли твоей: Тяжеле стонов не слыхали Ни римский Петр, ни Колизей! Сюда народ, тобой любимый, Своей тоски неодолимой Святое бремя приносил — И облегченный уходил! Войди! Христос наложит руки И снимет волею святой С души оковы, с сердца муки И язвы с совести больной… Я внял… я детски умилился… И долго я рыдал и бился О плиты старые челом, Чтобы простил, чтоб заступился, Чтоб осенил меня крестом Бог угнетенных, бог скорбящих, Бог поколений, предстоящих Пред этим скудным алтарем!2
Пора! За рожью колосистой Леса сплошные начались, И сосен аромат смолистый До нас доходит… «Берегись!» Уступчив, добродушно смирен, Мужик торопится свернуть… Опять пустынно-тих и мирен Ты, русский путь, знакомый путь! Прибитая к земле слезами Рекрутских жен и матерей, Пыль не стоит уже столбами Над бедной родиной моей. Опять ты сердцу посылаешь Успокоительные сны И вряд ли сам припоминаешь, Каков ты был во дни войны, — Когда над Русью безмятежной Восстал немолчный скрип тележный, Печальный, как народный стон! Русь поднялась со всех сторон, Все, что имела, отдавала И на защиту высылала Со всех проселочных путей Своих покорных сыновей. Войска водили офицеры, Гремел походный барабан, Скакали бешено курьеры; За караваном караван Тянулся к месту ярой битвы — Свозили хлеб, сгоняли скот. Проклятья, стоны и молитвы Носились в воздухе… Народ Смотрел довольными глазами На фуры с пленными врагами, Откуда рыжих англичан, Французов с красными ногами И чалмоносных мусульман Глядели сумрачные лица… И все минуло… все молчит… Так мирных лебедей станица, Внезапно спугнута, летит, И, с криком обогнув равнину Пустынных, молчаливых вод, Садится дружно на средину И осторожнее плывет…3
Свершилось! Мертвые отпеты, Живые прекратили плач, Окровавленные ланцеты Отчистил утомленный врач. Военный поп, сложив ладони, Творит молитву небесам. И севастопольские кони Пасутся мирно… Слава вам! Вы были там, где смерть летает, Вы были в сечах роковых И, как вдовец жену меняет, Меняли всадников лихих. Война молчит — и жертв не просит, Народ, стекаясь к алтарям, Хвалу усердную возносит Смирившим громы небесам. Народ-герой! в борьбе суровой Ты не шатнулся до конца, Светлее твой венец терновый Победоносного венца! Молчит и он{53}… как труп безглавый, Еще в крови, еще дымясь; Не небеса, ожесточась, Его снесли огнем и лавой: Твердыня, избранная славой, Земному грому поддалась! Три царства перед ней стояло, Перед одной… таких громов Еще и небо не метало С нерукотворных облаков! В ней воздух кровью напоили, Изрешетили каждый дом, И, вместо камня, намостили Ее свинцом и чугуном. Там по чугунному помосту И море под стеной течет. Носили там людей к погосту, Как мертвых пчел, теряя счет… Свершилось! Рухнула твердыня, Войска ушли… кругом пустыня, Могилы… Люди в той стране Еще не верят тишине, Но тихо… В каменные раны Заходят сизые туманы, И черноморская волна Уныло в берег славы плещет… Над всею Русью тишина, Но — не предшественница сна: Ей солнце правды в очи блещет, И думу думает она.4
А тройка все летит стрелой. Завидев мост полуживой, Ямщик бывалый, парень русский, В овраг спускает лошадей, И едет по тропинке узкой Под самый мост… оно верней! Лошадки рады: как в подполье, Прохладно там… Ямщик свистит И выезжает на приволье Лугов… родной, любимый вид! Там зелень ярче изумруда, Нежнее шелковых ковров, И, как серебряные блюда, На ровной скатерти лугов Стоят озера… Ночью темной Мы миновали луг поемный, И вот уж едем целый день Между зелеными стенами Густых берез. Люблю их тень И путь, усыпанный листами! Здесь бег коня неслышно-тих, Легко в их сырости приятной, И веет на душу от них Какой-то глушью благодатной. Скорей туда — в родную глушь! Там можно жить, не обижая Ни божьих, ни ревижских душ И труд любимый довершая. Там стыдно будет унывать И предаваться грусти праздной, Где пахарь любит сокращать Напевом труд однообразный. Его ли горе не скребет? Он бодр, он за сохой шагает. Без наслажденья он живет, Без сожаленья умирает. Его примером укрепись, Сломившийся под игом горя! За личным счастьем не гонись И богу уступай — не споря…1857
Бунт
(Живая картина)
{54}
…Скачу, как вихорь, из Рязани, Являюсь: бунт во всей красе, Не пожалел я крупной брани — И пали на колени все! Задавши страху дерзновенным, Пошел я храбро по рядам И в кровь коленопреклоненным Коленом тыкал по зубам…1857
«Стихи мои! Свидетели живые…»
Стихи мои! Свидетели живые За мир пролитых слез! Родитесь вы в минуты роковые Душевных гроз И бьетесь о сердца людские, Как волны об утес.1858
Размышления у парадного подъезда
{55}
Вот парадный подъезд. По торжественным дням, Одержимый холопским недугом, Целый город с каким-то испугом Подъезжает к заветным дверям; Записав свое имя и званье, Разъезжаются гости домой, Так глубоко довольны собой, Что подумаешь — в том их призванье! А в обычные дни этот пышный подъезд Осаждают убогие лица: Прожектеры, искатели мест, И преклонный старик, и вдовица. От него и к нему то и знай по утрам Всё курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иной напевает «трам-трам», А иные просители плачут. Раз я видел, сюда мужики подошли, Деревенские русские люди, Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русые головы к груди; Показался швейцар. «Допусти», — говорят С выраженьем надежды и муки. Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! Загорелые лица и руки. Армячишка худой на плечах, По котомке на спинах согнутых, Крест на шее и кровь на ногах, В самодельные лапти обутых (Знать, брели-то долгонько они Из каких-нибудь дальних губерний). Кто-то крикнул швейцару: «гони! Наш не любит оборванной черни!» И захлопнулась дверь. Постояв, Развязали кошли пилигримы, Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв, И пошли они, солнцем палимы, Повторяя: суди его бог! Разводя безнадежно руками, И, покуда я видеть их мог, С непокрытыми шли головами… А владелец роскошных палат Еще сном был глубоким объят… Ты, считающий жизнью завидною Упоение лестью бесстыдною, Волокитство, обжорство, игру, Пробудись! Есть еще наслаждение: Вороти их! в тебе их спасение! Но счастливые глухи к добру… Не страшат тебя громы небесные, А земные ты держишь в руках, И несут эти люди безвестные Неисходное горе в сердцах. Что тебе эта скорбь вопиющая, Что тебе этот бедный народ? Вечным праздником быстро бегущая Жизнь очнуться тебе не дает. И к чему? Щелкоперов забавою Ты народное благо зовешь; Без него проживешь ты со славою И со славой умрешь! Безмятежней аркадской идиллии Закатятся преклонные дни: Под пленительным небом Сицилии, В благовонной древесной тени, Созерцая, как солнце пурпурное Погружается в море лазурное, Полосами его золотя, — Убаюканный ласковым пением Средиземной волны, — как дитя, Ты уснешь, окружен попечением Дорогой и любимой семьи (Ждущей смерти твоей с нетерпением); Привезут к нам останки твои, Чтоб почтить похоронною тризною, И сойдешь ты в могилу… герой, Втихомолку проклятый отчизною, Возвеличенный громкой хвалой!.. Впрочем, что ж мы такую особу Беспокоим для мелких людей? Не на них ли нам выместить злобу? Безопасней… Еще веселей В чем-нибудь приискать утешенье… Не беда, что потерпит мужик: Так ведущее нас провиденье Указало… да он же привык! За заставой, в харчевне убогой, Всё пропьют бедняки до рубля И пойдут, побираясь дорогой, И застонут… Родная земля! Назови мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой и хранитель, Где бы русский мужик не стонал? Стонет он по полям, по дорогам, Стонет он по тюрьмам, по острогам, В рудниках, на железной цепи; Стонет он под овином, под стогом, Под телегой, ночуя в степи; Стонет в собственном бедном домишке, Свету божьему солнца не рад; Стонет в каждом глухом городишке, У подъезда судов и палат. Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется — То бурлаки идут бечевой!.. Волга! Волга!.. Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля, — Где народ, там и стон… Эх, сердечный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, Иль, судеб повинуясь закону, Все, что мог, ты уже совершил, — Создал песню, подобную стону, И духовно навеки почил?..1858
«Ночь. Успели мы всем насладиться…»
(Отрывок)
Ночь. Успели мы всем насладиться. Что ж нам делать? Не хочется спать. Мы теперь бы готовы молиться, Но не знаем, чего пожелать. Пожелаем тому доброй ночи, Кто все терпит во имя Христа, Чьи не плачут суровые очи, Чьи не ропщут немые уста, Чьи работают грубые руки, Предоставив почтительно нам Погружаться в искусства, в науки, Предаваться мечтам и страстям; Кто бредет по житейской дороге В безрассветной, глубокой ночи, Без понятья о праве, о боге, Как в подземной тюрьме без свечи…1858
Песня Еремушке
{56}
«Стой, ямщик! жара несносная, Дальше ехать не могу!» Вишь, пора-то сенокосная — Вся деревня на лугу. У двора у постоялого Только нянюшка сидит, Закачав ребенка малого, И сама почти что спит; Через силу тянет песенку Да, зевая, крестит рот. Сел я рядом с ней на лесенку; Няня дремлет и поет: «Ниже тоненькой былиночки Надо голову клонить, Чтоб на свете сиротиночке Беспечально век прожить. Сила ломит и соломушку — Поклонись пониже ей, Чтобы старшие Еремушку В люди вывели скорей. В люди выдешь, все с вельможами Будешь дружество водить, С молодицами пригожими Шутки вольные шутить. И привольная и праздная Жизнь покатится шутя…» Эка песня безобразная! — Няня! дай-ка мне дитя! «На, родной! да ты откудова?» — Я проезжий, городской. «Покачай; а я покудова Подремлю… да песню спой!» — Как не спеть! спою, родимая, Только, знаешь, не твою. У меня своя, любимая… «Баю-баюшки, баю! В пошлой лени усыпляющий Пошлых жизни мудрецов, Будь он проклят, растлевающий Пошлый опыт — ум глупцов! В нас под кровлею отеческой Не запало ни одно Жизни чистой, человеческой Плодотворное зерно. Будь счастливей! Силу новую Благородных юных дней В форму старую, готовую Необдуманно не лей! Жизни вольным впечатлениям Душу вольную отдай, Человеческим стремлениям В ней проснуться не мешай. С ними ты рожден природою — Возлелей их, сохрани! Братством, Равенством, Свободою Называются они. Возлюби их! на служение Им отдайся до конца! Нет прекрасней назначения, Лучезарней нет венца. Будешь редкое явление, Чудо родины своей; Не холопское терпение Принесешь ты в жертву ей: Необузданную, дикую К угнетателям вражду И доверенность великую К бескорыстному труду. С этой ненавистью правою, С этой верою святой Над неправдою лукавою Грянешь божьею грозой… И тогда-то…» Вдруг проснулося И заплакало дитя. Няня быстро встрепенулася И взяла его, крестя. «Покормись, родимый, грудкою! Сыт?.. Ну, баюшки-баю!» И запела над малюткою Снова песенку свою…1859
Убогая и нарядная
1
Беспокойная ласковость взгляда, И поддельная краска ланит, И убогая роскошь наряда — Все не в пользу ее говорит. Но не лучше ли, прежде чем бросим Мы в нее приговор роковой, Подзовем-ка ее да расспросим: «Как дошла ты до жизни такой?» Не длинен и не нов рассказ: Отец ее, подьячий бедный, Таскался писарем в Приказ, Имел порок дурной и вредный — Запоем пил — и был буян, Когда домой являлся пьян. Предвидя роковую схватку, Жена малютку уведет, Уложит наскоро в кроватку И двери поплотней припрет. Но бедной девочке не спится! Ей чудится: отец бранится, Мать плачет. Саша на кровать, Рукою подпершись, садится, Стучит в ней сердце… где тут спать? Раздвинув завесы цветные, Глядит на двери запертые, Откуда слышится содом, Не шевелится и не дремлет. Так птичка в бурю под кустом Сидит — и чутко буре внемлет. Но как ни буен был отец, Угомонился наконец, И стало без него им хуже. Мать умерла в тоске по муже, А девочку взяла «Мадам» И в магазине поселила. Не очень много шили там, И не в шитье была там сила… ……………… ………………2
«Впрочем, что ж мы? нас могут заметить Рядом с ней?!» И отхлынули прочь… Нет! тебе состраданья не встретить, Нищеты и несчастия дочь! Свет тебя предает поруганью И охотно прощает другой, Что торгует собой по призванью, Без нужды, без борьбы роковой; Что, поднявшись с позорного ложа, Разоденется, щеки притрет И летит, соблазнительно лежа В щегольском экипаже, в народ — В эту улицу роскоши, моды, Офицеров, лореток и бар, Где с полугосударства доходы Поглощает заморский товар. Говорят, в этой улице милой Все, что модного выдумал свет, Совместилось волшебною силой, Ничего только русского нет — Разве Ванька проедет унылый. Днем и ночью на ней маскарад, Ей недаром гордится столица. На французский, на английский лад Исковеркав нерусские лица, Там гуляют они, пустоты вековой И наследственной праздности дети, Разодетой, довольной толпой… Ну, кому же расставишь ты сети? Вышла ты из коляски своей И на ленте ведешь собачонку; Стая модных и глупых людей Провожает тебя вперегонку. У прекрасного пола тоска, Чувство злобы и зависти тайной. В самом деле, жена бедняка, Позавидуй! эффект чрезвычайный! Бриллианты, цветы, кружева, Доводящие ум до восторга, И на лбу роковые слова: «Продается с публичного торга!» Что, красавица, нагло глядишь? Чем гордишься? Вот вся твоя повесть: Ты ребенком попала в Париж, Потеряла невинность и совесть, Научилась белиться и лгать И явилась в наивное царство: Ты слыхала, легко обирать Наше будто богатое барство. Да, не трудно! Но должно входить В этот избранный мир с аттестатом. Красотой нас нельзя победить, Удивить невозможно развратом. Нам известность, нам мода нужна. Ты красивей была и моложе, Но, увы! неизвестна, бедна И нуждалась сначала… О боже! Твой рассказ о купце разрывал Нам сердца: по натуре бурлацкой, Он то ноги твои целовал, То хлестал тебя плетью казацкой. Но, по счастию, этот дикарь, Слабоватый умом и сердечком, Принялся за французский букварь, Чтоб с тобой обменяться словечком. Этим временем ты завела Рысаков, экипажи, наряды, И прославилась — в моду вошла! Мы знакомству скандальному рады. Что за дело, что вся дочиста Предалась ты постыдной продаже, Что поддельна твоя красота, Как гербы на твоем экипаже, Что глупа ты, жадна и пуста — Ничего! знатоки вашей нации Порешили разумным судом, Что цинизм твой доходит до грации, Что геройство в бесстыдстве твоем! Ты у бога детей не просила, Но ты женщина тоже была, Ты со скрежетом сына носила И с проклятьем его родила; Он подрос — ты его нарядила И на Невский с собой повезла. Ничего! Появленье малютки Не смутило души никому, Только вызвало милые шутки, Дав богатую пищу уму. Удивлялась вся гвардия наша (Да и было чему, не шутя), Что ко всякому с словом «папаша» Обращалось наивно дитя… И не кинул никто, негодуя, Комом грязи в бесстыдную мать! Чувством матери нагло торгуя, Пуще стала она обирать. Бледны, полны тупых сожалений, Потерявшие шик молодцы, — Вон по Невскому бродят как тени Разоренные ею глупцы! И пример никому не наука, Разорит она сотни других: Тупоумие, праздность и скука За нее… Но умолкни, мой стих! И погромче нас были витии, Да не сделали пользы пером… Дураков не убавим в России, А на умных тоску наведем.1859
«Что ты, сердце мое, расходилося?..»
{57}
Что ты, сердце мое, расходилося?.. Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла — прокатилася Клевета по Руси по родной. Не тужи! пусть растет, прибавляется, Не тужи! как умрем, Кто-нибудь и об нас проболтается Добрым словцом.1860
«…одинокий, потерянный…»
{58}
…………………одинокий, потерянный, Я как в пустыне стою, Гордо не кличет мой голос уверенный Душу родную мою. Нет ее в мире. Те дни миновалися, Как на призывы мои Чуткие сердцем друзья отзывалися, Слышалось слово любви. Кто виноват — у судьбы не доспросишься, Да и не все ли равно? У моря бродишь: «не верю, не бросишься! — Вкрадчиво шепчет оно. — Где тебе? Дружбы, любви и участия Ты еще жаждешь и ждешь. Где тебе, где тебе! — ты не без счастия, Ты не без ласки живешь… Видишь, рассеялась туча туманная, Звездочки вышли, горят? Все на тебя, голова бесталанная, Ласковым взором глядят».1860
«Убогая и нарядная»
На Волге
(Детство Валежникова)
{59}
1
.................. .................. Не торопись, мой верный пес! Зачем на грудь ко мне скакать? Еще успеем мы стрелять. Ты удивлен, что я прирос На Волге: целый час стою Недвижно, хмурюсь и молчу. Я вспомнил молодость мою И весь отдаться ей хочу Здесь на свободе. Я похож На нищего: вот бедный дом, Тут, может, подали бы грош. Но вот другой — богаче: в нем Авось побольше подадут. И нищий мимо; между тем В богатом доме дворник-плут Не наделил его ничем. Вот дом еще пышней, но там Чуть не прогнали по шеям! И, как нарочно, все село Прошел — нигде не повезло! Пуста, хоть выверни суму. Тогда вернулся он назад К убогой хижине — и рад, Что корку бросили ему; Бедняк ее, как робкий пес, Подальше от людей унес И гложет… Рано пренебрег Я тем, что было под рукой, И чуть не детскою ногой Ступил за отческий порог. Меня старались удержать Мои друзья, молила мать, Мне лепетал любимый лес: Верь, нет милей родных небес! Нигде не дышится вольней Родных лугов, родных полей, И той же песенкою полн Был говор этих милых волн. Но я не верил ничему. Нет, — говорил я жизни той. — Ничем не купленный покой Противен сердцу моему… Быть может, недостало сил Или мой труд не нужен был, Но жизнь напрасно я убил, И то, о чем дерзал мечтать, Теперь мне стыдно вспоминать! Все силы сердца моего Истратив в медленной борьбе, Не допросившись ничего От жизни ближним и себе, Стучусь я робко у дверей Убогой юности моей: — О юность бедная моя! Прости меня, смирился я! Не помяни мне дерзких грез, С какими, бросив край родной, Я издевался над тобой! Не помяни мне глупых слез, Какими плакал я не раз, Твоим покоем тяготясь! Но благодушно что-нибудь, На чем бы сердцем отдохнуть Я мог, пошли мне! Я устал, В себя я веру потерял, И только память детских дней Не тяготит души моей…2
Я рос, как многие, в глуши, У берегов большой реки, Где лишь кричали кулики, Шумели глухо камыши, Рядами стаи белых птиц, Как изваяния гробниц, Сидели важно на песке; Виднелись горы вдалеке, И синий бесконечный лес Скрывал ту сторону небес, Куда, дневной окончив путь, Уходит солнце отдохнуть. Я страха смолоду не знал, Считал я братьями людей И даже скоро перестал Бояться леших и чертей. Однажды няня говорит: «Не бегай ночью — волк сидит За нашей ригой, а в саду Гуляют черти на пруду!» И в ту же ночь пошел я в сад. Не то чтоб я чертям был рад, А так — хотелось видеть их. Иду. Ночная тишина Какой-то зоркостью полна, Как будто с умыслом притих Весь божий мир — и наблюдал, Что дерзкий мальчик затевал! И как-то не шагалось мне В всезрящей этой тишине. Не воротиться ли домой? А то как черти нападут И потащат с собою в пруд И жить заставят под водой? Однако я не шел назад. Играет месяц над прудом, И отражается на нем Береговых деревьев ряд. Я постоял на берегу, Послушал — черти ни гугу! Я пруд три раза обошел, Но черт не выплыл, не пришел! Смотрел я меж ветвей дерев И меж широких лопухов, Что поросли вдоль берегов, В воде: не спрятался ли там? Узнать бы можно по рогам. Нет никого! Пошел я прочь, Нарочно сдерживая шаг. Сошла мне даром эта ночь, Но если б друг какой иль враг Засел в кусту и закричал, Иль даже, спугнутая мной, Взвилась сова над головой, — Наверно б мертвый я упал! Так, любопытствуя, давил Я страхи ложные в себе И в бесполезной той борьбе Немало силы погубил. Зато добытая с тех пор Привычка не искать опор Меня вела своим путем, Пока рожденного рабом Самолюбивая судьба Не обратила вновь в раба!3
О Волга! после многих лет Я вновь принес тебе привет. Уж я не тот, но ты светла И величава, как была. Кругом все та же даль и ширь, Все тот же виден монастырь На острову, среди песков, И даже трепет прежних дней Я ощутил в душе моей, Заслыша звон колоколов, Все то же, то же… только нет Убитых сил, прожитых лет… Уж скоро полдень. Жар такой, Что на песке горят следы, Рыбалки дремлют над водой, Усевшись в плотные ряды; Куют кузнечики, с лугов Несется крик перепелов. Не нарушая тишины Ленивой, медленной волны, Расшива движется рекой. Приказчик, парень молодой, Смеясь, за спутницей своей Бежит по палубе: она Мила, дородна и красна. И слышу я, кричит он ей: «Постой, проказница, ужо Вот догоню!..» Догнал, поймал, — И поцелуй их прозвучал Над Волгой вкусно и свежо. Нас так никто не целовал! Да в подрумяненных губах У наших барынь городских И звуков даже нет таких. В каких-то розовых мечтах Я позабылся. Сон и зной Уже царили надо мной. Но вдруг я стоны услыхал, И взор мой на берег упал. Почти пригнувшись головой К ногам, обвитым бечевой, Обутым в лапти, вдоль реки Ползли гурьбою бурлаки, И был невыносимо дик И страшно ясен в тишине Их мерный похоронный крик И сердце дрогнуло во мне. О Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я? Один, по утренним зарям, Когда еще все в мире спит И алый блеск едва скользит По темно-голубым волнам, Я убегал к родной реке. Иду на помощь к рыбакам, Катаюсь с ними в челноке, Брожу с ружьем по островам То, как играющий зверок, С высокой кручи на песок Скачусь, то берегом реки Бегу, бросая камешки, И песню громкую пою Про удаль раннюю мою… Тогда я думать был готов, Что не уйду я никогда С песчаных этих берегов. И не ушел бы никуда — Когда б, о Волга! над тобой Не раздавался этот вой! Давно-давно, в такой же час, Его услышав в первый раз, Я был испуган, оглушен. Я знать хотел, что значит он, И долго берегом реки Бежал. Устали бурлаки, Котел с расшивы принесли, Уселись, развели костер И меж собою повели Неторопливый разговор. — Когда-то в Нижний попадем? — Один сказал. — Когда б попасть Хоть на Илью… — «Авось придем, — Другой, с болезненным лицом, Ему ответил. — Эх, напасть! Когда бы зажило плечо, Тянул бы лямку, как медведь, А кабы к утру умереть — Так лучше было бы еще…» Он замолчал и навзничь лег. Я этих слов понять не мог, Но тот, который их сказал, Угрюмый, тихий и больной, С тех пор меня не покидал! Он и теперь передо мной: Лохмотья жалкой нищеты, Изнеможенные черты И выражающий укор Спокойно-безнадежный взор… Без шапки, бледный, чуть живой, Лишь поздно вечером домой Я воротился. Кто тут был — У всех ответа я просил На то, что видел, и во сне О том, что рассказали мне, Я бредил. Няню испугал: «Сиди, родименькой, сиди! Гулять сегодня не ходи!» Но я на Волгу убежал. Бог весть что сделалось со мной? Я не узнал реки родной: С трудом ступает на песок Моя нога: он так глубок; Уж не манит на острова Их ярко-свежая трава, Прибрежных птиц знакомый крик Зловещ, пронзителен и дик, И говор тех же милых волн Иною музыкою полн! О, горько, горько я рыдал, Когда в то утро я стоял На берегу родной реки, И в первый раз ее назвал Рекою рабства и тоски!.. Что я в ту пору замышлял, Созвав товарищей-детей, Какие клятвы я давал — Пускай умрет в душе моей, Чтоб кто-нибудь не осмеял! Но если вы — наивный бред, Обеты юношеских лет, Зачем же вам забвенья нет? И вами вызванный упрек Так сокрушительно жесток?..4
Унылый, сумрачный бурлак! Каким тебя я в детстве знал, Таким и ныне увидал: Все ту же песню ты поешь, Все ту же лямку ты несешь, В чертах усталого лица Все та ж покорность без конца… Прочна суровая среда, Где поколения людей Живут и гибнут без следа И без урока для детей! Отец твой сорок лет стонал, Бродя по этим берегам, И перед смертию не знал, Что заповедать сыновьям. И, как ему, — не довелось Тебе наткнуться на вопрос: Чем хуже был бы твой удел, Когда б ты менее терпел? Как он, безгласно ты умрешь, Как он, безвестно пропадешь. Так заметается песком Твой след на этих берегах, Где ты шагаешь под ярмом Не краше узника в цепях, Твердя постылые слова, От века те же: «раз да два!» С болезненным припевом: «ой!» И в такт мотая головой…1860
Плач детей
Равнодушно слушая проклятья В битве с жизнью гибнущих людей, Из-за них вы слышите ли, братья, Тихий плач и жалобы детей? «В золотую пору малолетства Все живое — счастливо живет, Не трудясь, с ликующего детства Дань забав и радости берет. Только нам гулять не довелося По полям, по нивам золотым: Целый день на фабриках колеса Мы вертим — вертим — вертим! Колесо чугунное вертится, И гудит, и ветром обдает, Голова пылает и кружится, Сердце бьется, все кругом идет: Красный нос безжалостной старухи, Что за нами смотрит сквозь очки, По стенам гуляющие мухи, Стены, окна, двери, потолки, — Всё и все! Впадая в исступленье, Начинаем громко мы кричать: — Погоди, ужасное круженье! Дай нам память слабую собрать! — Бесполезно плакать и молиться, Колесо не слышит, не щадит: Хоть умри — проклятое вертится, Хоть умри — гудит — гудит — гудит! Где уж нам, измученным в неволе, Ликовать, резвиться и скакать! Если б нас теперь пустили в поле, Мы в траву попадали бы — спать. Нам домой скорей бы воротиться, — Но зачем идем мы и туда?.. Сладко нам и дома не забыться: Встретит нас забота и нужда! Там, припав усталой головою К груди бледной матери своей, Зарыдав над ней и над собою, Разорвем на части сердце ей…»1860
На смерть Шевченко
{60}
Не предавайтесь особой унылости: Случай предвиденный, чуть не желательный. Так погибает по божией милости Русской земли человек замечательный С давного времени: молодость трудная, Полная страсти, надежд, увлечения, Смелые речи, борьба безрассудная, Вслед за тем долгие дни заточения. Всё он изведал: тюрьму петербургскую, Справки, допросы, жандармов любезности, Всё — и раздольную степь Оренбургскую, И ее крепость… В нужде, в неизвестности Там, оскорбляемый каждым невеждою, Жил он солдатом с солдатами жалкими, Мог умереть он, конечно, под палками, Может, и жил-то он этой надеждою. Но, сократить не желая страдания, Поберегло его в годы изгнания Русских людей провиденье игривое. Кончилось время его несчастливое, Всё, чего с юности ранней не видывал, Милое сердцу, ему улыбалося. Тут ему бог позавидовал: Жизнь оборвалася.1861
«Что ни год — уменьшаются силы…»
{61}
Что ни год — уменьшаются силы, Ум ленивее, кровь холодней… Мать-отчизна! дойду до могилы, Не дождавшись свободы твоей! Но желал бы я знать, умирая, Что стоишь ты на верном пути, Что твой пахарь, поля засевая, Видит ведренный день впереди: Чтобы ветер родного селенья Звук единый до слуха донес, Под которым не слышно кипенья Человеческой крови и слез.1861
Свобода
{62}
Родина-мать! по равнинам твоим Я не езжал еще с чувством таким! Вижу дитя на руках у родимой, Сердце волнуется думой любимой: В добрую пору дитя родилось, Милостив бог! не узнаешь ты слез! С детства никем не запуган, свободен, Выберешь дело, к которому годен, Хочешь — останешься век мужиком, Сможешь — под небо взовьешься орлом! В этих фантазиях много ошибок: Ум человеческий тонок и гибок, Знаю: на место сетей крепостных Люди придумали много иных, Так!., но распутать их легче народу. Муза! с надеждой приветствуй свободу!1861
Похороны
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело. Ой, беда приключилася страшная! Мы такой не знавали вовек: Как у нас — голова бесшабашная — Застрелился чужой человек! Суд приехал… допросы… — тошнехонько! Догадались деньжонок собрать: Осмотрел его лекарь скорехонько И велел где-нибудь закопать. И пришлось нам нежданно-негаданно Хоронить молодого стрелка, Без церковного пенья, без ладана, Без всего, чем могила крепка… Без попов!.. Только солнышко знойное, Вместо ярого воску свечи, На лицо непробудно-спокойное, Не скупясь, наводило лучи; Да высокая рожь колыхалася, Да пестрели в долине цветы; Птичка божья на гроб опускалася И, чирикнув, летела в кусты. Поглядим: что ребят набирается! Покрестились и подняли вой… Мать о сыне рекой разливается, Плачет муж по жене молодой, — Как не плакать им? Диво велико ли? Своему-то свои хороши! А по ком ребятишки захныкали, Тот, наверно, был доброй души! Меж двумя хлебородными нивами, Где прошел неширокий долок, Под большими плакучими ивами Упокоился бедный стрелок. Что тебя доконало, сердешного? Ты за что свою душу сгубил? Ты захожий, ты роду нездешнего, Но ты нашу сторонку любил: Только минут морозы упорные И весенних гостей налетит, — «Чу! — кричат наши детки проворные. — Прошлогодний охотник палит!» Ты ласкал их, гостинцу им нашивал, Ты на спрос отвечать не скучал. У тебя порошку я попрашивал, И всегда ты нескупо давал. Почивай же, дружок! Память вечная! Не жива ль твоя бедная мать? Или, может, зазноба сердечная Будет таять, дружка поджидать? Мы дойдем, повестим твою милую: Может быть, и приедет любя, И поплачет она над могилою, И расскажем мы ей про тебя. Почивай себе с миром, с любовию! Почивай! Бог тебе судия, Что обрызгал ты грешною кровию Неповинные наши поля! Кто дознает, какою кручиною Надрывалося сердце твое Перед вольной твоею кончиною, Перед тем, как спустил ты ружье?..______
Меж двумя хлебородными нивами, Где прошел неширокий долок, Под большими плакучими ивами Упокоился бедный стрелок. Будут песни к нему хороводные Из села по заре долетать, Будут нивы ему хлебородные Безгреховные сны навевать…1861
Крестьянские дети
{63}
Опять я в деревне. Хожу на охоту, Пишу мои вирши — живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, Забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся: в широкие щели сарая Глядятся веселого солнца лучи. Воркует голубка; над крышей летая, Кричат молодые грачи, Летит и другая какая-то птица — По тени узнал я ворону как раз; Чу! шепот какой-то… а вот вереница Вдоль щели внимательных глаз! Всё серые, карие, синие глазки — Смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы и ласки, В них столько святой доброты! Я детского глаза люблю выраженье, Его я узнаю всегда. Я замер: коснулось души умиленье… Чу! шепот опять!Первый голос
Борода!Второй
А барин, сказали!..Третий
Потише вы, черти!Второй
У бар бороды не бывает — усы.Первый
А ноги-то длинные, словно как жерди.Четвертый
А вона на шапке, гляди-тко — часы!Пятый
Ай, важная штука!Шестой
И цепь золотая…Седьмой
Чай, дорого стоит?Восьмой
Как солнце горит!Девятый
А вона собака — большая, большая! Вода с языка-то бежит.Пятый
Ружье! погляди-тко: стволина двойная, Замочки резные…Третий
(с испугом)
Глядит!Четвертый
Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!Третий
Прибьет…______
Испугались шпионы мои И кинулись прочь: человека заслыша, Так стаей с мякины летят воробьи. Затих я, прищурился — снова явились, Глазенки мелькают в щели. Что было со мною — всему подивились И мой приговор изрекли: — Такому-то гусю уж что за охота! Лежал бы себе на печи! И видно, не барин: как ехал с болота, Так рядом с Гаврилой… — «Услышит, молчи!»______
О, милые плуты! Кто часто их видел, Тот, верю я, любит крестьянских детей; Но если бы даже ты их ненавидел, Читатель, как «низкого рода людей», — Я все-таки должен сознаться открыто, Что часто завидую им: В их жизни так много поэзии слито, Как дай бог балованным деткам твоим. Счастливый народ! Ни науки, ни неги Не ведают в детстве они. Я делывал с ними грибные набеги: Раскапывал листья, обшаривал пни, Старался приметить грибное местечко, А утром не мог ни за что отыскать. «Взгляни-ка, Савося, какое колечко!» Мы оба нагнулись, да разом и хвать Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно! Савося хохочет: «попался спроста!» Зато мы потом их губили довольно И клали рядком на перилы моста. Должно быть, за подвиги славы мы ждали. У нас же дорога большая была: Рабочего звания люди сновали По ней без числа. Копатель канав вологжанин, Лудильщик, портной, шерстобит, А то в монастырь горожанин Под праздник молиться катит. Под наши густые, старинные вязы На отдых тянуло усталых людей. Ребята обступят: начнутся рассказы Про Киев, про турку, про чудных зверей. Иной подгуляет, так только держися — Начнет с Волочка, до Казани дойдет! Чухну передразнит, мордву, черемиса, И сказкой потешит, и притчу ввернет: «Прощайте, ребята! Старайтесь найпаче На господа бога во всем потрафлять: У нас был Вавило, жил всех побогаче, Да вздумал однажды на бога роптать, — С тех пор захудал, разорился Вавило, Нет меду со пчел, урожаю с земли, И только в одном ему счастие было, Что волосы из носу шибко росли…» Рабочий расставит, разложит снаряды — Рубанки, подпилки, долота, ножи: «Гляди, чертенята!» А дети и рады, Как пилишь, как лудишь — им всё покажи. Прохожий заснет под свои прибаутки, Ребята за дело — пилить и строгать! Иступят пилу — не наточишь и в сутки! Сломают бурав — и с испугу бежать. Случалось, тут целые дни пролетали, Что новый прохожий, то новый рассказ… Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали. Вот из лесу вышли — навстречу как раз Синеющей лентой, извилистой, длинной, Река луговая: спрыгнули гурьбой, И русых головок над речкой пустынной Что белых грибов на полянке лесной! Река огласилась и смехом и воем: Тут драка — не драка, игра — не игра… А солнце палит их полуденным зноем. Домой, ребятишки! обедать пора. Вернулись. У каждого полно лукошко, А сколько рассказов! Попался косой, Поймали ежа, заблудились немножко И видели волка… у, страшный какой! Ежу предлагают и мух и козявок, Корней молочко ему отдал свое — Не пьет! отступились… Кто ловит пиявок На лаве, где матка колотит белье, Кто нянчит сестренку, двухлетнюю Глашку, Кто тащит на пожню ведерко кваску, А тот, подвязавши под горло рубашку, Таинственно что-то чертит по песку; Та в лужу забилась, а эта с обновой: Сплела себе славный венок, Всё беленький, желтенький, бледно-лиловый Да изредка красный цветок. Те спят на припеке, те пляшут вприсядку. Вот девочка ловит лукошком лошадку: Поймала, вскочила и едет на ней. И ей ли, под солнечным зноем рожденной И в фартуке с поля домой принесенной, Бояться смиренной лошадки своей?.. Грибная пора отойти не успела, Гляди — уж чернехоньки губы у всех, Набили оскому: черница поспела! А там и малина, брусника, орех! Ребяческий крик, повторяемый эхом, С утра и до ночи гремит по лесам. Испугана пеньем, ауканьем, смехом, Взлетит ли тетеря, закокав птенцам, Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха! Вот старый глухарь с облинялым крылом В кусту завозился… ну, бедному плохо! Живого в деревню тащат с торжеством… — Довольно, Ванюша! гулял ты немало, Пора за работу, родной! — Но даже и труд обернется сначала К Ванюше нарядной своей стороной: Он видит, как поле отец удобряет, Как в рыхлую землю бросает зерно, Как поле потом зеленеть начинает, Как колос растет, наливает зерно; Готовую жатву подрежут серпами, В снопы перевяжут, на ригу свезут, Просушат, колотят-колотят цепами, На мельнице смелют и хлеб испекут. Отведает свежего хлебца ребенок И в поле охотней бежит за отцом. Навьют ли сенца: «полезай, постреленок!» Ванюша в деревню въезжает царем… Однако же зависть в дворянском дитяти Посеять нам было бы жаль. Итак, обернуть мы обязаны кстати Другой стороною медаль. Положим, крестьянский ребенок свободно Растет, не учась ничему, Но вырастет он, если богу угодно, А сгибнуть ничто не мешает ему. Положим, он знает лесные дорожки, Гарцует верхом, не боится воды, Зато беспощадно едят его мошки, Зато ему рано знакомы труды… Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок! — Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!» — Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо, Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». (В лесу раздавался топор дровосека.) — А что, у отца-то большая семья? «Семья-то большая, да два человека Всего мужиков-то: отец мой да я…» — Так вон оно что! А как звать тебя? — «Власом». — А кой тебе годик? — «Шестой миновал… Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом, Рванул под уздцы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило, Ребенок был так уморительно мал, Как будто всё это картонное было, Как будто бы в детский театр я попал! Но мальчик был мальчик живой, настоящий, И дровни, и хворост, и пегонький конь, И снег, до окошек деревни лежащий, И зимнего солнца холодный огонь — Всё, всё настоящее русское было, С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, Что русской душе так мучительно мило, Что русские мысли вселяет в умы, Те честные мысли, которым нет воли, Которым нет смерти — дави не дави, В которых так много и злобы и боли, В которых так много любви! Играйте же, дети! Растите на воле! На то вам и красное детство дано, Чтоб вечно любить это скудное поле, Чтоб вечно вам милым казалось оно. Храните свое вековое наследство, Любите свой хлеб трудовой — И пусть обаянье поэзии детства Проводит вас в недра землицы родной!..______
Теперь нам пора возвратиться к началу. Заметив, что стали ребята смелей, — Эй! воры идут! — закричал я Фингалу. — Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей! — Фингалушка скорчил серьезную мину, Под сено пожитки мои закопал, С особым стараньем припрятал дичину, У ног моих лег — и сердито рычал. Обширная область собачьей науки Ему в совершенстве знакома была; Он начал такие выкидывать штуки, Что публика с места сойти не могла, Дивятся, хохочут! Уж тут не до страха! Командуют сами! — «Фингалка, умри!» — Не засти, Сергей! Не толкайся, Кузяха! «Смотри — умирает — смотри!» Я сам наслаждался, валяясь на сене, Их шумным весельем. Вдруг стало темно В сарае: так быстро темнеет на сцене, Когда разразиться грозе суждено. И точно: удар прогремел над сараем, В сарай полилась дождевая река, Актер залился оглушительным лаем, А зрители дали стречка! Широкая дверь отперлась, заскрипела, Ударилась в стену, опять заперлась. Я выглянул: темная туча висела Над нашим театром как раз. Под крупным дождем ребятишки бежали Босые к деревне своей… Мы с верным Фингалом грозу переждали И вышли искать дупелей.1861
Дума
{64}
Сторона наша убогая, Выгнать некуда коровушку. Проклинай житье мещанское Да почесывай головушку. Спи, не спи — валяйся по печи, Каждый день недоедаючи, Трать задаром силу дюжую, Недоимку накопляючи. Уж как нет беды кручиннее Без работы парню маяться, А пойдешь куда к хозяевам — Ни один-то не нуждается! У купца у Семипалова Живут люди не говеючи, Льют на кашу масло постное, Словно воду, не жалеючи. В праздник — жирная баранина, Пар над щами тучей носится, В пол-обеда распояшутся — Вон из тела душа просится! Ночь храпят, наевшись до поту, День придет — работой тешатся… Эй! возьми меня в работники, Поработать руки чешутся! Повели ты в лето жаркое Мне пахать пески сыпучие, Повели ты в зиму лютую Вырубать леса дремучие, — Только треск стоял бы до неба, Как деревья бы валилися: Вместо шапки белым инеем Волоса бы серебрилися!1861
Коробейники
Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу
(крестьянину деревни Шоды
Костромской губернии)
{65}
Как с тобою я похаживал По болотинам вдвоем, Ты меня почасту спрашивал: Что строчишь карандашом? Почитай-ка! Не прославиться, Угодить тебе хочу. Буду рад, коли понравится, Не понравится — смолчу. Не побрезгуй на подарочке! А увидимся опять, Выпьем мы по доброй чарочке И отправимся стрелять.23-го августа 1861
Грешнево
Н. Некрасов.
I
Кумачу я не хочу,
Китайки не надо.
Песня «Ой, полна, полна коробушка, Есть и ситцы и парча. Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча! Выди, выди в рожь высокую! Там до ночки погожу, А завижу черноокую — Все товары разложу. Цены сам платил немалые, Не торгуйся, не скупись: Подставляй-ка губы алые, Ближе к милому садись!» Вот и пала ночь туманная, Ждет удалый молодец. Чу, идет! — пришла желанная, Продает товар купец. Катя бережно торгуется, Всё боится передать. Парень с девицей целуется, Просит цену набавлять. Знает только ночь глубокая, Как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, Тайну свято сохрани!______
«Ой, легка, легка коробушка, Плеч не режет ремешок! А всего взяла зазнобушка Бирюзовый перстенек. Дал ей ситцу штуку целую, Ленту алую для кос, Поясок — рубаху белую Подпоясать в сенокос — Всё поклала ненаглядная В короб, кроме перстенька: «Не хочу ходить нарядная Без сердечного дружка!» То-то дуры вы, молодочки! Не сама ли принесла Полуштофик сладкой водочки? А подарков не взяла! Так постой же! Нерушимое Обещаньице даю: У отца дитя любимое! Ты попомни речь мою: Опорожнится коробушка, На покров домой приду И тебя, душа-зазнобушка, В божью церковь поведу!»______
Вплоть до вечера дождливого Молодец бежит бегом И товарища ворчливого Нагоняет под селом. Старый Тихоныч ругается: «Я уж думал, ты пропал!» Ванька только ухмыляется — Я-де ситцы продавал!II
Зачали-почали
Поповы дочери.
Припев деревенских торгашей «Эй, Федорушки! Варварушки! Отпирайте сундуки! Выходите к нам, сударушки, Выносите пятаки!» Жены мужние — молодушки К коробейникам идут, Красны девушки-лебедушки Новины свои несут. И старушки важеватые, Глядь, туда же приплелись. «Ситцы есть у нас богатые, Есть миткаль, кумач и плис. Есть у нас мыла пахучие — По две гривны за кусок, Есть румяна нелинючие — Молодись за пятачок! Видишь, камни самоцветные В перстеньке как жар горят. Есть и любчики[26] заветные — Хоть кого приворожат!» Началися толки рьяные, Посреди села базар, Бабы ходят словно пьяные, Друг у дружки рвут товар. Старый Тихоныч так божится Из-за каждого гроша, Что Ванюха только ежится: «Пропади моя душа! Чтоб тотчас же очи лопнули, Чтобы с места мне не встать, Провались я!..» Глядь — и хлопнули По рукам! Ну, исполать! Не торговец — удивление! Как божиться-то не лень… Долго, долго всё селение Волновалось в этот день. Где гроши какие медные Были спрятаны в мотках, Всё достали бабы бедные, Ходят в новеньких платках. Две снохи за ленту пеструю Расцарапалися в кровь. На Феклушку, бабу вострую, Раскудахталась свекровь. А потом и коробейников Поругала баба всласть: «Принесло же вас, мошейников! Вот уж подлинно напасть! Вишь, вы жадны, как кутейники{66}, Из села бы вас колом!..» Посмеялись коробейники И пошли своим путем.III
Уж ты пей до дна, коли хошь добра,
А не хошь добра, так не пей до дна.
Старинная былина За селом остановилися, Поделили барыши И на церковь покрестилися, Повздыхали от души. — Славно, дядя, ты торгуешься! Что не весел? ох да ох! «В день теперя не отплюешься, Как еще прощает бог: Осквернил уста я ложию — Не обманешь — не продашь!» И опять на церковь божию Долго крестится торгаш. «Кабы в строку приходилися Все-то речи продавца, Все давно бы провалилися До единого купца — Сквозь сырую землю-матушку Провалились бы… эх-эх!» — Понагрел ты Калистратушку. «Ну, его нагреть не грех, Сам снимает крест с убогого». — Рыжий, клином борода. «Нашим делом нынче многого Не добыть — не те года! Подошла война проклятая, Да и больно уж лиха, Где бы свадебка богатая — Цоп в солдаты жениха! Царь дурит — народу горюшко! Точит русскую казну, Красит кровью Черно морюшко, Корабли валит ко дну. Перевод свинцу, да олову, Да удалым молодцам. Весь народ повесил голову, Стон стоит по деревням. Ой! бабье неугомонное, Полно взапуски реветь! Причитанье похоронное Над живым-то рано петь! Не уймешь их! Как отпетого Парня в город отвезут. Бабы сохнут с горя с этого, Мужики в кабак идут. Ты попомни целовальника, Что сказал — подлец седой! «Выше нет меня начальника, Весь народ — работник мой! Лето, осень убиваются, А спроси-ка, на кого Православные стараются? Им не нужно ничего! Всё бессребреники, сватушка, Сам не сею и не жну, Что родит земля им, матушка, Всё несут в мою казну!» «Пропилися, подоконники, Где уж баб им наряжать! В город едут, балахонники, Ходят лапти занимать! Ой! ты зелие кабашное, Да китайские чаи, Да курение табашное! Бродим сами не свои. С этим пьянством да курением Сломишь голову как раз. Перед светопреставлением, Знать, война-то началась. Грянут, грянут гласы трубные! Станут мертвые вставать! За дела-то душегубные Как придется отвечать? Вот и мы гневим всевышнего…» — Полно, дядя! Страшно мне! Уж не взять рублишка лишнего На чужой-то стороне?..IV
Ай, барыня! барыня!
Песня «Эй вы, купчики-голубчики, К нам ступайте ночевать!» Ночевали наши купчики, Утром тронулись опять. Полегоньку подвигаются, Накопляют барыши, Чем попало развлекаются По дороге торгаши. По реке идут — с бурлаками Разговоры заведут. «Кто вас спутал?»[27] — и собаками Их бурлаки назовут. Поделом вам, пересмешники, Лыком шитые купцы!.. Потянулись огурешники: «Эй! просыпал огурцы!» Ванька вдруг как захихикает И на стадо показал: Старичонко в стаде прыгает За савраской, — длинен, вял, И на цыпочки становится, И лукошечком манит — Нет! проклятый конь не ловится! Вот подходит, вот стоит. Сунул голову в лукошечко, — Старичок за холку хвать! — Эй! еще, еще немножечко! — Нет! урвался конь опять И, подбросив ноги задние, Брызнул грязью в старика. «Знамо, в стаде-то поваднее, Чем в косуле мужика: Эх ты, пареной да вяленой! Где тебе его поймать? Потерял сапог-то валяной, Надо новый покупать!» Им обозики военные Попадались иногда: «Погляди-тко, турки пленные, Эка пестрая орда!» Ванька искоса поглядывал На турецких усачей И в свиное ухо складывал Полы свиточки своей: «Эй вы, нехристи, табашники, Карачун приходит вам!..» Попадались им собашники: Псы носились по кустам, А охотничек покрикивал, В роги звонкие трубил, Чтобы серый зайка спрыгивал, В чисто поле выходил. Остановятся с ребятами: — Чьи такие господа? «Кашпирята с Зюзенятами…[28] Заяц! вон гляди туда!» Всполошилися борзители: «Ай! ату его! ату!» Ну собачки! Ну губители! Подхватили на лету… Посидели на пригорочке, Закусили как-нибудь (Не разъешься черствой корочки) И опять пустились в путь. — Счастье, Тихоныч, неровное, Нынче выручка плоха. «Встрелось нам лицо духовное — Хуже не было б греха. Хоть душа-то христианская, Согрешил — поджал я хвост». — Вот усадьбишка дворянская, Завернем?.. — «Ты, Ваня, прост! Нынче баре деревенские Не живут по деревням, И такие моды женские Завелись… куда уж нам! Хоть бы наша: баба старая, Угреватая лицом, Безволосая, поджарая, А оделась — стог стогом! Говорить с тобой гнушается: Ты мужик, так ты нечист! А тобой-то кто прельщается? Долог хвост, да не пушист! Ой! ты, барыня спесивая, Ты стыдись глядеть на свет! У тебя коса фальшивая, Ни зубов, ни груди нет, Всё подклеено, подвязано! Город есть такой: Париж, Про него недаром сказано: Как заедешь — угоришь. По всему по свету славится, Мастер по миру пустить; Коли нос тебе не нравится, Могут новый наклеить! Вот от этих-то мошейников, Что в том городе живут, Ничего у коробейников Нынче баре не берут. Черт побрал бы моду новую! А, бывало, в старину Приведут меня в столовую, Все товары разверну; Выдет барыня красивая, С настоящею косой, Важеватая, учтивая, Детки выбегут гурьбой, Девки горничные, нянюшки, Слуги высыплют к дверям. На рубашечки для Ванюшки И на платья дочерям Всё сама руками белыми Отбирает, не спеша, И берет кусками целыми — Вот так барыня-душа! «Что возьмешь за серьги с бусами? Что за алую парчу?» Я тряхну кудрями русыми, Заломлю — чего хочу! Навалит покупки кучею, Разочтется — бог с тобой!.. А то раз попал я к случаю За рекой за Костромой. Именины были званые — Расходился баринок! Слышу, кличут гости пьяные: «Подходи сюда, дружок!» Подбегаю к ним скорехонько. «Что возьмешь за короб весь?» Усмехнулся я легохонько: — Дорог будет, ваша честь. — Слово за слово, приятели Посмеялись меж собой Да три сотни и отпятили, Не глядя, за короб мой. Уж тогда товары вынули Да в девичий хоровод Середи двора и кинули: «Подбирай, честной народ!» Закипела свалка знатная. Вот так были господа: Угодил домой обратно я На девятый день тогда!»V
— Много ли верст до Гогулина?
— Да обходами три, а прямо-то шесть.
Крестьянская шутка Хорошо было детинушке Сыпать ласковы слова, Да трудненько Катеринушке Парня ждать до покрова. Часто в ночку одинокую Девка часу не спала, А как жала рожь высокую, Слезы в три ручья лила! Извелась бы неутешная, Кабы время горевать, Да пора страдная, спешная — Надо десять дел кончать. Как ни часто приходилося Молодице невтерпеж, Под косой трава валилася, Под серпом горела рожь. Изо всей-то силы-моченьки Молотила по утрам, Лен стлала до темной ноченьки По росистым по лугам. Стелет лен, а неотвязная Дума на сердце лежит: «Как другая девка красная Молодца приворожит? Как изменит? как засватает На чужой на стороне?» И у девки сердце падает: «Ты женись, женись на мне! Ни тебе, ни свекру-батюшке Николи не согрублю, От свекрови, твоей матушки, Слово всякое стерплю. Не дворянка, не купчиха я, Да и нравом-то смирна, Буду я невестка тихая, Работящая жена. Ты не нудь себя работою, Силы мне не занимать, Я за милого с охотою Буду пашенку пахать. Ты живи себе гуляючи За работницей-женой, По базарам разъезжаючи, Веселися, песни пой! А вернешься с торгу пьяненькой — Накормлю и уложу! «Спи, пригожий, спи, румяненькой!» — Больше слова не скажу. Видит бог, не осердилась бы! Обрядила бы коня, Да к тебе и подвалилась бы: — Поцелуй, дружок, меня!..» Думы девичьи заветные, Где вас все-то угадать? Легче камни самоцветные На дне моря сосчитать. Уж овечка опушается, Чуя близость холодов, Катя пуще разгорается… Вот и праздничек покров!______
«Ой! пуста, пуста коробушка, Полон денег кошелек. Жди-пожди, душа-зазнобушка, Не обманет мил-дружок!» Весел Ванька. Припеваючи, Прямиком домой идет. Старый Тихоныч, зеваючи, То и дело крестит рот. В эту ночку не уснулося Ни минуточки ему. Как мошна-то пораздулася, Так бог знает почему Всё такие мысли страшные Забираются в башку. Прощелыги ли кабашные Подзывают к кабаку, Попадутся ли солдатики — Коробейник сам не свой: «Проходите с богом, братики!» — И ударится рысцой. Словно пятки-то иголками Понатыканы — бежит. В Кострому идут проселками, По болоту путь лежит, То кочажником, то бродами. «Эх! пословица-то есть: Коли три версты обходами, Прямиками будет шесть! Да в Трубе, в селе, мошейники Сбили с толку, мужики: — Вы подите, коробейники, В Кострому-то напрямки: Верных сорок с половиною По нагорной стороне, А болотной-то тропиною Двадцать восемь. — Вот оне! Черт попутал — мы поверили, А кто версты тут считал?» — Бабы их клюкою меряли, — Ванька с важностью сказал. — Не ругайся! Сам я слыхивал, Тут дорога попрямей. «Дьявол, что ли, понапихивал Этих кочек да корней? Доведись пора вечерняя, Не дойдешь — сойдешь с ума! Хороша наша губерния, Славен город Кострома, Да леса, леса дремучие, Да болота к ней ведут, Да пески, пески сыпучие…» — Стой-ка, дядя, чу, идут!«Зеленый Шум»
VI
Только молодец и жив бывал.
Старинная былина Не тростник высок колышется, Не дубровушки шумят, Молодецкий посвист слышится, Под ногой сучки трещат. Показался пес в ошейничке. Вот и добрый молодец: — Путь-дорога, коробейнички! «Путь-дороженька, стрелец!» — Что ты смотришь? — «Не прохаживал Ты, как давеча в Трубе Про дорогу я расспрашивал?» — Нет, почудилось тебе. Трои сутки не был дома я, Жить ли дома леснику? «А кажись, лицо знакомое», — Шепчет Ванька старику. — Что вы шепчетесь? — «Да каемся, Лучше б нам горой идти. Так ли, малый, пробираемся В Кострому?» — Нам по пути, Я из Шуньи. — «А далеко ли До деревни до твоей?» — Верст двенадцать. А по многу ли Поделили барышей? «Коли знать всю правду хочется, Весь товар несем назад». Лесничок как расхохочется! — Ты, я вижу, прокурат! Кабы весь, небось не скоро бы Шел ты, старый воробей! — И лесник приподнял коробы На плечах у торгашей. — Ой! легохоньки коробушки, Всё повыпродали, знать? Наклевалися воробушки, Полетели отдыхать! «Что, дойдем в село до ноченьки?» — Надо, парень, добрести, Сам устал я, нету моченьки — Тяжело ружье нести. Наше дело подневольное, День и ночь броди в лесу. — И с плеча ружье двуствольное Снял — и держит на весу. — Эх вы, стволики-голубчики! Больно вы уж тяжелы. — Покосились наши купчики На тяжелые стволы: Сколько ниток понамотано! В палец щели у замков. «Неужели, парень, бьет оно?» — Бьет на семьдесят шагов. — Деревенский, видно, плотничек Строил ложу — тяп да ляп! Да и сам Христов охотничек Ростом мал и с виду слаб. Выше пояса замочена Одежонка лесника, Борода густая склочена, Лычко вместо пояска. А туда же пес в ошейнике, По прозванию Упырь. Посмеялись коробейники: «Эх ты, горе-богатырь!..» Час идут, другой. «Далеко ли?» — Близко. — «Что ты?» — У реки Куропаточки закокали. — И детина взвел курки. — Ай, курочки! важно щелкнули, Хоть медведя уложу! Что вы, други, приумолкнули? Запоем для куражу! — Коробейникам не пелося: Уж темнели небеса, Над болотом засинелася, Понависнула роса. «День-деньской и так умелешься, Сам бы лучше ты запел… Что ты?.. Эй! в кого ты целишься?» — Так, я пробую прицел… Дождик, что ли, собирается, Ходят по небу бычки[29], Вечер пуще надвигается, Прытче идут мужички. Пес бежит сторонкой, нюхает, Поминутно слышит дичь. Чу! как ухалица[30] ухает, Чу! ребенком стонет сыч. Поглядел старик украдкою: Парня словно дрожь берет. «Аль спознался с лихорадкою?» — Да уж три недели бьет — Полечи! — А сам прищурился, Словно в Ваньку норовит. Старый Тихоныч нахмурился: «Что за шутки! — говорит. — Чем шутить такие шуточки, Лучше песни петь и впрямь. Погодите полминуточки — Затяну лихую вам! Знал я старца еле зрячего, Он весь век с сумой ходил И про странника бродячего Песню длинную сложил. Ней от старости, ней с голоду Он в канавке кончил век, А живал богато смолоду, Был хороший человек, Вспоминают обыватели. Да его попутал бог: По ошибке заседатели Упекли его в острог: Нужно было из Спиридова Вызвать Тита Кузьмича, Описались — из Давыдова Взяли Титушку-ткача! Ждет сердечный: «завтра, нонче ли Ворочусь на вольный свет?» Наконец и дело кончили, А ему решенья нет. «Эй, хозяйка! нету моченьки, Ты иди к судьям опять! Изойдут слезами оченьки, Как полотна буду ткать?» Да не то у Степанидушки Завелося на уме: С той поры ее у Титушки Не видали уж в тюрьме. Захворала ли, покинула, Тит не ведал ничего. Лет двенадцать этак минуло — Призывают в суд его. Пред зерцалом, в облачении{67} Молодой судья сидел. Прочитал ему решение, Расписаться повелел И на все четыре стороны Отпустил — ступай к жене! «А за что вы, черны вороны, Очи выклевали мне?» Тут и сам судья покаялся: — Ты прости, прости любя! Вправду ты задаром маялся, Позабыли про тебя! Тит — домой. Поля не ораны, Дом растаскан на клочки, Продала косули, бороны, И одёжу, и станки, С баринком слюбилась женушка, Убежала в Кострому. Тут родимая сторонушка Опостылела ему. Плюнул! Долго не разгадывал, Без дороги в путь пошел. Шел — да песню эту складывал, Сам с собою речи вел. И говаривал старинушка: «Вся-то песня — два словца. А запой ее, детинушка, Не дотянешь до конца! Эту песенку мудреную Тот до слова допоет, Кто всю землю, Русь крещеную, Из конца в конец пройдет». Сам ее Христов угодничек Не допел — спит вечным сном. Ну! подтягивай, охотничек! Да иди ты передом!Песня убогого странника
Я лугами иду — ветер свищет в лугах: Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименькой, холодно! Я лесами иду — звери воют в лесах: Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименькой, голодно! Я хлебами иду: что вы тощи, хлеба? С холоду, странничек, с холоду, С холоду, родименькой, с холоду! Я стадами иду: что скотинка слаба? С голоду, странничек, с голоду, С голоду, родименькой, с голоду! Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименькой, холодно! Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименькой, голодно! Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь? С холоду, странничек, с холоду, С холоду, родименькой, с холоду! Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь? С голоду, странничек, с голоду, С голоду, родименькой, с голоду! Я опять во луга — ветер свищет в лугах: Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименькой, холодно! Я опять во леса — звери воют в лесах: Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименькой, голодно! Я опять во хлеба, — Я опять во стада, — и т. д.______
Пел старик, а сам поглядывал: Поминутно лесничок То к плечу ружье прикладывал, То потрогивал курок. На беду, ни с кем не встретишься! «Полно петь… Эй, молодец! Что отстал?.. В кого ты метишься? Что ты делаешь, подлец!» — Трусы, трусы вы великие! — И лесник захохотал (А глаза такие дикие!). «Стыдно! — Тихоныч сказал. — Как не грех тебе захожего Человека так пугать? А еще хотел я дешево Миткалю тебе продать!» Молодец не унимается, Штуки делает ружьем, Воем, лаем отзывается Хохот глупого кругом. «Эй! уймись! Чего дурачишься? — Молвил Ванька. — Я молчу, А заеду, так наплачешься, Разом скулы сворочу! Коли ты уж с нами встретился, Должен честью проводить». А лесник опять наметился. «Не шути!» — Чаво шутить! — Коробейники отпрянули, Бог помилуй — смерть пришла! Почитай-что разом грянули Два ружейные ствола. Без словечка Ванька валится, С криком падает старик…______
В кабаке бурлит, бахвалится Тем же вечером лесник: «Пейте, пейте, православные! Я, ребятушки, богат; Два бекаса нынче славные Мне попали под заряд! Много серебра и золотца, Много всякого добра Бог послал!» Глядят, у молодца Точно — куча серебра. Подзадорили детинушку — Он почти всю правду бух! На беду его — скотинушку Тем болотом гнал пастух: Слышал выстрелы ружейные, Слышал крики… «Стой! винись!..» И мирские и питейные Тотчас власти собрались. Молодцу скрутили рученьки: «Ты вяжи меня, вяжи, Да не тронь мои онученьки!» — Их-то нам и покажи! — Поглядели, под онучами Денег с тысячу рублей — Серебро, бумажки кучами. Утром позвали судей, Судьи тотчас всё доведали (Только денег не нашли!), Погребенью мертвых предали, Лесника в острог свезли…1861
20 ноября, 1861
{68}
Я покинул кладбище унылое, Но я мысль мою там позабыл, — Под землею в гробу приютилася И глядит на тебя, мертвый друг! Ты схоронен в морозы трескучие, Жадный червь не коснулся тебя, На лицо через щели гробовые Проступить не успела вода; Ты лежишь, как сейчас, похороненный, Только словно длинней и белей Пальцы рук, на груди твоей сложенных, Да сквозь землю проникнувшим инеем Убелил твои кудри мороз, Да следы наложили чуть видные Поцелуи суровой зимы На уста твои плотно сомкнутые И на впалые очи твои…1861
Зеленый Шум
{69}
Идет-гудет Зеленый Шум[31], Зеленый Шум, весенний шум! Играючи расходится Вдруг ветер верховой: Качнет кусты ольховые, Подымет пыль цветочную, Как облако: всё зелено, И воздух и вода! Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Скромна моя хозяюшка Наталья Патрикеевна, Водой не замутит! Да с ней беда случилася, Как лето жил я в Питере… Сама сказала, глупая, Типун ей на язык! В избе сам-друг с обманщицей Зима нас заперла, В мои глаза суровые Глядит, — молчит жена. Молчу… а дума лютая Покоя не дает: Убить… так жаль сердечную! Стерпеть — так силы нет! А тут зима косматая Ревет и день и ночь: «Убей, убей изменницу! Злодея изведи! Не то весь век промаешься, Ни днем, ни долгой ноченькой Покоя не найдешь. В глаза твои бесстыжие Соседи наплюют!..» Под песню-вьюгу зимнюю Окрепла дума лютая — Припас я вострый нож… Да вдруг весна подкралася… Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Как молоком облитые, Стоят сады вишневые, Тихохонько шумят; Пригреты теплым солнышком, Шумят повеселелые Сосновые леса; А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая, И белая березонька С зеленою косой! Шумит тростинка малая, Шумит высокий клен… Шумят они по-новому, По-новому, весеннему… Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Слабеет дума лютая, Нож валится из рук, И всё мне песня слышится Одна — в лесу, в лугу: «Люби, покуда любится, Терпи, покуда терпится, Прощай, пока прощается, И — бог тебе судья!»1862
«Литература, с трескучими фразами…»
{70}
Литература, с трескучими фразами, Полная духа античеловечного, Администрация наша с указами О забирании всякого встречного, — Дайте вздохнуть!.. Я простился с столицами, Мирно живу средь полей, Но и крестьяне с унылыми лицами Не услаждают очей; Их нищета, их терпенье безмерное Только досаду родит… Что же ты любишь, дитя маловерное, Где же твой идол стоит?..1862
«В полном разгаре страда деревенская…»
В полном разгаре страда деревенская… Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени, Всевыносящего русского племени Многострадальная мать! Зной нестерпимый: равнина безлесная, Нивы, покосы да ширь поднебесная — Солнце нещадно палит. Бедная баба из сил выбивается, Столб насекомых над ней колыхается, Жалит, щекочет, жужжит! Приподнимая косулю тяжелую, Баба порезала ноженьку голую — Некогда кровь унимать! Слышится крик у соседней полосыньки, Баба туда — растрепалися косыньки, — Надо ребенка качать! Что же ты стала над ним в отупении? Пой ему песню о вечном терпении, Пой, терпеливая мать!.. Слезы ли, пот ли у ней над ресницею, Право, сказать мудрено. В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею, Канут они — всё равно! Вот она губы свои опаленные Жадно подносит к краям… Вкусны ли, милая, слезы соленые С кислым кваском пополам?..1862
Рыцарь на час
{71}
Если пасмурен день, если ночь не светла, Если ветер осенний бушует, Над душой воцаряется мгла, Ум, бездействуя, вяло тоскует. Только сном и возможно помочь, Но, к несчастью, не всякому спится… Слава богу! морозная ночь — Я сегодня не буду томиться. По широкому полю иду, Раздаются шаги мои звонко, Разбудил я гусей на пруду, Я со стога спугнул ястребенка, Как он вздрогнул! как крылья развил! Как взмахнул ими сильно и плавно! Долго, долго за ним я следил, Я невольно сказал ему: славно! Чу! стучит проезжающий воз, Деготьком потянуло с дороги… Обоняние тонко в мороз, Мысли свежи, выносливы ноги. Отдаешься невольно во власть Окружающей бодрой природы; Сила юности, мужество, страсть И великое чувство свободы Наполняют ожившую грудь; Жаждой дела душа закипает, Вспоминается пройденный путь, Совесть песню свою запевает… Я советую гнать ее прочь — Будет время еще сосчитаться! В эту тихую, лунную ночь Созерцанию должно предаться. Даль глубоко прозрачна, чиста, Месяц полный плывет над дубровой, И господствуют в небе цвета Голубой, беловатый, лиловый. Воды ярко блестят средь полей, А земля прихотливо одета В волны белого лунного света И узорчатых, странных теней. От больших очертаний картины До тончайших сетей паутины, Что, как иней, к земле прилегли, — Всё отчетливо видно: далече Протянулися полосы гречи, Красной лентой по скату прошли; Замыкающий сонные нивы, Лес сквозит, весь усыпан листвой; Чудны красок его переливы Под играющей, ясной луной: Дуб ли пасмурный, клен ли веселый — В нем легко отличишь издали; Грудью к северу, ворон тяжелый — Видишь — дремлет на старой ели! Всё, чем может порадовать сына Поздней осенью родина-мать: Зеленеющей озими гладь, Подо льном — золотая долина, Посреди освещенных лугов Величавое войско стогов, Всё доступно довольному взору… Не сожмется мучительно грудь, Если б даже пришлось в эту пору На родную деревню взглянуть: Не видна ее бедность нагая! Запаслася скирдами, родная, Окружилася ими она И стоит, словно полная чаша. Пожелай ей покойного сна — Утомилась, кормилица наша!.. Спи, кто может, — я спать не могу, Я стою потихоньку, без шуму, На покрытом стогами лугу И невольную думаю думу. Не умел я с тобой совладать, Не осилил я думы жестокой… В эту ночь я хотел бы рыдать На могиле далекой, Где лежит моя бедная мать… В стороне от больших городов, Посреди бесконечных лугов, За селом, на горе невысокой, Вся бела, вся видна при луне, Церковь старая чудится мне, И на белой церковной стене Отражается крест одинокий. Да! я вижу тебя, божий дом! Вижу надписи вдоль по карнизу И апостола Павла с мечом, Облаченного в светлую ризу. Поднимается сторож-старик На свою колокольню-руину, На тени он громадно велик: Пополам пересек всю равнину. Поднимись! — и медлительно бей, Чтобы слышалось долго гуденье! В тишине деревенских ночей Этих звуков властительно пенье: Если есть в околотке больной, Он при них встрепенется душой И, считая внимательно звуки, Позабудет на миг свои муки; Одинокий ли путник ночной Их заслышит — бодрее шагает; Их заботливый пахарь считает И, крестом осенясь в полусне, Просит бога о ведренном дне. Звук за звуком, гудя, прокатился, Насчитал я двенадцать часов. С колокольни старик возвратился, Слышу шум его звонких шагов, Вижу тень его; сел на ступени, Дремлет, голову свесив в колени. Он в мохнатую шапку одет, В балахоне убогом и темном… Всё, чего не видал столько лет, От чего я пространством огромным Отделен, — всё живет предо мной, Всё так ярко рисуется взору, Что не верится мне в эту пору, Чтоб не мог увидать я и той, Чья душа здесь незримо витает, Кто под этим крестом почивает… Повидайся со мною, родимая! Появись легкой тенью на миг! Всю ты жизнь прожила нелюбимая, Всю ты жизнь прожила для других. С головой, бурям жизни открытою, Весь свой век под грозою сердитою Простояла ты, — грудью своей Защищая любимых детей. И гроза над тобой разразилася! Ты, не дрогнув, удар приняла, За врагов, умирая, молилася, На детей милость бога звала. Неужели за годы страдания Тот, кто столько тобою был чтим, Не пошлет тебе радость свидания С погибающим сыном твоим?.. Я кручину мою многолетнюю На родимую грудь изолью, Я тебе мою песню последнюю, Мою горькую песню спою. О прости! то не песнь утешения, Я заставлю страдать тебя вновь, Но я гибну — и ради спасения Я твою призываю любовь! Я пою тебе песнь покаяния, Чтобы кроткие очи твои Смыли жаркой слезою страдания Все позорные пятна мои! Чтоб ту силу свободную, гордую, Что в мою заложила ты грудь, Укрепила ты волею твердою И на правый поставила путь… Треволненья мирского далекая, С неземным выраженьем в очах, Русокудрая, голубоокая, С тихой грустью на бледных устах, Под грозой величаво-безгласная — Молода умерла ты, прекрасная, И такой же явилась ты мне При волшебно светящей луне. Да! я вижу тебя, бледнолицую, И на суд твой себя отдаю. Не робеть перед правдой-царицею Научила ты музу мою: Мне не страшны друзей сожаления, Не обидно врагов торжество, Изреки только слово прощения, Ты, чистейшей любви божество! Что враги? пусть клевещут язвительней, Я пощады у них не прошу, Не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу! Что друзья? Наши силы неровные, Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на всё безрассудно дерзал, Я не думал, что молодость шумная, Что надменная сила пройдет — И влекла меня жажда безумная, Жажда жизни — вперед и вперед! Увлекаем бесславною битвою, Сколько раз я над бездной стоял, Поднимался твоею молитвою, Снова падал — и вовсе упал!.. Выводи на дорогу тернистую! Разучился ходить я по ней, Погрузился я в тину нечистую Мелких помыслов, мелких страстей. От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви! Тот, чья жизнь бесполезно разбилася, Может смертью еще доказать, Что в нем сердце не робкое билося, Что умел он любить… …………………(Утром, в постели)
О мечты! о волшебная власть Возвышающей душу природы! Пламя юности, мужество, страсть И великое чувство свободы — Все в душе угнетенной моей Пробудилось… но где же ты, сила? Я проснулся ребенка слабей. Знаю: день проваляюсь уныло, Ночью буду микстуру глотать, И пугать меня будет могила, Где лежит моя бедная мать. Все, что в сердце кипело, боролось, Все луч бледного утра спугнул, И насмешливый внутренний голос Злую песню свою затянул: «Покорись — о, ничтожное племя! Неизбежной и горькой судьбе, Захватило вас трудное время Неготовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, Но для дела вы мертвы давно, Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано…»1862
«Надрывается сердце от муки…»
{72}
Надрывается сердце от муки, Плохо верится в силу добра, Внемля в мире царящие звуки Барабанов, цепей, топора. Но люблю я, весна золотая, Твой сплошной, чудно-смешанный шум; Ты ликуешь, на миг не смолкая, Как дитя, без заботы и дум. В обаянии счастья и славы, Чувству жизни ты вся предана, — Что-то шепчут зеленые травы, Говорливо струится волна; В стаде весело ржет жеребенок, Бык с землей вырывает траву, А в лесу белокурый ребенок — Чу! кричит: «Парасковья, ау!» По холмам, по лесам, над долиной Птицы севера вьются, кричат, Разом слышны — напев соловьиный И нестройные писки галчат, Грохот тройки, скрипенье подводы, Крик лягушек, жужжание ос, Треск кобылок, — в просторе свободы Всё в гармонию жизни слилось… Я наслушался шума иного… Оглушенный, подавленный им, Мать-природа! иду к тебе снова Со всегдашним желаньем моим — Заглуши эту музыку злобы! Чтоб душа ощутила покой И прозревшее око могло бы Насладиться твоей красотой.1863
Калистрат
{73}
Надо мной певала матушка, Колыбель мою качаючи: «Будешь счастлив, Калистратушка! Будешь жить ты припеваючи!» И сбылось, по воле божией, Предсказанье моей матушки: Нет богаче, нет пригожее, Нет нарядней Калистратушки! В ключевой воде купаюся, Пятерней чешу волосыньки, Урожаю дожидаюся С непосеянной полосыньки! А хозяйка занимается На нагих детишек стиркою, Пуще мужа наряжается — Носит лапти с подковыркою!..1863
«Благодарение господу богу…»
{74}
I
«Благодарение господу богу, Кончен проселок!.. Не спишь?» — Думаю, братец, про эту дорогу. «То-то давненько молчишь. Что же ты думаешь?» — Долго рассказывать. Только тронулись по ней, Стала мне эта дорога показывать Тени погибших людей, Бледные тени! ужасные тени! Злоба, безумье, любовь… Едем мы, братец, в крови по колени! «Полно — тут пыль, а не кровь…»II
«Барин! не выпить ли нам понемногу? Больно уж ты присмирел». — Пел бы я песню про эту дорогу, Пел бы да ревма ревел, Песней над песнями стала бы эта Песня… да петь не рука. «Песня про эту дорогу уж спета, Да что в ней проку?.. Тоска!» — Знаю, народ проторенной цепями Эту дорогу зовет. «Верно! увидишь своими глазами, Русская песня не врет!»III
Скоро попались нам пешие ссыльные, С гиком ямщик налетел, В тряской телеге два путника пыльные Скачут… едва разглядел… Подле лица — молодого, прекрасного — С саблей усач… Брат, удаляемый с поста опасного, Есть ли там смена? Прощай!1863
Орина, мать солдатская
День-деньской моя печальница,
В ночь — ночная богомолица,
Векова моя сухотница…
Из народной песни{75}
Чуть живые, в ночь осеннюю Мы с охоты возвращаемся, До ночлега прошлогоднего, Слава богу, добираемся. — Вот и мы! Здорово, старая! Что насупилась ты, кумушка! Не о смерти ли задумалась? Брось! пустая это думушка! Посетила ли кручинушка? Молви — может, и размыкаю. — И поведала Орииушка Мне печаль свою великую. «Восемь лет сынка не видела, Жив ли, нет — не откликается, Уж и свидеться не чаяла, Вдруг сыночек возвращается. Вышло молодцу в бессрочные… Истопила жарко банюшку, Напекла блинов Оринушка, Не насмотрится на Ванюшку! Да не долги были радости. Воротился сын больнехонек, Ночью кашель бьет солдатика, Белый плат в крови мокрехонек! Говорит: «поправлюсь, матушка!» Да ошибся — не поправился, Девять дней хворал Иванушка, На десятый день преставился…» Замолчала — не прибавила Ни словечка, бесталанная. — Да с чего же привязалася К парню хворость окаянная? Хилый, что ли, был с рождения?.. — Встрепенулася Оринушка: «Богатырского сложения, Здоровенный был детинушка! Подивился сам из Питера Генерал на парня этого, Как в рекрутское присутствие Привели его раздетого… На избенку эту бревнышки Он один таскал сосновые… И вилися у Иванушки Русы кудри, как шелковые…» И опять молчит несчастная… — Не молчи — развей кручинушку! Что сгубило сына милого — Чай, спросила ты детинушку? «Не любил, сударь, рассказывать Он про жизнь свою военную, Грех мирянам-то показывать Душу — богу обреченную! Говорить — гневить всевышнего, Окаянных бесов радовать… Чтоб не молвить слова лишнего, На врагов не подосадовать, Немота перед кончиною Подобает христианину. Знает бог, какие тягости Сокрушили силу Ванину! Я узнать не добивалася. Никого не осуждаючи, Он одни слова утешные Говорил мне, умираючи. Тихо по двору похаживал Да постукивал топориком, Избу ветхую облаживал, Огород обнес забориком; Перекрыть сарай задумывал. Не сбылись его желания: Слег — и встал на ноги резвые Только за день до скончания! Поглядеть на солнце красное Пожелал, — пошла я с Ванею: Попрощался со скотинкою, Попрощался с ригой, с банею. Сенокосом шел — задумался, — Ты прости, прости, полянушка! Я косил тебя во младости! — И заплакал мой Иванушка! Песня вдруг с дороги грянула, Подхватил, что было голосу «Не белы снежки», закашлялся, Задышался — пал на полосу! Не стояли ноги резвые, Не держалася головушка! С час домой мы возвращалися… Было время — пел соловушка! Страшно в эту ночь последнюю Было: память потерялася, Всё ему перед кончиною Служба эта представлялася. Ходит, чистит амуницию, Набелил ремни солдатские, Языком играл сигналики, Песни пел — такие хватские! Артикул ружьем выкидывал, Так, что весь домишка вздрагивал; Как журавль, стоял на ноженьке На одной — носок вытягивал. Вдруг метнулся… смотрит жалобно… Повалился — плачет, кается, Крикнул: «ваше благородие! Ваше!»… вижу — задыхается: Я к нему. Утих, послушался — Лег на лавку. Я молилася: Не пошлет ли бог спасение?.. К утру память воротилася, Прошептал: «прощай, родимая! Ты опять одна осталася!..» Я над Ваней наклонилася, Покрестила, попрощалася, И погас он, словно свеченька Восковая, предиконная…»______
Мало слов, а горя реченька, Горя реченька бездонная!..1863
Мороз, Красный нос
Сестре{76}
{77}
Ты опять упрекнула меня, Что я с музой моей раздружился, Что заботам текущего дня И забавам его подчинился. Для житейских расчетов и чар Не расстался б я с музой моею, Но бог весть, не погас ли тот дар, Что, бывало, дружил меня с нею? Но не брат еще людям поэт, И тернист его путь и непрочен, Я умел не бояться клевет, Не был ими я сам озабочен; Но я знал, чье во мраке ночном Надрывалося сердце с печали, И на чью они грудь упадали свинцом, И кому они жизнь отравляли. И пускай они мимо прошли, Надо мною ходившие грозы, Знаю я, чьи молитвы и слезы Роковую стрелу отвели… Да и время ушло, — я устал… Пусть я не был бойцом без упрека, Но я силы в себе сознавал, Я во многое верил глубоко, А теперь — мне пора умирать… Не затем же пускаться в дорогу, Чтобы в любящем сердце опять Пробудить роковую тревогу… Присмиревшую музу мою Я и сам неохотно ласкаю… Я последнюю песню пою Для тебя — и тебе посвящаю. Но не будет она веселей, Будет много печальнее прежней, Потому что на сердце темней И в грядущем еще безнадежней… Буря воет в саду, буря ломится в дом, Я боюсь, чтоб она не сломила Старый дуб, что посажен отцом, И ту иву, что мать посадила, Эту иву, которую ты С нашей участью странно связала, На которой поблекли листы В ночь, как бедная мать умирала… И дрожит и пестреет окно… Чу! как крупные градины скачут! Милый друг, поняла ты давно — Здесь одни только камни не плачут… …………………..Часть первая Смерть крестьянина
I
Савраска увяз в половине сугроба — Две пары промерзлых лаптей Да угол рогожей покрытого гроба Торчат из убогих дровней. Старуха в больших рукавицах Савраску сошла понукать. Сосульки у ней на ресницах, С морозу — должно полагать.II
Привычная дума поэта Вперед забежать ей спешит: Как саваном, снегом одета, Избушка в деревне стоит, В избушке — теленок в подклети, Мертвец на скамье у окна; Шумят его глупые дети, Тихонько рыдает жена. Сшивая проворной иголкой На саван куски полотна, Как дождь, зарядивший надолго, Негромко рыдает она.III
Три тяжкие доли имела судьба, И первая доля: с рабом повенчаться, Вторая — быть матерью сына раба, А третья — до гроба рабу покоряться, И все эти грозные доли легли На женщину русской земли. Века протекали — всё к счастью стремилось, Всё в мире по нескольку раз изменилось, Одну только бог изменить забывал Суровую долю крестьянки. И все мы согласны, что тип измельчал Красивой и мощной славянки. Случайная жертва судьбы! Ты глухо, незримо страдала, Ты свету кровавой борьбы И жалоб своих не вверяла, — Но мне ты их скажешь, мой друг! Ты с детства со мною знакома. Ты вся — воплощенный испуг, Ты вся — вековая истома! Тот сердца в груди не носил, Кто слез над тобою не лил!IV
Однако же речь о крестьянке Затеяли мы, чтоб сказать, Что тип величавой славянки Возможно и ныне сыскать. Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц, — Их разве слепой не заметит, А зрячий о них говорит: «Пройдет — словно солнце осветит! Посмотрит — рублем подарит!» Идут они той же дорогой, Какой весь народ наш идет, Но грязь обстановки убогой К ним словно не липнет. Цветет Красавица, миру на диво, Румяна, стройна, высока, Во всякой одежде красива, Ко всякой работе ловка. И голод и холод выносит, Всегда терпелива, ровна… Я видывал, как она косит: Что взмах — то готова копна! Платок у ней на ухо сбился, Того гляди, косы падут. Какой-то парнек изловчился И кверху подбросил их, шут! Тяжелые русые косы Упали на смуглую грудь, Покрыли ей ноженьки босы, Мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, На парня сердито глядит. Лицо величаво, как в раме, Смущеньем и гневом горит… По будням не любит безделья. Зато вам ее не узнать, Как сгонит улыбка веселья С лица трудовую печать. Такого сердечного смеха И песни, и пляски такой За деньги не купишь. «Утеха!» — Твердят мужики меж собой. В игре ее конный не словит, В беде — не сробеет — спасет: Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет! Красивые, ровные зубы Что крупные перлы у ней, Но строго румяные губы Хранят их красу от людей — Она улыбается редко… Ей некогда лясы точить, У ней не решится соседка Ухвата, горшка попросить; Не жалок ей нищий убогий — Вольно ж без работы гулять! Лежит на ней дельности строгой И внутренней силы печать. В ней ясно и крепко сознанье, Что всё их спасенье в труде, И труд ей несет воздаянье: Семейство не бьется в нужде, Всегда у них теплая хата, Хлеб выпечен, вкусен квасок, Здоровы и сыты ребята, На праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне Пред всею семьей впереди: Сидит, как на стуле, двухлетний Ребенок у ней на груди, Рядком шестилетнего сына Нарядная матка ведет… И по сердцу эта картина Всем любящим русский народ!V
И ты красотою дивила, Была и ловка и сильна, Но горе тебя иссушило, Уснувшего Прокла жена! Горда ты — ты плакать не хочешь, Крепишься, но холст гробовой Слезами невольно ты мочишь, Сшивая проворной иглой. Слеза за слезой упадает На быстрые руки твои. Так колос беззвучно роняет Созревшие зерна свои…VI
В селе, за четыре версты, У церкви, где ветер шатает Подбитые бурей кресты, Местечко старик выбирает; Устал он, работа трудна, Тут тоже сноровка нужна — Чтоб крест было видно с дороги, Чтоб солнце играло кругом. В снегу до колен его ноги, В руках его заступ и лом, Вся в инее шапка большая, Усы, борода в серебре. Недвижно стоит, размышляя, Старик на высоком бугре. Решился. Крестом обозначил, Где будет могилу копать, Крестом осенился и начал Лопатою снег разгребать. Иные приемы тут были, Кладбище не то, что поля: Из снегу кресты выходили, Крестами ложилась земля. Согнув свою старую спину, Он долго, прилежно копал, И желтую мерзлую глину Тотчас же снежок застилал. Ворона к нему подлетела, Потыкала носом, прошлась: Земля, как железо, звенела — Ворона ни с чем убралась… Могила на славу готова, — «Не мне б эту яму копать! (У старого вырвалось слово): Не Проклу бы в ней почивать, Не Проклу!..» Старик оступился, Из рук его выскользнул лом И в белую яму скатился, Старик его вынул с трудом. Пошел… по дороге шагает… Нет солнца, луна не взошла… Как будто весь мир умирает: Затишье, снежок, полумгла…VII
В овраге, у речки Желтухи, Старик свою бабу нагнал И тихо спросил у старухи: «Хорош ли гробок-то попал?» Уста ее чуть прошептали В ответ старику: «ничего». Потом они оба молчали, И дровни так тихо бежали, Как будто боялись чего… Деревня еще не открылась, А близко — мелькает огонь. Старуха крестом осенилась, Шарахнулся в сторону конь — Без шапки, с ногами босыми, С большим заостренным колом, Внезапно предстал перед ними Старинный знакомец Пахом. Прикрыты рубахою женской, Звенели вериги на нем; Постукал дурак деревенский В морозную землю колом, Потом помычал сердобольно, Вздохнул и сказал: «не беда! На вас он работал довольно, И ваша пришла череда! Мать сыну-то гроб покупала, Отец ему яму копал, Жена ему саван сшивала — Всем разом работу вам дал!..» Опять помычал — и без цели В пространство дурак побежал. Вериги уныло звенели, И голые икры блестели, И посох по снегу черкал.VIII
У дома оставили крышу, К соседке свели ночевать Зазябнувших Машу и Гришу И стали сынка обряжать. Медлительно, важно, сурово Печальное дело велось: Не сказано лишнего слова, Наружу не выдано слез. Уснул, потрудившийся в поте! Уснул, поработав земле! Лежит, непричастный заботе, На белом сосновом столе, Лежит неподвижный, суровый, С горящей свечой в головах, В широкой рубахе холщовой И в липовых новых лаптях. Большие, с мозолями руки, Подъявшие много труда, Красивое, чуждое муки Лицо — и до рук борода…IX
Пока мертвеца обряжали, Не выдали словом тоски И только глядеть избегали Друг другу в глаза бедняки. Но вот уже кончено дело, Нет нужды бороться с тоской, И что на душе накипело, Из уст полилося рекой. Не ветер гудит по ковыли, Не свадебный поезд гремит, — Родные по Прокле завыли, По Прокле семья голосит: «Голубчик ты наш сизокрылый! Куда ты от нас улетел? Пригожеством, ростом и силой Ты ровни в селе не имел, Родителям был ты советник, Работничек в поле ты был, Гостям хлебосол и приветник, Жену и детей ты любил… Что ж мало гулял ты по свету? За что нас покинул, родной? Одумал ты думушку эту, Одумал с сырою землей — Одумал — а нам оставаться Велел во миру, сиротам, Не свежей водой умываться, Слезами горючими нам! Старуха помрет со кручины, Не жить и отцу твоему, Береза в лесу без вершины — Хозяйка без мужа в дому. Ее не жалеешь ты, бедной, Детей не жалеешь… Вставай! С полоски своей заповедной По лету сберешь урожай! Сплесни, ненаглядный, руками, Сокольим глазком посмотри, Тряхни шелковыми кудрями, Сахарны уста раствори! На радости мы бы сварили И меду, и браги хмельной, За стол бы тебя посадили — Покушай, желанный, родной! А сами напротив бы стали — Кормилец, надёжа семьи! Очей бы с тебя не спускали, Ловили бы речи твои…»«В полном разгаре страда деревенская…»
X
На эти рыданья и стоны Соседи валили гурьбой: Свечу положив у иконы, Творили земные поклоны И шли молчаливо домой. На смену входили другие. Но вот уж толпа разбрелась, Поужинать сели родные — Капуста да с хлебушком квас. Старик бесполезной кручине Собой овладеть не давал: Подладившись ближе к лучине, Он лапоть худой ковырял. Протяжно и громко вздыхая, Старуха на печку легла, А Дарья, вдова молодая, Проведать ребяток пошла. Всю ноченьку, стоя у свечки, Читал над усопшим дьячок, И вторил ему из-за печки Пронзительным свистом сверчок.XI
Сурово метелица выла И снегом кидала в окно, Невесело солнце всходило: В то утро свидетелем было Печальной картины оно. Савраска, запряженный в сани, Понуро стоял у ворот; Без лишних речей, без рыданий Покойника вынес народ. — Ну, трогай, саврасушка! трогай! Натягивай крепче гужи! Служил ты хозяину много, В последний разок послужи!.. В торговом селе Чистополье Купил он тебя сосунком, Взрастил он тебя на приволье, И вышел ты добрым конем. С хозяином дружно старался, На зимушку хлеб запасал, Во стаде ребенку давался, Травой да мякиной питался, А тело изрядно держал. Когда же работы кончались И сковывал землю мороз, С хозяином вы отправлялись С домашнего корма в извоз. Немало и тут доставалось — Возил ты тяжелую кладь, В жестокую бурю случалось, Измучась, дорогу терять. Видна на боках твоих впалых Кнута не одна полоса, Зато на дворах постоялых Покушал ты вволю овса. Слыхал ты в январские ночи Метели пронзительный вой И волчьи горящие очи Видал на опушке лесной, Продрогнешь, натерпишься страху, А там — и опять ничего! Да, видно, хозяин дал маху — Зима доконала его!..XII
Случилось в глубоком сугробе Полсуток ему простоять, Потом то в жару, то в ознобе Три дня за подводой шагать: Покойник на срок торопился До места доставить товар. Доставил, домой воротился — Нет голосу, в теле пожар! Старуха его окатила Водой с девяти веретен И в жаркую баню сводила, Да нет — не поправился он! Тогда ворожеек созвали — И поят, и шепчут, и трут — Всё худо! Его продевали Три раза сквозь потный хомут, Спускали родимого в пролубь, Под куричий клали насест… Всему покорялся, как голубь, — А плохо — не пьет и не ест! Еще положить под медведя, Чтоб тот ему кости размял, Ходебщик сергачевский Федя{78} — Случившийся тут — предлагал. Но Дарья, хозяйка больного, Прогнала советчика прочь: Испробовать средства иного Задумала баба: и в ночь Пошла в монастырь отдаленный (Верстах в десяти от села), Где в некой иконе явленной Целебная сила была. Пошла, воротилась с иконой — Больной уж безгласен лежал, Одетый как в гроб, причащенный. Увидел жену, простонал И умер…XIII
…Саврасушка, трогай, Натягивай крепче гужи! Служил ты хозяину много, В последний разок послужи! Чу! два похоронных удара! Попы ожидают — иди!.. Убитая, скорбная пара, Шли мать и отец впереди. Ребята с покойником оба Сидели, не смея рыдать, И, правя савраской, у гроба С вожжами их бедная мать Шагала… Глаза ее впали, И был не белей ее щек Надетый на ней в знак печали Из белой холстины платок. За Дарьей — соседей, соседок Плелась негустая толпа, Толкуя, что Прокловых деток Теперь незавидна судьба, Что Дарье работы прибудет, Что ждут ее черные дни. «Жалеть ее некому будет», — Согласно решили они…XIV
Как водится, в яму спустили, Засыпали Прокла землей; Поплакали, громко повыли, Семью пожалели, почтили Покойника щедрой хвалой. Сам староста, Сидор Иваныч, Вполголоса бабам подвыл, И «мир тебе, Прокл Севастьяныч! — Сказал. — Благодушен ты был, Жил честно, а главное: в сроки, Уж как тебя бог выручал, Платил господину оброки И подать царю представлял!» Истратив запас красноречья, Почтенный мужик покряхтел. «Да, вот она, жизнь человечья!» — Прибавил — и шапку надел. «Свалился… а то-то был в силе!.. Свалимся… не минуть и нам!..» Еще покрестились могиле И с богом пошли по домам. Высокий, седой, сухопарый, Без шапки, недвижно-немой, Как памятник, дедушка старый Стоял на могиле родной! Потом старина бородатый Задвигался тихо по ней, Ровняя землицу лопатой. Под вопли старухи своей. Когда же, оставивши сына, Он с бабой в деревню входил: «Как пьяных, шатает кручина! Гляди-тко!..» — народ говорил.XV
А Дарья домой воротилась — Прибраться, детей накормить. Ай-ай! как изба настудилась! Торопится печь затопить, Ан глядь — ни полена дровишек! Задумалась бедная мать: Покинуть ей жаль ребятишек, Хотелось бы их приласкать, Да времени нету на ласки. К соседке свела их вдова И тотчас, на том же савраске, Поехала в лес, по дрова…Часть вторая Мороз, Красный нос
XVI
Морозно. Равнины белеют под снегом, Чернеется лес впереди, Савраска плетется ни шагом, ни бегом, Не встретишь души на пути. Как тихо! В деревне раздавшийся голос Как будто у самого уха гудет, О корень древесный запнувшийся полоз Стучит, и визжит, и за сердце скребет. Кругом — поглядеть нету мочи, Равнина в алмазах блестит… У Дарьи слезами наполнились очи — Должно быть, их солнце слепит…XVII
В полях было тихо, но тише В лесу и как будто светлей. Чем дале — деревья всё выше, А тени длинней и длинней. Деревья, и солнце, и тени, И мертвый, могильный покой… Но — чу! заунывные пени{79}, Глухой, сокрушительный вой! Осилило Дарьюшку горе, И лес безучастно внимал, Как стоны лились на просторе, И голос рвался и дрожал, И солнце, кругло и бездушно, Как желтое око совы, Глядело с небес равнодушно На тяжкие муки вдовы. И много ли струн оборвалось У бедной крестьянской души, Навеки сокрыто осталось В лесной нелюдимой глуши. Великое горе вдовицы И матери малых сирот Подслушали вольные птицы, Но выдать не смели в народ…XVIII
Не псарь по дубровушке трубит, Гогочет, сорвиголова, — Наплакавшись, колет и рубит Дрова молодая вдова. Срубивши, на дровни бросает — Наполнить бы их поскорей, И вряд ли сама замечает, Что слезы всё льют из очей: Иная с ресницы сорвется И на снег с размаху падет — До самой земли доберется, Глубокую ямку прожжет; Другую на дерево кинет, На плашку, — и смотришь, она Жемчужиной крупной застынет — Бела, и кругла, и плотна. А та на глазу поблистает, Стрелой по щеке побежит, И солнышко в ней поиграет… Управиться Дарья спешит, Знай рубит, — не чувствует стужи, Не слышит, что ноги знобит, И, полная мыслью о муже, Зовет его, с ним говорит…XIX
…………….. …………….. «Голубчик! красавицу нашу Весной в хороводе опять Подхватят подруженьки Машу И станут на ручках качать! Станут качать, Кверху бросать, Маковкой звать, Мак отряхать![32] Вся раскраснеется наша Маковым цветиком Маша С синими глазками, с русой косой! Ножками бить и смеяться Будет… а мы-то с тобой, Мы на нее любоваться Будем, желанный ты мой!..XX
Умер, не дожил ты веку, Умер и в землю зарыт! Любо весной человеку, Солнышко ярко горит. Солнышко всё оживило, Божьи открылись красы, Поле сохи запросило, Травушки просят косы, Рано я, горькая, встала, Дома не ела, с собой не брала, До ночи пашню пахала, Ночью я косу клепала, Утром косить я пошла… Крепче вы, ноженьки, стойте! Белые руки, не нойте! Надо одной поспевать! В поле одной-то надсадно, В поле одной неповадно, Стану я милого звать! Ладно ли пашню вспахала? Выди, родимый, взгляни! Сухо ли сено убрала? Прямо ли стоги сметала?.. Я на граблях отдыхала Все сенокосные дни! Некому бабью работу поправить! Некому бабу на разум наставить…XXI
Стала скотинушка в лес убираться, Стала рожь-матушка в колос метаться, Бог нам послал урожай! Нынче солома по грудь человеку, Бог нам послал урожай! Да не продлил тебе веку, — Хочешь не хочешь, одна поспевай!.. Овод жужжит и кусает, Смертная жажда томит, Солнышко серп нагревает, Солнышко очи слепит, Жжет оно голову, плечи, Ноженьки, рученьки жжет, Изо ржи, словно из печи, Тоже теплом обдает, Спинушка ноет с натуги, Руки и ноги болят, Красные, желтые круги Перед очами стоят… Жни-дожинай поскорее, Видишь — зерно потекло… Вместе бы дело спорее, Вместе повадней бы шло…XXII
Сон мой был в руку, родная Сон перед спасовым днем. В поле заснула одна я После полудня, с серпом, Вижу — меня оступает Сила — несметная рать, — Грозно руками махает, Грозно очами сверкает. Думала я убежать, Да не послушались ноги. Стала просить я помоги, Стала я громко кричать. Слышу, земля задрожала — Первая мать прибежала, Травушки рвутся, шумят — Детки к родимой спешат. Шибко без ветру не машет Мельница в поле крылом: Братец идет да приляжет, Свекор плетется шажком. Все прибрели, прибежали, Только дружка одного Очи мои не видали… Стала я кликать его: «Видишь, меня оступает Сила — несметная рать, — Грозно руками махает, Грозно очами сверкает: Что не идешь выручать?..» Тут я кругом огляделась — Господи! Что куда делось? Что это было со мной?.. Рати тут нет никакой! Это не люди лихие, Не бусурманская рать, Это колосья ржаные, Спелым зерном налитые, Вышли со мной воевать! Машут, шумят, наступают, Руки, лицо щекотят, Сами солому под сери нагибают — Больше стоять не хотят! Жать принялась я проворно, Жну, а на шею мою Сыплются крупные зерна — Словно под градом стою! Вытечет, вытечет за ночь Вся наша матушка-рожь… Где же ты, Прокл Севастьяныч? Что пособлять не идешь?.. Сон мой был в руку, родная! Жать теперь буду одна я. Стану без милого жать, Снопики крепко вязать, В снопики слезы ронять! Слезы мои не жемчужны, Слезы горюшки-вдовы, Что же вы господу нужны, Чем ему дороги вы?..XXIII
Долги вы, зимние ноченьки, Скучно без милого спать, Лишь бы не плакали оченьки, Стану полотна я ткать. Много натку я полотен, Тонких добротных новин, Вырастет крепок и плотен, Вырастет ласковый сын. Будет по нашему месту Он хоть куда женихом, Высватать парню невесту Сватов надежных пошлем… Кудри сама расчесала я Грише, Кровь с молоком наш сынок-первенец, Кровь с молоком и невеста… Иди же! Благослови молодых под венец!.. Этого дня мы, как праздника, ждали, Помнишь, как начал Гришуха ходить, Целую ноченьку мы толковали, Как его будем женить, Стали на свадьбу копить понемногу… Вот — дождались, слава богу! Чу, бубенцы говорят! Поезд вернулся назад, Выди навстречу проворно — Пава-невеста, соколик-жених! — Сыпь на них хлебные зерна, Хмелем осыпь молодых!..[33]XXIV
Стадо у лесу у темного бродит, Лыки в лесу пастушонко дерет, Из лесу серый волчище выходит. Чью он овцу унесет? Черная туча, густая-густая, Прямо над нашей деревней висит, Прыснет из тучи стрела громовая, В чей она дом сноровит? Вести недобрые ходят в народе, Парням недолго гулять на свободе, Скоро — рекрутский набор! Наш-то молодчик в семье одиночка, Всех у нас деток — Гришуха да дочка. Да голова у нас вор — Скажет: мирской приговор! Сгибнет ни за что ни про что детина. Встань, заступись за родимого сына! Нет! не заступишься ты!.. Белые руки твои опустились, Ясные очи навеки закрылись… Горькие мы сироты!..XXV
Я ль не молила царицу небесную? Я ли ленива была? Ночью одна по икону чудесную Я не сробела — пошла, Ветер шумит, наметает сугробы. Месяца нет — хоть бы луч! На небо глянешь — какие-то гробы, Цепи да гири выходят из туч… Я ли о нем не старалась? Я ли жалела чего? Я ему молвить боялась, Как я любила его! Звездочки будут у ночи, Будет ли нам-то светлей?.. Заяц спрыгнул из-под кочи. Заинька, стой! не посмей Перебежать мне дорогу! В лес укатил, слава богу… К полночи стало страшней, — Слышу, нечистая сила Залотошила, завыла, Заголосила в лесу. Что мне до силы нечистой? Чур меня! Деве пречистой Я приношенье несу! Слышу я конское ржанье, Слышу волков завыванье, Слышу погоню за мной, — Зверь на меня не кидайся! Лих человек не касайся, Дорог наш грош трудовой!______
Лето он жил работаючи, Зиму не видел детей, Ночи о нем помышляючи, Я не смыкала очей. Едет он, зябнет… а я-то, печальная, Из волокнистого льну, Словно дорога его чужедальная, Долгую — нитку тяну. Веретено мое прыгает, вертится, В пол ударяется. Проклушка пеш идет, в рытвине крестится, К возу на горочке сам припрягается. Лето за летом, зима за зимой, Этак-то мы раздобылись казной! Милостив буди к крестьянину бедному, Господи! всё отдаем, Что по копейке, по грошику медному Мы сколотили трудом!..XXVI
Вся ты, тропина лесная! Кончился лес. К утру звезда золотая С божьих небес Вдруг сорвалась — и упала, Дунул господь на нее, Дрогнуло сердце мое: Думала я, вспоминала — Что было в мыслях тогда, Как покатилась звезда? Вспомнила! ноженьки стали, Силюсь идти, а нейду! Думала я, что едва ли Прокла в живых я найду… Нет! не попустит царица небесная! Даст исцеленье икона чудесная! Я осенилась крестом И побежала бегом… Сила-то в нем богатырская, Милостив бог, не умрет… Вот и стена монастырская! Тень уж моя головой достает До монастырских ворот. Я поклонилася земным поклоном, Стала на ноженьки, глядь — Ворон сидит на кресте золоченом, Дрогнуло сердце опять!XXVII
Долго меня продержали — Схимницу сестры в тот день погребали. Утреня шла, Тихо по церкви ходили монашины, В черные рясы наряжены, Только покойница в белом была: Спит — молодая, спокойная, Знает, что будет в раю. Поцеловала и я, недостойная, Белую ручку твою! В личико долго глядела я: Всех ты моложе, нарядней, милей, Ты меж сестер словно горлинка белая Промежду сизых, простых голубей. В ручках чернеются четки, Писаный венчик на лбу. Черный покров на гробу — Этак-то ангелы кротки! Молви, касатка моя, Богу святыми устами, Чтоб не осталася я Горькой вдовой с сиротами! Гроб на руках до могилы снесли, С пеньем и плачем ее погребли.XXVIII
Двинулась с миром икона святая, Сестры запели, ее провожая, Все приложилися к ней. Много владычице было почету: Старый и малый бросали работу, Из деревень шли за ней. К ней выносили больных и убогих… Знаю, владычица! знаю: у многих Ты осушила слезу… Только ты милости к нам не явила! ………………… ………………… Господи! сколько я дров нарубила! Не увезешь на возу…»XXIX
Окончив привычное дело, На дровни поклала дрова, За вожжи взялась и хотела Пуститься в дорогу вдова. Да вновь пораздумалась, стоя, Топор машинально взяла И, тихо, прерывисто воя, К высокой сосне подошла. Едва ее ноги держали, Душа истомилась тоской, Настало затишье печали — Невольный и страшный покой! Стоит под сосной чуть живая, Без думы, без стона, без слез. В лесу тишина гробовая — День светел, крепчает мороз.XXX
Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз-воевода дозором Обходит владенья свои. Глядит — хорошо ли метели Лесные тропы занесли, И нет ли где трещины, щели, И нет ли где голой земли? Пушисты ли сосен вершины, Красив ли узор на дубах? И крепко ли скованы льдины В великих и малых водах? Идет — по деревьям шагает, Трещит по замерзлой воде, И яркое солнце играет В косматой его бороде. Дорога везде чародею, Чу! ближе подходит седой. И вдруг очутился над нею, Над самой ее головой! Забравшись на сосну большую, По веточкам палицей бьет И сам про себя удалую, Хвастливую песню поет:XXXI
«Вглядись, молодица, смелее, Каков воевода Мороз! Навряд тебе парня сильнее И краше видать привелось? Метели, снега и туманы Покорны морозу всегда, Пойду на моря-окияны — Построю дворцы изо льда. Задумаю — реки большие Надолго упрячу под гнет, Построю мосты ледяные, Каких не построит народ. Где быстрые, шумные воды Недавно свободно текли, — Сегодня прошли пешеходы, Обозы с товаром прошли. Люблю я в глубоких могилах Покойников в иней рядить, И кровь вымораживать в жилах, И мозг в голове леденить. На горе недоброму вору, На страх седоку и коню, Люблю я в вечернюю пору Затеять в лесу трескотню. Бабенки, пеняя на леших, Домой удирают скорей. А пьяных, и конных, и пеших Дурачить еще веселей. Без мелу всю выбелю рожу, А нос запылает огнем, И бороду так приморожу К вожжам — хоть руби топором! Богат я, казны не считаю, А всё не скудеет добро; Я царство мое убираю В алмазы, жемчуг, серебро. Войди в мое царство со мною И будь ты царицею в нем! Поцарствуем славно зимою, А летом глубоко уснем. Войди! приголублю, согрею, Дворец отведу голубой…» И стал воевода над нею Махать ледяной булавой.XXXII
«Тепло ли тебе, молодица?» — С высокой сосны ей кричит. — Тепло! — отвечает вдовица, Сама холодеет, дрожит. Морозно спустился пониже, Опять помахал булавой И шепчет ей ласковей, тише: «Тепло ли?..» — Тепло, золотой! Тепло — а сама коченеет. Морозко коснулся ее: В лицо ей дыханием веет И иглы колючие сеет С седой бороды на нее. И вот перед ней опустился! «Тепло ли?» — промолвив опять, И в Проклушку вдруг обратился И стал он ее целовать. В уста ее, в очи и в плечи Седой чародей целовал И те же ей сладкие речи, Что милый о свадьбе, шептал. И так-то ли любо ей было Внимать его сладким речам, Что Дарьюшка очи закрыла, Топор уронила к ногам, Улыбка у горькой вдовицы Играет на бледных губах, Пушисты и белы ресницы, Морозные иглы в бровях…XXXIII
В сверкающий иней одета, Стоит, холодеет она, И снится ей жаркое лето — Не вся еще рожь свезена, Но сжата, — полегче им стало! Возили снопы мужики, А Дарья картофель копала С соседних полос у реки. Свекровь ее тут же, старушка, Трудилась; на полном мешке Красивая Маша, резвушка, Сидела с морковкой в руке. Телега, скрипя, подъезжает — Савраска глядит на своих, И Проклушка крупно шагает За возом снопов золотых. — Бог помочь! А где же Гришуха? — Отец мимоходом сказал. «В горохах», — сказала старуха. — Гришуха! — отец закричал, На небо взглянул. — Чай, не рано? Испить бы… — Хозяйка встает И Проклу из белого жбана Напиться кваску подает. Гришуха меж тем отозвался: Горохом опутан кругом, Проворный мальчуга казался Бегущим зеленым кустом. — Бежит!., у!., бежит, постреленок, Горит под ногами трава! — Гришуха черён, как галчонок, Бела лишь одна голова. Крича, подбегает вприсядку (На шее горох хомутом). Попотчевал баушку, матку, Сестренку — вертится вьюном! От матери молодцу ласка, Отец мальчугана щипнул; Меж тем не дремал и савраска: Он шею тянул да тянул, Добрался, — оскаливши зубы, Горох аппетитно жует, И в мягкие добрые губы Гришухиио ухо берет…XXXIV
Машутка отцу закричала: — Возьми меня, тятька, с собой! — Спрыгнула с мешка — и упала, Отец ее поднял: «Не вой! Убилась — не важное дело!.. Девчонок не надобно мне, Еще вот такого пострела Рожай мне, хозяйка, к весне! Смотри же!..» Жена застыдилась: — Довольно с тебя одного! (А знала, под сердцем уж билось Дитя…) «Ну! Машук, ничего!» И Проклушка, став на телегу, Машутку с собой посадил, Вскочил и Гришуха с разбегу, И с грохотом воз покатил. Воробушков стая слетела С снопов, над телегой взвилась. И Дарьюшка долго смотрела, От солнца рукой заслонясь, Как дети с отцом приближались К дымящейся риге своей, И ей из снопов улыбались Румяные лица детей… Чу, песня! знакомые звуки! Хорош голосок у певца… Последние признаки муки У Дарьи исчезли с лица, Душой улетая за песней, Она отдалась ей вполне… Нет в мире той песни прелестней, Которую слышим во сне! О чем она — бог ее знает! Я слов уловить не умел, Но сердце она утоляет, В ней дольнего счастья предел. В ней кроткая ласка участья, Обеты любви без конца… Улыбка довольства и счастья У Дарьи не сходит с лица.XXXV
Какой бы ценой ни досталось Забвенье крестьянке моей, Что нужды? Она улыбалась. Жалеть мы не будем о ней. Нет глубже, нет слаще покоя, Какой посылает нам лес, Недвижно, бестрепетно стоя Под холодом зимних небес. Нигде так глубоко и вольно Не дышит усталая грудь, И ежели жить нам довольно, Нам слаще нигде не уснуть!XXXVI
Ни звука! Душа умирает Для скорби, для страсти. Стоишь И чувствуешь, как покоряет Ее эта мертвая тишь. Ни звука! И видишь ты синий Свод неба, да солнце, да лес, В серебряно-матовый иней Наряженный, полный чудес, Влекущий неведомой тайной, Глубоко-бесстрастный… Но вот Послышался шорох случайный — Вершинами белка идет. Ком снегу она уронила На Дарью, прыгнув по сосне. А Дарья стояла и стыла В своем заколдованном сне…1863
Железная дорога
Ваня
(в кучерском армячке)
Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша
(в пальто на красной подкладке)
Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька!
Разговор в вагоне{80}
I
Славная осень! Здоровый, ядреный Воздух усталые силы бодрит; Лед неокрепший на речке студеной Словно как тающий сахар лежит; Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно — покой и простор! Листья поблекнуть еще не успели, Желты и свежи лежат, как ковер. Славная осень! Морозные ночи, Ясные, тихие дни… Нет безобразья в природе! И кочи, И моховые болота, и пни — Всё хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю… Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою…II
Добрый папаша! К чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать. Труд этот, Ваня, был страшно громаден — Не по плечу одному! В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему. Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, стоит за плечами Каменотесцев, ткачей. Он-то согнал сюда массы народные. Многие — в страшной борьбе, К жизни воззвав эти дебри бесплодные, Гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? Чу! восклицанья послышались грозные! Топот и скрежет зубов; Тень набежала на стекла морозные… Что там? Толпа мертвецов! То обгоняют дорогу чугунную, То сторонами бегут. Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную Любо нам видеть свой труд! Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролися с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи-десятники, Секло начальство, давила нужда… Всё претерпели мы, божии ратники, Мирные дети труда! Братья! Вы наши плоды пожинаете! Нам же в земле истлевать суждено… Всё ли нас, бедных, добром поминаете Или забыли давно?..» Не ужасайся их пения дикого! С Волхова, с матушки-Волги, с Оки, С разных концов государства великого — Это всё братья твои — мужики! Стыдно робеть, закрываться перчаткою, Ты уж не маленький!.. Волосом рус, Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый больной белорус: Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах; Ямою грудь, что на заступ старательно Изо дня в день налегала весь век… Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: Трудно свой хлеб добывал человек! Не разогнул свою спину горбатую Он и теперь еще: тупо молчит И механически ржавой лопатою Мерзлую землю долбит! Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять… Благослови же работу народную И научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную — Вынесет всё, что господь ни пошлет! Вынесет всё — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе.III
В эту минуту свисток оглушительный Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов! «Видел, папаша, я сон удивительный, — Ваня сказал. — Тысяч пять мужиков, Русских племен и пород представители Вдруг появились — и он мне сказал: « Вот они — нашей дороги строители!..» Захохотал генерал! — Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана{81}, Что же… всё это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка?{82} Вот ваш народ — эти термы и бани, Чудо искусства — он всё растаскал! «Я говорю не для вас, а для Вани…» Но генерал возражать не давал: — Ваш славянин, англосакс и германец Не создавать — разрушать мастера, Варвары! дикое скопище пьяниц!.. Впрочем, Ванюшей заняться пора; Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали Светлую сторону…IV
Рад показать! Слушай, мой милый: труды роковые Кончены — немец уж рельсы кладет. Мертвые в землю зарыты; больные Скрыты в землянках; рабочий народ Тесной гурьбой у конторы собрался… Крепко затылки чесали они: Каждый подрядчику должен остался, Стали в копейку прогульные дни! Всё заносили десятники в книжку — Брал ли на баню, лежал ли больной: «Может, и есть тут теперича лишку, Да вот, поди ты!..» Махнули рукой… В синем кафтане — почтенный лабазник, Толстый, присадистый, красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, Едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно… Пот отирает купчина с лица И говорит, подбоченясь картинно: «Ладно… нешто… молодца!.. молодца!.. С богом, теперь по домам, — проздравляю! (Шапки долой — коли я говорю!) Бочку рабочим вина выставляю И — недоимку дарю!..» Кто-то «ура» закричал. Подхватили Громче, дружнее, протяжнее… Глядь: С песней десятники бочку катили… Тут и ленивый не мог устоять! Выпряг народ лошадей — и купчину С криком «ура!» по дороге помчал… Кажется, трудно отрадней картину Нарисовать, генерал?..1864
Возвращение
{83}
И здесь душа унынием объята. Неласков был мне родины привет; Так смотрит друг, любивший нас когда-то, Но в ком давно уж прежней веры нет. Сентябрь шумел, земля моя родная Вся под дождем рыдала без конца, И черных птиц за мной летела стая, Как будто бы почуяв мертвеца! Волнуемый тоскою и боязнью, Напрасно гнал я грозные мечты, Меж тем как лес с какой-то неприязнью В меня бросал холодные листы, И ветер мне гудел неумолимо: Зачем ты здесь, изнеженный поэт? Чего от нас ты хочешь? Мимо! мимо! Ты нам чужой, тебе здесь дела нет! И песню я услышал в отдаленье. Знакомая, она была горька, Звучало в ней бессильное томленье, Бессильная и вялая тоска. С той песней вновь в душе зашевелилось, О чем давно я позабыл мечтать. И проклял я то сердце, что смутилось Перед борьбой — и отступило вспять!..1864
Памяти Добролюбова
{84}
Суров ты был, ты в молодые годы Умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы, Но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслажденья Ты отвергал, ты чистоту хранил, Ты жажде сердца не дал утоленья; Как женщину, ты родину любил, Свои труды, надежды, помышленья Ты отдал ей; ты честные сердца Ей покорял. Взывая к жизни новой, И светлый рай, и перлы для венца Готовил ты любовнице суровой, Но слишком рано твой ударил час, И вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало! Года минули, страсти улеглись, И высоко вознесся ты над нами… Плачь, русская земля! но и гордись — С тех пор, как ты стоишь под небесами, Такого сына не рождала ты И в недра не брала свои обратно: Сокровища душевной красоты Совмещены в нем были благодатно… Природа-мать! когда б таких людей Ты иногда не посылала миру, Заглохла б нива жизни…1864
«Мороз, Красный нос»
Балет
Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья,
Но, каюсь, ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня;
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой…
Пушкин{85}
Свирепеет мороз ненавистный. Нет, на улице трудно дышать. Муза! нынче спектакль бенефисный, Нам в театре пора побывать. Мы вошли среди криков и плеска. Сядем здесь. Я боюсь первых мест, Что за радость ослепнуть от блеска Генеральских, сенаторских звезд. Лучезарней румяного Феба Эти звезды: заметно тотчас, Что они не нахватаны с неба — Звезды неба не ярки у нас. Если б смелым, бестрепетным взглядом Мы решились окинуть тот ряд, Что зовут «бриллиантовым рядом», Может быть, изощренный наш взгляд И открыл бы предмет для сатиры (В самом солнце есть пятнышки). Но — Немы струны карающей лиры, Вихорь жизни порвал их давно! Знайте, люди хорошего тона, Что я сам обожаю балет. «Пораженным стрелой Купидона» Не насмешка — сердечный привет! Понапрасну не бейте тревогу! Не коснусь ни военных чинов, Ни на службе крылатому богу Севших да ноги статских тузов. Накрахмаленный денди и щеголь (То есть: купчик — кутила и мот) И мышиный жеребчик (так Гоголь Молодящихся старцев зовет){86}, Записной поставщик фельетонов, Офицеры гвардейских полков И безличная сволочь салонов — Всех молчаньем прейти я готов! До балета особенно страстны Армянин, персиянин и грек, Посмотрите, как лица их красны (Не в балете ли весь человек?). Но и их я оставлю в покое, Никого не желая сердить. Замышляю я нечто другое — Я загадку хочу предложить. В маскарадной и в оперной зале, За игрой у зеленых столов, В клубе, в думе, в манеже, на бале, Словом: в обществе всяких родов, В наслажденье, в труде и в покое, В блудном сыне, в почтенном отце, — Есть одно — угадайте, какое? — Выраженье на русском лице?.. Впрочем, может быть, вам недосужно. Муза! дай — если можешь — ответ! Спору нет: мы различны наружно, Тот чиновник, а этот корнет, Тот помешан на тонком приличье, Тот играет, тот любит поесть, Но вглядись: при наружном различье В нас единство глубокое есть: Нас безденежье всех уравняло — И великих, и малых людей — И на каждом челе начертало Надпись: где бы занять поскорей? Что, не так ли?.. История та же, Та же дума на каждом лице, Я на днях прочитал ее даже На почтенном одном мертвеце. Если старец игрив чрезвычайно, Если юноша вешает нос — Оба, верьте мне, думают тайно: Где бы денег занять? вот вопрос! Вот вопрос! Напряженно, тревожно Каждый жаждет его разрешить, Но занять, говорят, невозможно, Невозможнее долг получить. Говорят, никаких договоров Должники исполнять не хотят; Генерал-губернатор Суворов Держит сторону их — говорят… Осуждают юристы героя, Но ты прав, охранитель покоя И порядка столицы родной! Может быть, в долговом отделенье Насиделось бы все населенье, Если б был губернатор другой! Разорило чиновников чванство, Прожилась за границею знать, Отчего оголело дворянство, Неприятно и речь затевать! На цветы, на подарки актрисам, Правда, деньги еще достаем, Но зато пред иным бенефисом Рубль на рубль за неделю даем. Как же быть? Не дешевая школа Поощрение граций и муз… Вянет юность обоего пола, Терпит даже семейный союз: Тщетно юноши рыщут по балам, Тщетно барышни рядятся в пух — Вовсе нет стариков с капиталом, Вовсе нет с капиталом старух! Сокрушаются Никольс и Плинке[34], Без почину товар их лежит, Сбыта нет самой модной новинке (Догадайтесь — откройте кредит!). Не развозят картонок нарядных Изомбар, Андрие и Мошра[35], А звонят у подъездов парадных С неоплаченным счетом с утра. Что модистки! злосчастные прачки Ходят месяц за каждым рублем! Опустели рысистые скачки, Жизни нет за зеленым столом. Кто, бывало, дурея с азарту, Кряду игрывал по сту ночей, Пообедав, поставит на карту Злополучных пятнадцать рублей И уходит походкой печальной В Думу, в земство и даже в семью Отводить болтовней либеральной Удрученную душу свою. С богом, друг мой! В любом комитете Побеседовать можешь теперь О кредите, о звонкой монете, Об «итогах» дворянских потерь, И о «брате» в нагольном тулупе, И о том, за какие грехи Нас журналы ругают и в клубе Не дают нам стерляжьей ухи! Там докажут тебе очевидно, Что карьера твоя решена! Да! трудненько и даже обидно Жить, — такие пришли времена! Купишь что-нибудь — дерзкий приказчик Ассигнацию щупать начнет И потом, опустив ее в ящик, Долгим взором тебя обведет, — Так и треснул бы!.. Впрочем, довольно Продолжать бы, конечно, я мог, Факты есть, но касаться их больно! И притом сохрани меня бог, Чтоб я стих мой подделкою серий И кредитных бумаг замарал, — «Будто нет благородней материй?» — Мне отечески «некто» сказал. С этим мненьем вполне я согласен, Мир идей и сюжетов велик: Например, как волшебно прекрасен Бельэтаж — настоящий цветник! Есть в России еще миллионы, Стоит только на ложи взглянуть, Где уселись банкирские жены — Сотня тысяч рублей, что ни грудь! В жемчуге лебединые шеи, Бриллиант по ореху в ушах! В этих ложах — мужчины-евреи Или греки да немцы в крестах. Нет купечества русского (стужа Напугала их, что ли?). Одна Откупщица, втянувшая мужа В модный свет, в бельэтаже видна. Весела ты, но в этом веселье Можно тот же вопрос прочитать. И на шее твоей ожерелье — Погодила б ты им щеголять! Пусть оно красоты идеальной, Пусть ты в нем восхитительна, но — Не затих еще шепот скандальный, Будто было в закладе оно: Говорят, чтобы в нем показаться На каком-то парадном балу, — Перед гнусным менялой валяться Ты решилась на грязном полу, И когда возвращалась ты с бала, Ростовщик тебя встретил — и снял Эти перлы… Не так ли достала Ты опять их?.. Кредит твой упал, С горя запил супруг сокрушенный, Бог бы с ним! Расставаться тошней С этой чопорной жизнью салонной И с разгулом интимных ночей; С этим золотом, бархатом, шелком, С этим счастьем послов принимать. Ты готова бы с бешеным волком Покумиться, — чтоб снова блистать, Но свершились пути провиденья, Всё погибло — и деньги и честь! Нисходи же ты в область забвенья, И супругу дай дух перевесть! Слаще пить ему водку с дворецким, «Не белы-то снеги» распевать, Чем возиться с посольством турецким И в ответ ему глупо мычать… Тешить жен — богачам не забота, Им простительна всякая блажь. Но прискорбно душе патриота, Что чиновницы рвутся туда ж. Марья Саввишна! вы бы надели Платье проще! — Ведь как ни рядись, Не оденетесь лучше камелий И богаче французских актрис! Рассчитайтесь, сударыня, с прачкой Да в хозяйство прикиньте хоть грош, А то с дочерью, с мужем, с собачкой За полтину обед не хорош! Марья Саввишна глаз не спускала Между тем с старика со звездой. Вообще в бельэтаже сияло Много дам и девиц красотой. Очи чудные так и сверкали, Но кому же сверкали они? Доблесть, молодость, сила — пленяли Сердце женское в древние дни. Наши девы практичней, умнее, Идеал их — телец золотой, Воплощенный в седом иудее, Потрясающем грязной рукой Груды золота… Время антракта Наконец-то прошло как-нибудь. (Мы зевали два первые акта, Как бы в третьем совсем не заснуть.) Все бинокли приходят в движенье — Появляется кордебалет. Здесь позволю себе отступленье: Соответственной живости нет В том размере, которым пишу я, Чтобы прелесть балета воспеть. Вот куплеты: попробуй, танцуя, Театрал, их под музыку петь! Я был престранных правил, Поругивал балет. Но раз бинокль подставил Мне генерал-сосед. Я взял его с поклоном И с час не возвращал, «Однако, вы — астроном!» — Сказал мне генерал. Признаться, я немножко Смутился (о, профан!). «Нет… я… но эта ножка… Но эти плечи… стан…» — Шептал я генералу, А он, смеясь, в ответ: «В стремленье к идеалу Дурного, впрочем, нет. Не всё ж читать вам Бокля!{87} Не стоит этот Бокль Хорошего бинокля… Купите-ка бинокль!..» Купил! — и пред балетом Я преклонился ниц. Готов я быть поэтом Прелестных танцовщиц! Как не любить балета? Здесь мирный гражданин Позабывает лета, Позабывает чин, И только ловят взоры В услужливый лорнет, Что «ножкой Терпсихоры» Именовал поэт. Не так следит астроном За новою звездой, Как мы… но для чего нам Смеяться над собой? В балете мы наивны. Мы глупы в этот час: Почти что конвульсивны Движения у нас: Вот выпорхнула дева, Бинокли поднялись; Взвилася ножка влево — Мы влево подались; Взвилася ножка вправо — Мы вправо… — Берегись! Не вывихни сустава, Приятель… — «Фора! bis!»______
Bis!.. Но девы, подобные ветру, Улетели гирляндой цветной! (Возвращаемся к прежнему метру) Пантомимною сценой большой Утомились мы; вальс африканский Тоже вышел топорен и вял, Но явилась в рубахе крестьянской Петипа{88} — и театр застонал! Вообще мы наклонны к искусству, Мы его поощряем, но там, Где есть пища народному чувству, Торжество настоящее нам; Неужели молчать славянину, Неужели жалеть кулака, Как Бернарди{89} затянет «Лучину», Как пойдет Петипа трепака?.. Нет! где дело идет о народе, Там я первый увлечься готов. Жаль одно: в нашей скудной природе На венки не хватает цветов! Всё — до ластовиц белых в рубахе — Было верно: на шляпе цветы, Удаль русская в каждом размахе… Не артистка — волшебница ты! Ничего не видали вовеки Мы сходней: настоящий мужик! Даже немцы, евреи и греки, Русофильствуя, подняли крик. Всё слилось в оглушительном «браво», Дань народному чувству платя. Только ты, моя муза! лукаво Улыбаешься… Полно, дитя! Неуместна здесь строгая дума, Неприлична гримаса твоя… Но молчишь ты, скучна и угрюма… Что ж ты думаешь, муза моя? На конек ты попала обычный — На уме у тебя мужики, За которых на сцене столичной Петипа пожинает венки, И ты думаешь: Гурия рая! Ты мила, ты воздушно легка, Так танцуй же ты «Деву Дуная», Но в покое оставь мужика! В мерзлых лапотках, в шубе нагольной, Весь заиндевев, сам за себя В эту пору он пляшет довольно, Зиму дома сидеть не любя. Подстрекаемый лютым морозом, Совершая дневной переход, Пляшет он за скрипучим обозом, Пляшет он — даже песни поет!.. А то есть и такие обозы (Вот бы Роллер нам их показал!){90} — В январе, когда крепки морозы И народ уже рекрутов сдал, На Руси, на проселках пустынных Много тянется поездов длинных… Прямиком через реки, поля Едут путники узкой тропою: В белом саване смерти земля, Небо хмурое, полное мглою. От утра до вечерней поры Всё одни пред глазами картины. Видишь, как, обнажая бугры, Ветер снегом заносит лощины, Видишь, как эта снежная пыль, Непрерывной волной набегая, Под собой погребает ковыль, Всегубящей зиме помогая; Видишь, как под кустом иногда Припорхнет эта милая пташка, Что от нас не летит никуда — Любит скудный наш север, бедняжка Или, щелкая, стая дроздов Пролетит и посядет на ели. Слышишь дикие стоны волков И визгливое пенье метели… Снежно — холодно — мгла и туман… И по этой унылой равнине Шаг за шагом идет караван С седоками в промерзлой овчине. Как немые, молчат мужики, Даже песня никем не поется, Бабы спрятали лица в платки, Только вздох иногда пронесется Или крик: «Ну! чего отстаешь? — Седоком одним меньше везешь!..» Но напрасно мужик огрызается. Кляча еле идет — упирается; Скрипом, визгом окрестность полна. Словно до сердца поезд печальный Через белый покров погребальный Режет землю — и стонет она, Стонет белое снежное море… Тяжело ты — крестьянское горе! Ой ты кладь, незаметная кладь! Где придется тебя выгружать?.. Как от выстрела дым расползается На заре по росистым травам, Это горе идет — подвигается К тихим селам, к глухим деревням. Вон — направо — избенки унылые, Отделилась подвода одна, Кто-то молвил: «господь с вами, милые!» И пропала в сугробах она… Чу! клячонку хлестнул старичина… Эх, чего ты торопишь ее! Как-то ты, воротившись без сына, Постучишься в окошко свое?.. В сердце самое русского края Доставляется кладь роковая! Где до солнца идет за порог С топором на работу кручина, Где на белую скатерть дорог Поздним вечером светит лучина, Там найдется кому эту кладь По суровым сердцам разобрать, Там она приютится, попрячется — До другого набора проплачется!1866
«Ликует враг, молчит в недоуменье…»
{91}
Ликует враг, молчит в недоуменье Вчерашний друг, качая головой, И вы, и вы отпрянули в смущенье, Стоявшие бессменно предо мной Великие, страдальческие тени, О чьей судьбе так горько я рыдал, На чьих гробах я преклонял колени И клятвы мести грозно повторял. Зато кричат безличные: ликуем! Спеша в объятья к новому рабу И пригвождая жирным поцелуем Несчастного к позорному столбу.1866
«Умру я скоро. Жалкое наследство…»
(Посвящается неизвестному другу,
приславшему мне стихотворение
«Не может быть»)
{92}
Умру я скоро. Жалкое наследство, О родина! оставлю я тебе. Под гнетом роковым провел я детство И молодость — в мучительной борьбе. Недолгая нас буря укрепляет, Хоть ею мы мгновенно смущены, Но долгая — навеки поселяет В душе привычки робкой тишины. На мне года гнетущих впечатлений Оставили неизгладимый след. Как мало знал свободных вдохновений, О родина! печальный твой поэт! Каких преград не встретил мимоходом С своей угрюмой музой на пути?.. За каплю крови, общую с народом, И малый труд в заслугу мне сочти! Не торговал я лирой, но, бывало, Когда грозил неумолимый рок, У лиры звук неверный исторгала Моя рука… Давно я одинок; Вначале шел я с дружною семьею, Но где они, друзья мои, теперь? Одни давно рассталися со мною, Перед другими сам я запер дверь; Те жребием постигнуты жестоким, А те прешли уже земной предел… За то, что я остался одиноким, Что я ни в ком опоры не имел, Что я, друзей теряя с каждым годом, Встречал врагов всё больше на пути — За каплю крови, общую с народом, Прости меня, о родина! прости!.. Я призван был воспеть твои страданья, Терпеньем изумляющий народ! И бросить хоть единый луч сознанья На путь, которым бог тебя ведет; Но, жизнь любя, к ее минутным благам Прикованный привычкой и средой, Я к цели шел колеблющимся шагом, Я для нее не жертвовал собой, И песнь моя бесследно пролетела И до народа не дошла она, Одна любовь сказаться в ней успела К тебе, моя родная сторона! За то, что я, черствея с каждым годом, Ее умел в душе моей спасти, За каплю крови, общую с народом, Мои вины, о родина! прости!..1867
Еще тройка
{93}
1
Ямщик лихой, лихая тройка, И колокольчик под дугой, И дождь, и грязь, но кони бойко Телегу мчат. В телеге той Сидит с осанкою победной Жандарм с усищами в аршин, И рядом с ним какой-то бледный Лет в девятнадцать господин. Все кони взмылены с натуги, Весь ад осенней русской вьюги Навстречу; не видать небес, Нигде жилья не попадает, Всё лес кругом, угрюмый лес… Куда же тройка поспешает? Куда Макар телят гоняет.2
Какое ты свершил деянье, Кто ты, преступник молодой? Быть может, ты имел свиданье В глухую ночь с чужой женой? Но подстерег супруг ревнивый И длань занес — и оскорбил, А ты, безумец горделивый, Его на месте положил? Ответа нет. Бушует вьюга, Завидев кабачок, как друга, Жандарм командует: стоять! Девятый шкалик выпивает… Чу! тройка тронулась опять! Гремит, звенит — и улетает, Куда Макар телят гоняет.3
Иль погубил тебя презренный, Но соблазнительный металл? Дитя корысти современной, Добра чужого ты взалкал, И в доме, издавна знакомом, Когда все погрузились в сон, Ты совершил грабеж со взломом И пойман был и уличен? Ответа нет. Бушует вьюга, Обняв преступника, как друга, Жандарм напившийся храпит; Ямщик то свищет, то зевает, Поет… А тройка всё гремит, Гремит, звенит — и улетает, Куда Макар телят гоняет.4
Иль, может быть, ночным артистом Ты не был, друг? и просто мы Теперь столкнулись с нигилистом, Сим кровожадным чадом тьмы? Какое ж адское коварство Ты помышлял осуществить? Разрушить думал государство Или инспектора побить? Ответа нет. Бушует вьюга, Вся тройка в сторону с испуга Шарахнулась. Озлясь, кнутом Ямщик по всем по трем стегает; Телега скрылась за холмом, Мелькнула вновь — и улетает, Куда Макар телят гоняет!..1867
Генерал Топтыгин
{94}
Дело под вечер, зимой, И морозец знатный. По дороге столбовой Едет парень молодой, Ямщичок обратный; Не спешит, трусит слегка; Лошади не слабы, Да дорога не гладка — Рытвины, ухабы. Нагоняет ямщичок Вожака с медведем: «Посади нас, паренек, Веселей доедем!» — Что ты? с мишкой? — «Ничего! Он у нас смиренный, Лишний шкалик за него Поднесу, почтенный!» — Ну, садитесь! — Посадил Бородач медведя, Сел и сам — и потрусил Полегоньку Федя… Видит Трифон кабачок, Приглашает Федю. «Подожди ты нас часок!» — Говорит медведю. И пошли. Медведь смирен, Видно, стар годами, Только лапу лижет он Да звенит цепями… Час проходит; нет ребят, То-то выпьют лихо! Но привычные стоят Лошаденки тихо. Свечерело. Дрожь в конях, Стужа злее на ночь; Заворочался в санях Михайло Иваныч, Кони дернули; стряслась Тут беда большая — Рявкнул мишка! — понеслась Тройка как шальная! Колокольчик услыхал, Выбежал Федюха, Да напрасно — не догнал! Экая поруха! Быстро, бешено неслась Тройка — и не диво: На ухабе всякий раз Зверь рычал ретиво; Только стон кругом стоял: «Очищай дорогу! Сам Топтыгин генерал Едет на берлогу!» Вздрогнет встречный мужичок, Жутко станет бабе, Как мохнатый седочок Рявкнет на ухабе. А коням подавно страх — Не передохнули! Верст пятнадцать на весь мах Бедные отдули! Прямо к станции летит Тройка удалая. Проезжающий сидит, Головой мотая; Ладит вывернуть кольцо. Вот и стала тройка; Сам смотритель на крыльцо Выбегает бойко. Видит, ноги в сапогах И медвежья шуба, Не заметил впопыхах, Что с железом губа, Не подумал: где ямщик От коней гуляет? Видит — барин материк, «Генерал», — смекает. Поспешил фуражку снять: «Здравия желаю! Что угодно приказать, Водки или чаю?..» Хочет барину помочь Юркий старичишка; Тут во всю медвежью мочь Заревел наш мишка! И смотритель отскочил: «Господи помилуй! Сорок лет я прослужил Верой, правдой, силой; Много видел на тракту Генералов строгих, Нет ребра, зубов во рту Не хватает многих, А такого не видал, Господи Исусе! Небывалый генерал, Видно, в новом вкусе!..» Прибежали ямщики, Подивились тоже; Видят — дело не с руки, Что-то тут негоже! Собрался честной народ, Всё село в тревоге: «Генерал в санях ревет, Как медведь в берлоге!» Трус бежит, а кто смелей, Те — потехе ради, Жмутся около саней; А смотритель сзади. Струсил, издали кричит: «В избу не хотите ль?» Мишка вновь как зарычит Убежал смотритель! Оробел и убежал И со всею свитой… Два часа в санях лежал Генерал сердитый. Прибежали той порой Ямщик и вожатый; Вразумил народ честной Трифон бородатый И Топтыгина прогнал Из саней дубиной… А смотритель обругал Ямщика скотиной…1867
Эй, Иван!
(Тип недавнего прошлого)
Вот он весь, как намалеван Верный твой Иван: Неумыт, угрюм, оплеван, Вечно полупьян; На желудке мало пищи, Чуть живой на взгляд. Не прикрыты, голенищи Рыжие торчат; Вечно теплая шапчонка Вся в пуху на нем, Туго стянут сюртучонко Узким ремешком; Из кармана кончик трубки Виден да кисет. Разве новенькие зубки Выйдут — старых нет… Род его тысячелетний Не имел угла — На запятках и в передней Жизнь веками шла. Ремесла Иван не знает, Делай, что дают: Шьет, кует, варит, строгает, Не потрафил — бьют! «Заживет!» Грубит, ворует, Божится и врет, И за рюмочку целует Ручки у господ. Выпить может сто стаканов — Только подноси… Мало ли таких Иванов На святой Руси?.. «Эй, Иван! иди-ка стряпать! Эй, Иван! чеши собак!» Удалось Ивану сцапать Где-то четвертак, Поминай теперь как звали! Шапку набекрень И пропал! Напрасно ждали Ваньку целый день: Гитарист и соблазнитель Деревенских дур (Он же тайный похититель Индюков и кур), У корчемника Игнатки Приютился плут, Две пригожие солдатки Так к нему и льнут. «Эй вы, павы, павы, павы! Шевелись живей!» В Ваньке пляшут все суставы С ног и до ушей, Пляшут ноздри, пляшет в ухе Белая серьга. Ванька весел, Ванька в духе — Жизнь недорога! Утром с барином расправа: «Где ты пропадал?» — Я… нигде-с… ей-богу… право… У ворот стоял! «Весь-то день?..» Ответы грубы, Ложь глупа, нагла; Были зубы — били в зубы, Нет — трещит скула. — Виноват! — порядком струся, Говорит Иван. «Жарь к обеду с кашей гуся, Щи вари, болван!» Ванька снова лямку тянет, А потом опять Что-нибудь у дворни стянет… «Неужли плошать? Коли плохо положили, Стало, не запрет!» Господа давно решили, Что души в нем нет. Неизвестно — есть ли, нет ли, Но с ним случай был: Чуть живого сняли с петли, Перед тем грустил. Господам конфузно было: — Что с тобой, Иван? — «Так, под сердце подступило», И глядят: не пьян! Говорит: «Вы потеряли Верного слугу, Всё равно — помру с печали, Жить я не могу! А всего бы лучше с глотки Петли не снимать…» Сам помещик выслал водки Скуку разогнать. Пил детина ерофеич, Плакал да кричал: «Хоть бы раз Иван Мосеич Кто меня назвал!..» Как мертвецки накатили, В город тем же днем: «Лишь бы лоб ему забрили — Вешайся потом!» Понадеялись на дружбу, Да не та пора: Сдать беззубого на службу Не пришлось. «Ура!» Ванька снова водворился У своих господ, И совсем от рук отбился, Без просыпу пьет. Хоть бы в каторгу урода — Лишь бы с рук долой! К счастью, тут пришла свобода: «С богом, милый мой!» И, затерянный в народе, Вдруг исчез Иван… Как живешь ты на свободе? Где ты?.. Эй, Иван!1867
Выбор
Ночка сегодня морозная, ясная. В горе стоит над рекой Русская девица, девица красная, Щупает прорубь ногой. Тонкий ледок под ногою ломается, Вот на него набежала вода; Царь водяной из воды появляется, Шепчет: «бросайся, бросайся сюда! Любо здесь!» Девица, зову покорная, Вся наклонилась к нему. «Сердце покинет кручинушка черная, Только разок обойму, Прянь!..» И руками к ней длинными тянется… Синие льды затрещали кругом, Дрогнула девица! Ждет — не оглянется — Кто-то шагает, идет прямиком. «Прянь! Будь царицею царства подводного!..» Тут подошел воевода Мороз: — Я тебя, я тебя, вора негодного! Чуть было девку мою не унес! — Белый старик с бородою пушистою На воду трижды дохнул, Прорубь подернулась корочкой льдистою, Царь водяной подо льдом потонул. Молвил Мороз: — Не топися, красавица! Слез не осушишь водой, Жадная рыба, речная пиявица Там твой нарушат покой; Там защекотят тебя водяные, Раки вопьются в высокую грудь, Ноги опутают травы речные. Лучше со мной эту ночку побудь! К утру я горе твое успокою, Сладкие грезы его усыпят, Будешь ты так же пригожа собою, Только красивее дам я наряд: В белом венке голова засияет Завтра, чуть красное солнце взойдет. Девица берег реки покидает, К темному лесу идет. Села на пень у дороги: ласкается К ней воевода-старик. Дрогнется — зубы колотят — зевается — Вот и закрыла глаза… забывается… Вдруг разбудил ее Лешего крик: «Девонька! встань ты на резвые ноги, Долго Морозко тебя протомит. Спал я и слышал давно: у дороги Кто-то зубами стучит, Жалко мне стало. Иди-ка за мною, Что за охота всю ноченьку ждать! Да и умрешь — тут не будет покою: Станут оттаивать, станут качать! Я заведу тебя в чащу лесную, Где никому до тебя не дойти, Выберем, девонька, сосну любую…» Девица с Лешим решилась идти. Идут. Навстречу медведь попадается, Девица вскрикнула — страх обуял. Хохотом Лешего лес наполняется: «Смерть не страшна, а медведь испугал Экой лесок, что ни дерево — чудо! Девонька! глянь-ка, какие стволы! Глянь на вершины — с синицу оттуда Кажутся спящие летом орлы! Темень тут вечная, тайна великая, Солнце сюда не доносит лучей, Буря взыграет — ревущая, дикая — Лес не подумает кланяться ей! Только вершины поропщут тревожно… Ну, полезай! подсажу осторожно… Люб тебе, девица, лес вековой! С каждого дерева броситься можно Вниз головой!»1867
Мать
{95}
Она была исполнена печали, И между тем как, шумны и резвы, Три отрока вокруг нее играли, Ее уста задумчиво шептали: «Несчастные! зачем родились вы? Пойдете вы дорогою прямою, И вам судьбы своей не избежать!» Не омрачай веселья их тоскою, Не плачь над ними, мученица-мать! Но говори им с молодости ранней Есть времена, есть целые века, В которые нет ничего желанней, Прекраснее — тернового венка…1868
«Не рыдай так безумно над ним…»
{96}
Не рыдай так безумно над ним, Хорошо умереть молодым! Беспощадная пошлость ни тени Положить не успела на нем, Становись перед ним на колени, Украшай его кудри венком! Перед ним преклониться не стыдно, Вспомни, сколькие пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе За великое имя обидно! А теперь его слава прочна: Под холодною крышкою гроба На нее не наложат пятна Ни ошибка, ни сила, ни злоба… Не хочу я сказать, что твой брат Не был гордою волей богат, Но, ты знаешь, кто ближнего любит Больше собственной славы своей, Тот и славу сознательно губит, Если жертва спасает людей. Но у жизни есть мрачные силы — У кого не слабели шаги Перед дверью тюрьмы и могилы? Долговечность и слава — враги. Русский гений издавна венчает Тех, которые мало живут, О которых народ замечает: «У счастливого недруги мрут, У несчастного друг умирает…»1868
Дома — лучше!
В Европе удобно, но родины ласки Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой, В телегу спешу пересесть из коляски И марш на охоту! Денек недурной, Под солнцем осенним родная картина Отвыкшему глазу нова… О матушка-Русь! ты приветствуешь сына Так нежно, что кругом идет голова! Твои мужики на меня выгоняли Зверей из лесов целый день, А ночью возвратный мой путь освещали Пожары твоих деревень.1868
«Наконец, не горит уже лес…»
Наконец, не горит уже лес, Снег прикрыл почернелые пенья, Но помещик душой не воскрес, Потеряв половину именья. Приуныл и мужик. — Чем я буду топить? — Говорит он, лицо свое хмуря. «Ты не будешь топить — будешь пить», — Завывает в ответ ему буря…1868
«Душно! без счастья и воли…»
{97}
Душно! без счастья и воли Ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна! Грянь над пучиною моря, В поле, в лесу засвищи, Чашу народного горя Всю расплещи!..1868
Дедушка
(Посвящается 3-н-ч-е)
{98}
I
Раз у отца, в кабинете, Саша портрет увидал, Изображен на портрете Был молодой генерал. «Кто это? — спрашивал Саша. — Кто?..» — Это дедушка твой. — И отвернулся папаша, Низко поник головой. «Что же не вижу его я?» Папа ни слова в ответ. Внук, перед дедушкой стоя, Зорко глядит на портрет: «Папа, чего ты вздыхаешь? Умер он… жив? говори!» — Вырастешь, Саша, узнаешь. «То-то… ты скажешь, смотри!..»II
«Дедушку знаешь, мамаша?» — Матери сын говорит. — Знаю, — и за руку Саша Маму к портрету тащит, Мама идет против воли. «Ты мне скажи про него, Мама! недобрый он, что ли, Что я не вижу его? Ну, дорогая! ну, сделай Милость, скажи что-нибудь!» — Нет, он и добрый и смелый, Только несчастный. — На грудь Голову скрыла мамаша, Тяжко вздыхает, дрожит — И зарыдала… А Саша Зорко на деда глядит: «Что же ты, мама, рыдаешь, Слова не хочешь сказать!» — Вырастешь, Саша, узнаешь. Лучше пойдем-ка гулять…III
В доме тревога большая. Счастливы, светлы лицом, Заново дом убирая, Шепчутся мама с отцом. Как весела их беседа! Сын подмечает, молчит. — Скоро увидишь ты деда! — Саше отец говорит… Дедушкой только и бредит Саша, — не может уснуть: «Что же он долго не едет?..» — Друг мой! Далек ему путь! — Саша тоскливо вздыхает, Думает: «Что за ответ!» Вот наконец приезжает Этот таинственный дед.IV
Все, уж давно поджидая, Встретили старого вдруг… Благословил он, рыдая, Дом, и семейство, и слуг, Пыль отряхнул у порога, С шеи торжественно снял Образ распятого бога И, покрестившись, сказал: — Днесь я со всем примирился, Что потерпел на веку!.. — Сын пред отцом преклонился, Ноги омыл старику; Белые кудри чесала Дедушке Сашина мать, Гладила их, целовала, Сашу звала целовать. Правой рукою мамашу Дед обхватил, а другой Гладил румяного Сашу: — Экой красавчик какой! — Дедушку пристальным взглядом Саша рассматривал, — вдруг Слезы у мальчика градом Хлынули, к дедушке внук Кинулся: «Дедушка! где ты Жил-пропадал столько лет? Где же твои эполеты, Что не в мундир ты одет? Что на ноге ты скрываешь? Ранена, что ли, рука?..» — Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, поцелуй старика!..V
Повеселел, оживился, Радостью дышит весь дом. С дедушкой Саша сдружился, Вечно гуляют вдвоем. Ходят лугами, лесами, Рвут васильки среди нив; Дедушка древен годами, Но еще бодр и красив, Зубы у дедушки целы, Поступь, осанка тверда, Кудри пушисты и белы, Как серебро борода; Строен, высокого роста, Но как младенец глядит, Как-то апостольски просто, Ровно всегда говорит…VI
Выйдут на берег покатый К русской великой реке — Свищет кулик вороватый, Тысячи лап на песке; Барку ведут бечевою, Чу, бурлаков голоса! Ровная гладь за рекою — Нивы, покосы, леса. Легкой прохладою дует С медленных дремлющих вод… Дедушка землю целует, Плачет — и тихо поет… «Дедушка! что ты роняешь Крупные слезы, как град?..» — Вырастешь, Саша, узнаешь! Ты не печалься — я рад…VII
Рад я, что вижу картину, Милую с детства глазам. Глянь-ка на эту равнину — И полюби ее сам! Две-три усадьбы дворянских, Двадцать господних церквей, Сто деревенек крестьянских Как на ладони на ней! У лесу стадо пасется — Жаль, что скотинка мелка; Песенка где-то поется — Жаль — неисходно горька! Ропот: «Подайте же руку Бедным крестьянам скорей!» Тысячелетнюю муку, Саша, ты слышишь ли в ней?.. Надо, чтоб были здоровы Овцы и лошади их, Надо, чтоб были коровы Толще московских купчих, — Будет и в песне отрада, Вместо унынья и мук. Надо ли? — «Дедушка, надо!» — То-то! попомни же, внук!..VIII
Озими пышному всходу, Каждому цветику рад, Дедушка хвалит природу, Гладит крестьянских ребят. Первое дело у деда Потолковать с мужиком, Тянется долго беседа, Дедушка скажет потом: «Скоро вам будет нетрудно, Будете вольный народ!» И улыбнется так чудно, Радостью весь расцветет. Радость его разделяя, Прыгало сердце у всех. То-то улыбка святая! То-то пленительный смех!IX
— Скоро дадут им свободу, — Внуку старик замечал. — Только и нужно народу. Чудо я, Саша, видал: Горсточку русских сослали В страшную глушь за раскол, Землю да волю им дали; Год незаметно прошел — Едут туда комиссары, Глядь — уж деревня стоит, Риги, сараи, амбары! В кузнице молот стучит, Мельницу выстроят скоро. Уж запаслись мужики Зверем из темного бора, Рыбой из вольной реки. Вновь через год побывали, Новое чудо нашли: Жители хлеб собирали С прежде бесплодной земли. Дома одни лишь ребята Да здоровенные псы, Гуси кричат, поросята Тычут в корыто носы…X
Так постепенно в полвека Вырос огромный посад — Воля и труд человека Дивные дивы творят! Все принялось, раздобрело! Сколько там, Саша, свиней, Перед селением бело На полверсты от гусей; Как там возделаны нивы, Как там обильны стада! Высокорослы, красивы Жители, бодры всегда, Видно — ведется копейка! Бабу там холит мужик: В праздник на ней душегрейка — Из соболей воротник!XI
Дети до возраста в неге, Конь — хоть сейчас на завод, В кованой, прочной телеге Сотню пудов увезет… Сыты там кони-то, сыты, Каждый там сыто живет, Тесом там избы-то крыты, Ну, уж зато и народ! Взросшие в нравах суровых, Сами творят они суд, Рекрутов ставят здоровых, Трезво и честно живут, Подати платят до срока, Только ты им не мешай. «Где ж та деревня?» — Далеко, Имя ей: Тарбагатай, Страшная глушь, за Байкалом… Так-то, голубчик ты мой, Ты еще в возрасте малом, Вспомнишь, как будешь большой…XII
Ну… а покуда подумай, То ли ты видишь кругом: Вот он, наш пахарь угрюмый, С темным, убитым лицом: Лапти, лохмотья, шапчонка, Рваная сбруя; едва Тянет косулю клячонка, С голоду еле жива! Голоден труженик вечный, Голоден тоже, божусь! Эй! отдохни-ко, сердечный! Я за тебя потружусь! — Глянул крестьянин с испугом, Барину плуг уступил; Дедушка долго за плугом, Пот отирая, ходил; Саша за ним торопился, Не успевал догонять: «Дедушка! где научился Ты так отлично пахать? Точно мужик, управляешь Плугом, а был генерал!» — Вырастешь, Саша, узнаешь, Как я работником стал!XIII
Зрелище бедствий народных Невыносимо, мой друг; Счастье умов благородных Видеть довольство вокруг. Нынче полегче народу: Стих, притаился в тени Барин, прослышав свободу… Ну, а как в наши-то дни! ……………. Словно как омут, усадьбу Каждый мужик объезжал. Помню ужасную свадьбу, Поп уже кольца менял, Да, на беду, помолиться В церковь помещик зашел: «Кто им позволил жениться? Стой!» — и к попу подошел… Остановилось венчанье! С барином шутка плоха — Отдал наглец приказанье В рекруты сдать жениха, В девичью — бедную Грушу! И не перечил никто!.. Кто же имеющий душу Мог это вынести?., кто?..XIV
Впрочем, не то еще было! И не одни господа — Сок из народа давила Подлых подьячих орда. Что ни чиновник — стяжатель, С целью добычи в поход Вышел… а кто неприятель? Войско, казна и народ! Всем доставалось исправно. Стачка, порука кругом: Смелые грабили явно, Трусы тащили тайком. Непроницаемой ночи Мрак над страною висел… Видел — имеющий очи И за отчизну болел. Стоны рабов заглушая Лестью да свистом бичей, Хищников алчная стая Гибель готовила ей…XV
Солнце не вечно сияет, Счастье не вечно везет: Каждой стране наступает Рано иль поздно черед, Где не покорность тупая — Дружная сила нужна; Грянет беда роковая — Скажется мигом страна. Единодушье и разум Всюду дадут торжество, Да не придут они разом, Вдруг не создашь ничего, — Красноречивым воззваньем Не разогреешь рабов, Не озаришь пониманьем Темных и грубых умов. Поздно! Народ угнетенный Глух перед общей бедой. Горе стране разоренной! Горе стране отсталой!.. Войско одно — не защита. Да ведь и войско, дитя, Было в то время забито, Лямку тянуло, кряхтя…XVI
Дедушка кстати солдата Встретил, вином угостил, Поцеловавши, как брата, Ласково с ним говорил: — Нынче вам служба не бремя — Кротко начальство теперь… Ну, а как в наше-то время! Что ни начальник, то зверь! Душу вколачивать в пятки Правилом было тогда. Как ни трудись, недостатки Сыщет начальник всегда: «Есть в маршировке старанье, Стойка исправна совсем, Только заметно дыханье…» Слышишь ли?., дышат зачем!XVII
А недоволен парадом — Ругань польется рекой, Зубы посыплются градом, Порет, гоняет сквозь строй! С пеною у рта обрыщет Весь перепуганный полк, Жертв покрупнее приищет Остервенившийся волк: «Франтики! подлые души! Под караулом сгною!» Слушал — имеющий уши, Думушку думал свою. Брань пострашней караула, Пуль и картечи страшней… Кто же, в ком честь не уснула, Кто примирился бы с ней?.. «Дедушка! ты вспоминаешь Страшное что-то?., скажи!» — Вырастешь, Саша, узнаешь. Честью всегда дорожи. Взрослые люди — не дети, Трус — кто сторицей не мстит! Помни, что нету на свете Неотразимых обид.XVIII
Дед замолчал и уныло Голову свесил на грудь. — Мало ли, друг мой, что было!.. Лучше пойдем отдохнуть. — Отдых педолог у деда — Жить он не мог без труда; Гряды копал до обеда, Переплетал иногда; Вечером шилом, иголкой Что-нибудь бойко тачал, Песней печальной и долгой Дедушка труд сокращал. Внук не проронит ни звука, Не отойдет от стола: Новой загадкой для внука Дедова песня была…XIX
Пел он о славном походе{99} И о великой борьбе; Пел о свободном народе И о народе-рабе; Пел о пустынях безлюдных И о железных цепях; Пел о красавицах чудных С ангельской лаской в очах; Пел он об их увяданье В дикой, далекой глуши И о чудесном влиянье Любящей женской души… О Трубецкой и Волконской Дедушка пел — и вздыхал, Пел — и тоской вавилонской Келью свою оглашал… «Дедушка, дальше!.. А где ты Песенку вызнал свою? Ты повтори мне куплеты — Я их мамаше спою. Те имена поминаешь Ты иногда по ночам…» — Вырастешь, Саша, узнаешь — Все расскажу тебе сам: Где научился я пенью, С кем и когда я певал… «Ну! приучусь я к терпенью!» — Саша уныло сказал…XX
Часто каталися летом Наши друзья в челноке, С громким, веселым приветом Дед приближался к реке: — Здравствуй, красавица Волга! С детства тебя я любил. «Где ж пропадал ты так долго?» — Саша несмело спросил. — Был я далеко, далеко… «Где же?..» Задумался дед. Мальчик вздыхает глубоко, Вечный предвидя ответ. «Что ж, хорошо ли там было?» Дед на ребенка глядит: — Лучше не спрашивай, милый! (Голос у деда дрожит.) Глухо, пустынно, безлюдно, Степь полумертвая сплошь. Трудно, голубчик мой, трудно! По году весточки ждешь, Видишь, как тратятся силы — Лучшие божьи дары, Близким копаешь могилы, Ждешь и своей до поры… Медленно-медленно таешь… «Что ж ты там, дедушка, жил?..» — Вырастешь, Саша, узнаешь! — Саша слезу уронил…XXI
«Господи! слушать наскучит! Вырастешь! — мать говорит, Папочка любит, а мучит: Вырастешь — тоже твердит! То же и дедушка… Полно! Я уже вырос — смотри!.. (Стал на скамеечку челна.) Лучше теперь говори!..» Деда целует и гладит: «Или вы все заодно?..» Дедушка с сердцем не сладит, Бьется, как голубь, оно. «Дедушка, слышишь? хочу я Все непременно узнать!» Дедушка, внука целуя, Шепчет: — Тебе не понять. Надо учиться, мой милый! Все расскажу, погоди! Пособерись-ка ты с силой, Зорче кругом погляди. Умник ты, Саша, а все же Надо историю знать, И географию тоже. «Долго ли, дедушка, ждать?» — Годик, другой, как случится. — Саша к мамаше бежит. «Мама! хочу я учиться!» — Издали громко кричит.XXII
Время проходит. Исправно Учится мальчик всему — Знает историю славно (Лет уже десять ему), Бойко на карте покажет И Петербург и Читу, Лучше большого расскажет Многое в русском быту. Глупых и злых ненавидит, Бедным желает добра, Помнит, что слышит и видит… Дед примечает: пора! Сам же он часто хворает, Стал ему нужен костыль… Скоро уж, скоро узнает Саша печальную быль…1870
«Кому на Руси жить хорошо»
Дедушка Мазай и зайцы
{100}
1
В августе около «Малых Вежей»{101} С старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало, На небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, А разразилась жестоким дождем! Прямы и светлы, как прутья стальные, В землю вонзались струи дождевые С силой стремительной… Я и Мазай, Мокрые, скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, Я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его: Летом ее убирая красиво, Исстари хмель в ней родится на диво, Вся она тонет в зеленых садах; Домики в ней на высоких столбах (Всю эту местность вода понимает, Так что деревня весною всплывает, Словно Венеция). Старый Мазай Любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука, Торной дорогой ходить ему — скука! За сорок верст в Кострому прямиком Сбегать лесами ему нипочем: «Лес не дорога: по птице, по зверю Выпалить можно». — А леший? — «Не верю! Раз в кураже я их звал-поджидал Целую ночь — никого не видал! За день грибов насбираешь корзину, Ешь мимоходом бруснику, малину; Вечером пеночка нежно поет; Словно как в бочку пустую, удод Ухает; сыч разлетается к ночи, Рожки точены, рисованы очи. Ночью… ну, ночью робел я и сам: Очень уж тихо в лесу по ночам. Тихо, как в церкви, когда отслужили Службу и накрепко дверь затворили, — Разве какая сосна заскрипит, Словно старуха во сне проворчит…» Дня не проводит Мазай без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, Кабы не стали глаза изменять: Начал частенько Мазай пуделять{102}. Впрочем, в отчаянье он не приходит: Выпалит дедушка — заяц уходит, Дедушка пальцем косому грозит. «Врешь — упадешь!» — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных Про деревенских охотников славных: Кузя сломал у ружьишка курок, Спичек таскает с собой коробок, Сядет за кустом — тетерю подманит, Спичку к затравке приложит — и грянет!{103} Ходит с ружьишком другой зверолов, Носит с собою горшок угольков. «Что ты таскаешь горшок с угольками?» — Больно, родимый, я зябок руками; Ежели зайца теперь сослежу, Прежде я сяду, ружье положу, Над уголечками руки погрею, Да уж потом и палю по злодею! «Вот так охотник!» — Мазай прибавлял. Я, признаюсь, от души хохотал. Впрочем, милей анекдотов крестьянских (Чем они хуже, однако, дворянских?) Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал…2
Старый Мазай разболтался в сарае: «В нашем болотистом, низменном крае Впятеро больше бы дичи велось, Кабы сетями ее не ловили, Кабы силками ее не давили; Зайцы вот тоже, — их жалко до слез! Только весенние воды нахлынут, И без того они сотнями гинут, — Нет! еще мало! бегут мужики, Ловят, и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть?.. Я раз за дровами В лодке поехал — их много с реки К нам в половодье весной нагоняет — Еду, ловлю их. Вода прибывает. Вижу один островок небольшой — Зайцы на нем собралися гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась К бедным зверкам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в ширину, Меньше сажени в длину. Тут я подъехал: лопочут ушами, Сами ни с места; я взял одного, Прочим скомандовал: прыгайте сами! Прыгнули зайцы мои, — ничего! Только уселась команда косая, Весь островочек пропал под водой: «То-то! — сказал я. — Не спорьте со мной! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» Этак гуторя, плывем в тишине. Столбик не столбик, зайчишко на пне, Лапки скрестивши, стоит, горемыка, Взял и его — тягота не велика! Только что начал работать веслом, Глядь, у куста копошится зайчиха — Еле жива, а толста, как купчиха! Я ее, дуру, накрыл зипуном — Сильно дрожала… Не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, Сидя, и стоя, и лежа пластом, Зайцев с десяток спасалось на нем. «Взял бы я вас — да потопите лодку!» Жаль их, однако, да жаль и находку — Я зацепился багром за сучок И за собою бревно поволок… Было потехи у баб, ребятишек, Как прокатил я деревней зайчишек: «Глянь-ко: что делает старый Мазай!» Ладно! Любуйся, а нам не мешай! Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно сбесились: Смотрят, на задние лапы встают, Лодку качают, грести не дают: Берег завидели плуты косые, Озимь, и рощу, и кусты густые!.. К берегу плотно бревно я пригнал, Лодку причалил — и: «с богом!» сказал… И во весь дух Пошли зайчишки. А я им: «у-х! Живей, зверишки! Смотри, косой, Теперь спасайся, А чур, зимой Не попадайся! Прицелюсь — бух! И ляжешь… Ууу-х!..» Мигом команда моя разбежалась, Только на лодке две пары осталось — Сильно измокли, ослабли; в мешок Я их поклал — и домой приволок; За ночь больные мои, отогрелись, Высохли, выспались, плотно наелись; Вынес я их на лужок; из мешка Вытряхнул, ухнул — и дали стречка! Я проводил их всё тем же советом: «Не попадайтесь зимой!» Я их не бью ни весною, ни летом: Шкура плохая — линяет косой…»1870
Как празднуют трусу
{104}
Время-то есть, да писать нет возможности. Мысль убивающий страх: Не перейти бы границ осторожности, Голову держит в тисках! Утром мы наше село посещали, Где я родился и взрос. Сердце, подвластное старой печали, Сжалось; в уме шевельнулся вопрос: Новое время — свободы, движенья, Земства, железных путей. Что ж я не вижу следов обновленья В бедной отчизне моей? Те же напевы, тоску наводящие, С детства знакомые нам, И, о терпении новом молящие, Те же попы по церквам. В жизни крестьянина, ныне свободного, Бедность, невежество, мрак. Где же ты, тайна довольства народного? Ворон в ответ мне прокаркал: «дурак!» Я обругал его грубым невежею. На телеграфную нить Он пересел. «Не донос ли депешею Хочет в столицу пустить?» Глупая мысль, но я, долго не думая, Метко прицелился. Выстрел гремит: Падает замертво птица угрюмая, Нить телеграфа дрожит…1870
Русские женщины
{105}
Княгиня Трубецкая
Поэма в двух частях (1826 год)
{106}
Часть первая
Покоен, прочен и легок На диво слаженный возок; Сам граф-отец не раз, не два Его попробовал сперва. Шесть лошадей в него впрягли, Фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, Медвежью полость в ноги стлал, Творя молитву, образок Повесил в правый уголок И — зарыдал… Княгиня-дочь… Куда-то едет в эту ночь…I
Да, рвем мы сердце пополам Друг другу, но, родной, Скажи, что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской! Один, кто мог бы нам помочь Теперь… Прости, прости! Благослови родную дочь И с миром отпусти!II
Бог весть, увидимся ли вновь, Увы! надежды нет. Прости и знай: твою любовь, Последний твой завет Я буду помнить глубоко В далекой стороне… Не плачу я, но нелегко С тобой расстаться мне!III
О, видит бог!.. Но долг другой, И выше и трудней, Меня зовет… Прости, родной! Напрасных слез не лей! Далек мой путь, тяжел мой путь, Страшна судьба моя, Но сталью я одела грудь… Гордись — я дочь твоя!IV
Прости и ты, мой край родной, Прости, несчастный край! И ты… о город роковой, Гнездо царей… прощай! Кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим, Того ты блеском не прельстишь, Но был ты мной любим.V
Счастливо молодость моя Прошла в стенах твоих, Твои балы любила я, Катанья с гор крутых, Любила плеск Невы твоей В вечерней тишине, И эту площадь перед ней С героем на коне…VI
Мне не забыть… Потом, потом Расскажут нашу быль… А ты будь проклят, мрачный дом, Где первую кадриль Я танцевала… Та рука Досель мне руку жжет… Ликуй………… …………….* * *
Покоен, прочен и легок, Катится городом возок. Вся в черном, мертвенно-бледна, Княгиня едет в нем одна, А секретарь отца (в крестах. Чтоб наводить дорогой страх) С прислугой скачет впереди… Свища бичом, крича: «Пади!» Ямщик столицу миновал… Далек княгине путь лежал, Была суровая зима… На каждой станции сама Выходит путница: «Скорей Перепрягайте лошадей!» И сыплет щедрою рукой Червонцы челяди ямской. Но труден путь! В двадцатый день Едва приехали в Тюмень, Еще скакали десять дней. «Увидим скоро Енисей, — Сказал княгине секретарь. — Не ездит так и государь!..»* * *
Вперед! Душа полна тоски, Дорога все трудней, Но грезы мирны и легки — Приснилась юность ей. Богатство, блеск! Высокий дом На берегу Невы, Обита лестница ковром, Перед подъездом львы, Изящно убран пышный зал, Огнями весь горит. О, радость! нынче детский бал, Чу! музыка гремит! Ей ленты алые вплели В две русые косы, Цветы, наряды принесли Невиданной красы. Пришел папаша — сед, румян, — К гостям ее зовет: «Ну, Катя! чудо сарафан! Он всех с ума сведет!» Ей любо, любо без границ. Кружится перед ней Цветник из милых детских лиц, Головок и кудрей. Нарядны дети, как цветы, Нарядней старики: Плюмажи, ленты и кресты, Со звоном каблуки… Танцует, прыгает дитя, Не мысля ни о чем, И детство резвое шутя Проносится… Потом Другое время, бал другой Ей снится: перед ней Стоит красавец молодой, Он что-то шепчет ей… Потом опять балы, балы… Она — хозяйка их, У них сановники, послы, Весь модный свет у них… «О милый! что ты так угрюм? Что на сердце твоем?» — Дитя! Мне скучен светский шум, Уйдем скорей, уйдем! И вот уехала она С избранником своим. Пред нею чудная страна, Пред нею — вечный Рим… Ах! чем бы жизнь нам помянуть — Не будь у нас тех дней, Когда, урвавшись как-нибудь Из родины своей И скучный север миновав, Примчимся мы на юг. До нас нужды, над нами прав Ни у кого… Сам-друг Всегда лишь с тем, кто дорог нам, Живем мы, как хотим; Сегодня смотрим древний храм, А завтра посетим Дворец, развалины, музей… Как весело притом Делиться мыслию своей С любимым существом! Под обаяньем красоты, Во власти строгих дум, По Ватикану бродишь ты, Подавлен и угрюм; Отжившим миром окружен, Не помнишь о живом. Зато как странно поражен Ты в первый миг потом, Когда, покинув Ватикан, Вернешься в мир живой, Где ржет осел, шумит фонтан, Поет мастеровой; Торговля бойкая кипит, Кричат на все лады: — Кораллов! раковин! улит! Мороженой воды! — Танцует, ест, дерется голь, Довольная собой, И косу, черную как смоль, Римлянке молодой Старуха чешет… Жарок день, Несносен черни гам. Где нам найти покой и тень? Заходим в первый храм. Не слышен здесь житейский шум, Прохлада, тишина И полусумрак… Строгих дум Опять душа полна. Святых и ангелов толпой Вверху украшен храм, Порфир и яшма под ногой, И мрамор по стенам… Как сладко слушать моря шум! Сидишь по часу нем, Неугнетенный, бодрый ум Работает меж тем… До солнца горною тропой Взберешься высоко — Какое утро пред тобой! Как дышится легко! Но жарче, жарче южный день, На зелени долин Росинки нет… Уйдем под тень Зонтообразных пинн… Княгине памятны те дни Прогулок и бесед, В душе оставили они Неизгладимый след. Но не вернуть ей дней былых, Тех дней надежд и грез, Как не вернуть потом о них Пролитых ею слез!.. Исчезли радужные сны, Пред нею ряд картин Забытой богом стороны: Суровый господин И жалкий труженик-мужик С понурой головой… Как первый властвовать привык, Как рабствует второй! Ей снятся группы бедняков На нивах, на лугах, Ей снятся стоны бурлаков На волжских берегах… Наивным ужасом полна, Она не ест, не спит, Засыпать спутника она Вопросами спешит: «Скажи, ужель весь край таков? Довольства тени нет?..» — Ты в царстве нищих и рабов! — Короткий был ответ… Она проснулась — в руку сон! Чу, слышен впереди Печальный звон — кандальный звон! «Эй, кучер, погоди!» То ссыльных партия идет, Больней заныла грудь. Княгиня деньги им дает, — «Спасибо, добрый путь!» Ей долго, долго лица их Мерещатся потом, И не прогнать ей дум своих, Не позабыться сном! «И та здесь партия была… Да… нет других путей… Но след их вьюга замела. Скорей, ямщик, скорей!..»* * *
Мороз сильней, пустынней путь, Чем дале на восток; На триста верст какой-нибудь Убогий городок, Зато как радостно глядишь На темный ряд домов, Но где же люди? Всюду тишь, Не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз, Чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал воз, Куранты где-то бьют. Замерзли окна… огонек В одном чуть-чуть мелькнул… Собор… на выезде острог… Ямщик кнутом махнул: «Эй, вы!» — и нет уж городка, Последний дом исчез… Направо — горы и река, Налево — темный лес… Кипит больной, усталый ум, Бессонный до утра, Тоскует сердце. Смена дум Мучительно быстра; Княгиня видит то друзей, То мрачную тюрьму, И тут же думается ей — Бог знает почему, — Что небо звездное — песком Посыпанный листок, А месяц — красным сургучом Оттиснутый кружок… Пропали горы; началась Равнина без конца. Еще мертвей! Не встретит глаз Живого деревца. «А вот и тундра!» — говорит Ямщик, бурят степной. Княгиня пристально глядит И думает с тоской: «Сюда-то жадный человек За золотом идет! Оно лежит по руслам рек, Оно на дне болот. Трудна добыча на реке, Болота страшны в зной, Но хуже, хуже в руднике, Глубоко под землей!.. Там гробовая тишина, Там безрассветный мрак… Зачем, проклятая страна, Нашел тебя Ермак?..»* * *
Чредой спустилась ночи мгла, Опять взошла луна. Княгиня долго не спала, Тяжелых дум полна… Уснула… Башня снится ей… Она вверху стоит; Знакомый город перед ней Волнуется, шумит; К Сенатской площади бегут Несметные толпы: Чиновный люд, торговый люд, Разносчики, попы; Пестреют шляпки, бархат, шелк, Тулупы, армяки… Стоял уж там Московский полк, Пришли еще полки, Побольше тысячи солдат Сошлось. Они «ура!» кричат, Они чего-то ждут… Народ галдел, народ зевал, Едва ли сотый понимал, Что делается тут… Зато посмеивался в ус, Лукаво щуря взор, Знакомый с бурями француз, Столичный куафёр{107}… Приспели новые полки. «Сдавайтесь!» — тем кричат. Ответ им — пули и штыки, Сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал{108}, Влетев в каре, грозиться стал — С коня снесли его. Другой приблизился к рядам: «Прощенье царь дарует вам!» Убили и того. Явился сам митрополит С хоругвями, с крестом, «Покайтесь, братия! — гласит. — Падите пред царем!» Солдаты слушали, крестясь, Но дружен был ответ: «Уйди, старик! молись за нас! Тебе здесь дела нет…» Тогда-то пушки навели. Сам царь скомандовал: «Па-ли!..» …О милый! Жив ли ты? Княгиня, память потеряв, Вперед рванулась и стремглав Упала с высоты. Пред нею длинный и сырой Подземный коридор, У каждой двери часовой, Все двери на запор. Прибою волн подобный плеск Снаружи слышен ей; Внутри — бряцанье, ружей блеск При свете фонарей; Да отдаленный шум шагов И долгий гул от них, Да перекрестный бой часов, Да крики часовых… С ключами, старый и седой, Усатый инвалид. «Иди, печальница, за мной! — Ей тихо говорит. — Я проведу тебя к нему, Он жив и невредим…» Она доверилась ему, Она пошла за ним… Шли долго, долго… Наконец Дверь визгнула, — и вдруг Пред нею он… живой мертвец… Пред нею — бедный друг! Упав на грудь ему, она Торопится спросить: «Скажи, что делать? Я сильна, Могу я страшно мстить! Достанет мужества в груди, Готовность горяча, Просить ли надо?..» — Не ходи, Не тронешь палача! «О милый! что сказал ты? Слов Не слышу я твоих. То этот страшный бой часов, То крики часовых! Зачем тут третий между нас?..» — Наивен твой вопрос. «Пора! пробил урочный час!» — Тот «третий» произнес…* * *
Княгиня вздрогнула, — глядит Испуганно кругом, Ей ужас сердце леденит: Не все тут было сном!.. Луна плыла среди небес Без блеска, без лучей, Налево был угрюмый лес, Направо — Енисей. Темно! Навстречу ни души, Ямщик на козлах спал, Голодный волк в лесной глуши Пронзительно стонал, Да ветер бился и ревел, Играя на реке, Да инородец где-то пел На странном языке. Суровым пафосом звучал Неведомый язык И пуще сердце надрывал, Как в бурю чайки крик… Княгине холодно; в ту ночь Мороз был нестерпим, Упали силы; ей невмочь Бороться больше с ним. Рассудком ужас овладел, Что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел, Не понукал коней, Передней тройки не слыхать. «Эй! жив ли ты, ямщик? Что ты замолк? не вздумай спать!» — Не бойтесь, я привык… Летят… Из мерзлого окна Не видно ничего, Опасный гонит сон она, Но не прогнать его! Он волю женщины больной Мгновенно покорил И, как волшебник, в край иной Ее переселил. Тот край — он ей уже знаком, — Как прежде, неги полн, И теплым солнечным лучом, И сладким пеньем волн Ее приветствовал, как друг… Куда ни поглядит: «Да, это юг! да, это юг!» — Все взору говорит… Ни тучки в небе голубом, Долина вся в цветах, Все солнцем залито, — на всем, Внизу и на горах, Печать могучей красоты, Ликует все вокруг; Ей солнце, море и цветы Поют: «Да — это юг!» В долине между цепью гор И морем голубым Она летит во весь опор С избранником своим. Дорога их — роскошный сад, С деревьев льется аромат, На каждом дереве горит Румяный, пышный плод; Сквозь ветви темные сквозит Лазурь небес и вод; По морю реют корабли, Мелькают паруса, А горы, видные вдали, Уходят в небеса. Как чудны краски их! За час Рубины рдели там, Теперь заискрился топаз По белым их хребтам… Вот вьючный мул идет шажком, В бубенчиках, в цветах, За мулом — женщина с венком, С корзинкою в руках. Она кричит им: «Добрый путь!» И, засмеявшись вдруг, Бросает быстро ей на грудь Цветок… да! это юг! Страна античных, смуглых дев И вечных роз страна… Чу! мелодический напев, Чу! музыка слышна!.. «Да, это юг! да, это юг! (Поет ей добрый сон.) Опять с тобой любимый друг, Опять свободен он!..»Часть вторая
Уже два месяца почти Бессменно день и ночь в пути На диво слаженный возок, А все конец пути далек! Княгинин спутник так устал, Что под Иркутском захворал, Два дня прождав его, она Помчалась далее одна… Ее в Иркутске встретил сам Начальник городской; Как мощи сух, как палка прям, Высокий и седой. Сползла с плеча его доха, Под ней — кресты, мундир, На шляпе — перья петуха. Почтенный бригадир, Ругнув за что-то ямщика, Поспешно подскочил И дверцы прочного возка Княгине отворил…Княгиня
(входит в станционный дом)
В Нерчинск! Закладывать скорей!Губернатор
Пришел я — встретить вас.Княгиня
Велите ж дать мне лошадей!Губернатор
Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна, Вам нужно отдохнуть…Княгиня
Благодарю вас! Я сильна… Уж недалек мой путь…Губернатор
Все ж будет верст до восьмисот, А главная беда: Дорога хуже тут пойдет, Опасная езда!.. Два слова нужно вам сказать По службе, — и притом Имел я счастье графа знать, Семь лет служил при нем. Отец ваш редкий человек По сердцу, по уму, Запечатлев в душе навек Признательность к нему, К услугам дочери его Готов я… весь я ваш…Княгиня
Но мне не нужно ничего! (Отворяя дверь в сени.) Готов ли экипаж?Губернатор
Покуда я не прикажу, Его не подадут…Княгиня
Так прикажите ж! Я прошу…Губернатор
Но есть зацепка тут: С последней почтой прислана Бумага…Княгиня
Что же в ней: Уж не вернуться ль я должна?Губернатор
Да-с, было бы верней.Княгиня
Да кто ж прислал вам и о чем Бумагу? что же — там Шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам!Губернатор
Нет… не решусь я утверждать… Но путь еще далек…Княгиня
Так что же даром и болтать! Готов ли мой возок?Губернатор
Нет! Я еще не приказал… Княгиня! здесь я — царь! Садитесь! Я уже сказал, Что знал я графа встарь, А граф… хоть он вас отпустил, По доброте своей, Но ваш отъезд его убил… Вернитесь поскорей!Княгиня
Нет! что однажды решено — Исполню до конца! Мне вам рассказывать смешно, Как я люблю отца, Как любит он. Но долг другой, И выше и святей, Меня зовет. Мучитель мой! Давайте лошадей!Губернатор
Позвольте-с. Я согласен сам, Что дорог каждый час, Но хорошо ль известно вам, Что ожидает вас? Бесплодна наша сторона, А та — еще бедней, Короче нашей там весна, Зима — еще длинней. Да-с, восемь месяцев зима Там — знаете ли вы? Там люди редки без клейма{109}, И те душой черствы; На воле рыскают кругом Там только варнаки{110}; Ужасен там тюремный дом, Глубоки рудники. Вам не придется с мужем быть Минуты глаз на глаз: В казарме общей надо жить, А пища: хлеб да квас. Пять тысяч каторжников там, Озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам, Убийства и разбой; Короток им и страшен суд, Грознее нет суда! И вы, княгиня, вечно тут Свидетельницей… Да! Поверьте, вас не пощадят, Не сжалится никто! Пускай ваш муж — он виноват… А вам терпеть… за что?Княгиня
Ужасна будет, знаю я, Жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя Не радостней его!Губернатор
Но вы не будете там жить: Тот климат вас убьет! Я вас обязан убедить, Не ездите вперед! Ах! вам ли жить в стране такой, Где воздух у людей Не паром — пылью ледяной Выходит из ноздрей? Где мрак и холод круглый год, А в краткие жары — Непросыхающих болот Зловредные пары? Да… страшный край! Оттуда прочь Бежит и зверь лесной, Когда стосуточная ночь Повиснет над страной…Княгиня
Живут же люди в том краю, Привыкну я шутя…Губернатор
Живут? Но молодость свою Припомните… дитя! Здесь мать — водицей снеговой, Родив, омоет дочь, Малютку грозной бури вой Баюкает всю ночь, А будит дикий зверь, рыча Близ хижины лесной, Да пурга, бешено стуча В окно, как домовой. С глухих лесов, с пустынных рек Сбирая дань свою, Окреп туземный человек С природою в бою, А вы?..Княгиня
Пусть смерть мне суждена — Мне нечего жалеть!.. Я еду! еду! я должна Близ мужа умереть.Губернатор
Да, вы умрете, но сперва Измучите того, Чья безвозвратно голова Погибла. Для него Прошу: не ездите туда! Сноснее одному, Устав от тяжкого труда, Прийти в свою тюрьму, Прийти — и лечь на голый пол И с черствым сухарем Заснуть… а добрый сон пришел — И узник стал царем! Летя мечтой к родным, к друзьям, Увидя вас самих, Проснется он к дневным трудам И бодр, и сердцем тих. А с вами?., с вами не знавать Ему счастливых грез, В себе он будет сознавать Причину ваших слез.Княгиня
Ах!.. Эти речи поберечь Вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь Слезы из глаз моих! Покинув родину, друзей, Любимого отца, Приняв обет в душе моей Исполнить до конца Мой долг, — я слез не принесу В проклятую тюрьму — Я гордость, гордость в нем спасу, Я силы дам ему! Презренье к нашим палачам, Сознанье правоты Опорой верной будет нам.Губернатор
Прекрасные мечты! Но их достанет на пять дней. Не век же вам грустить? Поверьте совести моей, Захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, Нужда и вечный гнет, А там балы, блестящий двор, Свобода и почет. Как знать? Быть может, бог судил… Понравится другой, Закон вас права не лишил…Княгиня
Молчите!.. Боже мой!..Губернатор
Да, откровенно говорю, Вернитесь лучше в свет.Княгиня
Благодарю, благодарю За добрый ваш совет! И прежде был там рай земной, А нынче этот рай Своей заботливой рукой Расчистил Николай. Там люди заживо гниют — Ходячие гробы, Мужчины — сборище Иуд, А женщины — рабы. Что там найду я? Ханжество, Поруганную честь, Нахальной дряни торжество И подленькую месть. Нет, в этот вырубленный лес Меня не заманят, Где были дубы до небес, А нынче пни торчат! Вернуться? жить среди клевет, Пустых и темных дел?.. Там места нет, там друга нет Тому, кто раз прозрел! Нет, нет, я видеть не хочу Продажных и тупых, Не покажусь я палачу Свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, Вернуться — все простя?..Губернатор
Но он же вас не пощадил? Подумайте, дитя: О ком тоска? к кому любовь?Княгиня
Молчите, генерал!Губернатор
Когда б не доблестная кровь Текла в вас — я б молчал. Но если рветесь вы вперед, Не веря ничему, Быть может, гордость вас спасет… Достались вы ему С богатством, с именем, с умом, С доверчивой душой, А он, не думая о том, Что станется с женой, Увлекся призраком пустым, И — вот его судьба!.. И что ж?.. бежите вы за ним, Как жалкая раба!Княгиня
Нет! я не жалкая раба, Я женщина, жена! Пускай горька моя судьба — Я буду ей верна! О, если б он меня забыл Для женщины другой, В моей душе достало б сил Не быть его рабой! Но знаю: к родине любовь Соперница моя, И если б нужно было, вновь Ему простила б я!..* * *
Княгиня кончила… Молчал Упрямый старичок. — Ну что ж? Велите, генерал, Готовить мой возок? — Не отвечая на вопрос, Смотрел он долго в пол, Потом в раздумье произнес: «До завтра», — и ушел…* * *
Назавтра тот же разговор. Просил и убеждал, Но получил опять отпор Почтенный генерал. Все убежденья истощив И выбившись из сил, Он долго, важен, молчалив, По комнате ходил И, наконец, сказал: «Быть так! Вас не спасешь, увы!.. Но знайте: сделав этот шаг, Всего лишитесь вы!» — Да что же мне еще терять? «За мужем поскакав, Вы отреченье подписать Должны от ваших прав!» Старик эффектно замолчал, От этих страшных слов Он, очевидно, пользы ждал. Но был ответ таков: «У вас седая голова, А вы еще дитя! Вам наши кажутся права Правами — не шутя. Нет! ими я не дорожу, Возьмите их скорей! Где отреченье? Подпишу! И живо — лошадей!..»Губернатор
Бумагу эту подписать! Да что вы?.. Боже мой! Ведь это значит нищей стать И женщиной простой! Всему вы скажете прости, Что вам дано отцом, Что по наследству перейти Должно бы к вам потом! Права имущества, права Дворянства потерять! Нет, вы подумайте сперва, — Зайду я к вам опять!..* * *
Ушел и не был целый день… Когда спустилась тьма, Княгиня, слабая как тень, Пошла к нему сама. Ее не принял генерал: Хворает тяжело… Пять дней, покуда он хворал, Мучительных прошло. А на шестой пришел он сам И круто молвил ей: «Я отпустить не вправе вам, Княгиня, лошадей! Вас по этапу поведут С конвоем…»Княгиня
Боже мой! Но так ведь месяцы пройдут В дороге?..Губернатор
Да, весной В Нерчинск придете, если вас Дорога не убьет. Навряд версты четыре в час Закованный идет; Посередине дня — привал, С закатом дня — ночлег, А ураган в Степи застал — Закапывайся в снег! Да-с, промедленьям нет числа, Иной упал, ослаб…Княгиня
Не хорошо я поняла — Что значит ваш этап?Губернатор
Под караулом казаков С оружием в руках, Этапом водим мы воров И каторжных в цепях, Они дорогою шалят, Того гляди, сбегут, Так их канатом прикрутят Друг к другу — и ведут. Трудненек путь! Да вот-с каков: Отправится пятьсот, А до нерчинских рудников И трети не дойдет! Они как мухи мрут в пути, Особенно зимой… И вам, княгиня, так идти?.. Вернитесь-ка домой!Княгиня
О нет! я этого ждала… Но вы, но вы… злодей!.. Неделя целая прошла… Нет сердца у людей! Зачем бы разом не сказать?.. Уж шла бы я давно… Велите ж партию сбирать — Иду! мне все равно!..* * *
«Нет! вы поедете!.. — вскричал Нежданно старый генерал, Закрыв рукой глаза, — Как я вас мучил… Боже мой!.. (Из-под руки на ус седой Скатилася слеза.) Простите! да, я мучил вас, Но мучился и сам, Но строгий я имел приказ Преграды ставить вам! И разве их не ставил я? Я делал все, что мог, Перед царем душа моя Чиста, свидетель бог! Острожным жестким сухарем И жизнью взаперти, Позором, ужасом, трудом Этапного пути Я вас старался напугать. Не испугались вы! И хоть бы мне не удержать На плечах головы, Я не могу, я не хочу Тиранить больше вас… Я вас в три дня туда домчу… (Отворяя дверь, кричит.) Эй! запрягать, сейчас!..»Княгиня М. Н. Волконская
Бабушкины записки (1826-27)
{111}
Глава I
Проказники внуки! Сегодня они С прогулки опять воротились: «Нам, бабушка, скучно! В ненастные дни, Когда мы в портретной садились И ты начинала рассказывать нам, Так весело было!.. Родная, Еще что-нибудь расскажи!..» По углам Уселись. Но их прогнала я: «Успеете слушать; рассказов моих Достанет на целые томы, Но вы еще глупы: узнаете их, Как будете с жизнью знакомы! Я все рассказала доступное вам По вашим ребяческим летам; Идите гулять по полям, по лугам! Идите же… пользуйтесь летом!» И вот, не желая остаться в долгу У внуков, пишу я записки; Для них я портреты людей берегу, Которые были мне близки. Я им завещаю альбом — и цветы С могилы сестры-Муравьевой{112}, Коллекцию бабочек, флору Читы И виды страны той суровой; Я им завещаю железный браслет… Пускай берегут его свято: В подарок жене его выковал дед Из собственной цепи когда-то…______
Родилась я, милые внуки мои, Под Киевом, в тихой деревне; Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, Но пуще отец мой возвысил его: Заманчивей славы героя, Дороже отчизны — не знал ничего Боец, не любивший покоя. Творя чудеса, девятнадцати лет Он был полковым командиром, Он мужеством добыл и лавры побед, И почести, чтимые миром. Воинская слава его началась Персидским и шведским походом, Но память о нем нераздельно слилась С великим двенадцатым годом: Тут жизнь его долгим сраженьем была. Походы мы с ним разделяли, И в месяц иной не запомним числа, Когда б за него не дрожали. «Защитник Смоленска» всегда впереди Опасного дела являлся… Под Лейпцигом раненный, с пулей в груди, Он вновь через сутки сражался, Так летопись жизни его говорит:[36] В ряду полководцев России, Покуда отечество наше стоит, Он памятен будет! Витии Отца моего осыпали хвалой, Бессмертным его называя; Жуковский почтил его громкой строфой, Российских вождей прославляя: Под Дашковой личного мужества жар И жертву отца-патриота Поэт воспевает[37]. Воинственный дар Являя в сраженьях без счета, Не силой одною врагов побеждал Ваш прадед в борьбе исполинской: О нем говорили, что он сочетал С отвагою гений воинский. Войной озабочен, в семействе своем Отец ни во что не мешался, Но крут был порою; почти божеством Он матери нашей казался, И сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили — в герое. Окончив походы, в усадьбе своей Он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном дому. Детей поручив англичанке, Старик отдыхал[38]. Я училась всему, Что нужно богатой дворянке. А после уроков бежала я в сад И пела весь день беззаботно, Мой голос был очень хорош, говорят, Отец его слушал охотно; Записки свои приводил он к концу, Читал он газеты, журналы, Пиры задавал; наезжали к отцу Седые, как он, генералы, И шли бесконечные споры тогда; Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? была я всегда В то время царицею бала: Очей моих томных огонь голубой, И черная с синим отливом Большая коса, и румянец густой На личике смуглом, красивом, И рост мой высокий, и гибкий мой стан, И гордая поступь — пленяли Тогдашних красавцев: гусаров, улан, Что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть… Отец за меня постарался: «Не время ли замуж? Жених уже есть, Он славно под Лейпцигом дрался, Его полюбил государь, наш отец, И дал ему чин генерала. Постарше тебя… а собой молодец, Волконский! Его ты видала На царском смотру… и у нас он бывал, По парку с тобой все шатался!» — Да, помню! Высокий такой генерал… «Он самый!» — Старик засмеялся… — Отец! он так мало со мной говорил! — Заметила я, покраснела… «Ты будешь с ним счастлива!» — круто решил Старик, — возражать я не смела… Прошло две недели — и я под венцом С Сергеем Волконским стояла, Не много я знала его женихом, Не много и мужем узнала, — Так мало мы жили под кровлей одной, Так редко друг друга видали! По дальним селеньям, на зимний постой, Бригаду его разбросали, Ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась; В Одессе потом, по совету врачей, Я целое лето купалась; Зимой он приехал за мною туда, С неделю я с ним отдохнула При главной квартире… и снова беда! Однажды я крепко уснула, Вдруг слышу я голос Сергея (в ночи, Почти на рассвете то было): «Вставай! поскорее найди мне ключи! Камин затопи!» Я вскочила… Взглянула: встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил К камину — и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, Иные бросал не читая. И я помогала Сергею, дрожа И глубже в огонь их толкая… Потом он сказал: «Мы поедем сейчас», — Волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас, И утром, ни с кем не прощаясь, Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня; Сергей был угрюм, торопился, Довез до отцовской усадьбы меня И тотчас со мною простился.Глава II
«Уехал!.. Что значила бледность его И все, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось!» Я долго не знала покоя и сна, Сомнения душу терзали: «Уехал, уехал! опять я одна!..» Родные меня утешали, Отец торопливость его объяснял Каким-нибудь делом случайным: «Куда-нибудь сам император послал Его с поручением тайным. Не плачь! Ты походы делила со мной, Превратности жизни военной Ты знаешь; он скоро вернется домой! Под сердцем залог драгоценный Ты носишь: теперь ты беречься должна! Все кончится ладно, родная; Жена муженька проводила одна, А встретит, ребенка качая!..» Увы! предсказанье его не сбылось! Увидеться с бедной женою И с первенцем-сыном отцу довелось Не здесь — не под кровлей родною! Как дорого стоил мне первенец мой! Два месяца я прохворала. Измучена телом, убита душой, Я первую няню узнала. Спросила о муже. — Еще не бывал! «Писал ли?» — И писем нет даже. «А где мой отец?» — В Петербург ускакал. «А брат мой?» — Уехал туда же. «Мой муж не приехал, нет даже письма, И брат и отец ускакали, — Сказала я матушке. — Еду сама! Довольно, довольно мы ждали!» И как ни старалась упрашивать дочь Старушка, я твердо решилась; Припомнила я ту последнюю ночь И все, что тогда совершилось, И ясно сознала, что с мужем моим Недоброе что-то творится… Стояла весна, по разливам речным Пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. «Где муж мой?» — отца я спросила. — В Молдавию муж твой ушел воевать. «Не пишет он?..» Глянул уныло И вышел отец… Недоволен был брат, Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, Заботливо что-то скрывая; Ссылаясь на то, что мне нужен покой, Ко мне никого не пускали, Меня окружили какой-то стеной, Мне даже газет не давали! Я вспомнила: много у мужа родных, Пишу — отвечать умоляю. Проходят недели — ни слова от них! Я плачу, я силы теряю… Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, Что я не пролью ни единой слезы, — И он и кругом все молчало! Любя, меня мучил мой бедный отец; Жалея, удваивал горе… Узнала, узнала я все наконец!.. Прочла я в самом приговоре, Что был заговорщиком бедный Сергей: Стояли они настороже, Готовя войска к низверженью властей. В вину ему ставилось тоже, Что он… Закружилась моя голова… Я верить глазам не хотела… «Ужели?..» — в уме не вязались слова: Сергей — и бесчестное дело! Я помню, сто раз я прочла приговор, Вникая в слова роковые; К отцу побежала, — с отцом разговор Меня успокоил, родные! С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила: Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила: «Как мог он болтать? Я была молода, Когда ж он со мной расставался, Я сына под сердцем носила тогда: За мать и дитя он боялся! — Так думала я. — Пусть беда велика, Не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, Но люди живут и в Сибири!..» Всю ночь я горела, мечтая о том, Как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким, крепительным сном Уснула — и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое, Приятельниц я повидала, Нашла я сестру, расспросила ее И горького много узнала! Несчастные люди!.. «Все время Сергей (Сказала сестра) содержался В тюрьме; не видал ни родных, ни друзей… Вчера только с ним повидался Отец. Повидаться с ним можешь и ты: Когда приговор прочитали, Одели их в рубище, сняли кресты, Но право свиданья им дали!..» Подробностей ряд пропустила я тут… Оставив следы роковые, Доныне о мщенье они вопиют… Не знайте их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к «генералу», Потом нас привел генерал пожилой В обширную мрачную залу. «Дождитесь, княгиня! мы будем сейчас!» Раскланявшись вежливо с нами, Он вышел. С дверей не спускала я глаз, Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали, За ними я мыслью летела. Мне чудилось: связку ключей принесли, И ржавая дверь заскрипела; В угрюмой каморке с железным окном Измученный узник томился. «Жена к вам приехала!..» Бледный лицом, Он весь задрожал, оживился: — Жена!.. — Коридором он быстро бежал, Довериться слуху не смея… «Вот он!» — громогласно сказал генерал, И я увидала Сергея… Недаром над ним пронеслася гроза: Морщины на лбу появились, Лицо было мертвенно-бледно, глаза Не так уже ярко светились, Но больше в них было, чем в прежние дни, Той тихой, знакомой печали; С минуту пытливо смотрели они И радостью вдруг заблистали, Казалось, он в душу мою заглянул… Я горько, припав к его груди, Рыдала… Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди», Потом он сказал, что полезно ему Узнать добродетель смиренья, Что, впрочем, легко переносит тюрьму, И несколько слов ободренья Прибавил… По комнате важно шагал Свидетель; нам было неловко… Сергей на одежду свою показал: «Поздравь меня, Маша, с обновкой, — И тихо прибавил: — пойми и прости», — Глаза засверкали слезою. Но тут соглядатай успел подойти, Он низко поник головою. Я громко сказала: «Да, я не ждала Найти тебя в этой одежде, — И тихо шепнула: — я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде…» «Что делать? И в каторге буду я жить (Покуда мне жить не наскучит)». — Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить? ( Ведь каторга нас не разлучит?) «Так вот ты какая!» — Сергей говорил, Лицо его весело было… Он вынул платок, на окно положил, И рядом я свой положила, Потом, расставаясь, Сергеев платок Взяла я — мой мужу остался… Нам после годичной разлуки часок Свиданья короток казался, Но что ж было делать! Наш срок миновал — Пришлось бы другим дожидаться… В карету меня подсадил генерал, Счастливо желал оставаться… Великую радость нашла я в платке: Целуя его, увидала Я несколько слов на одном уголке; Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна. Пойми — не пеняй! Душевно я бодр и — желаю Жену мою видеть такой же. Прощай! Малютке поклон посылаю…» Была в Петербурге большая родня У мужа; всё знать — да какая! Я ездила к ним, волновалась три дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь? Я все испытал — бесполезно!» И правда: они уж пытались помочь, Моля императора слезно, Но просьбы до сердца его не дошли… Я с мужем еще повидалась, И время приспело: его увезли!.. Как только одна я осталась, Я тотчас послышала в сердце моем, Что надо и мне торопиться, Мне душен казался родительский дом, И стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, Мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, Когда я сказала: «Я еду!» Не знаю, как мне удалось устоять, Чего натерпелась я… Боже!.. Была из-под Киева вызвана мать, И братья приехали тоже: Отец «образумить» меня приказал. Они убеждали, просили, Но волю мою сам господь подкреплял, Их речи ее не сломили! А много и горько поплакать пришлось… Когда собрались мы к обеду, Отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» — Я еду! — Отец промолчал… промолчала семья… Я вечером горько всплакнула, Качая ребенка, задумалась я… Вдруг входит отец, — я вздрогнула… Ждала я грозы, но, печален и тих, Сказал он сердечно и кротко: «За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу! Напрасна великая жертва твоя, Найдешь ты там только могилу!» И ждал он ответа и взгляд мой ловил, Лаская меня и целуя… «Я сам виноват! Я тебя погубил! — Воскликнул он вдруг, негодуя. — Где был мой рассудок? Где были глаза! Уж знала вся армия наша…» И рвал он седые свои волоса: «Прости! не казни меня, Маша! Останься!..» И снова молил горячо… Бог знает, как я устояла! Припав головою к нему на плечо, «Поеду!» — я тихо сказала… «Посмотрим!..» И вдруг распрямился старик, Глаза его гневом сверкали: «Одно повторяет твой глупый язык: Поеду! Сказать не пора ли, Куда и зачем? Ты подумай сперва! Не знаешь сама, что болтаешь! Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь И мать и отца? Или глупы они… Что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни, Вперед посмотри хладнокровней, Подумай!.. Я завтра увижусь с тобой…» Ушел он, грозящий и гневный, А я, чуть жива, пред иконой святой Упала — в истоме душевной…Глава III
«Подумай!..» Я целую ночь не спала, Молилась и плакала много. Я божию матерь на помощь звала, Совета просила у бога; Я думать училась: отец приказал Подумать… нелегкое дело! Давно ли он думал за нас — и решал, И жизнь наша мирно летела? Училась я много; на трех языках Читала. Заметна была я В парадных гостиных, на светских балах, Искусно танцуя, играя; Могла говорить я почти обо всем, Я музыку знала, я пела, Я даже отлично скакала верхом. Но думать совсем не умела. Я только в последний, двадцатый мой год Узнала, что жизнь не игрушка. Да в детстве, бывало, сердечко вздрогнет, Как грянет нечаянно пушка. Жилось хорошо и привольно; отец Со мной не говаривал строго; Осьмнадцати лет я пошла под венец И тоже не думала много… В последнее время моя голова Работала сильно, пылала; Меня неизвестность томила сперва. Когда же беду я узнала, Бессменно стоял предо мною Сергей, Тюрьмою измученный, бледный, И много неведомых прежде страстей Посеял в душе моей бедной. Я все испытала, а больше всего Жестокое чувство бессилья. Я небо и сильных людей за него Молила — напрасны усилья! И гнев мою душу больную палил, И я волновалась нестройно, Рвалась, проклинала… но не было сил, Ни времени думать спокойно. Теперь непременно я думать должна — Отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, Пусть всякая дума бесплодна, Я честно исполнить отцовский приказ Решилась, мои дорогие. Старик говорил: «Ты подумай о нас, Мы люди тебе не чужие: И мать, и отца, и дитя наконец, — Ты всех безрассудно бросаешь, За что же?» — Я долг исполняю, отец! «За что ты себя обрекаешь На муку?» — Не буду я мучиться там! Здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь, послушная вам, Меня истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, Рыдая над бедным сироткой, Все буду я думать о муже моем Да слышать упрек его кроткий. Куда ни пойду я — на лицах людей Я свой приговор прочитаю: В их шепоте — повесть измены моей, В улыбке укор угадаю: Что место мое не на пышном балу, А в дальней пустыне угрюмой, Где узник усталый в тюремном углу Терзается лютою думой Один… без опоры… Скорее к нему! Там только вздохну я свободно. Делила с ним радость, делить и тюрьму Должна я… Так небу угодно!.. Простите, родные! Мне сердце давно Мое подсказало решенье. И верю я твердо: от бога оно! А в вас говорит — сожаленье. Да, ежели выбор решить я должна Меж мужем и сыном — не боле, Иду я туда, где я больше нужна, Иду я к тому, кто в неволе! Я сына оставлю в семействе родном, Он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет малютке отцом, Сестра ему матерью будет. Он так еще мал! А когда подрастет И страшную тайну узнает, Я верю: он матери чувство поймет И в сердце ее оправдает! Но если останусь я с ним… и потом Он тайну узнает и спросит: «Зачем не пошла ты за бедным отцом?..» И слово укора мне бросит? О, лучше в могилу мне заживо лечь, Чем мужа лишить утешенья И в будущем сына презренье навлечь… Нет, нет! не хочу я презренья!.. А может случиться — подумать боюсь! — Я первого мужа забуду, Условиям новой семьи подчинюсь И сыну не матерью буду, А мачехой лютой?.. Горю со стыда… Прости меня, бедный изгнанник! Тебя позабыть! Никогда! никогда! Ты сердца единый избранник… Отец! ты не знаешь, как дорог он мне! Его ты не знаешь! Сначала, В блестящем наряде, на гордом коне, Его пред полком я видала; О подвигах жизни его боевой Рассказы товарищей боя Я слушала жадно — и всею душой Я в нем полюбила героя… Позднее я в нем полюбила отца Малютки, рожденного мною. Разлука тянулась меж тем без конца. Он твердо стоял под грозою… Вы знаете, где мы увиделись вновь — Судьба свою волю творила! — Последнюю, лучшую сердца любовь В тюрьме я ему подарила! Напрасно чернила его клевета, Он был безупречней, чем прежде, И я полюбила его, как Христа… В своей арестантской одежде Теперь он бессменно стоит предо мной, Величием кротким сияя. Терновый венец над его головой, Во взоре — любовь неземная… Отец мой! должна я увидеть его… Умру я, тоскуя по муже… Ты, долгу служа, не щадил ничего, И нас научил ты тому же… Герой, выводивший своих сыновей Туда, где смертельней сраженье, — Не верю, чтоб дочери бедной своей Ты сам не одобрил решенье!______
Вот что я продумала в долгую ночь, И так я с отцом говорила… Он тихо сказал: «Сумасшедшая дочь!» — И вышел; молчали уныло И братья и мать… Я ушла наконец… Тяжелые дни потянулись: Как туча ходил недовольный отец, Другие домашние дулись. Никто не хотел ни советом помочь, Ни делом; но я не дремала, Опять провела я бессонную ночь, Письмо к государю писала. (В то время молва начала разглашать, Что будто вернуть Трубецкую С дороги велел государь. Испытать Боялась я участь такую, Но слух был неверен.) Письмо отвезла Сестра моя, Катя Орлова{113}. Сам царь отвечал мне… Спасибо, нашла В ответе я доброе слово! Он был элегантен и мил. (Николай Писал по-французски.) Сначала Сказал государь, как ужасен тот край, Куда я поехать желала, Как грубы там люди, как жизнь тяжела, Как возраст мой хрупок и нежен; Потом намекнул (я не вдруг поняла) На то, что возврат безнадежен; А дальше — изволил хвалою почтить Решимость мою, сожалея, Что, долгу покорный, не мог пощадить Преступного мужа… Не смея Противиться чувствам высоким таким, Давал он свое позволенье, — Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим Осталась я дома… Волненье Меня охватило. «Я еду!» Давно Так радостно сердце не билось… «Я еду! я еду! Теперь решено!..» Я плакала, жарко молилась… В три дня я в далекий мой путь собралась, Все ценное я заложила, Надежною шубой, бельем запаслась, Простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, Загадочно как-то вздыхая; Отъезду не верил никто из семьи… Последнюю ночь провела я С ребенком. Нагнувшись над сыном моим, Улыбку малютки родного Запомнить старалась; играла я с ним Печатью письма рокового. Играла и думала: «Бедный мой сын! Не знаешь ты, чем ты играешь! Здесь участь твоя: ты проснешься один, Несчастный! Ты мать потеряешь!» И, в горе упав на ручонки его Лицом, я шептала, рыдая: «Прости, что тебя, для отца твоего, Мой бедный, покинуть должна я…» А он улыбался; не думал он спать, Любуясь красивым пакетом; Большая и красная эта печать Его забавляла… С рассветом Спокойно и крепко заснуло дитя, И щечки его заалели. С любимого личика глаз не сводя, Молясь у его колыбели, Я встретила утро… Я вмиг собралась. Сестру заклинала я снова Быть матерью сыну… Сестра поклялась… Кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои, Прощание было немое. Я думала: «Я умерла для семьи, Все милое, все дорогое Теряю… нет счета печальных потерь!..» Мать как-то спокойно сидела, Казалось не веря еще и теперь, Чтоб дочка уехать посмела, И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль понуро, Не молвил словечка, не поднял лица, — Оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли, Я плакала, бодрость теряя, Минуты мучительно медленно шли… Сестру наконец обняла я И мать обняла. «Ну, господь вас храни!» — Сказала я, братьев целуя. Отцу подражая, молчали они… Старик поднялся, негодуя, По сжатым губам, по морщинам чела Ходили зловещие тени… Я молча ему образок подала И стала пред ним на колени: «Я еду! хоть слово, хоть слово, отец! Прости свою дочь, ради бога!..» Старик на меня поглядел наконец, Задумчиво, пристально, строго, И, руки с угрозой подняв надо мной, Чуть слышно сказал (я дрожала): «Смотри! через год возвращайся домой, Не то — прокляну!..» Я упала…Глава IV
«Довольно, довольно объятий и слез!» Я села — и тройка помчалась. «Прощайте, родные!» В декабрьский мороз Я с домом отцовским рассталась И мчалась без отдыху с лишком три дня; Меня быстрота увлекала, Она была лучшим врачом для меня… Я скоро в Москву прискакала, К сестре Зинаиде[39]{114}. Мила и умна Была молодая княгиня. Как музыку знала! Как пела она! Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл[40], Исполненных грации нежной, Поэт Веневитинов стансы ей пел, Влюбленный в нее безнадежно; В Италии год Зинаида жила И к нам — по сказанью поэта — «Цвет южного неба в очах принесла»[41]. Царица московского света, Она не чуждалась артистов, — житье Им было у Зины в гостиной; Они уважали, любили ее И Северной звали Коринной{115}… Поплакали мы. По душе ей была Решимость моя роковая: «Крепись, моя бедная! будь весела! Ты мрачная стала такая. Чем мне эти темные тучи прогнать? Как мы распростимся с тобою? А вот что! ложись ты до вечера спать, А вечером пир я устрою. Не бойся! все будет во вкусе твоем, Друзья у меня не повесы, Любимые песни твои мы споем, Сыграем любимые пьесы…» И вечером весть, что приехала я, В Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья Вниманье Москвы занимали: Едва огласилось решенье суда, Всем было неловко и жутко, В салонах Москвы повторялась тогда Одна ростопчинская шутка{116}: «В Европе сапожник, чтоб барином стать, Бунтует, — понятное дело! У нас революцию сделала знать: В сапожники, что ль, захотела?..» И сделалась я «героинею дня». Не только артисты, поэты — Вся двинулась знатная наша родня; Парадные, цугом кареты Гремели; напудрив свои парики, Потемкину ровня по летам, Явились былые тузы-старики С отменно-учтивым приветом; Старушки статс-дамы былого двора В объятья меня заключали: «Какое геройство!.. Какая пора!..» — И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве повидней, Что в ней мимоездом гостило, Все вечером съехалось к Зине моей{117}: Артистов тут множество было, Певцов-итальянцев тут слышала я, Что были тогда знамениты, Отца моего сослуживцы, друзья Тут были, печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, Куда я сама торопилась, Писателей группа, любимых тогда, Со мной дружелюбно простилась: Тут были Одоевский, Вяземский; был Поэт вдохновенный и милый{118}, Поклонник кузины, что рано почил, Безвременно взятый могилой. И Пушкин тут был… Я узнала его… Он другом был нашего детства, В Юрзуфе[42] он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетства Смеялись, болтали мы, бегали с ним, Бросали друг в друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, И Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело. Вот наконец И горы и Черное море! Велел постоять экипажам отец, Гуляли мы тут на просторе. Тогда уже был мне шестнадцатый год. Гибка, высока не по летам, Покинув семью, я стрелою вперед Умчалась с курчавым поэтом; Без шляпки, с распущенной длинной косой, Полуденным солнцем палима, Я к морю летела, — и был предо мной Вид южного берега Крыма! Я радостным взором глядела кругом, Я прыгала, с морем играла; Когда удалялся прилив, я бегом До самой воды добегала, Когда же прилив возвращался опять И волны грядой подступали, От них я спешила назад убежать, А волны меня настигали!.. И Пушкин смотрел… и смеялся, что я Ботинки мои промочила. «Молчите! идет гувернантка моя!» — Сказала я строго… (Я скрыла, Что ноги промокли…) Потом я прочла В «Онегине» чудные строки[43]. Я вспыхнула вся — я довольна была… Теперь я стара, так далеки Те красные дни! Я не буду скрывать, Что Пушкин в то время казался Влюбленным в меня… но, по правде сказать, В кого он тогда не влюблялся! Но, думаю, он не любил никого Тогда, кроме Музы: едва ли Не больше любви занимали его Волненья ее и печали… Юрзуф живописен: в роскошных садах Долины его потонули, У ног его море, вдали Аюдаг… Татарские хижины льнули К подножию скал; виноград выбегал На кручу лозой отягченной, И тополь местами недвижно стоял Зеленой и стройной колонной. Мы заняли дом под нависшей скалой, Поэт наверху приютился, Он нам говорил, что доволен судьбой, Что в море и горы влюбился. Прогулки его продолжались по дням И были всегда одиноки, Он у моря часто бродил по ночам. По-английски брал он уроки У Лены, сестры моей: Байрон тогда Его занимал чрезвычайно. Случалось сестре перевесть иногда Из Байрона что-нибудь — тайно; Она мне читала попытки свои, А после рвала и бросала, Но Пушкину кто-то сказал из семьи, Что Лена стихи сочиняла; Поэт подобрал лоскутки под окном И вывел все дело на сцену. Хваля переводы, он долго потом Конфузил несчастную Лену… Окончив занятья, спускался он вниз И с нами делился досугом; У самой террасы стоял кипарис, Поэт называл его другом, Под ним заставал его часто рассвет, Он с ним, уезжая, прощался… И мне говорили, что Пушкина след В туземной легенде остался: «К поэту летал соловей по ночам, Как в небо луна выплывала, И вместе с поэтом он пел, — и, певцам Внимая, природа смолкала! Потом соловей, — повествует народ, — Летал сюда каждое лето: И свищет, и плачет, и словно зовет К забытому другу поэта! Но умер поэт — прилетать перестал Пернатый певец… Полный горя, С тех пор кипарис сиротою стоял, Внимая лишь ропоту моря…» Но Пушкин надолго прославил его: Туристы его навещают, Садятся под ним и на память с него Душистые ветки срывают… Печальна была наша встреча. Поэт Подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет В далеком Юрзуфе, над морем. Покинув привычный насмешливый тон, С любовью, с тоской бесконечной, С участием брата напутствовал он Подругу той жизни беспечной! Со мной он по комнате долго ходил, Судьбой озабочен моею, Я помню, родные, что он говорил, Да так передать не сумею: «Идите, идите! Вы сильны душой, Вы смелым терпеньем богаты, Пусть мирно свершится ваш путь роковой, Пусть вас не смущают утраты! Поверьте, душевной такой чистоты Не стоит сей свет ненавистный! Блажен, кто меняет его суеты На подвиг любви бескорыстной! Что свет? опостылевший всем маскарад! В нем сердце черствеет и дремлет, В нем царствует вечный, рассчитанный хлад И пылкую правду объемлет… Вражда умирится влияньем годов, Пред временем рухнет преграда, И вам возвратятся пенаты отцов И сени домашнего сада! Целебно вольется в усталую грудь Долины наследственной сладость, Вы гордо оглянете пройденный путь И снова узнаете радость. Да, верю! недолго вам горе терпеть, Гнев царский не будет же вечным… Но если придется в степи умереть, Помянут вас словом сердечным: Пленителен образ отважной жены, Явившей душевную силу И в снежных пустынях суровой страны Сокрывшейся рано в могилу! Умрете, но ваших страданий рассказ Поймется живыми сердцами, И за полночь правнуки ваши о вас Беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, Черты незабвенные ваши, И в память прабабки, погибшей в глуши, Осушатся полные чаши!.. Пускай долговечнее мрамор могил, Чем крест деревянный в пустыне, Но мир Долгорукой еще не забыл, А Бирона нет и в помине{119}. Но что я?.. Дай бог вам здоровья и сил! А там и увидеться можно: Мне царь «Пугачева» писать поручил{120}, Пугач меня мучит безбожно, Расправиться с ним я на славу хочу, Мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвачу, Что путного там соберется, Да к вам и махну, переехав Урал…» Поэт написал «Пугачева», Но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово?..______
Я слушала музыку, грусти полна, Я пению жадно внимала; Сама я не пела — была я больна, Я только других умоляла: «Подумайте: я уезжаю с зарей… О, пойте же, пойте! играйте!.. Ни музыки я не услышу такой, Ни песни… Наслушаться дайте!» И чудные звуки лились без конца! Торжественной песней прощальной Окончился вечер, — не помню лица Без грусти, без думы печальной! Черты неподвижных, суровых старух Утратили холод надменный, И взор, что, казалось, навеки потух, Светился слезой умиленной… Артисты старались себя превзойти, Не знаю я песни прелестней Той песни-молитвы о добром пути, Той благословляющей песни… О, как вдохновенно играли они! Как пели!., и плакали сами… И каждый сказал мне: «Господь вас храни!» — Прощаясь со мной со слезами…Глава V
Морозно. Дорога бела и гладка, Ни тучи на всем небосклоне… Обмерзли усы, борода ямщика, Дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу, Хрипит он, коней понукая, И кашляют кони его на бегу, Глубоко и трудно вздыхая… Обычные виды: былая краса Пустынного русского края, Угрюмо шумят строевые леса, Гигантские тени бросая; Равнины покрыты алмазным ковром, Деревни в снегу потонули, Мелькнул на пригорке помещичий дом, Церковные главы блеснули… Обычные встречи: обоз без конца, Толпа богомолок-старушек, Гремящая почта, фигура купца На груде перин и подушек; Казенная фура! с десяток подвод: Навалены ружья и ранцы. Солдатики! Жидкий безусый народ, Должно быть, еще новобранцы; Сынков провожают отцы-мужики Да матери, сестры и жены. «Уводят, уводят сердечных в полки!» — Доносятся горькие стоны… Подняв кулаки над спиной ямщика, Неистово мчится фельдъегерь. На самой дороге догнав русака, Усатый помещичий егерь Махнул через ров на проворном коне, Добычу у псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стороне Помещик — борзых подзывает… Обычные сцены: на станциях ад — Ругаются, спорят, толкутся. «Ну, трогай!» Из окон ребята глядят, Попы у харчевен дерутся; У кузницы бьется лошадка в станке, Выходит, весь сажей покрытый, Кузнец, с раскаленной подковой в руке: «Эй, парень, держи ей копыты!..» В Казани я сделала первый привал, На жестком диване уснула; Из окон гостиницы видела бал И, каюсь, глубоко вздохнула! Я вспомнила: час или два с небольшим Осталось до нового года. «Счастливые люди! как весело им! У них и покой и свобода, Танцуют, смеются!., а мне не знавать Веселья… я еду на муки!..» Не надо бы мыслей таких допускать, Да молодость, молодость, внуки! Здесь снова пугали меня Трубецкой, Что будто ее воротили: «Но я не боюсь — позволенье со мной!» Часы уже десять пробили, Пора! я оделась. «Готов ли ямщик?» — Княгиня, вам лучше дождаться Рассвета, — заметил смотритель-старик: — Метель начала подыматься! «Ах! то ли придется еще испытать! Поеду. Скорей, ради бога!..» Звенит колокольчик, ни зги не видать, Что дальше, то хуже дорога, Поталкивать начало сильно в бока, Какими-то едем грядами, Не вижу я даже спины ямщика: Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя, Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал: «Докладывал я: Пождать бы! дорога пропала!..» Послала дорогу искать ямщика, Кибитку рогожей закрыла, Подумала: верно, уж полночь близка, Пружинку часов подавила: Двенадцать ударило! Кончился год, И новый успел народиться! Откинув циновку, гляжу я вперед — По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, До нашего нового года? И я равнодушна к тревоге твоей И к стонам твоим, непогода! Своя у меня роковая тоска, И с ней я борюсь одиноко… Поздравила я моего ямщика. «Зимовка тут есть недалеко, — Сказал он, — рассвета дождемся мы в ней!» Подъехали мы, разбудили Каких-то убогих лесных сторожей, Их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, Да я его сказки забыла… Согрелись мы чаем. Пора на покой! Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил И с помощью пасынка Феди Огромных два камня к дверям привалил. «Зачем?» — Одолели медведи! Потом он улегся на голом полу, Все скоро уснуло в сторожке, Я думала, думала… лежа в углу На мерзлой и жесткой рогожке… Сначала веселые были мечты: Я вспомнила праздники наши, Огнями горящую залу, цветы, Подарки, заздравные чаши, И шумные речи, и ласки… кругом Все милое, все дорогое — Но где же Сергей?.. И, подумав о нем, Забыла я все остальное! Я живо вскочила, как только ямщик Продрогший в окно постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, Но деньги принять отказался, «Не надо, родная! Бог вас защити, Дороги-то дальше опасны!» Крепчали морозы по мере пути И сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою — И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою… Когда-нибудь кончится мука! Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет И путь мой заносят метели, А все-таки я подвигаюсь вперед! Так ехала я три недели… Однажды, заслышав какой-то содом, Циновку мою я открыла, Взглянула: мы едем обширным селом, Мне сразу глаза ослепило: Пылали костры по дороге моей… Тут были крестьяне, крестьянки, Солдаты — и целый табун лошадей… «Здесь станция: ждут серебрянки[44], — Сказал мой ямщик. — Мы увидим ее, Она, чай, идет недалече…» Сибирь высылала богатство свое, Я рада была этой встрече: «Дождусь серебрянки! Авось что-нибудь О муже, о наших узнаю. При ней офицер, из Нерчинска их путь…» В харчевне сижу, поджидаю… Вошел молодой офицер; он курил, Он мне не кивнул головою, Он как-то надменно глядел и ходил, И вот я сказала с тоскою: «Вы видели, верно… известны ли вам Те… жертвы декабрьского дела… Здоровы они? Каково-то им там? О муже я знать бы хотела…» Нахально ко мне повернул он лицо, — Черты были злы и суровы, — И, выпустив изо рту дыму кольцо, Сказал: «Несомненно здоровы, Но я их не знаю — и знать не хочу, Я мало ли каторжных видел!..» Как больно мне было, родные! Молчу… Несчастный! меня же обидел!.. Я бросила только презрительный взгляд, С достоинством юноша вышел… У печки тут грелся какой-то солдат, Проклятье мое он услышал И доброе слово — не варварский смех — Нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы! — сказал он. — Я видел их всех, Живут в руднике Благодатском!..» Но тут возвратился надменный герой, Поспешно ушла я в кибитку. Спасибо, солдатик! спасибо, родной! Недаром я вынесла пытку! Поутру на белые степи гляжу, Послышался звон колокольный, Тихонько в убогую церковь вхожу, Смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла, Молебен служить попросила… Все было спокойно, — толпа не ушла… Совсем меня горе сломило! За что мы обижены столько, Христос? За что поруганьем покрыты? И реки давно накопившихся слез Упали на жесткие плиты! Казалось, народ мою грусть разделял, Молясь молчаливо и строго, И голос священника скорбью звучал, Прося об изгнанниках бога… Убогий, в пустыне затерянный храм! В нем плакать мне было не стыдно, Участье страдальцев, молящихся там, Убитой душе не обидно… (Отец Иоанн, что молебен служил{121} И так непритворно молился, Потом в каземате священником был И с нами душой породнился.) А ночью ямщик не сдержал лошадей, Гора была страшно крутая, И я полетела с кибиткой моей С высокой вершины Алтая! В Иркутске проделали то же со мной, Чем там Трубецкую терзали… Байкал. Переправа — и холод такой, Что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей (Пропала санная дорога). Мне жаль ее было: я плакала в ней И думала, думала много! Дорога без снегу — в телеге! Сперва Телега меня занимала, Но вскоре потом, ни жива ни мертва, Я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути, К несчастию, мне не сказали, Что тут ничего невозможно найти, Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они Да греются чаем кирпичным, И тот еще с салом! Господь сохрани Попробовать вам, непривычным! Зато под Нерчинском мне задали бал: Какой-то купец тороватый В Иркутске заметил меня, обогнал И в честь мою праздник богатый Устроил… Спасибо! я рада была И вкусным пельменям, и бане… А праздник как мертвая весь проспала В гостиной его на диване… Не знала я, что впереди меня ждет! Я утром в Нерчинск прискакала, Не верю глазам — Трубецкая идет! «Догнала тебя я, догнала!» — Они в Благодатске! — Я бросилась к ней, Счастливые слезы роняя… В двенадцати только верстах мой Сергей, И Катя со мной Трубецкая!Глава VI
Кто знал одиночество в дальнем пути, Чьи спутники — горе да вьюга, Кому провиденьем дано обрести В пустыне негаданно друга, Тот нашу взаимную радость поймет… — Устала, устала я, Маша! «Не плачь, моя бедная Катя! Спасет Нас дружба и молодость наша! Нас жребий один неразрывно связал, Судьба нас равно обманула, И тот же поток твое счастье умчал, В котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, Как шли зеленеющим лугом, И обе достойно свой крест понесем И будем мы сильны друг другом. Что мы потеряли? подумай, сестра! Игрушки тщеславья… Немного! Теперь перед нами дорога добра, Дорога избранников бога! Найдем мы униженных, скорбных мужей. Но будем мы им утешеньем, Мы кротостью нашей смягчим палачей, Страданье осилим терпеньем. Опорою гибнущим, слабым, больным Мы будем в тюрьме ненавистной И рук не положим, пока не свершим Обета любви бескорыстной!.. Чиста наша жертва — мы всё отдаем Избранникам нашим и богу. И верю я: мы невредимо пройдем Всю трудную нашу дорогу…» Природа устала с собой воевать — День ясный, морозный и тихий. Снега под Нерчинском явились опять, В санях покатили мы лихо… О ссыльных рассказывал русский ямщик (Он знал их фамилии даже): «На этих конях я возил их в рудник, Да только в другом экипаже. Должно быть, дорога легка им была: Шутили, смешили друг дружку; На завтрак ватрушку мне мать испекла, Так я подарил им ватрушку, Двугривенный дали — я брать не хотел… — Возьми, паренек, пригодится…» Болтая, он живо в село прилетел. «Ну, барыни! где становиться?» — Вези нас к начальнику прямо в острог. «Эй, други, не дайте в обиду!» Начальник был тучен и, кажется, строг, Спросил: по какому мы виду? «В Иркутске читали инструкцию нам И выслать в Нерчинск обещали…» — Застряла, застряла, голубушка, там! «Вот копия, нам ее дали…» — Что копия? с ней попадешься впросак! «Вот царское вам позволенье!» Не знал по-фрцнцузски упрямый чудак, Не верил нам, — смех и мученье! «Вы видите подпись царя: Николай?» До подписи нет ему дела, Ему из Нерчинска бумагу подай! Поехать за ней я хотела, Но он объявил, что отправится сам И к утру бумагу добудет. «Да точно ли?..» — Честное слово! А вам Полезнее выспаться будет!.. И мы добрались до какой-то избы, О завтрашнем утре мечтая; С оконцем из слюды, низка, без трубы, Была наша хата такая, Что я головою касалась стены, А в дверь упиралась ногами; Но мелочи эти нам были смешны, Не то уж случалося с нами. Мы вместе! теперь бы легко я снесла И самые трудные муки… Проснулась я рано, а Катя спала, Пошла по деревне от скуки: Избушки, такие ж, как наша, числом До сотни, в овраге торчали, А вот и кирпичный с решетками дом! При нем часовые стояли. — Не здесь ли преступники? — «Здесь, да ушли». — Куда? — «На работу, вестимо!» Какие-то дети меня повели… Бежали мы все — нестерпимо Хотелось мне мужа увидеть скорей; Он близко! Он шел тут недавно! — Вы видите их? — я спросила детей. «Да, видим! Поют они славно! Вон дверца… гляди же! Пойдем мы теперь, Прощай!..» Убежали ребята… И словно под землю ведущую дверь Увидела я — и солдата. Сурово смотрел часовой, — наголо В руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло, Хоть золото я предлагала! Быть может, вам хочется дальше читать, Да просится слово из груди! Помедлим немного. Хочу я сказать Спасибо вам, русские люди! В дороге, в изгнанье, где я ни была Все трудное каторги время, Народ! я бодрее с тобою несла Мое непосильное бремя. Пусть много скорбей тебе пало на часть, Ты делишь чужие печали, И где мои слезы готовы упасть, Твои уж давно там упали!.. Ты любишь несчастного, русский народ! Страдания нас породнили… «Вас в каторге самый закон не спасет!» — На родине мне говорили; Но добрых людей я встречала и там, На крайней ступени паденья, Умели по-своему выразить нам Преступники дань уваженья; Меня с неразлучною Катей моей Довольной улыбкой встречали: «Вы — ангелы наши!» За наших мужей Уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы Картофель колодник клейменый: «Покушай! горячий, сейчас из золы!» Хорош был картофель печеный, Но грудь и теперь занывает с тоски, Когда я о нем вспоминаю… Примите мой низкий поклон, бедняки! Спасибо вам всем посылаю! Спасибо!.. Считали свой труд ни во что Для нас эти люди простые, Но горечи в чашу не подлил никто, Никто — из народа, родные!.. Рыданьям моим часовой уступил, Как бога его я просила! Светильник (род факела) он засветил, В какой-то подвал я вступила И долго спускалась все ниже; потом Пошла я глухим коридором, Уступами шел он; темно было в нем И душно; где плесень узором Лежала; где тихо струилась вода И лужами книзу стекала. Я слышала шорох: земля иногда Комками со стен упадала; Я видела страшные ямы в стенах; Казалось, такие ж дороги От них начинались. Забыла я страх, Проворно несли меня ноги! И вдруг я услышала крики: «Куда, Куда вы? Убиться хотите? Ходить не позволено дамам туда! Вернитесь скорей! Погодите!» Беда моя! видно, дежурный пришел (Его часовой так боялся), Кричал он так грозно, так голос был зол, Шум скорых шагов приближался… Что делать? Я факел задула. Вперед Впотьмах наугад побежала… Господь, коли хочет, везде проведет! Не знаю, как я не упала, Как голову я не оставила там! Судьба берегла меня. Мимо Ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо: Я скоро увидела свет впереди, Там звездочка словно светилась… И вылетел радостный крик из груди: «Огонь!» Я крестом осенилась… Я сбросила шубу… Бегу на огонь… Как бог уберег во мне душу! Попавший в трясину испуганный конь Так рвется, завидевши сушу… И стало, родные, светлей и светлей! Увидела я возвышенье: Какая-то площадь… и тени на ней… Чу… молот! работа, движенье… Там люди! Увидят ли только они? Фигуры отчетливей стали… Вот ближе, сильней замелькали огни. Должно быть, меня увидали… И кто-то стоявший на самом краю Воскликнул: «Не ангел ли божий? Смотрите, смотрите!» — Ведь мы не в раю: Проклятая шахта похожей На ад! — говорили другие смеясь И быстро на край выбегали, И я приближалась поспешно. Дивясь, Недвижно они ожидали. — Волконская! — вдруг закричал Трубецкой (Узнала я голос). Спустили Мне лестницу; я поднялася стрелой! Всё люди знакомые были: Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовы, князь Оболенский… Потоком сердечных, восторженных слов, Похвал моей дерзости женской Была я осыпана; слезы текли По лицам их, полным участья… Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли, Не умер бы только от счастья! Кончает урок: по три пуда руды Мы в день достаем для России, Как видите, нас не убили труды!» Веселые были такие, Шутили, но я под веселостью их Печальную повесть читала (Мне новостью были оковы на них, Что их закуют — я не знала)… Известьем о Кате, о милой жене Утешила я Трубецкого; Все письма, по счастию, были при мне, С приветом из края родного Спешила я их передать. Между тем Внизу офицер горячился: «Кто лестницу принял? Куда и зачем Смотритель работ отлучился? Сударыня! Вспомните слово мое, Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти! Живей!.. (Но никто не подставил ее…) Убьетесь, убьетесь до смерти! Извольте спуститься! да что ж вы?..» Но мы Всё вглубь уходили… Отвсюду Бежали к нам мрачные дети тюрьмы, Дивясь небывалому чуду. Они пролагали мне путь впереди, Носилки свои предлагали… Орудья подземных работ на пути, Провалы, бугры мы встречали. Работа кипела под звуки оков, Под песни — работа над бездной! Стучались в упругую грудь рудников И заступ и молот железный. Там с ношею узник шагал по бревну, Невольно кричала я: «Тише!» Там новую мину вели в глубину, Там люди карабкались выше По шатким подпоркам… Какие труды! Какая отвага!.. Сверкали Местами добытые глыбы руды И щедрую дань обещали… Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он! идет!» Окинув пространство глазами, Я чуть не упала, рванувшись вперед, — Канава была перед нами. «Потише, потише! Ужели затем Вы тысячи верст пролетели, — Сказал Трубецкой, — чтоб на горе нам всем В канаве погибнуть — у цели? — И за руку крепко меня он держал. — Что б было, когда б вы упали?» Сергей торопился, но тихо шагал. Оковы уныло звучали. Да, цепи! Палач не забыл никого (О, мстительный трус и мучитель!), — Но кроток он был, как избравший его Орудьем своим искупитель. Пред ним расступались, молчанье храня, Рабочие люди и стража… И вот он увидел, увидел меня! И руки простер ко мне: «Маша!» И стал, обессиленный словно, вдали… Два ссыльных его поддержали. По бледным щекам его слезы текли, Простертые руки дрожали… Душе моей милого голоса звук Мгновенно послал обновление, Отраду, надежду, забвение мук, Отцовской угрозы забвенье! И с криком: «Иду!» — я бежала бегом, Рванув неожиданно руку, По узкой доске над зияющим рвом, Навстречу призывному звуку… «Иду!..» Посылало мне ласку свою Улыбкой лицо испитое… И я подбежала… И душу мою Наполнило чувство святое. Я только теперь, в руднике роковом, Услышав ужасные звуки, Увидев оковы на муже моем, Вполне поняла его муки. Он много страдал, и умел он страдать!.. Невольно пред ним я склонила Колени — и, прежде чем мужа обнять, Оковы к губам приложила!.. И тихого ангела бог ниспослал В подземные копи — в мгновенье И говор, и грохот работ замолчал, И замерло словно движенье, Чужие, свои — со слезами в глазах, Взволнованны, бледны, суровы — Стояли кругом. На недвижных ногах Не издали звука оковы, И в воздухе поднятый молот застыл… Все тихо — ни песни, ни речи… Казалось, что каждый здесь с нами делил И горечь и счастие встречи! Святая, святая была тишина! Какой-то высокой печали, Какой-то торжественной думы полна. «Да где же вы все запропали?» — Вдруг снизу донесся неистовый крик. Смотритель работ появился. «Уйдите! — сказал со слезами старик. — Нарочно я, барыня, скрылся, Теперь уходите. Пора! Забранят! Начальники люди крутые…» И словно из рая спустилась я в ад… И только… и только, родные! По-русски меня офицер обругал, Внизу ожидавший в тревоге, А сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, — в остроге!..»1871–1872
Три элегии
(А. Н. Плещееву)
{122}
I. «Ах, что изгнанье, заточенье!..»
Ах! что изгнанье, заточенье! Захочет — выручит судьба! Что враг! — возможно примиренье, Возможна равная борьба; Как гнев его ни беспределен, Он промахнется в добрый час… Но той руки удар смертелен, Которая ласкала нас!.. Один, один!.. А ту, кем полны Мои ревнивые мечты, Умчали роковые волны Пустой и милой суеты. В ней сердце жаждет жизни новой, Не сносит горестей оно И доли трудной и суровой Со мной не делит уж давно… И тайна всё: печаль и муку Она сокрыла глубоко? Или решилась на разлуку Благоразумно и легко? Кто скажет мне?.. Молчу, скрываю Мою ревнивую печаль, И столько счастья ей желаю, Чтоб было прошлого не жаль! Что ж, если сбудется желанье?.. О нет! живет в душе моей Неотразимое сознанье, Что без меня нет счастья ей! Всё, чем мы в жизни дорожили, Что было лучшего у нас — Мы на один алтарь сложили — И этот пламень не угас! У берегов чужого моря, Вблизи, вдали он ей блеснет В минуту сиротства и горя, И — верю я — она придет! Придет… и как всегда, стыдлива, Нетерпелива и горда, Потупит очи молчаливо. Тогда… Что я скажу тогда?.. Безумец! для чего тревожишь Ты сердце бедное свое? Простить не можешь ты ее — И не любить ее не можешь!..II. «Бьется сердце беспокойное…»
Бьется сердце беспокойное, Отуманились глаза. Дуновенье страсти знойное Налетело, как гроза. Вспоминаю очи ясные Дальней странницы моей, Повторяю стансы страстные, Что сложил когда-то ей{123}. Я зову ее, желанную: Улетим с тобою вновь В ту страну обетованную, Где венчала нас любовь! Розы там цветут душистее, Там лазурней небеса, Соловьи там голосистее, Густолиственней леса…III. «Разбиты все привязанности, разум…»
Разбиты все привязанности, разум Давно вступил в суровые права, Гляжу на жизнь неверующим глазом… Всё кончено! Седеет голова. Вопрос решен: трудись, пока годишься, И смерти жди! Она недалека… Зачем же ты, о сердце! не миришься С своей судьбой?.. О чем твоя тоска?.. Непрочно всё, что нами здесь любимо, Что день — сдаем могиле мертвеца, Зачем же ты в душе неистребима, Мечта любви, не знающей конца?.. Усни… умри!..1873
Утро
Ты грустна, ты страдаешь душою: Верю — здесь не страдать мудрено. С окружающей нас нищетою Здесь природа сама заодно. Бесконечно унылы и жалки Эти пастбища, нивы, луга, Эти мокрые, сонные галки, Что сидят на вершине стога; Эта кляча с крестьянином пьяным, Через силу бегущая вскачь В даль, сокрытую синим туманом, Это мутное небо… Хоть плачь! Но не краше и город богатый: Те же тучи по небу бегут; Жутко нервам — железной лопатой Там теперь мостовую скребут. Начинается всюду работа; Возвестили пожар с каланчи; На позорную площадь кого-то Провезли — там уж ждут палачи. Проститутка домой на рассвете Поспешает, покинув постель; Офицеры в наемной карете Скачут за город: будет дуэль. Торгаши просыпаются дружно И спешат за прилавки засесть: Целый день им обмеривать нужно, Чтобы вечером сытно поесть. Чу! из крепости грянули пушки! Наводненье столице грозит… Кто-то умер: на красной подушке Первой степени Анна лежит. Дворник вора колотит — попался! Гонят стадо гусей на убой; Где-то в верхнем этаже раздался Выстрел — кто-то покончил с собой…1874
Путешественник
{124}
В городе волки по улицам бродят, Ловят детей, гувернанток и дам{125}, Люди естественным это находят, Сами они подражают волкам{126}. В городе волки, и волки на даче, А уж какая их тьма по Руси! Скоро уж там не останется клячи… Ехать в деревню? Теперь-то? Merci! Прусский барон, опоясавши выю{127} Белым жабо в три вершка ширины, Ездит один, изучая Россию, По захолустьям несчастной страны: — Как у вас хлебушко? — «Нет ни ковриги!» — Где у вас скот? — «От заразы подох!» А заикнулся про школу, про книги — Прочь побежали. «Помилуй нас бог! Книг нам не надо — неси их к жандару! В прошлом году у прохожих людей Мы их купили по гривне за пару, А натерпелись на тыщу рублей!» Думает немец: «уж я не оглох ли? К школе привешен тяжелый замок, Нивы посохли, коровы подохли, Как эти люди заплатят оброк?» «Что наблюдать? что записывать в книжку?» — В грусти барон сам с собой говорит… Дай ты им гривну да хлеба коврижку И наблюдай, немчура, аппетит…1874
Уныние
{128}
I
Сгорело ты, гнездо моих отцов!{129} Мой сад заглох, мой дом бесследно сгинул, Но я реки любимой не покинул. Вблизи ее песчаных берегов Я и теперь на лето укрываюсь И, отдохнув, в столицу возвращаюсь С запасом сил и ворохом стихов. Мой черный конь, с Кавказа приведенный, Умен и смел, — как вихорь он летит, Еще отцом к охоте приученный, Как вкопанный при выстреле стоит. Когда «Кадо»[45] бежит опушкой леса И глухаря нечаянно спугнет, На всем скаку остановив «Черкеса»[46], Спущу курок — и птица упадет.II
Какой восторг! За перелетной птицей Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив Сметает сор, навеянный столицей, С души моей. Я духом бодр и жив, Я телом здрав. Я думаю… мечтаю… Не чувствовать над мыслью молотка Я не могу, как сильно ни желаю, Но если он приподнят хоть слегка, Но если я о нем позабываю На полчаса, — и тем я дорожу. Я сам себя, читатель, нахожу, А это всё, что нужно для поэта. Так шли дела; но нынешнее лето Не задалось: не заряжал ружья И не писал еще ни строчки я.III
Мне совестно признаться: я томлюсь, Читатель мой, мучительным недугом. Чтоб от него отделаться, делюсь Я им с тобой: ты быть умеешь другом, Довериться тебе я не боюсь. Недуг не нов (но сила вся в размере), Его зовут уныньем; в старину Я храбро с ним выдерживал войну Иль хоть смягчал трудом, по крайней мере, А нынче с ним не оберусь хлопот. Быть может, есть причина в атмосфере, А может быть, мне знать себя дает, Друзья мои, пятидесятый год.IV
Да, он настал — и требует отчета! Когда зима нам кудри убелит, Приходит к нам нежданная забота Свести итог… О юноши! грозит Она и вам, судьба не пощадит: Наступит час рассчитываться строго За каждый шаг, за целой жизни труд, И мстящего, зовущего на суд В душе своей вы ощутите бога. Бог старости — неумолимый бог. (От юности готовьте ваш итог!)V
Приходит он к прожившему полвека И говорит: «оглянемся назад, Поищем дел, достойных человека…» Увы! их нет! одних ошибок ряд! Жестокий бог! Он дал двойное зренье Моим очам; пытливое волненье Родил в уме, душою овладел. «Я даром жил, забвенье мой удел», — Я говорю, с ним жизнь мою читая; Прости меня, страна моя родная: Бесплоден труд, напрасен голос мой! И вижу я, поверженный в смятенье, В случайности несчастной — преступленье, Предательство в ошибке роковой…VI
Измученный, тоскою удрученный, Жестокостью судьбы неблагосклонной Мои вины желаю объяснить, Гоню врага, хочу его забыть, — Он тут как тут! В любимый труд, в забаву — Мешает он во всё свою отраву, И снова мы идем рука с рукой. Куда? увы! опять я проверяю Всю жизнь мою, — найти итог желаю, — Угодно ли последовать за мной?VII
Идем! Пути, утоптанные гладко, Я пренебрег, я шел своим путем, Со стороны блюстителей порядка Я, так сказать, был вечно под судом. И рядом с ним — такая есть возможность! — Я знал другой недружелюбный суд, Где трусостью зовется осторожность, Где подлостью умеренность зовут. То юношества суд неумолимый. Меж двух огней я шел неутомимый. Куда пришел? Клянусь, не знаю сам, Решить вопрос предоставляю вам.VIII
Враги мои решат его согласно, Всех меряя на собственный аршин, В чужой душе они читают ясно, Но мой судья — читатель-гражданин. Лишь в суд его храню слепую веру. Суди же ты, кем взыскан я не в меру! Еще мой труд тобою не забыт, И знаешь ты: во мне нет сил героя, — Тот не герой, кто лавром не увит Иль на щите не вынесен из боя, — Я рядовой (теперь уж инвалид)…IX
Суди, решай! А ты, мечта больная, Воспрянь и, мир бесстрашно облетая, Мой ум к труду, к покою возврати! Чтоб отдохнуть душою несвободной, Иду к реке — кормилице народной… С младенчества на этом мне пути Знакомо всё… Знакомой грусти полны Ленивые, медлительные волны… О чем их грусть?.. Бывало, каждый день Я здесь бродил в раздумье молчаливом, И слышал я в их ропоте тоскливом Тоску и скорбь спопутных деревень…X
Под берегом, где вечная прохлада От старых ив, нависших над рекой, Стоит в воде понуренное стадо, Над ним шмелей неутомимый рой. Лишь овцы рвут траву береговую, Как рекруты острижены вплотную. Невесел вид реки и берегов, Свистит кулик, кружится рыболов, Добычу карауля, как разбойник; Таинственно снастями шевеля, Проходит барка; виден у руля Высокий крест: на барке есть покойник…XI
Чу! конь заржал. Трава кругом на славу, Но лошадям невесело пришлось. И, позабыв зеленую отаву{130}, Под дым костра, спасающий от ос, Сошлись они, поникли головами И машут в такт широкими хвостами. Лишь там, вдали, остался серый конь, Он не бежит проворно на огонь. Хоть и над ним кружится рой докучный, Серко стоит понур и недвижим. Несчастный конь, ненатурально тучный! Ты поражен недугом роковым.XII
Я подошел: алела бугорками По всей спине, усыпанной шмелями, Густая кровь… струилась из ноздрей… Я наблюдал жестокий пир шмелей, А конь дышал всё реже, всё слабей. Как вкопанный стоял он час — и боле, И вдруг упал. Лежит недвижим в поле… Над трупом солнца раскаленный шар Да степь кругом. Вот с вышины спустился Степной орел; над жертвой покружился И царственно уселся на стожар{131}. В досаде я послал ему удар, Спугнул его, но он вернется к ночи И выклюет ей острым клювом очи…XIII
Иду на шелест нивы золотой. Печальные, убогие равнины! Недавние и страшные картины, Стесняя грудь, проходят предо мной. Ужели бог не сжалится над нами, Сожженных нив дождем не оживит, И мельница с недвижными крылами И этот год без дела простоит?XIV
Ужель опять наградой будет плугу Голодный год?.. Чу! женщина поет! Как будто в гроб кладет она подругу. Душа болит, уныние растет. Народ! народ! Мне не дано геройства Служить тебе, — плохой я гражданин. Но жгучее, святое беспокойство За жребий твой донес я до седин! Люблю тебя, пою твои страданья, Но где герой, кто выведет из тьмы Тебя на свет?.. На смену колебанья Твоих судеб чего дождемся мы?..XV
День свечерел. Томим тоскою вялой, То по лесам, то по лугу брожу. Уныние в душе моей усталой, Уныние — куда ни погляжу. Вот дождь пошел и гром готов уж грянуть, Косцы бегут проворно под шатры, А я дождем спасаюсь от хандры, Но, видно, мне и нынче не воспрянуть! Упала ночь, зажглись в лугах костры, Иду домой, тоскуя и волнуясь, Беру перо, привычке повинуясь, Пишу стихи и — недовольный, жгу. Мой стих уныл, как ропот на несчастье, Как плеск волны в осеннее ненастье На северном пустынном берегу…1874
Страшный год
(1870)
{132}
Страшный год! Газетное витийство И резня, проклятая резня! Впечатленья крови и убийства, Вы вконец измучили меня! О любовь! — где все твои усилья? Разум! — где плоды твоих трудов? Жадный пир злодейства и насилья, Торжество картечи и штыков! Этот год готовит и для внуков Семена раздора и войны. В мире нет святых и кротких звуков, Нет любви, свободы, тишины! Где вражда, где трусость роковая, Мстящая — купаются в крови, Стон стоит над миром, не смолкая; Только ты, поэзия святая, Ты молчишь, дочь счастья и любви! Голос твой, увы, бессилен ныне! Сгибнет он, не нужный никому, Как цветок, потерянный в пустыне, Как звезда, упавшая во тьму. Прочь, о, прочь! — сомненья роковые, Как прийти могли вы на уста? Верю, есть еще сердца живые, Для кого поэзия свята. Но гремел, когда они родились, Тот же гром, ручьями кровь лила; Эти души кроткие смутились И, как птицы в бурю, притаились В ожиданье света и тепла.1874
Отъезжающему
{133}
Даже вполголоса мы не певали, Мы — горемыки-певцы! Под берегами мы вёдро прождали, Словно лентяи-пловцы. Старость приходит — недуги да горе; Жизнь бесполезно прошла; Хоть на прощанье в открытое море, В море царящего зла, Прямо и смело направить бы лодку, — Сунься-ка! Сделаешь шаг, А на втором перервут тебе глотку! Друг моей юности (ныне мой враг)! Я не дивлюсь, что отчизну любезную Счел ты за лучшее кинуть. Жить для нее — надо силу железную, Волю железную — сгинуть.1874
<Н. Г. Чернышевский>
{134}
Не говори: «Забыл он осторожность! Он будет сам судьбы своей виной!..» Не хуже нас он видит невозможность Служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире, В его душе нет помыслов мирских. «Жить для себя возможно только в мире, Но умереть возможно для других!» Так мыслит он — и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна, Не скажет он, что гибель бесполезна: Его судьба давно ему ясна… Его еще покамест не распяли, Но час придет — он будет на кресте; Его послал бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе.1874
Горе старого Наума
Волжская быль
{135}
I
Науму паточный завод И дворик постоялый Дают порядочный доход. Наум — неглупый малый: Задаром сняв клочок земли, Крестьянину с охотой В нужде ссужает он рубли, А тот плати работой — Так обращен нагой пустырь В картофельное поле… Вблизи — «Бабайский» монастырь, Село «Большие Соли»{136}, Недалеко и Кострома. Наум живет — не тужит, И Волга-матушка сама Его карману служит. Питейный дом его стоит На самом «перекате»; Как лето Волгу обмелит, К пустынной этой хате Тропа знакома бурлакам: Выходит много «чарки»… Здесь ходу нет большим судам; Здесь «паузятся» барки{137}. Купцы бегут: «помогу дай!» Наум купцов встречает, Мигнет народу: не плошай! И сам не оплошает… Кипит работа до утра; Всё весело, довольно. Итак, нет худа без добра! Подумаешь невольно, Что ты, жалея бедняка, Мелеешь год от года, Благословенная река, Кормилица народа!II
Люблю я краткой той поры Случайные тревоги, И труд, и песни, и костры. С береговой дороги Я вижу сотни рук и лиц, Мелькающих красиво, А паруса, что крылья птиц, Колеблются лениво, А месяц медленно плывет, А Волга чуть лепечет. Чу! резко свистнул пароход; Бежит и искры мечет, Ущелья темных берегов Стогласым эхом полны… Не всё же песням бурлаков Внимают эти волны. Я слушал жадно иногда И тот напев унылый, Но гул довольного труда Мне слаще слышать было. Увы! я дожил до седин, Но изменился мало. Иных времен, иных картин Провижу я начало В случайной жизни берегов Моей реки любимой: Освобожденный от оков, Народ неутомимый Созреет, густо заселит Прибрежные пустыни; Наука воды углубит: По гладкой их равнине Суда-гиганты побегут Несчетною толпою, И будет вечен бодрый труд Над вечною рекою…III
Мечты!.. Я верую в народ, Хоть знаю: эта вера К добру покамест не ведет. Я мог бы для примера Напомнить лица, имена, Но это будет смело, А смелость в наши времена — Рискованное дело! Пока над нами не висит Ни тучки, солнце блещет, — Толпа трусливого клеймит, Отважным рукоплещет, Но поднял бурю смелый шаг, — Она же рада шикать, Друзья попрячутся, а враг Спешит беду накликать… О Русь!..…….. ……………. ……………. …………….IV
Науму с лишком пятьдесят, А ни детей, ни женки, Наум был сердцем суховат, Любил одни деньжонки. Он говорил: «жениться — взять Обузу! а «сударки» Еще тошней: и время трать И деньги на подарки». Опровергать его речей Тогда не приходилось, Хоть, может быть, в груди моей Иное сердце билось, Хотя у нас, как лед и зной, Причины были розны: «Над одинокой головой Не так и тучи грозны, Пускай лентяи и рабы Идут путем обычным, Я должен быть своей судьбы Царем единоличным!» — Я думал гордо. Кто не рад Оставить миру племя? Но я родился невпопад — Лихое было время! Забыло солнышко светить, Погас и месяц ясный, И трудно было отличить От ночи день ненастный. Гром непрестанно грохотал, И вихорь был ужасен, И человек под ним стоял Испуган и безгласен. Был краткий миг: заря зажгла Роскошно край лазури, И буря новая пришла На смену старой бури. И новым силам новый бой Готовился… Усталый, Поник я буйной головой. Погибли идеалы, Ушло и время… Места нет Желанному союзу. Умру — и мой исчезнет след! Надежда вся на музу!V
Стреляя серых куликов На отмели песчаной, Заслышу говор бубенцов, И свист, и топот рьяный, На кручу выбегу скорей: Знакомая тележка, Нарядны гривы у коней, У седока — усмешка… Лихая пара! На шлеях И бляхи и чешуйки. В личных, высоких сапогах, В солидной, синей чуйке, В московском новом картузе, Сам правя пристяжною, Наум катит во всей красе. Увидит — рад душою! Кричит: «Довольно вам палить, Пора чайку покушать!..» Наум любил поговорить, А я любил послушать. Закуску, водку, самовар Вносили по порядку И Волги драгоценный дар — Янтарную стерлядку. Наум усердно предлагал Рябиновку, вишневку, А расходившись, обивал «Смоленую головку». — Ну, как делишки? — «В барыше», — С улыбкой отвечает. Разговорившись по душе, Подробно исчисляет, Что дало в год ему вино И сколько от завода. «Накопчено, насолено — Чай, хватит на три года! Всё лето занято трудом, Хлопот по самый ворот. Придет зима — лежу сурком, Не то поеду в город. Начальство — други-кумовья, Стрясись беда — поправят, Работы много — свистну я: Соседи не оставят; Округа вся в горсти моей, Казна — надежней цепи: Уж нет помещичьих крепей, Мои остались крепи. Судью за денежки куплю, Умилостивлю бога…» (Русак природный — во хмелю Он был хвастлив немного…)VI
Полвека прожил так Наум И не тужил нимало, Работал в нем житейский ум, А сердце мирно спало. Встречаясь с ним, я вспоминал Невольно дуб красивый В моем саду: там сети ткал Паук трудолюбивый. С утра спускался он не раз По тонкой паутинке, Как по канату водолаз, К какой-нибудь личинке, То комара подстерегал И жадно влек в объятья, А пообедав, продолжал Обычные занятья. И вывел, точно напоказ, Паук мой паутину. Какая ткань! Какой запас На черную годину! Там мошек целые стада Нашли себе могилы, Попали бабочки туда — Летуньи пестрокрылы; Его сосед, другой паук, Качался там, замучен, А мой — отъелся вон из рук! Доволен, гладок, тучен, То мирно дремлет в уголку, То мухою закусит… Живется славно пауку: Не тужит и не трусит! С Наумом я давно знаком; Еще как был моложе, Наума с этим пауком Я сравнивал… И что же? Уж округлился капитал, В купцы бы надо вскоре, А человек затосковал! Пришло к Науму горе…VII
Сидел он поздно у ворот, В расчеты погруженный; Последний свистнул пароход На Волге полусонной, И потянулись на покой И человек и птица. Зашли к Науму той порой Молодчик да девица: У Тани русая коса И голубые очи, У Вани вьются волоса. «Укрой от темной ночи!» — А самоварчик надо греть? «Пожалуй…» Ни минутки Не могут гости посидеть: У них и смех и шутки, Задеть друг дружку норовят Ногой, рукой, плечами, И так глядят… и так шалят, Чуть отвернись, губами! То вспыхнет личико у ней, То белое как сливки… Поели гости калачей, Отведали наливки: «Теперь уснем мы до утра, У вас покой, приволье!» — А кто вы? — «Братец и сестра, Идем на богомолье». Он думал: «Врет! поди сманил Купеческую дочку! Да что мне? Лишь бы заплатил! Пускай почуют ночку». Он им подушек пару дал: «Уснете на диване». И доброй ночи пожелал И молодцу и Тане. В своей каморке на часах Поддернул кверху гири И утонул в пуховиках… Проснулся: бьет четыре, Еще темно; во рту горит. Кваску ему желалось, Да квас-то в горнице стоит, Где парочка осталась. «Жаль! не пришло вчера на ум! Да я пройду тихонько, Добуду! (думает Наум) Чай, спят они крепонько, Не скоро их бы разбудил Теперь и конский топот…» Но только дверь приотворил, Услышал тихий шепот: «Покурим, Ваня!» — говорит Молодчику девица. И спичка чиркнула — горит… Увидел он их лица: Красиво Ванино лицо, Красивее у Тани! Рука, согнутая в кольцо, Лежит на шее Вани, Нагая, полная рука! У Тани грудь открыта, Как жар горит одна щека, Косой другая скрыта. Еще он видел на лету, Как встретились их очи. И вновь на юную чету Спустился полог ночи. Назад тихонько он ушел, И с той поры Наума Не узнают: он вечно зол, Сидит один угрюмо, Или пойдет бродить окрест И к ночи лишь вернется, Соленых рыжиков не ест, И чай ему не пьется. Забыл наливки настоять Душистой поленикой. Хозяйство стало упадать — Грозит урон великий! На счетах спутался не раз, Хоть счетчик был отменный… Две пары глаз, блаженных глаз, Горят пред ним бессменно! «Я сладко пил, я сладко ел, — Он думает уныло. — А кто мне в очи так смотрел?..» И всё ему постыло…1874
Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода…»)
(А. Н. Еракову)
{138}
Пускай нам говорит изменчивая мода, Что тема старая — «страдания народа» И что поэзия забыть ее должна, — Не верьте., юноши! не стареет она. О, если бы ее могли состарить годы! Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы Влачатся в нищете, покорствуя бичам, Как тощие стада по скошенным лугам, Оплакивать их рок, служить им будет муза, И в мире нет прочней, прекраснее союза!.. Толпе напоминать, что бедствует народ В то время, как она ликует и поет, К народу возбуждать вниманье сильных мира — Чему достойнее служить могла бы лира?.. Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил — и сердцем я спокоен… Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… Я видел красный день: в России нет раба! И слезы сладкие я пролил в умиленье… «Довольно ликовать в наивном увлеченье, — Шепнула муза мне. — Пора идти вперед: Народ освобожден, но счастлив ли народ?..» Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою, Старик ли медленный шагает за сохою, Бежит ли по лугу, играя и свистя, С отцовским завтраком довольное дитя, Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы, — Ответа я ищу на тайные вопросы, Кипящие в уме: «В последние года Сносней ли стала ты, крестьянская страда? И рабству долгому пришедшая на смену Свобода, наконец, внесла ли перемену В народные судьбы? в напевы сельских дев? Иль так же горестен нестройный их напев?..» Уж вечер настает. Волнуемый мечтами, По нивам, по лугам, уставленным стогами, Задумчиво брожу в прохладной полутьме, И песнь сама собой слагается в уме, Недавних, тайных дум живое воплощенье: На сельские труды зову благословенье, Народному врагу проклятия сулю, А другу у небес могущества молю, И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы, И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы, И лес откликнулся… Природа внемлет мне, Но тот, о ком пою в вечерней тишине, Кому посвящены мечтания поэта, — Увы! не внемлет он — и не дает ответа…1874
Поэту («Где вы — певцы любви, свободы, мира…»)
(Памяти Шиллера)
{139}
Где вы — певцы любви, свободы, мира И доблести?.. Век «крови и меча»! На трон земли ты посадил банкира, Провозгласил героем палача… Толпа гласит: «певцы не нужны веку!» И нет певцов… Замолкло божество… О, кто ж теперь напомнит человеку Высокое призвание его?.. Прости слепцам, художник вдохновенный, И возвратись!.. Волшебный факел свой, Погашенный рукою дерзновенной, Вновь засвети над гибнущей толпой! Вооружись небесными громами! Наш падший дух взнеси на высоту, Чтоб человек не мертвыми очами Мог созерцать добро и красоту… Казни корысть, убийство, святотатство! Сорви венцы с предательских голов, Увлекших мир с пути любви и братства, Стяжанного усильями веков, На путь вражды!.. В его дела и чувства Гармонию внести лишь можешь ты. В твоей груди, гонимый жрец искусства, Трон истины, любви и красоты.1874
«Смолкли честные, доблестно павшие…»
{140}
Смолкли честные, доблестно павшие, Смолкли их голоса одинокие, За несчастный народ вопиявшие, Но разнузданы страсти жестокие. Вихорь злобы и бешенства носится Над тобою, страна безответная. Всё живое, всё доброе косится… Слышно только, о ночь безрассветная, Среди мрака, тобою разлитого, Как враги, торжествуя, скликаются, Как на труп великана убитого Кровожадные птицы слетаются, Ядовитые гады сползаются!1874
Вступление к песням 1876—77 годов
{141}
Нет! не поможет мне аптека, Ни мудрость опытных врачей: Зачем же мучить человека? О небо! смерть пошли скорей! Друзья притворно безмятежны, Угрюм мой верный черный пес, Глаза жены сурово-нежны: Сейчас я пытку перенес. Пока недуг молчит, не гложет, Я тешусь странною мечтой, Что потолок спуститься может На грудь могильною плитой. Легко бы с жизнью я расстался, Без долгих мук… Прости, покой! Как ураган недуг примчался: Не ложе — иглы подо мной. Борюсь с мучительным недугом, Борюсь — до скрежета зубов… О муза! ты была мне другом, Приди на мой последний зов! Уж я знавал такие грозы; Ты силу чудную дала, В колючий терн вплетая розы, Ты пытку вынесть помогла. Могучей силой вдохновенья Страданья тела победи, Любви, негодованья, мщенья Зажги огонь в моей груди! Крылатых грез толпой воздушной Воображенье насели И от моей могилы душной Надгробный камень отвали!1876
Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…»)
{142}
Ты еще на жизнь имеешь право, Быстро я иду к закату дней. Я умру — моя померкнет слава, Не дивись — и не тужи о ней! Знай, дитя: ей долгим, ярким светом Не гореть на имени моем: Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом. Кто, служа великим целям века, Жизнь свою всецело отдает На борьбу за брата человека, Только тот себя переживет…1876
«Скоро стану добычею тленья…»
{143}
Скоро стану добычею тленья. Тяжело умирать, хорошо умереть; Ничьего не прошу сожаленья, Да и некому будет жалеть. Я дворянскому нашему роду Блеска лирой моей не стяжал; Я настолько же чуждым народу Умираю, как жить начинал. Узы дружбы, союзов сердечных — Всё порвалось: мне с детства судьба Посылала врагов долговечных, А друзей уносила борьба. Песни вещие их недопеты, Пали жертвою злобы, измен В цвете лет; на меня их портреты Укоризненно смотрят со стен.1876
«Угомонись, моя муза задорная…»
Угомонись, моя муза задорная, Сил нет работать тебе. Родина милая, Русь святая, просторная, Вновь <заплатила> судьбе… Похорони меня с честью, разбитого Недугом тяжким и злым. Моего века, тревожно прожитого, Словом не вспомни лихим. Верь, что во мне необъятно безмерная Крылась к народу любовь И что застынет во мне теперь верная, Чистая, русская кровь. Много, я знаю, найдется радетелей, Все обо мне прокричат, Жаль только, мало таких благодетелей, Что погрустят да смолчат. Много истратят задора горячего Все над могилой моей. Родина милая, сына лежачего Благослови, а не бей!.. ………………… ………………… Как человека забудь меня частного, Но как поэта — суди… И не боюсь я суда того строгого. Чист пред тобою я, мать. В том лишь виновен, что многого, многого Здесь мне не дали сказать…1876
Музе («О муза! наша песня спета…»)
О муза! наша песня спета. Приди, закрой глаза поэта На вечный сон небытия, Сестра народа — и моя!1876
Зине («Двести уж дней…»)
{144}
Двести уж дней, Двести ночей Муки мои продолжаются; Ночью и днем В сердце твоем Стоны мои отзываются, Двести уж дней, Двести ночей! Темные зимние дни, Ясные зимние ночи… Зина! закрой утомленные очи! Зина! усни!1876
Друзьям
Я примирился с судьбой неизбежною, Нет ни охоты, ни силы терпеть Невыносимую муку кромешную! Жадно желаю скорей умереть. Вам же — не праздно, друзья благородные, Жить и в такую могилу сойти, Чтобы широкие лапти народные К ней проторили пути…1876
Сеятелям
{145}
Сеятель знанья на ниву народную! Почву ты, что ли, находишь бесплодную, Худы ль твои семена? Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? Труд награждается всходами хилыми, Доброго мало зерна! Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами, Где же вы, с полными жита кошницами? Труд засевающих робко, крупицами, Двиньте вперед! Сейте разумное, доброе, вечное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ…1876
Молебен
Холодно, голодно в нашем селении. Утро печальное — сырость, туман, Колокол глухо гудит в отдалении, В церковь зовет прихожан. Что-то суровое, строгое, властное Слышится в звоне глухом, В церкви провел я то утро ненастное — И не забуду о нем. Всё население, старо и молодо, С плачем поклоны кладет, О прекращении лютого голода Молится жарко народ. Редко я в нем настроение строже И сокрушенней видал! «Милуй народ и друзей его, боже! — Сам я невольно шептал. — Внемли моление наше сердечное О послуживших ему, Об осужденных в изгнание вечное, О заточенных в тюрьму, О претерпевших борьбу многолетнюю И устоявших в борьбе, Слышавших рабскую песню последнюю, Молимся, боже, тебе».1876
Отрывок («… Я сбросила мертвящие оковы…»)
{146}
…Я сбросила мертвящие оковы Друзей, семьи, родного очага, Ушла туда, где чтут пути Христовы, Где стерегут оплошного врага. В бездействии застала я дружины; Окончив день, беспечно шли ко сну И женщины, и дети, и мужчины, Лишь меж собой вожди вели войну… Слова… слова… красивые рассказы О подвигах… но где же их дела? Иль нет людей, идущих дальше фразы? А я сюда всю душу принесла!..1877
«Дни идут… всё так же воздух душен…»
Дни идут… всё так же воздух душен, Дряхлый мир — на роковом пути… Человек — до ужаса бездушен, Слабому спасенья не найти! Но… молчи, во гневе справедливом! Ни людей, ни века не кляни: Волю дав лирическим порывам, Изойдешь слезами в наши дни…1877
«Мы вышли вместе… Наобум…»
{147}
Мы вышли вместе… Наобум Я шел во мраке ночи, А ты… уж светел был твой ум, И зорки были очи. Ты знал, что ночь, глухая ночь Всю нашу жизнь продлится, И не ушел ты с поля прочь, И стал ты честно биться. В великом сердце ты носил Великую заботу, Ты, как поденщик, выходил До солнца на работу. Во лжи дремать ты не давал, Клеймя и проклиная, И маску дерзостно срывал С глупца и негодяя. И что же? луч едва блеснул Сомнительного света, Молва гремит, что ты задул Свой факел… ждешь рассвета. Наивно стал ты охранять Спокойствие невежды — И начал сам в душе питать Какие-то надежды. На пылких юношей ворча, Ты глохнешь год от года И к свисту буйного бича, И к ропоту народа. Щадишь ты важного глупца, Безвредного ласкаешь И на идущих до конца Походы замышляешь. Кому назначено орлом Парить над русским миром, Быть русских юношей вождем И русских дев кумиром, Кто не робел в огонь идти За страждущего брата, Тому с тернистого пути Покамест нет возврата. Непримиримый враг цепей И верный друг народа, До дна святую чашу пей, На дне ее — свобода!1877
«Есть и Руси чем гордиться…»
{148}
Есть и Руси чем гордиться — С нею не шути! Только славным поклониться Далеко идти. Вестминстерское аббатство{149} Родины твоей — Край подземного богатства Снеговых степей.1877
«Вам, мой дар ценившим и любившим…»
{150}
Вам, мой дар ценившим и любившим, Вам, ко мне участье заявившим В черный год, простертый надо мной, — Посвящаю труд последний мой! Я примеру русского народа Верен: «в горе жить — Некручинну быть» — И больной работая полгода, Я с трудом смягчаю свой недуг: Ты не будешь строг, читатель-друг!1877
Горящие письма
[47]
Они горят!.. Их не напишешь вновь, Хоть написать, смеясь, ты обещала… Уж не горит ли с ними и любовь, Которая их сердцу диктовала? Их ложью жизнь еще не назвала, Ни правды их еще не доказала… Но та рука со злобой их сожгла, Которая с любовью их писала! Свободно ты решала выбор свой, И не как раб упал я на колени; Но ты идешь по лестнице крутой И дерзко жжешь пройденные ступени!.. Безумный шаг!.. быть может, роковой… ……………………1877
Из поэмы: Мать
(Посвящается Елене Осиповне Лихачевой)
Отрывки
{151}
I
В насмешливом и дерзком нашем веке Великое, святое слово: мать Не пробуждает чувства в человеке. Но я привык обычай презирать. Я не боюсь насмешливости модной. Такую музу мне дала судьба: Она поет по прихоти свободной Или молчит, как гордая раба. Я много лет среди трудов и лени С постыдным малодушьем убегал Пленительной, многострадальной тени, Для памяти священной… Час настал!.. Мир любит блеск, гремушки и литавры, Удел толпы — не узнавать друзей, Она несет хвалы, венцы и лавры Лишь тем, чей бич хлестал ее больней; Венец, толпой немыслящею свитый, Ожжет чело страдалицы забытой — Я не ищу ей позднего венца. Но я хочу, чтоб свет души высокой Сиял для вас, средь полночи глубокой, Подобно ей несчастные сердца!.. Быть может, я преступно поступаю, Тревожа сон твой, мать моя? прости! Но я всю жизнь за женщину страдаю. К свободе ей заказаны пути; Позорный плен, весь ужас женской доли, Ей для борьбы оставил мало сил, Но ты ей дашь урок железной воли… Благослови, родная: час пробил! В груди кипят рыдающие звуки, Пора, пора им вверить мысль мою! Твою любовь, твои святые муки, Твою борьбу — подвижница, пою!..II
Я отроком покинул отчий дом. (За славой я в столицу торопился.) В шестнадцать лет я жил своим трудом И между тем урывками учился. Лет двадцати, с усталой головой, Ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), Но горделив — приехал я домой. Я посетил деревню, нивы, Волгу — Всё те же вы — и нивы, и народ… И та же всё — река моя родная… Заметил я — новинку: пароход! Но лишь на миг мелькнула жизнь живая. Кипела ты — зубчатым колесом Прорытая — дорога водяная, А берега дремали кротким сном. Дремало всё: расшивы, коноводки, Дремал бурлак на дне завозной лодки, Проснется он — и Волга оживет! Я дождался тягучих мерных звуков… Приду ль сюда еще послушать внуков, Где слышу вас, отцы и сыновья! Уж не на то ль дана мне жизнь моя? Охвачен вдруг дремотою и ленью, В полдневный зной вошел я в старый сад; В нем семь ключей сверкают и гремят. Внимая их порывистому пенью, Вершины лип таинственно шумят. Я их люблю: под их зеленой сенью, Тиха, как ночь, и легкая, как тень, Ты, мать моя, бродила каждый день. У той плиты, где ты лежишь, родная, Припомнил я, волнуясь и мечтая, Что мог еще увидеться с тобой, И опоздал!{152} И жизни трудовой Я предан был, и страсти, и невзгодам, Захлестнут был я невскою волной… Я рад, что ты не под семейным сводом Погребена — там душно, солнца нет; Не будет там лежать и твой поэт… ………………… ………………… ………………… ………………… И наконец вошел я в старый дом, В нем новый пол, в нем новые порядки; Но мало я заботился о том. Я разобрал, хранимые отцом, Твоих работ, твоих бумаг остатки И над одним задумался письмом. Оно с гербом, оно с бордюром узким, Исписан лист то польским, то французским Порывистым и страстным языком. Припоминал я что-то долго, смутно: Уж не его ль, вздыхая поминутно, Читала ты в младенчестве моем Одна, в саду? Не зная ни о чем, Я в нем тогда источник горя видел Моей родной, — я сжечь его был рад, И я теперь его возненавидел. Глухая ночь! Иду поспешно в сад… Ищу ее, обнять желаю страстно… Где ты? прими сыновний мой привет! Но вторит мне лишь эхо безучастно… Я зарыдал: увы! ее уж нет! Луна взошла и сад осеребрила, Под сводом лип недвижно я стоял, Которых сень родная так любила. Я ждал ее — и не напрасно ждал… Она идет; то медленны, то скоры Ее шаги, письмо в ее руке… Она идет… Внимательные взоры По нем скользят в тревоге и тоске. «Ты вновь со мной! — невольно восклицаю. — Ты вновь со мной…» Кружится голова… Чу, тихий плач, чу, шепот! Я внимаю — Слова письма — знакомые слова!III
Письмо
Варшава, 1824 год.
Какую ночь я нынче провела! О дочь моя! что сделала ты с нами? Кому, кому судьбу ты отдала? Какой стране родную предпочла? Приснилось мне: затравленная псами, Занесена ты русскими снегами. Была зима, была глухая ночь, Пылал костер, зажженный дикарями, И у костра с закрытыми глазами Лежала ты, моя родная дочь! Дремучий лес, чернея полукругом, Ревел, как зверь… ночь долгая была, Стонала ты, как стонет раб за плугом, И, наконец, застыла — умерла!.. О, сколько снов… о, сколько мыслей черных Я знаю, бог карает непокорных, Я верю снам и плачу, как дитя… Позор! позор! мы басня всей Варшавы. Ты, чьей руки М. М. искал, как славы, В кого N. N. влюбился не шутя, Ты увлеклась армейским офицером, Ты увлеклась красивым дикарем! Не спорю, он приличен по манерам, Природный ум я замечала в нем. Но нрав его, привычки, воспитанье… Умеет ли он имя подписать? Прости! Кипит в груди негодованье — Я не могу, я не должна молчать! …………………. Твоей красе (сурова там природа) Уж никогда вполне не расцвести; Твоей косы не станет на полгода, Там свой девиз: «любить и бить»… прости. …………………….. Какая жизнь! Полотна, тальки{153}, куры С несчастных баб; соседи — дикари, А жены их безграмотные дуры… Сегодня пир… псари, псари, псари! Пой, дочь моя! средь самого разгара Твоих рулад, не выдержав удара, Валится раб… Засмейся! всем смешно… ……………………. ……………………. В последний раз, как мать, тебя целую — Я поощрять беглянку не должна: Решай сама, бери судьбу любую: Вернись в семью, будь родине верна — Или, отцом навеки проклятая И навсегда потерянная мной, Останься там отступницею края И москаля презренною рабой. ……………………. Очнулся я. Ключи немолчные гремели, И птички ранние на старых липах пели. В руке моей письмо… но нет моей родной! Смятенный, я поник уныло головой. Природа чутким сном была еще объята; Луна глядела в пруд; на стебле роковом Стояли лопухи недвижно над прудом. Так узники глядят из окон каземата. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. Я книги перебрал, которые с собой Родная привезла когда-то издалека, Заметки на полях случайные читал: В них жил пытливый ум, вникающий глубоко. И снова плакал я, и думал над письмом, И вновь его прочел внимательно с начала, И кроткая душа, терзаемая в нем, Впервые предо мной в красе своей предстала… И неразлучною осталась ты с тех пор, О, мать-страдалица! с своим печальным сыном, Тебя, твоих следов искал повсюду взор, Досуг мой предан был прошедшего картинам. Та бледная рука, ласкавшая меня, Когда у догоравшего огня В младенчестве я сиживал с тобою, Мне в сумерки мерещилась порою, И голос твой мне слышался впотьмах, Исполненный мелодии и ласки, Которым ты мне сказывала сказки О рыцарях, монахах, королях. Потом, когда читал я Данта и Шекспира, Казалось, я встречал знакомые черты: То образы из их живого мира В моем уме напечатлела ты. И стал я понимать, где мысль твоя блуждала, Где ты душой, страдалица, жила, Когда кругом насилье ликовало, И стая псов на псарне завывала, И вьюга в окна била и мела… ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. Незримой лестницей с недавних юных дней Я к детству нисходил, ту жизнь припоминая, Когда еще была ты нянею моей И ангелом-хранителем, родная. В ином краю, не менее несчастном, Но менее суровом рождена, На севере угрюмом и ненастном В осьмнадцать лет уж ты была одна. Тот разлюбил, кому судьбу вручила, С кем в чуждый край доверчиво пошла, Уж он не твой, но ты не разлюбила, Ты разлюбить до гроба не могла… ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. Ты на письмо молчаньем отвечала, Своим путем бесстрашно ты пошла. ……………………. ……………………. Гремел рояль, и голос твой печальный Звучал, как вопль души многострадальной, Но ты была ровна и весела: «Несчастна я, терзаемая другом, Но пред тобой, о женщина-раба! Перед рабом, согнувшимся над плугом, Моя судьба — завидная судьба! Несчастна ты, о родина! я знаю: Весь край в плену, весь трепетом объят… Но край, где я люблю и умираю, Несчастнее, несчастнее стократ!..» Хаос! мечусь в беспамятстве, в бреду! Хаос! едва мерцает ум поэта, Но юности священного обета Не совершив, в могилу не сойду! Поймут иль нет, но будет песня спета. Я опоздал! я медленно и ровно Заветный труд не в силах совершить, Но я дерзну в картине малословной Твою судьбу, родная, совместить. И я смогу!.. Поможет мне искусство, Поможет смерть — я скоро нужен ей… Мала слеза — но в ней избыток чувства… Что океан безбрежный перед ней!.. …………………… Так двадцать лет подвижничества цепи Влачила ты, пока твой час пробил. И не вотще среди безводной степи Струился ключ — он жаждущих поил. И не вотще любовь твоя сияла: Как в небесах ни много черных туч, Но если ночь сдаваться утру стала, Все ж, наконец, проглянет солнца луч! И вспыхнул день! Он твой: ты победила! У ног твоих — детей твоих отец, Семья давно вины твои простила, Лобзает раб терновый твой венец… Но… двадцать лет!.. Как сладко, умирая, Вздохнула ты… как тихо умерла! О, сколько сил явила ты, родная! Каким путем к победе ты пришла!.. Душа твоя — она горит алмазом, Раздробленным на тысячи крупиц В величье дел, неуловимых глазом. Я понял их — я пал пред ними ниц, Я их пою (даруй мне силы, небо!..). Обречена на скромную борьбу, Ты не могла голодному дать хлеба, Ты не могла свободы дать рабу. Но лишний раз не сжало чувство страха Его души — ты то дала рабам, — Но лишний раз из трепета и праха Он поднял взор бодрее к небесам… Быть может, дар беднее капли в море, Но двадцать лет! Но тысячам сердец, Чей идеал — убавленное горе, Границы зла открыты наконец! Твой властелин — наследственные нравы То покидал, то бурно проявлял, Но если он в безумные забавы В недобрый час детей не посвящал, Но если он разнузданной свободы До роковой черты не доводил, — На страже ты над ним стояла годы. Покуда мрак в душе его царил… И если я легко стряхнул с годами С души моей тлетворные следы Поправшей всё разумное ногами, Гордившейся невежеством среды, И если я наполнил жизнь борьбою За идеал добра и красоты, И носит песнь, слагаемая мною, Живой любви глубокие черты — О мать моя, подвигнут я тобою! Во мне спасла живую душу ты! И счастлив я! уж ты ушла из мира, Но будешь жить ты в памяти людской, Пока в ней жить моя способна лира. Пройдут года — поклонник верный мой Ей посвятит досуг уединенный, Прочтет рассказ и о твоей судьбе; И, посетив поэта прах забвенный, Вздохнув о нем, вздохнет и о тебе.1877
Зине («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»)
{154}
Пододвинь перо, бумагу, книги! Милый друг! Легенду я слыхал: Пали с плеч подвижника вериги, И подвижник мертвый пал! Помогай же мне трудиться, Зина! Труд всегда меня животворил. Вот еще красивая картина — Запиши, пока я не забыл! Да не плачь украдкой! — Верь надежде, Смейся, пой, как пела ты весной, Повторяй друзьям моим, как прежде, Каждый стих, записанный тобой. Говори, что ты довольна другом: В торжестве одержанных побед Над своим мучителем недугом Позабыл о смерти твой поэт!1877
Поэту («Любовь и Труд — под грудами развалин!..»)
Любовь и Труд — под грудами развалин Куда ни глянь — предательство, вражда, А ты молчишь — бездействен и печален, И медленно сгораешь со стыда. И небу шлешь укор за дар счастливый: Зачем тебя венчало им оно, Когда душе мечтательно-пугливой Решимости бороться не дано?..1877
Баюшки-баю
{155}
Непобедимое страданье, Неутолимая тоска… Влечет, как жертву на закланье, Недуга черная рука. Где ты, о муза! Пой, как прежде! «Нет больше песен, мрак в очах; Сказать: умрем! конец надежде! — Я прибрела на костылях!» Костыль ли, заступ ли могильный Стучит… смолкает… и затих… И нет ее, моей всесильной, И изменил поэту стих. Но перед ночью непробудной Я не один… Чу! голос чудный! То голос матери родной: «Пора с полуденного зноя! Пора, пора под сень покоя; Усни, усни, касатик мой! Прийми трудов венец желанный, Уж ты не раб — ты царь венчанный; Ничто не властно над тобой! Не страшен гроб, я с ним знакома; Не бойся молнии и грома, Не бойся цепи и бича, Не бойся яда и меча, Ни беззаконья, ни закона, Ни урагана, ни грозы, Ни человеческого стона, Ни человеческой слезы. Усни, страдалец терпеливый! Свободной, гордой и счастливой Увидишь родину свою, Баю-баю-баю-баю! Еще вчера людская злоба Тебе обиду нанесла; Всему конец, не бойся гроба! Не будешь знать ты больше зла! Не бойся клеветы, родимый, Ты заплатил ей дань живой, Не бойся стужи нестерпимой: Я схороню тебя весной. Не бойся горького забвенья: Уж я держу в руке моей Венец любви, венец прощенья, Дар кроткой родины твоей… Уступит свету мрак упрямый, Услышишь песенку свою Над Волгой, над Окой, над Камой, Баю-баю-баю-баю!..»1877
«Черный день! как нищий просит хлеба…»
{156}
Черный день! как нищий просит хлеба, Смерти, смерти я прошу у неба, Я прошу ее у докторов, У друзей, врагов и цензоров, Я взываю к русскому народу: Коли можешь, выручай! Окуни меня в живую воду Или мертвой в меру дай.1877
Старость
Просит отдыха слабое тело, Душу тайная жажда томит, Горько ты, стариковское дело! Жизнь смеется, — в глаза говорит: Не лелей никаких упований, Перед разумом сердце смири, В созерцанье народных страданий И в сознанье бессилья — умри!..1877
Ты не забыта…
{157}
«Я была вчера еще полезна Ближнему — теперь уж не могу! Смерть одна желанна и любезна — Пулю я недаром берегу…» Вот и всё, что ты нам завещала, Да еще узнали мы потом, Что давно ты бедным отдавала, Что добыть умела ты трудом. Поп труслив — боится, не хоронит; Убедить его мы не могли. Мы в овраг, где горько ветер стонет, На руках покойницу снесли. Схоронив, мы камень обтесали, Утвердили прямо на гробу, И на камне четко написали Жизнь, и смерть, и всю твою судьбу. И твои останки людям милы, И укор, и поученье в них… Нужны нам великие могилы, Если нет величия в живых…1877
Сон
{158}
Мне снилось: на утесе стоя, Я в море броситься хотел, Вдруг ангел света и покоя Мне песню чудную запел: «Дождись весны! Приду я рано, Скажу: будь снова человек! Сниму с главы покров тумана И сон с отяжелелых век; И Музе возвращу я голос, И вновь блаженные часы Ты обретешь, сбирая колос С своей несжатой полосы».1877
«Великое чувство! у каждых дверей…»
Великое чувство! у каждых дверей, В какой стороне ни заедем, Мы слышим, как дети зовут матерей Далеких, но рвущихся к детям. Великое чувство! Его до конца Мы живо в душе сохраняем, Мы любим сестру, и жену, и отца, Но в муках мы мать вспоминаем!1877
«О Муза! я у двери гроба!..»
{159}
О Муза! я у двери гроба! Пускай я много виноват, Пусть увеличит во сто крат Мои вины людская злоба — Не плачь! завиден жребий наш, Не наругаются над нами: Меж мной и честными сердцами Порваться долго ты не дашь Живому, кровному союзу! Не русский — взглянет без любви На эту бледную, в крови, Кнутом иссеченную Музу…1877
Кому на Руси жить хорошо
{160}
Пролог
В каком году — рассчитывай, В какой земле — угадывай, На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков: Семь временнообязанных{161}, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из смежных деревень — Заплатова, Дырявииа, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож. Сошлися — и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал: попу. Купчине толстопузому! — Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Старик Пахом потужился И молвил, в землю глядючи: Вельможному боярину, Министру государеву. А Пров сказал: царю… Мужик, что бык: втемяшится В башку какая блажь, Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит! Такой ли спор затеяли, Что думают прохожие — Знать, клад нашли ребятушки И делят меж собой… По делу всяк по-своему До полдня вышел из дому: Тот путь держал до кузницы, Тот шел в село Иваньково Позвать отца Прокофия Ребенка окрестить. Пахом соты медовые Нес на базар в Великое, А два братана Губины Так просто с недоуздочком Ловить коня упрямого В свое же стадо шли. Давно пора бы каждому Вернуть своей дорогою — Они рядком идут! Идут, как будто гонятся За ними волки серые, Что дале — то скорей. Идут — перекоряются! Кричат — не образумятся! А времечко не ждет. За спором не заметили, Как село солнце красное, Как вечер наступил. Наверно б, ночку целую Так шли — куда, не ведая, Когда б им баба встречная, Корявая Дурандиха, Не крикнула: «Почтенные! Куда вы на ночь глядючи Надумали идти?..» Спросила, засмеялася, Хлестнула, ведьма, мерина И укатила вскачь… — Куда?.. — Переглянулися Тут наши мужики, Стоят, молчат, потупились… Уж ночь давно сошла, Зажглися звезды частые В высоких небесах, Всплыл месяц, тени черные Дорогу перерезали Ретивым ходокам. Ой, тени! тени черные! Кого вы не нагоните? Кого не перегоните? Вас только, тени черные, Нельзя поймать — обнять! На лес, на путь-дороженьку Глядел, молчал Пахом, Глядел — умом раскидывал И молвил наконец: «Ну! леший шутку славную Над нами подшутил! Никак, ведь мы без малого Верст тридцать отошли! Домой теперь ворочаться Устали — не дойдем, Присядем, — делать нечего, До солнца отдохнем!..» Свалив беду на лешего, Под лесом при дороженьке Уселись мужики. Зажгли костер, сложилися, За водкой двое сбегали, А прочие покудова Стаканчик изготовили, Бересты понадрав. Приспела скоро водочка, Приспела и закусочка — Пируют мужички! Косушки по три выпили, Поели — и заспорили Опять: кому жить весело, Вольготно на Руси? Роман кричит: помещику, Демьян кричит: чиновнику, Лука кричит: попу; Купчине толстопузому, — Кричат братаны Губины, Иван и Митродор; Пахом кричит: светлейшему Вельможному боярину, Министру государеву, А Пров кричит: царю! Забрало пуще прежнего Задорных мужиков, Ругательски ругаются, Не мудрено, что вцепятся Друг другу в волоса… Гляди — уж и вцепилися! Роман тузит Пахомушку, Демьян тузит Луку. А два братана Губины Утюжат Прова дюжего — И всяк свое кричит! Проснулось эхо гулкое, Пошло гулять-погуливать, Пошло кричать-покрикивать, Как будто подзадоривать Упрямых мужиков. Царю! направо слышится, Налево отзывается: Попу! попу! попу! Весь лес переполошился, С летающими птицами, Зверями быстроногими И гадами ползущими, И стон, и рев, и гул! Всех прежде зайка серенький Из кустика соседнего Вдруг выскочил как встрепанный И наутек пошел! За ним галчата малые В верху березы подняли Противный, резкий писк. А тут еще у пеночки С испугу птенчик крохотный Из гнездышка упал; Щебечет, плачет пеночка, Где птенчик? — не найдет! Потом кукушка старая Проснулась и надумала Кому-то куковать; Раз десять принималася, Да всякий раз сбивалася И начинала вновь… Кукуй, кукуй, кукушечка! Заколосится хлеб, Подавишься ты колосом — Не будешь куковать![48] Слетелися семь филинов, Любуются побоищем С семи больших дерев, Хохочут, полуночники! А их глазищи желтые Горят, как воску ярого Четырнадцать свечей! И ворон, птица умная, Приспел, сидит на дереве У самого костра, Сидит да черту молится, Чтоб до смерти ухлопали Которого-нибудь! Корова с колокольчиком, Что с вечера отбилася От стада, чуть послышала Людские голоса — Пришла к костру, уставила Глаза на мужиков, Шальных речей послушала И начала, сердечная, Мычать, мычать, мычать! Мычит корова глупая, Пищат галчата малые, Кричат ребята буйные, А эхо вторит всем. Ему одна заботушка — Честных людей поддразнивать, Пугать ребят и баб! Никто его не видывал, А слышать всякий слыхивал, Без тела — а живет оно, Без языка — кричит! Сова, — замоскворецкая Княгиня, — тут же мычется, Летает над крестьянами, Шарахаясь то о землю, То о кусты крылом… Сама лисица хитрая, По любопытству бабьему, Подкралась к мужикам, Послушала-послушала И прочь пошла, подумавши: «И черт их не поймет!» И вправду: сами спорщики Едва ли знали, помнили, О чем они шумят… Намяв бока порядочно Друг другу, образумились Крестьяне наконец, Из лужицы напилися, Умылись, освежилися, Сон начал их кренить… Тем часом птенчик крохотный, По малу, по полсаженки, Низком перелетаючи, К костру подобрался. Поймал его Пахомушка, Поднес к огню, разглядывал И молвил: «Пташка малая, А ноготок востер! Дыхну — с ладони скатишься, Чихну — в огонь укатишься, Щелкну — мертва покатишься, А все ж ты, пташка малая, Сильнее мужика! Окрепнут скоро крылышки, Тю-тю! куда ни вздумаешь, Туда и полетишь! Ой ты, пичуга малая! Отдай свои нам крылышки, Все царство облетим, Посмотрим, поразведаем, Поспросим — и дознаемся: Кому живется счастливо, Вольготно на Руси?» — Не надо бы и крылышек, Кабы нам только хлебушка По полупуду в день, — И так бы мы Русь-матушку Ногами перемеряли! — Сказал угрюмый Пров. — Да по ведру бы водочки, — Прибавили охочие До водки братья Губины, Иван и Митродор. — Да утром бы огурчиков Соленых по десяточку, — Шутили мужики. — А в полдень бы по жбанчику Холодного кваску. — А вечером по чайничку Горячего чайку… Пока они гуторили, Вилась, кружилась пеночка Над ними: всё прослушала И села у костра. Чивикнула, подпрыгнула И человечьим голосом Пахому говорит: «Пусти на волю птенчика! За птенчика за малого Я выкуп дам большой». — А что ты дашь? «Дам хлебушка По полупуду в день, Дам водки по ведерочку, Поутру дам огурчиков, А в полдень квасу кислого, А вечером чайку!» — А где, пичуга малая, — Спросили братья Губины, — Найдешь вина и хлебушка Ты на семь мужиков? «Найти — найдете сами вы, А я, пичуга малая, Скажу вам, как найти». — Скажи! «Идите по лесу, Против столба тридцатого Прямехонько версту: Придете на поляночку, Стоят на той поляночке Две старые сосны, Под этими под соснами Закопана коробочка, Добудьте вы ее, — Коробка та волшебная: В ней скатерть самобранная, Когда ни пожелаете, Накормит, напоит! Тихонько только молвите: — Эй, скатерть самобранная! Попотчуй мужиков! По вашему хотению, По моему велению, Все явится тотчас. Теперь — пустите птенчика!» — Постой! мы люди бедные, Идем в дорогу дальную, — Ответил ей Пахом.— Ты, вижу, птица мудрая, Уважь — одежу старую На нас заворожи! — Чтоб армяки мужицкие Носились, не сносилися! — Потребовал Роман. — Чтоб липовые лапотки Служили, не разбилися, — Потребовал Демьян. — Чтоб вошь, блоха паскудная В рубахах не плодилася, — Потребовал Лука. — Не прели бы онученьки… — Потребовали Губины… А птичка им в ответ: «Всё скатерть самобранная Чинить, стирать, просушивать Вам будет… Ну, пусти!..» Раскрыв ладонь широкую, Пахом птенца пустил. Пустил — и птенчик крохотный, По малу, по полсаженки, Низком перелетаючи, Направился к дуплу. За ним взвилася пеночка И на лету прибавила: «Смотрите, чур, одно! Съестного сколько вынесет Утроба — то и спрашивай, А водки можно требовать В день ровно по ведру. Коли вы больше спросите, И раз и два — исполнится По вашему желанию, А в третий быть беде!» И улетела пеночка С своим родимым птенчиком, А мужики гуськом К дороге потянулися Искать столба тридцатого. Нашли! — Молчком идут Прямехонько, вернехонько По лесу по дремучему, Считают каждый шаг. И как версту отмеряли, Увидели поляночку — Стоят на той поляночке Две старые сосны… Крестьяне покопалися, Достали ту коробочку, Открыли — и нашли Ту скатерть самобранную! Нашли и разом вскрикнули: «Эй, скатерть самобранная! Попотчуй мужиков!» Глядь — скатерть развернулася, Откудова ни взялися Две дюжие руки, Ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка И спрятались опять. — А что же нет огурчиков? — Что нет чайку горячего? — Что нет кваску холодного? Все появилось вдруг… Крестьяне распоясались, У скатерти уселися, Пошел тут пир горой! На радости целуются, Друг дружке обещаются Вперед не драться зря, А с толком дело спорное По разуму, по-божески, На чести повести — В домишки не ворочаться, Не видеться ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда делу спорному Решенья не найдут, Покуда не доведают Как ни на есть — доподлинно, Кому живется счастливо, Вольготно на Руси? Зарок такой поставивши, Под утро как убитые Заснули мужики…Часть первая
Глава I Поп
Широкая дороженька, Березками обставлена, Далеко протянулася, Песчана и глуха. По сторонам дороженьки Идут холмы пологие С нолями, с сенокосами, А чаще с неудобною, Заброшенной землей; Стоят деревни старые, Стоят деревни новые, У речек, у прудов… Леса, луга поемные, Ручьи и реки русские Весною хороши. Но вы, поля весенние! На ваши всходы бедные Невесело глядеть! «Недаром в зиму долгую (Толкуют наши странники) Снег каждый день валил. Пришла весна — сказался снег! Он смирен до поры: Летит — молчит, лежит — молчит, Когда умрет, тогда ревет. Вода — куда ни глянь! Поля совсем затоплены, Навоз возить — дороги нет, А время уж не раннее — Подходит месяц май!» Не любо и на старые, Больней того на новые Деревни им глядеть. Ой, избы, избы новые! Нарядны вы, да строит вас Не лишняя копеечка, А кровная беда!..{162} С утра встречались странникам Все больше люди малые: Свой брат крестьянин-лапотник, Мастеровые, нищие, Солдаты, ямщики. У нищих, у солдатиков Не спрашивали странники, Как им — легко ли, трудно ли Живется на Руси? Солдаты шилом бреются, Солдаты дымом греются, Какое счастье тут?.. Уж день клонился к вечеру, Идут путем-дорогою, Навстречу едет поп. Крестьяне сняли шапочки, Низенько поклонилися, Повыстроились в ряд И мерину саврасому Загородили путь. Священник поднял голову, Глядел, глазами спрашивал: Чего они хотят? — Небось! мы не грабители! — Сказал попу Лука. (Лука — мужик присадистый С широкой бородищею, Упрям, речист и глуп. Лука похож на мельницу: Одним не птица мельница, Что, как ни машет крыльями, Небось не полетит.) — Мы мужики степенные, Из временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Окольных деревень — Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож. Идем по делу важному: У нас забота есть, Такая ли заботушка, Что из домов повыжила, С работой раздружила нас, Отбила от еды. Ты дай нам слово верное На нашу речь мужицкую Без смеху и без хитрости, По совести, по разуму, По правде отвечать, Не то с своей заботушкой К другому мы пойдем… «Даю вам слово верное: Коли вы дело спросите, Без смеху и без хитрости, По правде и по разуму, Как должно отвечать, Аминь!..» — Спасибо. Слушай же! Идя путем-дорогою, Сошлись мы невзначай, Сошлися и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, А я сказал: попу. Купчине толстопузому, Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал: светлейшему, Вельможному боярину, Министру государеву, А Пров сказал: дарю… Мужик, что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь: как ни спорили, Не согласились мы! Поспоривши — повздорили, Повздоривши — подралися, Подравшися — одумали: Не расходиться врозь, В домишки не ворочаться, Не видеться ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда спору нашему Решенья не найдем, Покуда не доведаем Как ни на есть — доподлинно: Кому жить любо-весело, Вольготно на Руси? Скажи ж ты нам по-божески: Сладка ли жизнь поповская? Ты как — вольготно, счастливо Живешь, честной отец?.. Потупился, задумался, В тележке сидя, поп И молвил: «Православные! Роптать на бога грех, Несу мой крест с терпением, Живу… а как? Послушайте! Скажу вам правду-истину, А вы крестьянским разумом Смекайте!» — Начинай! «В чем счастие, по-вашему? Покой, богатство, честь, Не так ли, други милые?» Они сказали: так… «Теперь посмотрим, братия, Каков попу покой? Начать, признаться, надо бы Почти с рожденья самого, Как достается грамота Поповскому сынку, Какой ценой поповичем Священство покупается{163}, Да лучше помолчим! ………….. ………….. Дороги наши трудные, Приход у нас большой. Болящий, умирающий, Рождающийся в мир Не избирают времени: В жнитво и в сенокос, В глухую ночь осеннюю, Зимой, в морозы лютые И в половодье вешнее Иди — куда зовут! Идешь безотговорочно. И пусть бы только косточки Ломалися одни, Нет! всякий раз намается, Переболит душа. Не верьте, православные, Привычке есть предел: Нет сердца, выносящего Без некоего трепета Предсмертное хрипение, Надгробное рыдание, Сиротскую печаль! Аминь!.. Теперь подумайте, Каков попу покой?..» Крестьяне мало думали, Дав отдохнуть священнику, Они с поклоном молвили: — Что скажешь нам еще? «Теперь посмотрим, братия, Каков попу почет? Задача щекотливая, Не прогневить бы вас?.. Скажите, православные, Кого вы называете Породой жеребячьею? Чур! отвечать на спрос!» Крестьяне позамялися, Молчат — и поп молчит… «С кем встречи вы боитеся, Идя путем-дорогою? Чур! отвечать на спрос!» Кряхтят, переминаются, Молчат! «О ком слагаете Вы сказки балагурные, И песни непристойные, И всякую хулу?..{164} Мать попадью степенную, Попову дочь безвинную, Семинариста всякого — Как чествуете вы? Кому вдогон, злорадствуя, Кричите: го-го-го?..» Потупились ребятушки, Молчат — и поп молчит… Крестьяне думу думали, А поп широкой шляпою В лицо себе помахивал Да на небо глядел. Весной, что внуки малые, С румяным солнцем-дедушкой Играют облака: Вот правая сторонушка Одной сплошною тучею Покрылась — затуманилась, Стемнела и заплакала: Рядами нити серые Повисли до земли. А ближе, над крестьянами, Из небольших, разорванных, Веселых облачков Смеется солнце красное, Как девка из снопов. Но туча передвинулась, Поп шляпой накрывается, — Быть сильному дождю. А правая сторонушка Уже светла и радостна, Там дождь перестает. Не дождь, там чудо божие: Там с золотыми нитками Развешаны мотки… «Не сами… по родителям Мы так-то…» — братья Губины Сказали наконец. И прочие поддакнули: «Не сами, по родителям!» А поп сказал: «Аминь! Простите, православные! Не в осужденье ближнего, А по желанью вашему Я правду вам сказал. Таков почет священнику В крестьянстве. А помещики…» — Ты мимо их, помещиков! Известны нам они! «Теперь посмотрим, братия, Откудова богачество Поповское идет?.. Во время недалекое Империя Российская Дворянскими усадьбами Была полным-полна. И жили там помещики, Владельцы именитые, Каких теперь уж нет! Плодилися и множились И нам давали жить. Что свадеб там игралося, Что деток нарождалося На даровых хлебах! Хоть часто крутонравные, Однако доброхотные То были господа, Прихода не чуждалися: У нас они венчалися, У нас крестили детушек, К нам приходили каяться, Мы отпевали их. А если и случалося, Что жил помещик в городе, Так умирать наверное В деревню приезжал. Коли умрет нечаянно, И тут накажет накрепко В приходе схоронить. Глядишь, ко храму сельскому На колеснице траурной В шесть лошадей наследники Покойника везут — Попу поправка добрая, Мирянам праздник праздником… А ныне уж не то! Как племя иудейское, Рассеялись помещики По дальней чужеземщине И по Руси родной. Теперь уж не до гордости Лежать в родном владении Рядком с отцами, с дедами, Да и владенья многие Барышникам пошли. Ой, холеные косточки Российские, дворянские! Где вы не позакопаны? В какой земле вас нет? Потом статья… раскольники… Не грешен, не живился я С раскольников ничем. По счастью, нужды не было: В моем приходе числится Живущих в православии Две трети прихожан. А есть такие волости, Где сплошь почти раскольники, Так тут как быть попу? Все в мире переменчиво, Прейдет и самый мир… Законы, прежде строгие К раскольникам, смягчилися, А с ними и поповскому Доходу мат пришел.{165} Перевелись помещики, В усадьбах не живут они И умирать на старости Уже не едут к нам. Богатые помещицы, Старушки богомольные, Которые повымерли, Которые пристроились Вблизи монастырей. Никто теперь подрясника Попу не подарит! Никто не вышьет воздухов{166}… Живи с одних крестьян, Сбирай мирские гривенки, Да пироги по праздникам, Да яйца о святой. Крестьянин сам нуждается И рад бы дал, да нечего… А то еще не всякому И мил крестьянский грош. Угоды наши скудные, Пески, болота, мхи, Скотинка ходит впроголодь, Родится хлеб сам-друг, А если и раздобрится Сыра земля-кормилица, Так новая беда: Деваться с хлебом некуда! Припрет нужда, продашь его За сущую безделицу, А там — неурожай! Тогда плати втридорога, Скотинку продавай. Молитесь, православные! Грозит беда великая И в нынешнем году: Зима стояла лютая, Весна стоит дождливая, Давно бы сеять надобно, А на полях — вода! Умилосердись, господи! Пошли крутую радугу На наши небеса![49] (Сняв шляпу, пастырь крестится, И слушатели тож.) Деревни наши бедные, А в них крестьяне хворые Да женщины печальницы, Кормилицы, поилицы, Рабыни, богомолицы И труженицы вечные, Господь, прибавь им сил! С таких трудов копейками Живиться тяжело! Случается, к недужному Придешь: не умирающий, Страшна семья крестьянская В тот час, как ей приходится Кормильца потерять! Напутствуешь усопшего И поддержать в оставшихся По мере сил стараешься Дух бодр! А тут к тебе Старуха, мать покойника, Глядь, тянется с костлявою, Мозолистой рукой. Душа переворотится, Как звякнут в этой рученьке Два медных пятака! Конечно, дело чистое — За требу воздаяние Не брать — так нечем жить, Да слово утешения Замрет на языке, И, словно как обиженный, Уйдешь домой… Аминь…»______
Покончил речь — и мерина Хлестнул легонько поп. Крестьяне расступилися, Низенько поклонилися, Конь медленно побрел. А шестеро товарищей, Как будто сговорилися, Накинулись с упреками, С отборной крупной руганью На бедного Луку: — Что, взял? башка упрямая! Дубина деревенская! Туда же лезет в спор! Дворяне колокольные — Попы живут по-княжески. Идут под небо самое Поповы терема, Гудит попова вотчина — Колокола горластые — На целый божий мир. Три года я, робятушки, Жил у попа в работниках, Малина — не житье! Попова каша — с маслицем, Попов пирог — с начинкою, Поповы щи — с снетком! Жена попова толстая, Попова дочка белая, Попова лошадь жирная, Пчела попова сытая, Как колокол гудет! Ну, вот тебе хваленое Поповское житье! Чего орал, куражился? На драку лез, анафема? Не тем ли думал взять, Что борода лопатою? Так с бородой козел Гулял по свету ранее, Чем праотец Адам, А дураком считается И посейчас козел!.. Лука стоял, помалчивал, Боялся, не наклали бы Товарищи в бока. Оно быть так и сталося, Да к счастию крестьянина Дорога позагнулася — Лицо попово строгое Явилось на бугре…Глава II Сельская ярмонка
Недаром наши странники Поругивали мокрую, Холодную весну. Весна нужна крестьянину И ранняя и дружная, А тут — хоть волком вой! Не греет землю солнышко, И облака дождливые, Как дойные коровушки, Идут по небесам. Согнало снег, а зелени Ни травки, ни листа! Вода не убирается, Земля не одевается Зеленым ярким бархатом И, как мертвец без савана, Лежит под небом пасмурным Печальна и нага. Жаль бедного крестьянина, А пуще жаль скотинушку; Скормив запасы скудные, Хозяин хворостиною Прогнал ее в луга, А что там взять? Чернехонько! Лишь на Николу вешнего{167} Погода поуставилась, Зеленой свежей травушкой Полакомился скот.______
День жаркий. Под березками Крестьяне пробираются, Гуторят меж собой: «Идем одной деревнею, Идем другой — пустехонько! А день сегодня праздничный. Куда пропал народ?..» Идут селом — на улице Одни ребята малые, В домах — старухи старые, А то и вовсе заперты Калитки на замок. Замок — собачка верная: Не лает, не кусается, А не пускает в дом! Прошли село, увидели В зеленой раме зеркало: С краями полный пруд. Над прудом реют ласточки; Какие-то комарики, Проворные и тощие, Вприпрыжку, словно посуху, Гуляют по воде. По берегам, в ракитнике, Коростели скрипят. На длинном, шатком плотике С вальком поповна толстая Стоит, как стог подщипанный, Подтыкавши подол. На этом же на плотике Спит уточка с утятами… Чу! лошадиный храп! Крестьяне разом глянули И над водой увидели Две головы: мужицкую, Курчавую и смуглую, С серьгой (мигало солнышко На белой той серьге), Другую — лошадиную С веревкой сажен в пять. Мужик берет веревку в рот, Мужик плывет — и конь плывет, Мужик заржал — и конь заржал. Плывут, орут! Под бабою, Под малыми утятами Плот ходит ходенем. Догнал коня — за холку хвать! Вскочил и на луг выехал Детина: тело белое, А шея как смола; Вода ручьями катится С коня и с седока. — А что у вас в селении Ни старого, ни малого, Как вымер весь народ? «Ушли в село Кузьминское, Сегодня там и ярмонка И праздник храмовой». — А далеко Кузьминское? «Да будет версты три». — Пойдем в село Кузьминское, Посмотрим праздник-ярмонку! — Решили мужики, А про себя подумали: Не там ли он скрывается, Кто счастливо живет?.. Кузьминское богатое, А пуще того — грязное Торговое село. По косогору тянется, Потом в овраг спускается, А там опять на горочку — Как грязи тут не быть? Две церкви в нем старинные, Одна старообрядская, Другая православная, Дом с надписью: училище, Пустой, забитый наглухо, Изба в одно окошечко, С изображеньем фельдшера, Пускающего кровь. Есть грязная гостиница, Украшенная вывеской (С большим носатым чайником Поднос в руках подносчика, И маленькими чашками, Как гусыня гусятами, Тот чайник окружен). Есть лавки постоянные В подобие уездного Гостиного двора… Пришли на площадь странники: Товару много всякого И видимо-невидимо Народу! Не потеха ли? Кажись, нет ходу крестного, А словно пред иконами Без шапок мужики. Такая уж сторонушка! Гляди, куда деваются Крестьянские шлыки{168}: Помимо складу винного, Харчевни, ресторации, Десятка штофных лавочек{169}, Трех постоялых двориков, Да «ренскового погреба»{170}, Да пары кабаков, Одиннадцать кабачников Для праздника поставили Палатки на селе. При каждой пять подносчиков; Подносчики — молодчики, Наметанные, дошлые, А все им не поспеть, Со сдачей не управиться! Гляди, что протянулося Крестьянских рук со шляпами, С платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, Куда ты велика! Лишь окатить бы душеньку, А там добудут шапочки, Как отойдет базар. По пьяным по головушкам Играет солнце вешнее… Хмельно, горласто, празднично, Пестро, красно кругом! Штаны на парнях плисовы, Жилетки полосатые, Рубахи всех цветов; На бабах платья красные, У девок косы с лентами, Лебедками плывут! А есть еще затейницы, Одеты по-столичному — И ширится и дуется Подол на обручах!{171} Заступишь — расфуфырятся! Вольно же, новомодницы, Вам снасти рыболовные Под юбками носить! На баб нарядных глядючи, Старообрядка злющая Товарке говорит: «Быть голоду! быть голоду! Дивись, что всходы вымокли, Что половодье вешнее Стоит до Петрова!{172} С тех пор как бабы начали Рядиться в ситцы красные, — Леса не подымаются, А хлеба хоть не сей!» — Да чем же ситцы красные Тут провинились, матушка? Ума не приложу! «А ситцы те французские — Собачьей кровью крашены! Ну… поняла теперь?..» По конной потолкалися, По взгорью, где навалены Косули, грабли, бороны,{173} Багры, станки тележные, Ободья, топоры. Там шла торговля бойкая, С божбою, с прибаутками, С здоровым, громким хохотом. И как не хохотать? Мужик какой-то крохотный Ходил, ободья пробовал: Погнул один — не нравится. Погнул другой, потужился, А обод как распрямится — Щелк по лбу мужика! Мужик ревет над ободом, «Вязовою дубиною» Ругает драчуна. Другой приехал с разною Поделкой деревянною — И вывалил весь воз! Пьяненек! Ось сломалася, А стал ее уделывать — Топор сломал! Раздумался Мужик над топором, Бранит его, корит его, Как будто дело делает: «Подлец ты, не топор! Пустую службу, плевую И ту не сослужил. Всю жизнь свою ты кланялся, А ласков не бывал!» Пошли по лавкам странники: Любуются платочками, Ивановскими ситцами, Шлеями, новой обувью, Издельем кимряков{174}. У той сапожной лавочки Опять смеются странники: Тут башмачки козловые Дед внучке торговал, Пять раз про цену спрашивал, Вертел в руках, оглядывал: Товар первейший сорт! — Ну, дядя! два двугривенных Плати, не то проваливай! — Сказал ему купец. «А ты постой!» Любуется Старик ботинкой крохотной, Такую держит речь: «Мне зять — плевать, и дочь смолчит, Жена — плевать, пускай ворчит! А внучку жаль! Повесилась На шею, егоза: Купи гостинчик, дедушка, Купи! — головкой шелковой Лицо щекочет, ластится, Целует старика. Постой, ползунья босая! Постой, юла! Козловые Ботиночки куплю… — Расхвастался Вавилушка, И старому и малому Подарков насулил, А пропился до грошика! — Как я глаза бесстыжие Домашним покажу?.. Мне зять — плевать, и дочь смолчит, Жена — плевать, пускай ворчит! А внучку жаль!..» Пошел опять Про внучку! Убивается!.. Народ собрался, слушает, Не смеючись, жалеючи; Случись, работой, хлебушком Ему бы помогли, А вынуть два двугривенных, Так сам ни с чем останешься. Да был тут человек, Павлуша Веретенников. (Какого роду-звания, Не знали мужики, Однако звали «барином». Горазд он был балясничать, Носил рубаху красную, Поддевочку суконную, Смазные сапоги; Пел складно песни русские И слушать их любил. Его видали многие На постоялых двориках, В харчевнях, в кабаках.) Так он Вавилу выручил — Купил ему ботиночки. Вавило их схватил И был таков! — На радости Спасибо даже барину Забыл сказать старик, Зато крестьяне прочие Так были разутешены, Так рады, словно каждого Он подарил рублем! Была тут также лавочка С картинами и книгами, Офени запасалися Своим товаром в ней. — А генералов надобно? — Спросил их купчик-выжига. «И генералов дай! Да только ты по совести, Чтоб были настоящие — Потолще, погрозней». — Чудные! как вы смотрите! — Сказал купец с усмешкою. — Тут дело не в комплекции… «А в чем же? шутишь, друг! Дрянь, что ли, сбыть желательно? А мы куда с ней денемся? Шалишь! Перед крестьянином Все генералы равные, Как шишки на ели: Чтобы продать невзрачного, Попасть на доку надобно, А толстого да грозного Я всякому всучу… Давай больших, осанистых, Грудь с гору, глаз навыкате, Да чтобы больше звезд!» — А статских не желаете? «Ну, вот еще со статскими!» (Однако взяли — дешево! — Какого-то сановника За брюхо с бочку винную И за семнадцать звезд.) Купец — со всем почтением, Что любо, тем и потчует (С Лубянки — первый вор!{175}), Спустил по сотне Блюхера, Архимандрита Фотия, Разбойника Сипко, Сбыл книги: «Шут Балакирев» И «Английский милорд»{176}… Легли в коробку книжечки, Пошли гулять портретики По царству всероссийскому, Покамест не пристроятся В крестьянской летней горенке, На невысокой стеночке… Черт знает для чего! Эх! эх! придет ли времечко, Когда (приди, желанное!..) Дадут понять крестьянину, Что розь портрет портретику, Что книга книге розь? Когда мужик не Блюхера И не милорда глупого — Белинского и Гоголя С базара понесет? Ой, люди, люди русские! Крестьяне православные! Слыхали ли когда-нибудь Вы эти имена? То имена великие, Носили их, прославили Заступники народные! Вот вам бы их портретики Повесить в ваших горенках, Их книги прочитать… «И рад бы в рай, да дверь-то где?» — Такая речь врывается В лавчонку неожиданно. — Тебе какую дверь? «Да в балаган. Чу! музыка!..» — Пойдем, я укажу! Про балаган прослышавши, Пошли и наши странники Послушать, поглазеть. Комедию с Петрушкою, С козою с барабанщицей И не с простой шарманкою, А с настоящей музыкой Смотрели тут они. Комедия не мудрая, Однако и не глупая, Хожалому, квартальному Не в бровь, а прямо в глаз!{177} Шалаш полным-полнехонек, Народ орешки щелкает, А то два-три крестьянина Словечком перекинутся — Гляди, явилась водочка: Посмотрят да попьют! Хохочут, утешаются И часто в речь Петрушкину Вставляют слово меткое, Какого не придумаешь, Хоть проглоти перо! Такие есть любители — Как кончится комедия, За ширмочки пойдут, Целуются, братаются, Гуторят с музыкантами: — Откуда, молодцы? «А были мы господские, Играли на помещика, Теперь мы люди вольные, Кто поднесет-попотчует, Тот нам и господин!» — И дело, други милые, Довольно бар вы тешили, Потешьте мужиков! Эй! малой! сладкой водочки! Наливки! чаю! полпива! Цимлянского — живей!.. И море разливанное Пойдет, щедрее барского Ребяток угостят.______
Не ветры веют буйные, Не мать-земля колышется — Шумит, поет, ругается, Качается, валяется, Дерется и целуется У праздника народ! Крестьянам показалося, Как вышли на пригорочек, Что все село шатается, Что даже церковь старую С высокой колокольнею Шатнуло раз-другой! Тут трезвому, что голому, Неловко… Наши странники Прошлись еще по площади И к вечеру покинули Бурливое село…Глава III Пьяная ночь
Не ригой, не амбарами, Не кабаком, не мельницей, Как часто на Руси, Село кончалось низеньким Бревенчатым строением С железными решетками В окошках небольших. За тем этапным зданием Широкая дороженька, Березками обставлена, Открылась тут как тут. По будням малолюдная, Печальная и тихая, Не та она теперь! По всей по той дороженьке И по окольным тропочкам, Докуда глаз хватал, Ползли, лежали, ехали, Барахталися пьяные, И стоном стон стоял! Скрипят телеги грузные, И, как телячьи головы, Качаются, мотаются Победные головушки Уснувших мужиков! Народ идет — и падает, Как будто из-за валиков Картечью неприятели Палят по мужикам! Ночь тихая спускается, Уж вышла в небо темное Луна, уж пишет грамоту Господь червонным золотом По синему по бархату, Ту грамоту мудреную, Которой ни разумникам, Ни глупым не прочесть. Дорога стоголосая Гудит! Что море синее, Смолкает, подымается Народная молва. «А мы полтинник писарю: Прошенье изготовили К начальнику губернии…» — Эй! с возу куль упал! «Куда же ты, Оленушка? Постой! еще дам пряничка, Ты, как блоха проворная, Наелась — и упрыгнула, Погладить не далась!» — Добра ты, царска грамота, Да не при нас ты писана… «Посторонись, народ!» (Акцизные чиновники С бубенчиками, с бляхами С базара пронеслись.) — А я к тому теперича: И веник дрянь, Иван Ильич, А погуляет по полу, Куда как напылит! «Избави бог, Парашенька, Ты в Питер не ходи! Такие есть чиновники, Ты день у них кухаркою, А ночь у них сударкою — Так это наплевать!» «Куда ты скачешь, Саввушка?» (Кричит священник сотскому Верхом, с казенной бляхою.{178}) — В Кузьминское скачу За становым. Оказия: Там впереди крестьянина Убили… — «Эх!.. грехи!..» — Худа ты стала, Дарьюшка! «Не веретенце, друг! Вот то, чем больше вертится, Пузатее становится, А я как день-деньской…» «Эй, парень, парень глупенькой, Оборванной, паршивенькой, Эй, полюби меня! Меня, простоволосую, Хмельную бабу, старую, Зааа-паааа-чканную!..»______
Крестьяне наши трезвые, Поглядывая, слушая, Идут своим путем. Средь самой средь дороженьки Какой-то парень тихонький Большую яму выкопал: — Что делаешь ты тут? «А хороню я матушку!» — Дурак! какая матушка! Гляди: поддевку новую Ты в землю закопал! Иди скорей да хрюкалом В канаву ляг, воды испей! Авось соскочит дурь! «А ну, давай потянемся!» Садятся два крестьянина, Ногами упираются И жилятся и тужатся, Кряхтят — на скалке тянутся, Суставчики трещат! На скалке не понравилось: «Давай теперь попробуем Тянуться бородой!» Когда порядком бороды Друг дружке поубавили, Вцепились за скулы! Пыхтят, краснеют, корчатся, Мычат, визжат, а тянутся! «Да будет вам, проклятые!» Не разольешь водой! В канаве бабы ссорятся, Одна кричит: «Домой идти Тошнее, чем на каторгу!» Другая: «Врешь, в моем дому Похуже твоего! Мне старший зять ребро сломал, Середний зять клубок украл, Клубок плевок, да дело в том — Полтинник был замотан в нем, А младший зять все нож берет, Того гляди, убьет, убьет!..» «Ну полно, полно, миленькой! Ну, не сердись!» За валиком Неподалеку слышится: «Я ничего… пойдем!» Такая ночь бедовая! Направо ли, налево ли С дороги поглядишь: Идут дружненько парочки, Не к той ли роще правятся? Та роща манит всякого, В той роще голосистые Соловушки поют… Дорога многолюдная Что позже — безобразнее: Всё чаще попадаются Избитые, ползущие, Лежащие пластом. Без ругани, как водится, Словечко не промолвится, Шальная, непотребная, Слышней всего она! У кабаков смятение, Подводы перепутались, Испуганные лошади Без седоков бегут; Тут плачут дети малые, Тоскуют жены, матери: Легко ли из питейного Дозваться мужиков?.. У столбика дорожного Знакомый голос слышится, Подходят наши странники И видят: Веретенников (Что башмачки козловые Вавиле подарил) Беседует с крестьянами. Крестьяне открываются Миляге по душе: Похвалит Павел песенку — Пять раз споют, записывай! Понравится пословица — Пословицу пиши! Позаписав достаточно, Сказал им Веретенников: «Умны крестьяне русские, Одно нехорошо, Что пьют до одурения, Во рвы, в канавы валятся — Обидно поглядеть!» Крестьяне речь ту слушали, Поддакивали барину. Павлуша что-то в книжечку Хотел уже писать, Да выискался пьяненькой Мужик, — он против барина На животе лежал, В глаза ему поглядывал, Помалчивал, — да вдруг Как вскочит! Прямо к барину — Хвать карандаш из рук! «Постой, башка порожняя! Шальных вестей, бессовестных Про нас не разноси! Чему ты позавидовал! Что веселится бедная Крестьянская душа? Пьем много мы по времени, А больше мы работаем, Нас пьяных много видится, А больше трезвых нас. По деревням ты хаживал? Возьмем ведерко с водкою, Пойдем-ка по избам: В одной, в другой навалятся, А в третьей не притронутся — У нас на семью пьющую Непьющая семья! Не пьют, а так же маются, Уж лучше б пили, глупые, Да совесть такова… Чудно смотреть, как ввалится В такую избу трезвую Мужицкая беда, И не глядел бы!.. Видывал В страду деревни русские? В питейном, что ль, народ? У нас поля обширные, А не гораздо щедрые, Скажи-ка, чьей рукой С весны они оденутся, А осенью разденутся? Встречал ты мужика После работы вечером? На пожне гору добрую Поставил, съел с горошину: — Эй! богатырь! соломинкой Сшибу, посторонись! Сладка еда крестьянская, Весь век пила железная Жует, а есть не ест! Да брюхо-то не зеркало, Мы на еду не плачемся… Работаешь один, А чуть работа кончена, Гляди, стоят три дольщика: Бог, царь и господин! А есть еще губитель-тать Четвертый, злей татарина, Так тот и не поделится, Все слопает один! У нас пристал третьеводни Такой же барин плохонькой, Как ты, из-под Москвы. Записывает песенки, Скажи ему пословицу, Загадку загани. А был другой — допытывал, На сколько в день сработаешь, По малу ли, по многу ли Кусков пихаешь в рот? Иной угодья меряет, Иной в селенье жителей По пальцам перечтет, А вот не сосчитали же, По скольку в лето каждое Пожар пускает на ветер Крестьянского труда?.. Нет меры хмелю русскому. А горе наше меряли? Работе мера есть? Вино валит крестьянина, А горе не валит его? Работа не валит? Мужик беды не меряет, Со всякою справляется, Какая ни приди. Мужик, трудясь, не думает, Что силы надорвет, Так неужли над чаркою Задуматься, что с лишнего В канаву угодишь? А что глядеть зазорно вам, Как пьяные валяются, Так погляди поди, Как из болота волоком Крестьяне сено мокрое, Скосивши, волокут: Где не пробраться лошади, Где и без ноши пешему Опасно перейти, Там рать-орда крестьянская По кочам, по зажоринам Ползком ползет с плетюхами{179}, — Трещит крестьянский пуп! Под солнышком без шапочек, В поту, в грязи по макушку, Осокою изрезаны, Болотным гадом-мошкою Изъеденные в кровь, — Небось мы тут красивее? Жалеть — жалей умеючи, На мерочку господскую Крестьянина не мерь! Не белоручки нежные, А люди мы великие В работе и в гульбе!.. У каждого крестьянина Душа что туча черная — Гневна, грозна — и надо бы Громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям, А все вином кончается. Пошла по жилам чарочка, И рассмеялась добрая Крестьянская душа! Не горевать тут надобно, Гляди кругом — возрадуйся! Ай парни, ай молодушки, Умеют погулять! Повымахали косточки, Повымотали душеньку, А удаль молодецкую Про случай сберегли!..» Мужик стоял на валике, Притопывал лаптишками И, помолчав минуточку, Прибавил громким голосом, Любуясь на веселую, Ревущую толпу: «Эй! царство ты мужицкое, Бесшапочное, пьяное, Шуми — вольней шуми!..» — Как звать тебя, старинушка? «А что? запишешь в книжечку? Пожалуй, нужды нет! Пиши: «В деревне Босове Яким Нагой живет, Он до смерти работает, До полусмерти пьет!..» Крестьяне рассмеялися И рассказали барину, Каков мужик Яким. Яким, старик убогонькой, Живал когда-то в Питере, Да угодил в тюрьму: С купцом тягаться вздумалось! Как липочка ободранный, Вернулся он на родину И за соху взялся. С тех пор лет тридцать жарится На полосе под солнышком, Под бороной спасается От частого дождя, Живет — с сохою возится, А смерть придет Якимушке — Как ком земли отвалится, Что на сохе присох… С ним случай был: картиночек Он сыну накупил, Развешал их по стеночкам И сам не меньше мальчика Любил на них глядеть. Пришла немилость божия, Деревня загорелася — А было у Якимушки За целый век накоплено Целковых тридцать пять. Скорей бы взять целковые, А он сперва картиночки Стал со стены срывать; Жена его тем временем С иконами возилася, А тут изба и рухнула — Так оплошал Яким! Слились в комок целковики, За тот комок дают ему Одиннадцать рублей… «Ой, брат Яким! не дешево Картинки обошлись! Зато и в избу новую Повесил их небось?» — Повесил — есть и новые, — Сказал Яким — и смолк. Вгляделся барин в пахаря: Грудь впалая; как вдавленный Живот; у глаз, у рта Излучины, как трещины На высохшей земле; И сам на землю-матушку Похож он: шея бурая, Как пласт, сохой отрезанный, Кирпичное лицо, Рука — кора древесная, А волосы — песок. Крестьяне как заметили, Что не обидны барину Якимовы слова, И сами согласилися С Якимом: «Слово верное: Нам подобает пить! Пьем — значит, силу чувствуем! Придет печаль великая, Как перестанем пить!.. Работа не свалила бы, Беда не одолела бы, Нас хмель не одолит! Не так ли?» — Да, бог милостив! «Ну, выпей с нами чарочку!» Достали водки, выпили. Якиму Веретенников Два шкалика поднес. «Ай, барин! не прогневался, Разумная головушка! (Сказал ему Яким): Разумной-то головушке Как не понять крестьянина? А свиньи ходят по земи — Не видят неба век!..» Вдруг песня хором грянула Удалая, согласная: Десятка три молодчиков, Хмельненьки, а не валятся, Идут рядком, поют, Поют про Волгу-матушку, Про удаль молодецкую, Про девичью красу. Притихла вся дороженька, Одна та песня складная Широко, вольно катится, Как рожь под ветром стелется, По сердцу по крестьянскому Идет огнем-тоской!.. Под песню ту удалую Раздумалась, расплакалась Молодушка одна: «Мой век — что день без солнышка, Мой век — что ночь без месяца, А я, млада-младешенька, Что борзый конь на привязи, Что ласточка без крыл! Мой старый муж, ревнивый муж Напился пьян, храпом храпит, Меня, младу-младешеньку, И сонный сторожит!» Так плакалась молодушка Да с возу вдруг и спрыгнула! «Куда?» — кричит ревнивый муж, Привстал — и бабу за косу, Как редьку за вихор! Ой! ночка, ночка пьяная! Не светлая, а звездная, Не жаркая, а с ласковым Весенним ветерком! И нашим добрым молодцам Ты даром не прошла! Сгрустнулось им по женушкам, Оно и правда: с женушкой Теперь бы веселей! Иван кричит: «Я спать хочу», А Марьюшка: «И я с тобой!» Иван кричит: «Постель узка», А Марьюшка: «Уляжемся!» Иван кричит: «Ой, холодно», А Марьюшка: «Угреемся!» Как вспомнили ту песенку, Без слова — согласилися Ларец свой попытать. Одна — зачем, бог ведает, Меж полем и дорогою Густая липа выросла. Под ней присели странники И осторожно молвили: «Эй! скатерть самобранная, Попотчуй мужиков!» И скатерть развернулася, Откудова ни взялися Две дюжие руки: Ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка И спрятались опять. Крестьяне подкрепилися, Роман за караульного Остался у ведра, А прочие вмешалися В толпу — искать счастливого: Им крепко захотелося Скорей попасть домой…Глава IV Счастливые
В толпе горластой, праздничной, Похаживали странники, Прокликивали клич: «Эй! нет ли где счастливого? Явись! Коли окажется, Что счастливо живешь, У нас ведро готовое: Пей даром сколько вздумаешь — На славу угостим!..» Таким речам неслыханным Смеялись люди трезвые, А пьяные да умные Чуть не плевали в бороду Ретивым крикунам. Однако и охотников Хлебнуть вина бесплатного Достаточно нашлось. Когда вернулись странники Под липу, клич прокликавши, Их обступил народ. Пришел дьячок уволенный, Тощой, как спичка серная, И лясы распустил, Что счастие не в пажитях{180}, Не в соболях, не в золоте, Не в дорогих камнях. — А в чем же? «В благодушестве! Пределы есть владениям Господ, вельмож, царей земных, А мудрого владение — Весь вертоград Христов!{181} Коль обогреет солнышко Да пропущу косушечку, Так вот и счастлив я!» — А где возьмешь косушечку? «Да вы же дать сулилися…» — Проваливай! шалишь!.. Пришла старуха старая, Рябая, одноглазая И объявила, кланяясь, Что счастлива она: Что у нее по осени Родилось реп до тысячи На небольшой гряде. «Такая репа крупная, Такая репа вкусная, А вся гряда — сажени три, А впоперечь — аршин!» Над бабой посмеялися, А водки капли не дали: — Ты дома выпей, старая, Той репой закуси! Пришел солдат с медалями. Чуть жив, а выпить хочется: «Я счастлив!» — говорит. — Ну, открывай, старинушка, В чем счастие солдатское? Да не таись, смотри! «А в том, во-первых, счастие, Что в двадцати сражениях Я был, а не убит! А во-вторых, важней того, Я и во время мирное Ходил ни сыт, ни голоден, А смерти не дался! А в-третьих — за провинности, Великие и малые, Нещадно бит я палками, А хоть пощупай — жив!» — На! выпивай, служивенькой! С тобой и спорить нечего: Ты счастлив — слова нет! Пришел с тяжелым молотом Каменотес олончанин, Плечистый, молодой: «И я живу — не жалуюсь, — Сказал он, — с женкой, с матушкой Не знаем мы нужды!» — Да в чем же ваше счастие? «А вот гляди (и молотом, Как перышком, махнул): Коли проснусь до солнышка Да разогнусь о полночи, Так гору сокрушу! Случалось, не похвастаю, Щебенки наколачивать В день на пять серебром!» Пахом приподнял «счастие» И, крякнувши порядочно, Работнику поднес: — Ну, веско! а не будет ли Носиться с этим счастием Под старость тяжело?.. «Смотри, не хвастай силою», — Сказал мужик с одышкою, Расслабленный, худой (Нос вострый, как у мертвого, Как грабли руки тощие, Как спицы ноги длинные, Не человек — комар). «Я был — не хуже каменщик, Да тоже хвастал силою, Вот бог и наказал! Смекнул подрядчик, бестия, Что простоват детинушка, Учал меня хвалить, А я-то сдуру радуюсь, За четверых работаю! Однажды ношу добрую Наклал я кирпичей, А тут его, проклятого, И нанеси нелегкая. «Что это? — говорит. — Не узнаю Трофима я! Идти с такою ношею Не стыдно молодцу?» — А коли мало кажется, Прибавь рукой хозяйскою! — Сказал я, осердясь. Ну, с полчаса, я думаю, Я ждал, а он подкладывал, И подложил, подлец! Сам слышу — тяга страшная, Да не хотелось пятиться, И внес ту ношу чертову Я во второй этаж! Глядит подрядчик, дивится, Кричит, подлец, оттудова: «Ай, молодец, Трофим! Не знаешь сам, что сделал ты: Ты снес один по крайности Четырнадцать пудов!» Ой, знаю! сердце молотом Стучит в груди, кровавые В глазах круги стоят, Спина как будто треснула… Дрожат, ослабли ноженьки. Зачах я с той поры!.. Налей, брат, полстаканчика!» — Налить? Да где ж тут счастие? Мы потчуем счастливого, А ты что рассказал! «Дослушай! будет счастие!» — Да в чем же, говори! «А вот в чем. Мне на родине, Как всякому крестьянину, Хотелось умереть. Из Питера, расслабленный, Шальной, почти без памяти Я на машину сел. Ну, вот мы и поехали. В вагоне лихорадочных, Горячечных работничков Нас много набралось, Всем одного желалося, Как мне, попасть на родину, Чтоб дома помереть. Однако нужно счастие И тут: мы летом ехали, В жарище, в духоте У многих помутилися Вконец больные головы, В вагоне ад пошел: Тот стонет, тот катается Как оглашенный по полу, Тот бредит женкой, матушкой. Ну, на ближайшей станции Такого и долой! Глядел я на товарищей, Сам весь горел, подумывал — Несдобровать и мне. В глазах кружки багровые, И всё мне, братец, чудится, Что режу пеунов{182}. (Мы тоже пеунятники, Случалось в год откармливать До тысячи зобов.) Где вспомнились, проклятые! Уж я молиться пробовал, Нет! всё с ума нейдут! Поверишь ли? вся партия Передо мной трепещется! Гортани перерезаны, Кровь хлещет, а поют! А я с ножом: «Да полно вам!» Уж как господь помиловал, Что я не закричал? Сижу, креплюсь… по счастию, День кончился, а к вечеру Похолодало, — сжалился Над сиротами бог! Ну, так мы и доехали, И я добрел на родину, А здесь, по божьей милости, И легче стало мне…» — Чего вы тут расхвастались Своим мужицким счастием? — Кричит, разбитый на ноги, Дворовый человек. — А вы меня попотчуйте: Я счастлив, видит бог! У первого боярина, У князя Переметьева Я был любимый раб. Жена — раба любимая, А дочка вместе с барышней Училась и французскому И всяким языкам, Садиться позволялось ей В присутствии княжны… Ой, как кольнуло!.. батюшки!.. (И начал ногу правую Ладонями тереть.) Крестьяне рассмеялися. — Чего смеетесь, глупые, — Озлившись неожиданно, Дворовый закричал. — Я болен, а сказать ли вам, О чем молюсь я господу, Вставая и ложась? Молюсь: «Оставь мне, господи, Болезнь мою почетную, По ней я дворянин!» Не вашей подлой хворостью, Не хрипотой, не грыжею — Болезнью благородною, Какая только водится У первых лиц в империи, Я болен, мужичье! По-да-грой именуется! Чтоб получить ее — Шампанское, бургонское, Токайское, венгерское Лет тридцать надо пить… За стулом у светлейшего У князя Переметьева Я сорок лет стоял, С французским лучшим трюфелем Тарелки я лизал, Напитки иностранные Из рюмок допивал… Ну, наливай! «Проваливай! У нас вино мужицкое, Простое, не заморское — Не по твоим губам!» Желтоволосый, сгорбленный, Подкрался робко к странникам Крестьянин-белорус, Туда же к водке тянется: «Налей и мне маненичко, Я счастлив!» — говорит. — А ты не лезь с ручищами! Докладывай, доказывай Сперва, чем счастлив ты? «А счастье наше — в хлебушке: Я дома в Белоруссии С мякиною, с кострикою{183} Ячменный хлеб жевал; Бывало, вопишь голосом, Как роженица корчишься, Как схватит животы. А ныне, милость божия! — Досыта у Губонина Дают ржаного хлебушка{184}, Жую — не нажуюсь!» Пришел какой-то пасмурный Мужик с скулой свороченной, Направо все глядит: «Хожу я за медведями, И счастье мне великое: Троих моих товарищей Сломали мишуки, А я живу, бог милостив!» — А ну-ка, влево глянь! Не глянул, как ни пробовал, Какие рожи страшные Ни корчил мужичок: «Свернула мне медведица Маненичко скулу!» — А ты с другой померяйся, Подставь ей щеку правую — Поправит… — Посмеялися, Однако поднесли. Оборванные нищие, Послышав запах пенного, И те пришли доказывать, Как счастливы они: «Нас у порога лавочник Встречает подаянием, А в дом войдем, так из дому Проводят до ворот… Чуть запоем мы песенку, Бежит к окну хозяюшка С краюхою, с ножом, А мы-то заливаемся: «Давать давай — весь каравай, Не мнется и не крошится, Тебе скорей, а нам спорей…»______
Смекнули наши странники, Что даром водку тратили, Да, кстати, и ведерочку Конец. «Ну, будет с вас! Эй, счастие мужицкое! Дырявое с заплатами, Горбатое с мозолями, Проваливай домой!» «А вам бы, други милые, Спросить Ермилу Гирина, — Сказал, подсевши к странникам, Деревни Дымоглотова Крестьянин Федосей. — Коли Ермил не выручит, Счастливцем не объявится, Так и шататься нечего…» — А кто такой Ермил? Князь, что ли, граф сиятельный? «Не князь, не граф сиятельный, А просто он — мужик!» — Ты говори толковее, Садись, а мы послушаем, Какой такой Ермил? «А вот какой: сиротскую Держал Ермило мельницу На Унже. По суду Продать решили мельницу: Пришел Ермило с прочими В палату на торги{185}. Пустые покупатели Скоренько отвалилися, Один купец Алтынников С Ермилом в бой вступил, Не отстает, торгуется, Наносит по копеечке. Ермило как рассердится — Хвать сразу пять рублей! Купец опять копеечку, Пошло у них сражение: Купец его копейкою, А тот его рублем! Не устоял Алтынников! Да вышла тут оказия: Тотчас же стали требовать Задатков третью часть, А третья часть — до тысячи. С Ермилом денег не было, Уж сам ли он сплошал, Схитрили ли подьячие, А дело вышло дрянь! Повеселел Алтынников: — Моя, выходит, мельница! «Нет! — говорит Ермил, Подходит к председателю. — Нельзя ли вашей милости Помешкать полчаса?» — Что в полчаса ты сделаешь? «Я деньги принесу!» — А где найдешь? В уме ли ты? Верст тридцать пять до мельницы, А через час присутствию Конец, любезный мой! «Так полчаса позволите?» — Пожалуй, час промешкаем! — Пошел Ермил; подьячие С купцом переглянулися, Смеются, подлецы! На площадь на торговую Пришел Ермило (в городе Тот день базарный был), Стал на воз, видим: крестится, На все четыре стороны Поклон, — и громким голосом Кричит: «Эй, люди добрые! Притихните, послушайте, Я слово вам скажу!» Притихла площадь людная, И тут Ермил про мельницу Народу рассказал: «Давно купец Алтынников Присватывался к мельнице, Да не плошал и я, Раз пять справлялся в городе, Сказали: с переторжкою Назначены торги. Без дела, сами знаете, Возить казну крестьянину Проселком не рука. Приехал я без грошика, Ан глядь — они спроворили Без переторжки торг! Схитрили, души подлые, Да и смеются, нехристи: «Что часом ты поделаешь? Где денег ты найдешь?» Авось найду, бог милостив! Хитры, сильны подьячие, А мир их посильней, Богат купец Алтынников, А все не устоять ему Против мирской казны — Ее, как рыбу из моря, Века ловить — не выловить. Ну, братцы! видит бог, Разделаюсь в ту пятницу! Не дорога мне мельница, Обида велика! Коли Ермила знаете, Коли Ермилу верите, Так выручайте, что ль!..» И чудо сотворилося — На всей базарной площади У каждого крестьянина, Как ветром, полу левую Заворотило вдруг! Крестьянство раскошелилось, Несут Ермилу денежки, Дают, кто чем богат. Ермило парень грамотный, Да некогда записывать, Успей пересчитать! Наклали шляпу полную Целковиков, лобанчиков, Прожженной, битой, трепаной Крестьянской ассигнации. Ермило брал — не брезговал И медным пятаком. Еще бы стал он брезговать, Когда тут попадалася Иная гривна медная Дороже ста рублей! Уж сумма вся исполнилась, А щедрота народная Росла: «Бери, Ермил Ильич, Отдашь, не пропадет!» Ермил народу кланялся На все четыре стороны, В палату шел со шляпою, Зажавши в ней казну. Сдивилися подьячие, Позеленел Алтынников, Как он сполна всю тысячу Им выложил на стол!.. Не волчий зуб, так лисий хвост, — Пошли юлить подьячие, С покупкой поздравлять! Да не таков Ермил Ильич, Не молвил слова лишнего, Копейки не дал им! Глядеть весь город съехался, Как в день базарный пятницу Через неделю времени Ермил на той же площади Рассчитывал народ. Упомнить где же всякого? В ту пору дело делалось В горячке, второпях! Однако споров не было, И выдать гроша лишнего Ермилу не пришлось. Еще — он сам рассказывал — Рубль лишний, чей — бог ведает! Остался у него. Весь день с мошной раскрытою Ходил Ермил, допытывал, Чей рубль? да не нашел. Уж солнце закатилося, Когда с базарной площади Ермил последний тронулся, Отдав тот рубль слепым… Так вот каков Ермил Ильич». — Чудён! — сказали странники. — Однако знать желательно, Каким же колдовством Мужик над всей округою Такую силу взял? «Не колдовством, а правдою. Слыхали про Адовщину, Юрлова-князя вотчину?» — Слыхали, ну так что ж? «В ней главный управляющий Был корпуса жандармского Полковник со звездой, При нем пять-шесть помощников, А наш Ермило писарем В конторе состоял. Лет двадцать было малому, Какая воля писарю? Однако для крестьянина И писарь человек. К нему подходишь к первому, А он и посоветует И справку наведет; Где хватит силы — выручит, Не спросит благодарности, И дашь, так не возьмет! Худую совесть надобно — Крестьянину с крестьянина Копейку вымогать. Таким путем вся вотчина В пять лет Ермилу Гирина Узнала хорошо. А тут его и выгнали… Жалели крепко Гирина, Трудненько было к новому, Хапуге, привыкать, Однако делать нечего, По времени приладились И к новому писцу. Тот ни строки без трешника, Ни слова без семишника{186}, Прожженный, из кутейников{187} — Ему и бог велел! Однако волей божией Недолго он поцарствовал, — Скончался старый князь, Приехал князь молоденькой, Прогнал того полковника, Прогнал его помощника, Контору всю прогнал, А нам велел из вотчины Бурмистра изобрать. Ну, мы не долго думали, Шесть тысяч душ, всей вотчиной Кричим: «Ермилу Гирина!» Как человек един! Зовут Ермилу к барину. Поговорив с крестьянином, С балкона князь кричит: «Ну, братцы! будь по-вашему. Моей печатью княжеской Ваш выбор утвержден: Мужик проворный, грамотный, Одно скажу: не молод ли?..» А мы: «Нужды нет, батюшка, И молод, да умен!» Пошел Ермило царствовать Над всей княжою вотчиной, И цартвовал же он! В семь лет мирской копеечки Под ноготь не зажал, В семь лет не тронул правого, Не попустил виновному, Душой не покривил…» — Стой! — крикнул укорительно Какой-то попик седенький Рассказчику. — Грешишь! Шла борона прямехонько, Да вдруг махнула в сторону — На камень зуб попал! Коли взялся рассказывать, Так слова не выкидывай Из песни: или странникам Ты сказку говоришь?.. Я знал Ермилу Гирина… «А я небось не знал? Одной мы были вотчины, Одной и той же волости, Да нас перевели…» — А коли знал ты Гирина, Так знал и брата Митрия, Подумай-ка, дружок. Рассказчик призадумался И, помолчав, сказал: «Соврал я: слово лишнее Сорвалось на маху! Был случай, и Ермил-мужик Свихнулся: из рекрутчины Меньшого брата Митрия Повыгородил он. Молчим: тут спорить нечего, Сам барин брата старосты Забрить бы не велел, Одна Ненила Власьевна По сыне горько плачется, Кричит: не наш черед! Известно, покричала бы, Да с тем бы и отъехала. Так что же? Сам Ермил, Покончивши с рекрутчиной, Стал тосковать, печалиться, Не пьет, не ест: тем кончилось, Что в деннике с веревкою{188} Застал его отец. Тут сын отцу покаялся: «С тех пор как сына Власьевны Поставил я не в очередь, Постыл мне белый свет!» А сам к веревке тянется. Пытали уговаривать Отец его и брат, Он все одно: «Преступник я! Злодей! вяжите руки мне, Ведите в суд меня!» Чтоб хуже не случилося, Отец связал сердечного, Приставил караул. Сошелся мир, шумит, галдит, Такого дела чудного Вовек не приходилося Ни видеть, ни решать. Ермиловы семейные Уж не о том старалися, Чтоб мы им помирволили, А строже рассуди — Верни парнишку Власьевне, Не то Ермил повесится, За ним не углядишь! Пришел и сам Ермил Ильич, Босой, худой, с колодками, С веревкой на руках, Пришел, сказал: «Была пора, Судил я вас по совести, Теперь я сам грешнее вас: Судите вы меня!» И в ноги поклонился нам. Ни дать ни взять юродивый, Стоит, вздыхает, крестится, Жаль было нам глядеть, Как он перед старухою, Перед Ненилой Власьевной Вдруг на колени пал! Ну, дело все обладилось, У господина сильного Везде рука: сын Власьевны Вернулся, сдали Митрия, Да, говорят, и Митрию Не тяжело служить: Сам князь о нем заботится. А за провинность с Гирина Мы положили штраф: Штрафные деньги рекруту, Часть небольшая Власьевне, Часть миру на вино… Однако после этого Ермил не скоро справился, С год как шальной ходил. Как ни просила вотчина, От должности уволился, В аренду снял ту мельницу, И стал он пуще прежнего Всему народу люб: Брал за помол по совести, Народу не задерживал — Приказчик, управляющий, Богатые помещики И мужики беднейшие — Все очереди слушались, Порядок строгий вел! Я сам уж в той губернии Давненько не бывал, А про Ермилу слыхивал, Народ им не нахвалится, Сходите вы к нему». — Напрасно вы проходите, — Сказал уж раз заспоривший Седоволосый поп. — Я знал Ермилу Гирина, Попал я в ту губернию Назад тому лет пять (Я в жизни много странствовал, Преосвященный наш Переводить священников Любил)… С Ермилой Гириным Соседи были мы. Да! был мужик единственный! Имел он все, что надобно Для счастья: и спокойствие, И деньги, и почет, Почет завидный, истинный, Не купленный ни деньгами, Ни страхом: строгой правдою, Умом и добротой! Да только, повторяю вам, Напрасно вы проходите, В остроге он сидит… «Как так?» — А воля божия! Слыхал ли кто из вас, Как бунтовалась вотчина Помещика Обрубкова, Испуганной губернии, Уезда Недыханьева, Деревня Столбняки?.. Как о пожарах пишется В газетах (я их читывал): «Осталась неизвестною Причина» — так и тут: До сей поры неведомо Ни земскому исправнику{189}, Ни высшему правительству, Ни Столбнякам самим, С чего стряслась оказия, А вышло дело дрянь. Потребовалось воинство, Сам государев посланный{190} К народу речь держал, То руганью попробует И плечи с эполетами Подымет высоко, То ласкою попробует, И грудь с крестами царскими Во все четыре стороны Повертывать начнет. Да брань была тут лишняя, А ласка непонятная: «Крестьянство православное! Русь-матушка! царь-батюшка!» — И больше ничего! Побившись так достаточно, Хотели уж солдатикам Скомандовать: пали! Да волостному писарю Пришла тут мысль счастливая, Он про Ермилу Гирина Начальнику сказал: «Народ поверит Гирину, Народ его послушает…» — Позвать его, живей! ……………______
Вдруг крик: «Ай, ай! помилуйте!» — Раздавшись неожиданно, Нарушил речь священника, Все бросились глядеть: У валика дорожного Секут лакея пьяного — Попался в воровстве! Где пойман — тут и суд ему: Судей сошлось десятка три, Решили дать по лозочке, И каждый дал лозу! Лакей вскочил и, шлепая Худыми сапожнишками, Без слова тягу дал. «Вишь, побежал как встрепанный! — Шутили наши странники, Узнавши в нем балясника, Что хвастался какою-то Особенной болезнию От иностранных вин. — Откуда прыть явилася! Болезнь ту благородную Вдруг сняло как рукой!»______
— Эй, эй! куда ж ты, батюшка! Ты доскажи историю, Как бунтовалась вотчина Помещика Обрубкова, Деревни Столбняки? «Пора домой, родимые. Бог даст, опять мы встретимся, Тогда и доскажу!»______
Под утро поразъехалась, Поразбрелась толпа. Крестьяне спать надумали, Вдруг тройка с колокольчиком Откуда ни взялась, Летит! а в ней качается Какой-то барин кругленький, Усатенький, пузатенький, С сигарочкой во рту. Крестьяне разом бросились К дороге, сняли шапочки, Низенько поклонилися, Повыстроились в ряд И тройке с колокольчиком Загородили путь…Глава V Помещик
Соседнего помещика Гаврилу Афанасьича Оболта-Оболдуева Та троечка везла. Помещик был румяненький, Осанистый, присадистый, Шестидесяти лет; Усы седые, длинные, Ухватки молодецкие, Венгерка с бранденбурами{191}, Широкие штаны. Гаврило Афанасьевич, Должно быть, перетрусился, Увидев перед тройкою Семь рослых мужиков. Он пистолетик выхватил, Как сам, такой же толстенький, И дуло шестиствольное На странников навел: — Ни с места! Если тронетесь, Разбойники! грабители! На месте уложу!.. — Крестьяне рассмеялися: «Какие мы разбойники, Гляди — у нас ни ножика, Ни топоров, ни вил!» — Кто ж вы? чего вам надобно? «У нас забота есть. Такая ли заботушка, Что из домов повыжила, С работой раздружила нас, Отбила от еды. Ты дай нам слово крепкое На нашу речь мужицкую Без смеху и без хитрости, По правде и по разуму, Как должно, отвечать, Тогда свою заботушку Поведаем тебе…» — Извольте: слово честное, Дворянское даю! «Нет, ты нам не дворянское, Дай слово христианское! Дворянское с побранкою, С толчком да с зуботычиной, То непригодно нам!» — Эге! какие новости! А впрочем, будь по-вашему! Ну, в чем же ваша речь?.. «Спрячь пистолетик! выслушай! Вот так! Мы не грабители, Мы мужики смиренные, Из временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из разных деревень — Несытова, Неелова, Заплатова, Дырявина, Горелок, Голодухина, Неурожайка тож. Идя путем-дорогою, Сошлись мы невзначай, Сошлись мы — и заспорили: Кому живется счастливо, Вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал — попу. Купчине толстопузому, — Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал: светлейшему, Вельможному боярину, Министру государеву, А Пров сказал: царю… Мужик, что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь! Как ни спорили, Не согласились мы! Поспоривши — повздорили, Повздоривши — подралися, Подравшися — удумали: Не расходиться врозь, В домишки не ворочаться, Не видеться ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда спору нашему Решенья не найдем, Покуда не доведаем Как ни на есть — доподлинно: Кому жить любо-весело, Вольготно на Руси? Скажи ж ты нам по-божески, Сладка ли жизнь помещичья? Ты как — вольготно, счастливо, Помещичек, живешь?» Гаврило Афанасьевич Из тарантаса выпрыгнул, К крестьянам подошел: Как лекарь, руку каждому Пощупал, в лица глянул им, Схватился за бока И покатился со смеху… Xa-xa! xa-xa! xa-xa! ха-ха! Здоровый смех помещичий По утреннему воздуху Раскатываться стал… Нахохотавшись досыта, Помещик не без горечи Сказал: «Наденьте шапочки, Садитесь, господа!» — Мы господа не важные, Перед твоею милостью И постоим… «Нет, нет! Прошу садиться, граждане!» Крестьяне поупрямились, Однако делать нечего, Уселись на валу. «И мне присесть позволите? Эй, Прошка! рюмку хересу, Подушку и ковер!» Расположась на коврике И выпив рюмку хересу, Помещик начал так: «Я дал вам слово честное Ответ держать по совести, А нелегко оно! Хоть люди вы почтенные, Однако неученые, Как с вами говорить? Сперва понять вам надо бы, Что значит слово самое: Помещик, дворянин. Скажите, вы, любезные, О родословном дереве Слыхали что-нибудь?» — Леса нам не заказаны — Видали древо всякое! — Сказали мужики. «Попали пальцем в небо вы!.. Скажу вам вразумительней: Я роду именитого, Мой предок Оболдуй Впервые поминается В старинных русских грамотах Два века с половиною Назад тому. Гласит Та грамота: «Татарину Оболту-Оболдуеву Дано суконце доброе, Ценою в два рубля: Волками и лисицами Он тешил государыню, В день царских именин Спускал медведя дикого С своим, и Оболдуева Медведь тот ободрал…» Ну, поняли, любезные?» — Как не понять! С медведями Немало их шатается, Прохвостов, и теперь. «Вы всё свое, любезные! Молчать! уж лучше слушайте, К чему я речь веду: Тот Оболдуй, потешивший Зверями государыню, Был корень роду нашему, А было то, как сказано, С залишком двести лет. Прапрадед мой по матери Был и того древней: «Князь Щепин с Васькой Гусевым (Гласит другая грамота) Пытал поджечь Москву, Казну пограбить думали, Да их казнили смертию», А было то, любезные, Без мала триста лет. Так вот оно откудова То дерево дворянское Идет, друзья мои!» — А ты, примерно, яблочко С того выходишь дерева? — Сказали мужики. «Ну, яблочко так яблочко! Согласен! Благо поняли Вы дело наконец. Теперь — вы сами знаете — Чем дерево дворянское Древней, тем именитее, Почетней дворянин. Не так ли, благодетели?» — Так! — отвечали странники. — Кость белая, кость черная, И поглядеть, так разные, — Им разный и почет! «Ну, вижу, вижу: поняли! Так вот, друзья, — и жили мы, Как у Христа за пазухой, И знали мы почет. Не только люди русские, Сама природа русская Покорствовала нам. Бывало, ты в окружности Один, как солнце на небе, Твои деревни скромные, Твои леса дремучие, Твои поля кругом! Пойдешь ли деревенькою — Крестьяне в ноги валятся, Пойдешь лесными дачами — Столетними деревьями Преклонятся леса! Пойдешь ли пашней, нивою — Вся нива спелым колосом К ногам господским стелется, Ласкает слух и взор! Там рыба в речке плещется: «Жирей-жирей до времени!» Там заяц лугом крадется: «Гуляй-гуляй до осени!» Все веселило барина, Любовно травка каждая Шептала: «Я твоя!» Краса и гордость русская, Белели церкви божии По горкам, по холмам, И с ними в славе спорили Дворянские дома. Дома с оранжереями, С китайскими беседками И с английскими парками; На каждом флаг играл, Играл-манил приветливо, Гостеприимство русское И ласку обещал. Французу не привидится Во сне — какие праздники, Не день, не два — по месяцу Мы задавали тут. Свои индейки жирные, Свои наливки сочные, Свои актеры, музыка, Прислуги — целый полк! Пять поваров да пекаря, Двух кузнецов, обойщика, Семнадцать музыкантиков И двадцать два охотника Держал я… Боже мой!..» Помещик закручинился, Упал лицом в подушечку, Потом привстал, поправился. «Эй, Прошка!» — закричал. Лакей, по слову барскому, Принес кувшинчик с водкою. Гаврило Афанасьевич, Откушав, продолжал: «Бывало, в осень позднюю Леса твои, Русь-матушка, Одушевляли громкие Охотничьи рога. Унылые, поблекшие Леса полураздетые Жить начинали вновь, Стояли по опушечкам Борзовщики{192}-разбойники, Стоял помещик сам, А там, в лесу, выжлятники{193} Ревели, сорвиголовы, Варили-варом гончие. Чу! подзывает рог!.. Чу! стая воет! сгрудилась! Никак, по зверю красному Погнали?., улю-лю! Лисица черно-бурая, Пушистая, матерая Летит, хвостом метет! Присели, притаилися, Дрожа всем телом, рьяные, Догадливые псы: Пожалуй, гостья жданная! Поближе к нам, молодчикам, Подальше от кустов! Пора! Ну, ну! не выдай, конь! Не выдайте, собаченьки! Эй! улю-лю! родимые! Эй! — улю-лю!.. ату!..» Гаврило Афанасьевич, Вскочив с ковра персидского, Махал рукой, подпрыгивал, Кричал! Ему мерещилось, Что травит он лису… Крестьяне молча слушали, Глядели, любовалися, Посмеивались в ус… «Ой ты, охота псовая! Забудут всё помещики, Но ты, исконно русская Потеха! не забудешься Ни во веки веков! Не о себе печалимся, Нам жаль, что ты, Русь-матушка, С охотою утратила Свой рыцарский, воинственный, Величественный вид! Бывало, нас по осени До полусотни съедется В отъезжие поля; У каждого помещика Сто гончих в напуску, У каждого по дюжине Борзовщиков верхом, При каждом с кашеварами, С провизией обоз. Как с песнями да с музыкой Мы двинемся вперед, На что кавалерийская Дивизия твоя! Летело время соколом, Дышала грудь помещичья Свободно и легко. Во времена боярские, В порядки древнерусские Переносился дух! Ни в ком противоречия, Кого хочу — помилую, Кого хочу — казню. Закон — мое желание! Кулак — моя полиция! Удар искросыпительный, Удар зубодробительный, Удар скуловорррот!..» Вдруг, как струна порвалася, Осеклась речь помещичья. Потупился, нахмурился, «Эй, Прошка!» — закричал. Глонул — и мягким голосом Сказал: «Вы сами знаете, Нельзя же и без строгости? Но я карал — любя. Порвалась цепь великая — Теперь не бьем крестьянина, Зато уж и отечески Не милуем его. Да, был я строг по времени, Л впрочем, больше ласкою Я привлекал сердца. Я в воскресенье светлое Со всей своею вотчиной Христосовался сам! Бывало, накрывается В гостиной стол огромнейший, На нем и яйца красные, И пасха, и кулич! Моя супруга, бабушка, Сынишки, даже барышни Не брезгуют, целуются С последним мужиком. «Христос воскрес!» — «Воистину!» Крестьяне разговляются, Пьют брагу и вино… Пред каждым почитаемым, Двунадесятым праздником В моих парадных горницах Поп всенощну служил. И к той домашней всенощной Крестьяне допускалися, Молись — хоть лоб разбей! Страдало обоняние, Сбивали после с вотчины Баб отмывать полы! Да чистота духовная Тем самым сберегалася, Духовное родство! Не так ли, благодетели?» — Так! — отвечали странники, А про себя подумали: «Колом сбивал их, что ли, ты Молиться в барский дом?..» «Зато, скажу не хвастая, Любил меня мужик! В моей сурминской вотчине Крестьяне всё подрядчики, — Бывало, дома скучно им, Все на чужую сторону Отпросятся с весны… Ждешь — не дождешься осени, Жена, детишки малые И те гадают, ссорятся: «Какого им гостинчику Крестьяне принесут!» И точно: поверх барщины, Холста, яиц и живности, Всего, что на помещика Сбиралось искони, — Гостинцы добровольные Крестьяне нам несли! Из Киева — с вареньями, Из Астрахани — с рыбою, А тот, кто подостаточней, И с шелковой материей: Глядь, чмокнул руку барыне И сверток подает! Детям игрушки, лакомства, А мне, седому бражнику, Из Питера вина! Толк вызнали, разбойники, Небось не к Кривоногову, К французу забежит. Тут с ними разгуляешься, По-братски побеседуешь, Жена рукою собственной По чарке им нальет. А детки тут же малые Посасывают прянички Да слушают досужие Рассказы мужиков — Про трудные их промыслы, Про чужедальны стороны, Про Петербург, про Астрахань, Про Киев, про Казань… Так вот как, благодетели, Я жил с моею вотчиной, Не правда ль, хорошо?..» — Да, было вам, помещикам, Житье куда завидное, Не надо умирать! «И все прошло! все минуло!..» Чу! похоронный звон!.. Прислушалися странники, И точно: из Кузьминского По утреннему воздуху Те звуки, грудь щемящие, Неслись. «Покой крестьянину И царствие небесное!» — Проговорили странники И покрестились все… Гаврило Афанасьевич Снял шапочку — и набожно Перекрестился тож: «Звонят не по крестьянину! По жизни по помещичьей Звонят!.. Ой, жизнь широкая! Прости-прощай навек! Прощай и Русь помещичья! Теперь не та уж Русь! Эй, Прошка!» (выпил водочки И посвистал)… «Не весело Глядеть, как изменилося Лицо твое, несчастная Родная сторона! Сословье благородное Как будто все попряталось, Повымерло! Куда Ни едешь, попадаются Одни крестьяне пьяные, Акцизные чиновники, Поляки пересыльные Да глупые посредники{194}, Да иногда пройдет Команда. Догадаешься: Должно быть, взбунтовалося В избытке благодарности Селенье где-нибудь! А прежде что тут мчалося Колясок, бричек троечных, Дормезов шестерней! Катит семья помещичья — Тут маменьки солидные, Тут дочки миловидные И резвые сынки! Поющих колокольчиков, Воркующих бубенчиков Наслушаешься всласть. А нынче чем рассеешься? Картиной возмутительной Что шаг — ты поражен: Кладбищем вдруг повеяло, Ну, значит, приближаемся К усадьбе… Боже мой! Разобран по кирпичику Красивый дом помещичий, И аккуратно сложены В колонны кирпичи! Обширный сад помещичий, Столетьями взлелеянный, Под топором крестьянина Весь лег, — мужик любуется, Как много вышло дров! Черства душа крестьянина, Подумает ли он, Что дуб, сейчас им сваленный, Мой дед рукою собственной Когда-то насадил? Что вон под той рябиною Резвились наши детушки И Ганичка и Верочка Аукались со мной? Что тут, под этой липою, Жена моя призналась мне, Что тяжела она Гаврюшей, нашим первенцем, И спрятала на грудь мою, Как вишня, покрасневшее, Прелестное лицо?.. Ему была бы выгода — Радехонек помещичьи Усадьбы изводить! Деревней ехать совестно, Мужик сидит — не двинется, Не гордость благородную — Желчь чувствуешь в груди. В лесу не рог охотничий Звучит — топор разбойничий, Шалят!.. а что поделаешь? Кем лес убережешь?.. Поля — недоработаны, Посевы — недосеяны, Порядку нет следа! О матушка! о родина! Не о себе печалимся, Тебя, родная, жаль. Ты, как вдова печальная, Стоишь с косой распущенной, С неубранным лицом!.. Усадьбы переводятся, Взамен их распложаются Питейные дома!.. Поят народ распущенный, Зовут на службы земские, Сажают, учат грамоте, — Нужна ему она! На всей тебе, Русь-матушка, Как клейма на преступнике, Как на копе тавро, Два слова нацарапаны: «Навынос и распивочно». Чтоб их читать, крестьянина Мудреной русской грамоте Не стоит обучать!.. А нам земля осталася… Ой ты, земля помещичья! Ты нам не мать, а мачеха Теперь… «А кто велел? — Кричат писаки праздные. — Так вымогать, насиловать Кормилицу свою!» А я скажу: а кто же ждал? Ох! эти проповедники! Кричат: «Довольно барствовать! Проснись, помещик заспанный! Вставай! — учись! трудись!..» Трудись! Кому вы вздумали Читать такую проповедь? Я не крестьянин-лапотник — Я божиею милостью Российский дворянин! Россия — не неметчина, Нам чувства деликатные, Нам гордость внушена! Сословья благородные У нас труду не учатся. У нас чиновник плохонький И тот полов не выметет, Не станет печь топить… Скажу я вам, не хвастая, Живу почти безвыездно В деревне сорок лет, А от ржаного колоса Не отличу ячменного, А мне поют: «Трудись!» А если и действительно Свой долг мы ложно поняли И наше назначение Не в том, чтоб имя древнее, Достоинство дворянское Поддерживать охотою, Пирами, всякой роскошью И жить чужим трудом, Так надо было ранее Сказать… Чему учился я? Что видел я вокруг?.. Коптил я небо божие, Носил ливрею царскую, Сорил казну народную И думал век так жить… И вдруг… Владыко праведный!..» Помещик зарыдал…______
Крестьяне добродушные Чуть тоже не заплакали, Подумав про себя: «Порвалась цепь великая, Порвалась — расскочилася: Одним концом по барину, Другим по мужику!..»Крестьянка (Из третьей части)
555555555
Пролог
«Не всё между мужчинами Отыскивать счастливого, Пощупаем-ка баб!» — Решили наши странники И стали баб опрашивать. В селе Наготине Сказали, как отрезали: «У нас такой не водится, А есть в селе Клину: Корова холмогорская, Не баба! доброумнее И глаже — бабы нет. Спросите вы Корчагину, Матрену Тимофееву, Она же: губернаторша…» Подумали — пошли. Уж налились колосики. Стоят столбы точеные, Головки золоченые, Задумчиво и ласково Шумят. Пора чудесная! Нет веселей, наряднее, Богаче нет поры! «Ой, поле многохлебное! Теперь и не подумаешь, Как много люди божии Побились над тобой, Покамест ты оделося Тяжелым, ровным колосом И стало перед пахарем, Как войско пред царем! Не столько росы теплые, Как пот с лица крестьянского Увлажили тебя!..» Довольны наши странники, То рожью, то пшеницею, То ячменем идут. Пшеница их не радует: Ты тем перед крестьянином, Пшеница, провинилася, Что кормишь ты по выбору, Зато не налюбуются На рожь, что кормит всех. «Льны тоже нонче знатные… Ай! бедненькой! застрял!» Тут жаворонка малого, Застрявшего во льну, Роман распутал бережно, Поцеловал: «Лети!» И птичка ввысь помчалася, За нею умиленные Следили мужики… Поспел горох! Накинулись, Как саранча, на полосу: Горох, что девку красную, Кто ни пройдет — щипнет! Теперь горох у всякого, У старого, у малого, Рассыпался горох На семьдесят дорог! Вся овощь огородная Поспела: дети носятся Кто с репой, кто с морковкою, Подсолнечник лущат, А бабы свеклу дергают, Такая свекла добрая! Точь-в-точь сапожки красные. Лежит на полосе. Шли долго ли, коротко ли, Шли близко ли, далеко ли, Вот наконец и Клин. Селенье незавидное: Что ни изба — с подпоркою, Как нищий с костылем; А с крыш солома скормлена Скоту. Стоят, как остовы, Убогие дома. Ненастной, поздней осенью Так смотрят гнезда галочьи, Когда галчата вылетят И ветер придорожные Березы обнажит… Народ в полях — работает. Заметив за селением Усадьбу на пригорочке, Пошли пока — глядеть. Огромный дом, широкий двор, Пруд, ивами обсаженный, Посереди двора. Над домом башня высится, Балконом окруженная, Над башней шпиль торчит. В воротах с ними встретился Лакей, какой-то буркою Прикрытый: «Вам кого? Помещик за границею, А управитель при смерти!..» И спину показал. Крестьяне наши прыснули: По всей спине дворового Был нарисован лев. «Ну, штука!» Долго спорили, Что за наряд диковинный, Пока Пахом догадливый Загадки не решил: «Холуй хитер: стащит ковер, В ковре дыру проделает, В дыру просунет голову, Да и гуляет так!..» Как прусаки слоняются По нетоплёной горнице, Когда их вымораживать Надумает мужик, В усадьбе той слонялися Голодные дворовые, Покинутые барином На произвол судьбы. Всё старые, всё хворые И как в цыганском таборе Одеты. По пруду Тащили бредень пятеро. «Бог на помочь! Как ловится?..» — Всего один карась! А было их до пропасти, Да крепко навалились мы, Теперь — свищи в кулак! «Хоть бы пяточек вынули!» — Проговорила бледная, Беременная женщина, Усердно раздувавшая Костер на берегу. — Точеные-то столбики С балкону, что ли, умница? — Спросили мужики. «С балкону!» — То-то высохли! А ты не дуй! Сгорят они Скорее, чем карасиков Изловят на уху! «Жду — не дождусь. Измаялся На черством хлебе Митенька, Эх, горе — не житье!» И тут она погладила Полунагого мальчика (Сидел в тазу заржавленном Курносый мальчуган). — А что? ему, чай, холодно, — Сказал сурово Провушка, — В железном-то тазу? — И в руки взять ребеночка Хотел. Дитя заплакало, А мать кричит: «Не тронь его! Не видишь? Он катается! Ну, ну! пошел! Колясочка Ведь это у него!..» Что шаг, то натыкалися Крестьяне на диковину: Особая и странная Работа всюду шла. Один дворовый мучился У двери: ручки медные Отвинчивал; другой Нес изразцы какие-то. «Наковырял, Егорушка?» — Окликнули с пруда. В саду ребята яблоню Качали. «Мало, дяденька! Теперь они осталися Уж только наверху, А было их до пропасти!» — Да что в них проку? зелены! «Мы рады и таким!» Бродили долго по саду: «Затей-то! горы, пропасти! И пруд опять… Чай, лебеди Гуляли по пруду?.. Беседка… стойте! с надписью!..» Демьян, крестьянин грамотный, Читает по складам. «Эй, врешь!» — хохочут странники… Опять — и то же самое Читает им Демьян. (Насилу догадалися, Что надпись переправлена: Затерты две-три литеры, Из слова благородного Такая вышла дрянь!) Заметив любознательность Крестьян, дворовый седенький К ним с книгой подошел: «Купите!» Как ни тужился, Мудреного заглавия Не одолел Демьян: — Садись-ка ты помещиком Под липой на скамеечку, Да сам ее читай! «А тоже грамотеями Считаетесь! — с досадою Дворовый прошипел. — На что вам книги умные? Вам вывески питейные Да слово: воспрещается, Что на столбах встречается, Достаточно читать!» — Дорожки так загажены, Что срам! у девок каменных Отшибены носы! Пропали фрукты-ягоды, Пропали гуси-лебеди У холуя в зобу! Что церкви без священника, Угодам без крестьянина, То саду без помещика! — Решили мужики. — Помещик прочно строился, Такую даль загадывал, А вот… (Смеются шестеро, Седьмой повесил нос.) Вдруг с вышины откуда-то Как грянет песня! головы Задрали мужики: Вкруг башни по балкончику Похаживал в подряснике Какой-то человек И пел… В вечернем воздухе, Как колокол серебряный, Гудел громовый бас… Гудел — и прямо за сердце Хватал он наших странников: Нерусские слова, А горе в них такое же, Как в русской песне, слышалось, Без берегу, без дна. Такие звуки плавные, Рыдающие… «Умница, Какой мужчина там?» — Спросил Роман у женщины, Уже кормившей Митеньку Горяченькой ухой. — Певец Ново-Архангельской. Его из Малороссии Сманили господа. Свезти его в Италию Сулились, да уехали… А он бы рад-радехонек (Какая уж Италия?) Обратно в Конотоп. Ему здесь делать нечего… Собаки дом покинули (Озлилась круто женщина), Кому здесь дело есть?.. Да у него ни спереди, Ни сзади… кроме голосу… «Зато уж голосок!» — Не то еще услышите, Как до утра пробудете: Отсюда версты три Есть дьякон… тоже с голосом… Так вот они затеяли По-своему здороваться На утренней заре. На башню как подымется Да рявкнет наш: «Здо-ро-во ли Жи-вешь, о-тец И-пат?» — Так стекла затрещат! А тот ему оттуда-то: «Здо-ро-во, наш со-ло-ву-шко! Жду вод-ку пить!» — И-ду!.. — Иду-то это в воздухе Час целый откликается… Такие жеребцы!.. Домой скотина гонится: Дорога запылилася, Запахло молоком. Вздохнула мать Митюхина: Хоть бы одна коровушка На барский двор вошла! — Чу! песня за деревнею, Прощай, горюшка бедная! Идем встречать народ. Легко вздохнули странники: Им после дворни ноющей Красива показалася Здоровая, поющая Толпа жнецов и жниц, Все дело девки красили (Толпа без красных девушек Что рожь без васильков). — Путь добрый! А которая Матрена Тимофеевна? «Что нужно, молодцы?» Матрена Тимофеевна Осанистая женщина, Широкая и плотная, Лет тридцати осьми. Красива; волос с проседью, Глаза большие, строгие, Ресницы богатейшие, Сурова и смугла. На ней рубаха белая, Да сарафан коротенький, Да серп через плечо. «Что нужно вам, молодчики?» Помалчивали странники, Покамест бабы прочие Не поушли вперед, Потом поклон отвесили: — Мы люди чужестранные, У нас забота есть, Такая ли заботушка, Что из домов повыжила, С работой раздружила нас, Отбила от еды. Мы мужики степенные, Из временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из смежных деревень: Несытова, Неелова, Заплатова, Дырявина, Горелок, Голодухина, Неурожайка тож. Идя путем-дорогою, Сошлись мы невзначай. Сошлись мы — и заспорили: Кому живется счастливо, Вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал: попу, Купчине толстопузому, — Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал: светлейшему Вельможному боярину, Министру государеву, А Пров сказал: царю… Мужик, что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь! Как ни спорили, Не согласились мы! Поспоривши, повздорили, Повздоривши, подралися, Подравшися, удумали Не расходиться врозь, В домишки не ворочаться, Не видеться ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда спору нашему Решенья не найдем, Покуда не доведаем Как ни на есть — доподлинно: Кому жить любо-весело, Вольготно на Руси?.. Попа уж мы доведали, Доведали помещика, Да прямо мы к тебе! Чем нам искать чиновника, Купца, министра царского, Царя (еще допустит ли Нас, мужичонков, царь?), — Освободи нас, выручи! Молва идет всесветная, Что ты вольготно, счастливо Живешь… Скажи по-божески: В чем счастие твое? Не то чтоб удивилася Матрена Тимофеевна, А как-то закручинилась, Задумалась она… «Не дело вы затеяли! Теперь пора рабочая, Досуг ли толковать?..» — Полцарства мы промеряли, Никто нам не отказывал! — Просили мужики. «У нас уж колос сыпется, Рук не хватает, милые…» — А мы на что, кума? Давай серпы! Все семеро Как станем завтра, — к вечеру Всю рожь твою сожнем! Смекнула Тимофеевна, Что дело подходящее. «Согласна, — говорит. — Такие-то вы бравые, Нажнете, не заметите, Снопов по десяти». — А ты нам душу выложи! «Не скрою ничего!» Покуда Тимофеевна С хозяйством управлялася, Крестьяне место знатное Избрали за избой: Тут рига, конопляники, Два стога здоровенные, Богатый огород. И дуб тут рос — дубов краса. Под ним присели странники: «Эй, скатерть самобранная, Попотчуй мужиков». И скатерть развернулася, Откудова ни взялися Две дюжие руки, Ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка И спрятались опять… Гогочут братья Губины: Такую редьку схапали На огороде — страсть! Уж звезды рассажалися По небу темно-синему, Высоко месяц стал, Когда пришла хозяюшка И стала нашим странникам «Всю душу открывать»…Глава I До замужества
Мне счастье в девках выпало: У нас была хорошая, Непьющая семья. За батюшкой, за матушкой, Как у Христа за пазухой, Жила я, молодцы. Отец, поднявшись до свету, Будил дочурку ласкою, А брат веселой песенкой; Покамест одевается, Поет: «Вставай, сестра! По избам обряжаются, В часовенках спасаются — Пора вставать, пора! Пастух уж со скотиною Угнался; за малиною Ушли подружки в бор, В полях трудятся пахари, В лесу стучит топор!» Управится с горшочками, Все вымоет, все выскребет, Посадит хлебы в печь, — Идет родная матушка, Не будит — пуще кутает: «Спи, милая, касатушка, Спи, силу запасай! В чужой семье — не долог сон! Уложат спать позднехонько, Придут будить до солнышка, Лукошко припасут, На донце бросят корочку: Сгложи ее — да полное Лукошко набери!..» Да не в лесу родилася, Не пеиьям я молилася, Не много я спала. В день Симеона{195} батюшка Сажал меня на бурушку И вывел из младенчества[50] По пятому годку, А на седьмом за бурушкой Сама я в стадо бегала, Отцу носила завтракать, Утяточек пасла. Потом грибы да ягоды, Потом: «Бери-ка грабельки Да сено вороши!» Так к делу приобыкла я… И добрая работница, И петь-плясать охотница Я смолоду была. День в поле проработаешь, Грязна домой воротишься, А банька-то на что? Спасибо жаркой баенке, Березовому веничку, Студеному ключу, — Опять бела, свежехонька, За прялицей с подружками До полночи поешь! На парней я не вешалась, Наянов обрывала я{196}, А тихому шепну: «Я личиком разгарчива, А матушка догадлива, Не тронь! уйди!..» — уйдет… Да как я их ни бегала, А выискался суженый, На горе — чужанин! Филипп Корчагин — питерщик, По мастерству печник. Родительница плакала: «Как рыбка в море синее Юркнешь ты! как соловушко Из гнездышка порхнешь! Чужая-то сторонушка Не сахаром посыпана, Не медом полита! Там холодно, там голодно, Там холеную доченьку Обвеют ветры буйные, Обграют черны вороны{197}, Облают псы косматые, И люди засмеют!..» А батюшка со сватами Подвыпил. Закручинилась, Всю ночь я не спала… Ах! что ты, парень, в девице Нашел во мне хорошего? Где высмотрел меня? О святках ли, как с горок я С ребятами, с подругами Каталась, смеючись? Ошибся ты, отецкий сын! С игры, с катанья, с беганья, С морозу разгорелося У девушки лицо! На тихой ли беседушке? Я там была нарядная, Дородства и пригожества Понакопила за зиму, Цвела как маков цвет! А ты бы поглядел меня, Как лен треплю, как снопики На риге молочу… В дому ли во родительском?.. Ах! кабы знать! Послала бы Я в город братца-сокола: «Мил-братец! шелку, гарусу Купи — семи цветов, Да гарнитуру синего!{198}» Я по углам бы вышила Москву, царя с царицею, Да Киев, да Царьград, А посередке — солнышко, И эту занавесочку В окошке бы повесила, Авось ты загляделся бы, — Меня бы промигал!.. Всю ночку я продумала… «Оставь, — я парню молвила, — Я в подневолье с волюшки, Бог видит, не пойду!» — Такую даль мы ехали! Иди! — сказал Филиппушка. — Не стану обижать! Тужила, горько плакала, А дело девка делала: На суженого искоса Поглядывала втай. Пригож-румян, широк-могуч, Рус волосом, тих говором — Пал на сердце Филипп! — Ты стань-ка, добрый молодец, Против меня прямехонько, Стань на одной доске! Гляди мне в очи ясные, Гляди в лицо румяное, Подумывай, смекай: Чтоб жить со мной — не каяться, А мне с тобой не плакаться… Я вся тут такова! — Небось не буду каяться, Небось не будешь плакаться! Филиппушка сказал. Пока мы торговалися: Филиппу я: — Уйди ты прочь — А он: «Иди со мной!» Известно: «Ненаглядная, Хорошая… пригожая…» — Ай!.. — вдруг рванулась я… «Чего ты? Эка силища!» Не удержи — не видеть бы Вовек ему Матренушки, Да удержал Филипп! Пока мы торговалися, Должно быть, так я думаю, Тогда и было счастьице… А больше вряд когда! Я помню, ночка звездная, Такая же хорошая, Как и теперь, была… Вздохнула Тимофеевна, Ко стогу приклонилася, Унывным, тихим голосом Пропела про себя: Ты скажи, за что, Молодой купец, Полюбил меня, Дочь крестьянскую? Я не в серебре, Я не в золоте, Жемчугами я Не увешана! — Чисто серебро — Чистота твоя, Красно золото — Красота твоя, Бел-крупен жемчуг — Из очей твоих Слезы катятся… Велел родимый батюшка, Благословила матушка, Поставили родители К дубовому столу, С краями чары налили: «Бери поднос, гостей-чужан С поклоном обноси!» Впервой я поклонилася — Вздрогнули ноги резвые; Второй я поклонилася — Поблекло бело личико, Я в третий поклонилася, И волюшка[51] скатилася С девичьей головы…______
— Так, значит: свадьба? Следует, — Сказал один из Губиных, — Проздравить молодых. — Давай! Начин с хозяюшки. — Пьешь водку, Тимофеевна? — Старухе — да не пить?..Глава II Песни
У суда стоять Ломит ноженьки, Под венцом стоять Голова болит, Голова болит, Вспоминается Песня старая, Песня грозная. На широкий двор Гости въехали, Молоду жену Муж домой привез, А роденька-то Как набросится! Деверек ее — Расточихою, А золовушка — Щеголихою, Свекор-батюшка — Тот медведицей, А свекровушка — Людоедицей, Кто неряхою, Кто непряхою… Все, что в песенке Той певалося, Все со мной теперь То и сталося! Чай, певали вы? Чай, вы знаете?.. — Начинай, кума! Нам подхватывать…Матрена
Спится мне, младенькой, дремлется, Клонит голову на подушечку, Свекор-батюшка по сеничкам похаживает, Сердитый по новым погуливает.Странники
(хором)
Стучит, гремит, стучит, гремит, Снохе спать не дает: Встань, встань, встань, ты — сонливая! Встань, встань, встань, ты — дремливая! Сонливая, дремливая, неурядливая!Матрена
Спится мне, младенькой, дремлется, Клонит голову на подушечку, Свекровь-матушка по сеничкам похаживает, Сердитая по новым погуливает.Странники
(хором)
Стучит, гремит, стучит, гремит, Снохе спать не даст: Встань, встань, встань, ты — сонливая! Встань, встань, встань, ты — дремливая! Сопливая, дремливая, неурядливая!______
Семья была большущая, Сварливая… попала я С девичьей холи в ад! В работу муж отправился, Молчать, терпеть советовал: Не плюй на раскаленное Железо — зашипит! Осталась я с золовками, Со свекром, со свекровушкой, Любить-голубить некому, А есть кому журить! На старшую золовушку, На Марфу богомольную, Работай, как раба; За свекором приглядывай, Сплошаешь — у кабатчика Пропажу выкупай. И встань и сядь с приметою, Не то свекровь обидится; А где их все-то знать? Приметы есть хорошие, А есть и бедокурные. Случилось так: свекровь Надула в уши свекору, Что рожь добрее родится Из краденых семян. Поехал ночью Тихоныч, Поймали, — полумертвого Подкинули в сарай… Как велено, так сделано: Ходила с гневом на сердце, А лишнего не молвила Словечка никому. Зимой пришел Филиппушка, Привез платочек шелковой, Да прокатил на саночках В Екатеринин день[52], И горя словно не было! Запела, как певала я В родительском дому. Мы были однолеточки, Не трогай нас — нам весело, Всегда у нас лады. То правда, что и мужа-то Такого, как Филиппушка, Со свечкой поискать… — Уж будто не колачивал? Замялась Тимофеевна. — Раз только, — тихим голосом Промолвила она. — За что? — спросили странники. — Уж будто вы не знаете, Как ссоры деревенские Выходят? К муженьку Сестра гостить приехала, У ней коты разбилися. — Дай башмаки Оленушке, Жена! — сказал Филипп. А я не вдруг ответила. Корчагу подымала я, Такая тяга: вымолвить Я слова не могла. Филипп Ильич прогневался, Пождал, пока поставила Корчагу на шесток, Да хлоп меня в висок! — Ну, благо ты приехала, И так походишь! — молвила Другая, незамужняя Филиппова сестра. Филипп подбавил женушке. — Давненько не видались мы, А знать бы — так не ехать бы! — Сказала тут свекровь. Еще подбавил Филюшка… И всё тут! Не годилось бы Жене побои мужнины Считать; да уж сказала я: Не скрою ничего! — Ну, женщины! с такими-то Змеями подколодными И мертвый плеть возьмет! Хозяйка не ответила. Крестьяне, ради случаю, По новой чарке выпили И хором песню грянули Про шелковую плеточку, Про мужнину родню.* * *
Мой постылый муж Подымается: За шелкову плеть Принимается.Хор
Плетка свистнула, Кровь пробрызнула… Ах! лели! лели! Кровь пробрызнула…* * *
Свекру-батюшке Поклонилася: Свекор-батюшка, Отними меня От лиха-мужа, Змея лютого! Свекор-батюшка Велит больше бить, Велит кровь пролить…Хор
Плетка свистнула, Кровь пробрызнула… Ах! лели! лели! Кровь пробрызнула…* * *
Свекровь-матушке Поклонилася: Свекровь-матушка, Отними меня От лиха-мужа, Змея лютого! Свекровь-матушка Велит больше бить, Велит кровь пролить…Хор
Плетка свистнула, Кровь пробрызнула… Ах! лели! лели! Кровь пробрызнула.______
Филипп на благовещенье Ушел, а на казанскую Я сына родила. Как писаный был Дёмушка! Краса взята у солнышка, У снегу белизна, У маку губы алые, Бровь черная у соболя, У соболя сибирского, У сокола глаза! Весь гнев с души красавец мой Согнал улыбкой ангельской, Как солнышко весеннее Сгоняет снег с полей… Не стала я тревожиться, Что ни велят — работаю, Как ни бранят — молчу. Да тут беда подсунулась: Абрам Гордеич Ситников, Господский управляющий, Стал крепко докучать: — Ты писаная кралечка, Ты наливная ягодка… «Отстань, бесстыдник! ягодка, Да бору не того!» Укланяла золовушку, Сама нейду на барщину, Так в избу прикатит! В сарае, в риге спрячуся, — Свекровь оттуда вытащит: «Эй, не шути с огнем!» — Гони его, родимая, По шее! — «А не хочешь ты Солдаткой быть?» Я к дедушке: — Что делать? Научи! Из всей семейки мужниной Один Савелий, дедушка, Родитель свекра-батюшки, Жалел меня… Рассказывать Про деда, молодцы? — Вали всю подноготную! Накинем по два снопика, — Сказали мужики. — Ну, то-то! речь особая. Грех промолчать про дедушку, Счастливец тоже был…Глава III Савелий, богатырь святорусский
С большущей сивой гривою, Чай, двадцать лет не стриженной, С большущей бородой, Дед на медведя смахивал, Особенно как из лесу, Согнувшись, выходил. Дугой спина у дедушки. Сначала все боялась я, Как в низенькую горенку Входил он: ну, распрямится? Пробьет дыру медведище В светелке головой! Да распрямиться дедушка Не мог: ему уж стукнуло, По сказкам, сто годов. Дед жил в особой горнице, Семейки недолюбливал, В свой угол не пускал; А та сердилась, лаялась, Его «клейменым, каторжным» Честил родной сынок. Савелий не рассердится. Уйдет в свою светелочку, Читает святцы, крестится Да вдруг и скажет весело: «Клейменый, да не раб!..» А крепко досадят ему, Подшутит: «Поглядите-тко, К нам сваты!» Незамужняя Золовушка — к окну: Ан вместо сватов — нищие! Из оловянной пуговки Дед вылепил двугривенный, Подбросил на полу — Попался свекор-батюшка! Не пьяный из питейного — Побитый приплелся! Сидят, молчат за ужином: У свекра бровь рассечена, У деда, словно радуга, Усмешка на лице. С весны до поздней осени Дед брал грибы да ягоды, Силочки становил На глухарей, на рябчиков. А зиму разговаривал На печке сам с собой. Имел слова любимые И выпускал их дедушка По слову через час. ……………. «Погибшие… пропащие…» ……………. «Эх вы, Аники-воины! Со стариками, с бабами Вам только воевать!» ……………. «Недотерпеть — пропасть, Перетерпеть — пропасть!..» …………….. «Эх, доля святорусского Богатыря сермяжного! Всю жизнь его дерут, Раздумается временем О смерти — муки адские В ту-светной жизни ждут». ……………. «Надумалась Корёжина, Наддай! наддай! наддай!..» ……………. И много! да забыла я… Как свекор развоюется, Бежала я к нему. Запремся. Я работаю, А Дёма, словно яблочко В вершине старой яблони, У деда на плече Сидит румяный, свеженький… Вот раз и говорю: — За что тебя, Савельюшка, Зовут клейменым, каторжным? — Я каторжником был. — Ты, дедушка? — Я, внученька! Я в землю немца Фогеля Христьяна Христианыча Живого закопал… — И полно! шутишь, дедушка! — Нет, не шучу. Послушай-ка! И все мне рассказал. «Во времена досюльные Мы были тоже барские, Да только ни помещиков, Ни немцев-управителей Не знали мы тогда. Не правили мы барщины, Оброков не платили мы, А так, когда рассудится, В три года раз пошлем». — Да как же так, Савельюшка? «А были благодатные Такие времена. Недаром есть пословица, Что нашей-то сторонушки Три года черт искал, Кругом леса дремучие, Кругом болота топкие, Ни конному проехать к нам, Ни пешему пройти! Помещик наш Шалашников Через тропы звериные С полком своим — военный был К нам доступиться пробовал, Да лыжи повернул! К нам земская полиция Не попадала по году, Вот были времена! А нынче — барин под боком, Дорога скатерть скатертью… Тьфу, прах ее возьми!.. Нас только и тревожили Медведи… да с медведями Справлялись мы легко. С ножищем да с рогатиной Я сам страшней сохатого{199}, По заповедным тропочкам Иду: «Мой лес!» — кричу. Раз только испугался я, Как наступил на сонную Медведицу в лесу. И то бежать не бросился, А так всадил рогатину, Что словно как на вертеле Цыпленок — завертелася, И часу не жила! Спина в то время хрустнула, Побаливала изредка, Покуда молод был, А к старости согнулася. Не правда ли, Матренушка, На очеп[53] я похож?» — Ты начал, так досказывай! Ну, жили — не тужили вы, Что ж дальше, голова? «По времени Шалашников Удумал штуку новую, Приходит к нам приказ: «Явиться!» Не явились мы, Притихли, не шелохнемся В болотине своей. Была засуха сильная, Наехала полиция, Мы дань ей — медом, рыбою! Наехала опять, Грозит с конвоем выправить, Мы — шкурами звериными! А в третий — мы ничем! Обули лапти старые, Надели шапки рваные, Худые армяки — И тронулась Корёжииа!.. Пришли… (В губернском городе Стоял с полком Шалашников.) «Оброк!» — Оброку нет! — Хлеба не уродилися, Снеточки не ловилися… «Оброк!» — Оброку нет! — Не стал и разговаривать: «Эй, перемена первая!» — И начал нас пороть. Туга мошна корёжская! Да стоек и Шалашников: Уж языки мешалися, Мозги уж потрясалися В головушках — дерет! Укрепа богатырская, Не розги!.. Делать нечего! Кричим: постой, дай срок! Онучи распороли мы И барину лобанчиков[54] Полшапки поднесли. Утих боец Шалашников! Такого-то горчайшего Поднес нам травнику, Сам выпил с нами, чокнулся С Корёгой покоренною: «Ну, благо вы сдались! А то — вот бог! — решился я Содрать с вас шкуру начисто… На барабан напялил бы И подарил полку! Xa-xa! xa-xa! xa-xa! ха-ха!» (Хохочет — рад придумочке): «Вот был бы барабан!» Идем домой понурые… Два старика кряжистые Смеются… Ай, кряжи! Бумажки сторублевые Домой под подоплекою Нетронуты несут! Как уперлись: мы нищие, Так тем и отбоярились! Подумал я тогда: Ну, ладно ж! черти сивые, Вперед не доведется вам Смеяться надо мной! И прочим стало совестно, На церковь побожилися: «Вперед не посрамимся мы, Под розгами умрем!» Понравились помещику Корёжские лобанчики, Что год — зовет… дерет… Отменно драл Шалашников, А не ахти великие Доходы получал: Сдавались люди слабые, А сильные за вотчину Стояли хорошо. Я тоже перетерпливал: Помалчивал, подумывал: «Как ни дери, собачий сын, А всей души не вышибешь, Оставишь что-нибудь!» Как примет дань Шалашников, Уйдем — и за заставою Поделим барыши: «Что денег-то осталося! Дурак же ты, Шалашников!» И тешилась над барином Корёга в свой черед! Вот были люди гордые! А нынче дай затрещину — Исправнику, помещику Тащат последний грош! Зато купцами жили мы… Подходит лето красное, Ждем грамоты… Пришла… А в ней уведомление, Что господин Шалашников Под Варною убит{200}. Жалеть не пожалели мы, А пала дума на сердце: «Приходит благоденствию Крестьянскому конец!» И точно: небывалое Наследник средство выдумал: К нам немца подослал. Через леса дремучие, Через болота топкие Пешком пришел, шельмец! Один как перст: фуражечка Да тросточка, а в тросточке Для уженья снаряд. И был сначала тихонькой: «Платите сколько можете». — Не можем ничего! «Я барина уведомлю». — Уведомь!.. — Тем и кончилось. Стал жить да поживать; Питался больше рыбою, Сидит на речке с удочкой Да сам себя то по носу, То по лбу — бац да бац! Смеялись мы: «Не любишь ты Корёжского комарика… Не любишь, немчура?..» Катается по бережку, Гогочет диким голосом, Как в бане на полке… С ребятами, с девочками Сдружился, бродит по лесу… Недаром он бродил! «Коли платить не можете, Работайте!» — А в чем твоя Работа? — «Окопать Канавами желательно Болото…» Окопали мы… «Теперь рубите лес…» — Ну, хорошо! — Рубили мы, А немчура показывал, Где надобно рубить. Глядим: выходит просека! Как просеку прочистили, К болоту поперечины Велел по ней возить. Ну, словом: спохватились мы, Как уж дорогу сделали, Что немец нас поймал! Поехал в город парочкой! Глядим, везет из города Коробки, тюфяки, Откудова ни взялися У немца босоногого Детишки и жена. Повел хлеб-соль с исправником И с прочей земской властию, Гостишек полон двор! И тут настала каторга Корёжскому крестьянину — До нитки разорил! А драл… как сам Шалашников! Да тот был прост: накинется Со всей воинской силою, Подумаешь: убьет! А деньги сунь, отвалится, Ни дать ни взять раздувшийся В собачьем ухе клещ. У немца — хватка мертвая: Пока не пустит по миру, Не отойдя, сосет!» — Как вы терпели, дедушка? «А потому терпели мы, Что мы — богатыри. В том богатырство русское. Ты думаешь, Матренушка, Мужик — не богатырь? И жизнь его не ратная, И смерть ему не писана В бою — а богатырь! Цепями руки кручены, Железом ноги кованы, Спина… леса дремучие Прошли по ней — сломалися. А грудь? Илья-пророк По ней гремит-катается На колеснице огненной… Все терпит богатырь! И гнется, да не ломится, Не ломится, не валится… Ужли не богатырь?» — Ты шутишь шутки, дедушка! — Сказала я. — Такого-то Богатыря могучего, Чай, мыши заедят! «Не знаю я, Матренушка. Покамест тягу страшную Поднять-то поднял он, Да в землю сам ушел по грудь С натуги! По лицу его Не слезы — кровь течет! Не знаю, не придумаю, Что будет? Богу ведомо! А про себя скажу: Как выли вьюги зимние, Как ныли кости старые, Лежал я на печи; Полеживал, подумывал: Куда ты, сила, делася? На что ты пригодилася? Под розгами, под палками По мелочам ушла!» — А что же немец, дедушка? «А немец, как ни властвовал, Да наши топоры Лежали — до поры! Осьмнадцать лет терпели мы. Застроил немец фабрику, Велел колодец рыть. Вдевятером копали мы, До полдня проработали, Позавтракать хотим. Приходит немец: «Только-то?..» — И начал нас по-своему, Не торопясь, пилить. Стояли мы голодные, А немец нас поругивал Да в яму землю мокрую Пошвыривал ногой. Была уж яма добрая… Случилось, я легонечко Толкнул его плечом, Потом другой толкнул его, И третий… Мы посгрудились… До ямы два шага… Мы слова не промолвили, Друг другу не глядели мы В глаза… а всей гурьбой Христьяна Христианыча Поталкивали бережпо Всё к яме… всё на край… И немец в яму бухнулся, Кричит: веревку! лестницу! Мы девятью лопатами Ответили ему. «Наддай!» — я слово выронил. Под слово люди русские Работают дружней. «Наддай! наддай!» Так наддали, Что ямы словно не было — Сровнялася с землей! Тут мы переглянулися…» Остановился дедушка. — Что ж дальше? «Дальше: дрянь! Кабак… острог в Буй-городе, Там я учился грамоте, Пока решили нас. Решенье вышло: каторга И плети предварительно; Не выдрали — помазали, Плохое там дранье! Потом… бежал я с каторги… Поймали! не погладили И тут по голове. Заводские начальники По всей Сибири славятся — Собаку съели драть. Да нас дирал Шалашников Больней — я не поморщился С заводского дранья. Тот мастер был — умел пороть! Он так мне шкуру выделал, Что носится сто лет. А жизнь была нелегкая. Лет двадцать строгой каторги, Лет двадцать поселения. Я денег прикопил, По манифесту царскому Попал опять на родину, Пристроил эту горенку, И здесь давно живу. Покуда были денежки, Любили деда, холили, Теперь в глаза плюют! Эх! вы, Аники-воины! Со стариками, с бабами Вам только воевать…» Тут кончил речь Савельюшка… — Ну, что ж? — сказали странники. — Досказывай, хозяюшка, Свое житье-бытье! — Невесело досказывать. Одной беды бог миловал: Холерой умер Ситников, — Другая подошла. «Наддай!» — сказали странники (Им слово полюбилося) И выпили винца…Глава IV Дёмушка
Зажгло грозою дерево, А было соловьиное На дереве гнездо. Горит и стонет дерево, Горят и стонут птенчики: «Ой, матушка! где ты? А ты бы нас похолила, Пока не оперились мы: Как крылья отрастим, В долины, в рощи тихие Мы сами улетим!» Дотла сгорело дерево, Дотла сгорели птенчики, Тут прилетела мать. Ни дерева… ни гнездышка… Ни птенчиков!.. Поет-зовет… Поет, рыдает, кружится, Так быстро, быстро кружится, Что крылышки свистят!.. Настала ночь, весь мир затих, Одна рыдала пташечка, Да мертвых не докликалась До белого утра!.. Носила я Демидушку По поженкам{201}… лелеяла… Да взъелася свекровь, Как зыкнула, как рыкнула: «Оставь его у дедушки, Немного с ним нажнешь!» Запугана, заругана, Перечить не посмела я, Оставила дитя. Такая рожь богатая В тот год у нас родилася, Мы землю не ленясь Удобрили, ухолили, — Трудненько было пахарю, Да весело жнее! Снопами нагружала я Телегу со стропилами И пела, молодцы. (Телега нагружается Всегда с веселой песнею, А сани с горькой думою: Телега хлеб домой везет, А сани — на базар!) Вдруг стоны я услышала: Ползком ползет Савелий-дед, Бледнешенек как смерть: «Прости, прости, Матренушка! И повалился в ноженьки. — Мой грех — недоглядел!..» Ой, ласточка! ой, глупая! Не вей гнезда под берегом, Под берегом крутым! Что день — то прибавляется Вода в реке: зальет она Детенышей твоих. Ой, бедная молодушка! Сноха в дому последняя, Последняя раба! Стерпи грозу великую, Прими побои лишние, А с глазу неразумного Младенца не спускай!.. Заснул старик на солнышке Скормил свиньям Демидушку Придурковатый дед!.. Я клубышком каталася, Я червышком свивалася, Звала, будила Дёмушку — Да поздно было звать!.. Чу! конь стучит копытами, Чу, сбруя золоченая Звенит… еще беда! Ребята испугалися, По избам разбежалися, У окон заметалися Старухи, старики. Бежит деревней староста, Стучит в окошки палочкой, Бежит в поля, в луга. Собрал народ: идут — кряхтят! Беда! Господь прогневался, Наслал гостей непрошеных, Неправедных судей! Знать, деньги издержалися, Сапожки притопталися, Знать, голод разобрал!.. Молитвы Иисусовой Не сотворив, уселися У земского стола, Налой и крест поставили, Привел наш поп, отец Иван, К присяге понятых. Допрашивали дедушку, Потом за мной десятника Прислали. Становой По горнице похаживал, Как зверь в лесу порыкивал… «Эй! женка! состояла ты С крестьянином Савелием В сожительстве? Винись!» Я шепотком ответила: «Обидно, барин, шутите! Жена я мужу честная, А старику Савелию Сто лет… Чай, знаешь сам?» Как в стойле конь подкованный Затопал; о кленовый стол Ударил кулаком: «Молчать! Не по согласью ли С крестьянином Савелием Убила ты дитя?..» Владычица! что вздумали! Чуть мироеда этого Не назвала я нехристем, Вся закипела я… Да лекаря увидела: Ножи, ланцеты, ножницы Натачивал он тут. Вздрогнула я, одумалась. — Нет, — говорю, — я Дёмушку Любила, берегла… «А зельем не поила ты? А мышьяку не сыпала?» — Нет! сохрани господь!.. — И тут я покорилася, Я в ноги поклонилася: «Будь жалостлив, будь добр! Вели без поругания Честному погребению Ребеночка предать! Я мать ему!..» Упросишь ли? В груди у них нет душеньки, В глазах у них нет совести, На шее — нет креста! Из тонкой из пеленочки Повыкатали Дёмушку И стали тело белое Терзать и пластовать. Тут свету я невзвидела, — Металась и кричала я: «Злодеи! палачи!.. Падите мои слезоньки Не на землю, не на воду, Не на господень храм! Падите прямо на сердце Злодею моему! Ты дай же, боже-господи! Чтоб тлен пришел на платьице, Безумье на головушку Злодея моего! Жену ему неумную Пошли, детей — юродивых! Прими, услыши, господи, Молитвы, слезы матери, Злодея накажи!..»[55] — Никак, она помешана? — Сказал начальник сотскому. — Что ж ты не упредил? Эй, не дури! связать велю!.. Присела я на лавочку. Ослабла, вся дрожу. Дрожу, гляжу на лекаря: Рукавчики засучены, Грудь фартуком завешана, В одной руке — широкий нож, В другой ручник — и кровь на нем, А на носу очки! Так тихо стало в горнице… Начальничек помалчивал, Поскрипывал пером, Поп трубочкой попыхивал, Не шелохнувшись хмурые Стояли мужики. «Ножом в сердцах читаете», — Сказал священник лекарю, Когда злодей у Дёмушки Сердечко распластал. Тут я опять рванулася… «Ну, так и есть — помешана! Связать ее!» — десятнику Начальник закричал. Стал понятых опрашивать: «В крестьянке Тимофеевой И прежде помешательство Вы примечали?» — Нет! Спросили свекра, деверя, Свекровушку, золовушку: — Не примечали, нет! Спросили деда старого: — Не примечал! ровна была… Одно: к начальству кликнули, Пошла… а ни целковика, Ни новины, пропащая, С собой и не взяла! Заплакал навзрыд дедушка. Начальничек нахмурился, Ни слова не сказал. И тут я спохватилася! Прогневался бог: разуму Лишил! была готовая В коробке новина! Да поздно было каяться. В моих глазах по косточкам Изрезал лекарь Дёмушку, Циновочкой прикрыл. Я словно деревянная Вдруг стала: загляделась я, Как лекарь руки мыл, Как водку пил. Священнику Сказал: прошу покорнейше! А поп ему: «Что просите? Без прутика, без кнутика Все ходим, люди грешные, На этот водопой!» Крестьяне настоялися, Крестьяне надрожалися. (Откуда только бралися У коршуна налетного Корыстные дела!) Без церкви намолилися, Без образа накланялись! Как вихорь налетал — Рвал бороды начальничек, Как лютый зверь наскакивал — Ломал перстни злаченые… Потом он кушать стал. Пил-ел, с попом беседовал, Я слышала, как шепотом Поп плакался ему: «У нас народ — всё голь да пьянь. За свадебку, за исповедь Должают по годам. Несут гроши последние В кабак! А благочинному Одни грехи тащат!» Потом я песни слышала, Всё голоса знакомые, Девичьи голоса: Наташа, Глаша, Дарьюшка… Чу, пляска! чу! гармония!.. И вдруг затихло все… Заснула, видно, что ли, я?.. Легко вдруг стало: чудилось, Что кто-то наклоняется И шепчет надо мной: «Усни, многокручинная! Усни, многострадальная!» — И крестит… С рук скатилися Веревки… Я не помнила Потом уж ничего… Очнулась я. Темно кругом, Гляжу в окно — глухая ночь! Да где же я? да что со мной? Не помню, хоть убей! Я выбралась на улицу — Пуста. На небо глянула — Ни месяца, ни звезд. Сплошная туча черная Висела над деревнею, Темны дома крестьянские, Одна пристройка дедова Сияла, как чертог. Вошла — и всё я вспомнила: Свечами воску ярого Обставлен, среди горенки Дубовый стол стоял, На нем гробочек крохотный, Прикрыт камчатной скатертью, Икона в головах… «Ой, плотнички-работнички! Какой вы дом построили Сыночку моему? Окошки не прорублены, Стеколышки не вставлены, Ни печи, ни скамьи! Пуховой нет перинушки… Ой, жестко будет Дёмушке, Ой, страшно будет спать!..» «Уйди!..» — вдруг закричала я, Увидела я дедушку: В очках, с раскрытой книгою Стоял он перед гробиком, Над Дёмою читал. Я старика столетнего Звала клейменым, каторжным. Гневна, грозна, кричала я: «Уйди! убил ты Дёмушку! Будь проклят ты… уйди!..» Старик ни с места. Крестится, Читает… Уходилась я. Тут дедко подошел: «Зимой тебе, Матренушка, Я жизнь мою рассказывал, Да рассказал не все: Леса у нас угрюмые, Озера нелюдимые, Народ у нас дикарь. Суровы наши промыслы: Дави тетерю петлею, Медведя режь рогатиной, Сплошаешь — сам пропал! А господин Шалашников С своей воинской силою? А немец-душегуб? Потом острог да каторга… Окаменел я, внученька, Лютее зверя был. Сто лет зима бессменная Стояла. Растопил ее Твой Дёма-богатырь! Однажды я качал его, Вдруг улыбнулся Дёмушка… И я ему в ответ! Со мною чудо сталося: Третьеводни прицелился Я в белку: на суку Качалась белка… лапочкой, Как кошка, умывалася… Не выпалил: живи! Брожу по рощам, по лугу, Любуюсь каждым цветиком. Иду домой, опять Смеюсь, играю с Дёмушкой… Бог видит, как я милого Младенца полюбил! И я же, по грехам моим, Сгубил дитя невинное… Кори, казни меня! А с богом спорить нечего. Стань! помолись за Дёмушку! Бог знает, что творит: Сладка ли жизнь крестьянина?» И долго, долго дедушка О горькой доле пахаря С тоскою говорил… Случись купцы московские, Вельможи государевы, Сам царь случись: не надо бы Ладнее говорить! «Теперь в раю твой Дёмушка, Легко ему, светло ему…» Заплакал старый дед. — Я не ропщу, — сказала я, — Что бог прибрал младенчика, А больно то, зачем они Ругалися над ним? Зачем, как черны вороны, На части тело белое Терзали?.. Неужли Ни бог, ни царь не вступится?.. «Высоко бог, далеко царь…» — Нужды нет: я дойду! «Ах! что ты? что ты, внученька?.. Терпи, многокручинная! Терпи, многострадальная! Нам правды не найти». — Да почему же, дедушка? «Ты — крепостная женщина!» — Савельюшка сказал. Я долго, горько думала… Гром грянул, окна дрогнули, И я вздрогнула… К гробику Подвел меня старик: «Молись, чтоб к лику ангелов Господь причислил Дёмушку!» И дал мне в руки дедушка Горящую свечу. Всю ночь до свету белого Молилась я, а дедушка Протяжным, ровным голосом Над Дёмою читал…Глава V Волчица
Уж двадцать лет, как Дёмушка Дерновым одеялечком Прикрыт, — все жаль сердечного! Молюсь о нем, в рот яблока До Спаса{202} не беру[56]. Не скоро я оправилась. Ни с кем не говорила я, А старика Савелия Я видеть не могла. Работать не работала. Надумал свекор-батюшка Вожжами поучить, Так я ему ответила: «Убей!» Я в ноги кланялась: «Убей! один конец!» Повесил вожжи батюшка. На Дёминой могилочке Я день и ночь жила. Платочком обметала я Могилу, чтобы травушкой Скорее поросла, Молилась за покойничка, Тужила по родителям: Забыли дочь свою! Собак моих боитеся? Семьи моей стыдитеся? — Ах, нет, родная, нет! Собак твоих не боязно, Семьи твоей не совестно, А ехать сорок верст Свои беды рассказывать, Твои беды выспрашивать Жаль бурушку гонять! Давно бы мы приехали, Да ту мы думу думали: Приедем — ты расплачешься, Уедем — заревешь! Пришла зима: кручиною Я с мужем поделилася, В Савельевой пристроечке Тужили мы вдвоем. — Что ж, умер, что ли, дедушка — Нет. Он в своей каморочке Шесть дней лежал безвыходно, Потом ушел в леса, Так пел, так плакал дедушка, Что лес стонал! А осенью Ушел на покаяние В Песочный монастырь. У батюшки, у матушки С Филиппом побывала я, За дело принялась. Три года, так считаю я, Неделя за неделею, Одним порядком шли, Что год, то дети: некогда Ни думать, ни печалиться, Дай бог с работой справиться Да лоб перекрестить. Поешь — когда останется От старших да от деточек, Уснешь — когда больна… А на четвертый новое Подкралось горе лютое — К кому оно привяжется, До смерти не избыть! Впереди летит — ясным соколом, Позади летит — черным вороном, Впереди летит — не укатится, Позади летит — не останется… Лишилась я родителей… Слыхали ночи темные, Слыхали ветры буйные Сиротскую печаль, А вам нет нужды сказывать… На Дёмину могилочку Поплакать я пошла. Гляжу: могилка прибрана, На деревянном крестике Складная, золоченая Икона. Перед ней Я старца распростертого Увидела. — Савельюшка! Откуда ты взялся? «Пришел я из Песочного… Молюсь за Дёму бедного, За всё страдное русское Крестьянство я молюсь! Еще молюсь (не образу Теперь Савелий кланялся), Чтоб сердце гневной матери Смягчил господь… Прости!» — Давно простила, дедушка! Вздохнул Савелий… «Внученька! А внученька!» — Что, дедушка? «По-прежнему взгляни!» Взглянула я по-прежнему. Савельюшка засматривал Мне в очи; спину старую Пытался разогнуть. Совсем стал белый дедушка. Я обняла старинушку, И долго у креста Сидели мы и плакали. Я деду горе новое Поведала свое… Недолго прожил дедушка. По осени у старого Какая-то глубокая На шее рана сделалась, Он трудно умирал: Сто дней не ел; хирел да сох, Сам над собой подтрунивал: «Не правда ли, Матренушка, На комара корёжского, Костлявый, я похож?» То добрый был, сговорчивый, То злился, привередничал, Пугал нас: «Не паши, Не сей, крестьянин! Сгорбившись За пряжей, за полотнами, Крестьянка, не сиди! Как вы ни бейтесь, глупые, Что на роду написано, Того не миновать! Мужчинам три дороженьки: Кабак, острог да каторга, А бабам на Руси Три петли: шелку белого, Вторая — шелку красного, А третья — шелку черного, Любую выбирай!.. В любую полезай…» Так засмеялся дедушка, Что все в каморке вздрогнули, — И к ночи умер он. Как приказал — исполнили: Зарыли рядом с Дёмою… Он жил сто семь годов.______
Четыре года тихие, Как близнецы похожие, Прошли потом… Всему Я покорилась: первая С постели Тимофеевна, Последняя — в постель; За всех, про всех работаю, С свекрови, с свекра пьяного, С золовушки бракованной[57] Снимаю сапоги… Лишь деточек не трогайте! За них горой стояла я… Случилось, молодцы, Зашла к нам богомолочка; Сладкоречивой странницы Заслушивались мы; Спасаться, жить по-божески Учила нас угодница, По праздникам к заутрени Будила… а потом Потребовала странница, Чтоб грудью не кормили мы Детей по постным дням. Село переполошилось! Голодные младенчики По середам, по пятницам Кричат! Иная мать Сама над сыном плачущим Слезами заливается: И бога-то ей боязно, И дитятка-то жаль! Я только не послушалась, Судила я по-своему: Коли терпеть, так матери, Я перед богом грешница, А не дитя мое! Да, видно, бог прогневался. Как восемь лет исполнилось Сыночку моему, В подпаски свекор сдал его. Однажды жду Федотушку — Скотина уж пригналася — На улицу иду. Там видимо-невидимо Народу! Я прислушалась И бросилась в толпу. Гляжу, Федота бледного Силантий держит за ухо. — Что держишь ты его? «Посечь хотим маненичко: Овечками прикармливать Надумал он волков!» Я вырвала Федотушку, Да с ног Силантья-старосту И сбила невзначай. Случилось дело дивное: Пастух ушел; Федотушка При стаде был один. «Сижу я, — так рассказывал Сынок мой, — на пригорочке, Откуда ни возьмись Волчица преогромная И хвать овечку Марьину! Пустился я за ней, Кричу, кнутищем хлопаю, Свищу Валетку, уськаю… Я бегать молодец, Да где бы окаянную Нагнать, кабы не щённая: У ней сосцы волочились, Кровавым следом, матушка, За нею я гнался! Пошла потише серая, Идет, идет — оглянется, А я как припущу! И села… Я кнутом ее: «Отдай овцу, проклятая!» Не отдает, сидит… Я не сробел: «Так вырву же, Хоть умереть!..» И бросился, И вырвал… Ничего — Не укусила серая! Сама едва живехонька, Зубами только щелкает Да дышит тяжело. Под ней река кровавая, Сосцы травой изрезаны, Все ребра на счету, Глядит, поднявши голову, Мне в очи… и завыла вдруг! Завыла, как заплакала. Пощупал я овцу: Овца была уж мертвая… Волчица так ли жалобно Глядела, выла… Матушка! Я бросил ей овцу!..» Так вот что с парнем сталося. Пришел в село, да, глупенький, Все сам и рассказал, За то и сечь надумали. Да благо подоспела я… Силантий осерчал, Кричит: «Чего толкаешься? Самой под розги хочется?» А Марья, та свое: «Дай, пусть проучат глупого!» — И рвет из рук Федотушку. Федот как лист дрожит. Трубят рога охотничьи, Помещик возвращается С охоты. Я к нему: — Не выдай! Будь заступником! «В чем дело?» — кликнул старосту И мигом порешил: «Подпаска малолетнего По младости, по глупости Простить… а бабу дерзкую Примерно наказать!» «Ай, барин!» Я подпрыгнула: «Освободил Федотушку! Иди домой, Федот!» — Исполним повеленное! — Сказал мирянам староста. — Эй! погоди плясать! Соседка тут подсунулась: — А ты бы в ноги старосте… «Иди домой, Федот!» Я мальчика погладила: «Смотри, коли оглянешься, Я осержусь… Иди!» Из песни слово выкинуть, Так песня вся нарушится. Легла я, молодцы… ………….. В Федотову каморочку, Как кошка, я прокралася: Спит мальчик, бредит, мечется; Одна ручонка свесилась, Другая на глазу Лежит, в кулак зажатая: Ты плакал, что ли, бедненький? Спи. Ничего. Я тут! Тужила я по Дёмушке, Как им была беременна — Слабенек родился, Однако вышел умница: На фабрике Алферова Трубу такую вывели С родителем, что страсть! Всю ночь над ним сидела я, Я пастушка любезного До солнца подняла, Сама обула в лапотки, Перекрестила; шапочку, Рожок и кнут дала. Проснулась вся семеюшка, Да я не показалась ей, На пожню не пошла. Я пошла на речку быструю, Избрала я место тихое У ракитова куста. Села я на серый камушек, Подперла рукой головушку, Зарыдала, сирота! Громко я звала родителя: Ты приди, заступник-батюшка! Посмотри на дочь любимую… Понапрасну я звала. Нет великой оборонушки! Рано гостья бесподсудная, Бесплемянная, безродная, Смерть родного унесла! Громко кликала я матушку. Отзывались ветры буйные, Откликались горы дальние, А родная не пришла! День денна моя печальница, В ночь — ночная богомолица! Никогда тебя, желанная, Не увижу я теперь! Ты ушла в бесповоротную, Незнакомую дороженьку, Куда ветер не доносится, Не дорыскивает зверь… Нет великой оборонушки! Кабы знали вы да ведали, На кого вы дочь покинули, Что без вас я выношу? Ночь — слезами обливаюся, День — как травка пристилаюся… Я потупленную голову, Сердце гневное ношу!..Глава VI Трудный год
В тот год необычайная Звезда играла на небе; Одни судили так: Господь по небу шествует, И ангелы его Метут метлою огненной[58] Перед стопами божьими В небесном поле путь; Другие то же думали, Да только на антихриста, И чуяли беду. Сбылось: пришла бесхлебица! Брат брату не уламывал Куска! Был страшный год… Волчицу ту Федотову Я вспомнила — голодную, Похожа с ребятишками Я на нее была! Да тут еще свекровушка Приметой прислужилася, Соседкам наплела, Что я беду накликала, А чем? Рубаху чистую Надела в рождество[59]. За мужем, за заступником, Я дешево отделалась; А женщину одну, Никак, за то же самое Убили насмерть кольями. С голодным не шути!.. Одной бедой не кончилось: Чуть справились с бесхлебицей — Рекрутчина пришла. Да я не беспокоилась: Уж за семью Филиппову В солдаты брат ушел. Сижу одна, работаю, И муж и оба деверя Уехали с утра; На сходку свекор-батюшка Отправился, а женщины К соседкам разбрелись. Мне крепко нездоровилось, Была я Лиодорушкой Беременна: последние Дохаживала дни. Управившись с ребятами, В большой избе под шубою На печку я легла. Вернулись бабы к вечеру, Нет только свекра-батюшки, Ждут ужинать его. Пришел: «Ох-ох! умаялся, А дело не поправилось, Пропали мы, жена! Где видано, где слыхано: Давно ли взяли старшего, Теперь меньшого дай! Я по годам высчитывал, Я миру в ноги кланялся, Да мир у нас какой? Просил бурмистра: божится, Что жаль, да делать нечего! И писаря просил, Да правды из мошенника И топором не вырубишь, Что тени из стены! Задарен… все задарены… Сказать бы губернатору, Так он бы задал им! Всего и попросить-то бы, Чтоб он по нашей волости Очередные росписи Поверить повелел. Да сунься-ка!..» Заплакали Свекровушка, золовушка, А я… То было холодно, Теперь огнем горю! Горю… Бог весть, что думаю.. Не дума… бред… Голодные Стоят сиротки-деточки Передо мной… Неласково Глядит на них семья, Они в дому шумливые, На улице драчливые, Обжоры за столом… И стали их пощипывать, В головку поколачивать… Молчи, солдатка-мать! …………… Теперь уж я не дольщица Участку деревенскому, Хоромному строеньицу, Одеже и скоту. Теперь одно богачество: Три озера наплакано Горючих слез, засеяно Три полосы бедой! ………….. Теперь, как виноватая, Стою перед соседями: Простите! я была Спесива, непоклончива, Не чаяла я, глупая. Остаться сиротой… Простите, люди добрые, Учите уму-разуму, Как жить самой? Как деточек Поить, кормить, растить?.. …………… Послала деток по миру: Просите, детки, ласкою, Не смейте воровать! А дети в слезы: «Холодно! На нас одежа рваная, С крылечка на крылечко-то Устанем мы ступать, Под окнами натопчемся, Иззябнем… У богатого Нам боязно просить. «Бог даст!» — ответят бедные… Ни с чем домой воротимся — Ты станешь нас бранить!..» …………… Собрала ужин; матушку Зову, золовок, деверя, Сама стою голодная У двери, как раба. Свекровь кричит: «Лукавая! В постель скорей торопишься?» А деверь говорит: «Немного ты работала! Весь день за деревиночкой Стояла: дожидалася, Как солнышко зайдет!» …………… Получше нарядилась я, Пошла я в церковь божию, Смех слышу за собой! …………… Хорошо не одевайся, Добела не умывайся, У соседок очи зорки, Востры языки! Ходи улицей потише, Носи голову пониже, Коли весело — не смейся, Не поплачь с тоски! …………… Пришла зима бессменная, Поля, луга зеленые Попрятались под снег. На белом снежном саване Ни талой нет талиночки — Нет у солдатки-матери Во всем миру дружка! С кем думушку подумати? С кем словом перемолвиться? Как справиться с убожеством? Куда обиду сбыть? В леса — леса повяли бы, В луга — луга сгорели бы! Во быструю реку? Вода бы остоялася! Носи, солдатка бедная, С собой ее по гроб! …………… Нет мужа, нет заступника! Чу, барабан! Солдатики Идут… Остановилися… Построились в ряды. «Живей!» Филиппа вывели На середину площади: «Эй! перемена первая!» — Шалашников кричит. Упал Филипп: — Помилуйте! «А ты попробуй! слюбится! Xa-xa! xa-xa! xa-xa! ха-ха! Укрепа богатырская, Не розги у меня!..» …………… И тут я с печи спрыгнула, Обулась. Долго слушала — Все тихо, спит семья! Чуть-чуть я дверью скрипнула И вышла. Ночь морозная… Из Домниной избы, Где парни деревенские И девки собиралися, Гремела песня складная, Любимая моя… «На горе стоит елочка, Под горою светелочка, Во светелочке Машенька. Приходил к ней батюшка, Будил ее, побуживал: Ты, Машенька, пойдем домой! Ты, Ефимовна, пойдем домой! Я нейду и не слушаю: Ночь темна и немесячна, Реки быстры, перевозов нет, Леса темны, караулов нет… На горе стоит елочка, Под горою светелочка, Во светелочке Машенька. Приходила к ней матушка, Будила, побуживала: Машенька, пойдем домой! Ефимовна, пойдем домой! Я нейду и не слушаю: Ночь темна и немесячна, Реки быстры, перевозов нет, Леса темны, караулов нет… На горе стоит елочка, Под горою светелочка, Во светелочке Машенька. Приходил к ней Петр, Петр, сударь Петрович, Будил ее, побуживал: Машенька, пойдем домой! Душа, Ефимовна, пойдем домой! Я иду, сударь, и слушаю: Ночь светла и месячна, Реки тихи, перевозы есть, Леса темны, караулы есть».Глава VII Губернаторша
Почти бегом бежала я Через деревню, — чудилось, Что с песней парни гонятся И девицы за мной. За Клином огляделась я: Равнина белоснежная, Да небо с ясным месяцем, Да я, да тень моя… Не жутко и не боязно Вдруг стало, — словно радостью Так и взмывало грудь… Спасибо ветру зимнему! Он, как водой студеною, Больную напоил: Обвеял буйну голову, Рассеял думы черные, Рассудок воротил. Упала на колени я: «Открой мне, матерь божия, Чем бога прогневила я? Владычица! во мне Нет косточки неломаной, Нет жилочки нетянутой, Кровинки нет непорченой — Терплю и не ропщу! Всю силу, богом данную, В работу полагаю я, Всю в деточек любовь! Ты видишь все, владычица, Ты можешь все, заступница! Спаси рабу свою!..» Молиться в ночь морозную Под звездным небом божиим Люблю я с той поры. Беда пристигнет — вспомните И женам посоветуйте: Усердней не помолишься Нигде и никогда. Чем больше я молилася, Тем легче становилося, И силы прибавлялося, Чем чаще я касалася До белой снежной скатерти Горящей головой… Потом — в дорогу тронулась, Знакомая дороженька! Езжала я по ней. Поедешь ранним вечером, Так утром вместе с солнышком Поспеешь на базар. Всю ночь я шла, не встретила Живой души, под городом Обозы начались. Высокие, высокие Возы сенца крестьянского, Жалела я коней: Свои кормы законные Везут с двора, сердечные, Чтоб после голодать. И так-то всё, я думала: Рабочий конь солому ест, А пустопляс — овес! Нужда с кулем тащилася, — Мучица, чай, не лишняя, Да подати не ждут! С посада подгородного Торговцы-колотырники{203} Бежали к мужикам; Божба, обман, ругательство! Ударили к заутрени, Как в город я вошла, Ищу соборной площади, Я знала: губернаторский Дворец на площади. Темна, пуста площадочка, Перед дворцом начальника Шагает часовой. — Скажи, служивый, рано ли Начальник просыпается? «Не знаю. Ты иди! Нам говорить не велено!» (Дала ему двугривенный): «На то у губернатора Особый есть швейцар». — А где он? как назвать его? «Макаром Федосеичем… На лестницу поди!» Пошла, да двери заперты, Присела я, задумалась, Уж начало светать. Пришел фонарщик с лестницей, Два тусклые фонарика На площади задул. «Эй! что ты тут расселася?» Вскочила, испугалась я: В дверях стоял в халатике Плешивый человек. Скоренько я целковенькой Макару Федосеичу С поклоном подала: Такая есть великая Нужда до губернатора, Хоть умереть — дойти! «Пускать-то вас не велено, Да… ничего!.. толкнись-ка ты Так… через два часа…» Ушла. Бреду тихохонько… Стоит из меди кованный, Точь-в-точь Савелий-дедушка, Мужик на площади. — Чей памятник? — «Сусанина».{204} Я перед ним помешкала, На рынок побрела. Там крепко испугалась я, Чего? Вы не поверите, Коли сказать теперь: У поваренка вырвался Матерый серый селезень, Стал парень догонять его, А он как закричит! Такой был крик, что за душу Хватил — чуть не упала я, Так под ножом кричат! Поймали! шею вытянул И зашипел с угрозою, Как будто думал повара, Бедняга, испугать. Я прочь бежала, думала: Утихнет серый селезень Под поварским ножом! Теперь дворец начальника С балконом, с башней, с лестницей, Ковром богатым устланной, Весь стал передо мной. На окна поглядела я: Завешаны. «В котором-то Твоя опочиваленка? Ты сладко ль спишь, желанный мой, Какие видишь сны?..» Сторонкой, не по коврику, Прокралась я в швейцарскую. «Раненько ты, кума!» Опять я испугалася, Макара Федосеича Я не узнала: выбрился, Надел ливрею шитую, Взял в руки булаву, Как не бывало лысины. Смеется. «Что ты вздрогнула?» — Устала я, родной! «А ты не трусь! Бог милостив! Ты дай еще целковенькой, Увидишь — удружу!» Дала еще целковенькой. «Пойдем в мою каморочку, Попьешь пока чайку!» Каморочка под лестницей: Кровать да печь железная, Шандал да самовар. В углу лампадка теплится, А по стене картиночки. «Вот он! — сказал Макар. — Его превосходительство!» — И щелкнул пальцем бравого Военного в звездах. — Да добрый ли? — спросила я. «Как стих найдет! Сегодня вот Я тоже добр, а временем Как пес бываю зол», — Скучаешь, видно, дяденька? «Нет, тут статья особая, Не скука тут — война! И Сам и люди вечером Уйдут, а к Федосеичу В каморку враг: поборемся! Борюсь я десять лет. Как выпьешь рюмку лишнюю, Махорки как накуришься, Как эта печь накалится Да свечка нагорит — Так тут устой!..» Я вспомнила Про богатырство дедово. — Ты, дядюшка, — сказала я, — Должно быть, богатырь. «Не богатырь я, милая, А силой тот не хвастайся, Кто сна не поборал!» В каморку постучалися, Макар ушел… Сидела я, Ждала, ждала, соскучилась, Приотворила дверь. К крыльцу карету подали. — Сам едет? — «Губернаторша!» — Ответил мне Макар И бросился на лестницу. По лестнице спускалася В собольей шубе барыня, Чиновничек при ней. Не знала я, что делала. (Да, видно, надоумила Владычица!..) Как брошусь я Ей в ноги: «Заступись! Обманом, не по-божески Кормильца и родителя У деточек берут!» — Откуда ты, голубушка? Впопад ли я ответила — Не знаю… Мука смертная Под сердце подошла… Очнулась я, молодчики, В богатой, светлой горнице, Под пологом лежу; Против меня — кормилица, Нарядная, в кокошнике, С ребеночком сидит. — Чье дитятко, красавица? «Твое!» Поцеловала я Рожоное дитя… Как в ноги губернаторше Я пала, как заплакала, Как стала говорить, Сказалась усталь долгая, Истома непомерная, Упередилось времечко — Пришла моя пора! Спасибо губернаторше Елене Александровне, Я столько благодарна ей, Как матери родной! Сама крестила мальчика И имя: Лиодорушка Младенцу избрала… — А что же с мужем сталося? — Послали в Клин нарочного, Всю истину доведали — Филиппушку спасли. Елена Александровна Ко мне его, голубчика, Сама — дай бог ей счастие! — За ручку подвела. Добра была, умна была, Красивая, здоровая, А деток не дал бог! Пока у ней гостила я, Все время с Лиодорушкой Носилась, как с родным. Весна уж начиналася, Березка распускалася, Как мы домой пошли… Хорошо, светло В мире божием! Хорошо, легко, Ясно на сердце. Мы идем, идем — Остановимся, На леса, луга Полюбуемся, Полюбуемся Да послушаем, Как шумят-бегут Воды вешние, Как поет-звенит Жавороночек! Мы стоим, глядим… Очи встретятся — Усмехнемся мы, Усмехнется нам Лиодорушка. А увидим мы Старца нищего, Подадим ему Мы копеечку. «Не за нас молись, — Скажем старому, — Ты молись, старик, За Еленушку, За красавицу, Александровну!» А увидим мы Церковь божию, Перед церковью Долго крестимся: «Дай ей, господи, Радость-счастие, Доброй душеньке Александровне!» Зеленеет лес, Зеленеет луг, Где низииочка — Там и зеркало! Хорошо, светло В мире божием, Хорошо, легко, Ясно на сердце. По водам плыву Белым лебедем, По степям бегу — Перепелочкой. Прилетела в дом Сизым голубем… Поклонился мне Свекор-батюшка; Поклонилася Мать-свекровушка, Деверья, зятья Поклонилися, Поклонилися, Повинилися! Вы садитесь-ка, Вы не кланяйтесь, Вы послушайте, Что скажу я вам: Тому кланяться, Кто сильней меня, — Кто добрей меня, Тому славу петь. Кому славу петь? Губернаторше! Доброй душеньке Александровне!Глава VIII Бабья притча
Замолкла Тимофеевна. Конечно, наши странники Не пропустили случая За здравье губернаторши По чарке осушить. И, видя, что хозяюшка Ко стогу приклонилася, К ней подошли гуськом: — Что ж дальше? — Сами знаете: Ославили счастливицей, Прозвали губернаторшей Матрену с той поры… Что дальше? Домом правлю я, Рощу детей… На радость ли? Вам тоже надо знать. Пять сыновей! Крестьянские Порядки нескончаемы — Уж взяли одного! Красивыми ресницами Моргнула Тимофеевна, Поспешно приклонилася Ко стогу головой. Крестьяне мялись, мешкали, Шептались. — Ну, хозяюшка! Что скажешь нам еще? — А то, что вы затеяли Не дело — между бабами Счастливую искать!.. — Да все ли рассказала ты? — Чего же вам еще? Не то ли вам рассказывать, Что дважды погорели мы, Что бог сибирской язвою Нас трижды посетил? Потуги лошадиные Несли мы; погуляла я, Как мерин, в бороне!.. Ногами я не топтана, Веревками не вязана, Иголками не колота… Чего же вам еще? Сулилась душу выложить, Да, видно, не сумела я, — Простите, молодцы! Не горы с места сдвинулись, Упали на головушку, Не бог стрелой громовою Во гневе грудь пронзил, Но мне — тиха, невидима — Прошла гроза душевная, Покажешь ли ее? По матери поруганной, Как по змее растоптанной, Кровь первенца прошла, По мне обиды смертные Прошли неотплаченные, И плеть по мне прошла! Я только не отведала — Спасибо! умер Ситников Стыда неискупимого, Последнего стыда! А вы — за счастьем сунулись! Обидно, молодцы! Идите вы к чиновнику, К вельможному боярину, Идите вы к царю, А женщин вы не трогайте, Вот бог! ни с чем проходите До гробовой доски! К нам на ночь попросилася Одна старушка божия: Вся жизнь убогой старицы — Убийство плоти, пост; У гроба Иисусова Молилась{205}, на Афонские Всходила высоты{206}, В Иордань-реке купалася{207}… И та святая старица Рассказывала мне: «Ключи от счастья женского, От нашей вольной волюшки, Заброшены, потеряны У бога самого! Отцы-пустынножители, И жены непорочные, И книжники-начетчики Их ищут — не найдут! Пропали! думать надобно, Сглонула рыба их… В веригах, изможденные, Голодные, холодные, Прошли господни ратники Пустыни, города — И у волхвов выспрашивать, И по звездам высчитывать Пытались — нет ключей! Весь божий мир изведали, В горах, в подземных пропастях Искали… Наконец Нашли ключи сподвижники! Ключи неоценимые, А всё — не те ключи! Пришлись они, — великое Избранным людям божиим То было торжество, — Пришлись к рабам-невольникам: Темницы растворилися, По миру вздох прошел, Такой ли громкий, радостный!.. А к нашей женской волюшке Все нет и нет ключей! Великие сподвижники И по сей день стараются — На дно морей спускаются, Под небо подымаются — Все нет и нет ключей! Да вряд они и сыщутся… Какою рыбой сглонуты Ключи те заповедные, В каких морях та рыбина Гуляет — бог забыл!..»Последыш (Из второй части)
I
Петровки{208}. Время жаркое. В разгаре сенокос. Минув деревню бедную Безграмотной губернии, Старо-Вахлацкой волости, Большие Вахлаки, Пришли на Волгу странники… Над Волгой чайки носятся; Гуляют кулики По отмели. А по лугу, Что гол, как у подьячего Щека, вчера побритая, Стоят «Князья Волконские»[60] И детки их, что ранее Родятся, чем отцы[61]. — Прокосы широчайшие! — Сказал Пахом Онисимыч. — Здесь богатырь народ! — Смеются братья Губины: Давно они заметили Высокого крестьянина Со жбаном — на стогу; Он пил, а баба с вилами, Задравши кверху голову, Глядела на него. Со стогом поравнялися — Все пьет мужик! Отмерили Еще шагов полста, Все разом оглянулися; По-прежнему, закинувшись, Стоит мужик; посудина Дном кверху поднята… Под берегом раскинуты Шатры; старухи, лошади С порожними телегами Да дети видны тут. А дальше, где кончается Отава подкошенная, Народу тьма! Там белые Рубахи баб, да пестрые Рубахи мужиков, Да голоса, да звяканье Проворных кос. «Бог на помочь!» — Спасибо, молодцы! Остановились странники… Размахи сенокосные Идут чредою правильной: Все разом занесенные Сверкнули косы, звякнули, Трава мгновенно дрогнула И пала, прошумев! По низменному берегу, На Волге, травы рослые, Веселая косьба. Не выдержали странники: «Давно мы не работали, Давайте — покосим!» Семь баб им косы отдали. Проснулась, разгорелася Привычка позабытая К труду! Как зубы с голоду, Работает у каждого Проворная рука. Валят траву высокую Под песню, незнакомую Вахлацкой стороне; Под песню, что навеяна Метелями и вьюгами Родимых деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож… Натешившись, усталые, Присели к стогу завтракать… «Откуда, молодцы? — Спросил у наших странников Седой мужик (которого Бабенки звали Власушкой). — Куда вас бог несет?» — А мы… — сказали странники И замолчали вдруг. Послышалась им музыка! «Помещик наш катается, — Промолвил Влас — и бросился К рабочим. — Не зевать! Коси дружней! А главное: Не огорчить помещика. Рассердится — поклон ему! Похвалит вас: ура кричи… Эй, бабы! не галдеть!» Другой мужик, присадистый, С широкой бородищею, Почти что то же самое Народу приказал, Надел кафтан — и барина Бежит встречать. «Что за люди? — Оторопелым странникам Кричит он на бегу. — Снимите шапки!» К берегу Причалили три лодочки. В одной — прислуга, музыка, В другой — кормилка дюжая С ребенком, няня старая И приживалка тихая, А в третьей — господа: Две барыни красивые (Потоньше — белокурая, Потолще — чернобровая), Усатые два барина, Три барченка-погодочки Да старый старичок: Худой! как зайцы зимние, Весь бел, и шапка белая, Высокая, с околышем Из красного сукна{209}. Нос клювом, как у ястреба, Усы седые, длинные И — разные глаза: Один здоровый — светится, А левый — мутный, пасмурный, Как оловянный грош! При них: собачки белые, Мохнатые, с султанчиком, На крохотных ногах… Старик, поднявшись на берег, На красном мягком коврике Долгонько отдыхал, Потом покос осматривал: Его водили под руки То господа усатые, То молодые барыни, — И так, со всею свитою, С детьми и приживалками, С кормилкою и нянькою И с белыми собачками, Все поле сенокосное Помещик обошел. Крестьяне низко кланялись, Бурмистр (смекнули странники, Что тот мужик присадистый Бурмистр) перед помещиком, Как бес перед заутреней, Юлил: «Так точно! Слушаю-с!» — И кланялся помещику Чуть-чуть не до земли. В один стожище матерой, Сегодня только сметанный, Помещик пальцем ткнул, Нашел, что сено мокрое, Вспылил: «Добро господское Гноить? Я вас, мошенников, Самих сгною на барщине! Пересушить сейчас!..» Засуетился староста: «Недосмотрел маненичко! Сыренько: виноват!» Созвал народ — и вилами Богатыря кряжистого, В присутствии помещика, По клочьям разнесли. Помещик успокоился. (Попробовали странники: Сухохонько сенцо!) Бежит лакей с салфеткою, Хромает: «Кушать подано!» Со всей своею свитою, С детьми и приживалками, С кормилкою и нянькою И с белыми собачками, Пошел помещик завтракать, Работы осмотрев. С реки из лодки грянула Навстречу барам музыка, Накрытый стол белеется На самом берегу… Дивятся наши странники. Пристали к Власу: — Дедушка! Что за порядки чудные? Что за чудной старик? «Помещик наш: Утятин-князь!» — Чего же он куражится? Теперь порядки новые, А он дурит по-старому: Сенцо сухим-сухохонько — Велел пересушить! «А то еще диковинней, Что и сенцо-то самое, И пожня — не его!» — А чья же? «Нашей вотчины». — Чего же он тут суется? Ин вы у бога не люди? «Нет, мы, по божьей милости, Теперь крестьяне вольные, У нас, как у людей, Порядки тоже новые, Да тут статья особая…» — Какая же статья? Под стогом лег старинушка И — больше ни словца! К тому же стогу странники Присели; тихо молвили: — Эй! скатерть самобранная, Попотчуй мужиков! — И скатерть развернулася, Откудова ни взялися Две дюжие руки: Ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка И спрятались опять… Налив стаканчик дедушке, Опять пристали странники: «Уважь! скажи нам, Власушка, Какая тут статья?» — Да пустяки! Тут нечего Рассказывать… А сами вы Что за люди? Откуда вы? Куда вас бог несет? «Мы люди чужестранные, Давно, по делу важному, Домишки мы покинули, У нас забота есть… Такая ли заботушка, Что из домов повыжила, С работой раздружила нас, Отбила от еды…» Остановились странники… — О чем же вы хлопочете? «Да помолчим! Поели мы, Так отдохнуть желательно». И улеглись. Молчат! — Вы так-то! а по-нашему, Коль начал, так досказывай! «А сам небось молчишь! Мы не в тебя, старинушка! Изволь, мы скажем: видишь ли, Мы ищем, дядя Влас, Непоротой губернии, Непотрошеной волости, Избыткова села!..» И рассказали странники, Как встретились нечаянно, Как подрались, заспоривши, Как дали свой зарок И как потом шаталися, Искали по губерниям Подтянутой, Подстреленной, Кому живется счастливо, Вольготно на Руси? Влас слушал — и рассказчиков Глазами мерял. «Вижу я, Вы тоже люди странные! — Сказал он наконец. — Чудим и мы достаточно, А вы — и нас чудней!» — Да что ж у вас-то деется? Еще стаканчик, дедушка! Как выпил два стаканчика, Разговорился Влас:II
— Помещик наш особенный, Богатство непомерное, Чин важный, род вельможеский, Весь век чудил, дурил, Да вдруг гроза и грянула… Не верит: врут, разбойники! Посредника, исправника Прогнал! дурит по-старому. Стал крепко подозрителен, Не поклонись — дерет! Сам губернатор к барину Приехал: долго спорили, Сердитый голос барина В застольной дворня слышала; Озлился так, что к вечеру Хватил его удар! Всю половину левую Отбило: словно мертвая И как земля черна… Пропал ни за копеечку! Известно, не корысть, А спесь его подрезала, Соринку он терял. — Что значит, други милые, Привычка-то помещичья! — Заметил Митродор. — Не только над помещиком, Привычка над крестьянином Сильна, — сказал Пахом.— Я раз по подозрению В острог попавши — чудного Там видел мужика. За конокрадство, кажется, Судился, звали Сидором, Так из острога барину Он посылал оброк! (Доходы арестантские Известны: подаяние, Да что-нибудь сработает, Да стащит что-нибудь.) Ему смеялись прочие: — А ну, на поселение Сошлют — пропали денежки! « Всё лучше», — говорит… — Ну, дальше, дальше, дедушка! — Соринка дело плевое, Да только не в глазу: Пал дуб на море тихое, И море все заплакало — Лежит старик без памяти (Не встанет, так и думали)! Приехали сыны, Гвардейцы черноусые (Вы их на пожне видели, А барыни красивые — То жены молодцов). У старшего доверенность Была: по ней с посредником Установили грамоту{210}… Ан вдруг и встал старик! Чуть заикнулись… Господи! Как зверь метнулся раненый И загремел как гром! Дела-то всё недавние, Я был в то время старостой, Случился тут — так слышал сам, Как он честил помещиков, До слова помню все: «Корят жидов, что предали Христа… а вы что сделали? Права свои дворянские, Веками освященные, Вы предали!..» Сынам Сказал: «Вы трусы подлые! Не дети вы мои! Пускай бы люди мелкие, Что вышли из поповичей Да, понажившись взятками, Купили мужиков, Пускай бы… им простительно! А вы… князья Утятины? Какие вы У-тя-ти-ны! Идите вон!., подкидыши, Не дети вы мои!» Оробели наследники: А ну, как перед смертию Лишит наследства? Мало ли Лесов, земель у батюшки? Что денег понакоплено, Куда пойдет добро? Гадай! У князя в Питере Три дочери побочные За генералов выданы, Не отказал бы им! А князь опять больнехонек… Чтоб только время выиграть, Придумать: как тут быть? Которая-то барыня (Должно быть, белокурая: Она ему, сердечному, Слыхал я, терла щеткою В то время левый бок) Возьми и брякни барину, Что мужиков помещикам Велели воротить! Поверил! Проще малого Ребенка стал старинушка, Как паралич расшиб! Заплакал! пред иконами Со всей семьею молится, Велит служить молебствие, Звонить в колокола! И силы словно прибыло, Опять: охота, музыка, Дворовых дует палкою, Велит созвать крестьян. С дворовыми наследники Стакнулись, разумеется, А есть один (он давеча С салфеткой прибегал), Того и уговаривать Не надо было: барина Столь много любит он! Ипатом прозывается. Как воля нам готовилась, Так он не верил ей: «Шалишь! Князья Утятины Останутся без вотчины? Нет, руки коротки!» Явилось «Положение»{211} — Ипат сказал: «Балуйтесь вы! А я князей Утятиных Холоп — и весь тут сказ!» Не может барских милостей Забыть Ипат! Потешные О детстве и о младости, Да и о самой старости Рассказы у него (Придешь, бывало, к барину, Ждешь, ждешь… Неволей слушаешь, Сто раз я слышал их): «Как был я мал, наш князюшка Меня рукою собственной В тележку запрягал; Достиг я резвой младости: Приехал в отпуск князюшка И, подгулявши, выкупал Меня, раба последнего, Зимою в проруби! Да как чудно! Две проруби: В одну опустит в неводе, В другую мигом вытянет — И водки поднесет. Клониться стал я к старости. Зимой дороги узкие, Так часто с князем ездили Мы гусем в пять копей. Однажды князь — затейник же! — И посади фалетуром{212} Меня, раба последнего, Со скрипкой — впереди. Любил он крепко музыку. «Играй, Ипат!» А кучеру Кричит: «Пошел живей!» Метель была изрядная, Играл я: руки заняты, А лошадь спотыкливая Свалился я с нее! Ну, сани, разумеется, Через меня проехали, Попридавили грудь. Не то беда: а холодно, Замерзнешь — нет спасения, Кругом пустыня, снег… Гляжу на звезды частые Да каюсь во грехах. Так что же, друг ты истинный? Послышал я бубенчики, Чу, ближе! чу, звончей! Вернулся князь (закапали Тут слезы у дворового, И, сколько ни рассказывал, Всегда тут плакал он!), Одел меня, согрел меня И рядом, недостойного, С своей особой княжеской В санях привез домой!» Похохотали странники… Глонув вина (в четвертый раз), Влас продолжал: — Наследники Ударили и вотчине Челом: «Нам жаль родителя, Порядков новых, нонешних Ему не перенесть. Поберегите батюшку! Помалчивайте, кланяйтесь Да не перечьте хворому, Мы вас вознаградим: За лишний труд, за барщину, За слово даже бранное, За все заплатим вам. Недолго жить сердечному, Навряд ли два-три месяца, Сам дохтур объявил! Уважьте нас, послушайтесь, Мы вам луга поемные По Волге подарим; Сейчас пошлем посреднику Бумагу, дело верное!» Собрался мир, галдит! Луга-то (эти самые), Да водка, да с три короба Посулов то и сделали, Что мир решил помалчивать До смерти старика. Поехали к посреднику: Смеется! «Дело доброе, Да и луга хорошие, Дурачьтесь, бог простит! Нет на Руси, вы знаете, Помалчивать да кланяться Запрета никому!» Однако я противился: — Вам, мужикам, сполагоря, А мне-то каково? Что ни случится: к барину Бурмистра! что ни вздумает, За мной пошлет! Как буду я На спросы бестолковые Ответствовать? дурацкие Приказы исполнять? «Ты стой пред ним без шапочки, Помалчивай да кланяйся, Уйдешь — и дело кончено. Старик больной, расслабленный, Не помнит ничего!» Оно и правда: можно бы! Морочить полоумного Нехитрая статья. Да быть шутом гороховым, Признаться, не хотелося. И так я на веку, У притолоки стоючи, Помялся перед барином Досыта! «Коли мир (Сказал я, миру кланяясь) Дозволит покуражиться Уволенному барину В останные часы, Молчу и я — покорствую, А только что от должности Увольте вы меня!» Чуть дело не разладилось. Да Климка Лавин выручил: «А вы бурмистром сделайте Меня! Я удовольствую И старика и вас. Бог приберет Последыша Скоренько, а у вотчины Останутся луга. Так будем мы начальствовать, Такие мы строжайшие Порядки заведем, Что надорвет животики Вся вотчина… Увидите!» Долгонько думал мир. Что ни на есть отчаянный Был Клим мужик: и пьяница, И на руку нечист. Работать не работает, С цыганами возжается, Бродяга, коновал! Смеется над трудящимся: С работы, как ни мучайся, Не будешь ты богат, А будешь ты горбат! А впрочем, парень грамотный, Бывал в Москве и в Питере, В Сибирь езжал с купечеством, Жаль, не остался там! Умен, а грош не держится, Хитер, а попадается Впросак! Бахвал мужик! Каких-то слов особенных Наслушался: Атечество, Москва первопрестольная, Душа великорусская. «Я — русский мужичок!» — Горланил диким голосом И, кокнув в лоб посудою, Пил залпом полуштоф! Как рукомойник, кланяться Готов за водку всякому, А есть казна — поделится, Со встречным все пропьет! Горазд орать, балясничать, Гнилой товар показывать С хазового конца{213}. Нахвастает с три короба, А уличишь — отшутится Бесстыжей поговоркою, Что «за погудку правую Смычком по роже бьют!». Подумавши, оставили Меня бурмистром: правлю я Делами и теперь. А перед старым барином Бурмистром Климку назвали, Пускай его! По барину Бурмистр! перед Последышем Последний человек! У Клима совесть глиняна, А бородища Минина, Посмотришь, так подумаешь, Что не найти крестьянина Степенней и трезвей. Наследники построили Кафтан ему: одел его, И сделался Клим Яковлич Из Климки бесшабашного, Бурмистр первейший сорт. Пошли порядки старые! Последышу-то нашему, Как на беду, приказаны Прогулки. Что ни день, Через деревню катится Рессорная колясочка: Вставай! картуз долой! Бог весть с чего накинется, Бранит, корит; с угрозою Подступит — ты молчи! Увидит в поле пахаря И за его же полосу Облает: и лентяи-то И лежебоки мы! А полоса сработана, Как никогда на барина Не работал мужик, Да невдомек Последышу, Что уж давно не барская, А наша полоса! Сойдемся — смех! У каждого Свой сказ про юродивого Помещика: икается, Я думаю, ему! А тут еще Клим Яковлич. Придет, глядит начальником (Горда свинья: чесалася О барское крыльцо!), Кричит: «Приказ по вотчине!» Ну, слушаем приказ: «Докладывал я барину, Что у вдовы Терентьевны Избенка развалилася, Что баба побирается Христовым подаянием, Так барин приказал: На той вдове Терентьевой Женить Гаврилу Жохова, Избу поправить заново, Чтоб жили в ней, плодилися И правили тягло!» А той вдове — под семьдесят, А жениху — шесть лет! Ну, хохот, разумеется!.. Другой приказ: «Коровушки Вчера гнались до солнышка Близ барского двора, И так мычали, глупые, Что разбудили барина, — Так пастухам приказано Впредь унимать коров!» Опять смеется вотчина. «А что смеетесь? Всякие Бывают приказания: Сидел на губернаторстве В Якутске генерал. Так на кол тот коровушек Сажал! Долгонько слушались: Весь город разукрасили, Как Питер монументами, Казненными коровами, Пока не догадалися, Что спятил он с ума!» Еще приказ: «У сторожа, У ундера Софронова Собака непочтительна: Залаяла на барина, Так ундера прогнать, А сторожем к помещичьей Усадьбе назначается Ерёмка!..» Покатилися Опять крестьяне со смеху: Ерёмка тот с рождения Глухонемой дурак! Доволен Клим. Нашел-таки По нраву должность! Бегает, Чудит, во все мешается, Пить даже меньше стал! Бабенка есть тут бойкая, Орефьевна, кума ему, Так с ней Климаха барина Дурачит заодно. Лафа бабенкам! Бегают На барский двор с полотнами, С грибами, с земляникою: Всё покупают барыни, И кормят, и поят! Шутили мы, дурачились, Да вдруг и дошутилися До сущей до беды: Был грубый, непокладистый У нас мужик Агап Петров, Он много нас корил: «Ай, мужики! Царь сжалился, Так вы в хомут охотою… Бог с ними, с сенокосами! Знать не хочу господ!..» Тем только успокоили, Что штоф вина поставили (Винцо-то он любил). Да черт его со временем Нанес-таки на барина: Везет Агап бревно (Вишь, мало ночи глупому, Так воровать отправился Лес — среди бела дня!) — Навстречу та колясочка, И барин в ней: «Откудова Бревно такое славное Везешь ты, мужичок?..» А сам смекнул, откудова. Агап молчит: бревешко-то Из лесу из господского, Так что тут говорить! Да больно уж окрысился Старик: пилил, пилил его, Права свои дворянские Высчитывал ему! Крестьянское терпение Выносливо, а временем Есть и ему конец. Агап раненько выехал, Без завтрака: крестьянина Тошнило уж и так, А тут еще речь барская, Как муха неотвязная, Жужжит под ухо самое… Захохотал Агап! «Ах, шут ты, шут гороховый! Нишкни!» — да и пошел! Досталось тут Последышу За дедов и за прадедов, Не только за себя. Известно, гневу нашему Дай волю! Брань господская Что жало комариное, Мужицкая — обух! Опешил барин! Легче бы Стоять ему под пулями, Под каменным дождем! Опешили и сродники, Бабенки было бросились К Агапу с уговорами, Так он вскричал: убью!.. «Что брага раскуражились Подонки из поганого Корыта… Цыц! Нишкни! Крестьянских душ владение Покончено. Последыш ты! Последыш ты! По милости Мужицкой нашей глупости Сегодня ты начальствуешь, А завтра мы Последышу Пинка — и кончен бал! Иди домой, похаживай, Поджавши хвост, по горницам, А нас оставь! Нишкни!..» — Ты — бунтовщик! — с хрипотою Сказал старик; затрясся весь И полумертвый пал! «Теперь конец!» — подумали Гвардейцы черноусые И барыни красивые; Ан вышло — не конец! Приказ: пред всею вотчиной, В присутствии помещика, За дерзость беспримерную Агапа наказать. Забегали наследники И жены их — к Агапушке, И к Климу, и ко мне! «Спасите нас, голубчики! Спасите!» Ходят бледные: «Коли обман откроется, Пропали мы совсем!» Пошел бурмистр орудовать! С Агапом пил до вечера, Обнявшись, до полуночи Деревней с ним гулял, Потом опять с полуночи Поил его — и пьяного Привел на барский двор. Все обошлось любехонько: Не мог с крылечка сдвинуться Последыш — так расстроился… Ну, Климке и лафа! В конюшню плут преступника Привел, перед крестьянином Поставил штоф вина: «Пей, да кричи: помилуйте! Ой, батюшки! ой, матушки!» Послушался Агап, Чу, вопит! Словно музыку, Последыш стоны слушает, Чуть мы не рассмеялися, Как стал он приговаривать: «Ка-тай его, раз-бой-ника, Бун-тов-щи-ка… Ка-тай!» Ни дать ни взять под розгами Кричал Агап, дурачился, Пока не допил штоф: Как из конюшни вынесли Его мертвецки пьяного Четыре мужика, Так барин даже сжалился. «Сам виноват, Агапушка!» — Он ласково сказал… «Вишь, тоже добрый! сжалился», — Заметил Пров, а Влас ему: — Не зол… да есть пословица: Хвали траву в стогу, А барина — в гробу! Все лучше, кабы бог его Прибрал… Уж нет Агапушки… — Как! умер? — Да, почтенные: Почти что в тот же день! Он к вечеру разохался, К полуночи попа просил, К белу свету преставился. Зарыли и поставили Животворящий крест… С чего? Один бог ведает! Конечно, мы не тронули Его не только розгами, И пальцем. Ну, а все ж, Нет, нет — да и подумаешь: Не будь такой оказии, Не умер бы Агап! Мужик сырой, особенный, Головка непоклончива, А тут: иди, ложись! Положим: ладно кончилось, А все Агап надумался: Упрешься — мир осердится, А мир дурак — доймет! Все разом так подстроилось: Чуть молодые барыни Не целовали старого, Полсотни, чай, подсунули, А пуще: Клим бессовестный Сгубил его, анафема, Винищем!.. Вон от барина Посол идет: откушали! Зовет, должно быть, старосту, Пойду взгляну камедь!III
Пошли за Власом странники; Бабенок тоже несколько И парней с ними тронулось; Был полдень, время отдыха, Так набралось порядочно Народу — поглазеть. Все стали в ряд почтительно Поодаль от господ… За длинным белым столиком, Уставленным бутылками И кушаньями разными, Сидели господа: На первом месте — старый князь, Седой, одетый в белое, Лицо перекошенное, И — разные глаза. В петлице крестик беленький (Влас говорит: Георгия Победоносца крест). За стулом в белом галстуке Ипат, дворовый преданный, Обмахивает мух. По сторонам помещика Две молодые барыни: Одна черноволосая, Как свекла, губы красные, По яблоку — глаза! Другая белокурая, С распущенной косой, Ай, косонька! как золото На солнышке горит! На трех высоких стульчиках Три мальчика нарядные, Салфеточки подвязаны Под горло у детей. При них старуха нянюшка, А дальше — челядь разная: Учительницы, бедные Дворянки. Против барина — Гвардейцы черноусые, Последыша сыны. За каждым стулом девочка, А то и баба с веткою — Обмахивает мух. А под столом мохнатые Собачки белошерстые, Барчонки дразнят их… Без шапки перед барином Стоял бурмистр. «А скоро ли, — Спросил помещик, кушая, — Окончим сенокос?» — Да как теперь прикажете: У нас по положению Три дня в неделю барские, С тягла: работник с лошадью, Подросток или женщина, Да полстарухи в день. Господский срок кончается… «Тсс! тсс! — сказал Утятин-князь, Как человек, заметивший, Что на тончайшей хитрости Другого изловил. — Какой такой господский срок? Откудова ты взял его?» И на бурмистра верного Навел пытливо глаз. Бурмистр потупил голову. — Как приказать изволите! Два-три денька хорошие, И сено вашей милости Всё уберем, бог даст! Не правда ли, ребятушки?.. (Бурмистр воротит к барщине Широкое лицо.) За барщину ответила Проворная Орефьевна, Бурмистрова кума: — Вестимо, так, Клим Яковлич, Покуда вёдро держится, Убрать бы сено барское, А наше — подождет! «Бабенка, а умней тебя!» Помещик вдруг осклабился И начал хохотать: «Ха-ха! дурак!.. Ха-ха-ха-ха! Дурак! дурак! дурак! Придумали: господский срок! Ха-ха… дурак! ха-ха-ха-ха! Господский срок — вся жизнь раба! Забыли, что ли, вы: Я божиею милостью, И древней царской грамотой, И родом и заслугами Над вами господин!..» Влас наземь опускается. — Что так? — спросили странники. «Да отдохну пока! Теперь не скоро князюшка Сойдет с коня любимого! С тех пор как слух прошел, Что воля нам готовится, У князя речь одна: Что мужику у барина До светопреставления Зажату быть в горсти!..» И точно: час без малого Последыш говорил! Язык его не слушался: Старик слюною брызгался, Шипел! И так расстроился, Что правый глаз задергало, А левый вдруг расширился И — круглый, как у филина, — Вертелся колесом. Права свои дворянские, Веками освященные, Заслуги, имя древнее Помещик поминал, Царевым гневом, божиим Грозил крестьянам, ежели Взбунтуются они, И накрепко приказывал, Чтоб пустяков не думала, Не баловалась вотчина, А слушалась господ! — Отцы! — сказал Клим Яковлич С каким-то визгом в голосе, Как будто вся утроба в нем, При мысли о помещиках, Заликовала вдруг. — Кого же нам и слушаться? Кого любить? надеяться Крестьянству на кого? Ведами упиваемся, Слезами умываемся, Куда нам бунтовать? Все ваше, все господское: Домишки наши ветхие, И животишки хворые, И сами — ваши мы! Зерно, что в землю брошено, И овощь огородная, И волос на нечесаной Мужицкой голове — Все ваше, все господское! В могилках наши прадеды, На печках деды старые И в зыбках дети малые — Все ваше, все господское! А мы, как рыба в неводе, Хозяева в дому! Бурмистра речь покорная Понравилась помещику: Здоровый глаз на старосту Глядел с благоволением, А левый успокоился: Как месяц в небе стал! Налив рукою собственной Стакан вина заморского, «Пей!» — барин говорит. Вино на солнце искрится, Густое, маслянистое. Клим выпил, не поморщился И вновь сказал: «Отцы! Живем за вашей милостью, Как у Христа за пазухой: Попробуй-ка без барина Крестьянин так пожить! (И снова, плут естественный, Глонул вина заморского.) Куда нам без господ? Бояре — кипарисовы, Стоят, не гнут головушки! Над ними — царь один! А мужики вязовые — И гнутся-то и тянутся, Скрипят! Где мат крестьянину, Там барину сполагоря: Под мужиком лед ломится, Под барином трещит! Отцы! руководители! Не будь у нас помещиков, Не наготовим хлебушка, Не запасем травы! Хранители! радетели! И мир давно бы рушился Без разума господского, Без нашей простоты! Вам на роду написано Блюсти крестьянство глупое, А нам работать, слушаться, Молиться за господ!» Дворовый, что у барина Стоял за стулом с веткою, Вдруг всхлипнул! Слезы катятся По старому лицу. «Помолимся же господу За долголетье барина!» — Сказал холуй чувствительный И стал креститься дряхлою, Дрожащею рукой. Гвардейцы черноусые Кисленько как-то глянули На верного слугу; Однако — делать нечего! — Фуражки сняли, крестятся. Перекрестились барыни, Перекрестилась нянюшка, Перекрестился Клим… Да и мигнул Орефьевне: И бабы, что протискались Поближе к господам, Креститься тоже начали. Одна так даже всхлипнула Вподобие дворового. («Урчи! вдова Терентьевна! Старуха полоумная!» — Сказал сердито Влас.) Из тучи солнце красное Вдруг выглянуло; музыка Протяжная и тихая Послышалась с реки… Помещик так растрогался, Что правый глаз заплаканный Ему платочком вытерла Сноха с косой распущенной И чмокнула старинушку В здоровый этот глаз. «Вот! — молвил он торжественно Сынам, своим наследникам, И молодым снохам.— Желал бы я, чтоб видели Шуты, врали столичные, Что обзывают дикими Крепостниками нас, Чтоб видели, чтоб слышали…» Тут случай неожиданный Нарушил речь господскую: Один мужик не выдержал — Как захохочет вдруг! Задергало Последыша. Вскочил, лицом уставился Вперед! Как рысь высматривал Добычу. Левый глаз Заколесил… «Сы-скать его! Сы-скать бун-тов-щи-ка!» Бурмистр в толпу отправился, Не ищет виноватого, А думает: как быть? Пришел в ряды последние, Где были наши странники, И ласково сказал: «Вы люди чужестранные, Что с вами он поделает? Подите кто-нибудь!» Замялись наши странники, Желательно бы выручить Несчастных вахлаков, Да барин глуп: судись потом, Как влепит сотню добрую При всем честном миру! — Иди-ка ты, Романушка! — Сказали братья Губины. — Иди! ты любишь бар! «Нет, сами вы попробуйте!» И стали наши странники Друг дружку посылать. Клим плюнул: «Ну-ка, Власушка, Придумай, что тут сделаем? А я устал; мне мочи нет!» — Ну, да и врал же ты! «Эх, Влас Ильич! где враки-то? — Сказал бурмистр с досадою. — Не в их руках мы, что ль?.. Придет пора последняя: Заедем все в ухаб[62], Не выедем никак, В кромешный ад провалимся, Так ждет и там крестьянина Работа на господ!» — Что ж там-то будет, Климушка? «А будет, что назначено: Они в котле кипеть, А мы дрова подкладывать!» (Смеются мужики.) Пришли сыны Последыша: «Эх! Клим-чудак! до смеху ли? Старик прислал нас; сердится, Что долго нет виновного… Да кто у вас сплошал?» — А кто сплошал, и надо бы Того тащить к помещику, Да все испортит он! Мужик богатый… Питерщик… Вишь, принесла нелегкая Домой его на грех! Порядки наши чудные Ему пока в диковину, Так смех и разобрал! А мы теперь расхлебывай! «Ну… вы его не трогайте, А лучше киньте жеребий. Заплатим мы: вот пять рублей…» — Нет! разбегутся все… «Ну, так скажите барину, Что виноватый спрятался». — А завтра как? Забыли вы Агапа неповинного? «Что ж делать?.. Вот беда!» — Давай сюда бумажку ту! Постойте! я вас выручу! — Вдруг объявила бойкая Бурмистрова кума И побежала к барину; Бух в ноги: «Красно солнышко! Прости, не погуби! Сыночек мой единственный, Сыночек надурил! Господь его без разуму Пустил на свет! Глупешенек: Идет из бани — чешется! Лаптишком, вместо ковшика, Напиться норовит! Работать не работает, Знай скалит зубы белые, Смешлив… так бог родил! В дому-то мало радости: Избенка развалилася, Случается, есть нечего — Смеется дурачок! Подаст ли кто копеечку, Ударит ли по темени — Смеется дурачок! Смешлив… что с ним поделаешь? Из дурака, родименький, И горе смехом прет!» Такая баба ловкая! Орет, как на девишнике, Целует ноги барину. «Ну, бог с тобой! Иди! — Сказал Последыш ласково. — Я не сержусь на глупого, Я сам над ним смеюсь!» — Какой ты добрый! — молвила Сноха черноволосая И старика погладила По белой голове. Гвардейцы черноусые Словечко тоже вставили: Где ж дурню деревенскому Понять слова господские, Особенно Последыша Столь умные слова? А Клим полой суконною Отер глаза бесстыжие И пробурчал: «Отцы! Отцы! сыны атечества! Умеют наказать, Умеют и помиловать!» Повеселел старик! Спросил вина шипучего. Высоко пробки прянули, Попадали на баб. С испугу бабы визгнули, Шарахнулись. Старинушка Захохотал! За ним Захохотали барыни, За ними — их мужья, Потом дворецкий преданный, Потом кормилки, нянюшки, А там — и весь народ! Пошло веселье! Барыни, По приказанью барина, Крестьянам поднесли, Подросткам дали пряников, Девицам сладкой водочки, А бабы тоже выпили По рюмке простяку… Последыш пил да чокался, Красивых снох пощипывал. («Вот так-то! чем бы старому Лекарство пить, — заметил Влас. — Он пьет вино стаканами. Давно уж меру всякую Как в гневе, так и в радости Последыш потерял».) Гремит на Волге музыка, Поют и пляшут девицы — Ну, словом, пир горой! К девицам присоседиться Хотел старик, встал на ноги И чуть не полетел! Сын поддержал родителя. Старик стоял: притопывал, Присвистывал, прищелкивал, А глаз свое выделывал — Вертелся колесом! «А вы что ж не танцуете? — Сказал Последыш барыням И молодым сынам.— Танцуйте!» Делать нечего! Прошлись они под музыку. Старик их осмеял! Качаясь, как на палубе В погоду непокойную, Представил он, как тешились В его-то времена! «Спой, Люба!» Не хотелося Петь белокурой барыне, Да старый так пристал! Чудесно спела барыня! Ласкала слух та песенка, Негромкая и нежная, Как ветер летним вечером, Легонько пробегающий По бархатной муравушке, Как шум дождя весеннего По листьям молодым! Под песню ту прекрасную Уснул Последыш. Бережно Снесли его в ладью И уложили сонного. Над ним с зеленым зонтиком Стоял дворовый преданный, Другой рукой отмахивал Слепней и комаров. Сидели молча бравые Гребцы; играла музыка Чуть слышно… лодка тронулась И мерно поплыла… У белокурой барыни Коса, как флаг распущенный, Играла на ветру… — Уважил я Последыша! — Сказал бурмистр. — Господь с тобой! Куражься, колобродь! Не знай про волю новую, Умри, как жил, помещиком, Под песни наши рабские, Под музыку холопскую — Да только поскорей! Дай отдохнуть крестьянину! Ну, братцы! поклонитесь мне, Скажи спасибо, Влас Ильич: Я миру порадел! Стоять перед Последышем Напасть… язык примелется, А пуще смех долит. Глаз этот… как завертится, Беда! Глядишь да думаешь: — Куда ты, друг единственный? По надобности собственной Аль по чужим делам? Должно быть, раздобылся ты Курьерской подорожною!.. — Чуть раз не прыснул я. Мужик я пьяный, ветреный, В амбаре крысы с голоду Подохли, дом пустехонек, А не взял бы, свидетель бог, Я за такую каторгу И тысячи рублей, Когда б не знал доподлинно, Что я перед последышем Стою… что он куражится По воле по моей… Влас отвечал задумчиво: — Бахвалься! А давно ли мы, Не мы одни — вся вотчина… (Да… все крестьянство русское!) Не в шутку, не за денежки, Не три-четыре месяца, А целый век… да что уж тут! Куда уж нам бахвалиться, Недаром Вахлаки! Однако Клима Лавина Крестьяне полупьяные Уважили: «Качать его!» И ну качать… «ура!» Потом вдову Терентьевну С Гаврилкой, малолеточком, Клим посадил рядком И жениха с невестою Поздравил! Подурачились Досыта мужики. Приели всё, всё припили, Что господа оставили, И только поздним вечером В деревню прибрели. Домашние их встретили Известьем неожиданным: Скончался старый князь! — Как так? — «Из лодки вынесли Его уж бездыханного — Хватил второй удар!» Крестьяне пораженные Переглянулись… крестятся… Вздохнули… Никогда Такого вздоха дружного, Глубокого-глубокого Не испускала бедная Безграмотной губернии Деревня Вахлаки…______
Но радость их вахлацкая Была непродолжительна. Со смертию Последыша Пропала ласка барская: Опохмелиться не дали Гвардейцы вахлакам! А за луга поемные Наследники с крестьянами Тягаются доднесь. Влас за крестьян ходатаем, Живет в Москве… был в Питере… А толку что-то нет!Пир— на весь мир (Из второй части)
Посвящается
Сергею Петровичу Боткину{214}Вступление
В конце села Вахлачина, Где житель — пахарь исстари И частью — смолокур, Под старой-старой ивою, Свидетельницей скромною Всей жизни вахлаков, Где праздники справляются, Где сходки собираются, Где днем секут, а вечером Целуются, милуются — Шел пир, великий пир! Орудовать по-питерски Привыкший дело всякое, Знакомец наш Клим Яковлич, Видавший благородные Пиры с речами, спичами — Затейщик пира был. На бревна, тут лежавшие, На сруб избы застроенной Уселись мужики; Тут тоже наши странники Сидели с Власом-старостой (Им дело до всего). Как только пить надумали, Влас сыну-малолеточку Вскричал: «Беги за Трифоном!» С дьячком приходским Трифоном, Гулякой, кумом старосты, Пришли его сыны, Семинаристы: Саввушка И Гриша; было старшему Уж девятнадцать лет; Теперь же протодьяконом Смотрел, а у Григория Лицо худое, бледное, И волос тонкий, вьющийся, С оттенком красноты. Простые парни, добрые, Косили, жали, сеяли И пили водку в праздники С крестьянством наравне. Тотчас же за селением Шла Волга, а за Волгою Был город небольшой (Сказать точнее, города В ту пору тени не было, А были головни: Пожар всё снес третьеводни). Так люди мимоезжие, Знакомцы вахлаков, Тут тоже становилися, Парома поджидаючи, Кормили лошадей. Сюда брели и нищие, И тараторка-странница, И тихий богомол. В день смерти князя старого Крестьяне не предвидели, Что не луга поемные, А тяжбу наживут. И, выпив по стаканчику, Первей всего заспорили: Как им с лугами быть? Не вся ты, Русь, обмеряна Землицей: попадаются Углы благословенные, Где ладно обошлось. Какой-нибудь случайностью — Неведеньем помещика, Живущего вдали, Ошибкою посредника, А чаще изворотами Крестьян-руководителей В надел крестьянам изредка Попало и леску. Там горд мужик, попробуй-ка В окошко стукнуть староста За податью — осердится! Один ответ до времени: «А ты леску продай!» И вахлаки надумали Свои луга поемные Сдать старосте — на подати: Все взвешено, рассчитано, Как раз — оброк и подати, С залишком. «Так ли, Влас?» — А коли подать справлена, Я никому не здравствую! Охота есть — работаю, Не то — валяюсь с бабою, Не то — иду в кабак! «Так!» — вся орда вахлацкая На слово Клима Лавина Откликнулась: на подати! «Согласен, дядя Влас?» — У Клима речь короткая И ясная, как вывеска, Зовущая в кабак, — Сказал шутливо староста, — Начнет Климаха бабою, А кончит — кабаком! «А чем же? не острогом же Кончать-ту? Дело верное, Не каркай, пореши!» Но Власу не до карканья. Влас был душа добрейшая, Болел за всю вахлачину, Не за одну семью. Служа при строгом барине, Нес тяготу на совести Невольного участника Жестокостей его. Как молод был, ждал лучшего, Да вечно так случалося, Что лучшее кончалося Ничем или бедой. И стал бояться нового, Богатого посулами, Неверующий Влас. Не столько в Белокаменной По мостовой проехано, Как по душе крестьянина Прошло обид… до смеху ли?.. Влас вечно был угрюм. А тут — сплошал старинушка! Дурачество вахлацкое Коснулось и его! Ему невольно думалось: «Без барщины… без подати… Без палки… правда ль, господи?» И улыбнулся Влас. Так солнце с неба знойного В лесную глушь дремучую Забросит луч — и чудо там: Роса горит алмазами, Позолотился мох. «Пей, вахлачки, погуливай!» Не в меру было весело: У каждого в груди Играло чувство повое, Как будто выносила их Могучая волна Со дна бездонной пропасти На свет, где нескончаемый Им уготован пир! Еще ведро поставили, Галденье непрерывное И песни начались! Как, схоронив покойника, Родные и знакомые О нем лишь говорят, Покамест не управятся С хозяйским угощением И не начнут зевать, — Так и галденье долгое За чарочкой, под ивою, Все, почитай, сложилося В поминки по подрезанным Помещичьим «крепям». К дьячку с семинаристами Пристали: «Пой веселую!» Запели молодцы. (Ту песню — не народную — Впервые спел сын Трифона, Григорий, вахлакам, И с «Положенья» царского, С народа крепи снявшего, Она по пьяным праздникам Как плясовая пелася Попами и дворовыми, — Вахлак ее не пел, А, слушая, притопывал, Присвистывал; «веселою» Не в шутку называл.)I. Горькое время — горькие песни
Веселая
— Кушай тюрю, Яша! Молочка-то нет! «Где ж коровка наша?» — Увели, мой свет! Барин для приплоду Взял ее домой. Славно жить народу На Руси святой! «Где же наши куры?» — Девчонки орут. — Не орите, дуры! Съел их земский суд; Взял еще подводу Да сулил постой… Славно жить народу На Руси святой! Разломило спину, А квашня не ждет! Баба Катерину Вспомнила — ревет: В дворне больше году Дочка… нет родной! Славно жить народу На Руси святой! Чуть из ребятишек, Глядь — и нет детей: Царь возьмет мальчишек Барин — дочерей! Одному уроду Вековать с семьей. Славно жить народу На Руси святой!______
Потом свою вахлацкую, Родную — хором грянули, Протяжную, печальную — Иных покамест нет. Не диво ли? широкая Сторонка Русь крещеная, Народу в ней тьма тем, А ни в одной-то душеньке Спокон веков до нашего Не загорелась песенка Веселая и ясная, Как ведренной денек. Не дивно ли? не страшно ли? О время, время новое! Ты тоже в песне скажешься, Но как?.. Душа народная! Воссмейся ж наконец!Барщинная
Беден, нечесан Калинушка, Нечем ему щеголять, Только расписана спинушка, Да за рубахой не знать. С лаптя до ворота Шкура вся вспорота, Пухнет с мякины живот. Верченый, крученый, Сеченый, мученый Еле Калина бредет. В ноги кабатчику стукнется, Горе потопит в вине, Только в субботу аукнется С барской конюшни жене…______
«Ай, песенка!.. Запомнить бы!..» Тужили наши странники, Что память коротка, А вахлаки бахвалились: — Мы барщинные! С наше-то Попробуй, потерпи! Мы барщинные! выросли Под рылом у помещика; День — каторга, а ночь? Что сраму-то! За девками Гонцы скакали тройками По нашим деревням. В лицо позабывали мы Друг дружку, в землю глядючи, Мы потеряли речь. В молчанку напивалися, В молчанку целовалися, В молчанку драка шла. — Ну, ты насчет молчанки-то Не очень! нам молчанка-то Досталась солоней! — Сказал соседней волости Крестьянин, с сеном ехавший (Нужда пристигла крайняя, Скосил — и на базар!). — Решила наша барышня Гертруда Александровна, Кто скажет слово крепкое, Того нещадно драть. И драли же! покудова Не перестали лаяться. А мужику не лаяться — Едино, что молчать. Намаялись! уж подлинно Отпраздновали волю мы, Как праздник: так ругалися, Что поп Иван обиделся За звоны колокольные, Гудевшие в тот день. Такие сказы чудные Посыпались… и диво ли? Ходить далеко за словом Не надо — все прописано На собственной спине. «У нас была оказия, — Сказал детина с черными, Большими бакенбардами, — Так нет ее чудней». (На малом шляпа круглая, С значком, жилетка красная, С десятком светлых пуговиц, Посконные штаны И лапти: малый смахивал На дерево, с которого Кору подпасок крохотный Всю снизу ободрал. А выше — ни царапины, В вершине не побрезгует Ворона свить гнездо.) — Так что же, брат, рассказывай! «Дай прежде покурю!» Покамест он покуривал, У Власа наши странники Спросили: — Что за гусь? — Так, подбегало-мученик[63], Приписан к нашей волости, Барона Синегузина[64] Дворовый человек Викентий Александрович. С запяток в хлебопашество Прыгнул! За ним осталася И кличка: «Выездной». Здоров, а ноги слабые, Дрожат; его-то барыня В карете цугом ездила Четверкой по грибы… Расскажет он! послушайте! Такая память знатная, Должно быть (кончил староста). Сорочьи яйца ел[65], Поправив шляпу круглую, Викентий Александрович К рассказу приступил.Про холопа примерного — Якова Верного
Был господин невысокого рода, Он деревнишку на взятки купил, Жил в ней безвыездно тридцать три года, Вольничал, бражничал, горькую пил. Жадный, скупой, не дружился с дворянами, Только к сестрице езжал на чаек; Даже с родными, не только с крестьянами, Был господин Поливанов жесток; Дочь повенчав, муженька благоверного Высек — обоих прогнал нагишом, В зубы холопа примерного, Якова верного, Походя дул каблуком. Люди холопского звания — Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа. Яков таким объявился измладости, Только и было у Якова радости: Барина холить, беречь, ублажать Да племяша-малолетка качать. Так они оба до старости дожили, Стали у барина ножки хиреть, Ездил лечиться, да ноги не ожили… Полно кутить, баловаться и петь! Очи-то ясные, Щеки-то красные, Пухлые руки, как сахар, белы, Да на ногах — кандалы! Смирно помещик лежит под халатом, Горькую долю клянет, Яков при барине: другом и братом Верного Якова барин зовет. Зиму и лето вдвоем коротали, В карточки больше играли они, Скуку рассеять к сестрице езжали Верст за двенадцать в хорошие дни. Вынесет сам его Яков, уложит, Сам на долгушке свезет до сестры{215}, Сам до старушки добраться поможет. Так они жили ладком — до поры… Вырос племянничек Якова, Гриша, Барину в ноги: «Жениться хочу!» — Кто же невеста? — «Невеста — Ариша». Барин ответствует: «В гроб вколочу!» Думал он сам, на Аришу-то глядя: «Только бы ноги господь воротил!» Как ни просил за племянника дядя, Барин соперника в рекруты сбыл. Крепко обидел холопа примерного, Якова верного Барин, — холоп задурил! Мертвую запил… Неловко без Якова, Кто ни послужит — дурак, негодяй! Злость-то давно накипела у всякого, Благо есть случай: груби, вымещай! Барин то просит, те пёсски ругается, Так две недели прошли. Вдруг его верный холоп возвращается… Первое дело — поклон до земли. Жаль ему, видишь ты, стало безногого: Кто-де сумеет его соблюсти? «Не поминай только дела жестокого; Буду свой крест до могилы нести!» Снова помещик лежит под халатом, Снова у ног его Яков сидит, Снова помещик зовет его братом. «Что ты нахмурился, Яша?» — Мутит! — Много грибов нанизали на нитки, В карты сыграли, чайку напились, Ссыпали вишни, малину в напитки И поразвлечься к сестре собрались. Курит помещик, лежит беззаботно, Ясному солнышку, зелени рад. Яков угрюм, говорит неохотно, Вожжи у Якова дрожмя дрожат, Крестится. «Чур меня, сила нечистая! — Шепчет: — Рассыпься!» (Мутил его враг.) Едут… Направо трущоба лесистая, Имя ей исстари: Чертов овраг; Яков свернул и поехал оврагом, Барин опешил: «Куда ж ты, куда?» Яков ни слова. Проехали шагом Несколько верст; не дорога — беда! Ямы, валежник; бегут по оврагу Вешние воды, деревья шумят… Стали лошадки — и дальше ни шагу. Сосны стеной перед ними торчат. Яков, не глядя на барина бедного, Начал коней отпрягать, Верного Яшу, дрожащего, бледного, Начал помещик тогда умолять. Выслушал Яков посулы — и грубо, Зло засмеялся: «Нашел душегуба! Стану я руки убийством марать, Нет, не тебе умирать!» Яков на сосну высокую прянул, Вожжи в вершине ее укрепил. Перекрестился, на солнышко глянул, Голову в петлю — и ноги спустил!.. Экие страсти господни! Висит Яков над барином, мерно качается. Мечется барин, рыдает, кричит, Эхо одно откликается! Вытянул голову, голос напряг Барин — напрасные крики! В саван окутался Чертов овраг, Ночью там росы велики, Зги не видать! только совы снуют, Оземь ширяясь крылами, Слышно, как лошади листья жуют, Тихо звеня бубенцами. Словно чугунка подходит — горят Чьи-то два круглые, яркие ока; Птицы какие-то с шумом летят, Слышно, посели они недалеко. Ворон над Яковом каркнул один. Чу! их слетелось до сотни! Ухнул, грозит костылем господин… Экие страсти господни! Барин в овраге всю ночь пролежал, Стонами птиц и волков отгоняя, Утром охотник его увидал. Барин вернулся домой, причитая: «Грешен я, грешен! Казните меня!» — Будешь ты, барин, холопа примерного, Якова верного, Помнить до Судного дня!______
«Грехи, грехи! — послышалось Со всех сторон. — Жаль Якова, Да жутко и за барина, — Какую принял казнь!» «Жалей!..» Еще прослушали Два-три рассказа страшные И горячо заспорили О том, кто всех грешней? Один сказал: «кабатчики», Другой сказал: «помещики», А третий — «мужики». То был Игнатий Прохоров, Извозом занимавшийся, Степенный и зажиточный Мужик — не пустослов. Видал он виды всякие, Изъездил всю губернию И вдоль и поперек. Его послушать надо бы. Однако вахлаки Так обозлились, не дали Игнатью слова вымолвить, Особенно Клим Яковлев Куражился: «Дурак же ты!..» — А ты бы прежде выслушал… «Дурак же ты…» — И все-то вы, Я вижу, дураки! — Вдруг вставил слово грубое Еремин, брат купеческий, Скупавший у крестьян Что ни попало, лапти ли, Теленка ли, бруснику ли, А главное — мастак Подстерегать оказии, Когда сбирались подати И собственность вахлацкая Пускалась с молотка. — Затеять спор затеяли, А в точку не утрафили! Кто всех грешней? подумайте! — Ну, кто же? говори! «Известно, кто: разбойники!» А Клим ему в ответ: — Вы крепостными не были, Была капель великая, Да не на вашу плешь! Набил мошну: мерещатся Везде ему разбойники; Разбой — статья особая, Разбой тут ни при чем! «Разбойник за разбойника Вступился!» — прасол{216} вымолвил, А Лавин — скок к нему! — Молись! — и в зубы прасола. «Прощайся с животишками!» — И прасол в зубы Лавина. «Ай, драка! молодцы!» Крестьяне расступилися, Никто не подзадоривал, Никто не разнимал. Удары градом сыпались: — Убью! пиши к родителям! «Убью! зови попа!» Тем кончилось, что прасола Клим сжал рукой, как обручем, Другой вцепился в волосы И гнул со словом «кланяйся» Купца к своим ногам. — Ну, баста! — прасол вымолвил, Клим выпустил обидчика, Обидчик сел на бревнышко, Платком широким клетчатым Отерся и сказал: — Твоя взяла! и диво ли? Не жнет, не пашет — шляется По коновальской должности, Как сил не нагулять? (Крестьяне засмеялися.) «А ты еще не хочешь ли?» — Сказал задорно Клим. — Ты думал, нет? Попробуем! — Купец снял чуйку бережно И в руки поплевал. «Раскрыть уста греховные Пришел черед: прислушайте! И так вас помирю!» — Вдруг возгласил Ионушка, Весь вечер молча слушавший, Вздыхавший и крестившийся, Смиренный богомол. Купец был рад; Клим Яковлев Помалчивал. Уселися, Настала тишина.II. Странники и богомольцы
Бездомного, безродного Немало попадается Народу на Руси, Не жнут, не сеют — кормятся Из той же общей житницы, Что кормит мышку малую И воинство несметное: Оседлого крестьянина Горбом ее зовут. Пускай народу ведомо, Что целые селения На попрошайство осенью, Как на доходный промысел, Идут: в народной совести Уставилось решение, Что больше тут злосчастия, Чем лжи, — им подают. Пускай нередки случаи, Что странница окажется Воровкой; что у баб За просфоры афонские, За «слезки богородицы» Паломник пряжу выманит, А после бабы сведают, Что дальше Тройцы-Сергия Он сам-то не бывал. Был старец, чудным пением Пленял сердца народные; С согласья матерей, В селе Крутые Заводи Божественному пению Стал девок обучать; Всю зиму девки красные С ним в риге запиралися, Оттуда пенье слышалось, А чаще смех и визг. Однако чем же кончилось? Он петь-то их не выучил, А перепортил всех. Есть мастера великие Подлаживаться к барыням: Сначала через баб Доступится до девичьей, А там — и до помещицы. Бренчит ключами, по двору Похаживает барином, Плюет в лицо крестьянину, Старушку богомольную Согнул в бараний рог!.. Но видит в тех же странниках И лицевую сторону Народ. Кем церкви строятся? Кто кружки монастырские Наполнил через край? Иной добра не делает, И зла за ним не видится, Иного не поймешь. Знаком народу Фомушка: Вериги двухпудовые По телу опоясаны, Зимой и летом бос, Бормочет непонятное, А жить — живет по-божески: Доска да камень в головы, А пища — хлеб один. Чудён ему и памятен Старообряд Кропильников, Старик, вся жизнь которого То воля, то острог. Пришел в село Усолово: Корит мирян безбожием, Зовет в леса дремучие Спасаться. Становой Случился тут, все выслушал: — К допросу сомустителя! — Он то же и ему: «Ты враг Христов, антихристов Посланник!» Сотский, староста Мигали старику: — Эй, покорись! — не слушает! Везли его в острог, А он корил начальника И, на телеге стоючи, Усоловцам кричал: «Горе вам, горе, пропащие головы! Были оборваны, — будете голы вы, Били вас палками, розгами, кнутьями, Будете биты железными прутьями!..» Усоловцы крестилися, Начальник бил глашатая: «Попомнишь ты, анафема, Судью ерусалимского!» У парня, у подводчика, С испугу вожжи выпали И волос дыбом стал! И, как на грех, воинская Команда утром грянула: В Устой, село недальное, Солдатики пришли. Допросы! усмирение! Тревога! по спопутности Досталось и усоловцам: Пророчество строптивого Чуть в точку не сбылось. Вовек не позабудется Народом Евфросиньюшка, Посадская вдова: Как божия посланница, Старушка появляется В холерные года; Хоронит, лечит, возится С больными. Чуть не молятся Крестьянки на нее… Стучись же, гость неведомый! Кто б ни был ты, уверенно В калитку деревенскую Стучись! Не подозрителен Крестьянин коренной, В нем мысль не зарождается, Как у людей достаточных, При виде незнакомого, Убогого и робкого: Не стибрил бы чего? А бабы — те радёхоньки. Зимой, перед лучиною Сидит семья, работает, А странничек гласит. Уж в баньке он попарился, Ушицы ложкой собственной, С рукой благословляющей{217}, Досыта похлебал. По жилам ходит чарочка, Рекою льется речь. В избе все словно замерло: Старик, чинивший лапотки, К ногам их уронил; Челнок давно не чикает, Заслушалась работница У ткацкого станка; Застыл уж на уколотом Мизинце у Евгеньюшки, Хозяйской старшей дочери, Высокий бугорок, А девка и не слышала, Как укололась до крови; Шитье к ногам спустилося, Сидит, — зрачки расширены, — Руками развела… Ребята, свесив головы С полатей, не шелохнутся: Как тюленята сонные На льдинах за Архангельском, Лежат на животе. Лиц не видать, завешены Спустившимися прядями Волос — не нужно сказывать, Что желтые они. Постой! уж скоро странничек Доскажет быль афонскую{218}, Как турка взбунтовавшихся Монахов в море гнал, Как шли покорно иноки И погибали сотнями… Услышишь шепот ужаса, Увидишь ряд испуганных, Слезами полных глаз! Пришла минута страшная — И у самой хозяюшки Веретено пузатое Скатилося с колен. Кот Васька насторожился — И прыг к веретену! В другую пору то-то бы Досталось Ваське шустрому, А тут и не заметили, Как он проворной лапкою Веретено потрогивал, Как прыгал на него, И как оно каталося, Пока не размоталася Напряденная нить! Кто видывал, как слушает Своих захожих странников Крестьянская семья, Поймет, что ни работою, Ни вечною заботою, Ни игом рабства долгого, Ни кабаком самим Еще народу русскому Пределы не поставлены: Пред ним широкий путь! Когда изменят пахарю Поля старозапашные, Клочки в лесных окраинах Он пробует пахать. Работы тут достаточно, Зато полоски новые Дают без удобрения Обильный урожай. Такая почва добрая — Душа народа русского… О сеятель! приди!.. Иона (он же Ляпушкин) Сторонушку вахлацкую Издавна навещал. Не только не гнушалися Крестьяне божьим странником, А спорили о том, Кто первый приютит его? Пока их спорам Ляпушкин Конца не положил: «Эй! бабы! выносите-ка Иконы!» Бабы вынесли; Пред каждою иконою Иона падал ниц: «Не спорьте! Дело божие, Котора взглянет ласковей, За тою и пойду!» И часто за беднейшею Иконой шел Ионушка В беднейшую избу. И к той избе особое Почтенье: бабы бегают С узлами, сковородками В ту избу. Чашей полною, По милости Ионушки, Становится она. Негромко и неторопко Повел рассказ Ионушка «О двух великих грешниках», Усердно покрестясь.О двух великих грешниках
Господу богу помолимся, Древнюю быль возвестим, Мне в Соловках ее сказывал Инок, отец Питирим. Было двенадцать разбойников, Был Кудеяр — атаман, Много разбойники пролили Крови честных христиан, Много богатства награбили, Жили в дремучем лесу. Вождь Кудеяр из-под Киева Вывез девицу-красу, Днем с полюбовницей тешился, Ночью набеги творил, Вдруг у разбойника лютого Совесть господь пробудил. Сон отлетел; опротивели Пьянство, убийство, грабеж, Тени убитых являются, Целая рать — не сочтешь! Долго боролся, противился Господу зверь-человек, Голову снес полюбовнице И есаула засек. Совесть злодея осилила, Шайку свою распустил, Роздал на церкви имущество, Нож под ракитой зарыл. И прегрешенья отмаливать К гробу господню идет, Странствует, молится, кается, Легче ему не стаёт. Старцем, в одежде монашеской, Грешник вернулся домой, Жил под навесом старейшего Дуба, в трущобе лесной. Денно и нощно всевышнего Молит: грехи отпусти! Тело предай истязанию, Дай только душу спасти! Сжалился бог и к спасению Схимнику путь указал: Старцу в молитвенном бдении Некий угодник предстал, Рек: «Не без божьего промысла Выбрал ты дуб вековой, Тем же ножом, что разбойничал, Срежь его, той же рукой! Будет работа великая, Будет награда за труд, Только что рухнется дерево, Цепи греха упадут». Смерил отшельник страшилище. Дуб — три обхвата кругом! Стал на работу с молитвою, Режет булатным ножом, Режет упругое дерево, Господу славу поет. Годы идут — подвигается Медленно дело вперед. Что с великаном поделает Хилый, больной человек? Нужны тут силы железные, Нужен не старческий век! В сердце сомнение крадется, Режет и слышит слова: «Эй, старина, что ты делаешь?» Перекрестился сперва, Глянул — и пана Глуховского Видит на борзом коне, Пана богатого, знатного, Первого в той стороне. Много жестокого, страшного Старец о пане слыхал, И в поучение грешнику Тайну свою рассказал. Пан усмехнулся: «Спасения Я уж не чаю давно, В мире я чту только женщину, Золото, честь и вино. Жить надо, старче, по-моему: Сколько холопов гублю, Мучу, пытаю и вешаю, А поглядел бы, как сплю!» Чудо с отшельником сталося: Бешеный гнев ощутил, Бросился к пану Глуховскому, Нож ему в сердце вонзил! Только что пан окровавленный Пал головой на седло, Рухнуло древо громадное, Эхо весь лес потрясло. Рухнуло древо, скатилося С инока бремя грехов!.. Господу богу помолимся: Милуй нас, темных рабов!III. И старое и новое
Иона кончил, крестится; Народ молчит. Вдруг прасола Сердитым криком прорвало: «Эй, вы, тетери сонные! Па-ром, живей, па-ром!» — Парома не докличешься До солнца! перевозчики И днем-то трусу празднуют, Паром у них худой, Пожди! Про Кудеяра-то… «Паром! пар-ром! пар-ром!» Ушел, с телегой возится, Корова к ней привязана — Он пнул ее ногой; В ней курочки курлыкают, Сказал им: «Дуры! цыц!» Теленок в ней мотается — Досталось и теленочку По звездочке на лбу. Нажег коня саврасого Кнутом — и к Волге двинулся. Плыл месяц над дорогою, Такая тень потешная Бежала рядом с прасолом По лунной полосе! «Отдумал, стало, драться-то? А спорить — видит — не о чем, — Заметил Влас. — Ой, господи! Велик дворянский грех!» — Велик, а все не быть ему Против греха крестьянского, — Опять Игнатий Прохоров Не вытерпел — сказал. Клим плюнул. — Эк приспичило! Кто с чем, а нашей галочке Родные галченяточки Всего милей… ну, сказывай, Что за великий грех?Крестьянский грех
Аммирал-вдовец по морям ходил, По морям ходил, корабли водил, Под Ачаковым{219} бился с туркою, Наносил ему поражение, И дала ему государыня Восемь тысяч душ в награждение. В той ли вотчине припеваючи Доживает век аммирал-вдовец И вручает он, умираючи, Глебу-старосте золотой ларец. «Гой ты, староста! Береги ларец! Воля в нем моя сохраняется: Из цепей-крепей на свободушку Восемь тысяч душ отпускается!» Аммирал-вдовец на столе лежит, Дальний родственник хоронить катит… Схоронил, забыл! Кличет старосту И заводит с ним речь окольную; Все повыведал, насулил ему Горы золота, выдал вольную… Глеб — он жаден был — соблазняется: Завещание сожигается! На десятки лет, до недавних дней Восемь тысяч душ закрепил злодей, С родом, с племенем; что народу-то! Что народу-то! с камнем в воду-то! Всё прощает бог, а Иудин грех Не прощается. Ой, мужик! мужик! ты грешнее всех, И за то тебе вечно маяться!______
Суровый и рассерженный, Громовым, грозным голосом Игнатий кончил речь. Толпа вскочила на ноги, Пронесся вздох, послышалось: «Так вот он, грех крестьянина! И впрямь страшенный грех!» — И впрямь: нам вечно маяться, Ох-ох!.. — сказал сам староста, Опять убитый, в лучшее Не верующий Влас И скоро поддававшийся Как горю, так и радости. «Великий грех! великий грех!» — Тоскливо вторил Клим. Площадка перед Волгою, Луною освещенная, Переменилась вдруг. Пропали люди гордые, С уверенной походкою, Остались вахлаки, Досыта не едавшие, Несолоно хлебавшие, Которых вместо барина Драть будет волостной, К которым голод стукнуться Грозит: засуха долгая, А тут еще — жучок! Которым прасол-выжига Урезать цену хвалится На их добычу трудную, Смолу, слезу вахлацкую, Урежет, попрекнет: «За что платить вам много-то? У вас товар некупленный, Из вас на солнце топится Смола, как из сосны!» Опять упали бедные На дно бездонной пропасти, Притихли, приубожились, Легли на животы; Лежали, думу думали И вдруг запели. Медленно, Как туча надвигается, Текли слова тягучие. Так песню отчеканили, Что сразу наши странники Упомнили ее:Голодная
Стоит мужик — Колышется, Идет мужик — Не дышится! С коры его Распучило, Тоска-беда Измучила. Темней лица Стеклянного Не видано У пьяного. Идет — пыхтит, Идет — и спит, Прибрел туда, Где рожь шумит. Как идол стал На полосу, Стоит, поет Без голосу: «Дозрей, дозрей, Рожь-матушка! Я пахарь твой, Панкратушка! Ковригу съем Гора горой, Ватрушку съем Со стол большой! Все съем один, Управлюсь сам. Хоть мать, хоть сын Проси — не дам!»______
«Ой, батюшки, есть хочется!» — Сказал упалым голосом Один мужик; из пещура{220} Достал краюху — ест. — Поют они без голосу, А слушать — дрожь по волосу! — Сказал другой мужик. И правда, что не голосом — Нутром — свою «Голодную» Пропели вахлаки. Иной во время пения Стал на ноги, показывал, Как шел мужик расслабленный, Как сон долил голодного, Как ветер колыхал, И были строги, медленны Движенья. Спев «Голодную», Шатаясь, как разбитые, Гуськом пошли к ведерочку И выпили певцы. «Дерзай!» — за ними слышится Дьячково слово; сын его Григорий, крестник старосты, Подходит к землякам. «Хошь водки?» — Пил достаточно. Что тут у вас случилося? Как в воду вы опущены!.. «Мы?.. что ты?..» Насторожились, Влас положил на крестника Широкую ладонь. — Неволя к вам вернулася? Погонят вас на барщину? Луга у вас отобраны? «Луга-то?.. Шутишь, брат!» — Так что ж переменилося?.. Закаркали «Голодную», Накликать голод хочется? «Никак, и впрямь ништо!» — Клим как из пушки выпалил; У многих зачесалися Затылки, шепот слышится: — Никак, и впрямь ништо! «Пей, вахлачки, погуливай! Все ладно, все по-нашему, Как было ждано-гадано, Не вешай головы!» — По-нашему ли, Климушка? А Глеб-то?.. Потолковано Немало: в рот положено, Что не они ответчики За Глеба окаянного, Всему виною: крепь! «Змея родит змеенышей, А крепь — грехи помещика, Грех Якова несчастного, Грех Глеба родила! Нет крепи — нет помещика, До петли доводящего Усердного раба, Нет крепи — нет дворового, Самоубийством мстящего Злодею своему, Нет крепи — Глеба нового Не будет на Руси!» Всех пристальней, всех радостней Прослушал Гришу Пров: Осклабился, товарищам Сказал победным голосом: «Мотайте-ка на ус!» «Так, значит, и «Голодную» Теперь навеки побоку? Эй, други! Пой веселую!» — Клим радостно кричал… Пошло, толпой подхвачено, О крепи слово верное Трепаться: «Нет змеи — Не будет и змеенышей!» Клим Яковлев Игнатия Опять ругнул: — Дурак же ты! — Чуть-чуть не подрались! Дьячок рыдал над Гришею: «Создаст же бог головушку! Недаром порывается В Москву, в новорситет!» А Влас его поглаживал: — Дай бог тебе и серебра И золотца, дай умную, Здоровую жену! «Не надо мне ни серебра, Ни золота, а дай господь, Чтоб землякам моим И каждому крестьянину Жилось вольготно-весело На всей святой Руси!» — Зардевшись, словно девушка, Сказал из сердца самого Григорий — и ушел.______
Светает. Снаряжаются Подводчики. — Эй, Влас Ильич! Иди сюда, гляди, кто здесь! — Сказал Игнатий Прохоров, Взяв к бревнам приваленную Дугу. Подходит Влас, За ним бегом Клим Яковлев, За Климом — наши странники (Им дело до всего): За бревнами, где нищие Вповалку спали с вечера, Лежал какой-то смученный, Избитый человек. На нем одёжа новая, Да только вся изорвана, На шее красный, шелковый Платок, рубаха красная, Жилетка и часы. Нагнулся Лавин к спящему, Взглянул и с криком: «Бей его!» — Пнул в зубы каблуком. Вскочил детина, мутные Протер глаза, а Влас его Тем временем в скулу. Как крыса прищемленная, Детина пискнул жалобно — И к лесу! Ноги длинные, Бежит — земля дрожит! Четыре парня бросились В погоню за детиною, Народ кричал им: «Бей его!», Пока в лесу не скрылися И парни и беглец. «Что за мужчина? — старосту Допытывали странники. — За что его тузят?» — Не знаем, так наказано Нам из села из Тискова, Что буде где покажется Егорка Шутов — бить его! И бьем. Подъедут тисковцы, Расскажут. Удоволили? — Спросил старик вернувшихся С погони молодцов. «Догнали, удоволили! Побег к Кузьмо-Демьянскому, Там, видно, переправиться За Волгу норовит». — Чудной народ! бьют сонного, За что про что не знаючи… — Коли всем миром велено: Бей! — стало, есть за что! — Прикрикнул Влас на странников. Не ветрогоны тисковцы, Давно ли там десятого Пороли?.. ой, Егор!.. Ай служба — должность подлая!.. Гнусь-человек! — Не бить его, Так уж кого и бить? Не нам одним наказано: От Тискова по Волге-то Тут деревень четырнадцать, Чай, через все четырнадцать Прогнали, как сквозь строй!{221} Притихли наши странники. У знать-то им желательно, В чем штука? да прогневался И так уж дядя Влас.______
Совсем светло. Позавтракать Мужьям хозяйки вынесли: Ватрушки с творогом, Гусятина (прогнали тут Гусей, три затомилися, Мужик их нес под мышкою: «Продай! помрут до городу!» Купили ни за что). Как пьет мужик, толковано Немало, а не всякому Известно, как он ест. Жаднее на говядину, Чем на вино, бросается; Был тут непьющий каменщик, Так опьянел с гусятины. На что твое вино! Чу! слышен крик: «Кто едет-то! Кто едет-то!» Наклюнулось Еще подспорье шумному Веселью вахлаков. Воз с сеном приближается, Высоко на возу Сидит солдат Овсянников, Верст на двадцать в окружности Знакомый мужикам. И рядом с ним Устиньюшка, Сироточка-племянница, Поддержка старика. Райком кормился дедушка{222}, Москву да Кремль показывал, Вдруг инструмент испортился, А капиталу нет! Три желтенькие ложечки Купил — так не приходятся Заученные натвердо Присловья к новой музыке, Народа не смешат! Хитер солдат! по времени Слова придумал новые, И ложки в ход пошли. Обрадовались старому: «Здорово, дедко! спрыгни-ка, Да выпей с нами рюмочку, Да в ложечки ударь!» — Забраться-то забрался я, А как сойду, не ведаю: Ведет! — «Небось до города Опять за полной пенцией? Да город-то сгорел!» — Сгорел? И поделом ему! Сгорел? Так я до Питера! Там все мои товарищи Гуляют с полной пенцией, Там — дело разберут! «Чай, по чугунке тронешься?» Служивый посвистал: — Недолго послужила ты Народу православному, Чугунка бусурманская! Была ты нам люба, Как от Москвы до Питера Возили за три рублика, А коли семь-то рубликов Платить, так черт с тобой!{223} — А ты ударь-ка в ложечки, — Сказал солдату староста. — Народу подгулявшего Покуда тут достаточно, Авось дела поправятся. Орудуй живо, Клим! (Влас Клима недолюбливал, А чуть делишко трудное, Тотчас к нему: «Орудуй, Клим!» А Клим тому и рад.) Спустили с возу дедушку. Солдат был хрупок на ноги, Высок и тощ до крайности, На нем сюртук с медалями Висел, как на шесте. Нельзя сказать, чтоб доброе Лицо имел, особенно Когда сводило старого — Черт чертом! Рот ощерится, Глаза — что угольки! Солдат ударил в ложечки, Что было вплоть до берегу Народу — все сбегается. Ударил — и запел:Солдатская
Тошен свет, Правды нет, Жизнь тошна, Боль сильна. Пули немецкие, Пули турецкие, Пули французские, Палочки русские! Тошен свет, Хлеба нет, Крова нет, Смерти нет. Ну-тка, с редута-то с первого номеру, Ну-тка, с «Георгием» — по миру, по миру У богатого, У богатины Чуть не подняли На рогатину. Весь в гвоздях забор Ощетинился, А хозяин-вор Оскотинился. Нет у бедного Гроша медного: «Не взыщи, солдат!» — И не надо, брат! — Тошен свет, Хлеба нет, Крова нет, Смерти нет. Только трех Матрен Да Луку с Петром Помяну добром. У Луки с Петром Табачку нюхнем, А у трех Матрен Провиант найдем. У первой Матрены Груздочки ядрены, Матрена вторая Несет каравая, У третьей водицы попью из ковша: Вода ключевая, а мера — душа! Тошен свет, Правды нет, Жизнь тошна, Боль сильна. Служивого задергало. Опершись на Устиньюшку, Он поднял ногу левую И стал ее раскачивать, Как гирю на весу; Проделал то же с правою, Ругнулся: «Жизнь проклятая!» — И вдруг на обе стал. «Орудуй, Клим!» По-питерски Клим дело оборудовал: По блюдцу деревянному Дал дяде и племяннице, Поставил их рядком, А сам вскочил на бревнышко И громко крикнул: — Слушайте! (Служивый не выдерживал И часто в речь крестьянина Вставлял словечко меткое И в ложечки стучал.)Клим
Колода есть дубовая У моего двора, Лежит давно: измладости Колю на ней дрова, Так та не столь изранена, Как господин служивенький. Взгляните, в чем душа!Солдат
Пули немецкие, Пули турецкие, Пули французские, Палочки русские.Клим
А пенциону полного Не вышло, забракованы Все раны старика; Взглянул помощник лекаря, Сказал: «Второразрядные! По ним и пенцион».Солдат
Полного выдать не велено: Сердце насквозь не прострелено! (Служивый всхлипнул; в ложечки Хотел ударить, — скорчило! Не будь при нем Устиньюшки, Упал бы старина.)Клим
Солдат опять с прошением. Вершками раны смеряли И оценили каждую Чуть-чуть не в медный грош. Так мерил пристав следственный Побои на подравшихся На рынке мужиках: «Под правым глазом ссадина? Величиной с двугривенный, В средине лба пробоина В целковый. Итого: На рубль пятнадцать с деньгою Побоев…» Приравняем ли К побоищу базарному Войну под Севастополем, Где лил солдатик кровь?Солдат
Только горами не двигали, А на редуты как прыгали! Зайцами, белками, дикими кошками Там и простился я с ножками, С адского грохоту, свисту оглох, С русского голоду чуть не подох!Клим
Ему бы в Питер надобно До комитета раненых, — Пеш до Москвы дотянется, А дальше как? Чугунка-то Кусаться начала!Солдат
Важная барыня! гордая барыня! Ходит, змеею шипит. «Пусто вам! пусто вам! пусто вам!» Русской деревне кричит, В рожу крестьянину фыркает, Давит, увечит, кувыркает, Скоро весь русский народ Чище метлы подметет. Солдат слегка притопывал, И слышалось, как стукалась Сухая кость о кость, А Клим молчал: уж двинулся К служивому народ. Все дали: по копеечке, По грошу, на тарелочках Рублишко набрался…IV. Доброе время — добрые песни
В замену спичей с песнями, В подспорье речи с дракою, Пир только к утру кончился, Великий пир!.. Расходится Народ. Уснув, осталися Под ивой наши странники, И тут же спал Ионушка, Смиренный богомол. Качаясь, Савва с Гришею Вели домой родителя И пели; в чистом воздухе Над Волгой, как набатные, Согласные и сильные Гремели голоса: Доля народа, Счастье его, Свет и свобода Прежде всего! Мы же немного Просим у бога: Честное дело Делать умело Силы нам дай! Жизнь трудовая, — Другу прямая К сердцу дорога, Прочь от порога, Трус и лентяй! То ли не рай? Доля народа, Счастье его, Свет и свобода Прежде всего!______
Беднее захудалого Последнего крестьянина Жил Трифон. Две каморочки: Одна с дымящей печкою, Другая, в сажень, — летняя, И вся тут недолга; Коровы нет, лошадки нет, Была собака Зудушка, Был кот — и те ушли. Спать уложив родителя, Взялся за книгу Саввушка, А Грише не сиделося, Ушел в поля, в луга. У Гриши — кость широкая, Но сильно исхудалое Лицо — их недокармливал Хапуга-эконом. Григорий в семинарии В час ночи просыпается И уж потом до солнышка Не спит — ждет жадно ситника, Который выдавался им Со сбитнем по утрам. Как ни бедна вахлачина, Они в ней отъедалися, Спасибо Власу-крестному И прочим мужикам! Платили им молодчики, По мере сил, работою, По их делишкам хлопоты Справляли в городу. Дьячок хвалился детками, А чем они питаются — И думать позабыл. Он сам был вечно голоден, Весь тратился на поиски, Где выпить, где поесть. И был он нрава легкого, А будь иного, вряд ли бы И дожил до седин. Его хозяйка Домнушка Была куда заботлива, Зато и долговечности Бог не дал ей. Покойница Всю жизнь о соли думала: Нет хлеба — у кого-нибудь Попросит, а за соль Дать надо деньги чистые, А их во всей вахлачине, Сгоняемой на барщину, Не густо! Благо — хлебушком Вахлак делился с Домною. Давно в земле истлели бы Ее родные деточки, Не будь рука вахлацкая Щедра, чем бог послал. Батрачка безответная На каждого, кто чем-нибудь Помог ей в черный день, Всю жизнь о соли думала, О соли пела Домнушка, Стирала ли, косила ли, Баюкала ли Гришеньку, Любимого сынка. Как сжалось сердце мальчика, Когда крестьянки вспомнили И спели песню Домнину (Прозвал ее «Соленою» Находчивый вахлак).Соленая
Никто как бог! Не ест, не пьет Меньшой сынок, Гляди — умрет! Дала кусок, Дала другой — Не ест, кричит: «Посыпь сольцой!» А соли нет, Хоть бы щепоть! «Посыпь мукой», — Шепнул господь. Раз-два куснул, Скривил роток. «Соли еще!» — Кричит сынок. Опять мукой… А на кусок Слеза рекой! Поел сынок! Хвалилась мать — Сынка спасла… Знать, солона Слеза была!.. Запомнил Гриша песенку И голосом молитвенным Тихонько в семинарии, Где было темно, холодно, Угрюмо, строго, голодно, Певал — тужил о матушке И обо всей вахлачине, Кормилице своей. И скоро в сердце мальчика С любовью к бедной матери Любовь ко всей вахлачине Слилась — и лет пятнадцати Григорий твердо знал уже, Кому отдаст всю жизнь свою И за кого умрет. Довольно демон ярости Летал с мечом карающим Над русскою землей. Довольно рабство тяжкое Одни пути лукавые Открытыми, влекущими Держало на Руси! Над Русью оживающей Иная песня слышится: То ангел милосердия, Незримо пролетающий Над нею, — души сильные Зовет на честный путь. Средь мира дольного Для сердца вольного Есть два пути. Взвесь силу гордую, Взвесь волю твердую, — Каким идти? Одна просторная Дорога — торная, Страстей раба, По ней громадная, К соблазну жадная Идет толпа. О жизни искренней, О цели выспренней Там мысль смешна. Кипит там вечная, Бесчеловечная Вражда-война За блага бренные… Там души пленные Полны греха. На вид блестящая, Там жизнь мертвящая К добру глуха. Другая — тесная, Дорога честная, По ней идут Лишь души сильные, Любвеобильные, На бой, на труд За обойденного, За угнетенного, Стань в их ряды. Иди к униженным, Иди к обиженным — Там нужен ты.______
И ангел милосердия Недаром песнь призывную Поет над русским юношей — Немало Русь уж выслала Сынов своих, отмеченных Печатью дара божьего, На честные пути, Немало их оплакала (Пока звездой падучею Проносятся они!). Как ни темна вахлачина, Как ни забита барщиной И рабством — и она, Благословясь, поставила В Григорье Добросклонове Такого посланца. Ему судьба готовила Путь славный, имя громкое Народного заступника, Чахотку и Сибирь.______
Светило солнце ласково, Дышало утро раннее Прохладой, ароматами Косимых всюду трав… Григорий шел задумчиво Сперва большой дорогою (Старинная: с высокими Курчавыми березами, Прямая, как стрела). Ему то было весело, То грустно. Возбужденная Вахлацкого пирушкою, В нем сильно мысль работала К в песне излилась: «В минуту унынья, о родина-мать! Я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, Но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежества мрак над тобой, Удушливей сон непробудный. Была ты глубоко несчастной страной, Подавленной, рабски бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил Позорным страстям господина? Потомок татар, как коня, выводил На рынок раба-славянина, И русскую деву влекли на позор, Свирепствовал бич без боязни, И ужас народа при слове «набор» Подобен был ужасу казни? Довольно! Окончен с прошедшим расчет. Окончен расчет с господином! Сбирается с силами русский народ И учится быть гражданином, И ношу твою облегчила судьба, Сопутница дней славянина! Еще ты в семействе покуда — раба, Но мать уже вольного сына!..»______
Сманила Гришу узкая, Извилистая тропочка, Через хлеба бегущая, В широкий луг покошенный Спустился он по ней. В лугу траву сушившие Крестьянки Гришу встретили Его любимой песнею. Взгрустнулось крепко юноше По матери-страдалице, А пуще злость брала. Он в лес ушел. Аукаясь, В лесу, как перепелочки Во ржи, — бродили малые Ребята (а постарше-то Ворочали сенцо). Он с ними кузов рыжиков Набрал. Уж жжется солнышко; Ушел к реке. Купается, — Три дня тому сгоревшего Обугленного города Картина перед ним: Ни дома уцелевшего, Одна тюрьма спасенная, Недавно побеленная, Как белая коровушка На выгоне, стоит. Начальство там попряталось, А жители под берегом, Как войско, стали лагерем. Всё спит еще, немногие Проснулись: два подьячие, Придерживая полочки Халатов, пробираются Между шкафами, стульями, Узлами, экипажами К палатке-кабаку. Туда ж портняга скорченный Аршин, утюг и ножницы Несет — как лист дрожит. Восстав от сна с молитвою, Причесывает голову И держит на отлет, Как девка, косу длинную Высокий и осанистый Протоерей Стефан. По сонной Волге медленно Плоты с дровами тянутся, Стоят под правым берегом Три барки нагруженные: Вчера бурлаки с песнями Сюда их привели. А вот и он — измученный Бурлак! походкой праздничной Идет, рубаха чистая, В кармане медь звенит. Григорий шел, поглядывал На бурлака довольного, А с губ слова срывалися То шепотом, то громкие. Григорий думал вслух:Бурлак
«Плечами, грудью и спиной Тянул он барку бечевой, Полдневный зной его палил, И пот с него ручьями лил. И падал он, и вновь вставал, Хрипя, «дубинушку» стонал; До места барку дотянул И богатырским сном уснул И, в бане смыв поутру пот, Беспечно пристанью идет. Зашиты в пояс три рубля. Остатком — медью — шевеля, Подумал миг, зашел в кабак И молча кинул на верстак Трудом добытые гроши И, выпив, крякнул от души, Перекрестил на церковь грудь: Пора и в путь! пора и в путь! Он бодро шел, жевал калач, В подарок нес жене кумач, Сестре платок, а для детей В сусальном золоте коней. Он шел домой — неблизкий путь, Дай бог дойти и отдохнуть!»______
С бурлака мысли Гришины Ко всей Руси загадочной, К народу перешли. И долго Гриша берегом Бродил, волнуясь, думая, Покуда песней новою Не утолил натруженной, Горящей головы.Русь
Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь! В рабстве спасенное Сердце свободное — Золото, золото Сердце народное! Сила народная, Сила могучая — Совесть спокойная, Правда живучая! Сила с неправдою Не уживается, Жертва неправдою Не вызывается — Русь не шелохнется, Русь — как убитая! А загорелась в ней Искра сокрытая — Встали — небужены, Вышли — непрошены, Жита по зернышку Горы наношены! Рать подымается — Неисчислимая, Сила в ней скажется Несокрушимая! Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и забитая, Ты и всесильная, Матушка-Русь!..V
«Удалась мне песенка! — молвил Гриша, прыгая. — Горячо сказалася правда в ней великая! Завтра же спою ее вахлачкам — не всё же им Песни петь унылые… Помогай, о боже, им! Как с игры да с беганья щеки разгораются, Так с хорошей песенки духом поднимаются Бедные, забитые…» Прочитав торжественно Брату песню новую (брат сказал: «Божественно!»), Гриша спать попробовал. Спалося, не спалося, Краше прежней песенка в полусне слагалася; Быть бы нашим странникам под родною крышею, Если б знать могли они, что творилось с Гришею. Слышал он в груди своей силы необъятные, Услаждали слух его звуки благодатные, Звуки лучезарные гимна благородного — Пел он воплощение счастия народного!..1863–1877
Алфавитный указатель произведений
«Ах, были счастливые годы!..» — 75.
«Ах! что изгнанье, заточенье!..» (Три элегии) — 361.
Балет — 255.
Баюшки-баю — 402.
«Безвестен я. Я вами не стяжал…» —124.
В. Г. Белинский — 97.
«Благодарение господу богу…» — 211.
«Блажен незлобивый поэт…» — 71.
Бунт — 149.
Буря — 84.
«Бьется сердце беспокойное…» (Три элегии) — 362.
«Вам, мой дар ценившим и любившим…» — 392.
В больнице — 94.
В деревне — 85.
В дороге — 54.
«Великое чувство! у каждых дверей…» — 406.
Вино — 66.
Влас — 91.
«Внимая ужасам войны…» — 131.
Возвращение — 253.
«В полном разгаре страда деревенская…» — 203.
«В столицах шум, гремят витии…» — 144.
Вступление к песням 1876—77 годов — 385.
«Вчерашний день, часу в шестом…» — 68.
Выбор — 275.
Гадающей невесте — 128.
«Где вы — певцы любви, свободы, мира…» (Поэту) — 384.
Генерал Топтыгин — 269.
Горе старого Наума — 373.
Горящие письма — 393.
«Давно — отвергнутый тобою…» — 102.
20 ноября, 1861 — 200.
«Двести уж дней…» (Зине) — 388.
Дедушка — 280.
Дедушка Мазай и зайцы — 293.
«Дни идут… всё так же воздух душен…» — 390.
Дома — лучше! — 279.
Друзьям — 389.
Дума — 180.
«Душно! без счастья и воли…» — 279.
«Еду ли ночью по улице темной…» — 64.
«Есть и Руси чем гордиться…» — 392.
Еще тройка — 267.
Железная дорога — 249.
Забытая деревня — 129.
За городом — 74.
«Замолкни, Муза мести и печали…» — 130.
Зеленый Шум — 201.
Зине («Двести уж дней…») — 388.
Зине («Пододвинь перо, бумагу, книги!..») — 402.
Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…») — 386.
Извозчик — 121.
Из поэмы: Мать — 393.
Как празднуют трусу — 297.
«Как ты кротка, как ты послушна…» — 133.
Калистрат — 210.
Княгиня — 131.
Колыбельная песня — 56.
Кому на Руси жить хорошо — 407.
Коробейники — 181.
Крестьянские дети — 173.
«Ликует враг, молчит в недоуменье…» — 265.
«Литература, с трескучими фразами…» — 202.
«Любовь и Труд — под грудами развалин!..» (Поэту) — 402.
Мать — 277.
Маша — 88.
Молебен — 389.
Мороз, Красный нос — 215.
Муза («Нет, Музы ласково поющей и прекрасной…») — 72.
Музе («О муза! наша песня спета…») — 388.
«Мы вышли вместе… Наобум…» — 391.
На Волге — 160.
«Надрывается сердце от муки…» — 209.
«Наконец, не горит уже лес…» — 279.
На родине — 127.
На смерть Шевченко — 169.
На улице — 69.
«Не рыдай так безумно над ним…» — 278.
Несжатая полоса — 87.
«Нет, Музы ласково поющей и прекрасной…» (Муза) — 72.
«Ночь. Успели мы всем насладиться…» — 153.
Нравственный человек — 63.
Огородник — 60.
«… одинокий, потерянный…» — 160.
«О муза! наша песня спета…» (Музе) — 388.
«О Муза! я у двери гроба!..» — 406.
Орина, мать солдатская — 212.
Отрывки из путевых записок графа Гаранского — 81.
Отрывок («…Я сбросила мертвящие оковы…») — 390.
Отъезжающему — 372.
Памяти Добролюбова — 254.
Памяти приятеля — 76.
Песня Еремушке — 153.
Плач детей — 168.
«Пододвинь перо, бумагу, книги!.,» (Зине) — 402.
«Поражена потерей невозвратной…» — 68.
Похороны — 171.
Поэт и гражданин — 135.
Поэту («Где вы — певцы любви, свободы, мира…») — 384.
Поэту («Любовь и Труд — под грудами развалин!..») — 402.
«Праздник жизни — молодости годы…» — 90.
Прости — 143.
«Пускай нам говорит изменчивая мода…» (Элегия) — 382.
Путешественник — 364.
«Разбиты все привязанности, разум…» (Три элегии) — 362.
Размышления у парадного подъезда — 150.
Родина — 58.
Русские женщины — 298.
Рыцарь на час — 204.
Саша — 103.
Свадьба — 101.
Свобода — 170.
Секрет — 125.
Сеятелям — 389.
«Скоро стану добычею тленья…» — 387.
«Смолкли честные, доблестно павшие…» — 385.
Современная ода — 53.
Сон — 405.
Старость — 404.
«Стихи мои! Свидетели живые…» — 149.
Страшный год — 371.
Тишина — 144.
Три элегии (I. «Ах! что изгнанье, заточенье!..»; II. «Бьется сердце беспокойное…»; III. «Разбиты все привязанности, разум…») — 361.
Тройка — 62.
«Ты еще на жизнь имеешь право…» (Зине) — 386.
Ты не забыта… — 404.
«Тяжелый крест достался ей на долю…» — 124.
Убогая и нарядная — 156.
«Угомонись, моя муза задорная…» — 387.
«Умру я скоро. Жалкое наследство…» — 266.
Уныние — 365.
Утро — 363.
Филантроп — 76.
«Черный день! как нищий просит хлеба…» — 404.
<Н. Г. Чернышевский> — 372.
«Что ни год — уменьшаются силы…» — 170.
«Что ты, сердце мое, расходилося?..» — 159.
Школьник — 133.
Эй, Иван! — 272.
Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода…») — 382.
«Я за то глубоко презираю себя…» — 57.
«Я не люблю иронии твоей…» — 69.
«Я посетил твое кладбище…» — 134.
«… Я сбросила мертвящие оковы…» (Отрывок) — 390.
«Я сегодня так грустно настроен…» — 90.
Примечания
1
В. И. Ленин, О «Вехах». — Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 169.
(обратно)2
<Заметки о Некрасове>. — Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 1, М. 1939, стр. 753, 748.
(обратно)3
Горшков, Воспоминания. — В кн.: В. Евгеяьев, Н. А. Некрасов, М. 1914, стр. 70.
(обратно)4
Там же, стр. 66.
(обратно)5
«Моя жизнь. Воспоминания артистки А. И. Шуберт», СПб. 1911, стр. 48.
(обратно)6
А. Я. Панаева, Воспоминания, М. 1956, стр. 291–292.
(обратно)7
Письмо к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. — В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 12. М. 1956, стр. 66, 71.
(обратно)8
Письмо П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу от 20 февраля 1878 г. — «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. 3, СПб. 1912, стр. 352.
(обратно)9
«Крестьянская реформа 1861 года», М. 1937, стр. 49.
(обратно)10
«Былое», 1906, № 10, стр. 283.
(обратно)11
Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. 10, М. 1952, стр. 307.
(обратно)12
Там же, стр. 308.
(обратно)13
Знаменательно, что В. И. Ленин, цитируя в своих статьях Некрасова, чаще всего приводил те стихи, где поэт шельмует либералов (см., например: В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 301; т. 14, стр. 240; т. 20, стр. 124; т. 23, стр. 17; т. 24, стр. 41, 42 и др.). До Ленина целые поколения критиков, даже сочувствовавших поэзии Некрасова, упорно не хотели заметить этих антилиберальных позиций поэта, определявших собою революционную сущность всего его творчества.
(обратно)14
В. И. Ленин, Еще один поход на демократию. — Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 84.
(обратно)15
См. В. И. Ленин, Из прошлого рабочей печати в России. — Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 94.
(обратно)16
Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, М. 1897, стр. 451.
(обратно)17
В. Евгеньев-Максимов, Студенческая депутация у больного Некрасова (По неизданным воспоминаниям ее участника). — «Книга и революция», 1921, № 2 (14), стр. 55.
(обратно)18
Письмо к А. Н. Пыпину, 14 августа 1877 г. — Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 15, М. 1950, стр. 88.
(обратно)19
Там же, стр. 920 (письмо А. Н. Пыпина к Н. Г. Чернышевскому, 5 ноября 1877 г.).
(обратно)20
И. А. Панаев, Воспоминания. — «Литературное наследство», т. 49–50, кн. I, М. 1949, стр. 537–538.
(обратно)21
Стихотворения Ивана Никитина. — Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 6, М.—Л. 1963, стр. 168.
(обратно)22
Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 9, М.—Л. 1964, стр. 440.
(обратно)23
Н. К. Крупская, Что нравилось Ильичу из художественной литературы. — «Н. К. Крупская об искусстве и литературе», Л.—М. 1963, стр. 35.
(обратно)24
«Правда», 1912, 25 декабря.
(обратно)25
Три месяца в отчизне. Опыты в стихах и прозе, сопровождаемые рассуждением о мерах, способствующих развитию нравственных начал в русском народе и естественных богатств Российского государства. Сочинение россиянина, графа де Гаранского. Восемь томов в четвертую долю листа. Париж, 1836 (франц.) — Ред.
(обратно)26
Любчики — деревенские талисманы, имеющие, по понятиям простолюдинок, привораживающую силу.
(обратно)27
Общеизвестная народная шутка над бурлаками, которая спокон веку приводит их в негодование.
(обратно)28
Кашпировы, Зюзины. — Крестьяне, беседуя между собою об известных предметах и лицах, редко употребляют иную форму выражения.
(обратно)29
Бычки — небольшие отрывочные тучки (Яросл. губ.).
(обратно)30
Ухалица — филин-пугач (grand-duc).
(обратно)31
Так народ называет пробуждение природы весной.
(обратно)32
Известная народная игра, называемая: сеять мак. Маковкой садится в середине круга красивая девочка, которую под конец подкидывают вверх, представляя тем отряхиванье мака; а то еще маком бывает простоватый детина, которому при подкидывании достается немало колотушек.
(обратно)33
Хмелем и хлебным зерном осыпают молодых в знак будущего богатства.
(обратно)34
Хозяева английского магазина.
(обратно)35
Известные модистки.
(обратно)36
См. «Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812—15 годах». С.-Петербург. 1822 года, Часть 3, стр. 30–64. Биография генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского.
(обратно)37
См. соч. Жуковского, изд. 1849 года, том I, «Певец в стане русских воинов», стр. 280:
Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый — грудь против мечей С отважными сынами…Факт, о котором здесь упоминается, в «Деяниях» рассказан следующим образом, часть 3, стр. 52:
«В сражении при Дашкове, когда храбрые Россияне, от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия артиллерии неприятеля, несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, взяв за руки двух своих сыновей, не достигших еще двадцатилетнего возраста, бросился с ними вперед на одну неприятельскую батарею, упорствовавшую еще покориться мужеству героев, вскричал: «Вперед, ребята, за царя и отечество! я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!..» — и что могло после сего противостоять усилиям и рвению предводимых таким начальником войск. Батарея была тотчас взята».
Этот факт рассказан и у Михайловского-Данилевского (т. I, стр. 329, изд. 1839 года) с тою разницею, что, по рассказу Данилевского, дело происходило не под Дашковой, а при Салтановке, и при этом случае упомянут подвиг шестнадцатилетнего юнкера, ровесника с Раевскими, несшего впереди полка знамя при переходе через греблю под убийственным огнем; и когда младший из Раевских (Николай Николаевич) просил у него знамя, под предлогом, что тот устал: «Дайте мне нести знамя», — юнкер, не отдавая оного, отвечал: «Я сам умею умирать!» Подлинность всего этого подтверждает и генерал Липранди, заметка которого (из дневника и воспоминаний И. П. Липранди) помещена в «Архиве» г. Бартенева (1866 года, ст. 1214).
(обратно)38
Наша поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по возвращении из похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не сочли нужным изменить нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее; притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под старость действительно часто живал в деревне, где, по свидетельству Пушкина, который хорошо знал H. Н. Раевского и был другом с его сыновьями, занимался, между прочим, домашнею медициной и садоводством. Приводим, кстати, свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем к брату:
«Мой друг, счастливейшие минуты в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».
(обратно)39
Зинаида Волконская, урожденная кн. Белосельская, была родственницей нашей героине по муже.
(обратно)40
Quatre Nouvelles. Par M-me La Princesse Zénéide Wolkonsky, née P-sse Bélosselsky. Moscou, dans l’imprimerie d’Auguste Semen. 1819 [66].
(обратно)41
См. стихотворение Д. В. Веневитинова, изд. A. Пятковского. СПб. 1862 («Элегия», стр. 96):
«На цвет небес ты долго нагляделась И цвет небес в очах нам принесла».Пушкин также посвятил З. В<олконс>кой стихотворение (1827 год), начинающееся стихом:
«Царица муз и красоты» и пр. (обратно)42
Юрзуф — очаровательный уголок южного берега Крыма — лежит на восточной оконечности южного берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Заметим здесь, что во всем нашем рассказе о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфс не вымышлено нами ни одного слова. Анекдот о шалости Пушкина по поводу переводов Елены Николаевны Раевской рассказан в статье г. Бартенева «Пушкин в Южной России» («Русский архив» 1866 года, ст. 1115). О друге своем кипарисе упоминает сам Пушкин в известном письме к Дельвигу: «В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружество». Легенда, связавшаяся впоследствии с этим другом Пушкина, рассказана в «Крымских письмах» Евгении Тур («С. -Петербургские ведомости» 1854 года, письмо 5-е) и повторена в упомянутой выше статье г. Бартенева.
(обратно)43
Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам, Бежавшим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам. и проч.(«Онегин» Пушкина)
(обратно)44
Обоз с серебром.
(обратно)45
Собака.
(обратно)46
Лошадь.
(обратно)47
Исправленное — прежнее стихотворение.
(обратно)48
Кукушка перестает куковать, когда заколосится хлеб («подавившись колосом», говорит народ).
(обратно)49
Крутая радуга — к вёдру; пологая — к дождю.
(обратно)50
Обычай.
(обратно)51
Во время последней вечеринки, или порученья, с невесты снимают волю, то есть ленту, которую носят девицы до замужества.
(обратно)52
Первое катанье на санях.
(обратно)53
Деревенский колодец.
(обратно)54
Полуимпериалы.
(обратно)55
Взято почти буквально из народного причитанья.
(обратно)56
Примета: если мать умершего младенца станет есть яблоки до Спаса (когда они поспевают), то бог, в наказание, не даст на том свете ее умершему младенцу «яблочка поиграть».
(обратно)57
Если младшая сестра выйдет замуж ранее старшей, то последняя называется бракованной.
(обратно)58
Комета.
(обратно)59
Примета: не надевай чистую рубаху в рождество: не то жди неурожая. (Есть у Даля.)
(обратно)60
Стоги.
(обратно)61
Копны.
(обратно)62
Могила.
(обратно)63
Подбегало — человек нетутошний, пришлый, приписавшийся к деревне.
(обратно)64
Тизенгаузена.
(обратно)65
Примета: чтоб иметь хорошую память, нужно есть сорочьи яйца.
(обратно)66
Четыре повести княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белосельской. Москва, в типографии Августа Семена. 1819 (франц.). — Ред.
(обратно)67
Том составлен А. М. Гаркави.
(обратно)Комментарии
1
В настоящий том включены избранные стихотворения и поэмы Н. А. Некрасова[67]. Произведения поэта расположены в хронологической последовательности, без разграничения по жанрам. Такое разграничение было бы искусственным, так как многие произведения (например, «Горе старого Наума», «Тишина», «Железная дорога», «Филантроп», «Балет», «Крестьянские дети» и многие другие) можно отнести и к жанру стихотворений, и к жанру поэм.
В конце тома помещена поэма «Кому на Руси жить хорошо» — произведение, над которым поэт, по многочисленным свидетельствам его друзей, работал до самых последних дней жизни и которое, по существу, является его поэтическим завещанием.
Вступительная статья к тому принадлежит перу выдающегося советского поэта, писателя и ученого Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969), многие годы посвятившего изучению и пропаганде некрасовского наследия. Его замечательный труд «Мастерство Некрасова» был удостоен в 1962 году Ленинской премии.
Публикуемая статья при жизни автора в последний раз была напечатана в качестве предисловия к «Полному собранию стихотворений в трех томах» И. А. Некрасова («Библиотека поэта», изд. 2-е, Л. 1967). При этом автор пересмотрел текст своей статьи, внес в него ряд изменений, уточнений. В настоящем издании статья К. И. Чуковского печатается по тексту «Библиотеки поэта».
Примечания к тому также принадлежат перу К. И. Чуковского. Впервые они были опубликованы в Полном собрании сочинений Н. А. Некрасова (тт. 1–3, М. 1948–1950) и впоследствии со многими дополнениями и уточнениями были перепечатаны в Собрании сочинений Н. А. Некрасова в восьми томах (тт. 1–3, «Художественная литература», М. 1965). В составлении ряда примечаний к этому изданию принимал участие А. М. Гаркави.
В настоящем томе примечания К. И. Чуковского (при участии А. М. Гаркави) печатаются с некоторыми сокращениями.
До Октябрьской революции стихи Некрасова в течение шестидесяти лет печатались с большим количеством цензурных искажений. Благодаря длительной и упорной работе советских текстологов большинство искажений устранено, а также опубликованы новые тексты, не печатавшиеся ранее по цензурным причинам.
Тексты стихотворений и поэм Н. А. Некрасова печатаются по изданию: Н. А. Некрасов, Собрание сочинений в восьми томах, тт. 1–3, «Художественная литература», М. 1965.
(обратно)2
Современная ода (стр. 53). — Подлинным началом своей литературной деятельности Некрасов считал «Современную оду». Это было первое стихотворение, помещенное в «Отечественных записках» (1845, № 4) не под псевдонимом, а с подписью: «Н. Не — в».
Стихотворение «Современная ода» самим своим заглавием было полемически противопоставлено стихам, уводившим читателя от мрачной крепостнической действительности. Именно такой животрепещущей, злободневной тематики требовал в то время от поэзии Белинский. В 1845 году он писал: «Всякая поэзия, которой корни не в современной действительности, всякая поэзия, которая не бросает света на действительность, объясняя ее, — есть дело от безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в куклы и бирюльки, занятие пустых людей…» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, 1955, стр. 40).
(обратно)3
В дороге (стр. 54). — В подцензурной печати было немного таких смелых протестов против рабства крестьян, как в настоящем стихотворении.
Когда Некрасов прочитал «В дороге» Белинскому, критик «обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, 1950, стр. 249). В своем отзыве о стихах, помещенных в некрасовском «Петербургском сборнике», Белинский писал в 1846 году: «Самые интересные из них принадлежат перу издателя Сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них — «В дороге» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 573).
А. И. Герцен тоже высоко оценил это стихотворение. В письме к Тургеневу от 26 мая 1857 года Некрасов вспоминал: Герцен «был первый после Белинского, приветствовавший добрым словом мои стихи (я его записочку ко мне, по выходе «Петербургского сборника», до сей поры берегу!)».
(обратно)4
Колыбельная песня (стр. 56). — Смелая сатира Некрасова (по мотиву лермонтовской «Казачьей колыбельной песни») подверглась травле со стороны реакционной печати. Когда «Колыбельная песня» впервые появилась в «Петербургском сборнике» (1846), Фаддей Булгарин представил в III Отделение донос, где писал, что Некрасов — «отчаянный коммунист», который «страшно вопиет в пользу революции» («Былое», 1906, № 10, стр. 283).
Тринадцатого февраля 1846 года начальник III Отделения А. Ф. Орлов сообщал возглавлявшему цензурное ведомство министру просвещения графу С. С. Уварову: «Сочинения подобного рода, по предосудительному своему содержанию, не должны бы одобряться к печатанию» («Книга и революция», 1921, № 2 (14), стр. 37). Через десять лет «Колыбельная песня» была перепечатана в «Стихотворениях» Н. Некрасова, но подверглась новому цензурному запрету, и поэт смог вновь поместить ее лишь в пятом издании «Стихотворений» (1869), в разделе приложений: Юмористические стихотворения 1842–1845 годов.
(обратно)5
«Я за то глубоко презираю себя…» (стр. 57). — Здесь впервые намечена Некрасовым характеристика так называемых «лишних людей», к изображению которых поэт не раз возвращался впоследствии (см. стихотворения «Саша», «Медвежья охота», «Самодовольных болтунов…» и т. д.).
Перед смертью Некрасов, по свидетельству С. И. Пономарева, сделал пометку на полях своей книги: «… Написано во время гощения у Г<ерцена>. Может быть, навеяно тогдашними разговорами» («Стихотворения» 1879, т. IV, СПб., стр. XXI).
(обратно)6
Родина (стр. 58). — Стихотворение это, прочитанное Белинским в рукописи, привело критика в «совершенный восторг, — вспоминает И. И. Панаев. — Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям…» (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Л. 1950, стр. 249). В одном из фрагментов своей автобиографии поэт сообщает, что Белинскому понравились в этих стихах «задатки отрицания» (то есть социального протеста). По словам Некрасова, с большим сочувствием отнесся к этому стихотворению и Тургенев. «Я много писал стихов, по так написать не могу, — сказал Тургенев, — мне нравятся и мысли, и стих» (см. «Автобиографические записи»).
Сохранилась копия этого стихотворения, написанная рукой Герцена.
В одной из рукописей «Родина» посвящена В. Г. Белинскому.
(обратно)7
Огородник (стр. 60). — В 1859 году в Главном управлении цензуры рассматривалась книга «Стихотворений» Некрасова. По мнению одного из цензоров, в «Огороднике», как и в некоторых других произведениях Некрасова, «изображается в слишком мрачных красках быт русского народа вообще, особенно в отношениях крестьян к помещикам». Другой цензор причислил «Огородника» к тем стихотворениям Некрасова, которые, «по демократическому направлению, посеевающему вражду между государственными сословиями», подлежат «непременному исключению» (В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, М.—Л. 1928, стр. 232–234).
В «Огороднике» поэт впервые обращается к форме народной песни.
(обратно)8
Тройка (стр. 62). — «Тройка» Некрасова — чудесная вещь. Я ее читал раз десять», — писал Огарев Грановскому (Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, М. 1956, стр. 395).
Вскоре после появления «Тройки» в печати она вошла в народные песенники.
(обратно)9
Нравственный человек (стр. 63). — В письме к Тургеневу от 19 февраля 1847 года Белинский сообщал о «Нравственном человеке»: «Некр<асов> написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в 3 №), то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1956, стр. 336).
(обратно)10
«Еду ли ночью по улице темной…» (стр. 64). — По поводу этого стихотворения Тургенев писал Белинскому 26 (14) ноября 1847 года: «… Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке <«Современника»> меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил» (И. С. Тургенев, Письма в тринадцати томах, т. I, М.—Л. 1961, стр. 264).
Кружок Белинского был от этого стихотворения в восторге. «… Когда Некрасов в первый раз прочитал в их кружке только что написанное им «Еду ли ночью…», то все так были потрясены, что со слезами на глазах кинулись обнимать поэта» (Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, М. 1958, стр. 223).
Так же высоко ценил это стихотворение Писарев. «Кто способен написать стихотворения: «Филантроп», «Эпилог к ненаписанной поэме», «Еду ли ночью по улице темной», «Саша», «Живя согласно с строгою моралью», — тот может быть уверен в том, что его знает и любит живая Россия…» — писал он в 1861 году (Д. И. Писаре в, Сочинения, т. I, М. 1955, стр, 196).
Цензура сочла это стихотворение «безнравственным», «подрывающим основы религии». Цензор Волков доносил министру народного просвещения А. С. Норову в рапорте от 14 ноября 1856 года: «Нельзя без содрогания и отвращения читать этой ужасной повести! В ней так много безнравственного, так много ужасающей нищеты!.. И нет ни одной отрадной мысли!.. Жаль, что муза г. Некрасова одна из самых мрачных и что он все видит в черном цвете… Как будто уже нет более светлой стороны?» (В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, М.—Л. 1928, стр. 224–225).
Чернышевский в письме к жене из Вилюйска от 15 марта 1878 года говорил про это стихотворение, что оно — из тех, «которые останутся долго прекраснейшими из русских лирических пьес… Оно первое показало: Россия приобретает великого поэта» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XV, М. 1950, стр. 210).
(обратно)11
«Вчерашний день, часу в шестом…» (стр. 68). — Это стихотворение, первое, в котором Некрасов обращается к своей Музе, говорит о назначении и роли поэта и поэзии. Некрасов неоднократно возвращался к образу гордой, страдальческой Музы.
Не русский — взглянет без любви На эту бледную, в крови, Кнутом иссеченную Музу, —писал Некрасов в своем последнем стихотворении за несколько дней до смерти («О Муза! я у двери гроба!..», 1877).
Стихи были записаны Некрасовым в альбом О. Козловой, жены дипломата и переводчика, со следующим пояснением: «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток… Я ничего не разобрал (лоскуток, сколько помню, относился к 1848 году), кроме следующих осьми стихов:
Вчерашний день, часу в шестом <и т. д.>Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого я не нашел и не придумал. 9 ноября 1873 г., СПб., Ник. Некрасов». Возможно, стихотворение предназначалось для цикла «На улице» (1850), но по цензурным соображениям опубликовано не было.
(обратно)12
«Поражена потерей невозвратной…» (стр. 68). — К этим стихам Некрасов сделал примечание: «Умер первый мой сын — младенцем — в 1848 году» («Стихотворения» 1879, т. IV, СПб., стр. XXIII).
(обратно)13
На улице (стр. 69). — В этом цикле стихотворений Некрасов дает острые бытовые зарисовки социальных драм большого города.
Последняя строка стихотворения «Ванька»:
Мерещится мне всюду драма, —воспроизводит слова из статьи А. И. Герцена «Капризы и раздумье»: «За каждой стеной мне мерещится драма…» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, М. 1954, стр. 80–81). «Капризы и раздумье» появились впервые в «Петербургском сборнике» Некрасова (1846).
(обратно)14
«Блажен незлобивый поэт…» (стр. 71). — Некрасов высоко ценил творчество Гоголя — «честного сына своей земли». «… Это благородная и в русском мире самая гуманная личность, — писал он Тургеневу 12 августа 1855 года. — Надо желать, чтоб по стопам его шли молодые писатели в России».
Стихотворение написано на смерть Гоголя (21 февраля 1852 года).
При печатании стихотворения в «Современнике» цензура не разрешила указать, что оно относится к Гоголю. Но в 1855 году Чернышевский обошел этот цензурный запрет и использовал строки Некрасова для прославления автора «Мертвых душ». «… Никогда, — писал Чернышевский, — «незлобивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 21–22).
(обратно)15
Муза (стр. 72). — Строфа «Музы», где говорится о свирели, построена на контрасте с пушкинским обращением к Музе в стихотворении «Наперсница волшебной старины…», очевидно знакомом Некрасову в рукописи (в печати оно появилось лишь в 1855 году).
(обратно)16
«Ах, были счастливые годы!..» (стр. 75). — Перевод стихотворения Гейне «Госпожа Забота» («Frau Sorge») из книги «Романсеро» (1851).
Строки:
Сморкается громко старуха, Зевает и крестит уста… —(у Гейне этого образа нет) были запрещены цензурой как «кощунство».
(обратно)17
Памяти приятеля (стр. 76). — Стихотворение написано Некрасовым к пятой годовщине со дня смерти Белинского. Поэт не называет его по имени, так как цензурой в то время запрещено было упоминать о Белинском в печати. Говоря, что критик остается «незнаем», Некрасов имел в виду именно цензурный запрет. На странице, где было напечатано это стихотворение (издание 1873 года), — карандашная запись Некрасова: «Известно, что о Белинском нельзя было слова пикнугь» («Стихотворения» 1879, т. IV, СПб., стр. XXXIV).
(обратно)18
Филантроп (стр. 76). — В 1846 году в высших бюрократических и придворных кругах Петербурга возникло благотворительное Общество посещения бедных. Членами Общества были министры, графы, князья, великосветские дамы и др.; попечителем был герцог Лейхтенбергский. Реакционная печать восхваляла это Общество в таких выражениях: «Всюду является оно, чтобы поднять на ноги упавшего, отереть слезу плачущего, накормить алчущего, напоить жаждущего и утешить страждущего» («Библиотека для чтения», 1855, № 4, отд. VII, стр. 112–113).
На самом же деле «филантропия» богатых и праздных, проповедовавшая терпение, смирение и покорность, не только не спасала нуждающихся, но нередко способствовала их гибели. Об этом и говорит в своей сатире Некрасов.
В письме к Тургеневу от 17 ноября 1853 года Некрасов писал: «Посылаю тебе «Филантропа»… Этой вещи я не почитаю хорошею, но дельною…»
(обратно)19
Отрывки из путевых записок графа Гаранского (стр. 81). — Статский советник Е. Волков в отчете о книге «Стихотворений» Некрасова 1856 года писал министру народного просвещения А. С. Норову по поводу «Записок графа Гаранского»: «Нет сомнения, что автор имел благую цель при сочинении этих отрывков; но едва ли она будет достигнута!.. Надо спросить у крестьян, что скажут они, если кто-нибудь из них прочтет эти отрывки? Наверное, можно предположить, что тот не засмеется!., а скажет вместе с автором: «Жаль, дремлет русский ум», — и предлагаемую автором «сатиру» примет, пожалуй, за другое слово» (В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, М.—Л. 1928, стр. 224). Полностью эта сатира стала известна читателям только в советское время. Во всех изданиях до 1927 года после строк:
А то и хуже есть. Вот памятное место: Тут славно мужички расправились с одним… «А что?» —следовали точки, отмечавшие цензурный пропуск. Было выброшено девять строк — о расправе разгневанных крестьян с угнетателем-помещиком.
(обратно)20
В деревне (стр. 85). — Многие современники воспринимали это стихотворение как политическую сатиру. Так, строки:
Сорок медведей поддел на рогатину — На сорок первом сплошал! —были поняты как явный намек на Крымскую войну, вскрывшую бессилие николаевской монархии.
В письме к Тургеневу от 11 января 1857 года Герцен писал, что оно — «прелесть» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. XXVI, М. 1962, стр. 69). Тургенев оценил это стихотворение еще раньше. В письме к С. Т. Аксакову от 31 мая 1854 года он говорил, что Некрасов «написал несколько хороших стихотворений, особенно одно — плач старушки-крестьянки об умершем сыне» (И. С. Тургенев, Письма в тринадцати томах, т. II, М.—Л. 1961, стр. 223).
(обратно)21
Несжатая полоса (стр. 87). — Раздумья о тяжелом положении русского крестьянина перемежаются с мыслями о личной судьбе поэта. Тот же образ «сеятеля» снова возникнет у Некрасова в стихотворении «Сон», написанном за месяц до смерти (1877):
И Музе возвращу я голос, И вновь блаженные часы Ты обретешь, сбирая колос С своей несжатой полосы. (обратно)22
Станица. — Это слово сам Некрасов объяснил в письме к одному учителю: «… с детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы летают станицами; воробьев станичка перелетела и т. п.» («Стихотворения» 1879, т. IV, СПб., стр. XXXVII).
(обратно)23
«Праздник жизни — молодости годы…» (стр. 90). — Вскоре после появления этих стихов в печати Н. Г. Чернышевский писал поэту:
«Вы говорите:
Нет в тебе поэзии свободной, Мой тяжелый, неуклюжий стих.Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии… в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа. Теперь: тяжелый и неуклюжий стих. Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина… В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю. У Пушкина есть много стихов негладких — что ж из того следует? Ровно ничего» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1949, стр. 314, 315).
(обратно)24
Влас (стр. 91). — Одно из первых произведений русской поэзии, в котором обличается деревенский кулак.
По словам А. Я. Панаевой, прототипом Власа послужил Некрасову старый крепостной его отца (см. А. Я. Панаева, Воспоминания, М. 1956, стр. 373).
(обратно)25
В больнице (стр. 94). — Судя по черновикам, было первоначально задумано как вступление в поэму «В. Г. Белинский». Согласно этому раннему замыслу, умирающий в подвале «бедный и честный писатель» обращался перед смертью к молодым литераторам с горячим призывом отдать все силы на служение народному благу:
Эту предсмертную честную речь, В форме, быть может, нестройной, Ныне хочу от забвенья сберечь, — Вот что сказал нам покойный.Дальше следовало поэтическое изложение заветов Белинского. Эти строки были перенесены Некрасовым (в сильно переработанном виде) в поэму «В. Г. Белинский».
(обратно)26
В. Г. Белинский (стр. 97). — Некрасов написал эту поэму вскоре после смерти Николая I, весной 1855 года, когда казалось, что наступит некоторое облегчение цензурного гнета. Но имя Белинского по-прежнему оставалось под запретом, и когда Чернышевский в том же 1855 году начал в «Современнике» цикл своих «Очерков гоголевского периода», ему пришлось называть Белинского «автором статей о Пушкине» и другими иносказательными именами.
Поэма была впервые напечатана в Лондоне в 1859 году, в герценовской «Полярной звезде» (кн. 5). Но в подцензурной печати она при жизни поэта в России появиться не могла.
Биография Белинского в общем изображена в поэме верно. Сам Белинский вспоминал: «… Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно — вечная ему намять!» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, М. 1956, стр. 512).
Но есть у Некрасова и отступления от биографической правды: со смертью «лекаря» Белинский не «остался мал»: ему было двадцать пять лет, когда умер его отец. Точно так же неверно, будто Белинский был выгнан из университета,
… не доказав Каких-то о рожденье прав.Белинский был изгнан за политический радикализм (официальный предлог исключения: «неуспешность» в занятиях). Доказывать «права о рождении» Белинскому пришлось гораздо позже — в 1843 и 1844 годах (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1956, стр. 193, 218, 244).
(обратно)27
Стр. 98. Не удостоенный патентом… — Здесь: не получивший диплома об окончании университета.
(обратно)28
И оставался целый век недоучившимся студентом… Один ученый человек колол его неоднократно таким прозванием печатно… — Историк М. П. Погодин писал в «Москвитянине», что Белинский не имеет никакого образования, что это «гений-самоучка, которые у нас растут, как грибы, ежегодно между студентами, не оканчивающими курса», и проч. (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. VIII, СПб. 1894, стр. 495).
(обратно)29
Пришла охота прожектеру… — Имеется в виду А. А. Краевский, издатель журнала «Отечественные записки», в котором Белинский принимал ближайшее участие с 1839 по 1846 год.
(обратно)30
Стр. 99. Лишь два задорных поляка на первом плане в ней шумели… — Вся наиболее влиятельная петербургская пресса была сосредоточена тогда в руках реакционных писателей: О. И. Сенковского и Фаддея Булгарина. Первый стоял во главе беспринципного журнала «Библиотека для чтения», второй был редактором полуофициозной газеты «Северная пчела».
(обратно)31
Уж новый гений подымал тогда главу свою меж нами… — Речь идет о Н. В. Гоголе.
(обратно)32
Стр. 100. Но поднялась тогда тревога в Париже буйном… — Имеется в виду февральская революция 1848 года и провозглашение республики во Франции.
(обратно)33
Палач науки Бутурлин… — Д, П. Бутурлин состоял председателем секретного комитета, учрежденного Николаем I в 1848 году для высшего надзора за действиями цензуры. Пользуясь диктаторской властью, «бутурлинский комитет» жестоко душил печать, и главным образом «Современник» Некрасова.
(обратно)34
«Закройте университеты»… — После революции 1848 года во Франции Николай I принял крутые меры, чтобы помешать распространению революционных идей. В числе этих мер намечалось закрытие университетов. Поэтому всякая статья, восхвалявшая университеты, воспринималась Бутурлиным как неповиновение властям. В «Современнике» 1849 года (№ 3) появилась именно такая статья, и, когда Бутурлин донес о ней Николаю, она вызвала гнев царя.
(обратно)35
Стр. 101. Чем том истории твоей… — Речь идет об одной из книг Д. П. Бутурлина: «Военная история походов России в XVIII столетии», СПб. 1819–1823; «История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году», чч. 1–2, 2-е изд., СПб. 1837; «История смутного времени в России в начале XVII в.», чч. 1–3, СПб. 1839–1846.
(обратно)36
Свадьба (стр. 101). — Неоднократно указывалось, что сюжеты стихотворений «Свадьба» и «Забытая деревня» заимствованы Некрасовым у английского поэта Джорджа Крабба (1754–1832). Но по яркой эмоциональности, по богатству красок, по свободе интонации оба стихотворения Некрасова глубоко самобытны. Еще до знакомства с творчеством Крабба Некрасов написал стихотворение «Встреча», которое явилось первоначальным вариантом «Свадьбы».
(обратно)37
«Давно — отвергнутый тобою…» (стр. 102). — В письме от 30 июня — 1 июля 1855 года Некрасов спрашивал Тургенева: «Скажи — понравятся ли тебе эти стихи:
К***
Давно — отвергнутый тобою, Я шел по этим берегам… <и т. д.>Это тоже ярославское произведение».
Тургенев отвечал: «Стихи твои «К***» просто пушкински хороши — я их тотчас на память выучил» (И. С. Тургенев, Письма в тринадцати томах, т. II, М,—Л. 1961, стр. 295).
(обратно)38
Саша (стр. 103). — Поэма «Саша» появилась в печати одновременно с тургеневским «Рудиным» в первой книжке «Современника» за 1856 год. В содержании обоих произведений много сходных черт. В «Современнике» и в первом издании «Стихотворений Н. Некрасова» поэма была посвящена И… у Т… ву (то есть Ивану Тургеневу). Через несколько лет после появления поэмы Н. Г. Чернышевский в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858) поставил Агарина в один ряд с безвольным героем тургеневской «Аси» и Бельтовым из романа Герцена «Кто виноват?», считая их поведение характерным для всего либерального дворянства.
Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» (1859) тоже причислил Агарина к разряду так называемых «лишних людей», на которых обломовщина наложила «неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете» (Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. IV, М.—Л. 1962, стр. 328, 329).
(обратно)39
Извозчик (стр. 121). — Как в Грязной стоял… — Грязная — улица в Петербурге, где были извозчичьи дворы.
(обратно)40
«Безвестен я. Я вами не стяжал…» (стр. 124). — Одно из многих стихотворений, в которых поэт обращается к своей Музе (см. стихи «Вчерашний день, часу в шестом…», «Музе», «О Муза! я у двери гроба!..» и др.); написано в 1855 году, когда Некрасов считал себя еще «безвестным», хотя в то время был уже автором «Тройки», «Огородника», «Псовой охоты», «Колыбельной песни» и др. Лишь после выхода своей первой книги (1856) он имел возможность убедиться, что он самый популярный из современных ему русских поэтов. «О книге моей пишут чудеса, — голова могла бы закружиться, — сообщал поэт из-за границы Тургеневу 6/18 декабря 1856 года. — … Неслыханная популярность, успех, какого не имел и Гоголь!..»
В заключительной строке после «И» во всех дореволюционных изданиях следовал ряд точек: цензура сняла слово о Музе, умершей под кнутом.
(обратно)41
«Тяжелый крест достался ей на долю…» (стр. 124). — Стихотворение имеет автобиографический характер: в 1855 году болезнь Некрасова так обострилась, что он не сомневался в близости смерти (см. его духовное завещание, написанное около этого времени: Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. XII, М. 1953., стр. 65–66).
Редактор посмертного издания «Стихотворений» Некрасова высказал предположение, что здесь изображается мать поэта. Чернышевский отметил ошибочность этого мнения: «… Дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова» (то есть о А. Я. Панаевой) (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 750).
М. П. Краснов, литературный секретарь Чернышевского, сообщает, что незадолго до смерти Чернышевский в разговоре с ним назвал это стихотворение «лучшим лирическим произведением на русском языке» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 602).
(обратно)42
Секрет (стр. 125). — Имею и Анну с короною… — Анна с короною — один из высших орденов в царской России.
(обратно)43
На родине (стр. 127). — Это стихотворение Некрасов цитирует в своих автобиографических заметках. «Судьбе угодно было, — пишет он, — чтобы я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но, будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли… Я когда-то написал:
Хлеб полей, возделанных рабами, Нейдет мне впрок…Написав этот стих еще почти в детстве, может быть, я желал оправдать его на деле».
(обратно)44
Забытая деревня (стр. 129). — Стихотворение вызвало возмущение в правительственных и придворных кругах. Цензору Бекетову, пропустившему эти стихи (а также «Поэта и гражданина» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), был объявлен строжайший выговор. Чиновник особых поручений Волков доносил министру народного просвещения Норову (14 ноября 1856 года): «Видимая цель этого стихотворения — показать публике, что помещики наши не вникают вовсе в нужды крестьян своих, даже не знают оных и вообще не пекутся о благосостоянии крестьян. Некоторые же из читателей под словами «забытая деревня» понимают совсем другое… Они видят здесь то, чего вовсе, кажется, нет, какой-то тайный намек на Россию…» («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 39).
По словам Златовратского, в 50-х годах у Добролюбова при обыске искали запрещенные стихи, какими, например, считалась тогда «Забытая деревня» Некрасова (Н. Н. Златовратский, Воспоминания, М. 1956, стр. 325).
«Забытая деревня» была высоко оценена Герценом (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XXVI, М. 1962, стр. 69).
(обратно)45
«Замолкни, Муза мести и печали!..» (стр. 130). — Посылая стихотворение П. В. Анненкову, Тургенев писал 9 декабря 1855 года: «Некрасов уже более трех месяцев не выходит — он слаб и хандрит по временам, — но ему лучше — а как он весь просветлел и умягчился под влиянием болезни, что из него вышло — какой прелестный, оригинальный ум у него выработался — это надобно видеть, описать этого нельзя. Прилагаю вам стихотворение, написанное им вчера — и еще далеко не обделанное. Посмотрите-ка!.. Последние восемь стихов поразительны» (И. С. Тургенев, Письма в тринадцати томах, т. II, М.—Л. 1961, стр. 328–330).
Тургенев ошибался, полагая, что стихи написаны восьмого числа, так как уже седьмого В. П. Боткин имел возможность прочитать их в Москве и тогда же написал поэту: «Стихи твои крепко огорчили меня — а какие прекрасные стихи! Из лучших твоих стихов. Только ты клевещешь на себя, говоря:
То сердце не научится любить. Которое устало ненавидеть.Не знаю я, насколько ты можешь ненавидеть, — но насколько ты можешь любить — я это чувствую. Я не знаю другого сердца, которое так же умеет любить, как твое, — только ты любишь без фраз и так называемых «излияний» («Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 176–177).
(обратно)46
«Внимая ужасам войны…» (стр. 131). — Написано под впечатлением Крымской войны. Эта война отразилась в нескольких стихотворениях Некрасова: «14 июня 1854 года», «Тишина», «Коробейники», «Пир — на весь мир». Кроме того, в «Современнике» была напечатана его рецензия на книжку Ив. Ваненко «Осада Севастополя, или Таковы русские».
Некрасов и сам одно время стремился на боевые позиции. «Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся. Это желание во мне сильно и серьезно…» — писал он Тургеневу 30 июня 1855 года.
Возможно, непосредственным толчком к написанию стихотворения послужило знакомство с рассказом Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года». Отдельные главы рассказа Толстой читал Некрасову еще 27 декабря 1855 года (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890, М. 1958, стр. 104). Рассказ глубоко взволновал Некрасова, и по поводу гибели Володи Козельцова (героя рассказа) поэт писал в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года»: «Володе Козельцову суждено долго жить в русской литературе, может быть, столько же, сколько суждено жить памяти о великих, печальных и грозных днях севастопольской осады. И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею! Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети…» Стихотворение Некрасова, перекликающееся по содержанию с этими «Заметками…», было напечатано одновременно с ними в № 2 «Современника» за 1856 год.
(обратно)47
Княгиня (стр. 131). — Стихотворение написано под впечатлением смерти графини А. К. Воронцовой-Дашковой (1818–1856) и основано на действительных фактах.
Упоминая в «Княгине» о «строфах небрежных русского поэта», Некрасов имел в виду стихотворение Лермонтова «К портрету» (1840), посвященное Воронцовой-Дашковой.
(обратно)48
Школьник (стр. 133). — Архангельский мужик — М. В. Ломоносов, вышедший из крестьян Архангельской губернии.
Еще в ранней молодости Некрасов написал пьесу в стихах «Юность Ломоносова».
Цензор Волков «долгом поставил обратить внимание его высокопревосходительства» на стихотворение «Школьник», так как «здесь автор хочет доказать, что великие и гениальные люди преимущественно могут выходить только из простого народа» («Книга и революция», 1921, № 2 (14), стр. 39).
(обратно)49
Поэт и гражданин (стр. 135). — Стихотворение относится к тому времени, когда борьба представителей революционно-демократического направления в искусстве с приверженцами так называемой «чистой эстетики» была в полном разгаре (1855–1856); оно явилось своего рода манифестом молодой революционной демократии.
В основу «Поэта и гражданина» положены идеи Белинского, которые пропагандировал тогда «Современник» главным образом в статьях Чернышевского («Очерки гоголевского периода» и др.). Это стихотворение сыграло огромную роль в борьбе разночинцев 60-х годов за подлинное революционно-демократическое искусство.
Стихотворение «Поэт и гражданин» Некрасов писал долго. Первоначальный набросок нескольких строф из монолога Гражданина был опубликован в № 6 «Современника» за 1855 год под названием «Русскому писателю». Еще несколько строф из монологов Гражданина было напечатано в некрасовских «Заметках о журналах за февраль 1856 года» (в № 3 «Современника» за 1856 год). Но и летом 1856 года Некрасов все еще продолжал напряженно работать над поэмой. «Пишу длинные стишищи и устал», — сообщал он Тургеневу 27 июня 1856 года.
Некрасов торопился закончить «Поэта и гражданина», чтобы ввести его (в качестве предисловия) в книгу своих «Стихотворений», уже прошедшую через цензуру.
Когда эта книга вышла из печати (в октябре 1856 года), поэт находился за границей; фактическим редактором «Современника» был Чернышевский. Сообщая читателям о выходе книги, он целиком перепечатал в журнале стихотворение «Поэт и гражданин» (вместе с «Забытой деревней» и «Отрывками из путевых записок графа Гаранского»).
Это вызвало цензурную бурю, о которой Чернышевский через много лет вспоминал: «Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 752). Начались репрессии и против журнала, и против книги Некрасова. 19 декабря 1856 года министр внутренних дел С. С. Ланской разослал всем губернаторам секретный циркуляр «О неперепечатывании стихотворений Н. Некрасова».
(обратно)50
Прости (стр. 143). — Перед отъездом за границу Некрасов жил на даче в Ораниенбауме. 30 июля 1856 года он написал Тургеневу: «Погода скверная. Сижу один на даче и даже не выхожу из комнаты, трусость напала, как бы не расхвораться. Вчера сложил стихи, которые по краткости прилагаю.
Прости! Не помни дней паденья, Тоски, унынья, озлобленья <и проч.>.Что это — изрядно или плохо? По совести, не умею определить…» Стихи обращены к А. Я. Панаевой, с которой поэт намеревался встретиться за границей после недолгой размолвки.
(обратно)51
«В столицах шум, гремят витии…» (стр. 144). — В 1857 году либеральная интеллигенция обеих столиц шумно ликовала по поводу намечавшихся правительством «великих реформ». В столичных журналах стали печататься такие статьи, которые после недавних строгостей николаевской цензуры казались обывателям смелыми. На деле же все оставалось по-прежнему. Л. Н. Толстой, вернувшийся в то время из-за границы, писал (18 августа 1857 года): «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 222).
Об этом и написано стихотворение Некрасова.
Оно было предназначено для «Современника», но цензор Мацкевич дал о нем следующий отзыв: «… Стихи эти содержат в себе двойной смысл, который цензурный комитет не может себе вполне объяснить». «Благоусмотрением» Главного управления цензуры стихотворение было запрещено. Впервые появилось в печати лишь в издании «Стихотворений» 1861 года.
(обратно)52
Тишина (стр. 144). — Некрасов, вынужденный лечиться, пробыл за границей десять месяцев. В поэме сказалась та радость, которую он испытал при возвращении из Рима на родину в июне 1857 года. Враги поэта обвиняли его в ту пору в недостатке патриотизма. На эту-то «укоризну» врагов он и ответил в «Тишине»:
…Пусть ропот укоризны За мною по пятам бежал, Не небесам чужой отчизны — Я песни родине слагал!Третья глава «Тишины» написана Некрасовым еще в Риме в декабре 1856 года как отдельное стихотворение, посвященное закончившейся незадолго до того Крымской войне.
(обратно)53
Стр. 147. Молчит и он. — Имеется в виду Севастополь.
(обратно)54
Бунт (стр. 149). — Возможно, что «Бунт» написан под впечатлением кровавой расправы с крестьянами, учиненной рязанским губернатором Новосильцевым в селе Мурмине в июне 1857 года. Корреспонденция об этой расправе была напечатана Герценом в «Колоколе» (1858, л. 10).
Дата написания устанавливается предположительно. В 1876 году Некрасов безуспешно пытался провести этот «Отрывок» через цензуру. При жизни Некрасова опубликован не был.
(обратно)55
Размышления у парадного подъезда (стр. 150). — Однажды Некрасов из окна своей квартиры увидел, как от дома, где жил министр государственных имуществ М. Н. Муравьев (получивший впоследствии прозвище Вешателя за кровавое «усмирение» Польши в 1863 году), дворники и городовой прогоняли крестьян-просителей. Это послужило толчком к написанию «Размышлений у парадного подъезда».
Можно предположить, что в образе «владельца роскошных палат» отразились черты военного министра николаевской эпохи А. И. Чернышева. Весной 1857 года Некрасов видел его, доживавшего свои дни на курорте в Южной Италии. Именно к нему относятся строки Некрасова: «Созерцая, как солнце пурпурное…» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 754). В течение пяти лет стихотворение не могло появиться в русской подцензурной печати и ходило по рукам в многочисленных списках. В 1860 году его напечатал Герцен в «Колоколе» без подписи автора, с примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить» («Колокол», 1860, л. 61, стр. 505–506). Популярность «Размышлений у парадного подъезда» в кругах передовой молодежи была очень велика. Заключительные строки, начиная стихом «Назови мне такую обитель», сделались любимой студенческой песней.
Стих «Иль, судеб повинуясь закону» — вынужденная уступка цензуре. По словам Чернышевского, первоначально была написана другая строка, более резкая (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 1, М. 1939, стр. 754). Исследователям до сих пор не удалось восстановить эту строку.
(обратно)56
Песня Еремушке (стр. 153). — Эта песня, появившаяся во время революционного подъема 60-х годов, стала боевым лозунгом молодого демократического поколения. Добролюбов, посылая ее другу, писал: «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике»… Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой, сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!» (Н. Г. Чернышевский, Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М. 1890, стр. 534).
«Песня Еремушке» была искажена цензурой. Из того же письма мы знаем, что в 14-й строфе слово «равенство» было заменено словом «истина», а в строфе 17-й вражда «к угнетателям» — враждою «к лютой подлости».
Молодежь 60-х годов восторженно приняла «Песню Еремушке» Некрасова. В романе Чернышевского «Что делать?» эту песню поет хор молодежи (гл. 5).
(обратно)57
«Что ты, сердце мое, расходилося?..» (стр. 159). — Враги революционно-демократической поэзии Некрасова распространяли клеветнические вымыслы о жизни и деятельности поэта. Стихотворение «Что ты, сердце мое, расходилося?..» является ответом Некрасова этим клеветникам. По воспоминаниям одного современника, Некрасов выступил с этим ответом публично:
«Большой зал Дворянского собрания был битком набит. С благотворительной целью давался вечер при участии известных писателей. Появление каждого из них восторженно приветствовалось публикой. И только когда на эстраду вышел Николай Алексеевич Некрасов, его встретило гробовое молчание. Возмутительная клевета, обвившаяся вокруг славного имени Некрасова, очевидно, делала свое дело. И раздался слегка вздрагивающий и хриплый голос поэта «мести и печали»:
Что ты, сердце мое, расходилося?.. Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла — прокатилася Клевета по Руси по родной… <и т. д.>Что произошло вслед за чтением этого стихотворения, говорят, не поддается никакому описанию. Вся публика, как один человек, встала и начала бешено аплодировать. Но Некрасов ни разу не вышел на эти поздние овации легковерной толпы…» («Звезда», 1902, № 51, стр. 6).
(обратно)58
«…одинокий, потерянный…» (стр. 160). — На странице книги, где было напечатано это стихотворение, Некрасов перед смертью написал на полях: «Навеяно разладом с Тургеневым в 1860 г.» («Стихотворения» 1879, т. IV, СПб., стр. LV).
Тургенев долгое время был другом Некрасова, ближайшим сотрудником «Современника». Но когда в 60-х годах в русском обществе выдвинулась новая сила — разночинцы, когда некрасовский «Современник» стал выразителем идей Чернышевского, Добролюбова и других революционных демократов, Тургенев, как и большинство писателей, принадлежавших к либеральному кругу, порвал с «Современником» и стал относиться к Некрасову как к политическому врагу. Некрасов, не отступая от своих идейных позиций, мучительно переживал утрату друга своей юности. Эти переживания и отразились в стихотворении «… одинокий, потерянный…».
(обратно)59
На Волге (стр. 160). — Стихотворение имеет автобиографический характер.
По поводу того места поэмы, где изображается разговор бурлаков, Чернышевский писал:
«Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью…» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 753).
По первоначальному замыслу, стихотворение «На Волге» должно было составить первую часть большой поэмы «Рыцарь на час». Замысел остался невыполненным. Некрасов написал только первую и четвертую части («На Волге» и «Рыцарь на час»).
(обратно)60
На смерть Шевченко (стр. 169). — Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко скончался 26 февраля 1861 года. В стихотворении, написанном под свежим впечатлением его смерти, Некрасов вспоминает о той расправе, которую учинило над украинским поэтом царское правительство.
Шевченко был арестован в 1847 году. Среди его бумаг были обнаружены революционные стихи («Сон», «Кавказ»), а также карикатуры на Николая I. Царь сам руководил следствием и сослал поэта в Орскую крепость солдатом, запретив ему писать и рисовать. Лишь в 1858 году сосланный поэт получил разрешение вернуться в столицу, где он сблизился с кружком «Современника» — с Чернышевским, Добролюбовым, Михайловым. В некрасовском журнале появлялись переводы стихов Шевченко, а также сочувственные статьи о его жизни и творчестве.
Стихотворение «На смерть Шевченко» долго находилось под цензурным запретом.
(обратно)61
«Что ни год — уменьшаются силы…» (стр. 170). — В этом стихотворении содержится резко отрицательный отзыв о крестьянской реформе 1861 года. В последнем четверостишии — намек на жестокое подавление крестьянских восстаний весной 1861 года (см. об этом: Корней Чуковский, Собр. соч. в шести томах, т. 4, М. 1966, стр. 694).
(обратно)62
Свобода (стр. 170). — Написано вскоре после «раскрепощения» крестьян.
Подлинное отношение Некрасова к крестьянской «свободе» сказалось в горьких строках, ради которых написано все стихотворение:
Знаю: на место сетей крепостных Люди придумали много иных…Но чтобы эти строки могли появиться в печати, Некрасов сопроводил их «оптимистическими» стихами о том, какое счастье ожидает детей освобожденных крестьян. И хотя картина счастливого будущего крестьянства завершается вполне трезвой концовкой («В этих фантазиях много ошибок…»), все же стихотворение в целом производило впечатление вполне цензурного (см. об этом: Корней Чуковский, Собр. соч. в шести томах, т. 4, М. 1966, стр. 710–711).
(обратно)63
Крестьянские дети (стр. 173). — Как помечено в автографе, стихотворение было написано 14 июля 1861 года. Первоначальное заглавие в автографе — «Детская комедия». В первой публикации было посвящено Ольге Сократовне Чернышевской (О. С. Ч — ской).
(обратно)64
Дума (стр. 180). — Это стихотворение было напечатано через несколько месяцев после крестьянской реформы, когда трагедия безработицы стала реальной угрозой для многих «освобожденных» крестьян.
(обратно)65
Коробейники (стр. 181). — Некрасов посвятил поэму своему товарищу по охоте, крестьянину Гавриле Яковлевичу Захарову. Возможно, Захаров и подсказал Некрасову сюжет «Коробейников». Сестра поэта сообщала в своих мемуарных заметках, что «Коробейников» Некрасов написал в деревне, воротившись с охоты («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 177).
Вскоре после опубликования «Коробейников» Чернышевский воспользовался включенной в их текст «Песней убогого странника» для пропаганды идей крестьянской революции (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 874).
Эту же песню процитировал и Герцен в «Колоколе» от 1 февраля 1862 года (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, М. 1959, стр. 28).
Начало поэмы (первые 24 строки) широко известно как народная песня «Коробушка» (или «Коробочка»).
Вскоре после первой публикации Некрасов напечатал «Коробейников» в дешевом издании, «назначающемся для народа».
(обратно)66
Стр. 184. Вишь, вы жадны, как кутейники… — Кутейники — народное презрительное название служителей церкви.
(обратно)67
Стр. 196. Пред зерцалом, в облачении… — Зерцало — трехгранная призма с государственным гербом наверху и наклеенными по сторонам указами Петра I о судопроизводстве; зерцало стояло на столе в каждом судебном учреждении.
(обратно)68
20 ноября, 1861 (стр. 200). — По словам Некрасова, написано в день похорон Добролюбова. Через полтора месяца, 2 января 1862 года, когда петербургские студенты устроили поминки по Добролюбову, Некрасов выступил с чтением стихов Добролюбова и кратким словом о нем.
«…Мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши, столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного, — сказал он. — Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтоб он не являлся нашему воображению то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в могилу нашими собственными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там и поминутно зовет нас туда и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ».
Вслед за этим поэт прочитал стихотворение «20 ноября, 1861».
(обратно)69
Зеленый Шум (стр. 201). — Образ «Зеленого Шума» взят Некрасовым из украинского фольклора (см.: М. А. Максимович, Собр. соч., т. II, Киев, 1877, стр. 479).
(обратно)70
«Литература, с трескучими фразами…» (стр. 202). — Краткая характеристика той атмосферы, которая отразилась в этом стихотворении, дана в статье В. И. Ленина «Гонители земства и Аннибалы либерализма». В. И. Ленин ссылается на статью Л. Пантелеева «Из воспоминаний о 60-х годах». Не принимая ложных выводов этой статьи, Ленин приводит из нее следующие «интересные факты о революционном возбуждении 1861–1862 гг. и полицейской реакции»: «К началу 1862 г. общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону. Эту роль и сыграли майские пожары 1862 года в Петербурге. … Было объявлено нечто вроде военного положения»… По делам о поджоге введен военно-полевой суд. Приостановлены на восемь месяцев «Современник» и «Русское слово», прекращен «День» Аксакова, объявлены суровые временные правила о печати… правила о надзоре за типографиями, последовали многочисленные аресты политического характера (Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, Рымаренко и др.), закрыты воскресные школы и народные читальни… закрыт даже Шахматный клуб…» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29).
(обратно)71
Рыцарь на час (стр. 204). — «Рыцарь на час» является частью большой автобиографической поэмы с одноименным названием, не осуществленной Некрасовым. От этого замысла сохранилось лишь два отрывка: «На Волге (Детство Валежникова)» и настоящее стихотворение.
Называя революционный лагерь «станом погибающих за великое дело любви». Некрасов, очевидно, имел в виду многочисленные политические аресты 1861–1862 годов (М. Л. Михайлова, В. А. Обручева, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Серно-Соловьевича, Д. И. Писарева и др.).
Это наводит на мысль, что стихотворение было написано не в 1860 году, как считалось до недавнего времени, а в 1862 году, в обстановке усиливавшейся правительственной реакции.
Ниже приводится первоначальный вариант «Рыцаря на час»:
В эту ночь со стыдом сознаю Бесполезно погибшую силу мою… И трудящийся, бедный народ Предо мною с упреком идет, И на лицах его я читаю грозу, И в душе подавить я стараюсь слезу. ..................... ..................... Да! Теперь я к тебе бы воззвал, Бедный брат, угнетенный, скорбящий! И такою бы правдой звучал Голос мой, из души исходящий, В нем такая бы сила была, Что толпа бы за мною пошла.Двадцать четвертого мая 1862 года Некрасов набросал приведенные строфы (вместе с некоторыми другими) на листе почтовой бумаги и послал их томившемуся на каторге революционеру М. Л. Михайлову. Стихи отвезла Л. П. Шелгунова, как раз в ту пору направлявшаяся к Михайлову в Сибирь.
Известно, что вернувшийся из ссылки Н. Г. Чернышевский, читая это стихотворение вслух, «не выдержал и разрыдался» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 602).
(обратно)72
«Надрывается сердце от муки…» (стр. 209). — Начало стихотворения, где говорится о «барабане, цепях, топоре», явилось откликом на события 1862–1863 годов (см. примечания к стихотворениям «Литература, с трескучими фразами…» и «Мороз, Красный нос»).
(обратно)73
Калистрат (стр. 210). — В 60-х годах, когда крестьянская тематика заняла в поэзии Некрасова господствующее место, он создал цикл народных песен: «Дума» (1861), «Калистрат» (1863) и др. Тема большинства этих песен — безысходная крестьянская нужда.
В конце 1863 года революционер-каракозовец И. А. Худяков попытался использовать «Калистрата» для политической агитации среди крестьян, включив его в сборник для народного чтения. Но цензура запретила эту перепечатку «Калистрата» (см.: А. Гаркави, Некрасов и цензура. — «Некрасовский сборник», II, М.—Л. 1956, стр. 456).
(обратно)74
«Благодарение господу богу…» (стр. 211). — Дорога, изображенная здесь, — знаменитая Владимирка, по которой гнали арестантов в Сибирь. Последние строфы посвящены арестованному революционеру, которого отправляют на каторгу в сопровождении жандарма. Стихотворение написано в 1863 году, когда правительство Александра II усилило репрессии против революционеров. В том же году — после польского восстания — по Владимирке прошли тысячи польских повстанцев.
(обратно)75
Орина, мать солдатская (стр. 212). — В основу поэмы положены подлинные факты: в царской армии дисциплина поддерживалась бесчеловечными карами, виновных в нарушении устава засекали нередко насмерть. Сестра поэта сообщала впоследствии: «Орина, мать солдатская, сама ему (Некрасову. — К. Ч.) рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшить» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 178).
Эпиграф взят из народной песни.
(обратно)76
Мороз, Красный нос (стр. 215). — Поэма написана в 1862–1863 годах, когда правительство Александра II, испуганное нарастающим революционным подъемом, усилило репрессии против передовой демократии.
Воспользовавшись паникой, вызванной петербургскими пожарами 1862 года, власти приостановили некрасовский журнал «Современник», арестовали Чернышевского, заключили в крепость Писарева. Были объявлены суровые правила о печати, о надзоре за типографиями и др. Польское восстание 1863 года было использовано самодержавием для дальнейшей полицейской расправы с оппозиционной интеллигенцией.
Но и в то мрачное время Некрасов сохранил веру в грядущее торжество народа. Всеми величавыми образами поэмы Некрасов свидетельствует, что, как бы ни была в ту пору мучительна крестьянская жизнь, сами крестьяне так мужественны, так богаты духовными силами, их быт, несмотря ни на что, так устойчив и крепок, что нет на свете такого врага, которого они не могли бы сокрушить в борьбе за свою свободу.
(обратно)77
Стр. 215. Сестра Некрасова, которой посвящена поэма, — Анна Алексеевна Буткевич (1823–1882).
(обратно)78
Стр. 228. Ходебщик сергачевский Федя… — Ходебщик — вожак дрессированного медведя.
(обратно)79
Стр. 231. Но — чу! заунывные пени…. — Пени — жалобы, стенания.
(обратно)80
Железная дорога (стр. 249). — В стихотворении использованы подлинные факты, относящиеся к постройке Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги между Петербургом и Москвой (1843–1851). Строителем дороги считался «главноуправляющий путями сообщения» граф П. А. Клейнмихель (1793–1869), известный своей жестокостью. За полгода тяжелой работы землекопы получали на скудных «казенных харчах» 17 рублей 50 копеек (то есть меньше трех рублей в месяц); у них не было ни одежды, ни обуви; приказчики обсчитывали их; когда же они выражали свое недовольство, их наказывали плетьми.
Конечно, не только Николаевская дорога строилась при помощи таких жестоких принудительных мер. Во второй половине 50-х годов, в царствование «либерального» Александра II, обращение с рабочими не стало мягче (см. статью «Опыт отучения людей от пищи». — Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. VII, М.—Л. 1963, стр. 438–439).
Некрасов представил в цензуру «Железную дорогу» в мае 1864 года; печатать ее было запрещено. Когда же в 1865 году он, воспользовавшись «освобождением» «Современника» от предварительной цензуры, поместил поэму на страницах журнала, министр внутренних дел объявил «Современнику» второе предостережение, то есть поставил журнал под угрозу закрытия.
«Железная дорога» оказывала сильное революционизирующее влияние на молодежь 1860–1870 годов. В 1873 году группа народников выпустила в Женеве «Сборник новых песен и стихов», назначавшийся для революционной агитации среди крестьян; в сборник была включена и «Железная дорога», снабженная особым предисловием. В предисловии примечательны строки, посвященные несчастным рабочим, замученным на постройке дороги: «Мы припомним их всех, когда придется сводить счеты с царями и барами».
(обратно)81
Стр. 252. Видел я в Вене святого Стефана… — Святой Стефан — собор в Вене, памятник средневекового зодчества.
(обратно)82
Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?.. — Некрасов перефразировал слова Пушкина:
Тебе бы пользы все — на вес Кумир ты ценишь Бельведерский… Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь. (обратно)83
Возвращение (стр. 253). — Вероятнее всего, стихи сложились по дороге в Карабиху, куда Некрасов приехал осенью 1864 года после поездки за границу (весною и летом того же года).
(обратно)84
Памяти Добролюбова (стр. 254). — Эти стихи были написаны к трехлетию со дня смерти Добролюбова.
Создавая стихотворение, посвященное памяти покойного друга, Некрасов, по его собственным словам, «старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов» («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. LXVII).
Восклицание поэта:
Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало! —В. И. Ленин поставил эпиграфом к некрологу «Фридрих Энгельс» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 5).
Впервые было опубликовано в «Современнике» (1864, № 11–12) с пропуском строк 18–25 и с некоторыми цензурными искажениями (так, слова: «для свободы» были заменены — «для отчизны»). Вместо заглавия были поставлены три звездочки, под ними в скобках — «Отрывок» и следующий эпиграф из стихотворения Добролюбова «Милый друг, я умираю…»:
Милый друг, я умираю, Но спокоен я душою И тебя благословляю — Шествуй тою же стезею… (обратно)85
Балет (стр. 255). — По первоначальному замыслу Некрасова, «Балет» должен был составить одну из частей его большого цикла «О погоде». В «Современнике» стихотворение имело подзаголовок: «Сатира 9».
Сатира построена на резком противопоставлении бессмысленной праздности социальных верхов и бедственного положения крестьян.
В «Балете» дано описание одного из спектаклей, поставленных в Мариинском театре в 1866 году. В программу спектакля входил в числе других и псевдонародный танец «Мужичок».
(обратно)86
Стр. 256. И мышиный жеребчик (так Гоголь молодящихся старцев зовет)… — См. «Мертвые души» (т. I, гл. VIII).
(обратно)87
Стр. 261. Не все ж читать вам Бокля!.. — Бокль (1821–1862) — английский ученый, автор «Истории цивилизации в Англии».
(обратно)88
Стр. 262. Петипа (Суровщикова) М. С. — характерная танцовщица.
(обратно)89
Стр. 263. Бернарди Рита — итальянская певица.
(обратно)90
Стр. 264. Вот бы Роллер нам их показал!.. — А. А. Роллер (1805–1891) — декоратор петербургских театров.
(обратно)91
«Ликует враг, молчит в недоуменье…» (стр. 265). — В период правительственного террора, после неудавшегося покушения Д. Каракозова на Александра II (4 апреля 1866 года), Некрасов, желая спасти «Современник» от гибели, принял участие в официальном чествовании М. Н. Муравьева («Вешателя»). Судьба журнала в значительной мере зависела тогда от Муравьева, облеченного диктаторской властью для борьбы с нараставшей в стране революцией. Поэт почувствовал, что допустил непоправимую ошибку, и в тот же вечер написал стихотворение «Ликует враг, молчит в недоуменье…», в котором жестоко осудил свой поступок.
(обратно)92
«Умру я скоро. Жалкое наследство…» (стр. 266). — Пытаясь спасти «Современник» от угрожавшего ему закрытия, Некрасов прочел в Английском клубе стихотворное послание Муравьеву-Вешателю, от которого зависела судьба журнала (см. примечание к стихотворению «Ликует враг, молчит в недоуменье…»). Глубочайшие переживания поэта, связанные с этим поступком, отразились и в настоящих стихах. Цитируя их, В. И. Ленин писал: «Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:
Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука…
«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 84).
Стихотворение является ответом на анонимное послание, полученное поэтом 3 марта 1866 года от «Неизвестного друга». Ответ был написан Некрасовым через год, в феврале 1867 года.
Незадолго перед смертью поэт, готовя новое издание своих стихотворений, написал возле слов «Неизвестному другу»: «Не выдуманный друг, но точно неизвестный мне… Где-нибудь в бумагах найдете эту пьесу, превосходную по стиху. Ее следует поместить в примечании» («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. LXXIII).
Вот эти стихи:
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
(Н. А. Некрасову)
Мне говорят: твой чудный голос — ложь; Прельщаешь ты притворною слезою И словом лишь толпу к добру влечешь. А сам, как змей, смеешься над толпою. Но их речам меня не убедить: Иное мне твой взгляд сказал невольно; Поверить им мне было б горько, больно… Не может быть! Мне говорят, что ты душой суров, Что лишь в словах твоих есть чувства пламень, Что ты жесток, что стих твой весь любовь, А сердце холодно, как камень! Но отчего ж весь мир сильней любить Мне хочется, стихи твои читая? И в них обман, а не душа живая?! Не может быть! Но если прав ужасный приговор?.. Скажи же мне, наш гений, гордость наша, Ужель сулит потомства строгий взор За дело здесь тебе проклятья чашу? Ужель толпе дано тебя язвить, Когда весь свет твоей дивится славе, И мы сказать в лицо молве не вправе — Не может быть?! Скажи, скажи, ужель клеймо стыда Ты положил над жизнию своею? Твои слова и я приму тогда И с верою расстануся моею. Но нет! И им ее не истребить! В твои глаза смотря с немым волненьем, Я повторю с глубоким убежденьем: Не может быть!Автором стихотворения «Не может быть» была О. В. Мартынова (Павлова) («Некрасовский сборник», II, М, —Л. 1956, стр. 501–507).
(обратно)93
Еще тройка (стр. 267). — На тройках в сопровождении жандармов отправляли в Сибирь политических ссыльных. В ту пору, вскоре после неудавшегося покушения Д. Каракозова на Александра II (1866 год), такие «тройки» стали обычным явлением.
Стихотворение пользовалось большим успехом в среде революционно настроенной молодежи, читалось на студенческих сходках (В. Засулич, Воспоминания, М. 1931, стр. 27).
(обратно)94
Генерал Топтыгин (стр. 269). — Третье стихотворение из цикла «Стихотворения, посвященные русским детям». Цикл состоял из стихотворений: I. Дядюшка Яков, II. Пчелы, III. Генерал Топтыгин.
(обратно)95
Мать (стр. 277). — Подготовляя незадолго до смерти новое издание стихотворений, Некрасов написал на полях той страницы своей книги, где была напечатана «Мать»: «Думаю — понятно: жена сосланного или казненного…» («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. LXXVII). В литературе было высказано предположение, что здесь изображается О. С. Чернышевская.
По свидетельству Г. В. Плеханова, эти стихи «заучивались наизусть русскими революционерами» (Г. В. Плеханов, Литература и эстетика, т. II, М. 1958, стр. 196).
(обратно)96
«Не рыдай так безумно над ним…» (стр. 278). — «Навеяно смертью Писарева и посвящено М. А. Маркович», — написал поэт на своем экземпляре стихов («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. LXXVII). Д. И. Писарев утонул в Дуббельне (ныне — Дубулты, Латвийской ССР) 4 июля 1868 года. Его гражданская жена, известная писательница Мария Александровна Маркович (Марко Вовчок), была потрясена этой смертью. 7 августа Некрасов прислал ей стихи «Не рыдай так безумно над ним…» с такой запиской:
«Только Вам, Мария Александровна, решаюсь покуда дать это стихотворение. Писарев перенес тюрьму не дрогнув (нравственно) и, вероятно, так же встретил бы эту могилу, которая здесь разумеется; но ведь это исключение — покуда жизнь представляет более фактов противоположного свойства, и потому-то и моя мысль приняла такое направление. Словом — Вы понимаете, так написалось».
К последним двум строкам стихотворения Некрасов сделал примечание: «Пословица эта не выдумана. Ее можно найти в сборнике пословиц Даля». Он имел в виду книгу В. Даля «Пословицы русского народа», где в отделе «Счастье — удача» приводится такое изречение: «У счастливого умирает недруг, у бессчастного — друг» (М. 1957, стр. 63).
(обратно)97
«Душно! без счастья и вол и…» (стр. 279). — Чтобы несколько ослабить революционное звучание стихотворения и провести его через цензуру, Некрасов вводит подзаголовок: «Из Гейне». Но перед смертью поэт зачеркнул эту строчку и написал: «собственное» («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. LXXVII).
(обратно)98
Дедушка (стр. 280). — В 1856 году был объявлен манифест об амнистии сосланным в Сибирь декабристам. С любовью встречало передовое русское общество вернувшихся из ссылки изгнанников. В Москве очень тепло принимали престарелого декабриста Сергея Григорьевича Волконского. И когда в конце 1865 года Волконский умер, герценовский «Колокол» откликнулся некрологом, где говорилось: «Мир праху твоему, благородная, почтенная жертва гнусного самодержавия, из любви к отечеству променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника…» («Колокол», 1866, № 212).
Есть основания предполагать, что С. Г. Волконский отчасти послужил прототипом для героя поэмы Некрасова. Не только наружность Волконского, но и некоторые его привычки и душевные качества были приданы «дедушке»: влечение к простому народу, склонность к земледелию, тяготение к ручному труду. Но на этом и кончается сходство «дедушки» с С. Г. Волконским, который, как писал о нем И. С. Аксаков, вернулся в Россию «умудренным и примиренным, полным горячего, радостного сочувствия к реформам нынешнего царствования…» («День», 1865, №№ 50 и 51). А в поэме некрасовский герой завещает юному внуку свою ненависть к самодержавному строю и призывает его продолжать ту борьбу, которая была начата декабристами. Правда, в первых строфах поэмы в лице «дедушки» изображен декабрист, будто бы примирившийся с жестоким режимом, искалечившим всю его жизнь.
Днесь я со всем примирился, Что потерпел на веку!.. —говорит он в IV строфе. В VIII и IX строфах отмечается, что «дедушка» верит в либеральные реформы 60-х годов («Скоро вам будет нетрудно, будете вольный народ!», «Скоро дадут им свободу» и т. д.). Но из дальнейшего содержания поэмы явно следует, что видимость примирения героя с окружающим злом необходима была для дезориентации цензуры и что на самом деле «дедушка» далек от примирения с действительностью. Особенно ярко воплощена эта мысль в XVII строфе, в четверостишии, которое при жизни Некрасова не могло быть опубликовано из-за цензуры:
Взрослые люди — не дети, Трус — кто сторицей не мстит! Помни, что нету на свете Неотразимых обид.Для понимания поэмы исключительно важно и указание Некрасова (в письме к В. М. Лазаревскому от 9—10 апреля 1872 года), что «дедушка» «выведен нераскаявшимся».
Скрытая идея поэмы выражена также в повествовании «дедушки» о забайкальской деревне Тарбагатай (ныне город в Бурятской АССР). Факты, относящиеся к этой необыкновенной деревне, поэт заимствовал из «Записок декабриста» А. Е. Розена, вышедших в Лейпциге в 1870 году. Рассказывая о благополучии тарбагатайских крестьян, Некрасов называет это благополучие «чудом» — до такой степени невероятной и невозможной казалась ему в тогдашних условиях счастливая крестьянская жизнь. Причина этого «чуда», по мысли Некрасова, заключается в том, что, за дальностью расстояния от центров, тарбагатайцы в своей «страшной глуши» были свободны от всяких административных воздействий и благодаря этому, по выражению поэта, обладали «землей и волей». Так как слова «земля и воля» были боевым лозунгом революционеров 60— 70-х годов, надо думать, что эти слова вложены Некрасовым в уста декабриста отнюдь не случайно.
Как показывает пометка в автографе, поэма была написана за короткий срок: 30 июля — 8 августа 1870 года.
Посвящена поэма «3-н-ч-е», то есть Зинаиде Николаевне, жене поэта (о ней см. прим. на стр. 676).
В настоящем издании вводим текстовую поправку: в IX строфе вместо «Волю да землю им дали» (как было до сих пор во всех изданиях) печатаем «Землю да волю им дали» (по автографу поэта), поскольку порядок слов был изменен, очевидно, лишь из цензурных соображений (чтобы затушевать лозунг «земля и воля»).
(обратно)99
Стр. 290. Пел он о славном походе — о вступлении русских войск в Париж в 1814 году, в эпоху наполеоновских войн. В этом победоносном походе участвовал и С. Г. Волконский.
(обратно)100
Дедушка Мазай и зайцы (стр. 293). — Стихотворение из цикла «Стихотворения, посвященные русским детям» (1870). В цикл входило также стихотворение «Соловьи».
По поводу «Дедушки Мазая и зайцев» М. Е. Салтыков-Щедрин писал Некрасову 17 июля 1870 года: «Стихи Ваши прелестны» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, М. 1937, стр. 228). 25 ноября того же года он писал о Некрасове поэту А. М. Жемчужникову: «Есть у него несколько готовых детских стихотворений (прелестных)…» (там же, стр. 230).
(обратно)101
Стр. 293. В августе, около «Малых Вежей»… — деревня в бывшей Мисковской волости Костромской губернии.
(обратно)102
Стр. 294. Начал частенько Мазай пуделять… — стрелять мимо, делать промахи в стрельбе…
(обратно)103
Спичку к затравке приложит — и грянет!.. — Затравка — запал, часть старинного ружья, куда клали порох.
(обратно)104
Как празднуют трусу (стр. 297). — При жизни Некрасова стихи эти не могли быть напечатаны по цензурным условиям: в них Некрасов с особой резкостью выразил свое отрицательное отношение к крестьянской реформе.
В 1876 году Некрасов сделал безуспешную попытку опубликовать стихотворение в газете «Новое время», что явствует из его письма от 1 мая 1876 года к редактору этой газеты А. С. Суворину: «…В пьесе «Как празднуют трусу» — первый стих исправьте так: «Время-то есть, да писать нет возможности». Первоначальный вариант этого стиха неизвестен.
(обратно)105
Русские женщины (стр. 298) — В 1826 году декабристы были сосланы в Сибирь на каторжные работы. Вскоре за некоторыми из них добровольно последовали их жены: А. Г. Муравьева, Е. И. Трубецкая, Е. П. Нарышкина, А. В. Розен, М. Н. Волконская и др. «Жены сосланных в каторжную работу, — писал о них впоследствии Герцен, — лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VIII, М. 1956, стр. 59).
Николай I, опасаясь, что подвиг этих самоотверженных женщин вызовет сочувствие к сосланным, принял жестокие меры, чтобы помешать их намерению: он запретил им брать с собою детей, осудил их на вечную разлуку с родными, отнял у них право вернуться в Россию; на станциях женам декабристов не давали лошадей, их запугивали всякими ужасами, заставили подписать отречение от прежних прав, Жизнь этих женщин в Сибири была тяжела; некоторые из них (в том числе Е. И. Трубецкая) там и погибли.
Создавая свою поэму, Некрасов использовал многочисленные документальные материалы. Кое-какие фактические сведения он мог почерпнуть из официальных источников («Материалы по делу о декабристах», СПб. 1826; книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая 1», СПб. 1857). На некоторые исторические труды об эпохе декабристов Некрасов сам сослался в примечаниях к «Княгине М. Н. Волконской» (см. стр. 359–360). Одним из главных источников «Княгини Трубецкой» явилась книга А. Е. Розена «Записки декабриста», вышедшая на русском языке в Лейпциге в 1870 году. Поэт опирался также на рукописные источники. Работая над поэмой «Княгиня М. Н. Волконская», он использовал рукописные «Записки» М. Н. Волконской, хранившиеся в архиве ее сына.
Вообще Некрасов проявлял большой интерес к материалам о декабристах. Несомненно, что ему были известны статьи о декабристах, появившиеся в конце 1860-х и начале 1870-х годов в «Отечественных записках», «Русском архиве» и других журналах. В частности, его внимание, очевидно, привлекла богатая фактическими данными статья С. В. Максимова «Государственные преступники» («Отечественные записки», 1869, № 10). Вероятно, дошли до Некрасова и материалы о декабристах, публиковавшиеся в «Колоколе» и «Полярной звезде», а также статья Герцена «La conspiration russe de 1825» («Русский заговор 1825 года»), напечатанная отдельной брошюрой в Лондоне в 1858 году. Немало сведений о декабристах поэт мог почерпнуть из устных рассказов Н. А. Белоголового, М. С. Волконского, Д. И. Завалишина и др. Известно также, что Некрасов «штудировал» рукописные материалы о декабристах, хранившиеся в архивах М. И. Семевского, П. И. Бартенева и др.
Тщательно изучив исторические материалы, Некрасов проявил полную самостоятельность в политической концепции поэмы, в оценке людей и событий. Он писал свою поэму не как историк, а как публицист: ему важно было установить живую, преемственную связь между декабристским восстанием и революционным движением 70-х годов. Критика неоднократно указывала, что Некрасов воспроизвел в своих героинях черты, которые сближали их с передовыми женщинами современной ему эпохи. «Героини его, — писал А. М. Скабичевский, — мыслят, говорят и действуют совершенно подобно тому, как бы стали мыслить, говорить и действовать лучшие и образованнейшие женщины того же круга в наше время» («Отечественные записки», 1877, № 3, стр. 10). Говоря о княгине Трубецкой:
Ей снятся группы бедняков На нивах, на лугах, Ей снятся стоны бурлаков На волжских берегах… —Некрасов приписал ей взгляды демократов-семидесятников. Образы некрасовских героинь были особенно близки революционной молодежи того времени, которая не могла не соотносить их со своими настроениями, делами и задачами.
Интересно недавно высказанное предположение, что, избрав женщин героинями своей поэмы, Некрасов по-своему откликнулся на процессы революционерок конца 1860-х и начала 1870-х годов (А. Д. Дементьевой, В. В. Александровской и др.), а также на подвиг женщин, добровольно отправлявшихся в ту пору в ссылку за своими мужьями-революционерами. Возможно, что именно эти обстоятельства побудили Некрасова «уже в гранках напечатанной поэмы заменить прежнее заглавие «Декабристки» на более обобщенное — «Русские женщины» (Н. В. Осьмаков, Поэзия революционного народничества, М. 1961, стр. 33–34).
Все это свидетельствует о политической актуальности поэмы.
Тема «Русских женщин» занимала творческое воображение Некрасова в течение целого ряда лет, но основная часть работы над поэмой была выполнена в сжатые сроки.
«Княгиню Трубецкую» Некрасов написал очень быстро. Всю зиму 1871 года поэт энергично собирал материалы, а летом уехал работать в Карабиху. Друзья присылали ему туда материалы для «Трубецкой» («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 235). Как показывают датирующие пометки в рукописи, наиболее интенсивно шла работа в июле 1871 года. 8 июля Некрасов сообщил Краевскому, что надеется закончить поэму о Трубецкой к 1 августа, но уже 23 июля были написаны последние строки, судя по дате на автографе. Правда, в первой редакции «Трубецкая» была несколько короче.
«Княгиню М. Н. Волконскую» Некрасов писал в Карабихе летом 1872 года. 10 июля он сообщал своему другу А. Н. Кракову: «… Я затеял большую работу — и усердно писал; теперь начинаю видеть берег, думаю, что недели в две кончу: вещь будет, кажется, недурная. Сюжет вертится все там же — около Сибири.» Он кончил поэму раньше, чем предполагал, на что указывают даты в рукописи: «17 июля 1872», «21 июля».
Двадцать девятого марта 1873 года Некрасов писал П. В. Анненкову, что, если бы не «цензурное пугало, повелевающее касаться предмета только сторонкой», он работал бы и дальше над этой темой. И действительно, в том же году он набросал подробный план новой задуманной им поэмы о декабристках. Согласно этому плану, главы о Трубецкой и Волконской должны были занять в поэме скромное место пролога; все десять глав дальнейшего повествования должны были изобразить жизнь этих самоотверженных женщин в Сибири, причем в качестве главной героини поэмы Некрасовым намечалась Александра Григорьевна Муравьева, умершая в Петровской тюрьме после нескольких лет жизни в Сибири (см. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. III. М. 1949, стр. 398–399). Очевидно, Некрасов долго не оставлял мысли создать цикл поэм о страдальческой жизни декабристов в Сибири, потому что и через три года после окончания «Русских женщин» обращался к декабристу М. А. Назимову с просьбой доставить ему сведения о коменданте Лепарском («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 165). Но «цензурное пугало» помешало осуществить эти замыслы.
Из-за того же «цензурного пугала» Некрасову пришлось сильно исказить текст «Русских женщин» при публикации.
Особенно пострадала «Княгиня Трубецкая». Напечатать ее полностью было тогда немыслимо, потому что в ней с чрезвычайною резкостью сказалась ненависть к самодержавному строю, к Николаю I и к его приближенным. Закончив «Трубецкую», Некрасов тотчас же начал «смягчать» ее, выбрасывая «дерзкие» строки, которых оказалось очень много.
«Думаю, что в том испакощенном виде <…> цензура к ней придраться не могла бы», — писал он Краевскому в марте 1872 года. Действительно, «Трубецкая» была очень «испакощена».
Некоторые приспособленные к цензуре стихи вызывали у читателей мысли, прямо противоположные тем, какие были в доцензурном тексте: например, в рукописи у Некрасова было сказано о декабристах:
Стояли они настороже, Готовя войска к низверженью властей, —а напечатано было:
Стояли они настороже. Готовя несчастье отчизне своей.Помимо текстовых искажений Некрасов применил и другие средства, чтобы провести «Русских женщин» через цензуру. Так, «Княгиню Трубецкую» он в журнальной публикации снабдил особым примечанием с целью доказать, будто поэма вполне «цензурна». Примечание гласило:
«С издания манифеста Александра II, от 26 августа 1856 года, в нашей литературе начали появляться время от времени (а в последние годы и довольно часто) материалы для изучения эпохи, к которой относится настоящий рассказ. Перечитывая эти материалы, автор постоянно с любовию останавливался на роли, выпавшей тогда на долю женщин и выполненной ими с изумительной твердостью. Если на самое событие можно смотреть с разных точек зрения, то нельзя не согласиться, что самоотвержение, выказанное ими, останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии.
Вот причина, побудившая автора приняться за труд, часть которого представляется теперь публике. Хотя минуло уже почти полвека со времени события, однако автор счел за лучшее вовсе не касаться его политической стороны, — да это и не входило в пределы задачи, как увидит читатель. Точки вместо некоторых строф поставлены самим автором, по его личным соображениям. Авт<ор>» («Отечественные записки», 1872, № 4, стр. 577).
Одним из заслонов от «цензурного пугала» должен был служить и «Эпилог», который Некрасов написал для «Трубецкой», готовя ее к печати. Здесь он указывал, что сюжет его поэмы не зависит от положительной или отрицательной оценки восстания («как ни смотри на драму тех времен»), что не декабристы интересуют его, а только их самоотверженные жены и что, стало быть, поэма далека от политики. Ввиду того что вскоре после этого он, как указано выше, изложил те же ложные доводы в особом примечании к поэме, надобность в этих строках «Эпилога» отпала. Дальнейшие строки тоже оказались излишними: в них поэт уведомляет читателя, что Трубецкая не является единственной героиней поэмы:
Быть может, мы, рассказ свой продолжая, Когда-нибудь коснемся и других.Надобность в этом предуведомлении исчезла, едва только появилась «Волконская». Нельзя было говорить «быть может» и «когда-нибудь» о том, что уже осуществилось на деле.
Дальше в «Эпилоге» было сказано, будто подвиг Трубецкой выше подвига остальных декабристок:
Но чьей судьбы теперь коснулись мы, Та всех светлей сиять меж ними будет…И эти строки тоже не могли сохраниться в окончательном тексте после того, как Некрасову стали более ясны образы других «русских женщин»: через год (в вышеупомянутом плане цикла поэм) он уже называл «самым лучшим перлом» из всех декабристок А. Г. Муравьеву.
Таковы те причины, по которым, как мы полагаем, «Эпилог» был изъят Некрасовым из текста «Трубецкой» и вообще не был напечатан при жизни поэта.
Главным образом для того, чтобы отвлечь внимание цензурного ведомства от тех страниц, где трактуется декабристская тема, написаны, по-видимому, и пространные примечания к «Княгине М. Н. Волконской», посвященные подвигам генерала Раевского, характеристике Зинаиды Волконской и пребыванию Пушкина в Гурзуфе.
И все же, несмотря на все вынужденные уступки цензуре, подлинный смысл поэмы был понят многими читателями. Революционно настроенная молодежь встретила «Русских женщин» восторженно.
В феврале 1873 года, через месяц после того, как «Княгиня М. Н. Волконская» появилась в печати, Некрасов писал своему брату Федору Алексеевичу: «Моя поэма «Кн. Волконская», которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний. <…> Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает».
«Литературными шавками», «щипавшими» поэта, были реакционные критики В. П. Буренин и В. Г. Авсеенко («Санкт-Петербургские ведомости», 1873, № 27, «Русский мир», 1873, № 46).
Об огромном успехе «Русских женщин» свидетельствует вся современная Некрасову пресса. Например, А. М. Скабичевский несколько позднее писал: «…Я никак не могу припомнить ни одного художественного произведения, вышедшего в последние десять лет в нашей печати, которое произвело бы на публику такое сильное и цельное впечатление…» («Отечественные записки», 1877, № 3, стр. 9).
В литературе есть свидетельства, что Некрасов был склонен недооценивать свое произведение. «Лучше всех я понимаю <…> — говорил он в беседе с А. Г. Степановой-Бородиной, — что не совладал с таким чудным сюжетом, как «Русские женщины», и что хотел я сказать многое, но у меня не вышло».
Собеседница горячо перебила его:
«Не говорите никогда так при мне о «Русских женщинах», Николай Алексеевич, мне больно слышать, как вы клевещете на себя. Нет, по-моему, тот истинный поэт, у кого вылились такие дивные строки!»
И она продекламировала отрывок поэмы, в котором изображается свидание Волконского с женой в руднике.
«Я кончила, захлебываясь от слез, — продолжает Степанова-Бородина, — и это так тронуло Некрасова, что он протянул мне обе руки и сказал: «Нет, вы правы, пока мои стихи будут вызывать такие чувства у людей, они будут истинной поэзией!» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 587–588).
(обратно)106
Стр. 298. Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая (1801–1853; урожденная графиня Лаваль). — Ее муж — князь Сергей Петрович Трубецкой (1790–1860), полковник лейб-гвардии Преображенского полка — за участие в заговоре декабристов был приговорен к бессрочным каторжным работам. В 1826 году Трубецкая последовала за сосланным мужем в Сибирь, где и умерла.
(обратно)107
Стр. 307. Знакомый с бурями француз, столичный куафёр… — очевидно, свидетель событий французской революции 1789–1794 годов. Куафер — парикмахер.
(обратно)108
Какой-то бравый генерал… — Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825).
(обратно)109
Стр. 314. Там люди редки без клейма… — В царской России до 1863 года на лицах каторжников выжигались особые знаки или буквы (клейма).
(обратно)110
На воле рыскают кругом там только варнаки… — Варнаки — беглые каторжники.
(обратно)111
Стр. 322. Княгиня Мария Николаевна Волконская (1805–1863) — дочь известного героя Отечественной войны генерала Н. Н. Раевского. В 1825 году вышла замуж за Сергея Григорьевича Волконского (1788–1865). О С. Г. Волконском см. прим. к поэме «Дедушка».
(обратно)112
Стр. 323. Цветы с могилы сестры-Муравьевой… — Александра Григорьевна Муравьева (урожденная Чернышева) последовала за мужем Никитой Михайловичем Муравьевым в Сибирь, где и умерла в 1832 году.
(обратно)113
Стр. 336. Сестра моя, Катя Орлова. — Екатерина Николаевна Орлова (1797–1885) — старшая дочь генерала Раевского, жена декабриста Михаила Федоровича Орлова.
(обратно)114
Стр. 339. Сестра Зинаида — княгиня Зинаида Александровна Волконская (1792–1862), урожденная княжна Белосельская-Белозерская, родственница Марии Волконской по мужу, красавица, блестяще образованная, поэтесса, новеллистка, композитор, певица. На литературно-музыкальных вечерах в ее доме бывали все наиболее известные писатели и артисты того времени. О посвященных Зинаиде Волконской стихах Веневитинова и Пушкина см. прим. Некрасова (наст. том, стр. 360).
(обратно)115
Они уважали, любили ее и Северной звали Коринной… — Коринна — героиня одноименного романа французской писательницы де Сталь (1766–1817).
(обратно)116
В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка… — Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) — видный сановник, второстепенный литератор; демагог и крайний реакционер.
(обратно)117
Стр. 340. Все вечером съехалось к Зине моей… — Вечер у З. А. Волконской в честь уезжавшей в Сибирь М. Н. Волконской состоялся 26 декабря 1826 года.
(обратно)118
Поэт вдохновенный и милый… — Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805–1827).
(обратно)119
Стр. 344. Но мир Долгорукой еще не забыл, а Бирона нет и в помине. — Княгиня Наталия Борисовна Долгорукова (1714–1771), дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, в 1730 году последовала в ссылку в Сибирь за своим мужем И. А. Долгоруковым, подвергшимся репрессиям за участие в дворцовом заговоре; в 1739 году И. А. Долгоруков был казнен; Н. Б. Долгорукова окончила жизнь монахиней. Эрнст Иоганн Бирон (1690–1772) — фаворит императрицы Анны Ивановны, назначенный после ее смерти регентом; отличался беспощадной жестокостью. В сопоставлении Долгоруковой и Бирона содержится скрытый намек на М. Н. Волконскую и ее гонителя Николая I.
(обратно)120
Мне царь «Пугачева» писать поручил… — «Историю Пугачева» Пушкин написал не по поручению царя, а по собственному побуждению. В своих «Записках» М. Н. Волконская рассказывала, что Пушкин сообщил ей в Москве о намерении приняться за этот труд; начал же он работу над «Историей Пугачева» лишь в 1833 году, то есть, много позже встречи с Волконской.
(обратно)121
Стр. 350. Отец Иоанн, что молебен служил… — Отец Иоанн — священник Петр Громов, переведенный впоследствии на Петровский завод.
(обратно)122
Три элегии (стр. 361). — Все три элегии обращены к А. Я. Панаевой; написаны в разные годы.
Еще в 1855 или 1856 году Некрасов набросал четверостишие, которое (в переработанном виде) впоследствии явилось концовкой первой из «Трех элегий»:
О сердце бедное мое! Боюсь: ты скоро изнеможешь… Простить не можешь ты ее… Зачем же не любить не можешь?..Окончательную редакцию «Трех элегий» мы относим к 1873 году или к началу 1874 года.
Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893), которому посвящены эти стихи, — поэт, сотрудник «Современника», впоследствии секретарь «Отечественных записок». В 1849 году Плещеев был арестован за принадлежность к кружку Петрашевского и сослан рядовым в 1-й Оренбургский линейный батальон. Освобожденный в 1858 году, он сблизился с Чернышевским и Добролюбовым.
(обратно)123
Стр. 362. Повторяю стансы страстные, что сложил когда-то ей. — К Панаевой обращены следующие стихотворения: «Давно — отвергнутый тобою…», «Прости» и др.
(обратно)124
Путешественник (стр. 364). — Написано 13 июля 1874 года. Посылая стихотворение около этого времени в редакцию «Отечественных записок», Некрасов писал критику А. М. Скабичевскому, что оно является откликом на «новейшие события». Поэт имел в виду происходивший в то время в Петербурге процесс «долгушинцев», обвинявшихся в распространении революционной литературы среди крестьян.
А. В. Долгушин и его товарищи (А. Васильев, И. Папин, Н. Плотников) не встретили понимания со стороны крестьян. Стихи:
Книг нам не надо — неси их к жандару! В прошлом году у прохожих людей Мы их купили по гривне за пару, А натерпелись на тыщу рублей! —представляют собой точный пересказ тех речей, с которыми выступили на процессе крестьяне-свидетели (А. Гаркави, Н. А. Некрасов и революционное народничество, М. 1962, стр. 14–16).
(обратно)125
Стр. 364. В городе волки по улицам бродят, ловят детей, гувернанток и дам… — В то время волки, судя по газетным известиям, свирепствовали во многих захолустьях России (Корней Чуковский, Собр. соч. в шести томах, т. 4, М. 1966, стр. 687).
(обратно)126
Люди естественным это находят, сами они подражают волкам — В середине 70-х годов в связи с усилением правительственного террора производились многочисленные аресты. Рыскавшие по всей России жандармы сравниваются здесь с голодными волками.
(обратно)127
Прусский барон, опоясавши выю… — Прусский барон, относящийся с бездушным презрением к русским крестьянам, впервые заклеймен Некрасовым еще в «Медвежьей охоте» (1867) в образе фон дер Гребена, который утверждал, что «сам бог» (!) заградил русскому народу «пути к развитию». Таких баронов было тогда много: по словам Бисмарка, никак не меньше двухсот тысяч пруссаков находилось тогда в пределах России. Большинство из них не имело оседлости и принадлежало к числу «путешественников» (см. об этом: О. Ломан, Усадьба Н. А. Некрасова Чудовская Лука. — «Некрасовский сборник», I, М.—Л. 1951, стр. 259).
При жизни Некрасова стихотворение напечатано не было. В упомянутом выше письме Некрасов сообщал, что намеревается со временем опубликовать «Путешественника» в собрании своих сочинений. Это намерение не было осуществлено, очевидно, из-за цензурных препятствий.
(обратно)128
Уныние (стр. 365). — Пометки в автографе показывают, что «Уныние» написано 5—13 июля 1874 года.
(обратно)129
Стр. 365. Сгорело ты, гнездо моих отцов!.. — Речь идет о пожаре, уничтожившем дом и усадьбу Некрасовых в Грешневе.
(обратно)130
Стр. 369. Отава — трава, выросшая на месте скошенной в том же году.
(обратно)131
Стр. 370. И царственно уселся на стожар. — Стожар — шест, воткнутый в землю в середине стога для его устойчивости.
(обратно)132
Страшный год (стр. 371). — Отклик на разгром Парижской коммуны во время так называемой «кровавой недели» — с 21 по 28 мая 1871 года, когда версальскими войсками были расстреляны тысячи коммунаров. Говоря об этой зверской расправе буржуазии с первой диктатурой пролетариата, Карл Маркс в статье «Гражданская война во Франции» писал: «Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его кровавых собак, надо вернуться к временам Суллы и обоих римских триумвиратов. Те же хладнокровные массовые убийства людей; то же безразличное отношение палачей к полу и возрасту жертв; та же система пыток пленных; те же гонения, только на этот раз уже против целого класса; та же дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто из них не спасся; те же доносы на политических и личных врагов; та же равнодушная зверская расправа с людьми, совершенно непричастными к борьбе. Разница только в том, что римляне не имели митральез, чтобы толпами расстреливать обреченных, что у них не было «в руках закона», а на устах слова «цивилизация» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 17, изд. 2-е, стр. 360).
Желая скрыть от цензуры подлинную тему стихотворения, Некрасов указал в подзаголовке дату франко-прусской войны (1870). Многие исследователи приняли этот подзаголовок за дату написания, между тем как первые черновые наброски стихотворения относятся к более позднему времени (предположительно, к 1872 году). (См. об этом: И. Власов, Некрасов и Парижская коммуна. — «Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 397–428.) Окончательная редакция текста относится к 1874 году.
(обратно)133
Отъезжающему (стр. 372). — Стихотворение обращено к И. С. Тургеневу, который жил в 70-х годах за границей и бывал в России лишь наездами. В рукописи под стихотворением авторская дата: 23 июля 1874 года; в этом году Тургенев прибыл в Россию в конце апреля и уехал 20 июля.
(обратно)134
<Н. Г. Чернышевский> (стр. 372). — Когда Некрасов писал это стихотворение (1874 год), Чернышевский, приговоренный правительством Александра II к семи годам каторжных работ и «поселению в Сибирь навсегда», находился в вилюйской тюрьме.
В «Воспоминаниях о Некрасове» народник П. Безобразов (Григорьев) приводит свой разговор с поэтом в мае 1875 года. «Вот вы говорите в ваших статьях, — сказал Некрасов, — о моих характеристиках Белинского, Добролюбова, Писарева. У меня есть еще портрет Чернышевского… Хотите, я вам прочту его?»
Я просил. Он как-то по-детски встал, покачался на одном месте и прочел мне стихи:
Не говори: «Забыл он осторожность!..» <и т. д.>Некрасов читал нараспев, заунывно и певуче. Я попросил у него позволения записать стихи» («Правда», Женева, 1883, № 16).
В «Отечественных записках» и в «Последних песнях» (1877) стихотворение печаталось под заглавием «Пророк (Из Барбье)» и без последней строфы. Подзаголовок «Из Барбье» был вызван, по-видимому, желанием Некрасова скрыть от цензуры связь этого стихотворения с русской действительностью. Судя по черновикам, поэт вначале намеревался выдать стихотворение за перевод из Байрона, потом — из Ларры.
Поскольку совершенно очевидно, что в стихотворении изображен Н. Г. Чернышевский, в советских изданиях было принято новое заглавие — «Н. Г. Чернышевский («Пророк»)».
По новейшим данным, Некрасов не хотел сохранять в заглавии слово «Пророк». Незадолго до смерти, подготавливая к печати новое издание своих сочинений, Некрасов распорядился печатать это стихотворение вовсе без заглавия (см. А. Гаркави, Новые материалы о Н. А. Некрасове. — «Ученые записки Калининградского пединститута», вып. I, 1955, стр. 56).
В то же время сохранился экземпляр книги Некрасова «Последние песни», где поэт зачеркнул старый заголовок и написал: «Памяти Чернышевского». Но так как Чернышевский был жив, Некрасов перечеркнул слово «Памяти» и написал: «В воспоминание о Чернышевском» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. XXV).
Как видно, Некрасов хотел назвать в заглавии имя Чернышевского, но не сделал этого из опасения цензуры. Поскольку точная формулировка заголовка остается неясной, мы печатаем стихотворение под редакторским заглавием: <Н. Г. Чернышевский>.
(обратно)135
Горе старого Наума (стр. 373). — Некрасов и раньше обличал деревенского кулака-эксплуататора (см., например, стихотворение «Влас», 1855). В 70-х годах кулачество сделалось массовым бедствием. И если Влас, «кащей-мужик», ощутил свое прошлое как непрощаемый грех, то для Наума ограбление крестьян служит источником гордости.
Округа вся в горсти моей, Казна — надежней цепи: Уж нет помещичьих крепей, Мои остались крепи. (обратно)136
Стр. 373. Вблизи — «Бабайский» монастырь, село «Большие Соли»… — Бабайский, точнее Николо-Бабаевский, монастырь находился вблизи Грешнева, имения Некрасовых. Там же — посад «Большие Соли».
(обратно)137
Стр. 374. Здесь «паузятся» барки. — Паузятся — перегружаются.
(обратно)138
Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода…») (стр. 382). — В «Элегии», как и во многих других произведениях Некрасова этой поры («Ночлеги», «Горе старого Наума» и др.), воплощена мысль о бедствиях народа и после крестьянской реформы.
Народ освобожден, но счастлив ли народ?Стихи: «Пора идти вперед», «…каждый в бой иди», — правильно воспринимались тогдашним читателем как призывы к революционному действию.
Двадцать девятого августа 1874 года Некрасов писал А. Н. Еракову: «Посылаю тебе стихи; так как это самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последние годы, то и посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу».
(обратно)139
Поэту («Где вы — певцы любви, свободы, мира…») (стр. 384). — В сборнике «Последние песни» было напечатано с подзаголовком «Памяти Шиллера». Некрасов написал его осенью 1874 года к 115-й годовщине со дня рождения великого немецкого поэта по мотивам биографии Шиллера, а также его произведений «Художники» («Die Künstler») и «Певцы минувшего времени» («Die Sänger der Vorwelt»).
(обратно)140
«Смолкли честные, доблестно павшие…» (стр. 385). — Стихотворение вызвано разгромом Парижской коммуны в 1871 году. Под «доблестно павшими» поэт разумел коммунаров, расстрелянных войсками версальского правительства. Как видно из автографа, первоначальное заглавие стихотворения — «Современная Франция» — было зачеркнуто и заменено подзаголовком «с французского».
Через несколько лет поэт переадресовал стихотворение русским революционерам. Когда в Петербурге происходил «процесс пятидесяти» (с 21 февраля по 14 марта 1877 года), тяжело больной Некрасов переслал подсудимым эти стихи. В. Н. Фигнер получила их через Е. П. Елисееву (жену Г. З. Елисеева — соредактора Некрасова по «Отечественным запискам»). Рукопись стихов получил и другой подсудимый — рабочий II. А. Алексеев, произнесший на суде горячую революционную речь. Стихи эти (в ту пору еще не напечатанные) распространялись во множестве списков. В 1877 году во время «процесса пятидесяти» над Россией тоже носился «вихорь злобы и бешенства», в ней тоже «смолкли… голоса одинокие, за несчастный народ вопиявшие», в нее тоже слетались «кровожадные птицы» и сползались «ядовитые гады». Очевидно, Некрасов, вручая это стихотворение студентам, посетившим его в феврале 1877 года, желал, чтобы оно было воспринято именно так.
(обратно)141
Вступление к песням 1876 — 77 годов (стр. 385). — В 1876 году Некрасов неизлечимо заболел. Предсмертные страдания поэта отразились в цикле стихов, названных им «Последние песни».
Как справедливо отметил В. Е. Евгеньев-Максимов, «основная особенность лиризма Некрасова… сказавшаяся… и в «Последних песнях», — это отсутствие сколько-нибудь резко обозначенной грани между личным и гражданским… Гражданское, общественное воспринимается и переживается, как интимно-личное» («Некрасовский сборник», I, М.—Л. 1951, стр. 47–48).
Известен отзыв Чернышевского об этих песнях: «На днях я перечитал его от доски до доски… Неотразим! Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о себе, о своих страданьях поет, но какая сила, какой огонь! Ему больно, вместе с ним и нам тоже» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 602). Весною 1877 года предсмертные стихотворения были собраны в книге «Последние песни».
(обратно)142
Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…») (стр. 386). — Зина — жена Некрасова, Зинаида Николаевна. Ее подлинное имя Фекла Анисимовна Викторова. Ей посвящена поэма «Дедушка», 12 февраля 1874 года Некрасов подарил ей собрание своих стихотворений, надписав на титульном листе: «Милому и единственному другу моему Зине» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 187).
Женился на ней Некрасов уже во время предсмертной болезни. После его смерти она уехала из Петербурга. Умерла в Саратове в 1915 году.
(обратно)143
«Скоро стану добычею тлень я…» (стр. 387). — Когда в «Отечественных записках» (1877, № 1) появилось это стихотворение, оно встретило ряд откликов в современной печати. Таковы, например, стихи, напечатанные в журнале «Неделя» (1877, № 5):
Не говори, что ты сойдешь в могилу Никем не оценен и нелюбим, Что бесполезно разбросал ты силу, Что ты народу был чужим. Нет, родина стоит незримо У твоего одра и шлет тебе привет — Тебе, наш горячо любимый, Наш истинный, народный наш поэт… (обратно)144
Зине («Двести уж дней…») (стр. 388). — Написано 4 декабря 1876 года во время предсмертной болезни Некрасова, когда Зинаида Николаевна (см. выше примечание к стихотворению «Зине») самоотверженно ухаживала за больным. «По истечении этих двухсот дней и ночей, — рассказывал современник, — она из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом и такою осталась» (П. М. Ковалевский, Стихи и воспоминания, СПб. 1912, стр. 297).
(обратно)145
Сеятелям (стр. 389). — Хотя революционный смысл этих стихов по цензурным соображениям был сильно затушеван их аллегорической формой, он не ускользнул, однако, от представителей враждебного лагеря. Воинствующий реакционер М. Де-Пуле писал вскоре после смерти Некрасова: «Что же нужно?.. Знание, образование, — говорит поэт. Так, но какое? «Разумное, доброе, вечное!» — говорит он сеятелям знания на ниву народную. Кто же эти «сеятели»?… Те тати и разбойники, которые развращают народ, вносят смуту в его душу…» («Русский вестник», 1878, № 5, стр. 341–342).
(обратно)146
Отрывок («…Я сбросила мертвящие оковы…») (стр. 390). — Стихотворение выражает страстную жажду революционного подвига, которую высказывала в 70-х годах русская разночинная молодежь.
«Оплошными врагами» именуются здесь представители правительства Александра II.
(обратно)147
«Мы вышли вместе… Наобум…» (стр. 391). — Незадолго до смерти Некрасов, подготовляя новое собрание сочинений, сделал попытку приспособить к требованиям цензуры свое давнишнее стихотворение «Ты как поденщик выходил…», написанное в 1861 году и обращенное, по всей вероятности, к Герцену. В то время нечего было и думать о напечатании этого текста, и он остался в бумагах поэта. Стремясь придать стихотворению легальный характер, Некрасов в 1877 году переработал его, смягчил в нем наиболее резкие строки и переадресовал его И. С. Тургеневу.
Сохранились две рукописи этого нового варианта. На одном листе рукою поэта отмечено: «Тургеневу (писано в 1860 году, когда разнесся слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова)». На другом листе: «Т — ву (писано собственно в 1860 году, к которому и относится. Теперь я только поправил начало)». Эти пояснительные надписи нельзя считать заглавиями.
(обратно)148
«Есть и Руси чем гордиться…» (стр. 392). — 6 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге состоялась массовая политическая демонстрация. На ней с яркой речью выступил Г. В. Плеханов. Прославляя Чернышевского и других революционных борцов, Плеханов сказал: «Всем одна участь: казнь, каторга, тюрьма. Но чем больше они выстрадали, тем больше им славы. Да здравствуют мученики за народное дело!» Стихи Некрасова, написанные в честь политических борцов, погибших или погибавших в то время на каторге, перекликаются с речью Плеханова и, возможно, созданы под ее впечатлением (см. А. Гаркави, Н. А. Некрасов и революционное народничество, М. 1962, стр. 18–20).
(обратно)149
Вестминстерское аббатство — старинная лондонская церковь, где погребены выдающиеся писатели, художники, ученые, полководцы. «Вестминстерским аббатством» Некрасов с горькой иронией называет сибирские рудники, в которых царское правительство заживо хоронило лучших людей России.
(обратно)150
«Вам, мой дар ценившим и любившим…» (стр. 392). — В начале 1877 года у Некрасова возникло намерение издать сборник своих новых стихов под названием «В черные дни». На первой странице поэт предполагал напечатать посвящение «Друзьям-читателям»: «Вам, мой дар ценившим и любившим…» Вскоре, однако, Некрасов дал своей книге другое заглавие: «Последние песни». В эту книгу посвящение «Друзьям-читателям» включено не было. Когда к больному явилась депутация студентов с приветственным адресом от четырех высших учебных заведений (см. вступительную статью к тому, стр. 41), он прочитал студентам это стихотворение и подарил им его на память. Студенты вставили листок бумаги, на котором оно было написано, в рамку и повесили в университетской библиотеке.
(обратно)151
Из поэмы: Мать (стр. 393). — Мать поэта, Елена Андреевна (урожденная Закревская), скончалась в селе Грешнево 29 июля 1841 года. С чувством благоговения и нежности Некрасов вспоминал о ней во многих стихах («Родина», «Несчастные», «Рыцарь на час»). Еще в конце 50-х годов он задумал большую поэму о матери; сохранились черновые наброски («Увижу ли уединенный сад…», «О мать моя, о чем же ты грустила…»). Несколько позже, в первой части второго издания своих «Стихотворений» (1861), Некрасов напечатал отрывок «Начало поэмы» («В насмешливом и дерзком нашем веке…»), который заканчивался стихом:
Твою погибель, мать моя, пою…Через восемь лет, в издании 1869 года, он опубликовал другой отрывок (в 17 строк):
Та бедная рука, ласкавшая меня…Закончена поэма не была. Несмотря на физические страдания, поэт в 1877 году снова принялся за работу, но поэма так и осталась в отрывках, не связанных композиционно. Впоследствии он написал над ее заглавием: «Некоторые из отмеченных здесь точками мест можно восстановить только по корректурам, в некоторых же местах поставлены точки из-за недостатка связи в отрывках».
В июне 1877 года он записал в дневнике: «…Из страха и нерешительности и за потерею памяти я перед операцией испортил в поэме «Мать» много мест, заменил точками иные строки».
Е. О. Лихачева, которой посвящена поэма, — писательница, автор ряда работ по женскому вопросу.
(обратно)152
Стр. 395. …мог еще увидеться с тобой, и опоздал… — Некрасов жил в Петербурге, когда умерла мать. Он приехал на родину через несколько дней после ее смерти.
(обратно)153
Стр. 397. Талька — моток ниток.
(обратно)154
Зине («Пододвинь перо, бумагу, книги!..») (стр. 402). — Милый друг! Легенду я слыхал… — Недавно высказано мнение, что речь идет о легенде, которая легла в основу притчи «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» («Русский фольклор», VII, М.—Л. 1962, стр. 97).
(обратно)155
Баюшки-баю (стр. 402). — Некрасов продиктовал это стихотворение своей сестре 3 марта 1877 года.
После 3 марта в здоровье поэта произошло резкое ухудшение. Он записал в дневнике: «Недуг меня одолел, но муза явилась ко мне беззубой, дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей «Мороз, Красный нос». Я пожалел, что я не выдержал:
Непобедимое страданье, Невыносимая тоска… Влечет, как жертву на закланье, Недуга черная рука. Спаси, о муза!..»Летом на Черной речке он вспомнил о «Баюшки-баю» и отметил в дневнике:
«14-го июня. — Буду писать, что приходит в голову; надо же убивать время… Сибиряки обнаружили особенную симпатию ко мне со времени моей болезни. Много получаю стихов, писем и телеграмм. Было две с двумя десятками подписей. Я хотел сделать на это намек в стихотворении «Баюшки-баю» — и было там четыре стиха:
И уж несет от дебрей снежных На гроб твой лавры и венец Друзей неведомых и нежных Хранимый богом посланец, —да побоялся, не глупо ли будет. А теперь этого вопроса решить не могу и подавно».
Художник И. Н. Крамской, писавший в то время портрет Некрасова, рассказывал П. М. Третьякову: «… Какие стихи его последние, самая последняя песня 3 марта «Баюшки-баю»! Просто решительно одно из величайших произведений русской поэзии!» (А. П. Боткина, Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве, М. 1951, стр. 98).
Стихи о «людской злобе», нанесшей поэту обиду, относятся, вероятно, к цензуре, которая незадолго до того запретила печатать «Пир — на весь мир».
(обратно)156
«Черный день! как нищий просит хлеба…» (стр. 404). — Написано весною 1877 года. Первоначально в четвертом стихе не было упоминания о цензорах. Оно появилось при таких обстоятельствах. По случаю пасхи цензура отложила рассмотрение книги «Последние песни». «Брат был очень расстроен, — вспоминает А. А. Буткевич, — выход книги отсрочивался на три недели. «Для меня, — говорил он, — это целая вечность, когда каждый день может быть последним» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 172).
Чтобы ускорить выход книги, Некрасов решил обратиться к председателю цензурного комитета с письмом, где просил, невзирая на праздники, частным образом просмотреть и разрешить его «Песни». Но когда письмо было написано, он, по словам сестры, передумал посылать его: «Не хочу я у них ничего просить. Пусть будет как будет». На столе лежали только что записанные мною стихи «Черный день». Брат взглянул на них: «поправь, пожалуйста, там, напиши: «друзей, врагов и цензоров» (там же).
(обратно)157
Ты не забыта… (стр. 404). — Цензор Лебедев доносил в комитет, что Некрасов в этом стихотворении «желает освятить идею самоубийства (!), так как не только прощает девушке, покусившейся на свою жизнь, ее поступок, но видит в нем поучение другим и могилу ее называет великой…» («Голос минувшего», 1918, № 4–6, стр. 104).
Цензор оказался не в состоянии понять, что Некрасов видел величие этой девушки в самоотверженном служении революционному делу.
(обратно)158
Сон (стр. 405). — Страдания Некрасова во время его предсмертной болезни были так велики, что приходилось ежедневно прибегать к наркозу. Лишь на несколько минут, между двумя приемами опия, он чувствовал некоторое просветление и стремился использовать это короткое время для писания стихов.
В стихотворении «Сон» есть несколько строк об одуряющем влиянии наркоза, которое мешает поэту творить:
Сниму с главы покров тумана И сон с отяжелелых век… (обратно)159
«О Муза! я у двери гроба!..» (стр. 406). — По свидетельству сестры Некрасова, это стихотворение «было последним, которое он написал…» («Стихотворения» 1879, т. IV, стр. CV).
(обратно)160
Кому на Руси жить хорошо (стр. 407). — Великая поэма Некрасова, подлинным героем которой является русский народ, была начата вскоре после крестьянской реформы 1861 года.
Эта реформа, как известно, обманула ожидания крестьян и не только не принесла им обещанных благ, но, напротив, сделала их положение еще более бедственным. «…Крестьяне, — писал В. И. Ленин, — были ограблены вдвойне: мало того, что у них отрезали землю, их заставили еще платить «выкуп» за оставленную им и всегда бывшую в их владении землю, и притом выкупная цена земли была назначена гораздо выше действительной ее цены. <…> Крестьян заставили платить не только за свою землю, но и за свою свободу. <…> «Освобожденный» от барщины, крестьянин вышел из рук реформатора таким забитым, обобранным, приниженным, привязанным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как «добровольно» идти на барщину» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 429–430).
Обманутую, обобранную реформой крестьянскую Русь и решил показать в своей поэме Некрасов. Открыто высказать порицание реформе было невозможно но цензурным условиям; но уже из первых строк его поэмы можно было понять, что странникам не удастся найти ни единого счастливца в этих печальных местах, самые названия которых говорят о беспросветной крестьянской нужде:
Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож.Чтобы скрыть от цензуры, что подлинная задача поэмы заключается в разоблачении бесплодности либерального реформизма, Некрасов изобразил дело так, будто он и в самом деле стремится дознаться, счастливы ли в России министры, помещики, чиновники, попы и купцы.
Некрасову незачем было допытываться, есть ли счастливцы на верхах дворянско-буржуазного общества, ибо еще в ранней молодости он пришел к убеждению, что благополучие этих верхов находится в обратной зависимости от благополучия трудящейся массы. «Я узнал, — писал он в одной из своих юношеских повестей, — что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы» («Жизнь и похождения Тихона Тростникова»). Вообще самое слово счастливец для Некрасова часто синоним представителя привилегированных классов («Но счастливые глухи к добру», «Жилища счастливцев мира» и т. д.).
Счастье «сильных и сытых» было для него вне сомнения. Так что, задавая вопрос: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» — он отнюдь не намеревался решать этот — давно для него решенный — вопрос, а воспользовался им для того, чтобы показать, как глубоко несчастен народ, «облагодетельствованный» пресловутой реформой.
В разоблачении грабительского характера буржуазных реформ и заключается подлинный замысел эпопеи Некрасова, и только для маскировки этого замысла поэтом была выдвинута проблема благополучия купцов, помещиков, священников и царских сановников, которая в действительности не имела отношения к сюжету. Даже когда (в одном из набросков поэмы) странники разбирают вопрос, счастлив ли встреченный ими исправник, вся их беседа приводит к тому, как мучительна жизнь крестьян, находящихся во власти исправника. То же самое — при встрече с попом: хотя он рассказывает о своей жизни, едва ли не главное место в его речах занимает описание крестьянской нищеты.
В главе «Помещик» опять-таки наиболее существенным для подлинной некрасовской темы является вывод, что распавшаяся цепь крепостничества ушибла не только дворян, но и крестьян:
Порвалась цепь великая, Порвалась — расскочилася: Одним концом по барину, Другим по мужику!..Только однажды — на всем протяжении поэмы — странники находят возможность открыть истинную цель своих странствий:
Мы ищем, дядя Влас, Непоротой губернии, Непотрошеной волости, Избыткова села!.. — («Последыш»)то есть признаются, что на самом-то деле их занимает вопрос об их собственном, «мужицком» благоденствии. В черновике эта тема выдвигается еще более рельефно:
Ох, где же ты, счастливое Избытково село? Которая дороженька Ведет к тебе?..И уже то обстоятельство, что в своих долгих скитаниях странники так и не нашли этой «дороженьки», является одним из показателей подлинного отношения Некрасова к сюжету поэмы. Недаром он неоднократно подчеркивает, что в «раскрепощенной» России принцип распределения богатств остался в основе тот же. Яким Нагой в поэме говорит:
Работаешь один, А чуть работа кончена, Гляди, стоят три дольщика: Бог, царь и господин!Последняя строка, не печатавшаяся в дореволюционных изданиях и обнаруженная в рукописи Некрасова, является верным ключом ко вступительным главам поэмы.
Изображая невыносимую жизнь крестьян, Некрасов указывал, что их долготерпение уже дошло до предела и что только революционным путем они могут завоевать свое счастье:
У каждого крестьянина Душа что туча черная — Гневна, грозна — и надо бы Громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям…Потому-то одним из главных героев поэмы является Савелий, «богатырь святорусский», человек титанических сил, выступающий в роли беспощадного народного мстителя. Чтобы образ Савелия мог появиться в легальной печати, Некрасову пришлось ограничиться одним-единственным эпизодом его участия в кровавой расправе с жестоким управителем Фогелем. Но, судя по некрасовским рукописям, поэт намеревался изобразить в тех же главах еще несколько подобных деяний «богатыря святорусского». Так, в одном из первоначальных набросков поэмы Савелий, рассказывая о своих скитаниях в безлюдной сибирской тайге, вспоминает между прочим такой эпизод:
А двери-то каменьями, Корнями, всякой всячиной Снаружи заложу, Кругом избы валежнику, Понавалю дубового, Зажгу со всех сторон, Горите все, проклятые! Не выскочишь, не выбежишь! (Стучи, не достучишь! Кричи, не докричишь!) А сам взберусь на дерево, На самое высокое, И стану я оттудова Глядеть…Очевидно, речь идет о сожжении живьем каких-то представителей власти.
Некрасов с глубоким сочувствием отмечал эти одинокие взрывы стихийного народного гнева, так как они, по его убеждению, свидетельствовали, какие могучие силы протеста и классовой ненависти уже успели накопиться в народе. Выявлению этих скрытых сил и посвящены три первые части поэмы.
Но к тому времени, когда Некрасов принялся за работу над четвертой частью («Пир — на весь мир»), к середине 70-х годов, в деревню хлынула разночинная передовая молодежь для революционного служения народу. Начался новый подъем освободительного движения. Он и определил собою ту новую тему, которая наметилась в поэме Некрасова. — тему «народного заступника», ведущего революционную работу в крестьянской среде. В связи с этим совсем по-новому ставит Некрасов и проблему счастья. Из множества лиц, изображенных в поэме, единственный счастливец — сын дьячка Григорий Добросклонов, в сердце которого, как говорит поэт,
С любовью к бедной матери Любовь ко всей вахлачине Слилась — и лет пятнадцати Григорий твердо знал уже, Кому отдаст всю жизнь свою И за кого умрет. («Пир — на весь мир»)Эти стихи овеяны боевым пафосом. Речь идет здесь о революционном служении народу, что подтверждается и другим стихотворным отрывком, обнаруженным в одной из некрасовских рукописей:
Ему судьба готовила Путь славный, имя громкое Народного заступника, Чахотку и Сибирь.Эти строки дают достаточно ясное представление о том, каково было подлинное служение Григория Добросклонова его любимой «вахлачине». Благодаря им приобретает многозначительный смысл и восклицание Григория:
«Не надо мне ни серебра, Ни золота, а дай господь, Чтоб землякам моим И каждому крестьянину Жилось вольготно-весело На всей святой Руси!»Это тот идеал, в осуществлении которого молодой разночинец Григорий видел единственную цель своей жизни, и хотя этот путь обрекал его на сибирскую каторгу и раннюю смерть, он, по мысли Некрасова, был обладателем наивысшего счастья, какое только было возможно в России для демократической интеллигенции 70-х годов. Об этом счастии выразительно сказано в заключении главы «Пир — на весь мир»:
Быть бы нашим странникам под родною крышею, Если б знать могли они, что творилось с Гришею. Слышал он в груди своей силы необъятные, Услаждали слух его звуки благодатные, Звуки лучезарные гимна благородного — Пел он воплощение счастия народного!..«Пир — на весь мир» отличается от прочих частей поэмы более отчетливо выраженной революционной направленностью. Поэтому он подвергся наиболее строгим цензурным репрессиям.
По словам цензора Н. Е. Лебедева, поэт выставил в этом произведении «в самых мрачных красках всевозможные страдания мужика, весь ужас прежнего рабского его положения и весь безграничный произвол помещичьего права <…> Рисуемые поэтом картины страданий, с одной стороны, и произвола — с другой, превосходят всякую меру терпимости и не могут не возбудить негодования и ненависти между двумя сословиями…» («Голос минувшего», 1918, № 4–6, стр. 97).
Председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров предупредил редакцию, что ноябрьская книжка «Отечественных записок» за 1876 год, в которой должен был появиться «Пир — на весь мир», будет немедленно подвергнута аресту, если «Пир…» не будет изъят. Для Некрасова, уже безнадежно больного, это было тяжелым ударом. По словам его сестры, он «послал за цензором Петровым и битых два часа доказывал ему всю несообразность таких на него нападков. Он указывал на множество мест в предшествовавших частях той же поэмы, которые, с точки зрения цензоров, скорее могли бы были подвергнуться запрещению; разъяснял ему чуть не каждую строчку в новой поэме, то подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его, и всю клику. <…> Петров пыхтел, сопел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и только по временам мычал отрывистые фразы: «Да успокойтесь, Николай Алексеевич», или: «Вот поправитесь, переделаете — тогда и пройдет» («Литературное наследство», т. 49/50, М. 1946, стр. 174–175).
Переделав «Пир — на весь мир» и устранив некоторые из стихов, вызвавших нападки цензуры (в том числе песни «Веселую», «Барщинную» и «Солдатскую»), Некрасов предпринял новую попытку напечатать поэму, причем в песню о «доле народа» вставил в угоду цензуре две строчки, прославляющие Александра II:
Славься, народу Давший свободу!В то время Некрасов получил от Ф. М. Достоевского ошибочную информацию, будто профессор В. В. Григорьев, начальник Главного управления по делам печати, считает возможным печатание «Пира…». Поэт обратился к Григорьеву с письмом, где просил отменить запрещение цензора.
«Я, — говорил он в письме, — принес некоторые жертвы цензору Л<ебедеву>, исключив солдата и две песни, но выкинуть историю о Якове, чего он требовал под угрозою ареста книги журнала, не могу, — поэма лишится смысла. Уродливости, до которых доведено крепостное право, с тем и приведены, чтобы ярче выделить благодеяние отмены его. Неужели поэма подлежит искажению за то, что в ней есть мрачные песни и картины, относящиеся к крепостной эпохе? Но зато в ней есть и светлые перспективы. Решение зависит от Вашего превосходительства. Я же, признаюсь, жалею и тех мест, на исключение которых согласился, — я сделал это против убеждения».
Григорьев, очевидно, не согласился с таким истолкованием поэмы, и «Пир — на весь мир» остался под цензурным запретом.
Но в январе 1881 года, то есть через три года после смерти Некрасова, Салтыков-Щедрин, воспользовавшись временным облегчением цензурного гнета, снова представил эту главу в цензуру. На посту начальника Главного управления по делам печати находился сменивший Григорьева Н. С. Абаза, который и выразил готовность дать разрешение на печатание главы. «Пир — на весь мир» снова был представлен тому же цензору Лебедеву, и на этот раз Лебедев не возражал против публикации. «Пир…» появился в февральской книге «Отечественных записок» 1881 года со всеми купюрами и прочими искажениями, которые, как уже говорилось, сделал сам Некрасов в надежде провести свою поэму через цензуру.
Сестра поэта, увидев в корректуре стихи в честь Александра II («Славься…» и т. д.), сообщила Салтыкову, что они были написаны «покойным братом со скрежетом зубов, — лишь бы последнее дорогое ему детище увидело свет», и просила вычеркнуть их из журнала. Но Салтыков не мог исполнить ее просьбу: «во-первых, потому, что поэма уже отпечатана, а во-вторых, и потому, что она в этом виде была у Абазы» (письмо М. Е. Салтыкова к Н. К. Михайловскому от 3 февраля 1881 г. — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XIX, М. 1939, стр. 190–191).
В том же 1881 году появилось в издании сестры поэта первое однотомное собрание «Стихотворений Н. А. Некрасова», и туда вошел «Пир — на весь мир» с теми же цензурными искажениями. «Слава» Александру II осталась и в этом издании. Нужно ли говорить, что она находилась в резком противоречии со всем содержанием поэмы: недаром в знаменитой притче «О двух великих грешниках» тогдашняя передовая молодежь почуяла призыв к революции.
Характерно, что цензура не усмотрела ничего криминального в этой притче о кровавой расправе с тираном и пропустила ее беспрепятственно. Цензуру сбили с толку два обстоятельства: во-первых, «древняя быль» была вложена в уста благочестивого странника и окрашена церковным колоритом: во-вторых, в лице жестокого тирана был выведен польский помещик. Цензура, поощрявшая (после польского восстания 1863 года) отрицательное отношение к полякам, не заметила, что в пане Глуховском не было ничего такого, чем, в отношении жестокости, он мог бы отличаться от любого из русских помещиков.
Равным образом, стремясь провести «Пир — на весь мир» через цензуру, Некрасов так исказил текст поэмы и так сильно затушевал свою подлинную мысль о служении народу, что порой создавалась иллюзия, будто под этим служением он разумеет мирную просветительно-благотворительную работу народолюбивого интеллигента в деревне и что он зовет молодежь именно к этой работе:
Иди к униженным, Иди к обиженным — По их стопам, Где трудно дышится, Где горе слышится, Будь первый там!Церковной фразеологией этой песни и обрамляющих ее стихов («грех», «бренные блага», «печать дара божьего», «соблазн», «ангел милосердия», «раб страсти», «демон ярости») еще усиливается ложное представление о том, будто речь идет здесь о христианском милосердии к ближним. Но это, конечно, не так. Подлинный смысл того, что понимал Некрасов под словами «служение народу», полностью вскрывается не только в тех «бесцензурных» стихах, которые приводились выше, но и в песне Григория «Русь» (появившейся в легальной печати вскоре после смерти поэта):
Рать подымается — Неисчислимая, Сила в ней скажется Несокрушимая!«Эта неисчислимая рать» — миллионы восставших крестьян. Только в то счастье и верил Некрасов, которое будет завоевано ими. Именно об этом «воплощении счастия народного» говорится в последней строке, завершающей «Пир — на весь мир».
Мысль Некрасова была угадана передовыми читателями. Показательно, что в 1902 году появилась революционная прокламация, начинавшаяся стихами из песни «Русь» (см. «Дневник А. С. Суворина», М. — Пг. 1923, стр. 286–287).
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» осталась незаконченной, но едва ли можно сомневаться, что в ее дальнейших частях Григорию Добросклонову была бы предоставлена автором одна из ведущих ролей.
Образ Гриши Добросклонова, находящего свое счастье в служении народу, был создан Некрасовым в период революционного подъема 1870-х годов и во многом обусловлен этой эпохой. В образе воплощены черты передовых деятелей того времени: целеустремленность, самоотверженность, готовность принести личные интересы в жертву общему делу. Этому нисколько не противоречит указание сестры Некрасова А. А. Буткевич (со слов самого поэта), что прототипом Добросклонова был Н. А. Добролюбов («Литературное наследство», т. 53/54, М. 1949, стр. 190): очевидно, в образе Гриши воплощены черты, общие для Добролюбова и семидесятников. Что же касается деятельности Григория, которая показана в поэме, то она типична именно для 1870-х годов. Григорий изображен в кругу крестьян в деревне («вахлачине»). Он сочиняет и распевает песни, зовущие народ на революционную борьбу. Создав образ Добросклонова, Некрасов высказал убеждение, что замечательные борцы за народное дело выйдут из самого народа. В песнях Гриши выражена вера в грядущую победу народной революции (см. А. М. Гаркави, Н. А. Некрасов и революционное народничество, М. 1962, стр. 25–26).
Семеро странников, перечислением которых начинается поэма «Кому на Руси жить хорошо», именуются в ее первых строках «временнообязанными». Это дает основание думать, что поэма начата не позднее 1863 года, так как в более поздний период этот термин очень редко применялся к крестьянам. Кроме того, в одном из первоначальных вариантов пятой главы первой части («Помещик.») имеются строки:
Да глупые посредники, Да полячишки ссыльные.О ссыльных поляках помещик не мог говорить ранее 1863 года, когда правительство Александра II, подавляя польское восстание, сослало несколько тысяч поляков в Сибирь.
А так как под главою «Помещик», замыкающей первую часть, имеется поставленная автором дата — 1865 год, можно думать, что до 1864 юда была произведена (с перерывами) та подготовительная черновая работа, которая предшествовала самым ранним вариантам поэмы и не нашла отражения в сохранившихся рукописях: выработка ее общего сюжетного плана, ее ритма и стиля, а в 1864–1865 годах — окончательная работа над ее первой частью.
Впрочем, возможно, что первоначальный период определяется более ранней датой, на что указывает, например, стихотворение «Зеленый Шум» (1862), где впервые нашел применение тот созданный Некрасовым богатый и сложный ритмический строй, своеобразно связанный с фольклорной традицией, который лег в основу всей поэмы.
Остальные даты таковы:
«Последыш» — 1872.
«Крестьянка» — 1873.
«Пир — на весь мир» — 1876–1877.
Как указывает пометка Некрасова в автографе, «Пир — на весь мир» был написан в сентябре — октябре 1876 года. Однако известно, что работу над «Пиром…» поэт продолжал и позднее (Н. А. Белоголовый, Воспоминания, М. 1897, стр. 451). Заново (после цензурного запрета в ноябре 1876 года) подготавливая «Пир…» к печати, Некрасов вносил многочисленные вынужденные искажения и одновременно подвергал поэму стилистической правке.
Даты многих глав «Крестьянки» указаны в авторских рукописях:
«Пролог» — Висбаден, 17/29 июля 1873 г.
«Песни» и «Савелий, богатырь святорусский» — Диепп, 26 июля.
«Дёмушка» — Висбаден и Париж, июль.
«Волчица» и «Трудный год» — Диепп, 3 августа.
«Губернаторша» и «Бабья притча» — Диепп, 7 августа.
Под полным текстом «Крестьянки» в наборной рукописи — дата: «12 ноября ночью».
Работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» не была завершена. Незадолго до смерти Некрасов говорил: «Одно, о чем сожалею глубоко, это — что не кончил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» («Литературное наследство», т. 53/54, М. 1949, стр. 190). В задуманных, но не написанных частях поэмы он собирался рассказать, в частности, о встречах странников с чиновником, купцом, министром и царем. До нас дошли лишь разрозненные, по преимуществу конспективные записи, относящиеся к этим встречам.
(обратно)161
Стр. 407. Семь временнообязанных… — Крестьяне, которым в 1861 году была дарована «воля», были обязаны работать на своих прежних помещиков до 1863 года; в 1863 году были выработаны особые уставные грамоты, определявшие, какую плату за свой земельный надел должен платить государству каждый «освобожденный» крестьянин. Считалось, что когда крестьяне станут уплачивать этот налог, они из «временнообязанных» перейдут в разряд «крестьян-собственников».
(обратно)162
Стр. 418. Ой, избы, избы новые! Нарядны вы, да строит вас не лишняя копеечка, а кровная беда!.. — Речь идет об избах, построенных после пожара (см. гл. «Пьяная ночь»).
(обратно)163
Стр. 421. Какой ценой поповичем священство покупается… — Попович, окончивший семинарию, мог получить место умершего или уволенного священника лишь в том случае, если женился на его дочери (см., например, «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, гл. III, «Женихи бурсы»).
(обратно)164
Стр. 422. О ком слагаете вы сказки балагурные, и песни непристойные, и всякую хулу?.. — Строки о неуважительном отношении русского крестьянства к служителям культа тесно связаны с соответствующим местом знаменитого письма Белинского к Гоголю: «… Неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, М. 1956, стр. 215).
(обратно)165
Стр. 425. Законы, прежде строгие к раскольникам, смягчилися, а с ними и поповскому доходу мат пришел. — Раскольники строго преследовались царским правительством. Раскольники давали православному духовенству обильные взятки за то, что оно в своих отчетах начальству свидетельствовало, будто те выполняют обряды государственной церкви. Но начиная с 1864 года всеми делами о раскольниках стала ведать гражданская власть.
(обратно)166
Никто не вышьет воздухов… — Воздухи — вышитые платки, которыми в православных церквах покрываются «священные» сосуды.
(обратно)167
Стр. 429. Лишь на Николу вешнего… — 22 мая (9 мая по старому стилю).
(обратно)168
Стр. 432. Гляди, куда деваются крестьянские шлыки… — Шлыки — шапки.
(обратно)169
Десятка штофных лавочек… — Штофные лавочки — ларьки, торгующие водкой.
(обратно)170
Трех постоялых двориков, до «ренскового погреба»… — Ренсковый погреб — подвальное помещение, где торгуют виноградными винами.
(обратно)171
И ширится и дуется подол на обручах! — Подол на обручах — модная женская одежда 60-х годов прошлого века, кринолин, широкая юбка на стальных обручах, придававших ей вид колокола.
(обратно)172
Стр. 433. Что половодье вешнее стоит до Петрова! — Петров день — 12 июля (29 июня по старому стилю).
(обратно)173
Косули, грабли, бороны… — Косуля — соха.
(обратно)174
Стр. 434. Шлеями, новой обувью, издельем кимряков. — Кимряки — кустари-сапожники из села Кимры (ныне город Кимры, Калининской области).
(обратно)175
Стр. 436. С Лубянки — первый вор! — Оптовая торговля лубочной литературой в Москве производилась главным образом на Лубянке (ныне улица Дзержинского).
(обратно)176
Спустил по сотне Блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко, сбыл книги: «Шут Балакирев» и «Английский милорд»… — Блюхер (1742–1819) — прусский фельдмаршал, участник битвы при Ватерлоо в 1815 году. Архимандрит Фотий (1792–1838) — один из вдохновителей реакционной политики Александра I. Сипко — преступник, судившийся в 1860 году за изготовление фальшивых ассигнаций. Балакирев — придворный шут Петра I; «Шут Балакирев» — название книжки, где собраны о нем анекдоты. «Английский милорд» — «Повесть о приключениях английского милорда Георга», сочинение Матвея Комарова, впервые напечатано в 1782 году.
(обратно)177
Стр. 438. Хожалому, квартальному не в бровь, а прямо в глаз! — Хожалый — рассыльный при полиции.
(обратно)178
Стр. 441. Кричит священник сотскому верхом, с казенной бляхою. — Сотский — выборный от крестьян, выполнявший мелкие полицейские обязанности.
(обратно)179
Стр. 446. По кочам, по зажоринам ползком ползет с плетюхами… — Зажора, зажорина — подснежная вода в яме. Плетюха — большая корзина.
(обратно)180
Стр. 451. Что счастие не в пажитях… — Пажить — луг, пастбище.
(обратно)181
Стр. 452. Весь вертоград Христов! — Вертоград — сад, виноградник. «Вертоград Христов» — рай.
(обратно)182
Стр. 455. Что режу пеунов — Пеуны — петухи.
(обратно)183
Стр. 457. Я дома в Белоруссии с мякиною, с кострикою… — Кострика — древесина льна и конопли.
(обратно)184
Досыта у Губонина дают ржаного хлебушка… — Петр Ионыч Губонин, железнодорожный магнат, который любил повторять о себе, что он «вышел из недр народа», что он «русский мужик», «наш брат русак», и т. д. Сын крепостного крестьянина, Губонин начал свою карьеру с подрядов на каменные работы, был откупщиком; разбогател во время железнодорожной горячки 1860-х годов.
(обратно)185
Стр. 459. Пришел Ермило с прочими в палату на торги. — Палата — Казенная палата, орган министерства финансов, ведавший государственным имуществом и строительной частью.
(обратно)186
Стр. 464. Тот ни строки без трешника, ни слова без семишника… — Трешник — копейка серебром. Семишник — две копейки серебром.
(обратно)187
Прожженный, из кутейников… — Кутейники — насмешливое прозвище служителей церкви.
(обратно)188
Стр. 465. Что в деннике с веревкою… — Денник — сарай.
(обратно)189
Стр. 468. До сей поры неведомо ни земскому исправнику… — Земский исправник — начальник уездной полиции.
(обратно)190
Сам государев посланный… — Ко времени объявления «воли» в разные губернии были командированы свитские генералы и флигель-адъютанты с широкими полномочиями по усмирению недовольных крестьян.
(обратно)191
Стр. 470. Венгерка с бранденбурами — короткая куртка, расшитая шнурами.
(обратно)192
Стр. 477. Борзовщики — охотники, стерегущие зверя с борзыми собаками.
(обратно)193
А там, в лесу, выжлятники ревели… — Выжлятник — охотник, который водит, напускает и сзывает свору гончих.
(обратно)194
Стр. 482. Да глупые посредники… — Посредники — мировые посредники, на которых возложено было упорядочение отношений между «освобожденными» крестьянами и помещиками. В большинстве случаев защищали интересы помещиков.
(обратно)195
Стр. 497. В день Симеона — 14 сентября (1 сентября по старому стилю).
(обратно)196
Наянов обрывала я… — Наян — нахал.
(обратно)197
Стр. 498. Обграют черны вороны… — Обграять — оглушить криком.
(обратно)198
Стр. 499. Да гарнитуру синего! — Гарнитур (правильно: гродетур) — плотная шелковая ткань.
(обратно)199
Стр. 510. Я сам страшней сохатого… — Сохатый — здесь: старый сильный медведь.
(обратно)200
Стр. 513. Под Варною убит… — во время русско-турецкой войны 1828 года при взятии крепости Варна (на Черном море).
(обратно)201
Стр. 519. По поженкам… — Пожня — место покоса.
(обратно)202
Стр. 528. В рот яблока до Спаса не беру. — Спас — народное название церковного праздника («Преображения господня») 19 августа (6 августа по старому стилю). Есть яблоки до Спаса считалось грехом.
(обратно)203
Стр. 544. Торговцы-колотырники… — Колотырник — мелочный торговец.
(обратно)204
Стр. 545. Чей памятник? — «Сусанина» — памятник Ивану Сусанину в Костроме.
(обратно)205
Стр. 552. У гроба Иисусова молилась… — Гроб Христа, по христианской легенде, находится в Иерусалиме.
(обратно)206
На Афонские всходила высоты… — Афон — гора в Греции, на которой расположен известный монастырь.
(обратно)207
В Иордань-реке купалася… — Река Иордан в Палестине — место, связанное с евангельскими легендами о жизни Иисуса Христа.
(обратно)208
Стр. 553. Петровки — время поста перед Петровым днем. Петров день — 12 июля (29 июня по старому стилю).
(обратно)209
Стр. 556. Шапка белая, высокая, с околышем из красного сукна — общедворянская форменная фуражка.
(обратно)210
Стр. 562. Установили грамоту… — Уставная грамота — документ, определявший правовые отношения между помещиками и крестьянами, «освобожденными» манифестом 1861 года.
(обратно)211
Стр. 563. Явилось «Положение»… — «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», законодательные акты об «освобождении» крестьян.
(обратно)212
Стр. 564. И посади фалетуром… — Фалетур (правильно: форейтор) — верховой, правящий передней лошадью при запряжке цугом.
(обратно)213
Стр. 568. С хазового конца… — Хазовый (казовый) — конец ткани, вытканный особенно чисто, оставляемый в куске сверху, напоказ.
(обратно)214
Стр. 587. Сергей Петрович Боткин (1832–1889) — профессор медицины, знаменитый терапевт, лечивший Некрасова.
(обратно)215
Стр. 597. Сам на долгушке свезет до сестры… — Долгушка — повозка.
(обратно)216
Стр. 600. Прасол — скупщик, посредник между крестьянином и купцом.
(обратно)217
Стр. 604. Ложка… с рукой благословляющей… — деревянная ложка, на конце которой вырезаны пальцы, дающие благословение; такие ложки продавались во многих монастырях.
(обратно)218
Стр. 605. Быль афонскую… — В 1821 году афонские монахи приняли участие в восстании греков против турок. Они были разбиты турками. Всего погибло около четырех тысяч монахов.
(обратно)219
Стр. 611. Ачаков — Очаков, турецкая крепость на Черном море, взятая русскими войсками в 1788 году.
(обратно)220
Стр. 614. Пещур — котомка для хлеба.
(обратно)221
Стр. 618. Прогнали, как сквозь строй! — Эпизод с Егоркой Шутовым — истинное происшествие. А. А. Буткевич вспоминает: «В 74 году я провела лето с братом <…> в селе Карабихе. Не могу сказать наверно, сам ли исправник или один из акцизных чиновников рассказывал при мне брату о крестьянине-шпионе, который возбудил подозрение в мужиках тем, что, ничего не делая, одевался щеголем и имел всегда деньги, — вот они и добрались откуда и, сообразив, что эта за птица, заманили его в лес и избили. Мужик-шпион убрался из своей деревни, но всюду, где он появлялся, его били по наказу» («Литературное наследство», т. 53/54, М. 1949, стр. 190).
(обратно)222
Райком кормился дедушка… — Раек — деревянный ящик с передвижными картинками, на которые смотрели сквозь круглые стекла. Хозяин райка, раешник, сопровождал показывание картин своеобразной стихотворной речью.
(обратно)223
Стр. 619. А коли семь-то рубликов платить, так черт с тобой! — В 1868 году проездной тариф на железной дороге был сильно повышен.
(обратно)


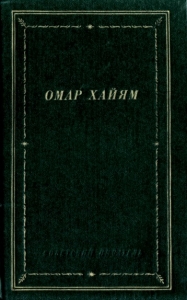





Комментарии к книге «Стихотворения. Поэмы», Николай Алексеевич Некрасов
Всего 0 комментариев