Вера Полозкова Стихи из онлайн [2013–2017]
«…Я ИЗ ТЕХ, КТО ВСЮ ЖИЗНЬ ПО КРУПИЦАМ СОБИРАЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ, ПРОБУЯ ВСЕ И СОМНЕВАЯСЬ В КАЖДОЙ…»
«ЛЮБОВЬ — ЭТО КОГДА ТЫ ПЕРЕСТАЕШЬ БЕРЕЧЬ СЕБЯ, А ТРАТИШЬ ВСЕ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ, БЕЗ ОСТАТКА, НА ТО, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ И ДАЖЕ ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ. И В ПРОЦЕССЕ ЭТОГО ОБЫЧНО ТЫ АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВ И НЕВЕСОМ»
Вера ПолозковаСтихи — 2013
* * *
решишься — знай: душа одноэтажна,
и окна до полу, и мебели почти
что нет. терять естественно и важно,
иначе будет некуда найти.
увидишь: все начнут из ужаса глухого
то призывать, то клясть свой будущий уход.
и ты умрешь. и ничего плохого
поверь, при этом не произойдет.
природа вообще не копит за квартирой
ни сплетен, ни людей, ни пауз, ни причин:
носи себя пустым, ходи и резонируй.
записывай, где хорошо звучим.
1 апреля 2013 года, Пермь-Москва
Флоренция
Косте Бузину
прятаться от перемен во Флоренции, как в бочонке с гранитным дном;
будущего здесь два века не видели ни в одном
закоулке; певцам, пиратам и партизанам
полную тарелку истории с базиликом и пармезаном
подают в траттории с выдержанным вином
кукольные площади, детские музеи, парад теснот,
черепичные клавиши: солнце ходит, касаясь нот;
Иисус Христос, рисуемый мелом мокрым
на асфальте; и я могу быть здесь только о́гром,
вышедшим из леса с дубиной и сбитым в секунду с ног
ливня плотное волокно едет, словно струны, через окно,
чертит карту, где, крошечные, попарно
стянуты мостами через зеленые воды Арно
улицы выходят из мглы, как каменное кино
только у меня внутри брошенные станции, пустыри
снегу намело по самые фонари
полная луна в небе, воспаленном, как от ожога
смотрит на меня бесстрастно, как на чужого
потерявшегося ребенка в глазок двери
зиму в генераторе видов не выключают четвертый год,
мандарины дольками по одной отправляя в рот,
мы сидим с моим лучшим другом, великим князем,
и глядим, как грядущее, не узнав нас, ложится наземь,
затихает и заворачивается в лед.
5 апреля 2013 года, поезд Флоренция-Венеция
Венеция
Юре Мачкасову
то, что заставляет покрыться патиной бронзу, медь,
серебро, амальгаму зеркала потемнеть,
от чего у фасадов белых черны подглазья, —
обнимает тебя в Венеции, как свою.
смерть страшна и безлика только в моем краю.
здесь она догаресса разнообразья.
всюду ей почет, всюду она, праздничная, течет,
восхищенных зевак она тысячами влечет,
утверждая блеск, что был у нее украден.
объедая сваи, кирпич и камень, и всякий гвоздь,
она держит в руке Венецию будто гроздь
золотых виноградин
и дома стоят вдоль канала в одну черту,
как неровные зубы в щербатом рту
старого пропойцы, а мы, как слово веселой брани,
проплываем вдоль оголенной десны, щеки,
молодые жадные самозванцы, временщики,
объективом к открытой ране
вся эта подробная прелесть, к которой глаз не привык,
вся эта старинная нежность, парализующая живых,
вся безмятежность тихая Сан-Микеле —
лишь о том, что ты не закончишься сразу весь,
что тебя по чуть-чуть убывает сейчас и здесь,
как и мостовой, и вообще истории, еле-еле.
приезжай весной, бери карандаш с мягким грифелем и тетрадь
и садись на набережной пить кофе и умирать,
слушать, как внутри потолочные балки трещат, ветшая,
распадаться на битый мрамор, труху и мел,
наблюдать, как вода отнимает ласково, что имел:
изумрудная, слабая, небольшая.
апрель 2013 года
Изобретателю весны
нет, мой сын, надо мной не всегда шел снег, он не так и давно возник.
я был распорядитель нег, толкователь великих книг,
заклинатель вахтерш и магистр ордена тунеядцев,
«кудри курса» единогласно и без интриг.
да, мой сын: когда я все мог, я был добрый маг.
я смешил востроглазых дев, не берег бумаг,
арию о том, как недуги лечит портвейн «Массандра»
петь умел на целый универмаг.
мир как цирковая арена не исчезал, но меня исторг.
я узнал, что правят лишь торг и мена, что правят мена, вина и торг.
я старательно покупаю все, о чем даже боялся грезить,
чувствуя злорадство, но не восторг.
да, мой сын, теперь вы юны и, вам кажется, короли:
все, от остроумия до весны, вы на свете изобрели, —
ну а мы унылые сгустки скорби и беспокойства,
старые неудачники и врали.
и ты прав, и я буду глуп, если это значит, что мы враги,
только не суди никого, не лги и всегда отдавай долги,
только когда приведут в кабинет с портретом, предложат кресло,
разворачивайся,
беги.
1 мая 2013 года
Кто там
а на третий год меня выпустят, я приду приникнуть к твоим воротам.
тебя кликнет охранник, ты выйдешь и спросишь — кто там?
мы рискнем говорить, если б говорили ожог и лед, не молчали бы черт и ладан:
«есть порядок вещей, увы, он не нами задан;
я боюсь тебя, я мертвею внутри, как от ужаса или чуда,
столько людей, почему все смотрят, уйдем отсюда.
кончилась моя юность, принц дикий лебедь, моя всесильная, огневая,
я гляжу на тебя, по контуру выгнивая;
здорово, что тебя, не задев и пальцем, обходят годы,
здорово, что у тебя, как прежде, нет мне ни милости, ни свободы
я не знаю, что вообще любовь, кроме вечной жажды
пламенем объятым лицом лечь в снег этих рук однажды,
есть ли у меня еще смысл, кроме гибельного блаженства
запоминать тебя, чтоб узнать потом по случайной десятой жеста;
дай мне напиться воздуха у волос, и я двинусь своей дорогой,
чтобы сердце не взорвалось, не касайся меня, не трогай,
сделаем вид, как принято у земных, что мы рады встрече,
как-то простимся, пожмем плечами, уроним плечи»
если тебя спросят, зачем ожог приходил за льдом, не опасна его игра ли,
говори, что так собран мир, что не мы его собирали,
всякий завоеватель раз в год выходит глядеть с досадой
на закат, что ни взять ни хитростью, ни осадой, —
люди любят взглянуть за край, обвариться в небесном тигле, —
а вообще идите работайте, что это вы притихли.
23 мая 2013, Киев
* * *
знаешь, если искать врага — обретаешь его в любом.
вот, пожалуй, спроси меня — мне никто не страшен:
я спокоен и прям и знаю, что впереди.
я хожу без страховки с факелом надо лбом
по стальной струне, натянутой между башен,
когда снизу кричат только: «упади».
разве они знают, чего мне стоило ремесло.
разве они видели, сколько раз я орал и плакал.
разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.
они думают, я дурак, которому повезло.
если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.
если я отвечу им, я погиб.
23 июня 2013, Ришикеш
Гроза
гроза рыщет в небе,
свирепая, как фельдфебель,
вышибает двери, ломает мебель,
громом чей-то рояль, замычав утробно,
с лестницы обрушивается дробно.
дождь обходит пешим
дороги над Ришикешем,
мокрая обезьяна глядит настоящим лешим,
влага ест штукатурку, мнет древесину, коробит книги, —
вода выросла с дом, и я в ней снимаю флигель.
голову на локоть,
есть ли кому здесь плакать,
твердь и так вминается, словно мякоть
перезрелого манго и мажет липким,
безразлична к твоим прозрениям и ошибкам;
сквозь москитную сетку,
глядит на вечность, свою соседку,
седовласый индус, на полу разложив газетку,
чистит фрукты и режет дольками, напевая
«ом намо бхагавате васудевайя»
города и числа, —
больше никакого в тебе нет смысла,
столько лет от себя бежала и вот зависла
там, где категория времени бесполезна как таковая:
ом намо бхагавате васудевайя.
27 июня 2013 года, Ришикеш
Птица
Волшебнику, в день рожденья
Мой друг скарификатор рисует на людях шрамами, обучает их мастерству добровольной боли. Просит уважать ее суть, доверяться, не быть упрямыми, не топить ее в шутке, в панике, в алкоголе. Он преподает ее как науку, язык и таинство, он знаком со всеми ее законами и чертами. И кровавые раны под его пальцами заплетаются дивными узорами, знаками и цветами.
Я живу при ашраме, я учусь миру, трезвости, монотонности, пресности, дисциплине. Ум воспитывать нужно ровно, как и надрез вести вдоль по трепетной и нагой человечьей глине. Я хочу уметь принимать свою боль без ужаса, наблюдать ее как один из процессов в теле. Я надеюсь, что мне однажды достанет мужества отказать ей в ее огромности, власти, цели.
Потому что болью налито все, и довольно страшною — из нее не свить ни стишка, ни бегства, ни куклы вуду; сколько ни иду, никак ее не откашляю, сколько ни реву, никак ее не избуду. Кроме боли, нет никакого иного опыта, ею задано все, она требует подчиниться. И поэтому я встаю на заре без ропота, я служу и молюсь, я прилежная ученица.
Вырежи на мне птицу, серебряного пера, от рожденья правую, не боящуюся ни шторма, ни голода, ни обвала. Вырежи и залей самой жгучей своей растравою, чтоб поглубже въедалась, помедленней заживала. Пусть она будет, Господи, мне наградою, пусть в ней вечно таится искомая мною сила. Пусть бы из холодного ада, куда я падаю, за минуту до мрака она меня выносила.
29 июня 2013, Ришикеш
Летний романс
«Тут соло, про тебя второй куплет».
Ей кажется, ей триста сорок лет.
Он написал ей пять влюбленных песен.
Она кивает, пряча лоб во тьму,
И отвечает мысленно ему,
Но более себе: «Труха и плесень».
Он зной; зарница; певчее дитя.
Он, кажется, ликует, обретя
В ней дух викторианского романа.
И поцелуи с губ его текут,
Как масло ги, как пенье, как лоскут
Соленого слоистого тумана.
Июль разлегся в городе пустом
Котом и средоточием истом
И все бульвары сумерками выстлал,
Как синим шелком; первая звезда,
Как будто кто-то выстрелил сюда:
Все повернули головы на выстрел.
Спор мягкости и точного ума,
Сама себе принцесса и тюрьма,
Сама себе свеча и гулкий мрамор,
Отвергнутость изжив, словно чуму,
Она не хочет помнить, по кому
Своим приказом вечно носит траур.
Она его, то маясь, то грубя,
Как будто укрывает от себя,
От сил, что по ночам проводят обыск:
Ни слова кроме вежливого льда.
Но он при шутке ловит иногда
Ее улыбки драгоценный проблеск.
Ее в метро случайно углядев,
Сговорчивых и дерзких здешних дев
Он избегает. Пламенем капризным
Пронизанный, нутро ему скормив,
Он чувствует какой-то старый миф.
Он как-то знает, для чего он призван.
Так циферблат раскручивают вспять.
Дай Бог, дай Бог ему досочинять
Ей песни эти, чтоб кипело все там
От нежности прямой, когда домой
Она придет и скажет «милый мой»
И станет плакать, будто в семисотом.
9 июля 2013, Ришикеш
Кем я стану
загадал, когда вырасту, стать никем.
камер видеонаблюдения двойником.
абсолютно каждым, как манекен.
мыслящим сквозняком.
как оступишься в биографию — сразу жуть,
сколько предписаний выполнить надлежит.
сразу скажут: тебе нельзя быть листок и жук.
надо взрослый мужик.
нет, я мудрый ящер, живущий среди пещер.
иногда я склоняюсь к спящему под плащом
и пою ему на ухо: мир бесконечно щедр.
ты теперь прощен.
19 сентября, 2013
* * *
и вот проснулись они и узрели что наги
и что зря встают пацанам поперек дороги
Лев Оборинзавтра придет, с невесомой девочкой, при костюме
посмотреть, как я буду трещать костями
станут, глядя, как шкура ходит на мне буграми,
комментировать фоточки в инстаграме
завтра выскажется новая привереда
о моей духовности дауншифтерского извода
ничего личного, встань, паши, ломовая лошадь,
тут не только тебя, тут самих себя не умеют слушать
знай прокладывай борозду, сей, не спрашивай урожая,
ремесло спасает своих, само себя продолжая
что бы они все ни орали, как бы ни доводили,
ты неуязвима, пока при деле
для того нам и дали тяжести, даже боли,
чтобы мы что-то весили.
не упали.
3 октября 2013, Вроцлав-Варшава
Что нас держит
Ване Алексееву
а на первый взгляд, мертвые берега: ни геолога, ни ночлега,
только вьюга, дорога, каторга, кали-юга;
всякая книга — «десять столетий снега»,
всякая песня — «где нам искать друг друга».
но как боль неостра, бери к роднику канистры,
как стемнеет, пой у костра про года и версты;
женщины хохочут так, что вокруг рассыпают искры,
и глядят на тебя как сестры.
кроме нефти, тут разной скани есть и финифти,
рюмочки готовьте, на скатерть ставьте;
старики прозрачны, как детский палец на кнопке в лифте,
все тебе расскажут и о вожде, и о космонавте.
медицина здесь угрожает здоровью, врачи — леченью,
бездна часто подходит к самому изголовью,
между мифом и явью много веков кочевье,
постигаемое не логикой, но любовью.
но как боль неостра, сразу кажется: столько детства,
столько мудрого юмора, горестного богатства.
стоит, чудится, пообвыкнуться, оглядеться —
и всему пригодиться,
сбыться
и оправдаться.
24 ноября 2013
Стихи — 2014
* * *
сутулые, в темноте
еще посидим вдвоем.
признаем, что мы не те,
за кого себя выдаем.
комнату, где спим,
мебель и весь хлам
вытащим из-за спин,
разломим напополам.
будем тугой ком
у каждого в рюкзаке.
прощаются на каком
чертовом языке?
том же, что был мал,
весел и необжит,
если соединял?
им же и надлежит:
мы были близки
так, что и свет мерк.
сразу в конце тоски —
поезд наверх.
02.01.2014
* * *
вскинуться на конечном контроле, в безлюдном солнечном терминале
господи, какую мы чушь пороли, как чужую про нас прилежно запоминали
как простые ответы из нас вытягивались клещами
сколько чистого света слабые хрусталики не вмещали
что за имена у нас бились в височной доле, почему мы их вслух не произносили
сколько мы изучили боли, так ничего не узнав о силе
маялись, потели, пеклись о доме и капитале,
пока были при теле, рожали бы и ваяли, но мы роптали,
пересчитывали потери под нарастающий жадный рокот,
ничьей помощи не хотели, не позволяли больного трогать
подрывались в запале производить килотонны пыли
шибко много мы понимали, покуда нас не развоплотили
так послушай меня, пока не объявлен вылет,
пока дух из меня, как стакан кипятка, не вылит,
но пейзаж подтаивает, как дым, не рождает эха
для меня ничто не было святым, кроме твоего смеха
он вскипал, что-то горькое обнажив, на секунду, малость
я был только тогда и жив, когда ты смеялась
21.03.2014, Новосибирск-Томск
Что рассказал Шанкар своему другу Раджу, когда вернулся домой
Иннокентию Всеволодовичу
когда я прилетел, Раджу, я решил: эти люди живут как боги
сказочные пустые аэропорты, невиданные дороги
целое стекло в окне и фаянсовый унитаз даже в самой простой квартире
счастливы живущие здесь, сказал, как немногие в этом мире
парки их необъятны, Раджу, дома у них монолитны
но никто из их обитателей не поет по утрам ни мантры,
ни киртана, ни молитвы
вроде бы никто из них не лентяй, ни один из них не бездельник —
но они ничего не делают, кроме денег:
кроме денег и денег, Раджу, как будто они едят их:
только пачки купюр рекламируют на плакатах
представляешь, Раджу, ни грязи, ни нищеты, но вот если большая трасса —
то во всю длину вдоль нее щиты, на которых деньги и даже — груды сырого мяса
кроме денег, Раджу, как будто чтобы надеть их:
нанимают чужих людей, чтоб заботились об их детях
кроме денег, Раджу, но как попадется навстречу нищий или калека —
так глядят, будто он недостоин имени человека
кроме денег, но не для того, Раджу, чтоб жене купить на базаре
дорогих украшений или расшитых сари
а пойти и сдать в банк, и соседям служить примером —
и ходить только в сером, и жена чтоб ходила в сером
женщины их холены, среди старух почти нет колченогих, дряблых
но никто из мужчин не поет для них,
не играет для них на таблах
дети их не умирают от скверной воды, от заразы в сезон дождей или черной пыли,
только я не видел, чтоб они Бога благодарили
старики их живут одни, когда их душа покидает тело —
часто не находят ничьей, чтобы проводить ее захотела
самое смешное, Раджу, что они нас с тобой жалели:
вы там детям на хлеб наскребаете еле-еле,
спите на циновке, ни разу не были ни в театре, ни на концерте —
люди, что друг другу по телефону желают смерти
я прожил среди них пять дней и сбежал на шестые сутки —
я всерьез опасался, что навсегда поврежусь в рассудке
и моя Сангита аж всплеснула руками, как меня увидала:
принесла мне горячих роти и плошку дала
что с тобой, говорит, ты страшнее ракшаса, бледнее всякого европейца,
я аж разрыдался, Раджу, надо ж было такого ужаса натерпеться
02.05.2014, самолет Москва-Сургут
Верной дорогой
Саше Гаврилову
край у нас широк, изобилен,
бесконечно сакрален
сколько у нас древних зубодробилен,
вековых душераздирален
перед путешественником, где черен,
где еще промышленно не освоен,
целый горизонт лежит живодерен
и предателебоен
всяк у нас привит, обезболен,
власти абсолютно лоялен,
это слышно с каждой из колоколен,
изо всех шапкозакидален
и сладкоголосый, как сирин,
и красивый, как Сталин
нами правит тот, кто всесилен
и идеален
от восторга мы не ругаемся больше матом,
не ебемся, не курим,
нас по выходным только к банкоматам
выпускают из тюрем
в школе, без вопросов и встречных реплик,
наши детки, краса-отрада,
собирают нам из духовных скрепок
макеты ада
судя по тому, как нас вертухаи обходят хмуро,
и на звук подаются, дрогнув, —
скоро снова грянет большая литература
и кинематограф
1 июня 2014
Шарлатаинство
Тате Кеплер
кроме балагуров, унявшихся в прежней наглости,
престарелых красавиц, изогнутых боево —
кто еще с нами дремлет на ветреных пляжах в августе?
только тучи и мидии, более никого.
кроме нас, выбывших из правдолюбивых, спорящих
(речи обличительны, добродетели показны),
кто еще свидетель всей этой роскоши, этой горечи,
этой пегости, ржавчины, белизны.
потому что воюющий с адом всегда навлекает весь его
на себя,
тьма за ним смыкается, глубока.
только мы проиграли все, это даже весело:
мы глядим, как движутся облака.
с мокрыми волосами, разжалованные, пешие,
бесполезные, растерявшие что могли,
мы садимся на берегу пожинать поспевшие
колыбельные, штормы, закаты и корабли.
да, мы слышали: хрипнет мир, и земля шатается,
как дурное корыто, стремится в небытие.
шарлатаны вершат свои шарлатанцы и шарлатаинства.
может, только это удерживает ее.
27 августа 2014, Одесса
* * *
я был тоже юн здесь. тогда люты
были нравы панкующей школоты.
я был так бессмертен, что вряд ли ты
веришь в это, настолько теперь я жалок.
я писал здесь песни, и из любой
кухни подпевали мне вразнобой;
я царил и ссорил между собой
непокорных маленьких парижанок.
я ел жизнь руками, глазел вокруг.
полбутылки виски в кармане брюк.
я был даровит — мне сходило с рук.
мне пришло особое приглашенье.
лишь тогда и можно быть циркачом,
когда ангел стоит за тобой с мечом —
он потом исчезнет, и ты ни в чем
не найдешь себе утешенья.
я жил в доме с мозаикой — кварц, агат.
я мог год путешествовать наугад.
но пока писалось, я был богат,
как открывший землю.
(проговорив-то
вслух это тебе, я только больной урод,
чемодан несвежих чужих острот,
улыбнешься девушке — полный рот
черного толченого шрифта).
двадцать лет в Булони или Шайо
люди раскупали мое вранье.
я не знал, что истрачивал не свое.
что разменивал божью милость.
а теперь стал равен себе — клошар.
юность отбирается, как и дар —
много лет ты лжешь себе, что не стар.
лжешь, что ничего не переменилось.
22 октября 2014, Париж
* * *
Молодость-девица,
взбалмошная царица
всего, что делается
и не повторится.
чаянье, нетерпение,
сладостная пытка —
всё было от кипения,
от переизбытка.
божественное топливо,
биение, напряжение —
дай тем, кем мы были растоптаны,
сил вынести поражение,
кем мы были отвергнуты —
не пожалеть об этом,
а нам разве только верности
нашим былым обетам,
так как срока давности —
радуга над плечами —
нет только у благодарности
и печали.
2014 год
Стихи — 2015
Колыбельная для Ф.А
сыну десять дней сегодня
засыпай, мой сын, и скорее плыви, плыви
словно в маленькой джонке из золотой травы
вдоль коричневой Ганги в синий фонтан Треви
принеси людям весть с холодной изнанки смерти,
с видимого края любви
засыпай, моя радость, и убегай, теки
словно лунное масло, в долины и родники,
в голубые лиманы, на дальние маяки
погружая в питерские сугробы, в пески Гокарны
сразу обе руки
засыпай легко, мое сердце, и мчи, и мчи
сквозь базары Стамбула, их свечи и калачи,
суматоху вокзалов в Маргао и Урумчи, —
прокричи всем, давайте праздновать, я вернулся,
бриджабаси и москвичи
8 января 2015 года
* * *
Грише П.
начинаешь скулить, как пес, безъязыкий нечеловек:
там вокруг историю взрывом отшвыривает назад,
а здесь ветер идет сквозь лес, обдувая, как пену, снег,
так, что легких не хватит это пересказать
через толщу смерти, через тугой реактивный гул
того будущего, что прет, как кислотный дождь:
говори все как есть, говори через не могу
говори словно точно знаешь, на что идешь
никогда не поймешь, что прав, не почувствуешь, как богат
разве только четверостишие, в такт ходьбе
пробормочет старик, покидающий снегопад,
и печально разулыбается сам себе
3 февраля 2015
* * *
сойди и погляди, непогрешим,
на нас, не соблюдающих режим,
неловких, не умеющих молиться,
поумиляйся, что у нас за лица,
когда мы грезим, что мы совершим
мы купим бар у моря. мы споем
по телеку о городе своем
мы женимся на девушке с квартирой
кури и ничего не комментируй
уже недолго, через час подъем
как горизонт погаснет там, вдали,
ничком, с ноздрями, полными земли
мы все домой вернемся, пустомели
мы ничего предвидеть не умели
мы всё могли
20 февраля 2015
* * *
словно гибкое дерево, по утрам
солнце через окна врастает в храм;
стелется туман вдоль низин,
глубоко вздыхает Эчмиадзин,
набирая воздух в колокола.
моя девочка, как спала?
через главные площади, вдоль мостов
над Севаном-озером, сквозь Ростов,
где твой дед сидит с удочкой, не шумя —
не мелькнет ли чья-нибудь чешуя —
над Москвой, где услышу я,
а старушка Темза, поймав с высот,
на руке тебе принесет:
этот нежный, южный, нездешний звон
прилетит на Мэрилебон,
где дороги будут ему тесны, —
звону новой, первой твоей весны —
и споет тебе из-за стен и рам:
«ты красавица, Мариам!»
06.04.2015
* * *
вы, торговцы святым с колес,
устроители тайных месс,
продавцы ритуальных слез,
сочинители черных пьес;
мы, стареющие, увы,
власти этой степи большой,
боги топлива и жратвы,
постановщики войн и шоу,
вот такую вот шваль, как вы,
ненавидящие душой;
значит, мы вас собрали здесь,
так сказать, разместить заказ:
мы из вас выбиваем спесь,
вы садитесь бессмертить нас:
и шизофазию наших речей,
и мутации наших лиц —
все запечатлейте до мелочей,
все запомните до крупиц.
чтобы без посторонних глаз,
очень тихо, ведь сдаст любой, —
рассказать сыновьям о нас,
вдохновить их своей борьбой
за влияние на умы
вас распнет потом большинство:
мы нормальные силы тьмы.
нам забвенье страшней всего.
так что, мастера хорошо приврать,
даровитые дураки:
открываем-ка все тетрадь,
пишем с красной строки.
9 апреля 2015
* * *
да-да, родная, если и делить
хлеб языка великого, то вот с кем
гляди, тебя опять пинает Бродским
коммуникационный инвалид
скорей на улицу, где ждет тебя «хёндай
солярис» бежевый с водителем Исланом
ныряй в большой волоколамский слалом
и наблюдай
ты видела: чиновники, менты
едва заговоришь, уходят в плечи.
ничто не отделяет, кроме речи,
от темноты
легко быть ломким умницей с судьбой
средь узких дев с лирической хворобой,
а ты давай-ка без страховки пробуй
пребыть собой
отстаивай, завинчивай в умы
свои кавычки, суффиксы, артикли
там, где к формулировкам не привыкли
длиннее «ы»
они умеют и азарт, и труд
смешать с землей в зверином наступившем
но как мы говорим и что мы пишем
не отберут
слыви позёркой, выскочкой, святой,
оспаривай, сдавай пустые бланки,
но сложности не сдай им ни фаланги,
ни запятой
16.05.2015
* * *
Грише Петухову
на Бронной, у большого клена
уселась пятая колонна
друг другу Бродского читать.
куда мы вывезем, Григорий,
груз идиом и аллегорий,
и общих мифов
и цитат?
как их измерить габаритность?
мы ищем, кто отговорит нас,
ладонь над правым рукавом:
— чего? «в словесности»? «элите»?
давайте, выблядки, валите,
не оборачиваясь,
вон
еще, шутить о старом-добром,
покуда чемодан не собран,
и над Москвой веселый зной,
и дети знают, как по-русски
«капустницы» и «трясогузки»
и «ряженка»
и «нарезной»
27.05.2015
* * *
а мы жили тогда легко: серебро и мед
летнего заката не гасли ночь напролет
и река стояла до крестовины окон
мы спускались, где звезды, и ступни купали в них
и под нами берег как будто ткался из шерстяных
и льняных волокон
это был городок без века, с простым лицом,
и приезжие в чай с душицей и чабрецом
добавляли варенья яркого, занедужив;
покупали посуду в лавках, тесьму и бязь
а машины и лодки гнили, на швы дробясь
острых ржавых кружев
вы любили глядеть на баржи из-под руки,
раздавали соседским мальчикам пятаки:
и они обнимали вас, жившие небогато.
и вы были другой, немыслимо молодой,
и глаза у вас были — сумерки над водой,
синего агата.
это был июнь, земляника, копченый лещ,
вы носили, словно царевич, любую вещь
и три дома лишили воли, едва приехав
— Тоня говорит, вы женаты? — страшная клевета!
а кругом лежал очарованный Левитан,
бесконечный Чехов
лестницы, полы в моей комнате, сени, крыльцо, причал —
всюду шаг ваш так весело и хорошо звучал,
словно мы не расцепим пальцев, не сгинем в дыме,
словно я вам еще читаю про Древний Рим
словно мы еще где-то снова поговорим,
не умрем молодыми
кажется, мы и теперь глядим, как студеной мглы
набирают тропинки, впадины и углы,
тень пропитывает леса и дома, как влага.
черные на фоне воды, мы сидим вдвоем
а над нами мед, серебро и жемчуг на окоем,
жатая бумага.
уезжайте в августе, свет мой, новый учебный год
дайте произойти всему, что произойдет, —
а не уцелеет ни платья, ни утвари, ни комода,
наша набережная кончится и гора, —
вы пребудете воплощением серебра,
серебра и меда.
16 июня 2015
* * *
Владимиру Фомичеву
в юности любил умирать, представлял по себе воронку,
опаленных друзей, от горя живых едва.
а теперь помру — отойду покурить в сторонку.
жизнь сойдется за мной без шва.
в юности любил побольней: терзают — и ты терзаешь.
падал освежеванным в ночь, с бутылкою в кулаке.
а как отдал всех бывших жен потихоньку замуж,
так ты знаешь, иду теперь налегке.
в юности любил быть умней, стыдил бы тебя, невежду,
придирался к словам, высмеивал, нес бы чушь.
а потом увидел, как мал, и с тех пор ничего не вешу.
полюбил учиться. теперь учусь.
в юности любил побороться с богом, пока был в силе,
объяснить, что ему конкретно не удалось.
внук родился — и там меня, наверху, простили.
я увидел, как он идет через нас насквозь.
я молился, как ты: «дай мне, отче, высокий терем,
ремесло и жену, укрепи меня, защити».
вместо «дай мне, отче, быть благодарным своим потерям.
дай мне всё оставить, чтобы тебя найти».
11 октября 2015, Екатеринбург-Омск
* * *
дед Владимир
вынимается из заполярных льдов,
из-под вертолетных винтов
и встает у нашего дома, вся в инее голова
и не мнется под ним трава.
дед Николай
выбирается где-то возле реки Москвы
из-под новодевичьей тишины и палой листвы
и встает у нашего дома, старик в свои сорок три
и прозрачный внутри.
и никто из нас не выходит им открывать,
но они обступают маленькую кровать
и фарфорового, стараясь дышать ровней,
дорогого младенца в ней.
— да, твоя порода, Володя, —
смеется дед Николай. —
мы все были чернее воронова крыла.
дед Владимир кивает из темноты:
— а курносый, как ты.
едет синяя на потолок от фар осторожная полоса.
мы спим рядом и слышим тихие голоса.
— ямки Веркины при улыбке, едва видны.
— или Гали, твоей жены.
и стоят, и не отнимают от изголовья тяжелых рук.
— представляешь, Володя? внук.
мальчик всхлипывает, я его укладываю опять,
и никто из нас не выходит их провожать.
дед Владимир, дед Николай обнимаются и расходятся у ворот.
— никаких безотцовщин на этот раз.
— никаких сирот.
23 октября 2015
Стихи — 2016
* * *
как собаки рычат и песок поднимают, ссорясь,
как монета солнца закатывается в прорезь,
поднимается ветер, и мы выходим, набросив шали,
проводить наши лодки, что обветшали
а едва медведица выглянет, — чтоб не гасла,
мы крученые фитили погружаем в масло
и неяркий огонь колеблется в плошке, слитный
с колыбельной медленной и молитвой
и покуда мы спим в обнимку с детьми, над ухом
океан ворочается и бьется чугунным брюхом,
и мы жмемся тесней друг к другу, покуда цепки,
как и полагается мелкой щепке
завтра, может, одна, на негнущихся, кромкой моря
побредет ледяной, совершенно слепой от горя,
и тогда из бутылки пыльной мы пробку выбьем
и заплачем под твои песни на древнем рыбьем
как восход проступает над морем укусом свежим,
так мы надеваем платья и фрукты режем
и выходим встречать, будто замуж идем сегодня
наши лодки, что водит рука господня
что же мы не бесимся, спросишь ты, что же мы не ропщем?
оттого ли, что карт судьбы мы не видим в общем,
оттого ли, что смерть нас учит любить без торга,
оттого ли, что ночи не длятся долго
так смешаем мужьям толченое семя чиа
с перцем и водой, чтоб смерть их не получила,
ни упреку, ни жалобе не дадим осквернить нам глотку:
не то страх потопит нас всех,
потопит нас всех, как лодку
06.03.2016
* * *
смерть приходит в перчатках, фартучке,
набивает мусорные мешки,
расставляет ровненько фотокарточки,
ручки, книжные корешки
собирает в винных разводах рукописи,
подбивая общий итог,
злопыхатели и кредиторы стукаются
о стальной ее локоток
лживое опровергает, веское
извлекает на божий свет
все приводит в высшее соответствие,
все увязывает в сюжет
дарит лучшим вещам глубины и твердости
и дает им взлететь в цене
сообщает поздней печальной гордости
бестолковой родне
собирает над поминальной чашею
воинства небесного дураков,
и вступают друзья, молчавшие
по пятнадцать веков
ослепленных гневом приводит зрячими
в честь такого большого дня
и смеется: милые, что б вы значили,
что бы делали без меня?
и когда архивы уже обещаны,
а долги и низости прощены,
и все видят, какие женщины
нас оплакать званы
мы глядим, как траурная суггестия
достигает трогательных высот
как прекрасны сейчас все вместе те,
кому скидываться по пятьсот
о, живому было бы много чести,
дальней песнею
принесет
11.05.2016
* * *
Саше Гаврилову
чернильная, воззрившаяся дико
на едока
кто мы еще, когда не ежевика
на ветках языка
затем мы тут гудим разноречиво,
чтоб легкою рукой
дитя срывало нас и колдовство учило
и непокой
20.05.2016
Конрад Пирс
я разве Конрад Пирс, сатирик, дьявол, царь?
раздатчик оплеух, отравленное жало?
я цирковой медведь, разбавленный вискарь,
пародия на все, что мне принадлежало.
я Конрад разве Пирс, попасться на язык
которому чины и богачи боялись?
комический мудак, приговоренный бык,
великой головы случайный постоялец.
я, может быть, стряхнул их пальцы с пиджака,
ссыклишко-шутничок, обманка, гетероним?
я меленько кивал, чеканилось пока:
прикрой поганый рот, и мы тебя не тронем.
сановных пошляков как загнанных мышат
я грыз при дочерях, начальниках, при женах.
теперь они меня ни капли не смешат:
я сам один из них: любезных, напряженных.
сегодня будет шоу, и я легко начну.
я огляжу господ, собачек, содержанок.
ты разве Конрад Пирс, спрошу я тишину?
да брось ты, Конрад Пирс не может быть так жалок.
24.07.2016
* * *
все это лишь морская соль,
цветочная вода
немного облегчает боль,
а лечит никогда
касается волос и лба
прохладная ладонь,
и снова тошнота, судьба,
сомнение, огонь
великого прощенья знак,
прозренья тихий снег, —
и ты опять разбит и наг
и только человек
суглинок, бедная руда,
ты устоишь не весь,
когда цветочная вода
обрушится с небес
распорет надвое, как меч,
и обнаружит: пуст,
так пусть воспроизводит речь
из чьих-то горних уст
29.07.2016
* * *
ты, говоришь, писатель? так напиши:
у дрянного этого времени нет души,
ни царя, ни сказителя, ни святого —
только бюрократы и торгаши
раз писатель, то слушай, что говорят:
трек хороший, но слабый видеоряд:
музыка с головой заливает город,
жители которого вряд ли ведают, что творят
ты-то белая кость, а я вот таксист простой.
я веселый и старый, ты мрачный и холостой.
ты набит до отказа буквой из телефона,
а я езжу праздничный и пустой.
одному вроде как и легче, но помни впредь:
до детей наша старость, как подвесная клеть,
все качается в темноте нежилым Плутоном,
и все думают — ну уж нет, там не жить, а тлеть
а потом приходит к тебе дитя:
и вдруг там, на Плутоне, сад тридцать лет спустя,
да и ты, не такой уж страшный, выносишь кружки
и варенье яблочное, пыхтя
напиши, знаешь, книгу, чтоб отменила страх:
потому что я говорящий прах, да и ты говорящий прах,
но мы едем с тобой через солнечную Покровку,
как владельцы мира, на всех парах
потому что ведь я уйду, да и ты уйдешь:
а до этого будет август, и будет дождь —
и пойдет волнушка, и будет персик —
прямо тот, что исходит медом и плавит нож.
31.07.16
* * *
чем душа занята?
ходит, вмятые ребра щупая,
песни неземные разучивая
к «отпущу тебя» и «прощу тебя»
ищет редкостные созвучия
попроси ее, чтобы мы старели помедленнее,
чтобы не сдыхали бездумно и торопливо,
времени нет для меня, отвечает,
и смерти нет для меня
есть лишь маленькие слова
в полосе отлива
03.08.2016
* * *
многовато мы пили для настоящей борьбы с режимом,
маловато спали для смены строя:
но судьба улыбается одержимым —
и мы стали сначала твари, потом герои,
наглотались всесилия, выплыли на поверхность,
истончились до профиля на монете.
помаленьку вешаем дурачков, что пришли нас свергнуть:
нет, когда-нибудь обязательно. но не эти.
эти ничего не умеют толком, кроме проклятий.
не бухают, не знают песен: не любят жизни.
так и говорю на допросах: сам посуди, приятель —
как такие зануды могут служить отчизне?
23.08.2016, Одесса
Дебора Питерс
Дебора Питерс всегда была женщина волевая.
не жила припеваючи — но жила преодолевая.
сила духа невероятная, утомляемость нулевая.
Дебора Питерс с юности хотела рыжую дочку.
Дебора растила Джин в одиночку.
перед сном целовала пуговичку, свою птичку, в нежную мочку.
Дебора несчастна: девчонка слаба умишком.
эта страсть — в пятнадцать — к заумным книжкам,
сломанным мальчишкам, коротким стрижкам:
Дебора считает, что это слишком.
Джинни Питерс закат на море, красная охра.
Джинни делает вид, что спятила и оглохла:
потому что мать орет непрерывно, чтоб она сдохла.
когда ад в этом доме становится осязаем,
Джинни убегает, как выражается, к партизанам,
преодолевает наркотики, перерастает заумь,
а тридцатилетняя, свитерочек в тон светлым брюкам,
Дебору в коляске везет к машине с неровным стуком:
вот и все, мама, молодчина, поедем к внукам
Дебора сощуривается: бог обучает тонко,
стоило почти умереть, чтоб вновь заслужить ребенка —
лысая валькирия рака,
одногрудая амазонка
стоило подохнуть почти, и вот мы опять подружки,
как же я приеду вот так, а сладкое, а игрушки,
двое внуков, мальчишки, есть ли у них веснушки?
я их напугаю, малыш, я страшная, как пустыня.
ты красавица, мама, следи, чтобы не простыла.
стоило почти умереть, чтобы моя птичка меня простила.
24.08.2016, Одесса
* * *
Косте Бузину
но всякая гордыня терпит крах.
с вагоном клерков, бабушек, нерях
и мы его когда-нибудь разделим.
увидим свет, горелый станем прах,
и ангелы в налобных фонарях
бесшумно соберут нас по туннелям.
мы будем дата, общее число.
что новости дурное ремесло,
мы знали первокурсниками, черти.
а ты мне суп варил, и это нас спасло.
мы хохотали в голос, это нас спасло.
и что ты брат мой — поважнее смерти.
30.09.2016
* * *
книга набирается, будто чан с дождевой водой
по ночам, что месяц твой молодой,
обещает себя, как поезд, гудит, дымит
нарастает, как сталагмит
книга нанимается, как сиделка, кормить брюзгу,
унимать злое радио в слабом его мозгу,
говорить — ты не мертв, проснись, ты дожил до дня
ты напишешь меня
книга озирает твои бумаги, как новосел,
упирается, как осел,
не дается, как радуга, сходит, как благодать,
принимается обладать
как я отпущу тебя, книга, в эту возню, грызню,
как же я отдам тебя, я ведь тебя казню
мой побег, мое пламя, близкое существо
не бросай меня одного
я пойду, говорит, живи, пока я нова:
не прислушивайся, не жди, не ищи слова
сделай вид, что не ранен, выскочка, ученик,
что есть что-то важнее книг
29.10.2016
* * *
лучше всего Анита умеет лгать:
замирать по щелчку, улыбаться и не моргать,
только милое славить, важного избегать,
целовать мимо щек ароматных ручек
тяжелее всего Аните бывать одной,
балерине в шкатулке, куколке заводной,
ведь Анита колени, ямочки, выходной,
хохоток, фейсбучек
неуютно Аните там, где не сделать вид:
где старуха лук покупает, где пес сидит,
где ребенок под снег подставляет веселый рот,
будто кто-то на ухо шепотом говорит,
отводя идеальный локон:
в тех, кто умен, Анита, и в тех, кто глуп
в посещающих и не посещающих фитнес-клуб
во владелицах узких губ и надутых губ
боженька лежит, завернутый в тесный кокон
он разлепит глаза, Анита, войдет в права
раздерет на тебе воланы и кружева,
вынет шпильки твои, умоет тебя от грима,
и ты станешь жива, Анита моя, жива
и любима
18.11.2016
* * *
хрусталь и жемчуг от морозов
и аметист
твой Петербург смотри как розов
и золотист
кто заводи подводит черным,
синит снега —
Куинджи или Уильям Тернер
или Дега?
на юг, как племена живые,
бредут дымы
и вот, окликнуты впервые,
застыли мы
как дети, бросившие игры
на полчаса,
чтобы узнать: снега воздвигли
и небеса
наладили метель из сказки
и фонари
ступай, дитя, и пробуй связки:
благодари
06.12.2016
Стихи — 2017
* * *
покуда волшебства не опроверг
ничей смешок, мальчишка смотрит вверх:
там, где у нас пурга или разлука, —
на горизонте вырос фейерверк
секундой раньше собственного звука
там окон неподвижное метро,
дымы стоят, как старые пьеро,
деревья — как фарфоровые бронхи:
всему, всему подводится итог —
и в небе серебристый кипяток
проделывает ямки и воронки
и мы крутые ласковые лбы
в веселом предвкушении судьбы
о стекла плющили, всем телом приникали:
засечь сигнал, узнать границу тьмы —
той тьмы, где сомневающимся мы
работаем теперь проводниками
03.01.2017
* * *
старая гвардия, вечная отрада моих очей,
собирается к девяти, что бы ни случилось
церемонно здоровается со мной, и, сама учтивость,
я ношу ей закуски, сок и масала-чай
заклинатели бесов, опальные королевичи и глотательницы огня,
толкователи шрамов, поэты, ересиархи:
опаляют длинные косяки на свечном огарке,
пересмеиваются, поглядывая на меня
это край континента: в двухстах шагах, невообразим,
океан, и все звуки жертвуются прибою
я люблю послушать, как он беседует сам с собою
я работаю здесь четырнадцать долгих зим
— эти вот накурятся, Пэт, и что может быть мерзей:
ходят поглядеть, как я сплю, похихикать, два идиота.
— в нашем возрасте, детка, это уже забота:
проверять по ночам, кто жив из твоих друзей
говорят, у них были дворцы с добром — не пересчитаешь вдесятером,
и в лицо их не узнавали только слепые.
— исполняешь желания, Падмакар?
— вообще любые.
— тогда чаю с медом и имбирем.
19.01.2017
* * *
гляди, гляди: плохая мать
и скверная жена
умеет смерти лишь внимать,
быть с призраком нежна,
живое мучить и ломать,
а после в гамаке дремать,
как пленная княжна
зачем она бывает здесь,
на кой она сдалась,
ее сжирает эта спесь
и старит эта власть
не лезь к ней, маленький, не лезь,
гляди, какая пасть
но мама, у нее есть сын,
льняная голова,
он прибегает к ней босым,
чирикая слова
и так она воркует с ним,
как будто не мертва
как будто не заражена,
не падала вдоль стен,
как будто не пережила
отказа всех систем,
как будто добрая жена,
не страшная совсем
он залезает на кровать,
кусается до слез,
он утром сломанную мать
у призраков отвоевать
бросается как пес,
и очень скоро бой принять
суровый смертный бой принять
придется им всерьез
30.01.2017
* * *
любит старая душа
обливаться из ковша,
спать в песке и есть руками:
с дорогими дураками
пряным воздухом дыша
потому-то не ищи
ей ни Хилтона, ни Ритца:
она хочет, как царица,
жить, где мир не повторится,
петь, где травы и клещи,
есть, где муравьи и мыши:
заставлять рыдать потише,
подчинять ее уму —
посадить ее в тюрьму.
ты привез ее, где свеж
и певуч упругий воздух,
небеса в соленых звездах,
и сказал: ну вот же. ешь.
— пытки злобой и зимой
избежав, разводишь слякоть,
не смешно тебе самой?
— празднуй, празднуй, милый мой.
я могу теперь поплакать.
я приехала домой.
02.02.2017
* * *
старуха и разбитое корыто
беседуют в душе моей открыто
и горестно: никто из нас не злой.
— меня сжирает медленное пламя,
оно больными хлопает крылами,
оно что хочешь сделает золой.
прости меня, — старуха говорит,
ты самое родное из корыт,
— естественно, — оно кивает хмуро, —
киношная рассохлая фактура,
и линия, и трогательный кант.
мой мастер был немного музыкант,
но я тебе по-прежнему постыло,
не правда ли.
— проклятая труха.
— а это карма, матушка. плоха
история, где сильный без греха.
я все тебе заранее простило.
02.02.2017
Из цикла «Девять писем из Гокарны»
I. dream mail
утреннее воркованье ребенка с резиновою акулой
прерывает сон, где, как звездный патруль сутулый,
мы летим над ночным Нью-Йорком, как черт с Вакулой
то, что ты живешь теперь, где обнять дано только снами,
слабое оправдание расстоянию между нами.
ты всегда был за океан, даже через столик в «Шаленой маме»
это не мешает мне посвящать тебе площадь, фреску,
рыбку вдоль высокой волны, узнаваемую по блеску,
то, как робкое золото по утрам наполняет короткую занавеску
всякая красота на земле есть твоя сестра, повторяю сипло.
если написать тебе это, услышишь сдержанное «спасибо»
из такой мерзлоты, что поежишься с недосыпа
это старая пытка: я праздную эту пытку.
высучу из нее шерстяную нитку и пьесу вытку.
«недостаток кажется совершенным переизбытку»
как я тут? псы прядают ушами, коровы жуют соломку.
в Индии спокойно любому пеплу, трухе, обломку:
можно не стыдиться себя, а сойти туристу на фотосъемку
можно треснуть, слететь, упокоиться вдоль обочин.
ликовать, понимая, что этим мало кто озабочен.
я не очень. тут не зазорно побыть не очень.
можно постоять дураком у шумной кошачьей драки,
покурить во мраке, посостоять в несчастливом браке,
пропахать с матерком на тук-туке ямы да буераки
можно лечь на воде и знать: вот, вода нигде не училась,
набегала, сходила, всхлипывала, сочилась,
уводила берег в неразличимость
никогда себе не лгала — у тебя и это не получилось
скоро десятилетье — десятилетье — как мы знакомы.
мы отпразднуем это, дай Бог, видеозвонком и
усмешкой сочувствия. ну, у жанра свои законы.
как бы ни было, я люблю, когда ты мне снишься.
если сердце есть мышца, то радость, возможно, мышца.
здорово узнать, где она, до того, как займешься пламенем,
задымишься.
23.01–13.02.2017
II. mangalore tiles
садись поближе и глаза прикрой:
тут воздух сам лирический герой,
и псина, плесень, прозелень скупая,
и масло, и лимон, и дым, вскипая,
с тобой щекотной заняты игрой.
и облака как спелая папайя
медовая разбились над горой
такой густой, что требует труда,
такой с железным северным несхожий;
еще вода — как сходится вода
прохладная с разгоряченной кожей —
стоишь под ней, случайный выдох божий,
и думаешь: тебя, тебя сюда.
смотреть под утро: бледная стена,
по крыше ходит медленная птица
и рыжая грохочет черепица,
по краешку едва озарена.
вот прядь в луче горит и золотится.
вот мраморная долгая спина.
так старики, покуда им не спится,
перебирают дни и имена.
когда-нибудь, когда мы все умрем,
я угощу тебя копченым ячьим
соленым сыром, чаем с имбирем,
и одеяло на берег утащим,
и звезды все проедем дикарем,
и пальмы под рассветным янтарем
единственным назначим настоящим,
а не вот эту муку и тоску.
должна же быть еще одна попытка.
где раздают посмертье по куску,
там я прильнула, сонная улитка,
губами ноющими к твоему виску.
смеется Шива — вон его кибитка,
покачиваясь, едет по песку.
14.02.2017
III. lake view
выбери себе одну
из крутых щербатых лестниц —
на закате лучший свет:
в озере идет ко дну
молодой тяжелый месяц,
как серебряный браслет.
сом плеснет, а может, карп;
в воду к ним со свежей стиркой
не столкнуть бы рюкзака;
несколько десятков кальп
тишине над Коти-Тиртхой:
она старше языка.
времени бывает тьма.
времени бывает толща.
вот и первая звезда.
кроны, облака, дома
рыба потревожит, морща, —
и расставит на места.
в городе сейчас толпа:
ищет люд иногородний
развлеченья и жилья.
это тайная тропа,
чтобы выйти подворотней
прямо в горние края,
где стоит такая тишь —
от летучей мыши эхо.
камень стоптан и нагрет.
где однажды ты сидишь.
ты услышал. ты приехал.
так не может быть.
привет.
21.02.2017
IV. full power
связь мерцает. контакт искрит.
падая, ветки кокосов кровлю
крошат вдребезги, как бисквит.
вещи не подлежат контролю.
мы, заводы большой вины,
в Индии спасены.
дом почуешь за двадцать ям.
в дом заходят гекконы, мыши.
сахар нравится муравьям.
ворон играет с утра на крыше.
хриплый кашель соседа слышен
так, как будто он спит в мешке
прямо в твоей башке.
то, как переживаешь грязь,
как бежишь ее, — главный вызов.
как уйдешь в нее, матерясь,
как ее разгадаешь, вызнав:
псы, коровы, жуки — цари.
грязь у тебя внутри.
как стыдишься своих темнот,
нетерпимый к чужим помоям:
индия лечит мгновенно от
ложных эго дерьмом и морем.
всюду Бог. ты его омоним.
это — храмы и алтари.
и — у тебя внутри.
все изведай и отрази,
все, что здесь вызывает ярость:
разгляди на свету, вблизи,
как чудесное состоялось:
вот растаскивают усталость,
яд гордыни, яд нелюбви
мыши и муравьи.
это принцип. ты ни при чем.
тот, кто вечно был виноватым,
ощущает, что вдруг прощен.
он услышан. он только атом:
в два сосновых ствола охватом,
вооружившийся до бровей
бешеный муравей
Бог начнет с твоего лица,
как поедешь в тук-туке с рикшей,
как увидишь кокос, возникший
в шаге от своего крыльца:
он найдет тебя, стервеца,
он как молнией голубой
вспыхнет перед тобой
22.02.2017
V. message in a clay pot
перевитое таблами пенье юное
заставляет звенеть хитро
целый пляж, сияющий в полнолуние
тускло, как старинное серебро
будто сквозь отверстие в центре купола
льется сонное молоко,
и такая нега поля окутала,
что расслышать будет легко,
как вода прибудет, и звезд удвоится,
псы хвостами забьют, скуля;
как сойдет сюда неземное воинство,
все из горного хрусталя,
прошагав над сором, что море вышвырнет,
в яростном свеченье своем,
принесет оно всякому от всевышнего
глиняную плошку с питьем:
опаленным, страждущим — чтоб не жаждали,
мощным — веры, когда слаба;
проведет прохладной ладонью каждому
вдоль объятого жаром лба,
припугнет домашнего беса настрого,
вытрет алтари добела
и растает, пыль отрясая красную
с алебастрового крыла
просыпайся, сердце: трудись, отлынивай,
не рассказывай об одном:
что было за имя в той плошке глиняной,
перевернутой кверху дном
23.02.2017
VI. temple on the hill
нельзя столько помнить, они говорят, а надо жить налегке.
учитель забвения слабый яд приносит мне в пузырьке:
он прячет в дымку утес рубиновый, стирает тропу в песке,
где мы говорим, как руина с руиной, на вымершем языке.
где мы наблюдаем, века подряд, отшельниками в горах:
империи рвутся наверх, горят, становятся сизый прах,
и я различаю пять тысяч двести причин ухмылки твоей.
нельзя все помнить, умрешь на месте, старайся забыть скорей
ведь это твой дом, говорят, не склеп, вот весь твой нехитрый скарб,
и тебе всего тридцать лет, а не двенадцать кальп
и ты не знаешь людей в соседней деревне, где бьет родник,
но из плоти твой собеседник в храме из древних книг?
нет, я не знаю мужчин и женщин с той стороны холма.
в храме ржавый засов скрежещет только приходит тьма,
ступени теплые, но прохлада касается плеч, волос,
и мы смеемся, как будто ада изведать не довелось.
как будто не сменим тысячу тел, не встретим сто сорок войн
я просто сижу и любуюсь тем, как профиль устроен твой
как будто мрамор пришел наполнить какой-то нездешний свет
как будто я это буду помнить из смерти, которой нет
26.02.2017
VII. river is my grief
как тонкий фульгурит,
как солнце через лед,
как белоснежный риф
коралловый сквозь воду,
печаль моя горит,
и луч ее придет,
чтоб выпустить других,
погасших на свободу
я собираю клятв
и обещаний лом —
стол битого стекла,
стол колотого кварца, —
один и тот же взгляд
у преданных кругом,
и я готовлю им
прозрачное лекарство,
чтоб в день, когда у них
мир выпадет из рук
и демоны рывком
им воздух перекроют,
из-за угла возник
стремительный тук-тук
и с дребезгом повез
на Карияппа-роуд
а тут всегда святой
послезакатный час.
на дымчатом — орлы,
на серебристом — лодки
а там, над пустотой,
веселый лунный глаз
читает нас с листа,
как крошечные нотки
и больше ничего.
достаточно глотка:
стихают голоса
и отступают лица.
простое волшебство.
печаль моя река.
быть может, и твоя
в ней жажда утолится.
01.03.2017
Из цикла «Открытки из Венеции»
Джудекка
вот кофе, и не думай ни о чем.
тот молод здесь, кто лучше освещен.
официант насвистывает Верди.
вот бровь моста, вот колокольни клюв.
вот сваи троеперстием сомкнув,
вода поет преодоленье смерти.
белье пестрит. глициния цветет.
соединяя этот мир и тот,
свет за монетку щелкает над фреской.
пасхальная Венеция, цинга
твои фасады жрет и берега
и всякую морщинку чертит резкой,
но погляди: ведь ты затмила всех.
в проулках тишь, на набережной смех,
а к белому приносят сыр скаморца.
и пена яркая обходит катер вдоль,
как седина лукавая, как соль
в кудрях тяжелых средиземноморца
Фондамента-Нани
я не бедствую, — Стефано говорит, — не бедствую, —
жую зелень морскую да кожуру небесную:
есть еще забегаловка на Фондамента-Нани:
полторы монеты за бутерброд с тунцом.
там таким утешенье: с мятым сухим лицом
и дырой в кармане
я не сетую, — утверждает, — я себя даже радую —
я повсюду ношу с собой фляжку с граппою:
в клетчатой жилетке ли, в пиджаке ли.
четверть века назад мой друг, докторам назло,
делал также, пока сердечко не отвезло
бедолагу на Сан-Микеле.
это была опера, девочка, как он пил, это был балет его:
жалко, ты никогда не увидишь этого, —
только и успевали бросать на поднос закуски.
а потом зашел — его нет, и после зашел — всё нет.
а поэт ли он был, не знаю, разве поэт?
черт его разберет по-русски.
Риальто
круши меня, как пленника, влеки:
оббитые о мрамор каблуки
я каждый вечер стаскиваю с воем —
все причаститься, жадные, как псы,
твоей больной съезжаются красы,
и самый воздух хочет быть присвоен
над стенами, истроганными сплошь,
но ты им ничего не отдаешь:
ни камушка, ни отблеска, ни плача.
подсвечники, колечки из стекла, —
но как купить, какою ты была,
какой еще цвела, как у карпаччо:
персидские ковры через балкон,
веснушчатые бюсты из окон
и драчуны на Понте деи Пуньи;
но мы глядим, голодные, как псы —
и тут сквозь нас грядут твои купцы,
и карлики, и мавры, и колдуньи
10 мая 2017, Венеция
40 дней
ну как ты там? включи видеочат.
дай покажу тебе моих волчат,
и самокат в подъезде, и старуху,
и дождь в лесу, и в палых листьях мышь.
а ты чего? исследуешь? летишь?
поешь под нос, что неподвластно слуху?
мы ничего не поняли, прости.
мы ищем, где могли тебя спасти —
ты опрокинул год и воздух вышиб.
мы вниз глядим, считаем этажи.
да что об этом. как там, покажи?
как этот чертов мир с изнанки вышит?
перед спектаклем театральный дым
предупреждает голосом твоим,
что здесь запрещена видеосъемка, —
и слышно, что тебе чуть-чуть смешно.
давай, скажи: то, что произошло —
ошибка, шутка, битый дубль, поломка,
дурная пьеса, неудачный трип.
мой друг погиб, и рта его изгиб,
акцент его и хохот — заковали.
Гермес трубит, и гроб на плечи взят,
и мы рыдаем, все сто пятьдесят,
сипя и утираясь рукавами,
но что теперь об этом, извини.
там холодно, куда мы все званы?
вверх — серпантин или труба сквозная?
«бывает сложно с вводами в раю».
но нет, прическу дикую твою
я и в раю издалека узнаю.
02.06.2017
* * *
кровь состояла из лета, бунта, хохота и огня. жизнь рвала поводок, как будто длится еще два дня, а после сессия, апокалипсис, и тонут материки. будто только вы отвлекаетесь — и сразу же старики.
где вы теперь, дураки, смутьяны, рыцари, болтуны. дым над городом едет пьяный, будто бы до войны: никто не вздернулся от бессилия, не загнан, сутул и сед — мы пьем портвейн и Сашу Васильева разучиваем с кассет.
так этот дерзкий глядит, что замертво ложатся твои войска. твой друг умеет хамить гекзаметром и спаивать в два броска. пожарные лестницы и неистовство добраться до облаков. есть те, кто выживет, те, кто выспится. но это — для слабаков.
01.07.2017
* * *
дожди стояли много дней,
и падают стада.
и в подполе, как пленный змей,
холодная вода.
и он не хочет драться с ней
и не глядит туда.
сестра ему приносит сыр
и овощи кума.
но ни на что не хватит сил,
а впереди зима.
он сел и трубку погасил
и вниз глядит с холма.
вот ослик медленный вьюки
спускает по тропе,
вот ветер пестрые платки
рвет с девушек в толпе,
акации стоят, легки,
в серебряной крупе
вот сумерки как вещество
в минуту на аршин
растут, растут из ничего,
не трогая вершин
вот жизнь покинула его,
как треснутый кувшин.
вот он, не видный никому,
прослушивает мир.
вода стоит в его дому,
как черный конвоир,
но сумерки поют ему,
как в воскресенье клир.
и где-то там, в отвалах снов,
в карьерах тишины,
никто не стар, никто не нов,
все только прощены,
все только выпущены вон
из подземелий тел.
и ты как пепел, ты как звон —
вздохнул и полетел.
05.07.2017, Киев
Письмо Антону, вдогонку
такая, на секунду, слепота.
но, кажется, ты не хотел другого:
шел через комнату ночную в Пирогово
и вышел прямо к церкви Ла Пьета —
и щуришься, поскольку рассвело.
там кто-то кроме мусорщиков, чаек
и мраморных детей тебя встречает.
— давай мне сумку. — да не тяжело.
да нет же, стой, а как же мы, а мы,
кому нас отговаривать от мести,
спасать от смерти, откупать у тьмы,
«не ссы, любимая, мы сможем это вместе»
покуда ликовала гопота,
мы рты сцепив по стенке оседали, —
вы плавно обогнули Оспедале,
купили сыра, взяли по полста
холодной граппы, бросили на чай,
взошли и закурили на альтане.
а мы все камни круглые катали
в руках, шептали «ну, прощай. прощай»
оскальзываясь, поднимали гроб,
изображали, как ты недоволен,
что мы ревем.
а с дальних колоколен
снимался звон и черепицу скреб
и овевал тебя, и обнимал,
и ты предпочитал не шевелиться.
и как сквозь сон, ты видел наши лица,
но что за горе вдруг —
не понимал.
14.07.17
* * *
уснуть глубже города, глубже бессилия,
глубже боли, ломающей череп надвое,
под Иваньковское шоссе, где предвечная Абиссиния,
Бессарабия, довоенная Латвия
выйти из акватории ночи, из ее кружева,
где ни маяка, ни радара, ни сторожевого катера,
где безмолвные скаты сведут тебя, безоружного,
в светлые покои владыки-развоевателя,
упразднителя времени, предстоятеля равновесия,
в его старый вагончик, низенький мерный пригород.
— все ты ищешь, где холодно, братец мой, ходишь, где невесело,
так дело не выгорит, братец мой, так дело не выгорит
— можно я возьму еще чашку пепла и сгину без вести,
бухгалтерию тишины буду заодно вести
можно я не проснусь и не стану завтраком этой мерзости
перестану блевать, будто от мигрени, от каждой новости
— разве у тебя такая работа? так попроси меня,
чтобы на моем берегу тебе свечка горела слабая,
и ты знал среди этого ада, что Абиссиния
напевает тихонько и Бессарабия
04.08.2017
* * *
Саше Гаврилову
скажи ночной кассирше в «Билле»,
случайной крале:
все люди, что меня любили,
поумирали.
теперь божественных орудий
они пружины.
(а я и все чужие люди
остались живы).
теперь небесное кочевье
им дом и имя.
напомни, девочка, зачем я
еще не с ними.
и после чека и пакета,
(еще шурша им)
она тебе ответит: это
не мы решаем.
ты быть назначен их глазами,
но не печали.
ты их обнимешь на вокзале.
они скучали.
02.09.2017
Тринадцатая годовщина
купим дом на краю земли и посадим деревце —
каждые три шага по деревцу, так хуже обстреливается
купим дом и выложим его камнем, моя красавица
камень не горит даже старым и скверно плавится
будет годовщина, и все придут говорить о смерти словно о вымысле
будут одноклассники сыновей, и они так выросли
если ткань не спрячет ожога, то ты расправь ее
младших выведем за руки, старших вынесем фотографии
выйдем на порог, и кто-то прищурит глаз и промолвит «замерли»
незадетой частью лица повернемся к камере
будут гости сидеть под звездами, пить, что лакомо,
потому что дети наши опознаны и оплаканы
потому что ничья душа не умеет гибели,
и они стреляли в упор, а души не выбили
07.09.2017
* * *
Саше Гаврилову
это сердце болит? оно разве так болит?
разве сердце мое загрунтованный оргалит,
через который всему виной и за все ответчик,
прямо в пургу, глухую, из детских книг,
тяжко идет вцепившийся в воротник
согнутый человечек?
и покуда я ем гранат, говорю и лгу,
у него сапоги в снегу, голова в снегу,
кулаки вдоль лацканов намертво смерзлись в камни,
крик его заправлен обратно в рот;
он легко потушит, как упадет
маячок зрачка мне
говори «еще бы» или «ну да»,
постарайся совсем не глядеть туда,
где с любой минутой крепчает вьюга
и не видно месяца и огня,
где ни рва, ни леса внутри меня,
ни врага, ни друга
03.10.2017
* * *
это то, что пишется, пытку для,
на пути от личности до нуля
это выраженная словесно
выжженная земля
это сопротивленье приказу тлеть,
память об объятье, изъятом впредь,
это смерть, которая хочет выкуп,
каждый день растущий на треть
все казенное, кроме мата, петли, зимы,
и мы шутим взаймы и трахаемся взаймы
чтобы не достаться живыми, мы пьем настойку
из зелёнки и сулемы
обещай мне: была и другая я,
узкие страницы, обрывистые края
уцелело издание с полным небом,
и его найдут мои сыновья
расскажи мне, как мы увидимся никогда
легкие, как ветки, прощенные, как вода,
в заколдованном доме, где музыка ниоткуда
и в чулане звезда
09.10.2017
Из книги «Ответственный ребенок. Стихи для детей»
Верное средство
Я дважды за день упал, разбил любимого робота,
Поссорился с Мишкой из-за испорченного учебника
И понял, что мир со мною воюет без всякого повода,
А я не вижу вокруг ничего лечебного.
— Мам, у меня из рук всё валится и под ногами путается,
И я очень злюсь, и отчаяние ощущаю. —
И мама вздохнула:
— Грустная моя пуговица,
Садись ко мне, заварю тебе, что ли чаю.
Интервью
Я приехал
К соловью
Взять
Простое интервью.
— Что теперь у вас поют?
— Чиу-чиу! Чьюти-фьют!
— Да уж, выбор небогат.
Вы поете наугад,
Даже нот не разучив?
— Пичи, пичи! Чив-чив-чив!
— Серы, зелены и пеги,
Правда ли, что вас коллеги
Обсуждают горячо?
— Цити, цити! чо-чо-чо!
— Вот вы только и поете,
Пока люди на работе —
Вышла гневная статья!
— Фити, фити! Тья-тья-тья!
— Я не отрицаю дара,
Но вот в смысле гонорара —
Как вы кормите семью?
— Тичи-тичи, кьюти-пью!
— Нет у вас такого чувства,
Будто новое искусство
Развращает молодежь?
— Ричитиу, тьошь-тьошь-тьошь!
Крохотный, как свежий лист,
Улетел мой вокалист.
Что же мне давать в газету?
Разве только песню эту
С заголовком «Пьюти-фью:
как я ездил к соловью».
17 апреля 2015
Выговор
У бобров есть фабрика
Из коры и лапника:
Я таскаю им печенья
Или дольки яблока.
Ну, вы знаете бобров.
Вечно наломают дров.
Даже крепкие деревья
Объедают будь здоров.
В теплое, весеннее
Это воскресенье я
Прямо на траву с разбега
Сел от потрясения.
Словно срезали враги:
Голый берег у реки —
Вместо тополей и сосен
Только щепки да пеньки.
Как же я расстроился!
Выплывает троица:
Думает, что хулиганство
От меня укроется.
Говорю бобрам: ну что?
Соснам было лет по сто!
Всё, ни яблок, ни печенья.
Вместо леса решето!
И тропинка важная
Бревнами расквашена!
Я совсем не обобряю
Поведенья вашего!
25 апреля 2015
Главная гостья
Папа заявил мне прямо:
— Через час приедет мама.
Привезет тебе дракона,
Чтобы всех пугать с балкона.
Приберись, — добавил строго, —
Я пока посплю немного.
Я ответственный ребенок.
Я на кухне в пять картонок
Разложил карандаши —
Вместо соды и лапши.
Постирал носочек в кружке,
Вымыл супом все игрушки,
Подогреть я пряник смог,
Чтобы сладкий шел дымок,
Заварил в кастрюле чаю —
Маму милую встречаю —
Щедро, пачку целиком.
Полковра побрил станком.
Вычистил зубною пастой
Старый пылесос опасный.
Феном пыль обдул с картин.
(Тихо — я тут не один).
Книжки все сложил я горкой.
Вылил уксус (он прогорклый)
Аккуратненько в окно.
Стало классно.
Как в кино!
Думал я: какая жалость,
Мама очень задержалась.
Все остыло — пряник, чай.
— Мама, где ты?
Приезжай.
18 апреля 2015
Запоздавший снег
Мы с мамой
Стояли и молча смотрели
Как снег опоздал
И западал в апреле.
И папа сердился:
— Ну это уж слишком!
А снег
Был подобен
Проспавшим мальчишкам,
Ворвавшимся в класс
В середине урока,
И вот их журят
Возмущенно
И строго,
А им хитрецам
Будто все нипочем.
Глядят на ботинки,
Поводят плечом.
А снег все летел
В темпе венского вальса,
Я снегу тихонько сказал:
— Оставайся!
А маме-зиме,
Ее слугам и стражам,
Мы так уж и быть
Ничего
Не расскажем.
19 апреля 2015
Скверный розыгрыш
В ночи из Покровского-Стрешнева
Похитили старого лешего.
Он брел по тропинке,
Тут хвать за ботинки —
И прочь увезли его, грешного.
— Он был в шароварах и кителе!
Нигде вы такого не видели? —
Тревожились сутки
И мыши, и утки,
И прочие местные жители.
— Пугающее происшествие!
Но из своего путешествия,
Всклокоченный, пеший,
Вернулся наш леший
И мог объясниться лишь жестами.
— Вы слышали? Это фантастика!
Его не хватало для праздника!
К нему подрулили
На автомобиле
Два старых его одноклассника.
Два добрых его однокашника!
Но от потрясения страшного
Он громко и жутко
И без промежутка
Весь путь проорал из багажника.
Двух леших, Петрова и Рогова,
Нашли — для дознания строгого.
Они извинились.
Но даже не вылез
Их старый приятель из логова.
С тех пор злополучного лешего
Решили беречь пуще прежнего
Бобры и куницы,
И крысы, и птицы,
И белки Покровского-Стрешнева.
20 апреля 2015
Про Берендея Парамонова
Парамонов Берендей
Не любил худых детей.
И насчет проблемы этой
У него был ряд идей.
Он ловил их, вереща,
И с женою сообща
Заливал в них две кастрюли
Манной каши и борща.
— Ежели ребенок тощ —
Где ж энергия и мощь?
Будет весь ходить зеленый,
Как крапива или хвощ!
Ну, теперь он укрощен.
Дом его увит плющом.
Он давно детей не кормит
Манной кашей и борщом.
Но студенты городка
(Все худые, как доска)
Как ни странно, навещают
Берендея-старика.
Ему очень много лет,
Он обернут в пестрый плед,
А они ему приносят
Вермишели и котлет.
21 апреля 2015
Экспериментальная наука
— Боже, где вы столько времени бегали?
— Космолет мы собирали с коллегами.
— Отчего же рукава-то все черные?
— Испытанья проводили, как ученые.
— А чтоб джинсы распороть, где вы лазали?
— Специальные мечи у нас, лазеры.
— Так, а что у рюкзака стало с молнией?
— Небольшим метеоритом заполнили.
— Так, а с варежками что полосатыми?
— Их и вовсе растащило на атомы.
— А мне кажется, у вас нету совести.
— Мама, совесть не нужна в невесомости.
— Ну и что мне с вами делать, учеными?
— Нас сосисками кормить с макаронами.
22 апреля 2015
Тайная жизнь игрушек
Ясе Грачевой
— Мама, правда, что игрушки
Оживают по ночам?
Кофе пьют, едят ватрушки?
— Нет, никто не замечал.
— Говорят, играют в прятки
И танцуют до утра?
— Ох, родная, это вряд ли.
Уже поздно. Спать пора.
Но как только свет потухнет,
Я опять смотреть пойду,
Как мои друзья на кухне
Затевают чехарду.
Мыши сделали из булки
С небольшим окошком дом
И под музыку в шкатулке
Вальс танцуют вчетвером.
Плюшевые леопарды
Ссорятся из-за мяча.
Еж с котом играют в нарды,
Громко фишками стуча.
Кукла режет из салфетки
Белоснежную фату.
Заяц взял мои конфетки
И катает их во рту.
Утка расставляет свечки,
Зажигает фитили,
Чтобы лего-человечки
К ней поужинать зашли.
И из дольки мандарина
Сделав новую луну,
Осьминог и балерина
Ставят оперу одну.
Слон рассказывает сказку
О подводном короле:
Как явился он, прекрасный,
Грустной деве на земле,
Как выходит он на берег
И искрится, как роса.
Жаль, что взрослые не верят
Ни в какие чудеса.
23 апреля 2015
Единственное условие
У меня будет личный слон.
Я ведь буду богат как бей.
Стану я по праздникам выезжать
На слоне верхом.
Будет жить он в моем саду
Среди цапель и голубей,
Среди мелких ручьев и бревен,
Покрытых мхом.
У меня будет пять гитар.
Буду я до того велик,
Что меня станут узнавать
На любом углу.
Неприступный, как Эверест,
И прекрасный, как лунный блик,
Буду после концерта я
Уходить во мглу.
У меня будет институт.
В мире стану я всех умней.
Я поеду в Стокгольм
На нобелевский банкет.
Потому что я докажу:
У деревьев и у камней
Есть душа, и отныне в этом
Сомнений нет.
У меня будет жить дельфин,
Лоб с ложбинкой и сильный хвост,
И весь мир будет отражаться
В его глазу.
Только очень меня люби.
Я тогда дорасту до звезд,
И с одной тебе
Фотографию привезу.
26 апреля 2015
Град
Град!
Будто в жестяном бидоне
Сто тысяч шумных белых ягод.
Они рассыплются и лягут
На волосы
И на ладони.
Град, град!
Вот он нас понимает:
Плут, барабанщик и задира.
Нам весело и очень сыро —
Мы вымокли до самых маек.
Лес опрокинут, перебужен,
Машины воют оглушенно.
А мы несем два капюшона
Жемчужин.
29 апреля 2015
Зубы
Жизнь рассыпалась в труху.
И учеба.
Зубы выпали вверху
Сразу оба.
Улыбаюсь без зубов,
Как пантера.
Все, закончилась любовь.
И карьера.
Как же я найду жену,
Очарую?
Свистну в пустоту одну
И вторую?
Привлекательность совсем
Нулевая.
Потому что суп я ем,
Проливая.
Как мечту сумею я
Сделать явью,
Если страшно, как змея,
Шепелявлю?
Как я буду инженер,
Гидротехник?
Зубы шли мне, например.
Но и тех нет.
— Мама, папа, суждено
Попрощаться.
Раз беззубым не дано
В жизни счастья.
Стану я в густом лесу
Жить в землянке,
Бегать, ковырять в носу,
Есть поганки.
И как стал о том мечтать,
Видеть сны я, —
Зубы выросли опять.
Коренные.
11 мая 2015
Тишина
Над водою тишина
Легче пуха
И пшена.
Утки, как же нам такая
Красота разрешена?
На закате над рекой
Синий с золотом покой.
Я не смел пошевелиться.
Я забыл, кто я такой.
Утки, есть такая грусть,
Словно и река, и куст
Знают все твои печали,
Все тревоги наизусть.
17 апреля 2015
Шалаш
Это не прихоть, это не блажь:
Это неделю мы строим шалаш.
Стульчик, сундук и над входом подкова.
Взрослого не поместить никакого.
Будет топчан, умывальник, очаг.
Мы станем ужинать тут при свечах.
Здесь от мышей мы подвесили гречку.
Здесь сапоги, чтобы бегать на речку.
Тут будем прятать тетрадь для стихов.
Спать после сумерек. до петухов.
В этой кастрюле мы сварим похлебку.
Это учебник, его на растопку.
Здесь я картошки запас для костра.
Здесь мы поселимся: я и сестра.
Мы объявили друзьям и соседям,
Что послезавтра сюда переедем.
Лес, земляника, свобода и труд.
Взрослые вряд ли сюда доорут.
Камень отыщем, чтоб гвоздиком высечь:
«Взрослому штраф сто четырнадцать тысяч!»
Чтобы мы ноги держали в тепле,
Пусть нам носки оставляют в дупле.
Рядом два ящика выставить надо:
Два. «Для печенья»
И «Для шоколада».
8 июня 2015
Дождь
Кате Гордеевой
Как хорошо, что дождь.
Мы через сон услышим:
Дробь побежит по крышам
Из-под его подошв.
Дождь пришел постучать
К нам из лиловой дали,
Встану и в одеяле
Выйду его встречать.
Голос его то хор,
Словно со дна колодца,
То он поет, смеется
тоненько, как фарфор.
То он мчит во весь дух,
То прекращает гонку,
Чтоб почитать дождёнку
Детскую книгу вслух.
Люди мрачнеют вмиг,
Только мелькнет он в окнах
Я открыл дверь и в мокрых
Тапочках в дождь проник.
Запах его и шум
В холод его крылатки
Встретил его и сладко
И глубоко дышу.
Стены, асфальт, металл,
Пишущий свежей краской,
Дождь мой любимый, здравствуй,
Я о тебе мечтал.
Обещание
Людмиле Миновне Тишковой
У бабушки растет на даче виноград.
Вокруг беседки сплошь, сиреневый и кислый,
И в нем сверчки поют и птицы говорят,
И я играю в нем или лежу без мыслей.
У бабушки стоит в гостиной патефон:
В нем Марк Бернес поет и Леонид Утёсов.
Под голоса былых таинственных времен
Варенье варим мы из спелых абрикосов.
И я иду наверх: в окошко чердака
Я вижу моря край и серебристый отсвет,
И зерна парусов, и сразу облака,
И куст в цветах, под ним соседский серый кот спит.
Я выношу, когда еще роса,
В беседку жаркий чай с листочком мяты дикой,
А бабушка несет в тарелках через сад
Оладьи с яблоком и творог с голубикой.
— Когда я вырасту в красавца моряка,
Я в рейс возьму компот и твой пирог с черешней
И длинный дам гудок. Услышишь с чердака?
И бабушка серьезно скажет:
— Ну конечно.
11 сентября 2015
Колыбельная для машинок
Яше Дуднику
Вот сходит ночь по дальним крышам вниз,
Дороги стихли, стройки улеглись,
Луна свой грозный глаз раскрыла ястребиный.
Усни, мой самосвал на колесе большом,
Спи, экскаватор мой с разинутым ковшом,
Спи, трактор мой с прозрачною кабиной.
Был очень трудный день, в такой суровый зной
Вы рыли, вы скребли, вы ездили со мной,
Был город заложен, он будет грандиозен.
Спи, красный мой фургон, я вижу, ты ослаб,
Спи, грейдер мой, красивый, словно краб,
Спи, милый мой оранжевый бульдозер.
Мы завтра с вами вновь пойдем атаковать
Песок и чернозем, ложитесь-ка в кровать,
Всех на бочок сложу с рычанием свирепым:
Тебя, подъемный кран с тяжелою
Стрелой,
Тебя, мой гордый скрепер удалой,
Тебя, конечно же, мой грузовик с прицепом.
Под одеяло дверцы подгибай
И баю-бай
14 сентября 2015
Друг
Это мой новый друг,
Только ещё щенок.
Ходит юлой вокруг
Собственных ног.
Папа его принес.
Пахнет речной водой.
Лучший на свете пес,
Но молодой.
Мир ему весь открыт:
Нюхать, кусать, трясти.
Только он спит и спит,
Чтобы расти.
Станет он ловок, быстр,
Будет катать детей.
Прыгать со мной до искр
Из-под когтей.
Будет могуч, умен,
Станет грозой врагу.
В общем, героя сон
Я стерегу.
Девушка и скрипка
Возле белой колонны в черном концертном зале:
Мы присели с мамой, куда нам тетеньки указали.
(Мама выдала мне пиджак и смахнула с него шерстинки
И сказала: какие кеды? Надень ботинки.)
Выходили люди, поблескивали очками
И водили смычками, а после цокали каблучками.
А потом вышла девушка, поклонилась и без улыбки
Заиграла на скрипке.
Заиграла на узкой скрипке.
Так она играла, что я все забыл и замер.
Так она играла, как будто я сдал экзамен,
Долетел до орбиты и вижу спину земного шара.
Так она играла, что публика не дышала.
Будто до разгадки тайны осталась самая малость.
Сердце ходуном ходило и долго не унималось.
И был строг ее профиль, и тонко было запястье.
И я видел, как сквозь нее проступало счастье.
И мы вышли на воздух, и мама меня спросила:
— По мороженому?
— Нет-нет, — я сказал.
Спасибо.
17 октября 2015
Прогулка
Квокка,
Выхухоль,
Тупайя
С пряниками в рюкзаках
В лес вошли, легко ступая,
И пошли смотреть закат.
День был свеж. Стояла осень.
Пахло хвоей и листвой.
И ходило между сосен
Солнце с белой головой.
Выхухоль сказала:
— Дамы,
Как мне нравится, когда мы
Выбираемся пройтись.
Столько красок!
Столько птиц!
На пригорке, на привале,
Глядя, как блестит река,
Чай по кружкам разливали
И глядели в облака.
— Девочки! —
Сказала квокка, —
С вами мне не одиноко.
Повезло мне в жизни сей
Повстречать таких друзей.
— Да уж, — молвила тупайя,
К угощенью приступая, —
Хорошо сидим втроем.
Может, что-нибудь споем?
Еж и белка, засыпая,
А над ними черный дрозд
Слушали из нор и гнезд:
Квокка,
Выхухоль,
Тупайя
Пели блюз
До первых звезд.
18 октября 2015
Великий день
День, когда увидел свет
Новый мой велосипед,
Должен быть в литературе
Обязательно воспет.
Он приехал к нам домой,
Чуть застенчивый, прямой
И немыслимо красивый.
И невероятно мой.
Он того, кто за рулем
Сразу делал королем.
Я на нем поехал к Тёме.
Я был, кажется, влюблен.
Мы помчались, голося,
Чтобы мне планета вся,
Вся огромная планета
ОБ ЗА ВИ ДО ВА ЛА СЯ.
Возмездие
Я в Вовкину руку вцепился как клещ
В тот день накануне каникул:
Он очень сказал мне обидную вещь
И трижды противно хихикал.
Я дрался в сто двадцать ротвейлерских сил
В тот день накануне каникул.
И Вовка упал, и прощенья просил,
И хныкал, и хныкал, и хныкал.
— Ты сам это начал, — сказал я ему
В тот день накануне каникул.
— Я знаю, — он всхлипнул, — зачем, не пойму.
И больше не пикал.
Не то чтоб я прямо карающий меч,
Но в гневе я, в общем-то, жуток.
Пусть все, кто здоровье желает сберечь,
Без гнусных обходятся шуток.
5 ноября 2015
Побег
Потеплело, и цветет
Мать-и-мачеха.
У Митюши не идет
Математика.
Потеплело, сходит лед
И безветрие.
Как тут алгебра пойдет,
Геометрия?
Гомон галок и грачей
В дом вторгается,
И Митюша, как ручей,
Низвергается —
Мимо сосен, мимо круч,
Да к кочевникам!
Оставляя только луч
Над учебником.
31 марта 2016
Случай с Егором Петровичем
Геккон Егор Петрович Шеин
Был молод и самонадеян.
Он шел походкой деловой
Над папиною головой.
Слегка небрежный, длиннолапый,
Он шел по потолку над папой:
Плевать хотел он, как геккон,
На гравитации закон.
Уже почти что целый месяц
То с душевого крана свесясь,
То из окна, то под стеной -
Он хитро наблюдал за мной.
Он был стремителен и жилист,
И мы почти что подружились,
Но папа вдруг, нипочему
Чихнул так громко, что ему
Упал на лоб Егор Петрович.
Орало будто сто чудовищ,
Объединившихся в союз.
А я?
Я все еще смеюсь.
19 апреля 2016
Помощник
Вот мама милая моя
Пришла писать статью.
Работает пускай, а я
Гнездо над ней совью.
Осилить нужно сто задач,
Пятьсот один вопрос.
С собой возьму я желтый мяч
И красный паровоз.
Она, конечно, скажет: «Слезь,
есть комната своя»,
Но ясно мне: я нужен здесь.
Мы всё-таки семья.
И если время спать пришло,
И наступает ночь:
Я не уйду — ей тяжело,
Я должен ей помочь.
Мы вместе выстоим в любой
Из бед и неудач.
— Не бойся, мама, я с тобой.
И паровоз.
И мяч.
20 мая 2016
Про волшебника
Я решил, что писатель, и сел за роман.
Взял бумаги из пачки, залез на диван
И заглавие вывел кривое.
— Что придумал? — спросил меня папа хитро,
Словно это так просто, как съездить в метро,
Но я только качал головою.
Слов и смыслов на свете большое число,
И я ждал, чтобы нужные мне принесло
Прихотливым течением мысли.
Я хотел, чтобы в книге моей над рекой
Неприметный был дом, а над домом покой,
И кленовые серьги нависли.
Я хотел, чтоб из дома с ведром за водой
Выходил бы волшебник с седой бородой,
С белым ястребом схожий обличьем.
Чтобы жил у волшебника огненный пес,
Чтобы ездил волшебник в тазу без колес, и легко говорил бы на птичьем.
Чтобы росший над домом волшебника клен
Помнил время, когда был волшебник влюблен,
И богат, и намерен жениться,
А кузен накануне женитьбы, чуть свет
У волшебника выкрал невесту, и след
Лишь оставил в высокой пшенице.
Он два месяца выл и не ел ничего,
А она очень быстро забыла его,
И тоска ее сердце не гложет.
И с тех пор он ступает бесшумно, как тать,
И проходит сквозь стены, и может летать,
А счастливым проснуться не может.
И он поит животных, когда суховей,
Заклинает заразу у малых детей
И уводит от пропасти стадо,
А она родила семерых сыновей,
Овдовела, согнулась, устала, и ей
Волшебства никакого не надо.
Он ступает с собакой по полю в росе,
И к нему прилетают и сходятся все:
И лиса, и медведь косолапый.
— Разбудить нам писателя, — слышно сквозь лес. —
Или может сегодня останется здесь? —
И скрывается сразу за папой.
09 июня 2016
Дерево стихов
Есть дерево, в лесу всего древней,
С опятами у кряжистых корней,
Поросшее лишайником и мхами,
В колючках, — просто так не подойдешь, —
Раз в год оно, как яблоками, сплошь
Тугими покрывается стихами.
Найти его немалых стоит сил,
Но папа каждый вечер приносил
Стихов из леса, с хвоей и золою:
Он складывал их горкой на столе,
Они горели, спелые, в тепле
И исходили терпкою смолою.
Они горели, радостные, здесь,
Проводники открытий и чудес,
Вели далеким и прекрасным садом.
Они умели исцелить от слез,
Открыть глаза, ответить на вопрос,
Который еще даже не был задан.
Все лето мы хватали наугад
Стихотворение, и каждый был богат
Без клада, каравана или жезла:
Другим на вкус был каждый новый плод.
Когда же мы вернулись через год —
Тропинка к тому дереву исчезла.
Дни наши стали скучны и тихи,
В лесу густом, без нас, росли стихи:
Те, что мы вместе слушали часами.
Но дерево волшебное во сне,
Все в серебре, является ко мне —
И разными смеется голосами.
08 августа 2016
Статьи
Когда отступает эго
Кто-то решит, что Вера Полозкова написала не урок информатики. Но это урок информатики. Хотя бы потому, что все написанное знаменитым поэтом vero4k’ой напрямую влияет на сетевое и цифровое пространство. К тому же Вера так ответственно подошла к задаче, что написала прозой. А это точно урок. И урок этот, судя по всему, многому научил как минимум одного человека — саму vero4k’у. Что безусловно отольется стихами, которые повлияют на цифровое пространство — и так далее.
С тех пор, как со сменой эпохи изрядно поблек пафос историй про пионеров-героев, Гулю Королеву, стахановское движение и доблестных контрразведчиков, как безоговорочный приоритет общественного над личным стал представляться нам крайне сомнительной доктриной, как основные войны начали разворачиваться не между армиями, а между телеканалами и корпорациями за право безраздельного владения человеческой волей — мы, кажется, окончательно утратили шкалу, каковой измерялся бы подвиг.
Раньше с этим было просто: направить собственный горящий самолет в самую гущу войск неприятеля, добыть за ночь двести тридцать тонн угля при норме в семь, вытащить пятьдесят человек с поля боя, не сдать своих под пыткой, раскрыть коварный заговор. И по другую сторону пропаганды — остаться человеком после десяти лет лагерей, не смалодушничать, пока тебя вербует Комитет, перебирая по очереди все болевые точки, и вообще — не бояться. Теперь как? Заработал миллиард и купил себе небольшой уютный федеральный округ? Десять лет на телевидении, и все еще не кокаиновый наркоман? Родил четвертого ребенка? Непонятно. Герои России — преимущественно спортсмены, чиновники и ветераны чеченских кампаний. Теперь, когда внешний сюжет окончательно перестал описывать нас, когда система прогнила так, что любые жесты как во имя нее, так и в знак протеста против нее — душный пиар и демагогия, когда никто не оценит попытки выдать десять рекламных слоганов за полчаса, потому что нужен все равно только один, — теперь все войны, стихийные бедствия, битвы тщеславий переехали из материального мира, где имели четкие законы и количественные эквиваленты, внутрь человеческой головы. И мы стали говорить о подвиге исключительно в пародийных коннотациях: совершить триумф воли и на пределе сил все-таки подняться с кровати. Сосредоточиться, сцепить зубы — и закрыть пасьянс «Косынка». Это не значит, что в нашей жизни подвигу не осталось места. Он просто утратил универсальность. Нет той измерительной системы, в которой он был бы безусловным для всех.
Духовный путь — как я себе это представляю — череда абсолютно невероятных выборов и решений. Человеческая природа желает погуще есть и послаще спать, и чтобы все было тихо, спокойно и одинаково. Душа хочет расти, преодолевать, открывать, учиться и осваивать противоположности. Этим многое объясняется: то, в каких непостижимых нашему уму людей мы имеем свойство влюбляться, то, какие дерзкие вызовы принимаем, на какие решаемся авантюры. Мы зачастую сами не в силах объяснить, что нами двигает. Мы не мазохисты, нет, не идиоты, не жертвы пресыщенности. Так просто надо, и все. Мама, мне надо уехать без обратного билета и начать все сначала. Я люблю эту диктатуру духа: в одно прекрасное утро тебе слишком приторно от того, какую безмятежную жизнь ты себе выстроил, и приходит пора все обрушить. Дружочек, говорит тебе кто-то изнутри, ты ведь здесь не для того, чтобы ничего не менялось. И тогда начинаются поиски, приключения, творческие муки и озарения.
Природа подвига — того же рода; нет ни одной рациональной причины так поступить, но иначе ты не можешь. Инстинкт самосохранения, логика и «подумай о своих детях» орут в тебе всеми сиренами разом, но ты выносишь людей из огня, прикрываешь своих собственным телом и отказываешься лгать на допросе. То есть подвиг — это когда локальную победу в тебе одерживает Бог, а не животное. Когда общее одерживает победу над частным. Когда эго отступает.
Поэтому, если бы мне нужно было написать рассказ о подвиге в нынешнее время, я написала бы о человеке, который узнает, что у него рак в терминальной стадии, но на протяжении последующих нескольких месяцев или лет своего угасания умудряется не выпить всю кровь из своей семьи собственным отчаянием и ужасом, а, наоборот, приходит к благодарности и смирению (я знаю таких людей). Я написала бы о том, как человек, которого пытались отравить, чтобы присвоить его бизнес, выживает и по длительному размышлению отказывается мстить своему отравителю, потому что у него мать пожилая, да и вообще, просто отказывается, хотя имеет все возможности и права (и такого знаю). Написала бы о человеке, у которого жена и двое маленьких детей, и он работает в небольшой конторе пиарщиком, а еще редактирует киносценарии. И ему нужно написать роман — так нужно, что он бросает работу, закладывает машину и отдает все деньги жене. И он пишет год с лишним, а она носит ему бумагу и сигареты, и когда он заканчивает роман, они должны уже всей округе. Чтобы отправить роман издателю, он продает ее миксер и фен. А она смеется и говорит: «Ну не хватало еще, чтобы роман оказался плохим» (это Маркес и жена Маркеса).
Вообще, каждый раз, когда выбираешь что-то чуть менее очевидное, чем руководствоваться первой реакцией, ты уже немножко пионер-герой. Каждое оскорбление в твой адрес, после которого ты ловишь себя на том, что искренне сочувствуешь оскорбляющему, или какой-то слишком легкий способ заработать деньги, которым тебе вдруг не хочется воспользоваться, — шаг, во-первых, к тому, чтобы прослыть чудаком, а во-вторых, на том самом духовном пути, как бы громко это ни звучало. Это не героев не стало, и подвиг не исчез, это просто официальная пропаганда никак не может понять, как ей работать с изменившийся шкалой ценностей, кого похвалить. Она этого не знает и не узнает, по крайней мере, пока не изменится. Но мы-то — мы в курсе.
13 апреля 2012
Опубликовано в журнале «Русский пионер» № 26.
Практика правды
Поэт Вера Полозкова — артистка. Один из самых известных блогеров Рунета (vero4ka и даже miss understanding) рассказывает о театре. Хотя какой это рассказ — это исповедь. Это Белинский, это Доронина, это новейшее «любителивытеатр» — немного оцифрованное, актуализированное, модернизированное. Но страстное, искреннее, беззащитное. Как всякая любовь.
Мне тоже всегда казалось, что театр создан для тех, кто легко имитирует, пародирует и передразнивает близко к оригиналу, что это большая машина иллюзии, — я училась на художественного критика и считала актеров существами, от природы склонными становиться кем угодно, кроме самих себя. До тех пор, пока в двадцать два театр не обступил меня и не спросил как раз об обратном — как сыграть, чтобы оказаться именно собой. Вообще, считать, будто «хорошо играть» равно «хорошо притворяться», что настоящий актер — этот тот, кто и в жизни постоянно меняет маски, перевоплощается, манипулируя эмоциями окружающих, — типичное заблуждение людей, непричастных к театру. Нам представляется нервическая требовательная красавица с причудами из рассказов Аверченко, про которую никогда невозможно понять, в какой момент она настоящая, — она постоянно разговаривает с тобой монологами из пьесы, которую репетирует в данный момент. На деле для того, чтобы одолеть, осилить, присвоить большую роль, чтобы поселить в себе целого отдельного персонажа, порой конфликтующего с тобой во всем — в манере формулировать мысли, двигаться, выбирать одежду, обращаться с людьми; чтобы занять не больше и не меньше своего места в спектакле, не заваливая всю его шаткую конструкцию, следовать за режиссерским решением, внимательно слушать партнера, — нужно быть предельно чистым, простым и ясным, отважным, чутким, свободным от гордыни человеком. Тот, кто занят только собой, всегда беспокоен, всегда кого-то копирует, всегда хочет казаться кем-то лучшим, — не сможет вырасти в настоящего актера: он глух и зажат, ему хочется только нравиться, только производить впечатление. В том, как люди говорят: «Отлично играет!» — мне слышится большая неправда; либо играет очевидно лучше всех своих партнеров, чем перетягивает на себя все внимание, либо нарочит, либо кривляется; когда играют по-настоящему отлично — тогда не играют. Тогда ты сидишь в зале и не можешь понять, почему она по сюжету просто выходит из натопленного дома зимой, а зябко — тебе. Как он, пока говорит, ни жестом, ни даже интонацией — одной паузой, одним движением челюсти выдает, что ненавидит собеседника. Когда играют отлично, тогда живут, все вместе, не по отдельности — ты будешь так заворожен, что не сможешь сформулировать, в чем или в ком именно магия, где ее источник. (Изнутри, за кулисами, то же самое: вы всегда, не сговариваясь, знаете — сыграли или нет. Все, какими бы разными ни были людьми, на время спектакля срастаются в один чуткий многоглазый организм, все становятся предельно зависимы друг от друга — и чувствуют одинаково: высекся огонь — или одна труха.) Театр для меня вообще антоним вранья, притворства, дешевой истерики или розыгрыша, всего того, про что нам в детстве говорили: «Ну, прямо театр!» — потому что там, под софитами, ты мал, одинок, гол, уязвим и проницаем, тебе не скрыть ничего: ни возраста, ни недостатков фигуры, ни бешеного волнения; то, чего ты больше всего стесняешься, будет кричать и резать глаза. Либо ты изучил все это в себе, проработал, принял и выходишь туда, на авансцену, сдаваться, как есть, — либо даже не рискуй. Мне вообще в смысле психотерапии и одновременно серьезной буддийской практики выпало четыре года играть самое невыносимое: собственные стихи. То есть, являясь автором, играть свою героиню. Одновременно наблюдая, как меня же, разложенную по голосам, по сюжетным линиям, играют еще несколько человек: не впрямую, естественно, не копируя мимику, но — говоря моим языком, проживая ситуации, бывшие в действительности и проросшие в тексты, как-то по-своему представляя себе, объясняя себе — вполне реальных, иногда сидевших в зале — адресатов моих стихов. Надо сказать, это служит мощнейшим катализатором взросления: в этом столько одновременно стыда, восторга и возможности отпустить, наконец, увидеть со стороны все то, что тебя мучает или мучило, все причины и следствия своих выборов и обид, целиком траекторию своего изменения, — а Эд Бояков беспощаден в формулировках и ставит задачу жестко, и там, где «Полно, деточка, не ломай о него ногтей;/ Поживи для себя, поправься, разбогатей,/ А потом найди себе там кого-нибудь без затей,/ Чтоб варить ему щи и рожать от него детей,/ А как все это вспомнишь — сплевывать и креститься», говорит: «Да, Гребенщикова, сыграй мне московскую эгоистичную бабу, которая искренне считает, что варить щи и рожать детей можно кому угодно, для этого не требуется душевного усилия, а она лучше, она создана для высокого страдания и всю жизнь будет этим упиваться». Вообще, слушать, что именно, в трактовке режиссера, происходит в твоих стихах, чтоб их потом точно сыграли, слушать и не дергаться — высокая медицина. «Театра» в том самом, общеупотребительном смысле во мне до прихода в «Практику» было больше в разы — в текстах в том числе; мне нравилась густая, киногеничная мука, вся ее богатая эстетика, мне нравилось дожимать — и доживать — и без того невеселые истории до их логической безысходности; еще меня страшно заботило, что обо мне подумают, и убивало, когда думали что-то не то. С некоторым же сценическим опытом приходит понимание, что самое страшное говорится простым, ровным голосом и только тогда — пронзает. Насколько важно не нравиться тоже, и возмущать, и вызывать недоумение — без этого неосуществима в зрителе никакая реальная внутренняя работа; без тетеньки, брезгливо вздувшей ноздри при резком словце, без другой, пунцовой от бешенства, выскакивающей из зала в середине спектакля («Жизнь удалась») и кричащей на девочку-билетершу, что за такое надо закрывать театр и сажать режиссера в тюрьму, — с публикой ничего не происходит, она никак не выдергивается из бесконечного конвейера потребления развлечений, которым является сегодняшняя жизнь, не сталкивается с собой, не включает механизма осмысления; большой день был тогда, когда после неудачных, на тройку, по мнению режиссера, «Избранных» в «Политеатре» на мое возражение: «Но ведь зал стоял, нас четыре раза на бис вызывали», — Эд сказал: «Иногда нужно, чтобы почти не хлопали. Но ушли с перевернутыми лицами», — и я его вдруг поняла: мы уронили градус, переиграли, что считается признаком большого актерского старания, нас щедро поощрили, но — не услышали. Когда ты услышал что-то, что тебя изменило, что тебе ответило на какой-то болезненный незаданный вопрос, хлопать не хочется; не хочется и обсуждать горячо. Хочется скорей на воздух и всю дорогу до дома обдумывать; постигать. Я пишу это после счастливой трехчасовой репетиции последнего в сезоне спектакля, который нам играть послезавтра; лекторий Политехнического, в котором «Политеатр», закрывается на реконструкцию, как и весь музей, в «Практике» теперь будет совсем другой репертуар, и мы с театром, кажется, расстаемся после сумасшедшего пятилетнего романа. Ему я — правда — обязана, возможно, самым большим счастьем, испытанным в жизни: все эти долгие читки в залитых солнцем репзалах, в спорах, словесных пикировках и озарениях, весь этот сладкий ужас, с которым вы за кулисами кладете после третьего звонка ледяные от волнения ладони одна поверх другой и говорите: «С Богом!», сверхчеловеческий слух, которым ты слышишь с высоты декорации на сцене, о чем именно шепчутся девицы в последнем ряду галерки посреди замершего зала, след от липкой ленты, которой микрофон крепится к уху и шее, не сходящий три дня, театральный буфет, где давно знают наперед все, что ты сейчас попросишь, и общее это, детское абсолютно чувство причастности к какой-то зримой магии, творящейся на глазах, — все это объяснило мне театр как лабораторию по поиску и выявлению правды и подлинности, такой, какой и в жизни немного, за всей ее бутафорией и мишурой. А еще убедило, что я теперь, где бы ни работала, поиска этого не оставлю.
05 июня 2013
Опубликовано в журнале «Русский пионер» № 37.
За тихую родину
Вера Полозкова — о единственном, согласно Андрею Тарковскому, виде путешествия, которое возможно: во внутренний мир. Потому что «путешествие по всему миру — это только символическое путешествие. И куда бы ты ни попал, ты продолжаешь искать свою душу».
История совершает внезапный пируэт, и вот уже мы, проходя мимо включенного телевизора, холодеем, застигнутые риторикой позднего сталинизма: происки мировой закулисы, загнивающий Запад, фашистская клика, подлая «пятая колонна», «национал-предатели» — всего за несколько месяцев 2014 года тоталитарный канцелярит восстал во всем своем ледяном сиянии, помноженный на этот раз еще и на русскую православную идею («Как дерзнул ты, нечестивый президент Обама, посягнуть на величие державы нашей, со своими американскими присными и европейскими подживотниками»). Вот уже, с целью запретить населению в адекватных происходящему выражениях обсудить ситуацию в стране, наскоро принят закон о запрете мата в СМИ, литературе, кино и театральных постановках; политический курс резко меняется, вместо сравнительной сытости, стабильности и возможности говорить что хочешь в обмен на послушание людям предлагается старая добрая национальная гордость в резиновых сапогах на босу ногу, и вырастает огромный запрос на новый патриотизм: Олимпиада, Крым, День Победы, жалко, все приходится делать очень быстро, некогда толком изобрести новый язык для воспевания нового славного Отечества, приходится выхватывать из сундуков старый, вытряхивая на ходу шарики нафталина, перешивать наспех, «с нами Путин и Христос», как пела десять лет назад группа «Несчастный случай», и тогда еще это было правда смешно.
Как человек, чье главное ремесло — язык, я смотрю на это со смесью иронии, ужаса и древнерусской тоски; половина моих друзей охотно переняла заданную интонацию и обещает не дать в обиду «землю отцов и дедов», другая половина кривится, передразнивает придворных ораторов и называет патриотизм прибежищем негодяев и оружием ксенофобии, а я думаю, что у нас впервые за много лет, хотя бы в качестве внутренней задачи, упражнения для ума, появилась возможность как-то вербализовать, осмыслить свои собственные отношения с этой территорией, ее историей, ее будущим, ее влиянием на нас: без ехидства, цинизма, пафоса, чувства вины, восторженных слез, как-то максимально здраво и честно. Сформулировать — каждому для себя — некий свод причин, почему мы такие и здесь.
Лично про мою родину, благодаря удивительному какому-то стечению обстоятельств, стали писать и снимать в шестидесятых. Замечательный музыкант Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», задумал недавно проект — посвящение неснятым фильмам тех лет и пригласил меня с ним поработать. Я читала по разным причинам не взятые в производство сценарии Шпаликова, Мотыля, Смирнова, Горенштейна и других и думала, что вот, наверное, в смеси бесконечной этой горечи, благодарности, муки, вины и удали и заключается общее между мной и страной, в которой я живу; ну, то есть «Дом с башенкой» (Горенштейна), или «Предчувствие» (Смирнова), или «Причал» (Шпаликова) — это максимально близкий ответ на вопрос, что у меня с родиной происходит. А потом, так как поток хлынул и его уже нельзя было остановить, я посмотрела впервые «Историю Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж» Кончаловского, «Иваново детство», «Андрея Рублева» и «Зеркало» Тарковского — как любой ребенок восьмидесятых, по фрагменту из каждого советского киношедевра я знаю наизусть, но до конца ничего досмотреть не удавалось: от телевизора гоняли, нужно было делать уроки. И вот вдруг все сложилось, встало на места: какой-то такой был волшебный воздух в стране, пережившей войну, похоронившей тирана, учившейся снова радоваться мелочам, жить моментом, слышать тонкости, малости, нюансы, быть чутким к ближнему, что удалось уловить, отразить какую-то неведомую до этого глубину, простоту и правду бытия. Врать так надоело, кричать и призывать было до того уже противоестественно, что в кино родилась удивительная эта, невообразимая раньше тишина, полная биения, света, тайны, всего на свете. Появились Юсов и Рерберг, поэты с кинооптикой, полноправные соавторы режиссеров, начался невероятный этот роман кино с русской глубинкой, ее природой, ее житейским юмором, отыскались невероятные эти фактуры, до этого считавшиеся грубыми, примитивными, и способы их показать — вода, древесина, стерня, покосившаяся изгородь; открылись потрясающие эти лица — юного Бурляева, Жарикова, Саввиной, Тереховой, Янковского, Солоницына, Ирмы Рауш, всех героев «Аси Клячиной», непрофессиональных актеров, жителей деревни, в которой снималась лента (невозможно было такое представить еще десятилетие назад); в общем, сияние какое-то пролилось с неба, заставив всех ахнуть и замереть, да так и захлебнулось потом, после знаменитых встреч Хрущева с интеллигенцией, после пражской весны 1968-го — навсегда. Но есть теперь язык, на котором хотелось бы говорить с близкими друзьями о том, для чего мы здесь. Это абсолютно бесценно.
У Тарковского была поразительная способность транслировать важнейшие, глубинные связи человека с его землей, родом и Богом без душного назидания, лубочности и непременного обозначения внешнего врага, призванного обострить чувство идентичности и сплотиться; у него был редчайший дар говорить об очень индивидуальном, частном, отдельном чувстве родины, без державного рыка, без похоронного завывания. Даже в «Солярисе», научно-фантастическом кино об условном будущем, в финале умудряются появиться озеро, дом, отец и реплика на «Возвращение блудного сына». (Станислав Лем, автор романа, страшно на это ругался: «Тарковский снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание». Когда я слышу о домике и острове, то чуть ли не выхожу из себя от возмущения».) Патриотизм, как я его себе мыслю, только и может быть таким — долгим, последовательным анализом того, что для тебя все эти образы и воспоминания, все эти разговоры и истории, родители и их песни, зачем этому всему — ты; поэтому в Италии снимается «Ностальгия», поэтому, собственно, совершенно не важно даже, где ты работаешь, какие имена носят твои герои, какие пейзажи лежат за окном. «Есть только один вид путешествия, которое возможно, — говорит Тарковский в одном из интервью, — в наш внутренний мир. Путешествие по всему миру — это только символическое путешествие. И куда бы ты ни попал, ты продолжаешь искать свою душу».
В ситуации, когда всякий носитель отличного мнения — враг, всякий уехавший — дезертир и предатель, недостойный считаться русским, всякий талант измеряется лишь готовностью воспевать режим (а не можешь — так бездарь), хочется почаще смотреть Тарковского (многократно обвиненного ЦК в попытках изменить родине): эта любовь всегда была только к людям и историям, передавала вкус воды и ветра из детства, никого не собирала под знамена, не гордилась трагедиями, не оправдывала зверств, не поучала, не спорила и оставила нам высокие образцы благодарности, силы и мудрости: если у человека действительно есть корни и он их чувствует, он совершенно устойчив и иммунен к любым силам, пытающимся использовать его ради собственных выгод, оболгать, вывернуть, сделать рупором своих идей. За эту частную, далекую, тихую родину, на которую можно вернуться с этой, — спасибо Тарковскому.
16 июня 2014
Опубликовано в журнале «Русский пионер» № 47.
Единицы
Поэт Вера Полозкова признается читателям нашего журнала, что должна была родиться, конечно, Федором, да вот не вышло. А о том, что вышло и как все ее боги постепенно перестали взаимно исключать друг друга и начали помогать друг другу и Вере, — в колонке для «РП».
Я ДОЛЖНА была быть Федором. УЗИ тогда делали редко, и оно считалось вредным: когда маме в роддоме показали кареглазую лохматую девчонку, мама несколько растерялась. В палату приносили открытки «Поздравляем с Федорой!». Месяц примерно я пробыла, для простоты, «девочкой моей», а потом стала наконец Верой.
Верой Николаевной Комиссаржевской была моя бабушка — из тех самых Комиссаржевских, восходивших к Вере Федоровне. Все девочки в роду — Веры или Надежды, все мальчики — Николаи или Федоры. Мама с папой, Колей Комиссаржевским, женаты не были и на момент моего рождения уже расстались. Но я была настолько в папину породу, что сомнений в выборе не оставалось.
Это древнее и редкое имя; в детстве среди радостного изобилия Наташ, Кать и Насть я знала всего одну свою тезку, и это мне нравилось; еще меня радовало, что из лаконичного моего имени почти невозможно нарезать сомнительных кратких форм вроде Шуры, или Аси, или Милы. Зато каждый из близких маминых и моих друзей изобретал какую-то свою ласкательную: из жизнеутверждающего Верунчик или Верун, которым я проходила все детство, впоследствии спрессовался емкий Врун, который многое отражал: в частности, сильную мою склонность преувеличивать и присочинять.
И именины мои, делимые с Надеждой, Любовью и Софьей, усиливали ощущение причастности к некой древности; в русском языке всего три женских имени, означающих, без перевода, некоторые сущностные понятия, и мне будто досталось представлять самое суровое и принципиальное, не терпящее шуток и сантиментов. В том, как меня назвали, заключался важный вопрос, на который мне предстояло найти ответ.
Дети набожны: мировосприятие их подразумевает постоянное, почти зримое присутствие Того, Кто Все Так Придумал; православная русская обрядность, ритуальность и подавно завораживает детей, заставляет их воображение бешено работать; мой первый в жизни стихотворный текст, продиктованный маме в возрасте лет пяти, был про персонажа по имени Воскрес (мне казалось, это все один и тот же человек — Иисус, Христос и Воскрес): «Воскрес владелец мира, Воскрес и есть таков». Бога во внутреннем содержании детства было очень много, диалогом, а то и спором с воображаемой его фигурой, сближающейся с идеальной отцовской, наполнены были сны и размышления; все вопросы были об этом: как это, если Он есть, столько еще зла, куда Он прячет прошлое, каким Ему все это кажется со стороны? В третьем классе в школе начались «Мифы Древней Греции», а с ними отдельная вселенная, где богов множество, далеко не все из них бывают правы, каждое их движение непосредственно отражается на мире людей, и жить им поэтому ох как непросто, но невероятно интересно. В тринадцать лет я окончательно определилась с профессией и поступила в школу юного журналиста при журфаке МГУ, где среди прочей рекомендованной к прочтению литературы был «Сиддхартха» Гессе.
Так строгая, подчиненная вертикали христианская парадигма мироощущения дала крен, появился и засуществовал внутри еще один Бог, повелитель горизонтали, вещавший на каких-то совсем других частотах, и в церковь я ходить перестала (за что мама на мою преподавательницу еще долго имела зуб).
Впоследствии мне предстояло в двадцать два, как астронавту, приземлиться в Индии и проехать ее по диагонали, чтобы быть представленной еще десятку-другому могущественных божеств, близко подружиться с буддистами, а затем оказаться в невероятном паломничестве по Непалу и Вриндавану с вайшнавами, чтобы дождаться и пронаблюдать, как все мои боги понемногу перестают взаимно исключать друг друга, а начинают быть лицами одной силы, одного закона, который никогда не переставал быть и которого все мы — только мелкие следствия.
Один мудрый человек, монах, духовный учитель из тех немногих, что составляют ум и сердце любого верования, как-то сказал мне, что меня никогда не удовлетворит никакая готовая религиозная система, никакой заведомый набор ответов на вопросы и аксиом, что я из тех, кто всю жизнь по крупицам собирает свою собственную религию, пробуя все и сомневаясь в каждой, и что это и будет, в общих чертах, центральной задачей моего существования — с чем он меня и поздравляет, такие ему всегда нравились, он сам в какой-то мере из таких, поэтому ему так чужды любые религиозные фанатики.
Тогда мне стало не страшно: раньше мне казалось, что этот мучительный поиск обязательно должен приводить к какой-то математической однозначности, точной цифре. Теперь чем дольше я наблюдаю за людьми, тем милее мне вечные вольноопределяющиеся: крестящие детей и цитирующие древних суфиев, урожденные мусульмане, а в зрелости мастера цигун, последователи китайских учителей дзен, свободно ориентирующиеся в текстах прославленных католических богословов; Борис Борисович Гребенщиков, из выпуска в выпуск своей программы «Аэростат» поднимающий все новые и новые неизвестные труды мудрых всех народов и времен, твердящие в основном о том, как важно жить текущим моментом, настаивать на любви и не слишком обольщаться насчет вещественного мира. Теперь религиозные споры утратили для меня былую остроту, возможность установления какой-то новой, максимально близкой границы истины.
Мне достаточно посмотреть, как человек общается со своим ребенком, чтобы понять, в каких примерно он отношениях с вечностью: даже если он закоренелый материалист, для которого нет ни кармы, ни Аида, ни Страшного суда, Бог может населять его ничуть не в меньшей степени, чем моего знакомого садху из Вриндавана или батюшку из Переславля, — потому что он искренне служит людям, предан любимому ремеслу, помнит о собственной малости в масштабе вселенной и оттого, как правило, легок, беспечен и хорошо смеется. Вот по этому смеху я и узнаю своих, одноверцев: он одновременно и свидетельство способности изумляться стройности Господнего замысла, и доверие ему, и констатация собственной незначительности, но и редкой удачливости: ведь все это явлено всем в равной степени, а радоваться умеют — единицы.
08 сентября 2014
Опубликовано в журнале «Русский пионер» № 48.
Взмечтательность
Поэт Вера Полозкова не просто пишет стихи в прозе для «РП». Она пишет то, что думает, причем именно в тот момент, когда пишет. То есть в своих колонках она добирается до чего-то очень важного для себя. У читателей «РП» есть такая же возможность, причем у них нет необходимости выкладываться (а вернее, выкладывать всю себя — на страницы журнала) так же, как это делает Вера Полозкова.
«МНЕ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, Иван, — писала я как-то на пятом курсе своему преподавателю по теории коммуникации, — через полгода я заканчиваю факультет журналистики МГУ, кафедру художественной культуры, и моя подруга Чуковская утверждает, что я человек неограниченных возможностей; я не бездарь, в русском сегменте Живого Журнала у меня около полутора тысяч постоянных читателей, и некоторые уважаемые люди прочат мне весьма даже будущность; я собираю книгу стихов к весне, уже не совсем первую; в качестве летних практик мне засчитывали рецензии в «Книжном обозрении» и «Афише», эссе в «Искре-Spark»; я поработала в искусствоведческой программе на телевидении, попубликовалась немножко в хороших женских журналах; на прошлой неделе мы с одногруппницами отпраздновали наш последний звонок, окончание всех семинаров и лекций, и это означает, что теперь я могу позволить себе любой полноценный, серьезный фуллтайм — однако, Иван, я решительно не имею понятия, кем хочу стать и что именно мне нужно делать по жизни.
Я не вижу себя в глянце, самозабвение точеных редакторш в баночках, тряпочках и ста пятидесяти трех мужских постельных комплексах совершенно недоступно мне, смертной; я никоим образом не репортер, не новостник, не правдоруб, не правовед, не экономист, не охотник до желтизны, до крови, до политики, до светских сплетен; я, вероятнее всего, спокойный художественный критик, книжки, фильмы, спектакли, музыка — я чувствую нюансы и хорошо пишу, но не эксперт, не эрудит, не блестящий знаток какой-то конкретной из этих областей, поэтому в журнале мечты я еще года три была бы девочкой на подхвате, а в других местах втрое скучнее и почти ничего не платят».
«Я чувствую себя мошенницей», — писала я через полгода.
«Все как-то рьяно мечтают, а тебе уже, в общем, не о чем. Все грезят о чем-то большем, недостижимом, вожделенном, а ты как-то довольно быстро понял всему цену, везде был, на всех посмотрел, и все это больше не составляет для тебя никакой новизны и тайны — ни шоу-бизнес, ни Рублевка, ни литературные кулуары, ни прославленные редакции. Ни из-под какой двери больше не льется загадочного сияния. Ты уяснил для себя основные принципы, механизмы, методы, ты можешь в любой момент пойти куда хочешь, тебя везде возьмут — вот только ты никуда не хочешь и ничего как-то, в общем, не ждешь.
Ты знаешь, на что ты можешь рассчитывать, ты можешь сейчас, для разнообразия, написать диплом, съездить поучиться за границу, издать книжку, одну, другую. Изменятся только качественные и количественные характеристики: больше бабла, отточеннее стиль, свободнее жанровые границы. Начнется ленивое почивание на лаврах; долгие, преснеющие, изнурительные самоповторы.
В школу в шесть, в экстернат в четырнадцать, в университет в пятнадцать, быстрей-быстрей, и жить торопится, и чувствовать спешит, а в результате в двадцать, когда все ждут от тебя ну совсем взрослых свершений и подвигов, ты разворачиваешься на сто восемьдесят и идешь бухать, кутить и веселиться, потому что, во-первых, впахивать тебе откровенно не хочется, а во-вторых, если все сделать сейчас, можно спокойно помирать в двадцать пять — абсолютно состоявшимся человеком. А что тебе делать, когда ты греб-греб до Эльдорадо что было сил, пригреб — даже нет: мечтал-мечтал, а тут оно все на тебя последовательно свалилось, — ты осмотрелся, покивал, мол, да, действительно, молочные реки, кисельные берега, сапфиры и рубины можно горстями пихать в карманы, королевская династия жмет тебе руки; но в целом все так же, как и везде, в два дня приедается, делается скучно и приторно; а это ведь было все, чему ты не позволял проглядываться даже в самых смелых фантазиях».
Я читаю это теперь с большим умилением: в двадцать лет «мечта» окончательно исчерпала себя как идея первенства в любом из социальных соревнований («Карьера», «Образование», «Признание в профессиональном сообществе», «Кто твои друзья»), и это было, конечно, разочарование и крах. Это что, все? Так просто, что ли? Я всерьез мечтала поступить в МГУ — ушла в экстернат и окончила два класса за год, чтобы поскорей. Я грезила поработать в нескольких особенно культовых тогда изданиях. У меня были кумиры, теперь я знала лично многих из них. Все получилось. Все стоило втрое меньших усилий, чем грозилось. Ничто не принесло и тени умиротворения.
Деньги не были для меня хоть сколько-нибудь целью даже в девятнадцать, когда их не было вообще. Машины у меня нет до сих пор: никогда не хотелось. Квартиру я снимаю. «Завести семью» вообще никак не могло быть мечтой мыслящего человека, тогда казалось, это может всякий, для этого не требуется никакой избранности. По-настоящему, жгуче хотелось славы: преимущественно как универсального способа бесконтактно утереть нос всем тем, кто в меня так обидно не верил в юности. Жаль, никто не предупредил меня, что у этого лекарства от собственной ничтожности такое количество побочных эффектов.
Теперь, когда пережиты и мучительное подростковое тщеславие, и жажда отыграться, и приступы ревности к каждому, кто в чем-то величина, если мне и доводится мечтать, то только о небольшом, персональном бессмертии. Бессмертия нашему брату выдают ровно двух видов: великие книги и любимые дети. Оба — плоды кропотливого, самоотверженного, подробного труда. В обоих поровну Бога и тебя, волшебства и повседневного усердия: ты только проводник и книгам, и детям, никакой, конечно, не хозяин, не директор, но только от твоей чистоты, дисциплины и мудрости зависит, насколько чисто ты обрабатываешь и передаешь Господни сигналы. Насколько мало создаешь им в пути помех.
«Поэтому, — пишу я теперь, восемь лет спустя, в постах для друзей, — я никогда не завидую чужому баблу — ни на какое бабло не купишь любящего отца, ненормальных друзей юности с тем же диагнозом, что и твой, или собственную великую книгу, написанную сравнительно молодым, а все остальное в целом тщета; и никогда — любви и семье, потому что это очень много прежде всего работы над собой (тебя топтали в детстве — а ты растишь целых, непуганых детей, тебе приказывали — а ты договариваешься, тебя предавали — а ты своих не сдаешь), но мучительно завидую творческому бесстрашию и упорству, которого мне досталось очень мало. Я вообще не умею толком последовательно работать, у меня ненасытный внутренний критик, и каждому, кто способен по пять часов ежедневно рисовать, сочинять музыку или расписывать эпизоды, — я завидую, как душный бездарь, до икоты. Я завидую даже законченным графоманам: пока они пишут — а пишут они помногу, — они совершенно счастливы. Мне очень до них далеко. И вообще, единственный навык, который гарантированно приводит к счастью, — это умение пахать без продыху, бурить, пока не хлынет ключевая вода, а она обязательно в какой-то момент прорывается. Я была хваткая, очень легко по верхам запоминала, никогда особенно не корпела над уроками, чтобы хорошо учиться, имела богатое воображение и теперь по всем показателям проигрываю людям, у которых все это время была просто_каменная_задница».
«Ерунда, — пишет мне в комментариях мой друг художник, тоже рассчитывающий на свою небольшую порцию бессмертия, но слишком ленивый даже для того, чтобы подать на него заявку. — Все должно прийти само. Я вот жду, когда найду в лесу целый КамАЗ гениальных картин и выдам их за свои».
А я мечтаю о таблетке, как в фильме Limitless, после которой весь заветный, годами выстраданный текст хлынет с потолка и я за неделю, не вставая из-за стола и на восемь кило похудев, напишу книгу, о которой мечтаю. И сразу, конечно, детокс и отпуск, ни-ни. И только через полгода — еще разок.
«А что ты делаешь для сбычи мечт? Я вот в надежде на КамАЗ каждый день гуляю по лесу».
Каждый раз, когда ресница падает, часы и минуты на электронных часах совпадают или экскурсовод указывает место, где загадывают желания, я говорю «Написать пьесу» или «Написать сказку», а потом сижу и долго жду когда. Это было бы даже смешно, если б не было такой идиотской правдой.
О, мы люди, для которых изобрели поговорку: «Есть мечта — беги к ней. Не можешь бежать — иди к ней. Не можешь идти — ползи к ней. Не можешь ползти — ляг и лежи в сторону мечты». Мы производим тысячи движений в десятках направлений и кажемся себе и прочим невероятно деятельными людьми, но правда в том, что все это время мы лежим с травинкой в зубах, щурясь на облака, строго в направлении мечты, изредка перебрасываясь краткими остротами. Когда мы были очень юны, мы мечтали с такой страстью и яростью, что, когда все — в несколько лет — сбылось, мы не знали, куда нам укрыться от наших осуществившихся желаний. Теперь мы никуда не торопимся. Мы смакуем. Мы вспоминаем, как мы это славно умели в детстве — предвкушать. В мире, где люди этому совсем разучились — возьмите кредит, не откладывайте, повышайте эффективность, покоряйте, рвитесь на британский флаг, здесь и сейчас, вы этого достойны, — мы только праздные созерцатели, певцы прокрастинации, математические погрешности, вечные неоправдыватели больших надежд. Потому что мечта — это процесс, конечно, никакой не результат. Результат длится сорок секунд осознания, что процесс завершен, далее следуют месяцы пустоты и поиска новых целей. Мы не спешим. Мы сочиняем оскаровские, букеровские и нобелевские речи. Мы успеем.
13 октября 2014
Опубликовано в журнале «Русский пионер» № 49.

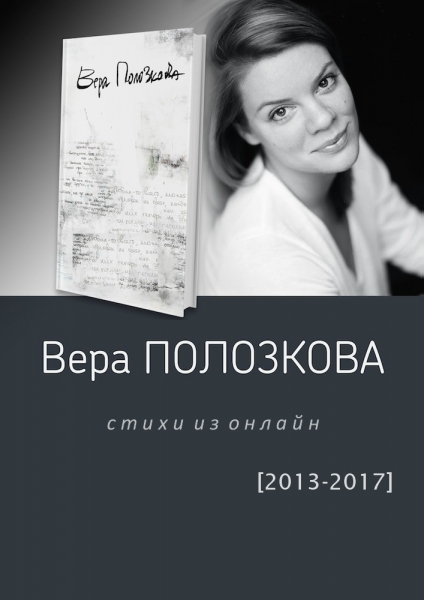


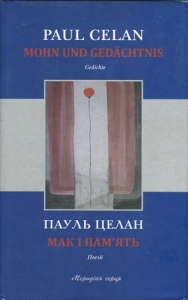
Комментарии к книге «Стихи из онлайн (2013-2017)», Вера Николаевна Полозкова
Всего 0 комментариев