Бертольд БРЕХТ ПЕСНЯ ЕДИНОГО ФРОНТА Книга стихов и прозы
СОДЕРЖАНИЕ
Гимн Коминтерна
БРЕХТ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Речь в Кремле при получении Ленинской премии «За укрепление мира и взаимопонимания между народами». Перевод Е. Михелевич
БРЕХТ ПРЕДЛАГАЕТ ВНИКНУТЬ В СТИХОТВОРНЫЕ СТРОКИ
Непобедимая надпись. Перевод К. Орешина
Песня единого фронта. Перевод С. и Т. Сикорских
Баллада о водяном колесе. Перевод С. Кирсанова
Песня о восьмом слоне. Перевод Б. Слуцкого
Хвала коммунизму. Перевод С. Третьякова
Сон о великой смутьянке. Перевод Вл. Нейштадта
Посещение изгнанных поэтов. Перевод Б. Слуцкого
Вопросы читающего рабочего. Перевод И. Моисеева
Что получила жена солдата?.. Перевод Е. Эткинда
Изгнанный по веским причинам. Перевод Е. Эткинда
Актриса в изгнании. Перевод А. Исаевой
Мысли о длительности изгнания. Перевод Е. Эткинда
1940 год. Перевод К. Орешина
К потомкам. Перевод Е. Эткинда
Тополь на Карлсплац. Перевод К. Орешина
Занавесы. Перевод Е. Зткинда
Радость начала. Перевод Е. Эткинда
Одно не чета другому. Перевод К. Орешина
Слива. Перевод К. Орешина
Зимний разговор через форточку. Перевод К. Орешина
Песня о счастье. Перевод К. Орешина
БРЕХТ РАССКАЗЫВАЕТ
Плащ еретика. Перевод К. Орешина
Опыт. Перевод С. и Э. Львовых
Непутевая старуха. Перевод С. и Э. Львовых
Финский помещик. Перевод Р. Райт, С. Болотина, Т. Сикорской
Солдат из Ла Сьота. Перевод С. и Э. Львовых
Упрямый сын. Перевод Р. Райт, С. Болотина, Т. Сикорской
БРЕХТ ПЕРЕДАЕТ СЛОВО ГОСПОДИНУ КОЙНЕРУ, СКЛОННОМУ НЕ ТОЛЬКО ШУТИТЬ
Если бы акулы были людьми. Перевод Е. Эткинда
Форма и содержание. Перевод Э. Львовой
Господин К. и кошки. Перевод К. Орешина
Если господину К. нравится человек. Перевод Е. Эткинда
Успех. Перевод К. Орешина
Похвала. Перевод Е. Эткинда
Убедительные вопросы. Перевод К. Орешина
Дисциплина. Перевод Е. Эткинда
Дружеская услуга. Перевод К. Орешина
БРЕХТ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ИСКУССТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
Народность и реализм. Перевод Е. Михелевич
Лирическому поэту не нужно бояться разума. Перевод Е. Эткинда
О чистом искусстве. Перевод Е. Эткинда
Старая шляпа. Перевод Э. Львовой
Восприятие искусства и искусство восприятия. Перевод В. Клюева
Удовлетворенность. Перевод В. Клюева
Конгрессу народов в защиту мира. Перевод Н. Португалова
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Да — коммунизму, нет — войне!
ГИМН КОМИНТЕРНА
Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте! Проверьте прицел, заряжайте ружье, На бой пролетарий за дело свое! Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных! Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах Не страшен нам белый фашистский террор. Все страны охватит восстанья костер. На зов Коминтерна стальными рядами, Под знамя советов, под красное знамя! Мы Красного фронта отряд боевой, И мы не отсупим с пути своего. Огонь ленинизма наш путь освещает, На штурм капитала весь мир поднимает, Два класса столкнулись в последнем бою. Наш лозунг - Всемирный Советский Союз. Заводы вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте! Проверьте прицел, заряжайте ружье, На бой пролетарий за дело свое!Перевод И.Френкеля
БРЕХТ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
РЕЧЬ В КРЕМЛЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ»
Одна из самых замечательных традиций вашей страны, Советского Союза, — ежегодное присуждение ряду лиц премии за заслуги в деле сохранения мира во всем мире. Эта премия представляется мне высшей и, пожалуй, наиболее почетной наградой из всех существующих ныне. Что бы ни пытались внушить народам, они твердо знают: мир — это альфа и омега всякой деятельности на благо человека, всего процесса производства материальных ценностей, всех видов искусств, в том числе и искусства жить на земле.
Мне было девятнадцать лет, когда я услышал о вашей великой революции, двадцать — когда я увидел отблески ее великого пламени на своей родине.
Я был санитаром в одном из военных госпиталей Аугсбурга. Казармы и даже госпитали опустели. Старинный город друг заполнился новыми людьми, огромными бурлящими толпами, повалившими из предместий в чопорные кварталы богачей, чиновников и коммерсантов. В течение нескольких дней женщины из рабочих семей заседали в наскоро созданных советах и командовали молодыми рабочими в солдатских шинелях, а фабриками управляли также рабочие.
Всего несколько дней, но каких! Все так и рвутся в бой, но в то же время и жаждут мира, созидательной деятельности.
Как вам известно, борьба эта не увенчалась победой, и вам известно почему. В последовавшие затем годы Веймарской республики произведения классиков социализма, возродившиеся к новой жизни благодаря Великому Октябрю, и сообщения о смелом строительстве нового общества в вашей стране сделали меня горячим сторонником этих идеалов и обогатили меня знаниями.
Самым важным для меня было сознание того, что будущее человечества можно предвидеть лишь «снизу», лишь встав на точку зрения угнетенных и эксплуатируемых. Лишь борясь в их рядах, можно бороться за все человечество.
Отгремела чудовищная война, назревала еще более чудовищная. Отсюда, снизу, были отчетливо видны тайные причины этих войн; этому классу приходилось расплачиваться за них — как за проигранные, так и за выигранные. Здесь, в самых низах, и мир оборачивался войной.
И в сфере производства, и вне ее царило насилие. То открытое — как мощь реки, прорывающей плотину, то скрытое — как мощь плотины, обуздывающей реку. Дело заключалось не только в том, производить ли пушки или плуги, — в борьбе за цены на хлеб плуги играют роль пушек. В постоянной ожесточенной борьбе классов за средства производства периоды относительного мира — это лишь передышки между битвами. Не какая-то стихия разрушения и войны то и дело врывается в мирный процесс производства, а само производство основано на принципе разрушения и войны.
При капитализме люди всю жизнь ведут борьбу за существование — друг против друга. Родители враждуют из-за детей, дети — из-за наследства, мелкие торговцы борются за свои лавки между собой, и все вместе — против крупных воротил. Крестьянин воюет с горожанином, школьники — с учителем, народ — с властями, фабрики — с банками, концерны — с концернами. Как же тут народам не воевать друг с другом!
Народы, добившиеся для себя социалистической экономики, находится в изумительных для дела мира условиях. Движущие людьми стимулы приобретают мирный характер. Борьба всех против всех превращается в борьбу всех за всех. Приносящий пользу обществу приносит пользу и себе. Приносящий пользу себе приносит пользу обществу.
Хорошо живется полезным членам общества, а не вредным для него, как было прежде. Достижения науки уже больше не козыри в азартной игре, они не утаиваются, а делаются достоянием всех. Технические изобретения внушают радость и надежду, а не ужас и смятение, как прежде.
Мне пришлось пережить две мировые войны. Теперь, на пороге старости, я знаю, что вновь готовится страшная война. Но четвертая часть человечества занята мирным строительством. И в других странах идеи социализма пробивают себе дорогу.
Повсюду на земле простые люди страстно желают мира. Многие представители интеллигентных профессий также и в капиталистических странах, в разной степени осознавая происходящее, борются за мир. Но наша главная надежда в борьбе за мир — это рабочие и крестьяне социалистических стран и стран капитализма.
Да здравствует мир! Да здравствует ваша великая мирная держава, государство рабочих и крестьян!
25 мая 1955 г.
БРЕХТ ПРЕДЛАГАЕТ ВНИКНУТЬ В СТИХОТВОРНЫЕ СТРОКИ
НЕПОБЕДИМАЯ НАДПИСЬ
Во времена мировой войны В итальянской тюрьме Сан-Карло, Переполненной бродягами и пропойцами, Солдат, убежденный социалист, вывел карандашом на стене: СЛАВА ЛЕНИНУ! В самом верху полутемной камеры Огромные буквы были едва заметны. Стража их разглядела. Пришел с ведром известки маляр И надпись грозную закрасил предлинной кистью. Он закрашивал, обводя прилежно каждую букву, И возникла известковая надпись: СЛАВА ЛЕНИНУ! Прислали другого, с широкой кистью, И на время буквы исчезли, но ближе к утру, Когда побелка просохла, сквозь нее проступило снова: СЛАВА ЛЕНИНУ! Был прислан каменщик. Инструментом стальным Час битый вырубал он букву за буквой, А когда покончил с последней, В глубь стены вросла непобедимая надпись: СЛАВА ЛЕНИНУ! — Теперь крушите стену! — сказал солдат.1926
ПЕСНЯ ЕДИНОГО ФРОНТА
И так как все мы люди, То должны мы — извините! — что-то есть. Хотят накормить нас пустой болтовней — К чертям! Спасибо за честь! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам! И так как все мы люди, Не дадим нас бить в лицо сапогом. Никто на других не поднимет плеть И сам не будет рабом! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам! И так как ты рабочий, То не жди, что нам поможет другой: Себе мы свободу добудем в бою Своей рабочей рукой! Марш левой! Два! Три! Марш левой! Два! Три! Встань в ряды, товарищ, к нам! Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, Потому что рабочий ты сам!БАЛЛАДА О ВОДЯНОМ КОЛЕСЕ
О великих в этом мире Нам легенда сообщила, Что они, как звезды, всходят И заходят, как светила. Утешает знанье этих песен, Но для нас, дающих пить и есть им, Безразличны их закаты и восходы. Кто несет издержки и расходы? Колесо кружится дальше с визгом, Сверху вниз ступенек быстрый бег. Но воде в ее движенье низком Только двигать колесо вовек. Мы господ имели много, Среди них гиены были, Тигры, коршуны и свиньи, Мы и тех и тех кормили. Все равно — получше ли, похуже! Ах, сапог подходит к сапогу же! Он топтал нас; вы поймете сами — Хорошо б покончить с господами. Колесо кружится дальше с визгом, Сверху вниз ступенек быстрый бег. Но воде в ее движенье низком Только двигать колесо вовек. Они грызлись за добычу И ломали лбы и ребра, Звали прочих жадным быдлом, А себя — народом добрым. Мы их видим в драке и в раздоре, Вечно в споре. Стоит нам подняться И кормежки их лишить, как вскоре, Спор забыв, они объединятся. Ведь тогда и колесо застрянет. Баста! Хоть рукой его верти! И вода с могучей силой станет Мчать себя лишь на своем пути.1933
ПЕСНЯ О ВОСЬМОМ СЛОНЕ
Семерых слонов имеет господин. Сверх того — восьмым он обладает. Семеро дики. Восьмой — ручной. Он за семерыми наблюдает. Рысью, побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов корчуют лес. На восьмом — их господин гарцует. День-деньской наблюдал восьмой, Как они, усердно ли корчуют. Тащите побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов больше не хотят. Больше к пням они не подступают. Господин пришел. Был он очень зол. Он восьмому рису подсыпает. Как это понять? Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу! Семеро слонов лишены клыков. Только у восьмого клык остался. Он к слонам идет. Смертным боем бьет. Господин увидел — засмеялся. Тащите побыстрей! Ни пня не оставлять в лесу! Вы все должны раскорчевать, А ночь уж на носу!ХВАЛА КОММУНИЗМУ
Он разумен, он всем понятен. Он так прост. Ты не кровопийца ведь. Ты его постигнешь. Он нужен тебе как хлеб, торопись узнать его. Глупцы зовут его глупым, злодеи зовут его злым, А он против зла и против глупости. Обиралы кричат о нем: «Преступленье!» А мы знаем: В нем конец всех преступлений. Он не безумие, но Конец безумия. Он не загадка, но Решенье загадки. Он — то простое, Что трудно совершить.СОН О ВЕЛИКОЙ СМУТЬЯНКЕ (Из "Немецких сатир")
Я видел сон: На площади против Оперы, Где коричневый маляр [1] держал очередную историческую речь, Очутилась вдруг огромная, с добрую гору, картофелина И тоже обратилась с речью К собравшемуся народу. «Я, — говорила она грустным голосом, — Явилась, чтобы предостеречь вас. Конечно, Мне ведомо, что я всего-навсего картофелина, Незначительная персона. В книгах по истории Обо мне почти не упоминают. В высших кругах Я не пользуюсь влиянием. Когда речь заходит О высоких материях — о чести, о славе, — я Принуждена уступить место. Считается неблагородным предпочитать меня славе. Но Я все же многим помогла перебиться в этой долине слез. Теперь выбирайте Между мной и этим маляром. Решайте: Он или я. Если вы предпочтете того, Вы лишитесь меня. Если вам нужна я, Вам придется изгнать того. И я говорю вам: Не слушайте слишком долго его, А то он успеет уничтожить меня. Пусть он угрожает вам Смертью за возмущение против него, но заметьте себе: Без меня вы и дети ваши тоже обречены на смерть». Так говорила картофелина, И пока маляр продолжал свой рев в Опере, Слышимый всему народу через громкоговорители, Она тут же начала демонстрировать Жуткий опыт, видимый всему народу: С каждым словом маляра она сморщивалась, Становилась все меньше, дряннее и гнилее.[1] Так Брехт называет Гитлера, который в молодости пытался стать художником.
ПОСЕЩЕНИЕ ИЗГНАННЫХ ПОЭТОВ
Когда — во сне — он вошел в хижину Изгнанных поэтов, В ту, что рядом с хижиной Изгнанных теоретиков (оттуда доносились смех и споры), Овидий вышел навстречу ему и вполголоса сказал на пороге: «Покуда лучше не садись. Ведь ты еще не умер. Кто знает, Не вернешься ли ты еще назад?! И все пойдет по-прежнему, Кроме того, Что ты сам не будешь прежним». Однако улыбающийся Бо Цзюи заметил, глядя сочувственно: «Любой заслуживает строгости, кто хотя бы однажды Назвал несправедливость — несправедливостью». А его друг Ду Фу тихо промолвил: «Понимаешь, Изгнание не место, где можно отучиться от высокомерия». Однако земной, совершенно оборванный, Вийон предстал перед ним И спросил: «Сколько Выходов в твоем доме?» А Данте отвел его в сторону, взял за рукав и пробормотал: «Твои стихи, Дружище, кишат погрешностями, подумай о тех, В сравнении с которыми ты — ничто!» Но Вольтер прервал его: «Не забывай про деньжата, Не то тебя уморят голодом!» — «И вставляй шуточки!» — воскликнул Гейне. «Это не помогает, — Огрызнулся Шекспир. — С приходом Якова И я не мог больше писать». — «Если дойдет до суда, бери в адвокаты мошенника! — посоветовал Еврипид. — Чтобы знал дыры в сетях закона». Смех не успел оборваться, Когда из самого темного угла послышался голос: «А знает ли кто твои стихи наизусть? И те, кто знает, Уцелеют ли они?» — «Это забытые, — Тихо сказал Данте, — Уничтожили не только их, их творения — также». Смех оборвался. Никто не смел даже переглянуться. Пришелец Побледнел.ВОПРОСЫ ЧИТАЮЩЕГО РАБОЧЕГО
Кто воздвиг семивратные Фивы? В книгах названы имена повелителей. Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы? А многократно разрушенный Вавилон? Кто отстраивал его каждый раз вновь? В каких лачугах Жили строители солнечной Лимы? Куда ушли каменщики в тот вечер, Когда они закончили кладку Китайской стены? Великий Рим украшен множеством триумфальных арок. Кто воздвиг их? Над кем Торжествовали цезари? Все ли жители прославленной Византии Жили во дворцах? Ведь даже в сказочной Атлантиде В ту ночь, когда ее поглотили волны, Утопающие господа призывали своих рабов. Юный Александр завоевал Индию. Совсем один? Цезарь победил галлов. Не имел ли он при себе хотя бы повара? Филипп Испанский рыдал, когда погиб его флот. Неужели никому больше не пришлось проливать слезы? Фридрих Второй одержал победу в Семилетней войне. Кто разделил с ним эту победу? Что ни страница, то победа. Кто готовил яства для победных пиршеств? Через каждые десять лет — великий человек. Кто оплачивал издержки? Как много книг! Как много вопросов!ЧТО ПОЛУЧИЛА ЖЕНА СОЛДАТА?..
Что получила в посылке жена Из древнего города Праги? Из Праги прислал он жене башмаки. Нарядны, легки Ее башмаки Из древнего города Праги. А что получила в посылке жена Из польской столицы Варшавы? Из Варшавы прислал он рулон полотна. Рулон полотна Получила жена Из польской столицы Варшавы. А что получила в посылке жена Из города Осло на Зунде? Из Осло прислал он на шапочку мех. Разве у всех На шапочке мех Из города Осло на Зунде?.. А что получила в посылке жена Из богатого Роттердама? Шляпку прислал он, вступив в Роттердам. На зависть всех дам «Made in Rotterdam». Из богатого Роттердама. А что получила в посылке жена Из бельгийской столицы Брюсселя? Из Брюсселя прислал он жене кружева. В канун рождества Прислал кружева Из бельгийской столицы Брюсселя. А что получила в посылке жена Из сказочного Парижа? Из Парижа прислал он искусственный шелк. Ужасно ей шел Искусственный шелк Из сказочного Парижа... А что получила в посылке жена Из триполитанского порта? Прислал он жене золотой амулет. Ну что за привет — Золотой амулет Из триполитанского порта! А что получила в посылке жена Из далекой холодной России? Из России прислал он ей вдовий наряд. Вдовий наряд Прислал ей солдат Для поминок своих — из России.1942
ИЗГНАННЫЙ ПО ВЕСКИМ ПРИЧИНАМ
Я вырос в богатой семье. Мои родители Нацепляли на меня воротнички, растили меня, Приучая к тому, что вокруг должна быть прислуга, Учили искусству повелевать. Однако, Когда я стал взрослым и огляделся вокруг, Не понравились мне люди моего класса, Не понравилось мне повелевать и иметь прислугу. И я бросил мой класс и встал В ряды неимущих Так Взрастили они предателя, они его обучили Всем своим хитростям, он же Выдал их с головой врагу. Да, я выбалтываю тайны. Я живу среди народа, И я объясняю народу Все их обманы, все их намеренья, Ибо Я посвящен в их тайны. Они подкупили попов, и попы говорят по-латыни. А я перевожу эти речи с латыни на простой язык, и тогда Они оказываются шарлатанством. Я сбрасываю с возвышения Весы их правосудия и показываю всем Фальшивые картонные гири. А их соглядатаи им доносят, Что я сижу в кругу обворованных и вместе с ними Обсуждаю планы восстания. Они мне грозили, они отняли у меня все, Что я заработал трудом. Но я не исправился. И тогда они стали травить меня, но У меня были в руках документы, Обличавшие их заговор Против народа. Тогда они Послали мне вслед тайную грамоту, в коей Я обвиняюсь в низменном образе мыслей, то бишь В образе мыслей униженных. Куда бы я ни приехал, всюду я заклеймен В глазах имущих, но неимущие Читают тайную грамоту И дают мне убежище. Тебя, говорят бедняки, Тебя изгнали По веским причинам.АКТРИСА В ИЗГНАНИИ
Посвящается Елене Вайгель [1]
Теперь она гримируется. В каморке с белыми стенами Сидит, сгорбившись, на плохонькой низкой скамейке И легкими движениями Наносит перед зеркалом грим. Заботливо устраняет она со своего лица Черты своеобразия: малейшее его ощущение Может все изменить. Все ниже и ниже Опускает она свои худые, прекрасные плечи, Все больше сутулясь, как те, Кто привык тяжко работать. На ней уже грубая блуза С заплатами на рукавах. Башмаки Стоят еще на гримировальном столике. Как только она готова, Она взволнованно спрашивает, били ли барабаны (Их дробь изображает гром орудийных залпов) И висит ли большая сеть. Тогда она встает, маленькая фигурка, Великая героиня, Чтобы обуть башмаки и представить Борьбу андалузских женщин Против генералов.[1] Вайгель, Елена — жена Брехта, известная немецкая актриса, прославившаяся исполнением ролей в его пьесах.
МЫСЛИ О ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИЗГНАНИЯ
1
Не вбивай в стенку гвоздя, Брось пиджак просто на стол. Стоит ли устраиваться на три дня? Завтра ты вернешься домой. Незачем поливать саженцы. Стоит ли выращивать новое дерево? Оно еще не успеет достигнуть вот этой ступеньки, Как ты уже с радостью уедешь отсюда. Нахлобучь шляпу на глаза, когда мимо проходят люди. Стоит ли долбить чужую грамматику? Весть, зовущая домой, Дойдет до тебя на родном языке. Подобно тому, как побелка сыплется с потолка (Сама по себе, без всякого вмешательства), Так рассыплется трухой ограда насилия, Ныне преграждающая путь справедливости.2
Видишь гвоздь — это ты вбил его в стенку! Когда же теперь ты домой вернешься? Хочешь знать, что ты в глубине души думаешь? День за днем Ты трудишься ради освобождения, Ты сидишь в каморке и пишешь. Хочешь знать, веришь ли ты в свой труд? Посмотри на каштановое деревцо в углу двора, Которое ты поливаешь водой из большого кувшина.1940 ГОД
Сынишка меня спросил: — Пап, учить математику? «К чему? — хотел я сказать. — Что два куска хлеба Больше, чем один, смекнешь и так». — А французский учить? — пристал сынишка. «К чему? — хотел я сказать. — Этой стране конец. Живот рукою погладишь, застонешь — тебя поймут». А сынишка все спрашивает: — Надо учить историю? «К чему? — хотел я сказать. — Учись к земле прижиматься, Прячь голову, авось уцелеешь». — Да, — отвечаю я. — Штурмуй математику, Французским займись, учи историю!К ПОТОМКАМ
1
Право, я живу в мрачные времена. Беззлобное слово — это свидетельство глупости. Лоб без морщин Говорит о бесчувствии. Тот, кто смеется, Еще не настигнут Страшной вестью. Что же это за времена, когда Разговор о деревьях кажется преступленьем, Ибо в нем заключено молчанье о зверствах! Тот, кто шагает спокойно по улице, По-видимому, глух к страданьям и горю Друзей своих? Правда, я еще могу заработать себе на хлеб, Но верьте мне: это случайность. Ничто Из того, что я делаю, не дает мне права Есть досыта. Я уцелел случайно. (Если заметят мою удачу, я погиб.) Мне говорят: «Ешь и пей! Радуйся, что у тебя есть пища!» Но как я могу есть и пить, если Я отнимаю у голодающего то, что съедаю, если Стакан воды, выпитый мною, нужен жаждущему? И все же я ем и пью. Я бы хотел быть мудрецом. В древних книгах написано, что такое мудрость. Отстраняться от мирских битв и провести свой краткий век, Не зная страха. Обойтись без насилья. За зло платить добром. Не воплотить желанья свои, но о них позабыть. Вот что считается мудрым. На все это я неспособен. Право, я живу в мрачные времена.2
В города приходил я в годину смуты, Когда там царил голод. К людям приходил я в годину возмущений. И я восставал вместе с ними. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. Я ел в перерыве между боями. Я ложился спать посреди убийц. Я не благоговел перед любовью И не созерцал терпеливо природу. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. В мое время дороги вели в трясину. Моя речь выдавала меня палачу. Мне нужно было не так много. Но сильные мира сего Все же чувствовали бы себя увереннее без меня. Так проходили мои годы, Данные мне на земле. Силы были ограничены, А цель — столь отдаленной. Она была ясно различима, хотя и вряд ли Досягаема для меня. Так проходили мои годы, Данные мне на земле.3
О вы, которые выплывете из потока, Поглотившего нас, Помните, Говоря про слабости наши, И о тех мрачных временах, Которых вы избежали. Ведь мы шагали, меняя страны чаще, чем башмаки, Мы шли сквозь войну классов, и отчаянье нас душило, Когда мы видели только несправедливость И не видели возмущения. А ведь при этом мы знали: Ненависть к подлости Тоже искажает черты. Гнев против несправедливости Тоже вызывает хрипоту. Увы, Мы, готовившие почву для всеобщей приветливости, Сами не могли быть приветливы. Но вы, когда наступит такое время, Что человек станет человеку другом, Подумайте о нас Снисходительно.1938—1944
ТОПОЛЬ НА КАРЛСПЛАЦ
Тополь стоит на площади Разгромленного Берлина, Листвой зеленой приветствуя Людей, проходящих мимо. Зимою сорок шестого Топливо вздорожало, Люди мерзли, и многих Деревьев старых не стало. А дерево здесь, на площади, Вновь зеленью приодето. За то спасибо скажите, Что уцелело хоть это.ЗАНАВЕСЫ
На Большом Занавесе пусть будет написан Воинственный голубь мира Моего брата Пикассо. Позади Натяните проволоку и повесьте Легкую раздвижную занавеску, Которая, ниспадая, волнами пены скрывает Работницу, распределяющую листовки, И отрекающегося Галилея. В зависимости от пьесы занавеска Может быть из грубого полотна, или шелка, Или из белой кожи, или из красной... Только пусть не будет она слишком темной, Потому что на ней должны читаться Проецируемые вами подписи, Которые служат заглавьем для сцен. Они ослабят напряжение зрителя И сообщат ему, чего ожидать... Пусть занавес мой, спускаясь от середины, Не закрывает мне сцены! Откинувшись в кресле, пусть зритель видит Все деловые приготовления, которые хитро Делаются для него: как спускают Жестяную луну и как вносят крышу, покрытую дранкой... Не показывайте ему слишком многого, Но кое-что покажите! Пусть он видит, Что вы не колдуете здесь, А работаете, друзья.РАДОСТЬ НАЧАЛА
О радость начала! О раннее утро! Первая травка, когда ты, казалось, забыл, Что значит зеленое! Радость от первой страницы Книги, которой ты ждал, и восторг удивленья! Читай не спеша, слишком скоро Часть непрочтенная станет тонка! О первая пригоршня влаги На лицо, покрытое потом! Прохлада Свежей сорочки! О начало любви! И отведенный взгляд! О начало работы! Заправить горючим Остывший двигатель! Первый рывок рычага, И первый стрекот мотора! И первой затяжки Дым, наполняющий легкие! И рожденье твое, Новая мысль!ОДНО НЕ ЧЕТА ДРУГОМУ
Тополь распускает Клейкие листочки, А у дуба только Набухают почки. Тучка проплывает В небе торопливо, А другая тучка Тянется лениво. Братик и сестренка Моют чашки чисто; Братик моет медленно, А сестренка — быстро. Только наша кроха Все не моет чашку, — Все еще за столиком Доедает кашку.СЛИВА
Что это там за деревцо — Поди узнай его в лицо! Оградочка вокруг — Не наступите вдруг! Оно мало, и потому Стать больше хочется ему. Ему так мало лет, Ему так нужен свет! Плодов не видно, и в лицо Как распознать нам деревцо? Что сливам быть на нем, По листьям узнаем.ЗИМНИЙ РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
1
Я — маленький воробей. Я гибну, дети, спасите. Я летом всегда подавал сигнал, Чтоб сторож ворон с огорода гнал. Пожалуйста, помогите. Сюда, воробей, сюда! Вот тебе, друг, еда. Благодарим за работу!2
Я — дятел. Пестрый такой. Я гибну, дети, спасите. Все лето я клювом стволы долбил, Тьму вредных букашек поистребил. Пожалуйста, помогите. Сюда, наш дятел, сюда! Вот тебе, друг, еда. Благодарим за работу3
Я — иволга. Иволга я. Я гибну, дети, спасите. Ведь это я в прошедшем году — Чуть сумерки — пела в ближнем саду. Пожалуйста, помогите. Сюда, певунья, сюда! Вот и тебе еда. Благодарим за работу!ПЕСНЯ О СЧАСТЬЕ
Корабль в пути, и труден путь. Дружи, моряк, с мечтой! Всплывет, всплывет за синью вод Твой город золотой! В котлах давленье проверяй, Курс вычисли точней. И пусть волна порой грозна — Управишься ты с ней! Твоя исполнится мечта, Разлука не долга. Ты ждешь не зря: ведь все моря Имеют берега! Да будут руки и сердца В работе заодно. За счастье — в бой! Само собой Не явится оно. Коль ты свободен, то и труд — Отрада и краса, Всех благ родник, и крылья книг, И ветер в паруса! Твой труд зовет тебя вперед, И мысль твоя в пути. Верши дела, чтоб жизнь могла На славу расцвести! Ребенку малому нужны И молоко и хлеб. Трудись, отец, чтоб твой малец И вырос и окреп. Ведь не расти ему нельзя! Он звонким голоском Того зовет, кто принесет Бутылку с молоком. И станет деревом росток, Из камня дом взрастят. Сначала дом и клен при нем, А после город-сад. И коль на свет мы рождены, Для счастья будем жить. Клянемся, друг, в цветущий луг Всю землю превратить!1952
БРЕХТ РАССКАЗЫВАЕТ
ПЛАЩ ЕРЕТИКА
Джордано Бруно, уроженец Нолы, приговоренный в 1600 году римской инквизицией к сожжению на костре за ересь, повсеместно признан человеком великим не только в силу его дерзновенных, со временем обретших достоинство чистой правды гипотез о движении светил, но и в силу мужества, которое прозвучало в его словах, обращенных к судьям: «Произнося этот приговор, вы страшитесь больше, чем я, выслушивающий его». Если перечитать труды, принадлежащие перу Джордано Бруно, не забыв поинтересоваться и свидетельствами о публичных выступлениях ученого, ничто не помешает назвать этого человека подлинно великим. Однако существует легенда, способная, как это ни трудно, еще более возвысить его в глазах читателей.
Это — легенда о плаще.
Сначала припомним, как Джордано Бруно оказался в руках инквизиции.
Один венецианский патриций, некто Мочениго, нанял ученого в качестве преподавателя физики и искусства запоминания. Несколько месяцев хозяин обеспечивал гостя столом и кровом, получая за это условленные уроки. Но вместо представлений о черной магии, приобрести которые Мочениго втайне надеялся, он приобретал таковые только о физике. Поскольку физика была ему, собственно, ни к чему, он испытывал все большее недовольство и уже начинал раскаиваться в своих затратах на гостя.
Не раз он вполне серьезно увещевал ученого поделиться своими сулящими прибыль знаниями, которыми, такой знаменитый муж, конечно же, должен был обладать, и когда это не помогло, настрочил на него донос в инквизицию. Он писал, что этот испорченный и неблагодарный человек в его присутствии поносил Христа, а о монахах сказал, что они ослы, навязывающие свою глупость народу, и, кроме того, в противоположность Библии утверждал, будто существует не одно солнце, а целое множество, и т. д. и т. д. Поэтому он, Мочениго, запер его в своей мансарде и просит поскорей прислать за ним стражников.
В полночь с воскресенья на понедельник ученый был схвачен, а к трем утра доставлен в распоряжение инквизиции.
Это произошло в понедельник 25 мая 1592 года. С этой поры вплоть до 17 февраля 1600 года, до своего восшествия на костер, ноланец находился в тюрьме.
Восемь лет длился чудовищный процесс, восемь лет ученый с отвагою отстаивал свою жизнь, но та борьба, которую он вел в первый год, находясь в Венеции, борьба против выдачи его Риму, была наиболее ожесточенной.
К этому времени относится и легенда, повествующая о его плаще.
Зимою 1592 года, живя в гостинице, он заказал у портного, по имени Габриэль Цунто, теплый плащ. Когда его схватили, плащ еще не был оплачен.
Услышав об аресте, портной кинулся к дому господина Мочениго, близ храма святого Самуэля, спеша вручить счет. Он явно опоздал. Слуга господина Мочениго преградил ему вход. «Довольно мы тратились на мошенника! — выкрикивал с порога слуга, привлекая внимание прохожих. — Не лучше ли вам пробежаться в священный трибунал да рассказать там, как вы якшались с этим еретиком!»
Портной замер в испуге на мостовой. На крик сбежалась ватага уличных мальчишек, и один из них, прыщавый, в лохмотьях, швырнул в него камнем. Хотя задира тут же получил подзатыльник от бедно одетой женщины из местных, старый Цунто очувствовал, насколько опасно быть одним из тех, кто «якшался с этим еретиком». Он побежал. Оробело оглядываясь, повернул за угол и обходным путем вернулся домой. Своей жене он не рассказал ничего, и она целую неделю недоумевала: что это он все хмурится?
Но первого июня, выписывая счета, она обнаружила, что не получены деньги за один плащ, за плащ того самого человека, чье имя было на устах у всех, — в городе только и говорили что о ноланце. Распространялись ужаснейшие слухи о его низости. Он, мол, и в беседах своих и в книгах не только попирал узы брака, но даже самого Христа назвал шарлатаном, а про солнце плел нечто совершенно невероятное. После всего этого стоит ли удивляться, что он не заплатил за свой плащ! Добрая женщина не имела ни малейшей охоты нести убытки по вине подобного человека.
После бурной перебранки с супругом семидесятилетняя особа в своем воскресном платье явилась в здание священного трибунала и со свирепым выражением лица потребовала тридцать два скудо — долг арестованного еретика.
Инквизитор, к которому она обратилась, сделал соответствующую запись и пообещал расследовать дело.
Цунто вскоре получил приглашение и с дрожью переступил порог зловещего здания. К его удивлению, допроса ему не учинили, а только поставили в известность, что при урегулировании финансовых обстоятельств заключенного иск примут во внимание. Правда, по словам инквизитора, сколько-нибудь значительного остатка ожидать не приходится.
Старик был рад-радехонек, что дешево отделался, и поспешно рассыпался в благодарностях. Но его жену это отнюдь не удовлетворило. Убыток не возмещался ни отказом портного от привычной вечерней кружечки, ни тем, что он теперь шил до глубокой ночи. За сукно, которое лавочник отпустил в долг, надо было платить. На кухне и во дворе старуха надрывалась от крика. Как не стыдно сажать преступника, пока он не расплатился с долгами! Если понадобится, она до самого папы римского дойдет, а свои тридцать два скудо получит! «На костре и без плаща обойдется!» — орала она.
Обо всем случившемся старуха поведала своему духовнику. Он дал совет потребовать, чтобы возвратили хоть плащ. Ощущая поддержку со стороны церковной инстанции, старуха заявила, что плащ, который, конечно, уже надевали, да к тому же еще и сшитый по мерке, ни в коем случае не сможет ее устроить. Ей должны заплатить чистоганом. Но поскольку сгоряча она заговорила излишне громко, священник выставил ее вон. Это слегка привело ее в чувство, и неделю-другую она свой язык придерживала. Инквизиция не оглашала никаких новых сведений о деле содержащегося под стражей еретика. Тем не менее вокруг шептались о том, что на допросах вскрываются чрезвычайно постыдные деяния. Старуха ревниво прислушивалась к нелепым сплетням. Сущей пыткой было для нее узнать, что дела еретика столь плачевны. Этак он никогда не освободится и долга не уплатит! По ночам она уже не спала, а когда августовская жара вконец подорвала ей нервы, дала волю своему языку, рассказывая о наболевшем и посетителям лавок и тем заказчикам, которые приходили на примерку. Из ее слов можно было понять, что церковнослужители впадают в грех, с таким равнодушием отвергая законные притязания простого ремесленника. А ведь налоги все тяжелее, да и хлеб намедни снова подорожал.
Однажды утром за нею был прислан стражник, который препроводил ее в здание священного трибунала, где ей в предостерегающей форме порекомендовали прекратить злостную болтовню. Ее спросили, не стыдно ли ей из-за ничтожных скудо молоть всякий вздор об очень серьезном судебном деле. И дали понять, что таким людям, как она, следует вести себя скромнее.
На какое-то время это заставило ее быть сдержанной даже в такие минуты, когда она вспоминала о «ничтожных скудо», безразличных зажравшемуся святоше, и ее лицо багровело от ярости. Но в сентябре распространилась молва о том, что великий инквизитор в Риме потребовал выдачи ноланца. Переговоры об этом ведутся в синьории.
Весь город возбужденно обсуждал новое известие, и общее мнение было против выдачи. Ни один цех не считал себя подсудным Риму.
Старуха была вне себя. Неужто и впрямь еретику разрешат отправиться в Рим, не расплатившись со своими долгами? Ее терпение лопнуло. Едва переварив невероятную новость, не тратя ни минуты даже на то, чтобы накинуть более приличную юбку, ринулась она к зданию священного трибунала.
Инквизитор, принявший ее на этот раз, был поважнее прежних и держался на диво предупредительно. Почти такой же старый, как и она, он выслушал ее жалобу спокойно, со вниманием. Когда она выложила все, он, сделав паузу, спросил, не желает ли она переговорить с Бруно.
Старуха дала согласие без заминки. Встретиться предстояло завтра.
На следующее утро в крохотной камере с зарешеченными оконцами ей навстречу шагнул маленький исхудалый человек с проредью в темной бороденке. Он вежливо осведомился, что ей угодно. Прежде она видела его на примерке, и лицо заказчика хорошо сохранилось у нее в памяти, но сейчас узнала его не сразу. Должно быть, пережитое им на допросах привело к такой разительной перемене.
Она поспешно ответила:
— Плащ. Вы за него не уплатили.
Несколько секунд он созерцал ее удивленно. Успев за это время восстановить в памяти все, он спросил тихим голосом:
— Сколько я вам должен?
— Тридцать два скудо, — сказала она. — Ведь вы получили счет.
Он обратился к рослому тучному инквизитору, наблюдавшему за переговорами, и спросил, знает ли тот, какая сумма поступила в священный трибунал вместе с его пожитками.
Монах не знал, но пообещал уточнить.
— Как поживает ваш супруг? — спросил узник, снова обращаясь к старухе, словно денежный вопрос разрешен, отношения нормализовались и он принимает посетительницу в самой обычной обстановке.
Сконфуженная дружелюбием маленького человека, старуха пробурчала, что, мол, ничего, самочувствие хорошее, и даже приплела несколько слов о мужнином ревматизме.
Свое следующее посещение священного трибунала она отложила на целых два дня, так как ей пришло в голову, что приличие обязывает ее предоставить этому господину время для наведения справок.
Разрешение еще раз поговорить с ним она получила. Но ей пришлось более часа ожидать в той же каморке с решетками на окнах, потому что узник был на допросе.
Он вошел, едва держась на ногах.
Стульев не было, и он слегка оперся плечом о стену. Тем не менее он тут же перешел к делу.
Очень слабым голосом он сказал ей, что, к сожалению, лишен возможности заплатить за плащ. Имевшихся у него денег при вещах не обнаружено. Но пусть она не расстается с надеждой. Поразмыслив, он вспомнил, что у одного человека в городе Франкфурте, издателя его книг, должны лежать для него деньги. Если разрешат, он напишет этому человеку. Он завтра же похлопочет о разрешении. Атмосфера сегодняшнего допроса показалась ему несколько напряженной, и он воздержался от просьбы, чтобы не провалить всю затею.
Пока он говорил, старуха буравила его своими остренькими зрачками. Уж ей-то ведомо, как умеют отпираться злостные должники! На свои обязательства им начхать, а если припрешь их к стенке, ведут себя так, словно готовы расшибиться в лепешку.
— Зачем вам было заказывать плащ, если у вас не было денег, чтобы заплатить? — спросила она сурово.
Подтвердив кивком, что ход ее мыслей уловлен, узник ответил:
— Мои книги и лекции всегда обеспечивали меня. Я полагал, что и впредь буду зарабатывать достаточно. Заказывая плащ, я надеялся разгуливать на свободе.
Последние слова он произнес без малейшей горечи — видимо, только для того, чтобы не оставить собеседницу без ответа.
Смерив его негодующим взглядом сверху донизу, старуха внезапно ощутила неуместность дальнейшего наступления и, ни слова не говоря, выбежала из тесной клетушки.
— Кому охота слать деньги человеку, арестованному инквизицией! — досадовала она в тот вечер, ложась в постель.
Портной, не ожидавший больше неприятностей со стороны духовенства, не одобрял неустанных стараний жены заполучить деньги.
— Не о том сейчас его думы, - отозвался он глухо.
Она не проронила ни слова.
Несколько месяцев об этом злосчастном деле не было ни слуху ни духу.
К началу января выяснилось, что синьория, прислушиваясь к желанию папы, вынашивает решение о выдаче еретика. Тогда же на имя Цунто поступило новое приглашение посетить здание священного трибунала.
Определенный час не был назван, и госпожа Цунто вышла из дома после полудня. Она пришла явно не вовремя. Узник ожидал встречи с прокуратором республики, уполномоченным синьорией составить заключение по вопросу о выдаче.
Посетительницу принял тот важный старик, который устроил первую встречу с ноланцем. Он сказал, что заключенный желал бы поговорить с нею, но ей следует взвесить, удачно ли выбрано для этого время, поскольку вот-вот начнется конференция, имеющая для заключенного исключительно важное значение.
Ее ответ был краток: об этом пусть спрашивают его.
Один из монахов вышел и привел узника. Разговаривать надлежало в присутствии все того же важного старика.
Не успел ноланец, улыбнувшийся гостье уже в дверях, и слова молвить, старуха выпалила:
— Почему вы так себя ведете, если хотите разгуливать на свободе?
Одно мгновение маленький человек, казалось, был озадачен. За прошедшие месяцы он давал ответы на множество вопросов и вряд ли мог удержать в памяти окончание последней беседы с женой портного.
— Деньги для меня не пришли, — наконец проговорил он. — Я дважды писал о них, но так и не получил. Мне подумалось, не согласитесь ли вы взять плащ.
— Будто я не знала, к чему вы клоните! — презрительно сказала она. — Да ведь шили-то его по вашему росту! Кому же он будет впору?
Ноланец с болью посмотрел на старую женщину.
— Это не приходило мне в голову, — сказал он ей. Потом обратился к инквизитору: — Можно ли продать все мои вещи, а деньги вручить этим людям?
— Ничего не выйдет, — вмешался рослый толстяк, приведший узника. — На них претендует господин Мочениго. Вы долгое время находились на его обеспечении.
— Он меня нанимал, — возразил ноланец устало.
Старик поднял руку.
— Это нас не касается. Я нахожу, что плащ должен быть возвращен.
— А нам от него что толку? — заупрямилась старуха.
Старик слегка покраснел. Он заговорил с расстановкой:
— Послушайте, любезная! Будьте хоть немного снисходительны, как и подобает истинной христианке. Обвиняемый стоит в преддверии переговоров, которые означают для него жизнь или смерть. Вряд ли вы можете потребовать, чтобы он сейчас думал о вашем плаще.
Старуха поглядела на старика с опаской. Внезапно ей вспомнилось, где она находится.
Думая, не уйти ли отсюда подобру-поздорову, она услышала позади себя тихий голос узника:
— По-моему, она вправе этого требовать.
И когда она повернулась к нему лицом, узник сказал:
— Я прошу у вас извинения за то, что так получилось. Ни в коем случае не считайте, что ваш убыток мне безразличен. Я обращусь к суду с соответствующим заявлением.
По знаку старика рослый толстяк вышел из помещения. Возвратясь, он развел руками:
— Никакого плаща здесь нет. Вероятно, его удержал Мочениго.
Тут ноланец приметно оробел, но произнес твердо:
— Он не имеет права. Я выступлю с жалобой.
Старик закачал головою:
— Лучше бы вам собраться с мыслями для собеседования, которое начнется с минуты на минуту. Я не могу допустить, чтобы здесь продолжалось препирательство из-за каких-то ничтожных скудо.
Старуха побагровела. Пока звучал голос ноланца, она, молчаливо насупясь, глядела в угол. Но тут ее прорвало.
— Ничтожные скудо? — выкрикнула она. — Да это же наш заработок за целый месяц! Вам-то снисхождение обходится дешево! От вас не убудет!
Как раз в это время в дверь вошел внушительного вида монах.
— Прокуратор прибыл, — произнес он вполголоса, удивленно взглянув на вопящую старуху.
Рослый толстяк схватил ноланца за рукав и повел. Уже скрываясь в дверях, узкоплечий узник продолжал оглядываться на женщину. Его исхудалое лицо было очень бледно.
Старуха спускалась по каменным ступеням наружной лестницы в полной растерянности. Она не могла взять в толк, что думать о ноланце. Ведь в конце-то концов человек сделал все, что мог.
Неделей позже, когда толстяк инквизитор принес плащ, старуха в мастерскую не вошла. Стоя за дверью комнаты, она расслышала, как тот говорил портному:
— В последние дни заключенный был явно озабочен судьбой плаща.
В перерывах между допросами и встречами с городскими чинами он дважды повторял свое заявление и множество раз требовал переговоров по этому делу с нунцием. И добился-таки успеха. Мочениго был вынужден возвратить плащ. Впрочем, сейчас такая одежда как нельзя более кстати пришлась бы самому обвиняемому: его выдают Риму и уже на этой неделе отправят.
Мысль верная. Наступал конец января.
ОПЫТ
Конец официальной карьеры великого Фрэнсиса Бэкона напоминает назидательную иллюстрацию к лживому изречению: «Злом добра не наживешь».
Верховный судья государства, он был уличен во взяточничестве и заключен в тюрьму. Годы его лорд-канцлерства, ознаменованные казнями, раздачей пагубных монополий, противозаконными арестами, вынесением лицеприятных приговоров, относятся к самым темным и позорным страницам английской истории. Когда же он был изобличен в злодеяниях и во всем сознался, его всемирная известность гуманиста и философа способствовала тому, что молва об этом распространилась далеко за пределы государства.
Немощным стариком вернулся Бэкон из тюрьмы в свое имение. Здоровье его было расшатано постоянным напряжением, в котором он жил, вечно занятый интригами против других и страдая от интриг, затеваемых против него другими...
Но, едва приехав домой, он всецело погрузился в изучение естественных наук. Восторжествовать над людьми ему не удалось. И теперь он посвятил оставшиеся силы исследованию того, как человечество может наилучшим образом восторжествовать над природой.
Его занятия, обычно посвященные предметам насущно полезным, снова и снова уводили его из кабинета в поля, сады и конюшни имения. Часами беседовал он с садовником о том, как облагородить фруктовые деревья, или давал указания служанкам, как измерять удой коров. Как-то раз он обратил внимание на мальчика, состоявшего при конюшне. Заболела дорогая лошадь, паренек дважды в день являлся к философу с докладом о ее здоровье. Его рвение и наблюдательность приводили старика в восторг.
Однажды вечером, заглянув в конюшню, он увидел подле мальчика старую женщину и услышал, как она говорила:
— Он плохой человек, не верь ему. Хоть он и важный барин и денег у него куры не клюют, а все-таки он плохой человек. Он дает тебе работу и хлеб, делай свое дело добросовестно, но помни: человек он нехороший.
Философ не слышал ответа, он быстро повернулся и ушел. Но на следующее утро он не обнаружил в мальчике никакой перемены. Когда лошадь поправилась, он стал брать его с собой на прогулку и доверял ему небольшие поручения. Постепенно он все больше привыкал обсуждать с ним свои опыты. При этом отнюдь не выбирал слов, которые, как думают взрослые, доступны пониманию ребенка, а говорил с ним, словно с образованным человеком. Всю жизнь Бэкон общался с величайшими умами, но его редко понимали: и не потому, что он говорил неясно, а потому, что говорил слишком ясно. И теперь он не старался снизойти до понимания ребенка и только терпеливо поправлял его, когда тот, в свою очередь, пытался употреблять слова, ему чуждые.
Мальчик должен был упражняться в описании предметов, какие он видел, и опытов, в которых он принимал участие. Философ разъяснял ему, как много есть всяких слов и сколько их нужно для описания свойств предмета, чтобы его можно было, хотя бы отчасти, узнать, а главное, понять, как с ним обращаться. Были и такие слова, к которым прибегать не стоило, потому что они по существу ничего не означали. Это слова вроде «хорошо», «плохо», «красиво» и так далее.
Мальчик скоро усвоил, что нет смысла называть жука «безобразным» и даже сказать о нем «проворный» тоже недостаточно. Нужно еще установить, как быстро жук передвигается по сравнению с другими подобными тварями и какие это ему дает преимущества. Нужно было, посадив жука на наклонную плоскость, а потом на горизонтальную и производя шум, заставить его побежать или положить перед ним кусочки приманки, чтобы он устремился за ними. Стоило заняться жуком подольше, и он терял свою уродливость. Однажды мальчику пришлось описать кусок хлеба — он держал его в руке при встрече с философом.
— Вот где ты спокойно можешь употребить слово «хороший», — сказал старик.
— Хлеб сотворен человеком для еды и, следовательно, может быть для него «хорошим» или «плохим». Другое дело более сложные вещи, созданные природой не на потребу человека, о назначении которых ему трудно судить, — тут было бы глупо довольствоваться подобными словами.
Мальчик вспомнил суждение своей бабушки о милорде.
Он быстро все схватывал, потому что схватывать приходилось всегда то, что было вполне ощутимо, что можно было схватить рукой. Лошадь выздоровела благодаря примененным средствам, а дерево погибло из-за примененных средств.
Он понял также, что всегда следует оставлять место разумному сомнению — действительно ли причиной изменений послужили средства, которые были применены. Мальчик едва ли понимал, какое значение для науки имеют мысли великого Бэкона, но явная полезность всех этих начинаний воодушевляла его.
Он понимал философа так: в мире наступило новое время. Человечество с каждым днем увеличивает свои познания. Эти познания необходимы для счастья и благополучия людей на земле. Во главе всего стоит наука. Наука исследует Вселенную и все, что есть на земле: растения, животных, почву, воду, воздух, чтобы все это служило человеку. Важно, не во что мы верим, а что мы знаем. Люди слишком многому верят и слишком мало знают. Поэтому должно все испробовать самому, ощупать собственными руками и говорить только о том, что сам видел и что может принести какую-то пользу.
Это было новое учение. Еще большее число людей обращалось к нему и, воодушевленное им, готово было предпринять эти новые изыскания.
Книги играли тут большую роль, хотя немало было и плохих книг. Мальчику стало ясно, что он должен найти путь к книгам, если он хочет стать одним из тех, кто причастен к этим изысканиям.
Разумеется, он никогда не бывал в библиотеке замка. Ему приходилось дожидаться милорда у конюшни. Самое большее, на что он осмеливался, если старый господин не приходил несколько дней кряду, — это попасться ему на глаза, когда тот гулял в парке. Тем не менее его любопытство к кабинету ученого, где по ночам так долго горел свет, все росло. Взобравшись на изгородь, он мог видеть за его окнами книжные полки.
Он решил научиться читать. Это было, однако, совсем не просто. Священник, к которому он пришел со своей просьбой, поглядел на него, как глядят на забежавшего на скатерть паука.
— Уж не хочешь ли ты читать Евангелие господа нашего коровам? — недовольно спросил он мальчика. Хорошо еще, что дело обошлось без затрещин.
Значит, надо было искать других путей.
В алтаре деревенской церкви лежал требник. Проникнуть туда можно было, вызвавшись звонить в колокол. Хорошо бы узнать, какое место в книге поет священник; может, тогда ему откроется связь между словами и буквами?
На всякий случай мальчик старался затвердить латинские тексты, которые пел курат во время мессы, — хотя бы некоторые из них. Но священник выговаривал слова очень неясно, да и не часто служил мессу.
И все же спустя некоторое время мальчик был уже в состоянии спеть несколько вступительных фраз мессы. Старший конюх, накрыв его между сараями за этим занятием и решив, что он передразнивает священника, отколотил беднягу. Так дело и не обошлось без затрещин.
Мальчику все еще не удалось найти в требнике слова, которые пел священник, когда разразилась беда, сразу же положившая конец его попыткам научиться грамоте.
Милорд заболел и лежал при смерти.
Он прихварывал всю осень, а зимой, еще не совсем оправившись, поехал в открытых санях за несколько миль в соседнее имение. Мальчику было разрешено сопровождать его. Он стоял на запятках. Визит был окончен; старик, провожаемый хозяином, тяжело ступая, пошел к саням и вдруг увидел на дороге замерзшего воробья. Остановившись, он перевернул его тростью.
— Давно он здесь лежит, как вы полагаете? — услышал мальчик, следовавший за стариком с грелкой, его вопрос, обращенный к хозяину.
Тот ответил:
— Может, час, а может, и неделю, если не больше.
Тщедушный старик рассеянно простился с хозяином и задумчиво пошел дальше.
— Мясо совсем еще свежее, Дик, — сказал он, повернувшись к мальчику, когда сани тронулись.
Назад они ехали довольно быстро; на заснеженные поля спускался вечер, мороз крепчал. И вот на повороте при въезде в имение они задавили курицу, по-видимому выбежавшую из курятника.
Старик следил за тем, как кучер пытается объехать растерянно мечущуюся курицу, и, когда это ему не удалось, дал знак остановиться.
Выбравшись из-под своих одеял и мехов и опираясь на мальчика, он вылез из саней и, невзирая на то что толковал ему кучер о холоде, пошел туда, где лежала курица.
Она была мертва.
Старик велел мальчику поднять курицу.
— Выпотроши ее, — приказал он.
— Не лучше ли сделать это на кухне? — спросил кучер, боясь, как бы его ослабевшего господина не прохватило на холодном ветру.
— Нет, лучше здесь, — ответил тот. — У Дика, наверно, есть при себе нож, и нам нужен снег.
Мальчик сделал, как ему было приказано, и старик, видимо позабыв и свою болезнь и мороз, нагнулся и, кряхтя, набрал горсть снега. Заботливо принялся он набивать снегом тушку птицы.
Мальчик понял. Он стал собирать снег и подавать его своему учителю, чтобы набить тушку до отказа.
— Вот таким образом она должна многие недели сохраниться свежей, — сказал старик с увлечением. — Снеси ее в погреб и положи на холодный пол.
Короткое расстояние до двери он прошел пешком, уже немного устав и тяжело опираясь на мальчика, который нес под мышкой набитую снегом курицу.
Едва старик вошел в переднюю, как его охватил озноб. На следующий день он слег и заметался в сильном жару.
Встревоженный мальчик бродил вокруг дома в надежде услышать что-нибудь о здоровье своего учителя. Но он мало что узнал. Жизнь большого имения шла своим чередом. И лишь на третий день что-то произошло. Его позвали в рабочий кабинет.
Старик лежал на узкой деревянной кровати под множеством одеял, но при открытых окнах, так что в комнате было холодно. И все же казалось, что больной пылает от жара. Слабым голосом осведомился он о состоянии набитой снегом тушки.
Мальчик сказал, что у нее совершенно свежий вид.
— Это хорошо, — сказал старик с удовлетворением. — Через два дня снова доложишь мне.
Уходя, мальчик пожалел, что не взял с собой тушку. Старик показался ему не таким больным, как говорили в людской.
Дважды на дню он менял снег, и, когда снова направился в комнату больного, курица была такая же свежая.
Но тут мальчик наткнулся на неожиданное препятствие.
Из столицы приехали доктора. По всему коридору неслось жужжание приглушенных властных и заискивающих голосов, повсюду мелькали чужие лица.
Слуга, который спешил в спальню больного с подносом, накрытым большим полотенцем, грубо погнал мальчика прочь.
Много раз утром и вечером пытался Дик проникнуть в комнату больного, и все напрасно. Казалось, чужие доктора решили обосноваться в замке. Они представлялись мальчику большими черными птицами, которые кружили над беззащитным больным.
Под вечер мальчик спрятался в кабинете, выходившем в коридор, где было очень холодно. Он совсем продрог, но все же радовался своей удаче; ведь опыт требовал, чтобы курица постоянно была на холоде.
Во время ужина, когда черный поток немного схлынул, мальчик проскользнул в спальню милорда.
Больной лежал один, все ушли ужинать. Подле узкой кровати стоял ночник под зеленым абажуром. Лицо больного, странно высохшее, поражало восковой бледностью. Глаза были закрыты, но руки беспокойно шарили по жесткому одеялу. В комнате было жарко натоплено, окна закрыты.
Мальчик сделал несколько шагов к кровати, судорожно сжимая и вытянутых вперед руках курицу, и несколько раз чуть слышно позвал: «Милорд». Никакого ответа. Однако больной, казалось, не спал. Его губы порой шевелились, как будто он что-то говорил.
Мальчик, убежденный в важности для опыта дальнейших указаний учителя, решил привлечь его внимание. Но едва он, поставив на кресло ящик с курицей, коснулся одеяла, как кто-то схватил его сзади за шиворот и оттащил прочь. Толстяк с серым лицом глядел на него как на убийцу. Сохраняя присутствие духа, мальчик вырвался, схватил ящик и выскочил за дверь.
В коридоре ему показалось, что его заметил помощник дворецкого, поднимавшийся по лестнице. Плохо дело! Как он докажет, что явился по приказанию милорда, чтобы сообщить ему о важном опыте? Старый ученый был полностью во власти своих докторов. Закрытые окна в спальне свидетельствовали об этом. И действительно, Дик увидел, как один из слуг идет через двор к конюшне. Он не стал ужинать, отнес курицу в погреб и забрался на сеновал.
Спал он тревожно, всю ночь ему мерещился предстоящий розыск. Робко вылез он поутру из своего убежища. Но никто о нем и не вспомнил. Во дворе была страшная суматоха, все сновали взад и вперед. Милорд скончался рано утром.
Весь день мальчик кружил по двору, словно его оглушили обухом. Он чувствовал, что смерть учителя всегда будет для него невозвратимой потерей. Когда же в сумерках он спустился в погреб с миской снега, горе охватило его с новой силой при мысли о незавершенном опыте, и он безутешно заплакал над ящиком. Что же станется с великим открытием?
Возвращаясь во двор — причем собственные ноги казались ему такими тяжелыми, что он невольно оглянулся на свои следы в снегу, не глубже ли они, чем обычно, — мальчик увидел, что лондонские врачи еще не уехали. Их кареты были еще здесь.
Несмотря на свою неприязнь, мальчик решил доверить им открытие. Люди ученые, они должны были понять всю важность опыта. Он принес ящичек с замороженной курицей и спрятался позади колодца, пока мимо него не прошел один из этих господ — коренастый человек, не внушающий особого страха. Выйдя из своего укрытия, мальчик протянул ему ящик.
Слова застревали у него в горле, но все же ему удалось несвязно, запинаясь, изложить свою просьбу.
— Милорд нашел ее мертвой шесть дней назад, ваша светлость. Мы набили ее снегом. Милорд считал, что мясо останется свежим. Посмотрите сами. Оно совершенно свежее.
Коренастый с удивлением уставился на ящик.
— Ну и что же дальше? — спросил он.
— Оно не испортилось, — ответил мальчик.
— Так, — сказал коренастый.
— Посмотрите сами, — настойчиво повторил мальчик.
— Вижу, — сказал коренастый и покачал головой. Так, качая головой, он пошел дальше.
Мальчик, обескураженный, смотрел ему вслед. Он не мог понять этого коротышку. Не оттого ли умер милорд, что вышел из саней на мороз, чтобы провести свой опыт? Ведь он руками брал снег с земли. Это несомненно.
Мальчик медленно побрел обратно, к двери в погреб, но, не дойдя до нее, остановился и побежал на кухню.
Повар был очень занят, так как к ужину ждали со всей округи гостей с соболезнованиями.
— Зачем тебе эта птица? — заворчал на него повар. — Она же совершенно мерзлая.
— Это ничего, — сказал мальчик. — Милорд говорит, что это ничего не значит.
Повар рассеянно поглядел на него, а потом вперевалку направился к двери с большой сковородой в руках, очевидно выбросить что-то. Мальчик неотступно следовал за ним со своим ящиком.
— Давайте попробуем, — сказал он умоляющим голосом.
У повара лопнуло терпение. Он схватил курицу своими сильными ручищами и с размаху швырнул во двор.
— Видно, у тебя нет другой заботы! — закричал он вне себя. — Разве ты не знаешь, что его милость скончался?
Мальчик поднял птицу с земли и ушел. Два следующих дня были заняты траурными церемониями. Ему все время приходилось то запрягать, то распрягать лошадей, и ночью, меняя в ящике снег, он, можно сказать, спал на ходу. Им овладела глубокая безнадежность. Новая эпоха кончилась.
Но на третий день, день погребения, мальчик тщательно умылся, надел свой лучший наряд, и настроение у него изменилось. Стояла чудесная, бодрящая зимняя погода. Из деревни доносился перезвон колоколов.
Исполненный новых надежд, он пошел в погреб, долго и внимательно смотрел на мертвую птицу и не заметил никаких признаков гниения. Заботливо уложил он ее в ящик, наполнил его свежим снегом и, взяв под мышку, направился в деревню.
Весело насвистывая, вошел он в низенькую кухню своей бабушки. Родители мальчика рано умерли, его воспитала ёабушка, которой он во всем доверялся. Не показывая, что у него в ящике, он сообщил старушке, которая в это время переодевалась для похорон, об опыте милорда. Она терпеливо выслушала его.
— Так кто же этого не знает? — сказала она чуть погодя. — Птица застывает на холоде и так некоторое время сохраняется. Что же тут особенного?
— Я думаю, ее еще можно есть, — сказал мальчик как можно равнодушнее.
— Есть куру, которая уже неделю как издохла? Так ведь и отравиться недолго!
— Почему же? Ведь ей ничего не сделалось. И она не была больна, ее задавило санями милорда.
— Но внутри, внутри-то она порченая, — возразила старушка, теряя терпение.
— Не думаю, — сказал мальчик твердо, не сводя с курицы ясных глаз. — Внутри у нее все время был снег. Пожалуй, я сварю ее.
Старуха рассердилась.
— Ты пойдешь со мной на похороны, — сказала она, прекращая этот разговор.
— По-моему, его милость достаточно для тебя сделал, чтобы ты как полагается проводил его гроб.
Мальчик ничего ей не ответил. Пока она повязывала черный шерстяной платок, он достал курицу, сдул с нее остатки снега и положил на два полешка перед печкой, чтобы она оттаяла.
Старушка больше не смотрела на него. Одевшись, она взяла его за руку и решительно направилась к двери.
Некоторое время мальчик послушно шел следом. На дороге было много народу — мужчин и женщин, все шли на похороны. Внезапно мальчик вскрикнул от боли. Он угодил в сугроб. С перекошенным лицом он вытащил ногу, вприпрыжку доковылял до придорожного камня и, опустившись на него, стал растирать ступню.
— Я вывихнул ногу, — сказал он.
Старуха недоверчиво на него посмотрела.
— Ты вполне можешь идти, — сказала она.
— Нет! — огрызнулся он. — А если не веришь, посиди со мной и подожди, покуда пройдет.
Старуха молча села подле него.
Прошло четверть часа. Мимо все еще тянулись деревенские жители; правда, их становилось все меньше. Мальчик и старуха упрямо сидели на обочине дороги.
Наконец старуха сказала с укором:
— Разве он не учил тебя, что не следует лгать?
Мальчик ничего не ответил. Старуха поднялась со вздохом. Она совсем замерзла.
— Если ты через десять минут не нагонишь меня, я скажу твоему брату, пусть задаст тебе трепку.
И она торопливо заковыляла дальше, чтобы не пропустить надгробную речь.
Мальчик подождал, пока она отойдет достаточно далеко, и медленно поднялся. Он пошел обратно, часто оборачиваясь и не переставая прихрамывать. И только когда изгородь скрыла его от глаз старушки, он пошел как обычно.
В хижине он уселся около курицы и стал смотреть на нее. Он сварит ее в котелке с водой и съест крылышко. Тогда будет видно, отравится он или нет.
Он все сидел, когда издалека донеслись три пушечных выстрела. Они прозвучали в честь Фрэнсиса Бэкона, барона Веруламского, виконта Сент-Альбанского, канцлера Англии, который одним своим современникам внушал отвращение, а другим — страсть к полезным знаниям.
НЕПУТЕВАЯ СТАРУХА
Бабушке моей было семьдесят два года, когда умер дед. Он владел маленькой литографией в одном баденском городке и проработал в ней с двумя-тремя подмастерьями до самой смерти. Бабушка вела хозяйство одна, без прислуги; она следила за ветхим, покосившимся домиком и стряпала для мужа, работников и детей.
Бабушка была маленькая худенькая женщина, с живыми, как у ящерицы, глазами и тихой, неторопливой речью. В очень скромных условиях она вырастила пятерых детей, а всего родила семерых.
Две дочери ее переселились в Америку, двое сыновей тоже разъехались кто куда. Только младший, послабее здоровьем, остался в городе. Он стал печатником и завел большую, не по средствам, семью.
Так и вышло, что после смерти мужа бабка осталась одна в доме.
Ее дети писали друг другу письма, обсуждая, как с ней быть. Один из сыновей предлагал ей переехать к нему, а печатник мечтал перевезти свое семейство в отцовский дом. Но старуха отклонила эти предложения и сказала, что предпочитает получать от детей, кому позволяют средства, небольшую денежную помощь.
Устаревшую литографию пришлось продать за бесценок, а кроме того, после мужа остались долги.
Дети писали матери, что не годится ей жить совсем одной, но, так как она оставляла их советы без внимания, уступили и стали каждый месяц посылать ей понемногу денег. В конце концов, рассудили они, в городе остается их брат, печатник.
Печатник и в самом деле взялся сообщать о матери братьям и сестрам. По письмам, которые он писал моему отцу, и по рассказам отца, который спустя два года навестил бабушку, я и знаю, что у них там произошло.
По-видимому, печатник был в обиде на бабушку оттого, что она отказалась поселить его в своем довольно просторном, пустующем теперь доме. Сам он ютился с четырьмя детьми в трех комнатках. Но старуха и вообще почти не поддерживала с ним отношений. Каждое воскресенье она приглашала детей на чашку кофе после обеда — вот и все.
За три месяца она, бывало, разок-другой навестит сына да, когда поспевали ягоды, поможет невестке сварить варенье. Невестка из кое-каких замечаний свекрови заключила, что квартира сына кажется ей слишком тесной, и сын не удержался и в очередном послании поставил против этого места в своем отчете восклицательный знак.
Когда отец спросил в письме, чем же, собственно, занимается теперь мать, печатник ответил кратко, что она ходит в кино...
Надо вам сказать, что такое времяпрепровождение было в те времена весьма необычным, а особенно в глазах ее детей. Тридцать лет назад кино сильно отличалось от нынешнего. Картины показывали в неприглядных, душных помещениях, обычно в старых кегельбанах; кричащие плакаты у входа оповещали об убийствах и трагедиях на почве ревности. По правде говоря, туда заглядывали только подростки да еще влюбленные парочки в поисках местечка потемнее. Присутствие одинокой старой женщины, конечно, не могло не бросаться там в глаза.
У этих посещений была и другая сторона. Сходить в кино стоило дешево, но самое это развлечение принадлежало к тому же сорту, что и дешевые лакомства, — это был пустой перевод денег. А переводить деньги попусту не слишком-то похвально.
К тому же бабушка не только пренебрегала сыном, она забросила и всех своих знакомых. Ее никогда нельзя было увидеть среди почтенных женщин, собирающихся за чашкой кофе. Зато она часто посещала мастерскую сапожника в бедном переулке, о котором в городе шла дурная слава. В этой мастерской, особенно поближе к вечеру, сидели всякие малопочтенные личности, безработные кельнерши и подмастерья. Сапожник был человеком средних лет, его много носило по свету, но он так ничего и не добился. Поговаривали даже, что он пьет. Словом, это была неподходящая компания для моей бабушки!
Печатник вскользь намекал в письме, что он сделал матери замечание в этом духе, но та весьма холодно объяснила ему, что этот человек много чего повидал в жизни. Так она ответила, и на этом разговор был закончен. С бабушкой было нелегко говорить о вещах, о которых она говорить не желала.
Примерно полгода спустя после смерти дедушки печатник написал отцу, что их мать через день обедает в гостинице.
Этого еще не хватало!
Бабушка, которая всю свою жизнь стряпала для десятка людей, а сама довольствовалась остатками, обедает в гостинице! Что это на нее нашло?
Вскоре отцу пришлось совершить деловую поездку в те края, где жила бабушка, и это позволило ему навестить ее.
Он застал ее, когда она собиралась уходить. Бабушка сняла шляпу и предложила ему стакан красного вина с печеньем.
Отец ничего необычного в ней не заметил: она была не то чтобы слишком весела, но и не чересчур молчалива. Спросила она и о нас, впрочем очень бегло. Ее главным образом интересовало, едят ли дети вишни. В этом она осталась верна себе. В комнате все, конечно, сверкало чистотой, и выглядела бабушка вполне здоровой.
Единственное, что говорило о ее новой жизни, — она отказалась сходить с отцом на кладбище, на могилу мужа.
— Ступай сам, — сказала она небрежно, — она в одиннадцатом ряду, третья слева. Мне сейчас некогда, я ухожу.
Печатник утверждал потом, что она, конечно, как всегда спешила к сапожнику. И очень сетовал на мать.
— Мне приходится со всей моей оравой ютиться в этой дыре, — говорил он, — да и работаю я всего пять часов, и плата нищенская, и меня опять замучила астма, а наш дом на главной улице стоит пустой.
Отец остановился в гостинице, но он ожидал, что мать хотя бы для виду предложит ему заехать к ней, да не тут-то было. А ведь когда-то, когда дома положительно ступить негде было, она огорчалась, если он не останавливался у них да еще тратился на гостиницу!
Видно было, что бабушка покончила счеты со старой жизнью в семье и на склоне лет решила зажить по-новому. Мой отец, охотник пошутить, нашел тогда, что «мамаша у нас в полной форме», и советовал дяде не мешать старухе жить по-своему.
Но как по-своему?
Вскоре нам сообщили очередную новость: бабушка в обычный, будний день — это был четверг — заказала брэгг и поехала за город. Брэгг — вместительный экипаж на высоких колесах, в нем достаточно места для целой семьи. Изредка, когда мы, внуки, приезжали к старикам, дедушка нанимал брэгг. Бабушка в таких случаях всегда оставалась дома. Сколько ее ни просили, она с пренебрежительным жестом отказывалась ехать с нами.
За прогулкой в брэгге последовала поездка в К. Это сравнительно большой город, в двух часах езды по железной дороге. Там устраивались бега, и моя бабушка поехала на бега.
Печатник совсем в панику ударился. Он хотел уже обратиться к врачу. Отец, читая его письмо, качал головой, но к врачу обратиться не позволил.
В город К. бабушка поехала не одна. Она взяла с собой молодую девушку, кухарку из той гостиницы, где она обедала через день, — по мнению печатника, совершенно полоумное создание.
Отныне эта «идиотка» стала играть в жизни бабушки не последнюю роль. Бабушка, видимо, не на шутку к ней привязалась. Она брала ее с собой в кино и к сапожнику, который, кстати, оказался социал-демократом, и вскоре распространился слух, что обе женщины часами просиживают у него на кухне за бутылкой красного вина и играют в карты.
«Недавно она купила «идиотке» шляпу с розами, — в отчаянии писал печатник. — А нашей Анне не в чем идти к конфирмации».
Письма дяди становились все более истеричными, в них только и говорилось, что о «беспутном поведении нашей дорогой матушки». Больше ничего нельзя было понять.
Остальное я узнал от отца.
Хозяин гостиницы и тот, подмигнув, шепнул ему:
— Ходят слухи, что госпожа Б. теперь развлекается.
На самом деле моя бабушка эти последние годы жила далеко не роскошно. Когда она не обедала в гостинице, она делала себе яичницу, выпивала чуточку кофе и съедала несколько своих любимых печений. Зато она позволяла себе покупать душевое красное вино и каждый раз, садясь за стол, выпивала маленький стаканчик. Квартиру она содержала в чистоте, и не только спальню и кухню, которыми пользовалась. Зато, не спросившись детей, она взяла под дом небольшую ссуду. Что она сделала с деньгами, никто так и не узнал. Возможно, она отдала эти деньги сапожнику. После ее смерти он переехал в другой город и, как поговаривали, открыл там мастерскую для пошивки обуви на заказ.
Если разобраться, бабушка прожила две жизни. Первую жизнь она прожила как дочь, жена и мать, а вторую — просто как госпожа Б., одинокий человек без каких-либо обязанностей, со скромными, но достаточными средствами. Первая ее жизнь продолжалась без малого семь десятков лет, вторая — всего несколько лет.
Потом отцу рассказывали, что за последние полгода своей жизни она позволяла себе такие чудачества, о каких нормальные люди понятия не имеют. Она могла, например, встать летом в три часа утра и пойти бродить по пустынным улицам, радуясь тому, что город в эти часы принадлежит ей одной. И все кругом утверждали, что, когда к ней однажды пришел священник, чтобы утешить старую женщину в ее одиночестве, она пригласила его в кино!
Бабушка отнюдь не была одинокой. У сапожника собирались, по-видимому, очень веселые люди, а чего они только не рассказывали! Там всегда стояла ее дежурная бутылка красного вина, и, покуда остальные о чем-нибудь толковали или посмеивались над почтенными и влиятельными лицами города, она выпивала свой стаканчик.
Красное вино было только для нее, но она частенько угощала общество и более крепкими напитками.
Умерла она неожиданно, осенним вечером, в своей спальне, и не в постели, а в кресле у окна. В этот вечер она пригласила «идиотку» с собой в кино. И в час ее смерти девушка была при ней.
Бабушке было семьдесят четыре года. Я видел ее фотографию на смертном одре — снимок был сделан для ее детей.
На нем видно крохотное личико со множеством морщинок и тонкогубым, но широким ртом. Много мелкого, но ничего мелочного. Она познала долгие годы рабства и короткие годы свободы и вкусила хлеб жизни до последней крошки.
ФИНСКИЙ ПОМЕЩИК
Один помещик хотел ночью перейти озеро по льду. Он знал, что где-то есть полынья, так он мужику, который его вел, велел идти двенадцать километров — впереди дорогу пробовать. Обещал ему за это лошадь подарить.
Вот они дошли до середины, и тут помещик говорит: «Если доведешь до берега и я не провалюсь, получишь теленка».
Потом показались огни деревни, и он сказал: «Ты уж постарайся — часы заработаешь».
Когда до берега оставалось шагов пятьдесят, он уже стал говорить о мешке картошки. А как добрались до места, дал он ему марку и говорит: «Долго же ты, брат, провозился!»
СОЛДАТ ИЗ ЛА СЬОТА
После первой мировой войны, во время народных гуляний по случаю спуска на воду нового корабля, в маленьком портовом городе Южной Франции Ла Сьота мы увидели на площади бронзовую статую французского солдата. Вокруг нее толпился народ. Мы подошли ближе и обнаружили, что это живой человек, который неподвижно стоит на каменном постаменте под жарким июльским солнцем. На нем желтовато-коричневая шинель, на голове стальной шлем, в руках винтовка со штыком, лицо и руки отливают бронзой. Он стоит смирно и глазом не моргнет.
К его ногам на постаменте прислонен кусок картона со следующим текстом:
ЧЕЛОВЕК-СТАТУЯ (Homme Statue)
Я, Шарль Луи Франшар, солдат энского полка, контуженный под Верденом, получил чудесную способность сохранять полную неподвижность, пребывая сколько угодно времени как бы статуей. Это мое искусство проверяли многие профессора, усмотревшие в нем необъяснимую болезнь. Подайте, пожалуйста, сколько можете безработному отцу семейства!
Мы бросили монету в тарелку, стоявшую рядом с плакатом, и пошли дальше, качая головой.
Вот он стоит, думали мы, вооруженный до зубов, неистребимый солдат многих тысячелетий. Стоит тот, кто делал историю, тот, кто помог совершиться всем великим деяниям Александра, Цезаря, Наполеона, о коих мы читаем в школьных учебниках. Это он стоит смирно и даже глазом не моргнет.
Он — лучник Кира и возничий боевой колесницы Камбиза [Кир и Камбиз — древнеперсидские цари, завоеватели, жившие в VI веке до н. э.], не окончательно погребенный под песками пустыни. Он — легионер Цезаря, он — вооруженный пикой всадник Чингисхана, он — швейцарец на службе Людовика Четырнадцатого и гренадер на службе Наполеона Первого. Он обладает способностью — не столь уж редкой — стоять, не дрогнув, когда на нем испытывают орудия уничтожения — все, какие только можно придумать. Он остается тверд как камень (если верить ему), когда его посылают на смерть. Его изрешетили пики всех веков — каменного, бронзового, железного; давили боевые колесницы времен Артаксеркса [Артаксеркс — имя трех персидских царей V—IV веков до н. э.] и времен генерала Людендорфа [Людендорф, Эрих (1865—1937) — немецкий генерал, военный идеолог германского империализма]; топтали слоны Ганнибала и эскадроны Атиллы; рвали на части куски железа, извергаемые орудиями, которые совершенствовались из века в век, не говоря уже о камнях, выброшенных катапультами; пробивали ружейные пули, большие, с голубиное яйцо, и маленькие, как пчелы. И вот он стоит — неистребимый, покорный командам на всех языках и, как всегда, не ведающий, за что и почему. Он не становится хозяином завоеванных территорий, как каменщик не становится хозяином построенного им дома. Даже его оружие и обмундирование не принадлежат ему. Вот, он стоит, поливаемый смертельным дождем с самолетов, кипящей смолой с крепостных стен; под ногами у него мины и волчьи ямы, он дышит ипритом и чумой; он — одушевленное чучело для кавалерийских шашек, живая мишень. Против него — танки и газометы, впереди у него — враг, а позади — генерал!
Нет числа рукам, что ткали для него мундир, ковали латы, тачали сапоги! Нет счету богатствам, которые благодаря ему текли в чужие карманы! Каких только нет команд на всех языках мира, чтобы воодушевить его! Нет бога, который не благословил бы его! Его, изъеденного ужасной проказой терпения, пораженного неисцелимой болезнью бесчувственности!
Так что же это за контузия, которая вызвала такую болезнь, такую ужасную, чудовищную, заразную болезнь?
И мы спрашиваем себя: а может быть, она все-таки излечима?
УПРЯМЫЙ СЫН
Один парень из-под Выборга ничего у них не брал.
В восемнадцатом году он был у красных, а потом его за это посадили в лагерь в Таммерфорсе; он был совсем молодой парнишка, он там траву жрал с голоду — им ничего есть не давали.
Мать его навестила и кое-что принесла. Она пришла за восемьдесят километров. Она батрачила у помещиками помещица дала ей с собой рыбу и фунт масла. Она шла пешком, а когда какой-нибудь крестьянин подсаживал ее на телегу, она ехала часть дороги. Она говорила крестьянину: «Я иду в Таммерфорс навестить моего сына Ати. Он сидит в лагере для красных, а помещица, добрая душа, дала мне для него рыбу и фунт масла». Когда крестьянин слышал это, он говорил, чтобы она слезала, потому что у нее сын — красный, но, когда она проходила мимо женщин, которые стирали на речке, она опять рассказывала: «Я иду в Таммерфорс навестить моего сына в лагере для красных, а помещица, добрая душа, дала мне для него рыбу и фунт масла». И когда она пришла в лагерь в Таммерфорсе, она и коменданту сказала эти самые слова, и он засмеялся и позволил ей войти, хотя это вообще запрещалось.
Перед лагерем еще росла трава, но за колючей проволокой не было ни одной зеленой травинки, ни одного листика на деревьях, они там все съели...
Своего Ати она не видела два года, пока он был на гражданской войне, а потом в плену, и он был очень худой. Она говорит: «Ну, здравствуй, Ати, вот я принесла тебе рыбу и масло, помещица дала».
Ати поздоровался с ней, спросил насчет ее ревматизма и насчет некоторых соседей, но рыбу и масло он не хотел взять ни за что на свете; он очень разозлился и сказал: «Ты это выклянчила у помещицы? Ну так можешь нести все это обратно, от них я ничего не возьму».
И она должна была снова завернуть свои подарки, а ее Ати был такой голодный, и она сказала: «Прощай» — и отправилась обратно снова пешком и, только когда ее подсаживали, ехала в телеге. Батраку, который ее подвез, она сказала: «Мой Ати в лагере для военнопленных, он не взял рыбу и масло, потому что я выклянчила их у помещицы, а от них он ничего не берет». Дорога была длинная, а она уже старая, и она по временам присаживалась у края дороги и откусывала немного рыбы и масла, потому что это все уже начало портиться и даже немного провоняло. Но женщинам у реки она теперь сказала: «Мой Ати в лагере для военнопленных. Он не захотел рыбы и масла, потому что я выклянчила их у помещицы, а он ничего у них не берет».
Это она говорила всем, кого встречала, так что люди узнали про Ати по всему ее пути, а путь был — восемьдесят километров.
БРЕХТ ПЕРЕДАЕТ СЛОВО ГОСПОДИНУ КОЙНЕРУ, СКЛОННОМУ НЕ ТОЛЬКО ШУТИТЬ
ЕСЛИ БЫ АКУЛЫ БЫЛИ ЛЮДЬМИ
«Если бы акулы были людьми, — спросила господина К. маленькая девочка его хозяйки, — они бы тогда лучше относились к маленьким рыбкам?»
«Конечно, — сказал он. — Если бы акулы были людьми, они велели бы соорудить в море для маленьких рыбок огромные коробки, где было бы вдоволь всякого корма — растительного и животного. Они заботились бы о том, чтобы в этих коробках всегда была свежая вода, и вообще проводили бы всевозможные санитарно-гигиенические мероприятия. Например, если бы какая-нибудь рыбка повредила себе плавник, ей бы тотчас же сделали перевязку, чтобы она, преждевременно погибнув, не огорчила акул. Чтобы рыбки не грустили, время от времени устраивались бы большие водные праздники, потому что веселые рыбки вкуснее грустных. Разумеется, в больших коробках были бы и школы. В этих школах рыбки учились бы тому, как надо заплывать акуле в открытую пасть. Например, им понадобилась бы география, чтобы они умели находить больших акул, которые лениво дремлют где-нибудь на морском дне. Нечего и говорить, главной задачей было бы нравственное воспитание рыбок. Им пришлось бы усвоить, что нет ничего более великого и прекрасного для рыбки, чем радостное самопожертвование, и что всем им надо верить в своих акул, в особенности когда акулы обещают создать для них лучезарное будущее.
Рыбкам бы внушили, что это будущее настанет лишь в том случае, если они научатся повиновению. Рыбкам следовало бы остерегаться низменных наклонностей, всякого материализма, эгоизма и марксизма и немедленно сообщать акулам, если какая-нибудь из них проявит подобные наклонности. Если бы акулы были людьми, они, конечно, вели бы между собою войны с целью захвата чужих коробок и чужих рыбок. Войны они вели бы силами своих рыбок. Они внушали бы рыбкам, что между ними и рыбками других акул существует огромное различие. Рыбки, проповедовали бы они, немы, но молчат они на разных языках и поэтому совершенно не способны понять друг друга. Каждой рыбке, которая убкла бы на войне несколько вражеских рыбок — рыбок, молчащих на другом языке, — они давали бы маленький орден из морских водорослей и присваивали бы звание героя.
Если бы акулы были людьми, у них, без сомнения, существовало бы искусство. Создавались бы прекрасные картины, на которых самыми чудесными красками были бы написаны зубы акул, а акульи пасти изображались бы прямо как увеселительные парки, где так чудесно можно порезвиться.
Театры на дне морском показывали бы, как доблестные рыбки с воодушевлением плывут в акульи пасти, а музыка была бы так прекрасна, что рыбки, убаюканные самыми сладостными мечтами, в блаженном самозабвении с оркестром впереди сплошным потоком устремлялись бы прямо в пасть акулы. И без религии бы там не обошлось, если бы акулы были людьми. Они учили бы, что настоящая жизнь начнется для рыбок только во чреве акул. Кроме того, если бы акулы были людьми, то рыбки уже не были бы равны, как теперь. Некоторые из них получили бы административные должности и были бы поставлены над другими рыбками. Тем, что покрупнее, даже разрешалось бы поедать более мелких. Акулам это было бы только приятно, потому что им самим тогда доставались бы более жирные куски. Более крупные рыбки, занимающие государственные должности, следили бы за тем, чтобы рыбки не нарушали порядок, они становились бы учителями, офицерами, инженерами по строительству коробок и т. п. Словом, только тогда вообще была бы культура в море, если бы акулы были людьми».
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Господин К. рассматривал картину, где отдельным предметам была придана весьма своеобразная форма. Он сказал: «Порой с некоторыми художниками, когда они наблюдают окружающее, случается то же, что и со многими философами. Сосредоточась на форме, они забывают о содержании. Я работал как-то у садовника. Он дал мне садовые ножницы и приказал подстричь лавровое деревцо. Это деревцо росло в кадке и выдавалось напрокат для торжественных случаев. Поэтому оно должно было иметь форму шара. Я тотчас же начал срезать дикие побеги, но, как ни старался, мне долго не удавалось придать ему форму шара. Я все время отхватывал слишком много то с одной, то с другой стороны. Когда же наконец деревцо приняло форму шара, шар этот оказался очень маленьким.
Садовник проговорил разочарованно: «Допустим, это шар. Но где же лавровое деревцо?»
ГОСПОДИН К. И КОШКИ
Господин К. не имел привязанности к кошкам. Они не казались ему друзьями человека, вот и он не напрашивался к ним в дружбу. «Будь у нас какой-нибудь общий интерес, — говорил он, — я смог бы пренебречь их враждебной настороженностью». Впрочем, господин К. не любил сгонять кошек со своего стула. «Улечься на отдых — это работа, — пояснял он, — а работе следует пожелать успеха». В зимнюю стужу, когда кошки мяукали за его дверью, господин К. покидал свое рабочее место и впускал их погреться. «Расчет-то у них простой, — приговаривал он, — стучись, и тебе откроют. Но стучаться — это уже прогресс».
ЕСЛИ ГОСПОДИНУ К. НРАВИТСЯ ЧЕЛОВЕК
«Как вы поступаете, — спросили господина К., — если вам нравится человек?» — «Я рисую его портрет, — сказал господин К., — и стараюсь, чтобы он походил на него». — «Кто? Портрет?» — «Нет,— сказал господин К., — человек».
УСПЕХ
Увидев идущую невдалеке артистку, господин К. произнес: «Она хороша». Его попутчик заметил: «Именно по этой причине она с недавнего времени пользуется успехом». Господин К. рассердился и возразил: «Она потому и хороша, что пользуется успехом».
ПОХВАЛА
Господин К., услышав, что его хвалят бывшие ученики, сказал: «Когда ученики уже давно забыли ошибки учителя, сам он все еще помнит о них».
УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
«Я замечаю, — сказал господин К., — что многих мы отпугиваем от нашего учения только тем, что имеем ответы на все и вся. Не могли бы мы в интересах пропаганды выставить перечень вопросов, на которые, как нам представляется, никаких ответов не найдено?»
ДИСЦИПЛИНА
Господин К. сказал как-то: «Мыслящий человек расходует экономно и электроэнергию, и хлеб, и мысли».
ДРУЖЕСКАЯ УСЛУГА
В качестве лучшего примера подлинно дружеской услуги господин К. привел следующую историю.
К одному старому арабу пришли трое молодых людей и сказали: «Наш отец умер. Он оставил нам семнадцать верблюдов и завещал старшему половину из них, среднему — треть, а младшему — девятую часть. Как ни делили — ничего не получается. Реши нам эту задачу!» Араб задумался, потом произнес: «На мой взгляд, чтобы суметь разделиться по-хорошему, вам не хватает одного верблюда. У меня есть верблюд, один-единственный, и он к вашим услугам.
Возьмите его, потом займитесь разделом, а мне отдайте только то, что останется». Поблагодарив за дружескую услугу, трое молодых людей взяли верблюда с собой и так разделили восемнадцать голов скота, что старшему досталась половина — девять верблюдов, среднему — одна треть, то есть шесть, а младшему — девятая часть, два верблюда. К их изумлению, после раздела остался один верблюд. Они отвели его к своему старому другу, повторяя слова признательности.
Господин К. назвал эту услугу поистине дружеской, потому что она не требовала никакой жертвы.
БРЕХТ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ИСКУССТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
НАРОДНОСТЬ И РЕАЛИЗМ (Фрагменты)
Говоря о народности, мы имеем в виду народ, который не только активно участвует в историческом развитии, но и подчиняет себе, форсирует, определяет ход этого развития. Мы имеем в виду народ, творящий историю, изменяющий мир и самого себя. Мы имеем в виду народ борющийся, а потому понятие народный приобретает боевой смысл.
«Народный» означает: понятный широким массам, впитывающий в себя и обогащающий свойственные им художественные формы, стоящий на их точке зрения и обосновывающий ее, выступающий от имени наиболее прогрессивной части народа и помогающий ей взять на себя руководящую роль, а значит, понятный и другим слоям народа, связанный с традициями и продолжающий их, передающий той части народа, которая стремится взять на себя руководящую роль, опыт нынешних ее руководителей...
«Реалистический» означает: вскрывающий комплекс социальных причин, разоблачающий господствующие точки зрения как точки зрения господствующих классов, стоящий на точке зрения того класса, который способен наиболее кардинально разрешить самые насущные для человеческого общества проблемы, подчеркивающий фактор развития, конкретный, но допускающий обобщения...
Реалистично то или иное произведение или нет, нельзя решить, лишь устанавливая соответствие или несоответствие его произведениям, считавшимся — и для своего времени по праву — реалистическими. В каждом отдельном случае надо сравнивать отражение жизни не столько с другим отражением, сколько с самой отражаемой жизнью.
ЛИРИЧЕСКОМУ ПОЭТУ НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ РАЗУМА
Некоторые люди, чьи стихи я читаю, мне знакомы лично. Я часто удивляюсь тому, что тот или иной из них обнаруживает в стихах гораздо меньше разумности, чем в высказываниях иного рода. Может быть, он считает стихи выражением чистого чувства? Может быть, он вообще думает, что есть вещи, выражающие лишь чистое чувство? Если он так думает, ему нужно по крайней мере знать, что чувства могут быть так же ложны, как и мысли. Тогда он будет осторожнее.
Некоторые лирические поэты, в особенности начинающие, ощутив определенную настроенность, как будто испытывают страх, что деятельность разума может эту настроенность спугнуть. Следует сказать, что такой страх — при всех обстоятельствах страх нелепый. Все, что мы знаем из творческой лаборатории великих поэтов, говорит о том, что их поэтическая настроенность не отличается такой поверхностностью, подвижностью, летучестью, чтобы спокойное, даже трезвое размышление могло нарушить ее. Известная окрыленность и приподнятость отнюдь не противоположны трезвости. Следует даже признать, что нежелание допустить критерии разума говорит о недостаточно плодотворном характере данной оэтической настроенности. В таком случае лучше воздержаться от писания стихов.
Когда лирический замысел плодотворен, тогда чувство и разум действуют вполне динодушно. Они радостно взывают друг к другу: «Решай ты!»
О ЧИСТОМ ИСКУССТВЕ
Мо-цзы говорил [Мо-цзы (479—381 до н. э.) — китайский философ.]:
«Недавно меня спросил поэт Цин-юэ, имеет ли он право в наше время писать стихи о природе. Я ответил ему:
— Да.
Повстречав его снова, я спросил, написал ли он стихи о природе. Он ответил:
— Нет.
— Почему? — спросил я.
Он сказал:
— Я поставил себе задачу сделать шум падающих дождевых капель приятным переживанием для читателя. Размышляя об этом и набрасывая то одну, то другую строку, я решил, что необходимо сделать этот звук падения дождевых капель приятным переживанием для всех людей, а значит, и для тех людей, у которых нет крыши над головой и которым капли попадают за воротник, когда они пытаются заснуть. Перед этой задачей я отступил.
— Искусство имеет в виду не только нынешний день, — сказал я испытующе. — Поскольку такие дождевые капли будут существовать всегда, то и стихотворение такого рода могло бы быть вечным.
— Да, — сказал он печально, — его можно будет написать, когда не будет больше таких людей, которым капли попадают за воротник».
СТАРАЯ ШЛЯПА
Когда в Париже репетировалась «Трехгрошовая опера», мое внимание с самого начала привлек молодой актер, исполнявший роль бродяги Фильча, подростка, который стремится приобрести квалификацию профессионального нищего. Быстрее большинства остальных он понял, как именно надо репетировать: ощупью, словно прислушиваясь к собственной речи, предлагая наблюдательности зрителей те человеческие черты, которые они сами могли наблюдать в человеке.
И я нимало не был удивлен, когда застал его как-то раз утром в одной из самых больших костюмерных, куда он пришел по собственному побуждению вместе с исполнителями главных ролей; он вежливо пояснил, что ему надо найти шляпу для своей роли.
Я помогал героине выбрать костюмы, на что ушло несколько часов, и краем глаза наблюдал за тем, как он ищет шляпу.
Он заставил порядком поработать служащих костюмерной, и скоро перед ним возвышалась груда головных уборов; прошло около часа, пока он отделил две шляпы от этой груды и теперь должен был наконец сделать окончательный выбор. На это ему потребовался еще час.
Я никогда не забуду выражения муки на его изможденном подвижном лице. Он никак не мог решиться...
Когда я опять взглянул на него, он решительным жестом снял шляпу, резко повернулся на каблуках и отошел к окну. Он смотрел на улицу невидящими глазами и только спустя некоторое время снова взглянул на шляпы, на этот раз небрежно, почти со скукой. Он глядел на них издалека, холодно, без всякого интереса. Затем, не посмотрев больше ни разу в окно, он ленивой походкой подошел к шляпам, взял одну из них и бросил на стол, чтобы ее завернули.
Во время следующей репетиции он показал мне старую зубную щетку, которая высовывалась из верхнего кармана его куртки и должна была свидетельствовать о том, что Фильч и под арками моста не решается отступить от главнейших признаков цивилизации. Эта зубная щетка показала мне, что никакая шляпа, даже самая лучшая, не могла удовлетворить актера.
«Вот это, — подумал я радостно, — и есть актер нашего века, века науки».
ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ИСКУССТВО ВОСПРИЯТИЯ (Размышления по поводу скульптурного портрета) Фрагмент
Бытует очень старое и совершенно непоколебимое мнение, будто произведение искусства должно производить впечатление на любого человека, независимо от его возраста, положения и воспитания. Раз искусство обращается к людям, следовательно, не играет роли, стар ли человек или молод, работает ли он головой или руками, образован ли он или нет. Поскольку в каждом из людей есть что-то от художника, то все люди способны понимать произведение искусства и наслаждаться им. Из-за такого мнения часто возникает ярко выраженная антипатия к так называемым комментариям художественных произведений, антипатия к искусству, нуждающемуся во всевозможных объяснениях, к искусству, не способному производить впечатление «само по себе». «Как, — говорят некоторые, — искусство может воздействовать на нас только после лекции ученых о нем? А «Моисей» Микеланджело может захватить нас только после профессионального объяснения?»
Да, так говорят. Но в то же время известно, что есть люди, которые лучше других разбираются в искусстве, которые способны получить от него больше наслаждения. Это все тот же пресловутый «небольшой круг знатоков».
Существует много художников — и отнюдь не самых плохих, — которые твердо решились ни в коем случае не творить только для этого узкого круга «избранных», которые полны желания творить для всего народа. Это звучит демократически, но, по-моему, не совсем. Демократично — превратить «узкий круг знатоков» в широкий.
Ибо искусство требует знаний.
Восприятие искусства только тогда может привести к подлинному наслаждению, когда существует искусство восприятия.
Насколько справедливо, что в каждом человеке заложен художник, настолько же очевидно и то, что задатки эти могут быть развиты, а могут и заглохнуть. В основе искусства лежит умение — умение трудиться. Кто наслаждается искусством, тот наслаждается трудом, очень искусным и удавшимся. И хотя бы кое-что знать об этом труде просто необходимо, чтобы можно было восхищаться им и его результатом, наслаждаться произведением искусства. Такое знание, являющееся не только знанием, но и чувством, особенно необходимо для искусства ваяния. Нужно хоть немного чувствовать камень, дерево или бронзу; нужно располагать хотя бы некоторыми знаниями об умении обращаться с этими материалами. Нужно уметь чувствовать ход ножа по деревянному чурбаку, чувствовать, как из бесформенной массы медленно возникает фигура, из шара — голова, а из выпуклой поверхности — лицо. Вероятно, в наше время для этого требуется некоторая помощь, в которой не нуждались раньше. Из-за появления новых методов производства на машинном базисе ремесло в известном смысле пришло в упадок. Свойства материалов оказались забытыми, сам по себе трудовой процесс перестал быть таким, каким он был в свое время. Каждый предмет изготовляется многими людьми в совместном труде. Творец-одиночка не выполняет все от начала до конца, как раньше: в настоящее время он владеет только одной фазой развития предмета. Поэтому ощущение и знание индивидуального труда оказались утерянными. При капитализме индивидуум враждует с трудом. Труд угрожает индивидууму. Трудовой процесс и продукт труда искореняют все индивидуальное. Ботинок не говорит уже о своеобразии его создателя. Но ваяние все еще остается ремеслом. Однако и скульптуру рассматривают сегодня так, будто она — подобно любому другому предмету — изготовлена машинным способом. Воспринимается только результат труда (да и наслаждаются вроде бы тоже только им), а не сам труд. А для искусства ваяния это означает многое.
Если хотите прийти к наслаждению искусством, то никогда не довольствуйтесь удобным и дешевым потреблением одного результата художественного труда. Необходимо приобщиться к самому труду, в известной мере стать деятельным самому, до некоторой степени подстегнуть собственную фантазию, приобщить к опыту художника весь собственный опыт или противопоставить его ему и т. д. Даже тот, кто просто ест, трудится: режет мясо, кладет куски в рот, жует. Искусство наслаждения нельзя приобрести за более дешевую цену.
Таким образом, необходимо приобщиться к усилиям художника, правда в уменьшенном объеме, но все же достаточно вникая в них. У художника свои муки с материалом — ломким деревом, подчас чересчур мягкой глиной; к тому же он испытывает трудности с натурой — в данном случае с головой человека. Как возникает изображение головы?
Поучительно — и в то же время доставляет удовольствие — видеть, как в портрете запечатлеваются разные фазы, через которые проходит произведение искусства, — труд искусных и одухотворенных рук, и хоть как-то угадывать муки и триумфы, переживаемые ваятелем в процессе труда.
Сначала смело вырубаются грубые, несколько дикие основные формы: это преувеличение, героизация, если угодно, карикатура. Во всем этом нечто животное, неоформленное, грубое. Затем приходят следующие, более тонкие черты. Но вот одна из деталей — например, лоб — становится доминирующей. Затем следуют поправки. Художник совершает открытия, сталкивается с трудностями, теряет взаимосвязь, конструирует новую, отбрасывает один замысел, формирует другой.
Наблюдая за художником, начинаешь учиться его способности наблюдать. Он — художник восприятия. Он воспринимает живой предмет — голову, которая живет и жила ранее. У него большой навык в наблюдении, он мастер видеть. И вот ты начинаешь чувствовать, что этой способности наблюдать можно научиться. Художник учит искусству восприятия вещей.
Это очень важное искусство для любого человека.
Художественное произведение учит зрителя воспринимать правильно, то есть глубоко, всеобъемлюще и со вкусом, не только тот особый предмет, который в данном случае воспроизводится, но и другие предметы. Оно учит восприятию вообще. Если искусство восприятия необходимо уже для того, чтобы хоть что-то узнать об искусстве как искусстве, чтобы узнать, что такое искусство, находить прекрасное прекрасным, с восхищением наслаждаться масштабом художественного произведения, поражаться духу художника, то искусство восприятия еще более необходимо для понимания предметов, которые художник использует в своем произведении искусства. Ибо произведение художника — это не только прекрасное высказывание по поводу подлинного предмета (головы, ландшафта, происшествия и т. д.) и не только прекрасное высказывание о красоте предмета, но прежде всего высказывание о самом предмете, объяснение этого предмета. Произведение искусства объясняет действительность, которую оно воспроизводит, оно сообщает и передает опыт художника, приобретенный им в жизни, художника, который учит правильно видеть вещи мира.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Существует большая всесторонняя заинтересованность в том, чтобы не делалось ничего вполне нового. Эта заинтересованность царит в тех областях у людей, которые хорошо себя чувствуют при старых порядках и при старом ходе дел. Понятно, что у тех, кто не хочет больше чего-то старого, преобладает мнение, что наихудшим выражением этого старого являются те, кого оно вполне устраивает.
КОНГРЕССУ НАРОДОВ В ЗАЩИТУ МИРА
У человечества удивительно короткая память: слишком быстро оно забывает перенесенные страдания. Но представить себе грядущие бедствия люди, очевидно, и вовсе не в состоянии. Жуткие описания атомной войны, кажется, не очень испугали жителей Нью-Йорка. Жителей Гамбурга и по сей день окружают развалины, и все же они не решаются поднять голос против новой войны. Ужасы сороковых годов, которые потрясли мир, как видно, забыты. «Вчерашний дождь не вымочит», — говорят многие.
Эта бесчувственность в крайних своих проявлениях подобна смерти. Ее нужно преодолеть во что бы то ни стало. Очень многие люди уже сейчас представляются нам мертвецами. Они так мало делают, чтобы предотвратить грядущее несчастье, словно их уже постигла страшная участь, пока еще только грозящая им.
И все же ничто не сможет убедить меня, что бороться против врагов разума во имя его торжества — безнадежное дело. Повторим уже тысячу раз сказанное! Лучше повторить лишний раз, чем промолчать, когда сказанное могло бы подействовать. Пусть иногда нам кажется, что предостережения уже набили оскомину. Наш долг — вновь и вновь предостерегать человечество, ибо ему угрожают войны, по сравнению с которыми все предыдущие покажутся детской забавой. Эти войны, без сомнения, разразятся, если вовремя не ударить по рукам тех, кто подготавливает их открыто, у всех на глазах.
30 ноября 1952 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ДА - КОММУНИЗМУ, НЕТ - ВОЙНЕ!
Перевернута последняя страница. Читатель познакомился с творчеством Брехта-поэта, Брехта-новеллиста, Брехта — теоретика искусства и литературы. Если он взял в руки книгу после посещения театра, где ставилась «Трехгрошовая опера» или «Жизнь Галилея», его представление о многогранном даровании автора стало полнее. Если же читатель еще не знаком с этими постановками, возможно, книга пробудит в нем интерес к творчеству Брехта-драматурга.
В одной из пьес Брехта задается вопрос:
«Товарищи, почему любят родину? А вот почему: хлеб там вкуснее, небо — выше, воздух — душистее, голоса — звонче, по земле ходить легче. Разве не так?»
Да, это так. Но хлеб родной Германии, взращенный руками обездоленных батраков, для Брехта был горек. Нарастала угроза фашизма, и небо над страною становилось все ниже. Воздуха не хватало. Песни рабочих-коммунистов заглушались выстрелами штурмовиков. После прихода Гитлера к власти Брехту пришлось покинуть Германию, книги его были публично сожжены гитлеровцами. Формой любви к родине стала для писателя ненависть к фашизму. Этой ненавистью были проникнуты его пьесы: «Винтовки Тересы Карар», «Мамаша Кураж», «Карьера Артура Уи» — и многие другие произведения выдающегося драматурга, поэта и публициста. Новые пьесы Брехта, обойдя театры земного шара, принесли своему автору известность противника буржуазной рутины, славу новатора, создателя оригинальной постановочной школы.
Современное театроведение изучает обширное творческое наследие Бертольта Брехта, стремится определить исторические истоки его драматургии.
«Вспоминая о Брехте, — пишет народный артист СССР Максим Штраух, — я невольно думаю о Маяковском, Эйзенштейне и о других художниках нашего века, кто безраздельно и безоговорочно посвятил свою жизнь делу революции, строительству будущего. Как человек, не первый год работающий в театре, я не могу не заметить, что на многих поисках и работах Брехта лежит отпечаток двадцатых годов советского театра».
Действительно, многое роднило Брехта с молодым Маяковским, с литературой первого десятилетия Советской власти, а прежде всего революционная целеустремленность. Говоря о культурном наследии прошлого, поэт призывает прославить тех, «кто писал, сидя на голой земле, в тесном кругу борцов и униженных». Автор стихотворения «Посещение изгнанных поэтов» обрушивает свой гнев на политические режимы тех стран, где преследуются книги свободолюбивых писателей всех времен. В своих статьях о литературе Брехт подчеркивает, что классики учат «находить общественно значимую фабулу, умело излагать ее драматически, создавать интересные образы людей, заботиться о языке; учат выдвигать великие идеи, быть на стороне всего общественно прогрессивного».
Творчеству Брехта присуща широта исторического кругозора, присуще стремление выявить общественные противоречия в потоке времен, стремление доказать общность интересов людей труда во всех частях света. В едином сценическом действии драматург показывает героев разных эпох. События и люди далекого прошлого, вступая в перекличку с сегодняшним днем, занимают в пьесах Брехта то место, которое им принадлежит в сознании современного человека. Обращаясь к исполнителям своих пьес, Брехт пишет:
... Настоящее не должно заслонять Прошлое, будущее и все сходные явления, Происходящие в настоящем, но за стенами театра.И завершает это обращение призывом:
... Заставьте зрителя Многократно пережить это настоящее, Приходящее из прошлого и уходящее в будущее, А также все, с чем настоящее связано. Зритель почувствует, что он не только сидит в театре, Но и живет во вселенной.В поисках новых форм для нового содержания Брехт решительно разошелся с буржуазными поэтами, писателями, драматургами, которые новизною изобразительных средств пытаются прикрывать враждебные народу идеи. Ничего общего не желал он иметь и с теми художниками, для которых форма произведения — самоцель.
В статье «О стихах без рифм и регулярного ритма» Брехт указывает на некоторые обстоятельства, побудившие его обратиться к несколько необычной поэтической форме: «Когда мне случается публиковать безрифменные лирические стихи, меня иной раз спрашивают, как это я позволяю себе выдавать такие поделки за поэзию; в последний раз аналогичный вопрос был мне задан по поводу моих «Немецких сатир»... «Немецкие сатиры» были написаны для немецкого «свободного радио». Задача была в том, чтобы донести до далеких, искусственно разделенных слушателей отдельные фразы. Передачам надлежало быть максимально лаконичными... Стихи без рифм с нерегулярными ритмами казались мне подходящими для данной цели».
«Кроме того, — замечает Брехт в добавлении к той же статье, — повседневную речь в гладких ритмических формах выразить невозможно — разве что иронически. А простая, обыденная речь мне вовсе не казалась противопоказанной поэзии, как это нередко утверждается».
О художественной прозе Бертольта Брехта, как автором, так и исследователями его творчества, сказано очень мало, а между тем она заслуживает самого пристального внимания.
Рассказы Брехта — глубокие образные раздумья об участи человека, находящегося в плену своей эпохи. Писатель отвергает представление о герое-жертве, о герое-страстотерпце, а тем более о герое-завоевателе. Его внимание привлекают такие люди, такие обстоятельства, которые способны привести читателя к зрелым, передовым представлениям о жизни.
В рассказе «Плащ еретика» автор не стремится приукрасить героя. Он подчеркнуто называет Джордано Бруно не просто низкорослым, а «маленьким» человеком. Великий ученый предстает читателю «узкоплечим», «исхудалым», «с проредью в темной бороденке». Но этот «маленький» узник венецианской тюрьмы обладает несокрушимой цельностью и широтою души. Нет, он не намерен стать жертвой. Он яростно сражается с инквизиторами за свою жизнь, за возможность новых открытий в науке. Писатель ограничивается указанием на одну-единственную черту, позволяющую почувствовать все обаяние личности Джордано. Это — участливое отношение философа к жене портного, преследующей узника неоплаченным счетом. Подлинный гуманист даже перед лицом гибели остается человеком большого сердца.
В раздумьях о духовных связях между людьми, о природе знания и об искажающем влиянии мрачных эпох взгляд писателя останавливается на противоречивой и сложной биографии Фрэнсиса Бэкона, основоположника английского материализма. Действие рассказа «Опыт» отнесено к 1626 году — последнему году жизни мыслителя. Ученый с мировым именем, бывший лорд-канцлер Англии — не идеал человека. Брехт не оправдывает его пороков, отмечая достоинства. Большая жизненная правда заключена в том, что деревенский подросток Дик, не обращая внимания на темные слухи, ловит каждое слово учителя: мальчика подкупает ясность мышления естествоиспытателя, жажда научного познания природы вещей. Содержание «Опыта» не ограничивается внешним развитием сюжета. Главный герой рассказа — пытливая человеческая мысль, пробивающая себе дорогу в самых неблагоприятных условиях.
Своеобразен литературный прием, примененный писателем в рассказе о «непутевой старухе». От читателя требуется незаурядная чуткость, чтобы по суждениям городских обывателей, по переписке сыновей умершего владельца литографии составить представление о подлинном перевороте, произошедшем в жизни пожилой женщины, которая до семидесяти лет была рабой домашнего очага. С какой естественностью интонаций звучит на страницах рассказа филистерское пренебрежение ко «всяким малопочтенным личностям, безработным кельнершам и подмастерьям», собиравшимся вечерами у сапожника, который, «кстати, оказался социал-демократом»! По этим не очень броским деталям читатель вправе предположить, что новые интересы вдовы были человечней и выше мещанских представлений о них. Нельзя оставить без внимания заключительных слов рассказчика о покойной: в чертах ее лица было «много мелкого, но ничего мелочного».
Сходный прием будто бы случайных обмолвок, сходная недосказанность обнаруживаются и в занятных рассказах о господине Койнере.
Господин Койнер (или, в авторском сокращении, господин К.) думает об окружающем его мире, о людях, о нравах, о правах человека во многом так же, как сам Брехт. Он склонен к иносказаниям, придающим безобидную внешность проницательным и метким суждениям. Так, отвечая на вопрос маленькой девочки, господин Койнер в самых доступных выражениях рисует картину общества, в котором хозяйничают капиталистические акулы. В шутливой историйке о том, как ему довелось поработать батраком у садовника, рассказчик дает далеко не шуточный отпор формализму в искусстве.
После разгрома гитлеровского режима, разгома, в котором боевое слово писателя принимало активнейшее участие, Бертольт Брехт возвратился из многолетней эмиграции. Возвратился не в Аугсбург, где он родился, не в Западную Германию. Он приехал в Берлин, в столицу молодой Германской Демократической Республики, потому что считал это государство первым в истории своего народа настоящим отечеством рабочих, крестьян, художников и ученых. Он возвратился пятидесятилетним, еще не старым, но с неизлечимой болезнью сердца.
Земляки радостно встретили своего поэта. Именем Бертольта Брехта была названа площадь в Берлине. Основанный драматургом театр Берлинский Ансамбль познакомил с пьесами Брехта города многих стран мира, в том числе и Советского Союза.
Брехт не пренебрегал советами врачей, но он просто не мог оставаться дома, когда в театре готовилась новая постановка. Там разучивала мизансцены Елена Вайгель, там пел Эрнст Буш, там были его друзья. Одна из репетиций в августе 1956 года стала для больного последней.
Так оборвалась жизнь замечательного человека.
Но жизнь его художественных произведений, можно сказать, только еще начинается. Ежегодно выходят на разных языках мира книги Брехта и труды ученых, посвященные его творчеству. Театры всех континентов обогащают свой репертуар новыми сценическими воплощениями пьес немецкого драматурга. Песни Брехта продолжают звучать.
Бертольт Брехт очень дорожил смысловой нагрузкой своих произведений. Какую правду нес он людям? Правда его проста и трудна. Да — коммунизму, нет — войне! — таков высший смысл многообразной деятельности Бертольта Брехта, выдающегося писателя нашего столетия, лауреата Ленинской премии «За укрепление мира и взаимопонимания между народами», доброго человека из немецкого города Аугсбурга.
К. Орешин



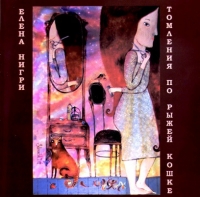




Комментарии к книге «Песня единого фронта», Бертольд Брехт
Всего 0 комментариев