Люциан Шенвальд Плечом к плечу Избранное
ПОЭТ-ВОИН
Накануне боев под Ленино[1] в тесной избе, где временно расположился политотдел Первой польской дивизии им. Тадеуша Костюшки, шло последнее совещание, на котором политработники дивизионного аппарата распределялись по полкам и батальонам. Проверялся каждый боевой участок и рассматривалась каждая кандидатура. Очередь дошла до Люциана Шенвальда — историографа дивизии и известного польского поэта.
— В дивизию я пришел не как поэт, а как солдат, — сказал Шенвальд. — Я думаю, что место поэта — в строю, впереди всех или рядом с первыми. Прошу разрешить мне итти в бой с батальоном майора Ляховича.
Первый батальон, которым командовал опытный офицер майор Ляхович, должен был принять на себя главный удар гитлеровцев, и поэтому все присутствующие невольно посмотрели на заместителя командира дивизии по политчасти. Не скрывая улыбки, он сказал:
— Хорошо, поручик Шенвальд пойдет в первый полк, но не в первый батальон, а в распоряжение штаба.
Когда закончилось совещание, Шенвальд, не дожидаясь попутной машины, пешком отправился в полк. В штабе он не усидел и на рассвете был в первом батальоне, в самой гуще боя.
За мужество и личную доблесть, проявленные в битве под Ленино, где плечом к плечу сражались с общим врагом советские и польские воины, польский поэт, поручик Люциан Шенвальд, был награжден орденами Красной Звезды и Креста Отважных.
* * *
Люциан Шенвальд (1910–1944) прошел сложный творческий путь.
Этот путь определился той общественно-политической обстановкой, которая сложилась в Европе и, в частности, в Польше между двумя войнами. В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в России Польша, после полуторавековой неволи, получила в 1918 году свою государственную самостоятельность. Однако с первых же дней существования Речи Посполитой власть в ней захватили помещики и капиталисты, которые при поддержке социал-предателей превратили страну в источник своего обогащения.
Люциан Шенвальд, выходец из среды зажиточного варшавского мещанства, естественно, принес в поэзию мировоззрение той общественной группы, которая в области искусства утверждала аполитичность, эстетство, рабское преклонение перед французским декадансом. Творчество молодого поэта в ранний период — 1925–1928 годы — в силу незрелости и вынужденного подражания моде в основном определялось этими чертами.
Однако уже и в эту раннюю пору в поэзии Шенвальда начинают звучать социальные мотивы, проявляется, правда, еще робкое, ограниченное рамками мелкобуржуазной идеологии, бунтарство, которое позднее, в годы исканий, приведет поэта в лагерь борцов с фашизмом.
Первые стихи молодого Шенвальда, опубликованные в 1925–1926 годах на страницах варшавского литературного журнала «Скамандер», почти целиком были данью моде, подражанием французскому декадансу. Но вскоре поэт начинает сознавать ограниченность социальных идеалов мелкобуржуазной среды, затхлость мещанского мира, который толкал его на путь формализма, эстетства и сомнительного «новаторства».
В 1926 году в стране происходит диктаторский переворот Пилсудского, окончательно ликвидировавший в Польше видимость демократических свобод. Этот переворот повлек за собой дальнейшее ухудшение политического и экономического положения рабочего класса, крестьянства и средних слоев, вызвав, естественно, в стране рост революционных настроений. И хотя поэт пытается сохранить нейтральность по отношению к политическим событиям, но суровая действительность заставляет его все чаще задумываться над вопросами, далеко выходящими за пределы его прежних, узко поэтических интересов.
В этом же 1926 году Шенвальд поступает в Варшавский университет на отделение классической филологии. Он изучает классические и современные языки, читает в оригинале Гомера, Шекспира, Гёте, Пушкина и Шелли. Шенвальд, первые шаги которого были отравлены тлетворным влиянием западноевропейского декаданса, начинает понимать, что в творениях великих поэтов прошлого живет подлинная поэзия.
Через десять лет, в послесловии к поэме «Сцена у ручья», Шенвальд заявит об этом во всеуслышание и не без сарказма напишет, что «…имена этих поэтов заставили бы покраснеть наше крикливое поэтическое поколение, если бы оно хоть немного знало, что представляет собою их творчество. Никогда я не примирюсь с мыслью, что поэзия наша будет оставаться так далеко от вершин, которых достигли эти великаны».
Изменения в политической жизни страны, последовавшие в ближайшие годы после переворота Пилсудского, — провозглашение так называемой «санации»[2] — усиливают дух бунтарства в поэзии Шенвальда. Однако со свойственной его среде непоследовательностью поэт то отрицает право на существование «санационного» режима, то ограничивается требованием его улучшения.
Увлечение классическим стихом, начавшееся в стенах университета, также накладывает заметный отпечаток на творчество Шенвальда. Влияние это пока чисто внешнее, оно касается главным образом форм поэтических произведений, все разнообразие которых использует молодой поэт. Но даже и это влияние классики вступает в неизбежный конфликт с заумностью декаданса, с его разложившейся формой и создает известный эклектизм, от которого с трудом освобождается поэт в последующие годы своих исканий.
Но тем не менее, подводя итоги раннему периоду творчества Люциана Шенвальда, надо сказать, что в нем уже были заложены основные тенденции его поэзии: бунтарство впоследствии выльется в сознательный протест против буржуазной действительности и приведет поэта в лагерь борцов с фашизмом; увлечения классическим наследством заставят поэта преодолевать формалистическое влияние и освободят его поэзию от всего наносного и случайного.
* * *
Следующий период в творчестве Люциана Шенвальда — 1929–1938 годы — это годы неутомимых исканий новых путей в жизни, а отсюда — новых для себя тем и героев.
После некоторых колебаний поэт находит в себе силы окончательно порвать с мелкобуржуазной средой, становится в ряды борцов против фашизма и ищет темы своих произведений в жизни рабочего класса, в жизни народа.
От неопределенных призывов к бунту, характерных для стихов раннего периода — «Варшава» (1925), «Бунт» (1925), «Касса» (1926), «Песня громил» (1927), — поэт переходит к стихам, воспевающим классовую борьбу, — «Революционерка» (1929), «К сознательной работнице» (1935), «Пожелания» (1936), «Сцена у ручья» (1936) и др.
В первых стихах этого цикла, особенно в стихотворении «Революционерка», еще заметно эстетское любование революцией, но постепенно стихи становятся более целеустремленными, зовущими к сознательной борьбе с классовым врагом. В стихотворении «Пожелания», открывающем этот сборник избранных стихов Шенвальда, видно уже не только сочувствие борцам за свободу, но и твердое убеждение поэта в близости победы над фашизмом. Всеми своими мыслями и чаяниями поэт на стороне героических защитников республиканской Испании. Если бы он мог превратиться в скалу, заявляет поэт, то:
Только б вы, защитники свободы, только б ваши батареи, шли чрез горные проходы, в облаках с орлами рея! С кручи вы врагов сбивали б в пропасть, тучи шли б за вами следом, чтоб огонь отваги, честь и доблесть вас вели к победам!В этом произведении, несомненно, продолжается линия, намеченная еще в стихотворении «Революционерка», где поэт, как бы предвидя будущее, говорил: когда он (поэт) вырастет, то примкнет штык к винтовке и измене предпочтет смерть с пением революционного гимна!
Особое место в творчестве Шенвальда занимает «Сцена у ручья» — крупнейшее произведение молодого поэта, как бы завершавшее период его формирования. Поэма была написана в 1935 году, но из-за выраженных в ней антиправительственных тенденций издание ее было делом чрезвычайно сложным. Издатели в течение года не решались напечатать поэму, понимая, что ее опубликование вызовет отрицательную реакцию правящего лагеря. Тем не менее в 1936 году поэма была напечатана.
Поэма «Сцена у ручья» явилась откликом прогрессивных сил Польши на усиливающуюся фашизацию страны. Хотя поэма затрагивает сравнительно небольшой участок польской жизни, но и в нем поэт сумел разглядеть и передать в художественных образах непримиримую борьбу классовых интересов. В своей поэме Шенвальд рисует бесправное положение польского крестьянства, нищету народа при капитализме, критикует систему буржуазного воспитания и разоблачает попытку фашистской агентуры морально растлить рабочую молодежь.
Достоинство поэмы заключается не только в показе и критике неприглядной действительности современной поэту Польши, но и в той революционной заостренности, с какой он это делает. В послесловии к поэме Шенвальд писал: «Требую от писателя, чтобы он был человеком партийным, сражающимся на определенном участке баррикады…». Это требование поэта, обращенное прежде всего к самому себе, к своему творчеству, не могло не сказаться на поэме, поставившей в художественной форме целый ряд актуальных для своего времени вопросов.
Серьезные недостатки поэмы — символичность некоторых образов, необоснованность отдельных сцен, нарушающая реализм повествования, излишний психологизм — все же не могут заглушить ее прогрессивности, ее гневного и оптимистичного звучания.
В предисловии к посмертному изданию стихотворений Люциана Шенвальда польский поэт Северин Полляк справедливо указывает, что на развитие поэтического таланта Шенвальда в тот период значительное влияние оказали книги Юлиана Тувима «Слова в крови» и Мечислава Брауна «Ремесла», в которых решительно прозвучал протест против «санации».
Заметное воздействие на становление поэта оказывает советская поэзия, и Шенвальд неоднократно обращается к творчеству Владимира Маяковского.
Уже в литературной группе «Квадрига»[3], состоявшей преимущественно из поэтической молодежи, Шенвальд занимает одно из руководящих мест. Поэт резко выступает против той части интеллигенции, которая поддается демагогическим лозунгам польского фашизма.
В многочисленных поэтических дискуссиях он смело требует от поэтов участия в борьбе рабочего класса и призывает их отдать все силы для победы над фашизмом. Шенвальд устраивает вечера, посвященные переводам из Пушкина, На этих вечерах он пропагандирует не только творчество великого русского поэта, но и литературу Страны Советов. В этот же период поэт создает артистический коллектив «Красный маяк», выступавший перед рабочей аудиторией Варшавы. Смелые выступления этого коллектива обнажали самые темные стороны политической действительности того времени. Позже, в дивизии им. Тадеуша Костюшки, Шенвальд еще раз вернется к форме обозрения, создавая для дивизионной газеты «Солдат свободы» свои остроумные фельетоны «Беседы капрала Гожалы».
Деятельность поэта в предвоенные годы не ограничивается областью литературы. Он принимает активное участие в студенческих организациях, в работе революционных классовых профсоюзов[4], участвует в забастовочном движении, ведет пропагандистскую работу.
* * *
Военные события осени 1939 года бросают Шенвальда вместе с десятками и сотнями тысяч поляков на изрытые войной дороги. Шенвальд понимает, что, несмотря на поражение Польши в войне с гитлеровскими ордами, дело народа не погибло, что есть сила, которая в решительный момент выступит на защиту угнетенных и разгромит немецкий фашизм. Поэт видит эту силу в стране социализма — Советском Союзе. Когда в сентябре 1939 года Красная Армия освобождала западные земли Украины и Белоруссии, Шенвальд приветствовал ее части, вступившие во Львов. Поэт быстро включается в новую для него советскую жизнь и сначала работает на Украине в качестве редактора во Львовском областном радиокомитете, а затем идет в ряды Красной Армии.
В тяжелые дни германского наступления 1942 года, когда гитлеровские орды рвались к Сталинграду, а реакционное лондонское польское правительство предательски выводило в Иран сформированные в Советском Союзе польские дивизии, — в Москве создается Союз польских патриотов в СССР. Союз обращается к советскому правительству с просьбой о разрешении сформировать для борьбы с немецкими захватчиками польское воинское соединение. Так в мае 1943 года возникает Первая польская дивизия им. Тадеуша Костюшки, ставшая впоследствии ядром демократического Польского Войска. Люциан Шенвальд одним из первых вступает в ряды дивизии.
Здесь он создает свое известное стихотворение «Юзеф Надзея пишет из Средней Азии», в котором выражает мечты и чаяния всех честных поляков-патриотов, верящих в освобождение своей родины при поддержке Советского Союза. В 1943 году, когда в Сельцы на Оке, где формировалась дивизия, прибывали будущие участники боев под Ленино, среди них почти не встречались люди, которые бы не знали проникновенных шенвальдовских строк:
Дайте оружия! Автоматы, Чтобы крошить злодеев проклятых! Мне сердце жжет огонь беспокойства… …Прошу зачислить меня в солдаты Польского Народного Войска.С этого времени начинается наиболее плодотворный период в творчестве Люциана Шенвальда.
В стихах этого периода, представленных в настоящем сборнике двумя циклами — «Через линию фронта» и «Плечом к плечу», — явственно звучат две политические темы, определяющие, в сущности, все творчество поэта. Первая из них — это тема борьбы с гитлеровскими захватчиками на фронте и в тылу, вторая — борьба за социальное переустройство будущего польского государства. Шенвальд понимает, что народ, разгромив фашистских оккупантов, не захочет снова вернуться под власть помещиков и капиталистов, под иго реакционной клики, покрывшей себя позором в дни капитуляции.
Одно за другим пишет Шенвальд острые политические стихотворения, обращенные и к воинам дивизии им. Тадеуша Костюшки и к партизанам Армии Людовой, организованной в оккупированной Польше польской рабочей партией. Не забывает поэт и польских солдат, разбросанных по всему свету, от Лондона до Ближнего Востока. То, что только намечалось в поэме «Сцена у ручья» и в стихотворении «Пожелания», звучит теперь, как набат. Стих становится идейно устремленным, лаконичным, строгим и ясным по форме.
Образцом такой лирики Шенвальда-солдата является стихотворение «Пятая колонна». В нем поэт ставит своей задачей вскрыть подноготную санационного режима как режима предательства, сговора с германским фашизмом, окончательно его разоблачить и отдать на суд народа.
Шаг за шагом разоблачает Шенвальд политику бывших польских правителей, доказывая, что они потеряли всякую связь с народом. Здесь же он раскрывает подлинное лицо эмигрантского лондонского правительства, в состав которого входили люди, в свое время уклонившиеся от борьбы и бежавшие из Польши, чтобы с помощью штыков англо-американцев вновь навязать польскому народу свое господство. Этим горе-правителям Шенвальд противопоставляет подлинных защитников родины, патриотов-партизан и вооруженный народ, борющийся против своих поработителей плечом к плечу с Советской Армией. Поэт писал:
Народ — в пути, над ним — победный стяг, Листаются истории страницы… Я знаю — буря этих грозных лет С лица земли сотрет ваш грязный след.За распространение этого стихотворения среди андерсовских войск на Ближнем Востоке реакционное командование бросало польских солдат в тюрьмы. Ход истории подтвердил предвиденье Шенвальда: освобожденный польский народ смел с лица земли грязный след «санации».
* * *
Люциан Шенвальд был не только поэтом, но и бойцом. Занимая скромную должность заместителя командира роты противотанковых ружей, он прославился в дивизии им. Тадеуша Костюшки как один из лучших политработников.
Позднее, с реорганизацией польских соединений в 1-ю Польскую армию Шенвальд становится преподавателем Школы политических руководителей, продолжая свою деятельность в качестве официального историографа дивизии им. Тадеуша Костюшки.
Понимая, что для правильного отражения этой истории надо быть не только наблюдателем, но и активным ее созидателем, Шенвальд-преподаватель стремился передать своим слушателям опыт борьбы рабочего класса в довоенной Польше, опыт борьбы народов Советского Союза с гитлеровскими захватчиками.
У своих слушателей и подчиненных он неизменно укреплял веру в победу над фашизмом, воспитывал в них чувство беззаветной преданности народу.
В одном из своих лучших стихотворений, «Элегии на смерть Мечислава Калиновского», созданной поэтом после боев под Ленино, Люциан Шенвальд писал:
О вы, что в тишине мечтаете о счастье, Зажгите впереди огонь великой цели! Ведь если в жизни вы лишь жизнь найти сумели, Вам лучше в тьму запасть, рассыпавшись на части. Учитесь пламенеть! Проверьте год за годом Всю жизнь свою сейчас, и если в ней найдете Огонь священный тот, что вас сроднил с народом, — Жить будете, а нет, — вы в бездну упадете, Истлеют имена и кости побелеют. Лишь тот умеет жить, кто умирать умеет, Но так, чтоб от его прямой судьбы солдатской Осталось на века прекрасное горенье, — Не только пепла горсть в простой могиле братской, — А пламенный огонь — народа вдохновенье.Эти мужественные слова поэта были девизом всей его жизни. Люциан Шенвальд сумел зажечь перед собой огонь великой цели и посвятил ей всю свою жизнь.
Поэт, глубоко изучивший реалистический стиль советской литературы, сделавший реализм методом своего творчества, в последние дни своей жизни отдал много сил популяризации этого метода среди польских писателей. К съезду писателей в Люблине Шенвальд подготовил обращение, в котором звал своих товарищей по перу создавать такие произведения, которые помогут возродить родину и укрепить в ней новый, справедливый общественный строй.
Смерть не позволила поэту лично выступить с этим обращением. Он, не раз смотревший ей в глаза, без тени сомнения шедший в огонь боя, стремившийся в родную Варшаву, которая догорала в результате еще одной измены польских реакционеров, погиб как воин в стремительном движении к новой битве…
Но варшавяне не забыли своего поэта. В третью годовщину освобождения Варшавы Советской Армией и Польским Войском бережные руки варшавских рабочих, солдат и писателей перенесли прах поэта-воина на братское кладбище защитников столицы и похоронили в скромной солдатской могиле.
* * *
Сегодня, через пять лет после гибели Люциана Шенвальда, в освобожденной Польше уже заложены основы для построения социалистического общества, о котором мечтал и за которое боролся молодой поэт.
Среди стихов этого сборника читатель найдет образ той благородной силы, которая помогла польскому народу выйти на широкую дорогу социалистического строительства. Этому образу — СССР и его героической армии — поэт-воин посвятил много проникновенных строк, называя нашу страну «страной друзей».
Стихи Люциана Шенвальда несомненно найдут горячий отклик у советского читателя, который по достоинству оценит страстную любовь поэта к своей родине и народу, непоколебимую веру в победу прогрессивных сил мира и ненависть к врагам человечества.
В. Арцимович
I В ПОИСКАХ ПУТИ
Пожелания
I
Если б я был облаком летучим, дуновеньем реял бы по тучам, если бы по небу голубому я понесся далеко от дома, не туда б летел я, где, качая парусные корабли и чаек, плел бы из меня прохладный ветер ярких роз гирлянды на рассвете; полетел бы я туда, где жгуче греет солнце грозовые тучи, в них накапливая, как червонцы, быстрых молний маленькие солнца; не резвился бы я в небе синем, не носился с ветром по вершинам, под сияньем месяца не стлался, отражением своим в озерах зачарованно не любовался, плавая в просторах… В тучу бы сгустился я туманом, зазмеился огненным изломом, загремел бы грозно гулким громом, словно трубами, пред ураганом; долетел бы до того уступа, где слетелись коршуны у трупа, где встает скалистыми горами Сиерра Гвадаррама…[5] Слышишь, как над пропастью на кручи двигаются грозовые тучи? Это молний батареи! Там, ударив градом по граниту, я гремел бы, молниями рея, путь загородив врагам к Мадриду!II
Если бы я был потоком чистым, пенящимся, быстрым, серебристым, — не скакал бы я средь скользких скал и сияньем весь до дна не трепетал, по лугам цветущим не скользил, не накапливал зеленый ил, но потоком мчался бы широким чрез ущелья скал крутых, где грозы мечут в дыме молнии-перуны, и собрал бы я со вздохом слезы всех сирот и вдов Ируна… А потом очами голубыми поглядел на горы в синем дыме: «Гей, что там гнездится над долиной, то пикет иль выводок орлиный? А внизу ползет — что? — жук рогатый или танк, закованный весь в латы?» Приподняться б мне волнами выше: Это бой! Там в грозовом затишье видны атакующих прорывы, блеск стволов винтовок и разрывы; видны проволокою колючей оплетенные над бездной кручи, и в лесу завалы, баррикады, бьют по отступающим снаряды, на кустах — рубах, обмоток клочья; точно птица, самолет кружится — то сраженье армии народной! Если б им рекою мог помочь я, раны им омыть волной холодной! Кровь богатырей в струях потока долго ль мне нести в долине тесной Я сорвал бы с берега осоку, флейту сделал бы для новой песни! Волны я поднял бы выше башен, пепелища смыл, разгневан, страшен, и от крови мутен и багрян вдаль потек под Сан-Себастиан; над рекой он крепостью встает с горсточкой бойцов для обороны. Пусть несется мой водоворот, гневом, яростью разгоряченный!III
Был бы я горою каменистой — не взбираться б на меня туристам, вооружены лорнетом, пледом, не ходили б за поэтом следом, не заглядывали бы в мой кратер, не снимали фотоаппаратом. Только б вы, защитники свободы, только б ваши батареи шли чрез горные проходы, в облаках с орлами рея! С кручи вы врагов сбивали б в пропасть. тучи шли б за вами следом, чтоб огонь отваги, честь и доблесть вас вели к победам!1936 г.
К сознательной работнице
(КАНЦОНА)
Люблю смотреть я утром, Когда заря разлита, Как рано ты выходишь на работу! Идешь ты шагом бодрым, И розовеют плиты, И вкруг твоих волос лучится позолота. А маленькие руки Тебе целует ветер, Но ты полна заботы, Гудка ты слышишь звуки, Нет времени махнуть рукой назад в привете, Ведь дымом над домами Труба фабричная пятнает в небе пламя. Глаза глядят сурово, Улыбка с губ спорхнула, Ты всех товарищей своих увидишь скоро. И вот ты с ними снова В прибое ровном гула На подневольный труд идешь по коридору. Забыв про разговоры, Во время перерыва Читаешь ты листовку, Ее запрятав ловко, А за окном бурливо Шумят весны разливы. И над станком, читая, Склонилась ты, и мысль в уме растет большая, Мысль наконец созрела, И взгляд твой снова весел, А в голосе твоем рокочет звон металла. Ты говоришь так смело, Все «за и против» взвесив, И выпрямляются согбенные устало. Вдруг тишина настала: Слова пылают гневом, Летят, как искры горна, И сыплются, как зерна, Всем в души падают живительным посевом, Роняя капли силы В сердца, что, как цветы средь засухи, унылы. О нет, я не забуду Тот митинг и начало Великой стачки той, — о ней поются песни! Как ярко в ту минуту Лицо твое сияло, В веснушках золотых, преобразясь чудесно! Как громко ты сказала: «Ведь мы непобедимы!» И после яркой речи К тебе упал на плечи Закатный красный луч в окно сквозь копоть дыма, И важные вопросы Решались в сумерках, и рдели папиросы. Руля лишившись, лодка, Теченью волн покорна, Погибнет наконец в водоворотах моря, — Но целый месяц ходко Среди пучины черной Корабль рабочий плыл, с волненьем встречным споря. Тебя схватили вскоре, Тебя арестовали Украдкой ночью темной — Нашелся шпик наемный, И ты в тюрьму пошла с улыбкой, без печали, Но тут же за кормило Схватилось двести рук — и буря не сломила! Уже звучит сегодня Гимн боевой наш четко, Хотя мы и живем пока еще в подполье… Еще ты не свободна, Не видишь чрез решетку Тех женщин, что давно живут, цветут на воле,— Но тракторы средь поля, Орудия, лафеты, Сердца, колосья, пули Весь мир наш повернули На новые пути, и я не знаю — где ты: Иль в одиночках Вронек[6], Иль в Полоцке[7] звучит твой голос, чист и звонок? Не раз еще пойдем мы грудью на железо, Но и к тебе в оконце Тюремное — блеснет лучом свободы солнце!1935 г.
Сцена у ручья
ПОЭМА
Лучшему товарищу и другу
Розе Закс-Шенвальд[8],
с которой в мае 1935 года видели мы
вместе окончание третьей главы,
поэму эту посвящаю
ВСТУПЛЕНИЕ
Там, где куколем нивы покрыты И поля глубоки, как моря, На лениво звенящее жито Осторожно крадется заря. Мягкой лапой проводит по чаще. Пробуждается влажная ширь, Над дыханьем травы шелестящей Окликает кукушку снегирь. Оживляются темные гнезда, Обсуждаются страшные сны, Розовеет над рощами воздух, И позиции ночи сданы. Хочет дикая яблонь листами Протереть изумруды очей, Зачарованными зрачками На нее загляделся ручей Он влюбленно ее обнимает, Камышами у ног шелестит, Он ей песни и сказки слагает И сверкающей влагой кропит. В этот миг свет сменил полутени, Шорох трав все трудней различать… Слышишь грохот? А сердца биенье Ты попробуй руками унять.* * *
Камень в шопоты ночи влетает, Тишину разорвав на куски. Ночь прислушалась, ночь различает За рекою рассвета шаги. Утомленными пущен руками, Прорезая листву на ветвях, Полукругом летел этот камень И, как аист, засел в камышах. Это, камни кидая в ели, Шли за хворостом мужики, Невеселые песни пели, Песни древней мужицкой тоски. Стыли пни среди темной трясины, Под ногами качалась земля, Шли крестьяне за кринкой малины, За корзинкою щавеля. Рассердилась листва — чьи проделки? Но никто, кроме белки, Не заметил, где и откуда Пролетел этот камень черный, Чтобы скрыться в траве озерной. Не ответят щеглы и кукушки, Чьи следы испарились В мокрых травах опушки. Долго выстрел гудел за осокой, Тишина расползалась по травам, В небе ястреб кричал одиноко. Прах и пыль — разве ветру сберечь их? Лес сомкнется, в ветвях закипая, Лес богатых — от края до края Ты растешь на костях человечьих! Только пес прибежит издалече, Будет корни обнюхивать с лаем И к земле припадать завывая. Иль дитя, с волосами как пламя, У ручья провожая рассвет, К землянике склонясь под кустами, На кровавый наткнется след. О кровавые сечи в лабиринте барсучьем, Средь осиновых сучьев, в перелесках паучьих! Столько шрамов на теле и ушибов на спинах, Сколько ягод на поле, сколько в речке песчинок. Даже в ландыша пеньи столько лязга и стонов, Сколько красных полосок в предрассветных загонах. Сколько лес мухоморов ядовитых скрывает, Столько слез и страданий на земле созревает, Слышат рощи все чаще свист разбойничьей злости, И ломаются буков деревянные кости. И чем больше погибнет душ крестьянских в овине, Тем краснее кораллы расцветут на калине, Если кровью крестьянской мох досыта напьется, Значит запах острее по лугам разнесется. Камни, камни, чем глубже вас река затопила, Тем мудрее деревья и тем больше в них силы. Лес, твой запах смолистый тот лишь сладко вдыхает. Кто здоровье и силу от тебя получает. Тем, кто голодом загнан под косматые ели, Ты несешь дрему смерти на зеленой постели. Панам сладостью веешь, а крестьянам — смолою, Даже стадо уходит от тебя стороною. Где-то в городе дальнем в душных комнатах дети, Всё тоскуют по лесу и, запутавшись в числах, Как в огромных деревьях, вспоминают о лете.ГЛАВА ПЕРВАЯ
На грани городских дорог, Где кирпичом овраг завален, Где камни, щебень и песок, Средь нищих хижин и развалин, Похожая на грязный лоб, Громадой серой и тяжелой Средь рыжих каменистых троп Бесплатная чернеет школа. Угрюмый, неуютный дом, Грозящий равнодушным тучам. Там ходит время под окном Подстать служителям скрипучим. Массив цемента и стекла, На небо тень твоя легла! Здесь, крепко стиснуты камнями, Высоко окна поднялись, Здесь клеток лестничных узлами Все этажи переплелись. Сажени комнат, коридоры, И возвышенья мрачных кафедр, И парт изрезанные хоры, И карцер, словно черный кратер. Здесь ниши грозные нависли, Здесь время, словно часовой, И все возвышенные мысли Здесь измеряют пустотой. В окно уже влезал рассвет, Как вор, вооружившись ломом, И солнца светлый первоцвет, Скользя на стены и паркет, Один распоряжался домом. Оцепенелых парт хребты Одело первое сверканье. Еще мышиное шуршанье Не смолкло в комнатах пустых, — А солнце уж неслось по зданью. Седые пятна нарастают, Мешаясь с темнотой чернил, Шкафы багровые пылают, Со стен сползает желтый ил. И даже классная доска В следах каракуль неумелых Стоит светла и высока, Вся в бликах розовых и белых. И в этот мир стекла и лома Ворвался шелест, смех и звон… Откуда этот свист и гомон? И этот смех — откуда он? Быть может, хор гостей пернатых Под своды мертвые проник? Иль полный бабочек мохнатых В окно ворвался материк? Нет, то не птицы и не пчелы, Не сад, не джунгли — со двора Ворвалась в помещенье школы Оборванная детвора. На них заплаты и лохмотья Дырявых кофт, отцовских брюк, Их кудри в яркой позолоте, И парты вздрогнули вокруг Под дробь неугомонных рук. Несется к сводам шум и гомон, Все шире голых пяток круг, И окна дребезжат по дому, Дрожат от криков их — но вдруг… Нет, то не трудовой медяк, Что заработан тяжким потом, В стеклянный стукнулся колпак, — Звонок врывается с налета! Как мастера в дыму тяжелом Пропахшая махоркой тень, Дымит и оживает школа, Учебный начиная день. Но что же ты, мрачная школа, за школа, Когда не родишь ты в нас мыслей веселых? Как трудно привыкнуть нам к партам дощатым, Что так неприветливы к детским заплатам. И кто тебя выстроил, тесная школа, Не наши ли слезы, да холод и голод? Хоть места ногам да рукам здесь хватает, Но наших голов этот дом не вмещает. Сквозь стекла затылки жара обжигает, И пыль покрывает тетради и руки, И вот из твоих коридоров вползает Бесформенный образ томительной скуки. На партах раскрытые вянут тетрадки, И солнце чернильные капельки сушит, Директорский череп сияет, как груша, Директорский тенор поет нам так сладко, ЧтО есть орлы и чтО — полет, Грудь, перья, ленты, флаги флотов И как венками роз народ Венчает славных патриотов. Что уголь — наш, и что в казну К нам льется нив широких жито… Он вспомнил перьев белизну, И только о когтях молчит он[9]. Как тягостно время урока плетется, И каждое слово — как камень в колодце. Ты, кафедра, зря к нам стремишь песнопенья. Мы помним все песни и все оскорбленья! Ты, череп скрипучий и лысый, как небо, Зачем мечешь громы так важно и буйно? Орлы твои скупы — нам не дали хлеба. Уйми свои громы! Одень нас, обуй нас! А солнечный зайчик играет так чинно… На партах следы от ножей перочинных Все глубже… Давай в подкидного под партой Сегодня на спички сыграем мы в карты! О, если бы блеск этой солнечной грани В стеклянный колпак поместили на диво! На кафедре, словно в далеком тумане, Наш лысый директор вещает фальшиво! Про славный гимн злаченых труб, Про шлем, согласье, бесконечность, Про символ и цветистый сруб, Границы, башни, даже вечность… Полол садовник сорняки, Чтоб лавр сплетался с розмарином… Он вспомнил роз живых венки, Не вспомнив лилий из резины[10]. Льнут зеленые пятна к истертым картам. Льнут усталые очи к дверям и партам. За окном бревен воз едет еле-еле, У окна мальчуган лен волос свивает, И зовется тот мальчик Андрей СкобЕлек, Он за возом следит, головой качая. Он к соседу прильнул и шепнул соседу — Что шепнул — не узнать, но пошла потеха! Тишина сметена, не осталось следу, И вокруг грянул вдруг дружный грохот смеха. Что за смех? Что шепнул озорной ребенок? Не узнать, пусть кричит наш директор строго! В голове Скобелька родился бесенок И пошел ходуном под ребячий гогот. Заплясала линейка по плечам в тревоге, Но, директор, увы, ваше дело плохо! Стекла, стены и дверь, окна и пороги Охватил как пожар безудержный хохот. Сотрясались дрожа потолки и своды, Хохотали углы, кафедра смеялась, Хохотали до слез в печке дымоходы, И директора трость на куски сломалась. И когда шум утих, тишина воспряла, Тут поближе Андрей сел к Богдану Гржиху, И, от смеха давясь, другу прошептал он: «Ну, однако, Богдан… получилось лихо!» Андрей и Богдан! Два друга, два брата. Общие мысли, общие движенья. Быть может, они даже связаны клятвой, Недаром у них одни побужденья. О сердца избыток! Тобою согреты И карцера стены, и книжек страницы. И мальчики ловят крупицы света, — Пусть ложью опутаны эти крупицы. Их пальцы из пепла искру достанут, А детский голос так чист и звонок! Как ночь темны были кудри Богдана, Андрей был рыжий, как жеребенок. Они за собою всех поднимали! Взволнованно по вечерам часами Затеи таинственно обсуждали И слыли недаром здесь главарями. В пыли и в камнях, да в смрадном домишке Их юность нечесаная проходила. Голодные уличные мальчишки! Подачками вас мостовая вскормила. От зноя рассохлись убогие стены, Но детству их солнца всегда нехватало, Баюкали сом их гудки и сирены — Угрюмая песня рабочих кварталов. А есть ведь лесные тропинки! Но где вы? Мир скорчил гримасу и глянул из мрака, Сердца их наполнил он зернами гнева, Осыпал их грудою щебня и шлака. О синяки, о звезды заплаток, Покрытые ссадинами колени — Живые мишени камней и рогаток, Немые свидетели первых падений! Андрей и Богдан, затаивши дыханье, Слушали взрослых воспоминанья О поколеньях, павших в сраженьях, О забастовках и о восстаньях; О том, что скрывают конвейера ленты, Что каждый станок может спеть нам балладу И каждый кирпич нам расскажет легенду, Но только к ним сердцем прислушаться надо. Глаза загорались мятежною думой, И плечи сдвигались все ближе и ближе, Когда говорилось о тюрьмах угрюмых, Где дождь в желобах смешан с рыжею жижей. Сжималась пульсируя каждая мышца, И песня взлетала: «Все выше и выше…»[11] И имя борца повторялось сердцами, И солнце вставало — пурпурное пламя! Такие мгновенья героев рождают, Сердца отливают и души формуют. Чем мельница жизни больней ударяет, Тем лучше ушибы отвага врачует. Удары, как в глине, навек остаются. Пускай позабыты ребячьи молитвы, Андрей и Богдан так по-детски смеются, Но твердые руки растят их для битвы. Не видно в глазах этих, чистых как небо, Как жадно повсюду работы искали, Как в стужу и в зной, в вечных поисках хлеба, Кремни к зажигалкам за грош продавали. И словно ракеты, готовые взвиться, В зрачках огоньки продолжают таиться, И первый же ветер, повеявший с юга, Раздул в них веселья зеленую вьюгу. И теперь, когда в школе каскады смеха Наконец превратились в протяжное эхо И над скопищем точек, муравейником букв Светотень пробегает, как серый паук, Вьется нить тишины, словно шелковый волос, — Раздается скрипучий директорский голос О том, чтО банда и чтО грунт, ЧтО бант, и кнут, и чтО болото, Что ожидает всякий бунт Окно в железных переплетах, Что «боже, поддержи наш трон И миро на сердца пролей нам»…[12] И вдруг, сменив свой грозный тон, Он продолжал почти елейно: «Учебный год — да будет так — Последний день свой завершает, И, несмотря на полный мрак, Что в ваших головах витает, У нас на вас обиды нет, И — такова господня воля — Вас завтра повезут чуть свет Гулять в «Серебряное поле». На будущий учебный год (Да не забудьте же, лентяи) Мы эту школу закрываем. Министр вас всех переведет. Пять школ сольют. Он хочет там Создать научную твердыню. Сияя, как маяк над Гдыней, Мильон голов вместит тот храм[13]. Хоть дальний путь ведет в тот светлый храм, Путь истины лежит всегда во мраке. Вините ноги, коль придется вам Быть в семимильных сапогах, бедняги. Я знаю, будет вас мороз щипать, Но вы терпите все во славу бога, Настанет время урожай снимать, И вырастет бюджет господ намного. Пускай терпение и кротость вам Сопротивляться бурям помогают, Пристало ль помнить огорченья там, Где свет науки души наполняет!» Он замолчал, и тишина Над полднем крылья распростерла, И зазвучало, как струна, Звонка серебряное горло. Зашелестело по углам… Все громче шопот осторожный, И голоса то здесь, то там Перекликаются тревожно. Директор встал. Как плод на ветке, Его качнулась голова. Он молча заглянул в отметки, Подслеповатый, как сова. Класс грянул… Но из гущи гуда, Не в силах гнева превозмочь, Вдруг кто-то крикнул: — Прочь отсюда! И стекла повторили: — Прочь!ГЛАВА ВТОРАЯ
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Goethe[14] На самом углу, где в пыли кирпичей Два дома стоят у оврага, У двух перекладин СкобЕлек Андрей Расстался с крикливой ватагой. Расстегнутый ранец влача по траве, Он медленно шел средь бурьяна, И сладко гудело в его голове От слов неспокойных Богдана, Шел медленно… Сыпало солнце в пески Слюды разноцветной обломки, По ветхим заборам ползли огоньки И таяли в пыльной поземке. Все уже квартал, все сильней полумрак, И шопот, и глина сырая, И эхо ладонями хлопало в такт, Удары шагов повторяя. Дорога сужалась, и плющ-нелюдим У каменных вился подножий. Андрей отшатнулся… Стоял перед ним Костлявый и черный прохожий. Все ближе его раздавались шаги — То призрак из сказки далекой! Он ловит детей и сосет их мозги И душит рукою жестокой. «Вот глупость! — подумал Андрей, — чтобы днем. Разгуливал дух!.. Суеверье! Приближусь — и призрак окажется пнем,— И это проверю теперь я!» Андрей ощутил неприятную дрожь… Но право же — трусом смешно быть! Ну да! Он на чорта совсем не похож! Так это старьевщик, должно быть! Высокий и тонкий, как черный комар, Шагал он, и ноги сгибались. На черном цилиндре, как белый пожар, Высокие перья качались. И плащ длиннополый сбегал по спине, И зонтик плыл шелковым змеем. Он встал у стены, протирая пенсне, И тихо промолвил Андрею: «Ты, мальчик, не бойся меня, не дрожи, Твой ужас меня удивляет. Звезда ли сосет твое сердце, скажи, Забота ль к земле пригибает? Скажи, что мрачит твоих глаз небеса, Не сказка ли в том виновата? Иди же, взгляни мне без страха в глаза, Доверься всем сердцем, как брату». «Ты страшен мне! Кто ты? Откуда пришел? Ответил Андрей торопливо. — Ты длинен и тонок, ты черен и зол, И сладкие речи фальшивы. В лице ни кровинки, в глазах ни огня, И губы твои — неживые… И клюв твой куриный пугает меня, И брови пугают кривые». «Мой мальчик, мой мальчик, боишься ты вновь! Но внешние чары непрочны, Взгляни же поглубже — там шепчет любовь, Как тайный подземный источник. Дай руку, меня недоверьем не мучь, Скорей позабудь опасенья, Тебе подарю я к сокровищам ключ, Послушай меня хоть мгновенье. Есть зданья… Лазурью горит потолок, Повсюду там встретишь хрусталь ты, Их дно украшает янтарный песок, — Пещеры из мха и базальта! Там ярких зеркал неподвижная ртуть И музыка сводов безгранных, Там дышет бассейна прохладная грудь Под вечным движеньем фонтана. Вверху полукругом светлеет плафон, Блестит, как родник, неизменно, И мерно плывет меж стеблей и колонн Сверкающих столиков пена. Колонны, как лес, вырастают кругом, И запах цветов опьяняет… Ты понял? — сказал незнакомец. — Тот дом «Большое кафе» называют. В тот час, когда зной раскалит добела Дома, тротуары и лица, Покинув конторы, дворцы и дела, Толпа в эти залы стремится. И здесь, словно пальмы средь знойных пустынь, Прохладные руки сплетая, Прекрасные женщины — слепок богинь — Сидят, наготою сверкая. Как нежен на шее жемчужный горох! Как ярко пылают рубины! О розы из камня, вас вырастил бог В скалистых и мрачных глубинах. Кто ласточкой быстрой слетает в низину, Толчком и волчком пробираясь? О кто он, упругий, как сталь и резина, Что мигом доставит сигары и вина, Лишь с ветром одним состязаясь? То пикколо[15]! Маленький паж-быстроножка! Наперсник красоток и франтов! Немеркнущих звезд золотые застежки Сияют сквозь прозелень кантов. Андрей, ты для этого создан судьбою, И, в этом мне можешь поверить, Ты должен мундир с золотою каймою Почистить, встряхнуть и примерить. Да будет душа твоя счастьем согрета, Поверь мне, я мудрый и старый, Тебе — подаешь ли с поклоном газету, Кладешь ли на столик сигары, Несешь ли бутыль, чтоб наполнить стаканы Тяжелой и сладкой струею, Приносишь ли пестрые ты марципаны, Где звезды морские блестят и лианы Сплетаются с яркой травою, — Монетка из розовых пальчиков панны Сверкнет серебристой плотвою! Гляди — пред тобой золотая дорога! Дворец из банкнотов и злотых! За мною! Ни шагу назад, ради бога — Тут ждет нищета у родного порога, Там ждут тебя хлеб и янтарные соты, И сласти и вина без счета!» Так ловко Андрея старик соблазняет И дразнит воображенье. Их только полоска земли разделяет Покрытая светом и тенью. Андрей зачарован, он — как изваянье. Но нет, не ликеров потоки, Не мрамор колонн, не алмазов сверканье Румянцем зажгли его щеки. Ни светлый янтарь, ни базальт — не причина, Что крови сильнее биенье, На лбу у Андрея застыла морщина И выступил пот от волненья. Сказал он: «В цехАх, в рудниках и пучинах; В подвалах и темных колодцах — Для шайки гуляк — день и ночь, как скотина, Народ изнывающий гнется. В кафе, где танцуют нарядные франты Под пьяные крики застолья, Пиликают им до утра музыканты, Кляня золотую неволю. На чорта мне сдался твой сумрак пещерный, Фонтаны и чаш позолота! Но ты повтори мне — ужель это верно, Что там получу я работу? Что матери я бельевые корзинки Таскать на спине не позволю, Чтоб руки, что вечно в коростах и синьке Могли отдохнуть от мозолей? Хочу я работы! В раю, в преисподней… Кафе или пекло — теперь все равно мне! Но чур, не забудь, что сказал ты сегодня — Мне деньги земные обещаны, помни! Лишь в срок мне платите, а там как хотите! И все до копейки! Заверить могу я — Доволен останется важный кондитер. Прощай! Послезавтра сюда же приду я. Андрей по песку зашагал, словно пьяный, И сердце забилось так часто и бойко, Но вдруг громкий крик услыхал из тумана — Прохожий кричал ему: «Парень, постой-ка!» Смущенно Андрей повернулся обратно — Старик догоняет, сверкая глазами, На лбу выступают пурпурные пятна, И дым изо рта вылетает клубами. «Эй, ты! Не спеши-ка… Неравные счеты! Ты требуешь денег? — сказал он со злобой. Так помни, сопляк, есть условье одно тут, И ты от него отвертеться не пробуй! Тебе нет пятнадцати. Молокосос ты! А ты сеешь бунт по всему околотку! Так вот, не бушуй, не высовывай нос ты, Да кляпом молчанья заткни свою глотку! Ты будешь являться по первому знаку, Безропотно лбом подметать мостовую! Постой же, к руке моей, словно собаку, Покорно тебя подползать научу я! Ступай!» — И замолк он. Глаза потускнели. Он ветром надулся и вдруг стал зеленым, И первые капли дождя зазвенели, И к тучам угрюмым он взвился со стоном В темной хате мать ждет сына Беспокойно, молчаливо, Сына нет как нет, хоть время Возвратиться после школы. Стынет в печке скудный завтрак, — Не идет он. Вот стемнело, Засветить пора бы лампу. За окном гроза и ветер, Хмурый дождь стучит по стеклам, Заблудившись в темной нише, Стонет голубь одинокий, Мухи ползают по окнам. Темный вечер опустился, И давно тоскуют губы По щекам сыновним теплым. Повеяло влагой на ветхий порог, И скрипнула дверь — это шорохи ног… Вот он хмурый и смущенный Входит в сумрачную хату. Он к груди ее прижался Воспаленной головою. Дождь трезвонит, голубь стонет, Воет ветер, воет буря. И Андрей спокойно дремлет На коленях материнских. Когда же очнулся он, дождь перестал, И полночь спустилась, и ветер стихал, И туч грозовых разошлась пелена, И черепом бледным казалась луна. За стеклами стыли железо и жесть, Задумались крыши о чем-то, бог весть. Трепещет на них мотылек тишины, Крадется котенок по краю стены. И шепчет Андрей: «Что скажу тебе, мать! Работу на днях обещали мне дать». И мать его руку зажала в руке, И теплая капля ползет по щеке. И шепчет Андрей: «Знаешь, милая мать, Я буду сигары в кафе подавать!» Взгляд матери гаснет под сеткой морщин, Они замолкают — старуха и сын. Течет тишина. Наблюдает Андрей. Вон кошка на крыше… И дождик умолк. Вон кошка… В глазах ее точки огней, И смотрит она исподлобья, как волк. Глаза, разрастаясь, горят и тотчас Летят кувыркаясь, подобно огням, И вдруг закипает светящийся глаз! Гляди же — он лопнет сейчас пополам! И вот их две пары… Все ниже одна, Другая все выше… Да это луна! Два нижних рубиновой кровью зажглись, Два верхних, как гроздья, вздымаются ввысь… Но глаза исчезли где-то, А сияние все шире, — Это две больших монеты, Или пуговицы это Застегнулись на мундире? Но зато вторая пара, Запылав в ночи огнем, Мозг Андрея жжет пожаром, Хочет пульс усилить в нем И всю ночь, во мгле тумана, Как во сне, издалека Видит он глаза Богдана, Два пылающих зрачка. Все быстрее, все быстрее, Все сильнее и страшнее Пляшут две монеты скользких, Пляшут бешеную польку! Проснулся Андрей — и видения нет. За окнами синий маячит рассвет.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Шел рассвет сквозь туманную тишь, Первый луч еще прятался где-то, Не коснувшись оранжевым светом Ни домов, ни панелей, ни крыш. Не разбужены птицы росой, И окутаны камни дремотой, Но сбегаются к школьным ворогам Голосистые дети гурьбой. Вот Богдан, он выходит вперед, Как олень отделяясь от стада, Влез на камень и пристальным взглядом Оглядел детвору у ворот. И сорвал свою шапку оратор, Как Антоний[16] в театре, взмахнул Над толпой, чтоб прервать ее гул, Сдвинул брови и крикнул: «Ребята! Я обращаюсь не к подлизам, а к честному народу, Ко всем, кто не боится ссадин и не боится йоду, Кто смело ходит по тротуарам, отважный, гордый, и ловкий, И делит песню, как горсть орехов, украденных у торговки! Ребята! Разве вы забыли, как туго набив карманы Камнями, пробками, шпагатом и проволокой рваной, Мы шли в разбойничьи походы оврагами Варшавы, И электрический фонарик светил на камни и травы? Еще шумят в саду у ксендза те вишни, что мы ломали, Сверкают оси велосипеда, пока в овраг не попали, Гнусит шарманщик у черного хода и ждет свою подачку, И обезьянка разносит билеты, по пять грошей за пачку. Нам не забыть крикливой торговли — газетчиков состязанья На перекрестках, где дым и копоть и тусклых огней сиянье… Бывало — с буфера на буфер, звонки гремят — потеха! А как директору в портфель мы ежа положили для смеха! За это Франца прогнали из школы, а нас директор проклял, Но в ту же ночь из его кабинета летели со звоном стекла. Когда ж он на утро спросил: кто зачинщик? — и нам грозил наказаньем, Полсотни рук в ответ на это поднялись в гробовом молчанье. Итак, во имя дружбы у этого теперь не доступного входа, Клянитесь быть вместе! Вперед, ребята! Хотя бы в огонь и в воду! Нет, подумайте, лысый-то олух наш! Хоть и держит в руках золотой карандаш, На плечах, видно, носит капусту! Объявил, что закроется школа, что здесь Вместо смеха скрипеть будет ржавая жесть, Будет в комнатах тихо и пусто. Дверь закрыта. Покроются плесенью в миг Эти окна и полки пособий и книг, Синий глобус покроется пылью. Дверь закрыта! Где сторож? И кто украл ключ? Школы мет! Так попробуй — рыдай и канючь, Лбом попробуй в кирпич стучаться! Потушили наш свет, чтоб окутал нас мрак! Где-то школа, как в море далекий маяк, Не доплыть нам туда, не добраться. Миллионы подростков без школ, Миллионы голодных без школ На бесчувственном сердце отчизны! Пять мильонов детей пропадает На задворках окраин и сел. Ноют плечи и руки: Работы! Кровь кипит от единой заботы. По великим открытьям тоскуют сердца И по горному ветру — грудь! Глухо зреет тоска. Из нее вырастает борьба. Вот наш путь! Наш народ приготовился к битвам — вперед патриоты К воеводству в Сосновец шла с песнями молодежь В их карманах лежали бечевки, окурки и пробки. Сообщили газеты, что в Лодзи на днях, В магистратской столовке, Отбивали чечетку кастрюли и ложки На лысинах знатных вельмож — Благодетелей били мальчишки, увидев, что в миске Вместо супа к обеду им подали просто очистки! Я слыхал, будто в церкви, под Львовом, устроили митинг крестьяне, Я слыхал, что бастуют в Силезии На литейном заводе Монтвилла, И, напугано стачкой, правление им уступило! Бунт растет, Он выше крыш! По земле гудит звон тревожный, слы-ышь?! Зашумел народ У ворот. Разве куклы мы, Или мало нам бед? Или духу не хватит крикнуть: Нет! Не хотим! Не дадим! Вперед! Эту школу на гвоздь не дадим мы забить, Не дадим мы крапиве карнизы обвить! Пусть глаза наши мглою одели, Пусть нам с детства внушали почтенье и страх И фальшивый нести заставляли нас флаг, Поглядите — есть луч даже в щели! Пусть державные трубы ревут — этот звук Не сотрет дорогого звучания букв! Тьма в глазах, словно пена морская… Ближе плечи, товарищ! Всей массою встань! Пусть нам лозунг и песня расширят гортань! Мы невеждами быть не желаем! Что ж сегодня везут нас за город, чтоб там, на полянах зеленых, Мы смотрели, как к яблоням стройным навстречу бегут анемоны, Чтоб резвились как дети и наших господ хвалили, Чтоб в корнях у фиалки еловую свечку палили, Червяков целовали и, играя на вербовой дудке, Натощак собирали в дырявый картуз незабудки! Не позволим из нас вербовать дураков! Эй, вниманье! Мы не будем коров по гречишному полю гонять! Не пойдем на гулянье! Здесь, у школьной стены, встанем мы гарнизоном железным, Сдвинем шапки свои набекрень И засвищем любезно. Мы в карманах ощупаем пробки и камни рукою привычной, Поприветствуем вас, господин полицейский, отлично! Пусть над нами зигзаг нарисованный будет сиять — в знак протеста, Целый день мы пробудем в окопах, не тронемся с места. А под вечер пойдем по аллеям, бульварам с речами и пеньем И расскажем, как юным был выигран бой поколеньем!» Смолк Богдан и стоял без движенья Изваяньем, не знающим страха, Только лоб был в поту от волненья Да подхватывал ветер рубаху. Только шапку рука теребила… В этот миг из-за крыш, где-то с краю, Над землей поднималось светило, Золотые лучи рассыпая. Гребешком золоченым застряло В волосах, поднимаясь над зданьем… И по лицам ребят пробежало Хмурой тенью воспоминанье. Это памяти серые тени (А лучи в волосах все играли), Это скорбь и тоска сновидений, Это тени забот и печалей. Это гнев, что о гневе тоскует, Это дали туманная пена, Это пруд засверкал и не чует, Что в нем солнце стоит по колено. Это гнев, что спрессован, как глыба, Что комками сердца наполняет. На дороге сквозь камня изгибы Еле слышно трава прорастает… Это гнев, но не тот, что с корнями Вырывает деревья, как буря… Где-то скрипнули в доме дверями… Тишина разлилась по лазури. И тогда поднял руку СкобЕлек. Сновидение! Ты не забыто, — Как следы от колючек на теле И как уксуса след ядовитый. Ты лицо обвело синевою, Под глазами кругами застыло, Все опутало тайною мглою И ему ничего не открыло. Так стоял он босой и качался Комья в горле… кто мог бы поверить? Он секунды считал. Задыхался. Но вздохнул и решил лицемерить, Извинился, что он не оратор, Что боится — не сбиться бы с мысли. Нервно руки сплелись, пальцы сжаты… Не слова полетели, а листья. Цедит мысли спокойно и трезво, Но момент — и, не внемля рассудку, Улыбается хитро и резво, Отпуская кабацкую шутку. Бурей, вишнями, ярким алмазом Завертел, заигрался, сверкая, Лишь смеется прищуренным глазом, И горит алый рот набухая. Словно пчел шумный звон над травою Разбросал он пинком шаловливым, Он по степи несется волною, Мнет цветы, давит гроздья и сливы. Он кричит: «Разве время сражаться, Если лето вокруг зацветает? Разве руки в асфальте родятся? Разве ветер из труб вылетает? Пусть посыпалась в Лодзи известка — Мы же челн смастерим из бересты! Или шум мастерских и заводов Поважнее дроздов и удодов?» Так гримасой и шуткой трактирной Он над страстью Богдана смеялся И, как тот над идиллией мирной, Над призывом к борьбе издевался. Знойный полдень и вечер морозный, Дождь и солнце в одно сочетая, РассыпАл он поддельные звезды, Яд иронии в пафос вплетая. Лгал, манил, притворялся серьезным, И в ответ по всему переулку Как из пушек ударило грозно: «На прогулку! Прогулку! Прогулку!»* * *
Едут дети бором Через вал, песок и мост, Едут по просторам К ярам и озерам Под баюканье колес. И летит навстречу сталь, И несется паровоз Через вал, песок и мост. Мельница, как птица, За рекою мчится Вдаль. По оврагам вьется Дыма черная струя, Только пыль несется К журавлям колодцев. Через насыпь на края, Через дерн летит назад Дыма черная струя. Мимо, избы! Мимо, сад! Пятятся обратно Маленькие пятна Стад. Телеграммы пенье Ветер в волосы вплетет! Слышно искр кипенье: «Мы всегда в движеньи!» К проводам их дым несет, А на проволоке — глядь: Воробьи — как точки нот. Взором пашни не обнять. Солнце вьет в колечки Серебристой речки Прядь. Через лес зеленый, Через день плывем насквозь, И гремят со звоном Буфера вагона Под вагоном хочет ось Усмирить колес разбег. Пой вагон над гладью рек! Пусть стремят колеса Через мглу откоса Бег. Скатертью дорога! Мост, болота, реки — прочь! Там в лесу, у лога, Гнезда и берлога. Не… в душе восходит ночь. Сердце детское горит, И тоски не превозмочь, Словно в сердце мох лежит. Ах, никто не чует — Там на дне тоскует Стыд. Опустела школа Вьется время, как паук… Громче невеселый Стук колес тяжелых. Это камня мертвый стук Или крик печальный дроф? Это леса близок звук… В том лесу сплетенье троп, А на тропках тихо… Тише. Тише. Тихо. Стоп. «Серебряное поле». Домик-малютка. К нему виноградная зелень прижалась. Скамейка, железнодорожная будка, Да ящиков почтовых алость. А вон огород за кустами малины, Там тыква и мальва, морковь и барвинок. И тут же, почти достигая до крыши, Подсолнухи тянутся к солнцу все выше. Здесь стрелочник старый живет, и отсюда Бегут два ряда тополей серебристых, Качается листьев зеленая груда, И солнце скользит на вершинах ветвистых. Везде тишина. Только против теченья Несется вверху запоздалою тенью Пернатая тучка, и вспомнили пашни: Ведь это же дочь непогоды вчерашней! Как чист горизонт! Как спокойно в долине! От запаха трав замирает дыханье. В хлебах под ногами, в зеленой пучине, Жильцов незаметных звучит стрекотанье. Все громче бормочут сверчки полевые, Медлительных пчел все сильнее гуденье, И день, собирая лучи золотые, Блестит, разрастается с каждым мгновеньем. А там, за станицей, за домом, за рожью Темнеет пустырь на поляне открытой, Кустарника кучка торчит в бездорожье, Склонясь над землею, дождями размытой. Там школьники наскоро лагерь разбили, Над ними качаются липкие почки, И тени ложатся на серых от пыли Заплатных штанах и бумажных мешочках. И утро — как в ванне стоит по колено, В лучах золотых загорается глина, Вареных яиц скорлупа, словно пена, На солнце блестит белизною невинной. И сыплется соль в круглый стебель травинки, В желтке незабудки и в смальце былинки. И смех ручейками стекает в долину, Как будто бы тихо звучит мандолина. И голосом скрипки шуршит нам пергамент — Сквозь музыку трав мы тот голос узнали. Скажи слово «солнце» одними губами — И ты на минуту забудешь печали. Ведь даже учителя солнечный пламень Сдавать заставляет на юность экзамен. Он ходит в траве на руках, он смеется, С мальчишками он вперегонку несется. А там, где прозрачная пыль оседает За топью болот, за осокой озерной, Где тихий ручей из камней вытекает, Темнеет, как остров далекий и черный, Сановника лес, беспокойный, бессонный, Судьбой на костях человечьих взращенный. И сколько там сахарных ягод на склонах И яду в глазах его злых и зеленых! Вот сюрприз, ребята! Весь закутан в черный дым Поезд мчит куда-то, В стеклах солнце спрятав. Мчат колеса — любо им! Через ветер мчит насквозь, Весь закутан в черный дым. Вот перон — крикливый гость Мордой лижет. Ближе… Ближе… Так уйми же Злость! Из вагонов — не красок ли души Чередою выходят? Глядите! Из вагонов — не ветер ли кружит Разноцветные шерсти нити? Или перья колибри цветные Опускаются на перила? Или солнца лучи золотые Небо в радугу превратило? Нет, не перья, не пряжа цветная Появляется из вагона, Это девичья стройная стая Выступает в такт по перрону. Этих легких шагов обаянье Помогло бы летать даже скалам. Это девочек знатных собранье, Что привыкли скользить по залам. Мы следим за их виражами И готовы глаза проглядеть мы! Осторожней! Начальница с вами? Эй, подальше от старой ведьмы! Как фонтан похож на лужи переулков затхлых, Так те барышни похожи на ребят в заплатах. Те — как пышный парк цветущий, с яркою листвою, Эти — дикий луг, поросший спутанной травою. Те полны благоуханьем, как цветы жасмина, Эти — горечью и ветром, тишиной и тиной. Видишь — розы украшает красоты избыток, Где-то жмется в тень забора кустик маргариток. Там — настурции огнями блещут горделиво, Здесь — мерцанье волчьих ягод, мята и крапива. Там — манящий блеск глициний, флоксы, георгины, Здесь — ромашки, мухоловки, дикий цвет долины. Там — цветы оранжереи, дорогой теплицы, Здесь же — ветром и загаром тронутые лица. Узловатые, как корни, — чьи вы, мальчуганы? И зачем так нагло руки сунули в карманы?ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Святые деревья дремучего бора, Деревья, поруганные топорами, На ваших стволах чертит время узоры, Повисла, как слезы, смола над рубцами. Могучие плечи, вы станете срубом, Пойдете на мачты, леса и стропила, Все чаще и чаще сверкающим зубом Грызут вашу чащу шипящие пилы Ветви! Все вы в коричневых клочьях! Сучья! На вас повисают лохмотья! Сплетаются корни, как черные струны, Таится в них силы поток вечно юный, И дремлет в ветвях голубая прохлада, И пляшет во мху мошкара доупада. Деревья! Здесь, с вашей красой не считаясь, Ваш мир оградили железные колья. Что ж вышел лесник, меж стволов пробираясь, Не птичьим ли песням внимать на раздолье? Здесь ружья по крови мужицкой тоскуют — Пусть только попробует кто-нибудь тайно, В помещичью пустошь забредши случайно, Тащить за собою хоть ветку сухую! Деревья! Настанет же время — с любовью Листва прошумит дровосекам свободным, И прежде чем вас, словно стадо слоновье, Повалят на землю железом холодным, И прежде чем мы на подъемные краны Положим душистые брусья осины, Мы прежде заставим греметь барабаны И пущу разделим на две половины. В одной — загудят не смолкая моторы, Запляшет железо под дружное пенье, В другой — мы не тронем ни гнёзда, ни норы, Чтоб всех красота привела в восхищенье. Пусть с буками здесь побратаются клены, Пусть люди здесь черпают мудрость природы. Деревья! Живите же долгие годы! Трясите своей головою зеленой! Бывает и ныне — кипит среди просек Веселое пламя, несмелое пламя, И крик детворы дальний ветер доносит, И стелется дым от костров над корнями. В ветвях коготки появляются птичьи, И жемчугом ягоды зреют лесные, И дети, от бега устав с непривычки, Смеются и спорят. Но есть и другие… Там, где куколем нивы покрыты, По неведомым тропкам болот, Средь ветвей бузины и ракиты Паренек молчаливый идет. Он идет по холмам и оврагам, Низко шапку надвинув на лоб, Он проходит по мху тихим шагом, Чтоб исчезнуть в сплетении троп. Уж три часа Андрей шагал по бору, По темным листьям ландышей бесшумных, По зарослям, ущельям и просторам, Среди корней и хвои. Как безумный Он трогал дерн. Он мял рябины кисти. Он ощущал лицом коры шершавость, Он видел, как жуки ползли по листьям И как листка частица разрушалась И обнажался нерв. Часа четыре Пылая он бродил в зеленом мире И ничего не понимал… Вначале Он видел недоверчивые взгляды, Он слышал — раздраженьем и досадой Слова ответов холодно звучали… Потом они шептались… Мысль, что тайно Кипела в них, словами обнажалась… Их взгляд таил презрение и жалость К нему. И каждый раз, как бы случайно, Едва он подходил, их речь смолкала… Так ждет в ветвях осеннего сигнала Пернатый хор! И вот уже все чаще Он видел их насмешку и презренье, Он видел, как росло их отчужденье, Но что тому виной? Быть может чаща Товарищей его околдовала Зеленым блеском? Словно по сигналу Все отшатнулись. Он остался сзади. Сел на траву и стебли рвал сухие, Бессмысленно на их сплетенье глядя. И вот — побрел в урочища лесные. Наклоняются ниже и ниже Согни ржавых кленовых рук. Все мрачнее трясины жижа, Все длиннее болотный луг. И от пней, через ветви и кроны К серебристым стволам берез, Огонек мелькает зеленый, Словно ветер звезду пронес. Все гуще мрак. В заглохшее кочевье Заблудший луч скользит и умирает. Сквозь путаницу веток проступают Задушенные мертвые деревья. Просвет? О нет! Тропинки повороты. И вот ольхе свой скипетр клен вручает, И голова в густой листве ныряет, И листья бьют, как жесть… И бьют с налета Сухие прутья, ранят лоб и руки. Сплошной стеной — ольха, дубы, березы, Пропитаны разорванные брюки Древесной влагой, и горят занозы, Колени окровавив… Где ж тропинка? Где солнца золотая паутинка? К чему кричать? Твой крик здесь не поможет! Он только чащу сонную встревожит. Об этой чаще знал ты много сказок — Здесь смерть грозит за каждым поворотом, Здесь нет дорог по топям и болотам. Что там — огни? Иль два кошачьих глаза? Ах, это глазки синих незабудок! Бледнеет чаща, шелестит источник, И под ногами всхлипывают кочки, И папоротник блещет изумрудом И задевает грудь… И вот в потемки Ворвался свет! Луч солнца освещает Лесных гигантов черные обломки, И золотые стружки древесины, И пятна просек… Небо голубое Блестит над разноцветною землею. Все гуще, ярче свет благословенный, И на камнях ручей сверкает пенный, И прыгает волна его сквозь тени К поваленным деревьям на колени, И дальше, словно тропка, вьется криво К кустам, мелькнувшим там, из-за обрыва. А за кустами луг лежит весенний… Среди мальв, ромашек и лилий. Что весна разбросала в лугах, Средь стеблей и цветов изобилья, Среди почек, бутонов и трав, На поляне сверкающей пляшет Молодых танцовщиц венок, Им осока руками машет, И цветы касаются ног. И круги расходятся шире, И теряется песня в листве, И сверчки — музыканты лесные Лихо чистят смычки на траве. Замолкают лягушки-флейтистки, Неуклюже на землю присев, Подражают в траве золотистой Грациозным движениям дев. Вот они, феи, что лентой нарядной Утром прошли сквозь вокзал неприглядный Следом за ведьмой… И спрятавшись в тени, Встал за кустами Андрей на колени И не сводил очарованных взглядов С этих зеленых изгибов и линий. Сумятица и бред последних суток И дикие событий переплеты, Как шествие фигур из страшной сказки, И купленная совестью работа, Поездка в поезде, когда сливались краски Песков и леса… Лица огорченных Товарищей… Богдан у той колонны, Звон медных слов — до головокруженья, И Черный Человек среди бурьяна, Плющ на стене, шаги, и тень Богдана. Бессоница, и облако забвенья, Скитание среди лесных туманов, Огней болотных призрак золотистый, Корявых пней, ветвей нагроможденье, И дальше — только листья, листья, листья… И крик в лесу… Все эти впечатленья Пронзили мозг и высушили тело И нервы накалили до предела И, словно раскаленное железо, Ворвались в грудь… И теплой крови алость Засохла на губах… Ему казалось, Что он стоит пустой и бестелесный, Как тонкая лесная паутинка, С которой ветер игры затевает; Над ней смеется каждая травинка, Но только первый луч луна роняет, И вспыхивает лес в пожаре лунном, Как эти нити полночь превращает В волшебные, сверкающие струны! Таким он был, когда, укрывшись в тени, Застыл, как по велению колдуньи… Его зрачки следили за виденьем, Рвались навстречу маленькой плясунье, Навстречу той, что всех стройней казалась, Она по знаку ведьмы колыхалась, Как колокольчик под лесное пенье… Ты — звезда среди дали туманной, Что блестит над лесами одна. В хороводе зовут тебя Анной, Почему ж ты, плясунья, грустна? Разве шопот ветвей ты не слышишь? Иль не радует шелест берез? Разве запахом трав ты не дышишь, Что твой смех не звучит среди рос? Видишь — удочку солнца на нивы Опустил голубой небосвод. Словно гибкая веточка ивы, Ты вступаешь легко в хоровод. Глупый дятел бросает занятье, Забывает о пряже паук, Когда вдруг подбираешь ты платье Чуть заметным движением рук. Обнял Андрея покой шелковистый, Грудь его светом наполнил до края. Замер Андрей от нахлынувших мыслей — Что это: сон или правда живая? Он посмотрел на деревья и листья, Ближе, всем телом к кусту припадая, Снова застыл. Не дыша, как безумный, Он на шипы опирался руками И одного лишь боялся, что шумно Сердце стучит… Одуванчик пушистый, Поднятый ветром с зеленой поляны, Сел на губах. И не мог он от Анны Глаз оторвать. А она все качалась… Вот она — близко! Так близко… Казалось, Мог бы Андрей дотянуться рукою За васильками, вплетенными в пряди, Если б хотел… Или просто погладить Тонкое кружево платья. Но только Он не хотел. Золотая кукушка, Крыльев косых обнажив перепонки, Щек его с шумом коснулась и снова Скрылась в листве. Он стоял околдован, Не шевелясь. Все следил он за тонкой Талией Анны — не мог надивиться, Как она может ни разу не сбиться, Плавно скользя по поляне зеленой! Словно танцует она — не танцуя! О, как сверкает опал на мизинце! Как в полусне, оторвать он не может Глаз от прекрасных сандалий! Вдруг с криком Прянул с земли он. Холодная жаба Скользкое тело к ладони прижала, Прыгнула быстро на плечи, на шею И наконец присосалась к Андрею Плотно… Кусты шелестят, сердце бьется, Под отвратительной зеленью вьется Бедный Андрей… Чей-то взгляд и дыханье… Ведьма. Зубов золотое сверканье, Треск черных сучьев, глухое ворчанье… Прыгнул Андрей, повернулся на пятках И побежал прямо в лес… Там, где лес изогнулся зеленый, Где кончаются топи и рвы, Начинается хвойная зона И не видно пернатой листвы. Между рыжих стволов изобилья, В синеватой прохладной тени, Вьются бабочек ржавые крылья, Словно тусклых пожаров огни. Только свечи шишек зеленых, Только в небо стремящийся ствол С отливающей золотом кроной, Только вереск, что некогда цвел, Только мох да грибы над корнями Иногда говорят нам о том, Что не мертвое царство пред нами, А природы торжественный дом. Медленно, запах сосновый вдыхая, Плелся Андрей. Сердце билось рознее, Ведьма уже не пугала Андрея. Он наблюдал, как к вершинам взлетают Рыжие белки. Если когда-то Он одиночества груз непосильный Тяжко таскал за собою, то ныне Чувствовал он, как блаженно в пустыне Молча бродить — сердце бьется так тихо, Сладостным пламенем плечи объяты, Все остальное забыто… В молчанье Новое чувство он пил, как дыханье, Чувство, что было простором и силой, Далью и болью. И в сердце щемила Сладкая одурь воспоминанья. Остановился. Пальцем потрогал Рану сосны, где волокна живые Тесно сплелись… И подумал впервые, Что не найдет он обратно дорогу. Он заблудился! Виденьем туманным Лица товарищей встали рядами… И, словно облачко, перед глазами Вновь проплыла светлоокая Анна… Так шел он дальше. Он спрашивал ели, Спрашивал тучи — куда же умчались Очи, что грустно и кротко глядели, Руки, что нежно к цветам прикасались? Где лепестками обвитое тело, Плечи, покрытые белизною? Но безупречной гордясь синевою, Небо ему отвечать не хотело. Вдруг зашуршала сонная хвоя, Словно в могиле хрустнули кости… Воздух натянутой дрогнул струною… Сосны встречали нового гостя. Это Богдан… Он идет все быстрее. Остановился. Глядит на Андрея…БОГДАН: Я наблюдаю за тобой уже пять минут. Вид у тебя, как у сумасшедшего или влюбленного. Я не сразу подошел к тебе, я долго колебался. Но я решил узнать причины твоего скандального поступка утром у школы.
АНДРЕЙ: Ты употребляешь слишком умные слова и напрасно морочишь мне голову.
БОГДАН: Раз я уже пересилил себя и первый произнес слово, ты не напугаешь меня надутыми щеками, Мерзавец! На таких, как ты — пальцем указывают! Из тебя вышла наружу дрянь, как из лягушки, если ее проколоть. Но верил ли ты сам в свою дырявую истину? Неужели это сладкое кваканье было голосом твоего сердца? Что обещали тебе за срыв борьбы?
АНДРЕЙ: А что обещали тебе за то, что выслеживаешь меня? Из-за деревьев вылез, сыщик… Возвращайся к деревьям!
БОГДАН: Оставь свои «деревянные» шутки! Просто удивительно — откуда в тебе столько наглости? Гуляешь по лесу, как ни в чем не бывало, вздыхаешь по белкам, когда я не могу найти себе места. Послушай, поговорим откровенно… Меня мучит, как застрявшая заноза, одна мысль. Боюсь, что и я отчасти виноват. Кажется, я совершил ошибку. Не так уж часто нашим ребятам удается вдыхать полевой ветер. Какое купанье знают они, кроме канав и ям? Перед ними маячили зеленые просторы, а я их уговаривал плюнуть на солнечную погоду и итти драться. Нам не привыкать ходить с окровавленными носами, никто бы не отказался, если бы это понадобилось завтра. Но прогулка есть прогулка, и сегодня праздник. Значит получилось так: я, глядя на себя, проглядел пятьдесят живых существ, для которых по-иному сложилась картина мира. Я слишком выдвинулся вперед и просчитался. Только не воображай, что это снимает с тебя вину. Андрей! Скажи, может быть, это моя ошибка тебя так взволновала?
АНДРЕЙ: Твои ошибки и прошлогодний снег для меня одно и то же. Если хочешь, возьми перочинный нож и вырежи на сосновой коре список своих ошибок! (Хочет уйти.)
БОГДАН: Постой… Еще два слова. Андрей, мы были друзьями. Лучшие минуты моей жизни связаны с тобой. Сегодня мы враги. Ты хотел этого. Почему я разговариваю с тобой? Почему не плюю тебе в лицо? Неужели сила воспоминаний больше, чем сила правды? Но ты попрал и воспоминания и правое дело. И это конец. Ты запачкал себя и нашу дружбу. У тебя в эту минуту глаза самоубийцы… Андрей! Будь прежним Андреем, вернись к нам… или… или… тебе останется только… покончить с собой в этом лесу.
АНДРЕЙ: Тысяча бородатых баобабов! (Убегает.)
БОГДАН (один): А все-таки я уверен, что тебя подкупили[17].
ГЛАВА ПЯТАЯ
По лугам и перелескам, По холмам и нивам плоским, Тенью, блеском, тенью, блеском, По кустам змеиным жестким, По трущобам и дебрям диким, По корням, по стеблям повилики, Средь камней, средь песков и суглинка Одинокая вьется тропинка, Убегает все дальше, все уже… Где-то пень заскрипел неуклюже, Стонут ветки, склоняясь в бессильи, И кусты растопырили крылья, И летят из пращи шелестящей С визгом шишки. Андрей среди чащи Слышит эхо печального зова, Он глядит сквозь косматые ели, — Кто там стонет? То коршун парящий, Или жалобный крик коростеля? Это лес-исполин, раскорячась, Гнет стволы для поклона земного, И хохочут сучки его гулко… Так идет он лесным переулком, Вот дошел до широкой аллеи, Той аллеи, где ветра затеи, Где пушистые зайцы и ветер Вперегонку летят, словно дети. Так Андрей сквозь пески и коряги Шел по следу медведя-бродяги. Наконец он дошел до лужайки, Что лежит в небольшой котловине. С трех сторон ее бор окружает, И одна сторона исчезает В каменистых холмах и обрывах, Где в песках, буреломе и глине По наносам косым и песчаным Пламенеют кораллы бурьяна. Там, на юге, жара и прохлада, Здесь же сел перепуганным стадом Можжевельник, чью темную зелень Диадема лугов обрамляет. Пригорюнились темные ели, А о чем загрустили — кто знает! И к земле, убаюкан травою, Прислонился Андрей головою. На лесной лужайке Лежа, Хорошо на мягком ложе Ощущать лесную явь И всмотреться в стебель длинный, Словно дерево высокий, И, вдыхая запах глины, Вдруг пыльцой запачкать щеки И пуститься лугом вплавь. И доплыть туда, где корни Сплетены, как узел черный, Где таится смысл пути. Голод легких утоляя, Ощущать пыльцы стремленье, И, в зеленый хор вникая, Сердца тайное движенье С ритмом трав переплести. Окунуть свою усталость В волны трав, в живую алость Маков, жмущихся к земле. Видишь? — жук, он лапки чистит, Он готов к передвиженью Под зеленым небом листьев По морям воображенья На цветистом корабле. Поплывут живые пчелы, Жук-рогач, трубач веселый Сядет, рогом шевеля, Тихий плеск пойдет по лугу, Оживут немые скалы, И заснут лицом друг к другу Мальчик маленький усталый И могучая земля. Вон две бабочки с кочки вспорхнули И, блестя золотистою пылью, Над зеленым жабинцем раскрыли Паруса своих бархатных крыльев. В их полете боязнь и сомненье — На какой же цветок опуститься? Повилика цветет в отдаленье И зовет ароматом напиться. Словно скрипки бесшумные струны, Мелодичные звуки трепещут, И распущенных крыльев рисунок Под лучами то гаснет, то блещет. И Андрей, очарован сверканьем, Все глядит на волшебные тени, Он в волненье вскочил на колени — И слова разнеслись по поляне: «Мотыльки! Мотыльки! Ваши крылья Не затмят и сияние дня! Вы красивей сверкающих лилий И намного счастливей меня. Вашу жажду роса утоляет, Кормят вас поцелуи лучей. Ароматный нектар собирая, Вы летите в цветенье полей. Мое сердце тоскою задето, Да и может ли быть мне легко, Если девочка-радуга где-то Далеко, далеко, далеко. Вы от звука речей встрепенулись, Но слова вам не сделают зла, Я нагнусь, чтобы крылья коснулись Опаленного зноем чела. Я спрошу вас: — Откуда вы родом? Над каким вы созрели цветком? И давно ли за солнечным медом Вы летите так дружно вдвоем? Не встречалась ли вам та дорожка, Та поляна в сиянье лучей, Где танцует в траве босоножка Средь зеленых и стройных стеблей? Мотыльки! И когда вы сгибались Над росою в цветочном венце, И когда вы, сверкая, купались В золотистой цветочной пыльце, В ее волосы ветер вас впутал, Или сели вы к ней на ладонь, Лишь нагнулась задуть на минуту Колокольчиков синий огонь? — Пусть же солнце, играя на флейте, Дальше по небу гонит стада. Боль мою поскорее развейте, Отыщите дорогу туда!» И встрепенулись бабочки лесные, Как будто поняли его живую речь, И выпрямили крылья золотые, Стряхнув росу с цветка зеленых плеч. И поднялись. И поднялись за ними, Как вожжи, две незримых полосы, И быстро за конями золотыми, Почуяв легкость вдруг в ногах босых, Пошел послушный, радостный Андрей, Следя за поворотами теней. По богородским травам и пырею, По гальке, шелестящей под ногой, Цветные эльфы повели Андрея До оползней песчаных над рекой. И дальше, каменистыми холмами, Где царствует седой чертополох, И где песок вздымается волнами, И где бурьян коралловый засох. Где желтый зной над склонами расстелен И тянется песчаная гряда, И дальше — в неожиданную зелень Влетели и исчезли без следа. Андрей замедлил шаг. Куда он вышел? Пред ним стоял зеленый юный лес, Как лестница — все выше, выше, выше, От кустиков — к вершинам до небес. Прижалась зелень чахлая по краю, С трудом трава растет среди песка, А посреди — расщелина зияет Крута, красна, мертва и глубока. Над ней темнеют каменные своды Угрюмых плит — они внушают страх, Как памятник надгробный на камнях, Построенный усилием природы. Он спаян плесенью. И в мелком углубленье, Где мох торчит, прохладен и колюч, Меж двух камней бежит прохладный ключ, Сочится, каплет, брызжет в нетерпенье И падает в бассейн, который бьет, Наполненный подземным клокотаньем, И лентою ручья бежит вперед, Развеселив расщелину журчаньем. И наклонясь над пенными струями, Прохладу с жадностью глотал Андрей И, встав в поток обеими ногами, Пошел туда, куда бежал ручей. Льются струи, льются По пескам и средь болот, Спрячутся, найдутся, К травам прикоснутся, Близок, близок, поворот. Меж оврагов и полян Стережет водоворот, Но ручей от солнца пьян, Он бежит, бурливый, Обнимая ивы Стан. Рой стрекоз над тиной Бойко пляшет и поет. От теней их длинных На воде морщины, Луч ныряет в лоно вод. На воде горит сапфир, И Андрей проходит вброд. Пусть кипит весенний пир! Как овраг безбрежный, Полон лилий нежных Мир. И бегут к потоку Ручейки со всех сторон. Волны ярче стекол! Вздрогнула осока — Диких уток слышен стон, Видишь — сотни длинных шей? Узел струй переплетен, Как клубок шипящих змей. Так лети, ликуя, И о камни струи Бей. А там, где кончается зелень осок И листья ольховые вьются, Спускаются ветки в ручей из-под ног И чьи-то шаги раздаются. Щеглы встрепенулись, и вздрогнул камыш, Листва опустилась понуро, И шопот бежит по земле, словно мышь. И темные бродят фигуры. На зеленой дудке Ветер песенку сыграй! Замер берег чуткий, В пене незабудки, Мчись волна в далекий край! Как песок на дне багров! Ветер песенку играй, Чтобы грянул хор ручьев! Там над головою Убранный листвою Кров. Фигуры согнулись… Что ищет на дне Народ этот странный и жалкий? Ты видишь — у каждого горб на спине, В руках — суковатые палки. Подходят, и видно по сжатым устам, Что делают важное дело, Мешки за спиною подобно горбам Вросли в их усталое тело. Ах, ручей, скорее! Видишь — ниже солнца круг… Добеги быстрее Вон до той аллеи. Погляди на дальний луг — Не узнать его сейчас! Там девичьей песни звук Ярко вспыхнул и погас. Венчик солнца низок — Предвечерний близок Час. По лесу идут не спеша мужики, По мху осторожно шагают. Как камень тяжелый, их давят мешки И им наклоняться мешают. И плачет над ними листвы водопад. Обдав их зеленою пеной. Они удивленно на парня глядят, Что бродит в воде по колено. Эй, ручей, что ждешь ты? Видишь — сборище берез, И обуты ножки В снежные сапожки. Берег гребнем в пену врос, Мчатся струи со всех ног, А у девственных берез, Где камыш от струй оглох, Жмутся незабудки, Два цветка-малютки, В мох. Оделся вереск мглой туманной, И ветер сел в кусты на луг. Склонившись над водою, Анна Лесную пыль смывает с рук. Мелькает розовое платье На темном фоне камышей, И хочет слепо подражать ей И отражать ее ручей. Она стоит, и ей навстречу Летит растрепанный поток. Дрожат ее нагие плечи, И солнца меч на шею лег. Сплетением огня и дыма Бьет пена у ее колен, И снова мчится мимо, мимо Водоворот зеленых пен. В предсмертном сиянии солнца так странно Вода перед ней разбежалась кругами… Как будто колдует волшебница Анна, Плетет обручами огни за огнями, Как будто преступница юная хочет, Колдуя, кому-то беду напророчить. Нет, так Андрей не думал! В этот миг он С биеньем сердца сросся телом. Он стал порывом, вспышкой, криком… Что ж медлит он? В ушах гудело… Сигналы, звезды, лютни, искры — Смешалось все, и грудь горела. Но медлил он… Так будь же смелым! Откуда же, чорт побери, в ушах эти глупые свисты? Набрал он дыханье… Вперед! Скорее! И брызгая пеной на травы поляны (Пусть сыплются искры!), от радости пьяный И тихий, как нива, Он встал Перед Анной. (Где-то крикнула сонная птица в ветвях.) В пурпурной оправе, В умирающей славе Дня — Темноты приближенье. Наклонили кувшин И разлили вокруг Тишину. Догоняет мгновенье мгновенье, И волна догоняет волну. Словно ирис, в воде отраженный, Лик ее, над ручьем наклоненный; Но едва гладь волны величавой Тронет ветер рукою шершавой — И тотчас же цветок исказится, Поплывет, задрожит, раздробится, Не цветок — а змея водяная! Так и Анна — вдруг стала другая… Исказилось гримасою страха Все лицо ее, брови вспорхнули, Бледный рот задрожал на мгновенье, Но зрачки ее дико блеснули, И Андрей в них прочел отвращенье! Отвращенье… И в ту же минуту, Приподняв свое платье, как будто Опасаясь запачкаться, Анна Отскочила, как кошка… взглянула И стрелою помчалась налево, В чащу леса, крича беспрестанно: «Ах, сударыня! Где же вы? Где вы? Мне грозит хулиган… оборванец… Невоспитанный грязный мальчишка!» И над лесом, как яркая вспышка, Крик ее приподнялся и замер… Повторили деревья: грязный… Прошептала вода: мальчишка… Ветер громко сказал: оборванец… А эхо Разыгралось над лесом, Разорвало над лесом Тишину, как завесу, Повторяя Со смехом: Хуу-лига-ан!.. Хуу-лига-ан!.. Хуу-лига-ан!.. Ууу-аа… Ууу-ааа… ааа… Крик еще падал в волны, Шелестел еще в сонных листьях, Но вот в пустоте грянул выстрел… Вздрогнул лес и поник безмолвно. Шепчет лес… Дышет лес… Грянул выстрел, другой и третий, И протяжно четвертый ответил… Дышит лес, Пахнет лес… И видит Андрей — сквозь тростник, напролом, Склоняясь к воды изголовью, Бежит человек с побледневшим лицом И весь обливается кровью. И падает с шумом ничком на песок, От боли теряя сознанье, А лес уж проснулся от топота ног, Сбегаются молча крестьяне. И вот подошли и столпились вокруг, На землю мешки побросали, Нагнулись и вынули камень из рук И тряпкою лоб обвязали. Смочили водой окровавленный рот, Потом приподняли за плечи И вот на руках понесли его вброд К померкнувшей чаще навстречу. Замер ветер за рощей туманной, Еле слышно бормочет ручей, Неподвижный, глухой, деревянный Цепенеет в осоке Андрей. Жжет ступни серый сумрак песка, Никнут травы к земле поминутно, Вьется вечер, как дым чубука, Дремлют бабочки, пчелы и трутни. Все молчит. Лишь звучит у виска Комара однозвучная лютня. И почудилось вдруг Андрею, Что на теле кора вырастает, И сучки, и ветки над нею, Сердце делят его на две части, А из сердца кровь вытекает, Опьяняет, как ветер вешний, И бежит по сучкам так сладко И шурша протекает к пяткам… Он теперь не Андрей — он орешник! Так минута одна промчалась, Но ему она годом казалась. Вдруг он выпрямил руки и прыгнул с разбега Через темный ручей… И вода задрожала, И вода понеслась по следам человека! Он бежал, словно свора собак настигала И грозила схватить его… Он торопился. Вот он — лес! Он, почти не дыша, притаился И увидел — пред ним расстилалась поляна, Где деревья стояли стеной, полукругом, Та поляна, где тонкая девочка Анна Танцовала в траве, улыбаясь подругам. Как давно это было! О, где вы, бутоны Тонконогих цветов? Где плясуньи лесные? Где ромашки и мальвы, где терн и пионы? Где ты, магия красок? Все блекнет, все тонет, Растворяясь в пурпурной волне небосклона. Это значит, что солнце за горы упало. И поляна в венке из ветвей потухала, Как виденье, как призрак лесного пожара… Лес вокруг обступал ее ближе и ближе, Поднимались древесные головы выше, Так, что неба кусок, что был виден над бором, Становился то серым, то синим, то черным. А внизу на корнях темнота проступает И платок заколдованный ночь расстилает. Это были два мира: один — словно сцена, Где кровавой красою сияли подмостки, А другой — канул в тьму. И в Андрее поднялся Неожиданный гнев. И кулак его сжался, Этот детский кулак стал от ярости жестким, Он кому-то грозил… Умолк последний всплеск лучей. Прислушайся — и в царстве дремы Услышишь шорохи корней, Ночные вздохи насекомых. Лучи погасли. Дремлет ширь. Подстерегают жертву совы, Летит, срывая лист дубовый, Подслеповатый нетопырь. Скорей, а то вот-вот испуг собьет с дороги! Бежит к вокзалу детвора, — давай бог ноги! Закачались от шагов скаты полевые, Зашумели голоса в чаще молодые. Под ногами бурелом стонет в перелеске, Свежий ветер в ноздри бьет, больно ветер резкий! Вот и станция — гляди — в маленьком поселке. Все мальчишки собрались, голодны как волки. И когда доели все, пошепчась во мраке, Мол, прогулка ничего, только голод мучит, Вышел молча на перон человек во фраке, С ним, сияя в орденах, молодой поручик. Штатский складно речь сказал, кончив польским флагом[18], Офицер тут подошел, рост их измеряет, Смотрит зубы, языки, строю обучает: Рассчитайсь! Ровняйсь! Ложись! По четыре — шагом! Честь!! (полусерьезно, полушутливо) Довольно… Пора в вагон садиться. Школьники ждут нетерпеливо. Наконец-то подан вагон… Грузиться! Грузятся. Грудью на дверь напирают. Доски трещат. Грохот бьет им в лица. Через пять минут поезд прибывает, — Прицепит вагон, просвистит и помчится. Словно во сне, из лесного плена Сквозь тишины ночные озера С разных сторон одновременно Андрей и Богдан выходят из бора. Брови Андрея стянуты хмуро, Рвет он в раздумье стебли бурьяна. Движется медленно и понуро Сгорбленная фигура Богдана. Одновременно дошли до вагона, Так что даже столкнулись колени, Поднял Богдан глаза удивленно, Дрогнули скулы от напряженья. Учитель подал знак — и хор вступает, И груди нотой маршевой раздуты, Секунда за секундой — вырастает Серебряное дерево минуты. Утихло — и опять надулись шеи, И песня поднялась и застонала Мильонами смертей в сырых траншеях, Разрывами смертельного металла. Она по стеклам била канонадой, Как конский топот на мосту, звенела И, опустившись на перон с досадой, Фальшивила, срывалась и хрипела. Давила грудь и к горлу шла слезами, Пока последний звук ее не замер. Кто смел здесь поранить торжественный гимн? Кто песнь смертоносную косит? Кто искру восстанья сквозь сумрак и дым От сердца до сердца доносит? Кто пламя из пепла опять возродил И гневом раздул многолетним? Ладонью Андрей старый марш потушил, Чтоб новую песню запеть нам: «Товарищи! Мираж погас, И пробил ненависти час. Свершает шар земной свой круг. Пусть камень вылетит из рук! Пусть режет лист, сгибает прут, Пусть обжигает черный пруд. Пусть он пугает подлеца И будит смелые сердца! Так сокол бился наугад, А в грудь его сочился яд, И сокол сонный и ручной Летал по клетке золотой. Но вот однажды грянул гром, Упал огонь, сжигая дом, Обуглил перья, ранил грудь, Но в сердце вихрь успел вдохнуть! Так я, отравленный мечтой, Разбужен былью громовой, Сегодня призываю вас! Товарищи! Мираж погас! Вперед! То времени призыв! Пришла пора вскрывать нарыв. Пусть кипятком в глаза господ Обида жгучая плеснет! Мы знаем холод, мрак и гнет, Мы — в муке дней зачатый плод! Взращенное среди болот, О племя львиное, вперед! Во тьме, всему наперекор, Мы тянем к свету жадный взор. Пусть платит свора палачей За кровь отцов и матерей! Не заглушит рыданий гимн! Гортани слабы — трудно им Перекричать подземный гром… Друзья! Плотней ряды сомкнем! Повсюду, где туман дорог, Где ранит камень язвы ног, Мы под дождем и под огнем В руках Грядущее несем!» Дрогнул поезд черный, Плюнул дымом и огнем. Пышный и узорный Дым поплыл по дерну. Поезд мчится, мчится вдаль, И колес мятежный гром Заглушает пастораль! Прежде чем зари лучом Небо заалеет, Пусть в сердцах созреет Сталь.1935–1936 гг.
II ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА
Партизанская песня
I
Если взрыв прогремит порою, В волны рухнут моста сплетенья И помчатся тропкой лесною, К гривам конским приникнув, тени Это мы — сыновья народа, Всё отдавшие делу свободы, Новой жизни светлые всходы — Партизаны!II
Ой, не долго на польских нивах Извиваться прусскому гаду! У речных широких разливов Собирается наша громада. Мы — таинственной ночи виденья, В каждой хате наше рожденье, Утомленных душ утешенье — Партизаны!III
На востоке народ могучий Обрубает свастике когти. Налетайте, мстители, тучей, Славный час возмездья готовьте! Хватит гнуть под ярмом нам шеи, По-мужицки накажем злодея, Грянем грозною силой своею, Партизаны!IV
Не раздавят Москвы бандиты! Прочь из Минска, прочь из Варшавы! Вдоволь есть у нас динамита Для кровавой нашей расправы! Не уснет засада ночная, Свистнет пуля, цель настигая! Пусть кипит в нас кровь удалая, Партизаны!V
Серым волком мелькну меж сосен — Немец в мох зароется носом; Заскребусь под стрехою мышью — Немец станет бледней и тише; Из отравленного колодца Мститель немцу в очи смеется, Где ни прячется враг, как ни вьется, Партизаны!VI
Если струсишь — сгинешь мгновенно, Позабудется даже имя. Поклялись мы клятвой священной — Матерями, детьми своими, Сердцем девичьим, отчей честью — До победы сражаться вместе. Так вперед же рыцари мести — Партизаны!VII
Лавой мчимся в поле открытом, Пробираемся яром — бором, С автоматом, в битве добытым, И трофейных гранат набором. По лесам у нас арсеналы, Незаметны наши привалы. Мчитесь кони! Вперед запевалы, Партизаны!VIII
Ну, а если фашистам в руки Попадешь за лихую работу, По-солдатски иди на муки, Стань бесстрашно у эшафота. Сыновей народ величает, На могилах цветы расцветают. Песнь расскажет, как умирают Партизаны!IX
Ты воскреснешь в песне народной, В серебристой девичьей песне, Только б встала Польша свободной Новой, радостной и чудесной. Поплывешь по Висле венками[19], На полях взойдешь зеленями… Вихрь свободы шумит над нами — Партизаны!1941 г., август
Три женщины
I
Ты матери голос слышишь, Всю жизнь тебе посвятившей, Сердце тебе отдавшей, Грудью тебя вскормившей, Баюкавшей сына песней, Сказки шептавшей ночью. Вернись же ко мне родимый, Скорее приди, сыночек! Немец спалил нашу хату, Оставил нам пепелище. Теперь без угла, без крова Брожу я по селам нищим. Глаза на твоем портрете Штыком проколол проклятый. Приди же, сынок, скорее, Скорее приди с расплатой! Вернись же, вернись с расплатой, За все отомсти злодею. Пусть материнское имя Присягой будет твоею!II
Брат, голос сестры ты слышишь. Мы счастливы в детстве были, В небе считали птичек, Дворцы из песка лепили. В минуты трудные жизни Я руку тебе подавала, Найти помогала правду, Забыть нужду помогала. Ворог меня похитил, Веревкой скрутил мне руки, Теперь я, братец, рабыня Толстой немецкой гадюки. Служу немецкой гадюке В стране чужой и постылой, К тебе взываю ночами: Верни мне свободу, милый! Ты сестрам вернешь свободу, Раздавишь прусского змея. Пусть имя мое сегодня Присягой будет твоею!III
Вспомнишь меня — и в мире Нигде не найдешь себе места! Я дней твоих юных тайна, Любовь твоя и невеста. Еще мотыльков весенних Душа моя не забыла, Еще не исчезла сладость Твоих поцелуев, милый. Слушай, любимый, слушай, Из бездны к тебе взываю: Пьяный солдат немецкий Тело мое терзает. Жжет офицер, пытая, Сигарой белые груди, Я погибаю, милый, Но знаю — возмездие будет! Я жду тебя каждым нервом, Как влаги — земля. Скорее! Пусть память невесты станет Присягой грозной твоею!1943 г., июль
Памяти погибшей
I
Рассветной свежестью ночь дохнула. Неясных снов исчезает смута. Мое дыханье к тебе прильнуло, И ты жива, ты рядом как будто. Ты здесь со мной, в переливах света, Так очевидна, так ощутима, Как будто утром расставшись где-то, Вновь повстречались в ночном пути мы. Какой Орфей[20] сквозь года разлуки Привел тебя из мглистого Орка[21]? Хочу позвать, — но былые звуки Слились, ушли в немоту восторга. Хочу позвать тебя, — но так трудно К звучанью имени вновь обратиться: Мы пили счастье так безрассудно, Что слишком рано пришлось распроститься. Мы, видно, так любили друг друга, Что в мире счастье не уместилось. И снова горло сдавила мука. И слово в крик само превратилось.II
А столько есть на свете красавиц, Их слово — ласка, их очи — нега. Но ты во мне, как живая завязь, Родник, пробившийся из-под снега. Навек слезами омыто сиянье Твоей души посмертно-нетленной. Ты мое зренье, мое деянье, Ты связь моя со всею вселенной. Еще не зная, уже тоскуя, Я жил и ждал, что меня осенишь ты. И вот внезапно нашел такую После того, как падал семижды. Нашел, чтоб сразу тебя утратить! Нашел, чтоб вечность все поглотила! Глупец! Я думал, — времени хватит, — А нам и вечности нехватило. Пусть у других в мгновенье любое Избытком счастья играют волны. Только тобою, только тобою На жизнь и смерть останусь я полный. Твои мне очи горят в полночи, Как звезды в мире, твои мне очи. Куда ни кинусь, что б ни стремило, — Помню о милой, плачу о милой.III
Во мне будила ты, что хотела, Все, чем дышу я, — твое деянье. Я верил в блеск молодого тела, В биенье сердца, в лица сиянье. С тобою связан, навек открыл я, Что нет мне жизни иной на свете. И ты дала мне в дорогу крылья, Дала в дорогу попутный ветер. И в эти годы, в резне кровавой, Когда мне снится подвиг грядущий, Твой скорбный облик сияет славой Над нашей явью, слишком гнетущей. Пускай ты пала, скошена пулей. Пускай погасла в длительных муках. Когда убийца тебя караулил, Пускай спала, дитя убаюкав. Пускай в мученьях смежая веки, Позвать меня и не успела. Одно я знаю твердо навеки, — Ты смерть встречала светло и смело! Сверкали очи насмешкой ясной, Ты шла на гибель, легко шагая. И был раздавлен тот карлик грязный, Когда ты встала пред ним нагая!IV
За гарь пожаров с тучами вровень, За след веревки на шее братьев, За униженья, за море крови — За все, за все убийца заплатит. Настанет суд, короткий и правый, Чтоб заклеймить его ближних и присных. Настанет час суровой расправы Для всех предателей ненавистных. Дотянутся к ним ручища мести. Развалится враг гнильем и пылью, И я скажу о моей невесте В поэме, полной прожитой былью. И если мне суждено вернуться Домой на Вислу, — то будет утро, Когда завесы дней распахнутся, — Поставлю памятник златокудрой. Печаль и память, страсть и терпенье, Помогут мне в последней работе И ты воскреснешь, — вся упоенье, Вся ликованье души и плоти. И в легком звоне листвы зеленой Дождусь я ночи, смежу я веки, В тебя одну безраздельно влюбленный, С тобой одной навеки, навеки!Без даты.
Пятая колонна
I
Там, где у самого слиянья с Обью Трепещут струи Каменки-реки[22], Где улиц отраженное подобье Ныряет под бетонные быки, Где часто я стоял, объятый скорбью, И на воду глядел из-под руки, Где быстрины напоминали Вислу, Ко мне донесся голос ненавистный…II
Вздымался тяжко молот паровой, В багрянце дымном корпуса вставали, Весь город был лавиной грозовой, Переплетеньем окрыленной стали. Но мне, когда раздался волчий вой, Почудилось, что я в гнилом подвале, Где некий призрак с выщербленным ртом Стучит мне в грудь пергаментным перстом.III
Я слышал этот голос не впервые, Ведь это он науськивал громил, И соблазнял, и голоса живые Своим блудливым пафосом глушил. Он Польшу продавал за чаевые, Он на облаву в Познани ходил, Был отголоском казней и растлений, Расстрелов и кровавых усмирений.IV
Так кто ж ему сегодня право дал От имени отчизны угнетенной, От имени того, кто погибал, Придерживая бинт окровавленный, От имени того, кто умирал, Лучом напрасной славы озаренный, — Кто право дал о подвиге кричать Тому, на ком предательства печать?V
Кричать — истошным воплем, призывая На суд страну, что принимает бой, Ту, чья судьба связалась боевая С отчизной нашей, кровью и судьбой, Ту, что свинец и пламя исторгая, Стоит, народы защитив собой, Обрушивая залпы, от которых Дрожит ее и наш заклятый ворог.VI
Отвергнувшие помощь братских рот Из-за своих торгашеских расчетов, Забрались вы, предав родной народ, В нутро разоруженных самолетов. Смотрите! Дымом застлан небосвод, Как черным крепом. Руки патриотов Развинчивают рельсы на путях, И птицы надрываются в лесах.VII
Седых дождей осеннее кочевье, И детский плач, и смертный, тяжкий вздох. Безумно шелестящие деревья И ощетиненный чертополох, И черный смрад, плачевный запах тленья, Дыханье смерти вдоль лесных дорог. Гниют плоды, и загнивают воды. Народ устами матери-природыVIII
Вас проклинает — пусть подземный мрак Покроет вас, отродье Тарговицы[23]! Снаряды отливает сибиряк, Река оружья к западу струится, Народ — в пути, над ним — победный стяг, Листаются истории страницы… Я знаю — буря этих грозных лет С лица земли сотрет ваш грязный след.1943 г., апрель
Письмо Юлиану Тувиму
Там за Атлантикой чужою и холодной Через волны пенные седого океана Ты видишь нас, Тувим? Ты видишь молодые Румяные в огне знамен багряных лица, Горящие глаза, отличий знаки, шлемы И взводы стройные, как нивы золотые, С колосьями штыков сверкающих, колючих? Ты слышишь, как в боях чрез рубикон окопов На запад мы идем стоверстными шагами, Как греем над костром замерзшие моторы, Как тащим пушки мы, как проволоку тянем, Перенося вперед в бою связные пункты, Как выдвигается огонь артиллерийский Пред цепью боевой мгновенно за приказом? Почувствовал бы ты, поэт, здесь на рассвете Родного воздуха чуть уловимый запах, Что с запада донес к нам ветер беспокойный, Приветствовал бы ты знакомую природу, Ступил на землю б ту, что, как своя, нам дышит, — И сердце б из груди твоей, поэт, взлетело В безумном, радостном стремлении на запад! За горизонтом день в густеющем багрянце Рождается, и он в сиянье крови, славы Увидит, как покров распавшегося рабства Сползет с поверхности страны, как будто глетчер, Открыв пред взорами зубчатые вершины, Долины в шрамах рек, в рубцах потоков бурных, Ожоги пепелищ, истерзанные ткани Кровавых мускулов и нервов, чувств и мыслей, Где горестно стоит, заламывая руки Над пепелищами, народ наш, погорелец. И может быть, тогда обманщик чужеземный Иль гад, рожденный здесь и на спине несущий Предательств больше, чем на коже темных пятен, Который видеть свет, как хвост свой, неспособен, Вдруг выползет из мха и, глазками мерцая, Начнет нас уверять, свой язычок раздвоив, Что пастырь горьких слез и средь народов Лазарь Не сможет приподнять руки своей бессильной, Чтоб белое пятно на карте с начертаньем «Пустыня польская» вновь заселилось густо Кружками городов и ярко расцветилось. У человечества так много сил кипучих, И сила юная кипит в народе польском, Она питается из недр земли родимой И обновляется всегда с весной зеленой. За горло можно взять, душить, терзать ту силу, Пытать, топтать и все ж — ее не уничтожить! Она из тюрем всех, из лагерей прорвется Вверх к солнцу! Вырвется, как из жерла вулкана! Бей, вешай, четвертуй, железом жги каленым, — В руках у палача она лишь стиснет зубы, Сквозь стон услышишь ты мятежное проклятье, Как узника шаги в тюремной одиночке, То — титанический шаг Дня Суда и Гнева[24]. Страшнейшее из всех народных поражений, Опаснейший недуг больных проказой рабства, И наихудшее — ведь это гнилость сердца И одряхлелость чувств живой кариатиды, Держащей над собой честь, званье человека, Держащей над собой достоинство народа, — К это ничего: в огне борьбы, в порыве, В размахе, в блеске гроз, в стремительном биенье, В дыханье пламенном великих созиданий Истлеет ржавчина, огонь очистит в душах Мощь ослабевшую, взор прояснит, придавши Чертам расплывчатым решительную твердость, И потускневшие характеры заблещут Вдруг ослепительно и совершат деянья Великие и справятся с задачей Огромной. Польша вновь, как воскресенье, встанет, В сережках зелени и в трелях, воркованьях, В цветенье трав лесных, в колосьях и потоках, В бросанье шапок вверх, и в шуме карусельном, В журчащих для детей фонтанах среди парков, В то время как смолой запахнувшие срубы И груды кирпичей, краснеющих средь листьев, Расскажут о труде успешном за неделю, Восхвалят новую неделю трудовую. О Юлиан Тувим, чрез голубые версты Волн атлантических лицо твое я вижу На фоне вздыбленных под тучи небоскребов: Уста, твердящие псалом тоски суровой, Седые волосы, взлохмаченные бризом, И взгляд твой, ищущий вдали, за океаном, В сиянии зари Зигмундову колонну[25]. Твержу я: пусть твоя исполнится молитва, Пусть воплотятся в жизнь и мысль твоя и слово. Здесь на земле и там, на Балтике лазурной, Прольется пусть в борьбе за счастье на планете Не больше крови, чем в обряде побратимства, Когда два племени кровь смешивают в чаше. Живительною будь, борьба, и плодотворной! Взлетайте, песни, ввысь над полем нашей славы! Поэт! События меняют облик мира, В теснине слышим мы гул океана счастья. Осталось только нам пройти через преграду Не обозначенных на карте, скрытых рифов. Так поклянемся же друг другу обоюдно, Поэт, что никогда не высохнет на перьях Роса, которую принес свободы ветер, Что никогда из нас блесною золотою Не вырвут лживых слов, что речь стальную правды Рожденную в душе на службе у народа, Мы будем возвещать отважно, вдохновенно… А ты нам помоги, о муза созиданья!1943 г., декабрь
Через линию фронта
(ОТРЫВКИ)
Пред тем как дрогнет тьма от петухов кричащих, Творятся чудеса в лесных дремучих чащах: Зловещим отблеском деревья загорятся, И темные кусты вдруг на коней садятся, Съезжают под откос и движутся в овраге, И шишаки ветвей колышатся во мраке, И на деревню вдруг обрушен шквал огнистый, Бегут из теплых хат в одном белье фашисты И мечутся, ища — укрыться им куда бы, Запоры взломаны, горят бумаги штаба. А в городах — подкоп вдоль улицы пустынной, В сараях — арсенал, и адская машина На каждой фабрике невидимо грозится, И каждое окно зияет, как бойница. А типографии подпольные ночами Звучат призывными свободными речами, До каждого угла листовки долетели, Уж песня на устах, смятенье в Цитадели[26]. В сугробах, где-нибудь под деревом косматым Иль в старом городе по улицам кривым История идет с солдатским автоматом, И даже мертвые хотят помочь живым. Во фраках призрачных у насыпи пустынной Там Лукасинский сам и Траугутт вдвоем При свете месяца закладывают мины[27] Под стыки звонких рельс, блестящих серебром. Варынский там звенит мазуркою кандальной[28] В воротах фабрики, поход готовя дальний, И Павяк[29] ждет его. И скачет там в тумане Стегенный[30] и за ним восставшие крестьяне. Согнуты тени их, через плечо патроны. Один из них поит коня водой студеной. Якуб Ясинский то! Как грозно и сурово Блестят его глаза! Вновь на коня садится. Ведь послан он гонцом от Рады Народовой[31] И должен лично сам вручить письмо Сташицу[32]. Воскрес он для борьбы… В морозном ореоле Лежат развалины и Модлина и Кутна[33]. Какая тишина! Заря мерцает смутно. С гранатой Бучек встал в безлюдье улиц Воли[34]. Так настоящее с далеким прошлым вместе Растит кровавые бессмертники возмездий, И люди, в прошлые события вглядясь, Борьбой своей крепят с грядущей жизнью связь Над отступающей границей рабства, горя, Что отодвинулась в отливе, словно море, Взлетела в небо весть сигналами ракет, Как будто привезли шифрованный пакет, И конским топотом она несется глухо, И каждый раз, когда к земле приложишь ухо, То загудит она подземным гулом в нем, — Дошла и ширится весть громкая о том, Что Польша будет жить, от бури сотрясаясь, И станет радостной, счастливой, молодой, Ногами — склонов Татр обрывистых касаясь, Упершись в Балтику янтарной головой. Как солнце после бурь и долгого ненастья, Лучистый взгляд ее блеснет светлей, нежней, И переполнит грудь ее такое счастье, Что сможет напитать им всех своих детей. Повеет ветер ей раздольями свободы, Откроется пред ней слепительная даль, От запаха земли пройдет ее печаль, И в сердце сгладятся былых страданий годы. Весна! Весна! Чудес уже развернут свиток Во взрывах, в трассах пуль и в грохоте зениток. Потоком бурным кровь подмыла гребни скал, И в пропасть падает чудовищный обвал. Оплот последний взят — ура! Одна бойница Сверкает и гремит. Скорей ее сметем! Вперед! Чрез поле битв должны мы устремиться К победе солнечной! Вперед прямым путем! Под майскою грозой, под ливнем поцелуйным! Свобода! Родину овей дыханьем буйным И победителей шеренги окрыли! О нет! Не город то поднялся из земли Над вечной рябью волн, сверкающих вдали… О нет! Не город то, а поле битвы новой! Здесь завтра улицы осветит блеск багровый И будет бушевать железный вихрь и град… О нет, не город то! Зигзаги баррикад, Как будто челюсти, ощерили траншеи, Вращает пушки дот, броней стальной темнея. Чрез минные поля мой стих-солдат пройдет Бесшумно, как патруль, и, устремясь вперед, Увидит и сочтет все огневые точки, Всех пулеметных гнезд найдет сосредоточье, Запомнит каждый ров, и дзот, и склад оружья, Завалы из мешков с песком на чердаках, — Но прежде пусть мой стих те норы обнаружит, Куда предателей загнал животный страх! Пусть встанет он в дверях с прицелом, взятым точно… Гремит по лестницам, по трубам водосточным, Пускай мой стих летит в предместья, как призыв, Чтоб множество людей сплотил один порыв! Пускай мой стих гремит их гневной бурной речью, Чтобы восстав пошли поляки нам навстречу! О братья, если бы под бурею событий Рукою слабою я мог соединить Концы тринадцати разъединенных нитей В одну сплетенную и шелковую нить![35] То — ненависти нить и нить любви единой! О, если бы я мог той нитью крепкой, длинной Все ваши бледные от голода и муки, Разъединенные от несогласья руки Связать, как фитилем, огонь пустить по нити, Чтоб взрывом пламенным сердца у всех зажглись! Колокола, скорей тревогу зазвоните! Пускай призыв к борьбе несется мощно ввысь! Объединимся же! Земля в весенней неге Вновь ярко зацветет, смерть жизнью победив, Об этом танки весть несут в гремящем беге, И каждый выстрел в том порукой, каждый взрыв! Объединимся же! Чудовищным драконом Враг отползает вспять по землям разоренным! От ран его идет тяжелый трупный запах, И он ползет в нору вонючую свою, Со сломанным хребтом, на перебитых лапах, Об острые сучки сдирая чешую. Объединимся же! Ведь след его осклизлый Цветущие луга, колосья отравил. Так защищайте же дома свои над Вислой, И шахты, фабрики, кресты родных могил. Объединимся же! И напряжем все силы, Чтоб гадина живой в нору не уползла И, раны зализав, не вышла из могилы Чешуйчатой броней обросшая для зла. Отрубим голову чудовищу-дракону! Гранитный Модлин есть, вал Вислы укрепленной, Домброва[36] есть у нас, есть Гнезно, Познань, Краков, Варшава, город наш, священный для поляков, И есть оружие, чтоб гнать фашистский сброд. Ведь наша армия — восставший весь народ! Средь смелых партизан найдутся командиры. Пожар восстания! Взвивайся выше, шире! Восстаньте же скорей из смрада, гари, дыма, Восстаньте, сплочены, сильны, несокрушимы! С заставы Прушковской взлетает юный луч И пробивается меж стен, как между туч, От Бема к Фильтровой скользит и к Пенкной прямо, И пятна всех теней выводит он упрямо, На Маршалковской же, сияньем огневея, Раскидывает вдруг свой разноцветный веер, На Плац Збавителя потом спешит веселый И будит голубей, позолотив костелы, Чрез Нововейскую перенесясь в Алеи, Лазенками скользит, пылая и алея, Затем чрез Новый Свет по Краковскому мчится На мост Кербедзя, там из фонарей лучится И в Вислу прыгает![37] Веселый щебет птиц звенит на каждом сквере, И открывает день и жалюзи, и двери. Я вижу — сочный луг зарею разрумянен, Глаза прищуривши, любуется крестьянин На ниву пышную и на плодовый сад, И маки головой ему кивают пылкой, И перед купленной недавно молотилкой, Ликуя, собралась гурьба босых ребят, И голос мельницы невидимой, но близкой Звенит, гудит, как шмель, и нарушает тишь. А телефонные столбы — как обелиски, Антенны птицами взлетают стройно с крыш… За это пасть в бою и умереть не страшно, Ведь кровь погибших всех приказ живым дает — Над взрытою землей на страже прав, свобод С оружием стоять, как на высокой башне, Следить, чтоб все добро, которое в страну Свою разбойную унес бандит немецкий, Все до последнего гвоздя, коляски детской Вернулось к беднякам, в народную казну. Отточено в боях оружье забастовок, Пускай сейчас оно покоится в ножнах, Но всех насильников оно разить готово, Всем угнетателям оно внушает страх. О, жальте пчелами, костюшковские ружья! Сверкайте молнией, о сабли партизан! Преступник — тот, кто мир меж братьями нарушит, Кто сеет распрей зло, предательство, обман! И тот, кто пугалом на ниве хлебородной Встает, поднявши плеть, чтоб наш мужик свободный, Опять закрепощен, оборван и уныл, С сумою нищенской все по миру ходил. По ним стрелять народ наш будет, как по зверю. Народ избранникам своим судьбу доверил, Но смотрит бдительно. Никто не зачеркнет Страниц, куда вписал народ свой опыт зрелый. Веками нас давил обман и хищный гнет, И рвался на восток в крови орел наш белый. Но дружба братская скрепила наш союз И старая вражда не повторится больше. Сегодня ты несешь в боях железный груз, А завтра золото плодов пожнешь ты, Польша!1944 г., январь — февраль
III ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Маскировка прожекторов
Сосенка, зелен плащ твой иглистый, Плачешь слезой ты горькой, смолистой; Я подрубаю ствол твой прекрасный, Сбитые шишки сохнут и гаснут. Сыплешь, ольха, ты в зной светотени, Я ж обдираю плащ твой весенний, Рубит топор мой остро и метко, Сыплются гнезда, падают ветки. Сосенка, ствол твой я подрубаю, Чтобы опутать зеленью с краю Наши машины с блеском огнистым, С лбом броненосным, с рогом лучистым. Режу, ольха, я свежие ветки, Чтоб от воздушной вражьей разведки, Скрыть под листвою блеклой, печальной Светлый прожектор — отблеск зеркальный. Если стервятник с черных гнездовий Выплывет в небо в поисках крови, Если уставят хищно бинокли С выси на землю зоркие стекла, — Пусть себе смотрят, крадучись, воя! Скрыты под чащей листьев и хвои, Словно лесные пни и вершины, Дремлют спокойно люди, машины. Ведь после боя нежит их дрема. Лежа, не слышат дальнего грома. Гулко грохочут ввысь батареи, Явь возникает, сном пламенея. Видны им в небе яркие взрывы, Мечет осколки вихрь торопливый… Хищник воздушный воет шакалом. Падай на землю в зареве алом! Вечер настанет, смолкнет пригорок, Сумрак нахлынет, дымен и горек, Из-под ольховой, из-под сосновой Зелени выйдем с силою новой. Выкатим своры чудищ зеркальных, Луч вдруг забродит в облачках дальних, И над врагами, под облаками В небе размечем белое пламя. Огненный меч тот грозен расплатой, Битва то света с черным пиратом, Звезды так светом тучу пронзают, Ночь перед солнцем так отступает.1941 г., июль
Юзеф Надзея пишет из Средней Азии
I
Польского мученика-народа Сын исстрадавшийся, нелицемерный, Польскою речью вспоен от природы, Светлому польскому духу верный, Веря, что Польша не оскудела И славное ждет ее возрожденье, Внося свою долю в общее дело, Пишу настоящее заявленье: Движутся воины Армии Красной Маршем победным, сметая преграды. Честь отдаю их отваге прекрасной, Мысленно вижу — сражаемся рядом. Вместе колотим пруссаков проклятых, Вместе громят их наши ребята, Звучат приказы, русский и польский… …Прошу зачислить меня в солдаты Польского Народного Войска.II
Еще на потертой школьной скамейке, Историю родины нашей читая, Узнал я о Войтках, Францишках, Матейках, Чья слава гремела от края до края[38]. Сражались польские батальоны «За вольность народов ближних и дальних»[39]. Над павшим низко склонялись знамена, Гремели пушки салютом прощальным. Где же те странники? Губы их немы, Но сабель блеск нам радугой светит. Ужель ни Домбровских нет, ни Бема, И новый Костюшко нам не ответит?[40] Дайте оружие! Автоматы, Чтобы крошить злодеев проклятых! Мне сердце жжет огонь беспокойства… …Прошу зачислить меня в солдаты Польского Народного Войска.III
Позор тем, которые нас лупили, А сами при виде врага сбежали. Сперва к украинской земле спешили, Теперь в Ираны, а может, подале. Того, кто сглаживал им помехи, Негодные шавки, кусать готовы! А мы хотим воевать, как чехи! Грюнвальд поможем создать мы новый![41] За дедов поруганные могилы! За жен и сестер, врагом оскорбленных! За все, что было свято и мило, Мы острия штыков обнаженных Воткнем прямо в горло убийцам, катам! От моря до моря спешит расплата! Мы вам заплатим с лихвой, по-свойски! …Прошу зачислить меня в солдаты Польского Народного Войска.IV
Туда, где в поле лупин пламенеет, В соломенных кровлях ласточек много, Где яблони яблочным цветом белеют, Уставлена виселицами дорога, Туда, где в развалинах пепелища, Селенья обрубками черными встали… Приду в этот край, и далекий и близкий, Моя отчизна в беде и в печали. Я встречной крестьянки ладони сухие, Как сын, поцелуями жадно покрою, Венки возложу на могилы родные, И стану я строить, и строить, и строить… Туда… где пастуший костер дымноватый, Где речка свергается с горного ската… Туда, к родной деревушке польской… …Прошу зачислить меня в солдаты Польского Народного Войска.1943 г., май
Прощание с Сибирью
Прощай, прощай, страна могучих кедров И чащ березовых, где глухари Токуют, где малиновки трепещут И гул зверья подобен гулу крови! Я уезжаю. Так прощай, страна, Где в реках много рыб, в лесах — грибов, Страна пшеницы и овса, и пасек, Пронзенная дыханьем суховеев, Безмерная! Ведь здесь круги пространства, Как жнивья, горизонт за горизонтом, Раскинулись, не ведая границ. В пустыне снежной здесь шагают гулко Столпы сияний северных. Бой сердца Чуть заглуши — и ты услышишь: полюс, Скрипя, вращается вокруг оси, А льды потрескивают и сверкают. Но человечьим оком взглянет солнце — И почернеет серебро зимы, И розою ветров все закружится, И грянет лето, словно некий взрыв Благоуханий, зелени и жара В стране сухой, в стране тугой и крепкой! Таков и твой народ, простой и цельный, Как будто вырубленный весь из камня, То тяжеленный, словно глыба угля, То блещущий, как слиток золотой, То весь прозрачный, как алмаз граненый, Как слезы — чистый, свежий как роса, Тугой и терпкий, твердый и упорный, Как северная яблоня, что в иней Зимою одевается, как в шубу, И убрана хрустальными плодами. Я видел парня: из тепла избы Он выбежал на искрящийся холод С пылающим, смеющимся лицом, В распахнутой рубахе, с голой грудью, И бросился за девушкой румяной — Жемчужиной здоровья, зимним маком. Я видел старика: отменный плотник, Носил он кедры на плечах столетних, Пил за двоих, работал за троих, За четверых ругался, а болтал И сыпал шутками за восьмерых И правнуков учил стрелять искусно. Я видел бездны шахт, где человек, Рукою твердой ухватясь за выступ, Приподнимал твердыни антрацита. Я видел пекло фабрики, где стены Растрескались от пламени. Снаряды Блестели штабелями гладких ампул, Насыщенных любовью, жаром, гневом, Презреньем к голоду и к утомленью, И мукою, и гордостью, и смертью. Сибирь, прощай! Тебя и твой народ Ценить я научился. Уезжаю Я не без сожаленья, и не раз Я тайно буду по тебе томиться. Я еду, а зеленый горизонт Накидывает на меня арканы, Как будто удержать меня он хочет. Но еду, и во всем своем величье Является мне мощь твоей земли, Ее животворящие глубины… Где некогда безмолвие снегов Пронзал лишь посвист бешеной кибитки И на дорогах жалобно звенели Под суховеем только кандалы, Теперь гудят заводы и плавильни И мчатся поезда с тяжелым грузом — Сырьем или рудою — на восток, Или на запад — с рыбой, солью, рисом, Железом, каучуком, частями моста, Орудиями, сахаром, стеклом, Снарядами, винтовками, взрывчаткой, Зерном ячменным, бомбами, людьми. И великан войны, в плечах могучих Почувствовав отлив богатых соков, И привкус утомления во рту, И непреодолимую сонливость, Оглянется недаром на Восток И, вскормленный истоком вечной силы — Широкой грудью Азии раскосой, Омоет ноги в синем Иртыше — И снова в бой! Рывком великолепным Стряхнет врага он со своей спины И бросит наземь, разобьет о камни. Здесь я нашел приют, кус черствый хлеба, Рукопожатье жесткое людей, Товарищеский труд. Тебе, Сибирь, Обязан обновленьем я. Тебя За радостный мой шаг благодарю я. Униженный боец, упавший здесь Под первыми ударами войны, Я думал, что я ранен в лоб навылет. Но оказалось в сердце. В этот час Своей водой ты мне глаза промыла, Своею солью кости пропитала, Натерла мышцы иглами сосны, Узлы всех сил мне закрепила, грозно Сожгла остатки выдуманных чувств И мне вернула выправку солдата, Способного не покоряться смерти И выполнять и отдавать приказы. О, в снежной разлетающейся шубе, С лохматым чубом злой тайги, из недр Сверкающая черным оком угля И машущая палицей Урала, Прощай, Сибирь-воительница! Ты На ледяной громаде океана, Как на вспененном, на седом коне, Качаешься, а стремена и ноги Согреты солнцем тропиков, и вся Готова ты к прыжку через века Истории, над кручею последней! Мы едем, чтоб сражаться за свободу Страны не столь большой. И в стан врагов Внесем мы страх уж именем твоим: «Сибирь». И в сердце угнетенных братьев Мы жар вольем одним названьем: «Польша» И два непримиримых этих слова, Доныне исключавшие друг друга, Враждебно скрежетавшие зубами, Теперь сольются наконец в одно Звучанье радости, победы, воли: «Сибирь и Польша, Польша и Сибирь».1943 г., май
Молодым офицерам
Для вас почетней звания нет в мире, Вы честь его должны в боях беречь И помнить в трудный час о командире, Что саблею коснулся ваших плеч[42]. Я видел, как с горящими глазами Присягу принимали вы в строю, И эту песнь вручаю вам, как знамя, О вас — надежда родины — пою! Был передан прикосновеньем сабли Вам поцелуй отчизны дорогой, Чтоб никогда вы духом не ослабли, В сраженьях были для врага грозой! Вы, офицеры юные, — та сила, Что кандалы неволи разобьет. Отчизна вам солдат своих вручила, Ведите твердо, смело их вперед. Учитесь отдавать приказ! Учитесь Сердца горячим словом зажигать, Чтоб шел солдат на бой, как древний витязь. С лица земли сметая вражью рать. Дерзайте — и пойдут в огонь и воду Бойцы! Растает дым пороховой — И снова небо ясное свободы Увидите над польскою землей. Вперед! Готовы к бою батальоны. Орудия в рядах пехотных рот Глазами жерл обводят бастионы… Летят ракеты? Иль заря встает?.. Вперед! Томиться в узах рабства больше Народу изможденному невмочь! Гоните призрак прочь! В свободной Польше Прекрасны будут каждый день и ночь. Цветы детей подняв как можно выше, Слезами счастья встретит вас страна; Народ-строитель на знаменах вышьет Прославленные ваши имена!1943 г.
В степи
Следы полозьев замело, Зальдели яблоки навоза. Травинок хрупкое стекло Крошится в лапищах мороза. И пруд, корой покрытый плотно, И за изгибами сугробов Передвиженья горизонта — Рубеж безмолвия степного. Заиндевела на щеке Слеза — и не спешит растаять, А в оловянном далеке — Ворон медлительные стаи. И в распахнувшемся безлюдье, В просторе беспредельной тверди Вздымается заросшей грудью Равнина всемогущей смерти. И кажется, что шар земной На полдороге к солнцу замер, Покрыв бронею ледяной Пространство между полюсами. Но в глушь степную прибыл полк И сразу вгрызлись в снег лопаты, Приклады счистили ледок, Дошли до почвы мерзловатой. И вот железные кроты, Сломив упорство глыб стеклянных, В тепле под слоем мерзлоты Укрыли города землянок. В лес, где буран заколесил, За бревнами тащились сани, Но кони выбились из сил, — Тогда впряглись солдаты сами. И топором взмахнул солдат, В столетний дуб врубился грубо — Так раскроил он сердце дуба, И на землянку лег накат… Вы вторглись в сердцевину зим, И сумрак отступил пред вами, Над очагами — серый дым Пустыми машет рукавами. Кипит вода в седом сугробе, В подземных стойлах кони ржут, Живет вооруженный люд, Военный люд в земной утробе! Уже над раскаленной печью Развешаны портянки косо, Попыхивают папиросы, Льнут к стенкам тени человечьи — Повыше стриженых голов Они очерчены неловко. Во мгле повисла тяжесть слов, Простых и метких, как винтовка; В землянке, освещенной слабо, Как бы вместился целый свет: Мечты огромного масштаба — Сто тысяч мест, сто тысяч лет. И вот уж различает око Балконов поднебесный хор, Дома — подобье светлых гор, Мост, взгромоздившийся высоко, И капителей с небом спор… Здесь в снежной мгле, где смерзлись травы, В степях, закованных зимой, Для нас струят величья влагу Сосцы истории самой. И если преступлений цепь Влача до самого Берлина, Враг превратит наш дом в руины, Отчизну — в выжженную степь, И если мы в краю родимом (А до него уж не далеко) Увидим только клубы дыма Да пепел теплый и белесый, То мы своей рукою сильной, Привыкшей к молотку и сваям, Свободной, светлой и обильной Поднимем Польшу из развалин.1943 г., ноябрь
Баллада о Первом батальоне
Низина и мрак между ними и нами, Холмами бугрится земля. Вдали винокурня чернеет камнями, Как будто скелет корабля. Окопы молчат, лишь порой в отдаленье Сверкнет самоходная пушка-виденье. Там немцы! Наверное, настороженно Глядят они в стекла сейчас, А может, со страха свернули знамена Пред славою, ждущею нас. Разведать — что скрыли туманные тропы! И вот батальон покидает окопы. У горнов уральских железные брызги Ловили они на ладонь, В лицо им дул ветер студеный, сибирский, А грудь закалял им огонь. В руках их двуручные пилы скрипели, Ложились на плечи им кедры и ели. Не слышно в их голосе нотки тревожной! Без страха идут они в бой, Увидев, что так мимолетно и ложно Затишье пред жуткой грозой. А небо за ними слегка розовеет, И эхо шаги их по ветру развеет. Навстречу из мрака ракетные взлеты, Прожекторов белых мечи. В три яруса сыплют огонь пулеметы И бьют, как стальные бичи. Огнистые иглы в тумане и дыме Строчат, словно нитками кровяными. Вдруг сразу все стихло, и только Мерея[43] По топи журчит ручейком. И мертвые спят, а живые теснее Смыкаются, штык за штыком. Один только ксендз в тишине голосисто Хорал распевает средь жуткого свиста. Уж видны убитых тела на рассвете, И вот, оглушая, подул Грозою смертельной стремительный ветер Из тысячи огненных дул. Грохочут, гремят, надрываются пушки… И вновь батальон поднялся у опушки. Ляхович майор[44], с револьвером, высокий, Идет впереди напролом: «В атаку, товарищи! Там недалеко, В восьми километрах, — мой дом. Жена там, и сын на руках ее плачет… Вы знаете, что для отца это значит!» И вот под огнем так бесстрашно и просто В атаку повел батальон На проволоку, пулеметные гнезда, На дзоты, на смерть… и вдруг он Качнулся, и в сердце, что жило отчизной, Граната метнулась, осколками брызнув. Солдатские руки его подхватили, Быстрей наступленье пошло, И Гюбнер[45] доносит, от ран обессилев: «Захвачено с боем село…» Вот пал и Пазинский[46]. И в жажде расплаты Всех павших уже не считают солдаты. Ловя каждый треск в полевом телефоне, За боем следит генерал: «Резервы и танки!» — и быстро на склоне Овражистом в огненный шквал Проносятся танки, проходят резервы. И вновь батальон поднимается Первый. Стреляет и колет, дорвавшийся к бою. Вперед и ни шагу назад! Под яблонями, под осенней листвою, В Тригубовом[47] павшие спят. Их сон охраняют столбы да пороги, На дальней, ведущей к отчизне дороге.1943 г., октябрь
Элегия на смерть Мечислава Калиновского
I
Мать-землю оросил солдат горячей кровью, Разбитой грудью к ней приник в тоске сыновней, Как воин, принял смерть — без страха и сомненья, Под блузой у него хранилось донесенье. Да, Калиновский пал! В день грозной нашей славы Погиб и сердцем вновь обрел свою Варшаву.II
Он, видевший в мечтах иные очертанья, — Возникшие в садах фасады светлых зданий, Веселый детский смех, в тиши аллей тенистых Звенящий, словно шум потоков серебристых, И площадей размах, что снилися порою В цветении знамен, рукоплесканьях, гуле, Стеклянные цеха, проспекты, труд героев, И санатории, что к склонам гор прильнули, И многооких школ задумчивые своды, Театр, несущий мысль и ясность чувств народу,— О солнечных делах мечтал он, но решетка, Насилья черный знак, вдруг перед ним вставала, И зубы скалила дверей перегородка, Что под ударами мечты не отступала И лишь скрипела зло. Нет, он пророком не был, Но то, что произнес, — как колокол звучало. Он созревал, искал, вторгался мыслью в небо И передумывал всю жизнь свою сначала. Он твердый путь избрал и не свернет с дороги — Ведь всюду мрак царит, везде народ убогий, Повсюду человек другого угнетает, А имя — Человек — повсюду унижают, Повсюду Труд — позор, Любовь — везде бесчестье, Повсюду власть в руках у подлости и лести, Повсюду дремлет Мощь, себя не сознавая, И стоязыкое Отчаянье стенает. Но на истории тесьме, в веках развитой, Есть надписи порой, что не стереть обманом, Года, когда на сейме рядом с гордым паном Простолюдин, умом — не родом — знаменитый, Решал о судьбах Речи Посполитой[48]. Рабочий, коммунист — он был прямым потомком Килинских[49]! В боевых традициях былого Искал для новой жизни родине основу И счастлив был, что видит новый свет с Востока В Стране Советов он увидел мир широкий, Чудесный звездный план народа-исполина, Сметающего прочь седую паутину Отживших навсегда проступков и пороков. Его на подвиг звал шагов народных топот И правда, что огнем сверкала на знаменах. Да, он перенимал великий русский опыт И мужество людей, в сраженьях закаленных. Не устрашится тот ни топора, ни плети, Кто новую зарю несет своей планете. Под виселицу тот шагнет без сожаленья, Кого овеял бой свободы дуновеньем. Повсюду, где борьбу с врагом ведут народы, Он в их ряды идет сражаться за свободу, Все посвятив борьбе, не требует награды, — Ведь он из тех, что всё отдать за правду рады — И молодость, и жизнь, взойдя на баррикаду.III
Он каждый спор решал, смирял любую ссору, Он слабого умел уверить в общей силе, Он был душой полка, командовал которым, И совестью солдат, что с ним в бои ходили. Он был одним из тех, кто начертал крылатый Путь в будущее нам. Он — офицер Освяты[50]! Попробуй на ладонь взять родника биенье Иль ветер задержать, чтоб не швырял волною! Я с Калиновским был. Я знал, с каким терпеньем Он подчинял себе иных людей. Не скрою, Приказывая, он страдал за них, и часто Превозмогал себя он лишь усильем воли, Наказывая, сам страдал двойною болью, Но если награждал — в глазах сверкало счастье. Нас общие пути свели в солдатской жизни, Делились мы водой, делились папиросой. Когда летела песнь солдатская по росам, Мы верили — ее услышат и в отчизне. И как сверкание чудесной той планеты, Что, первою взойдя, угаснет лишь с рассветом, Так в памяти моей все ярче возникает, Чтоб вечно в ней сиять, весь облик твой знакомый: Лукавые глаза, что радость излучают, Морщинки на лице, фигура друга-гнома. Ты выполнял свою солдатскую работу, Вез донесенье то, что стало завещаньем. Вдруг потемнело — ты увидел очертанья Варшавой проклятых германских самолетов. О воин доблестный, что некогда в отчизне Свой голос называл «Раскаяньем» порою[51], Ты снова первым в бой пошел во имя жизни, Которой стала смерть лишь частию второю. О вы, что в тишине мечтаете о счастье, Зажгите впереди огонь великой цели! Ведь если в жизни вы лишь жизнь найти сумели, Вам лучше в тьму запасть, рассыпавшись на части. Учитесь пламенеть! Проверьте год за годом Всю жизнь свою сейчас, и если в ней найдете Огонь священный тот, что вас сроднил с народом, — Жить будете, а нет — вы в бездну упадете, Истлеют имена и кости побелеют. Лишь тот умеет жить, кто умирать умеет, Но так, чтоб от его прямой судьбы солдатской Осталось на века прекрасное горенье, — Не только пепла горсть в простой могиле братской, — А пламенный огонь — народа вдохновенье.IV
Нет Калиновского — но я не верю в это, Хочу пожать ладонь, что тянется из мрака, Руками пустоту хватаю я, однако, Как будто вместе с ним исчезла правда света. Солдаты молча ждут — суровы и угрюмы, Как будто вместе с ним и радость схоронили. Где он? Где радость их? В солдатской спит могиле. Спит, никому его не разбудить — он умер! Домбровский[52]! Пусть цветы могильный холм накроют. Кончай салют — у нас еще работы много. Вперед, друзья! Трудна и далека дорога. Погибшего почтим еще не раз — борьбою! Еще не раз нам в грудь ударит пуля вражья, Не одного из нас, друзья, оставить надо, Не мало впереди сражений и снарядов, Пока за эту смерть убийцу мы накажем. Пехоты нашей цепь среди кустов укрыта, Холодные кусты шуршат листвой осенней, А ночь октябрьская слепою мглой повита, Прожекторных лучей качается сплетенье, Светлеет горизонт пожарища громадой. Метнулся сноп ракет. Крепчает канонада… Огонь! Пускай гремит орудий шквал могучий! Вперед! Пускай солдат навек врага отучит Нести нам смерть! Пускай пехоты батальоны Сметут с лица земли чужие бастионы! Пусть реки закипят, пусть сносит лес железом — Мы по земле врага промчимся полонезом, Войдем в его гнездо, карающей рукою Раздавим грудь его, кровь потечет рекою, И вырвем из груди мешок, налитый ядом, Чтоб никогда земля не называлась адом, Чтоб снова все поля ее зазеленели, Чтоб звал нас труд вперед к заветной нашей цели. Тогда румянец вновь лицо земли осветит, Тогда к ее груди опять приникнут дети! Вы, волны Вислы, песнь тогда мне прошумите О всех, кто жизнь отдал отечества защите!1943 г., октябрь
На возвращение героя
Гюбнер[53], просим сердечно приехать к нам в гости! Мы тебя угостим не водицы стаканом, Пусть струится вино в несмолкающем тосте За здоровье, и славу, и жизнь капитана! Над тобой уже реяли ворона крылья, Словно алый шиповник, цвели твои раны, Когда вырвался ты героической былью, Как дыхание боя, из траурных рамок[54]. Не остыв от борьбы, оно к нам долетело, Сквозь печальные гимны и траура лавры. Снова с нами ты в битве за правое дело, По-солдатски простой, не стареющий, храбрый. Жить, сражаясь, — я лучшей награды не знаю, Смерть придет — так настигнет в бою, а не в креслах. Жить, как ты, — своей грудью Мадрид заслоняя[55], Воскресая из мертвых, как нынче воскрес ты. Такова твоя жизнь — и постичь ее в — силах Лишь идущий бок о бок с тобой в наступленье. Будешь драться ты в каждой из войн справедливых С первых выстрелов до баррикады последней. Если мужество уподобляют броне, Если с этой бронею и пуле не сладить, Если сердце бойца — это угли в огне, Я хочу твое жаркое сердце прославить. Прославляю твой голос, прямой и правдивый, Славлю руку, не дрогнувшую в бою, Пыл бойца, хладнокровный расчет командира, Беспокойную, чистую душу твою. Брешь зияла в рядах — ты явился, воспрянул, Вновь шеренга полна — нерушима броня, Для меня это значит, что зажили раны, Нанесенные в битве вчерашнего дня. Значит — вновь через воду и через огонь, Через вражьи тела, через смертные броды Настигать побелевших от страха врагов Ради нашей отчизны и нашей свободы. Так позволь же мне, Гюбнер, до дна осушить Искрометным вином озаренную чашу За живых — чтобы жить вам и жить вам и жить, За тебя и за светлую родину нашу.1943 г., декабрь
Красная Армия
Защитница свободы! Правды свет! Звезда на шлемах ярче всех планет, И солнцем на шинелях кровь искрится! Верна, как смерть! Дороже, чем десница! Когда, сметая все нещадною рукой И попирая все ногой чугунной, Враг шел, как шли в средневековье гунны. Страна Советов поднялась стеной, Преградой мощной от земли до неба. Здесь залпов огненных пронесся шквал, И заблестел штыком здесь каждый стебель, И каждый пень мортирой зарычал. Враг шел, но перед ним зияла бездна, Тела взрывались под дождем железным, Пылали реки, дыбились мосты, Вонзались факелом живым кусты, Ощерились сады и огороды… О армия, несущая свободу, Теперь идешь лавиной грозной стали, Хребет врага дробишь на позвонки! С горящим взором, с гневными устами В сияньи славы движутся полки. Ты городами вновь овладеваешь, От черной крови землю очищаешь. О краснозвездная, прими благословенье За то, что ты даришь освобожденье! Я слышу твоего похода шум, Твоих стратегов мудрых славлю ум, Бойцов твоих упорство воспеваю, В твоих победах мужество черпаю! Какая радость, честь для нас и гордость, Что вместе гнали мы фашистов орды, Что наша кровь лилась струей одной, Что из одной мы фляги воду пили! Оружие, что вы нам в дар вручили, Мы сложим разве в мавзолей святой. И будут приходить в благоговеньи Туда, как в храм чудесный, поколенья. Там наши будут изучать сыны Историю своей родной страны!1944 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
I. В ПОИСКАХ ПУТИ
ПОЖЕЛАНИЯ
Написано поэтом в конце 1936 года и посвящено испанским республиканцам, боровшимся с войсками мятежников и иностранных захватчиков. В «санационной» Польше это стихотворение не могло быть опубликовано, но в передовых литературных кругах Варшавы оно было хорошо известно по рукописным спискам.
1. Сиерра Гвадаррама — гористая местность в Испании, где в 1936 году происходили ожесточенные бои республиканцев с войсками испанских мятежников и итальянских оккупантов, стремившихся прорваться к республиканскому Мадриду.
К СОЗНАТЕЛЬНОЙ РАБОТНИЦЕ
Впервые опубликовано в литературном журнале «Домкрат» («Lewar»), издававшемся в 1935 году группой прогрессивных польских литераторов, с которой был тесно связан Люциан Шенвальд. Стихотворение явилось протестом против преследования «санационным» режимом демократических элементов, против заключения в концентрационные лагеря и тюрьмы бастующих рабочих.
1. Вронки — женская тюрьма для политических заключенных в Варшаве.
2. Полоцк — город на Висле, к северо-западу от Варшавы, в котором находились самая крупная в Польше женская тюрьма и концентрационный лагерь.
СЦЕНА У РУЧЬЯ
Поэма «Сцена у ручья» написана Люцианом Шенвальдом в 1935 году. Она является крупнейшим произведением поэта. Издана отдельной книжкой в 1936 году.
В «Комментарии» к поэме Люциан Шенвальд писал, что поэма является попыткой оживить польскую поэзию, влить в нее социальное содержание.
Сюжетом для поэмы послужили школьные забастовки, имевшие место в 1934 и 1935 годах в Варшаве, Лодзи и других городах Польши, где «санационное» польское правительство закрыло ряд школ для детей рабочих. По данным официальной статистики за 1935 год, свыше 30 % детей школьного возраста оставалось в это время вне школ.
1. Роза Закс-Шенвальд — жена поэта.
2. «ЧтО есть орлы и чтО — полет,
Грудь, перья, ленты, флаги флотов» и т. д.
Речь директора школы представляет собой образец великодержавной, империалистической пропаганды, широко распространявшейся «санационными» профашистскими кругами через школу, молодежные организации, печать и пр. Шенвальд высмеивает эту пропаганду, наполняя директорскую речь псевдопатриотической бутафорией, которую поэт развенчивает кратким замечанием: «…и только о когтях молчит он».
3. «Он вспомнил роз живых венки,
Не вспомнив лилий из резины».
Как и в предыдущем отрывке, Шенвальд разоблачает приукрашенную польскую действительность, противопоставляя гимнам злаченых труб и венкам из роз — лилии из резины, т. е. резиновые дубинки польской полиции.
4. «И песня взлетала: «Все выше и выше…» — советская песня «Марш летчиков», популярная среди польской демократической молодежи того времени.
5. «Что «боже, поддержи наш трон И миро на сердца пролей нам».
Поэт в этих словах издевается над монархическими и католическими устремлениями польской реакции, верным представителем которой в поэме показан директор школы.
6. «Министр вас всех переведет.
Пять школ сольют. Он хочет там
Создать научную твердыню.
Сияя, как маяк над Гдыней,
Мильон голов вместит тот храм».
Строки эти — насмешка над гигантоманией польских правителей, рабски подражавших западным странам и тративших народные средства на нелепые затеи.
7. Эпиграф ко второй главе поэмы взят Шенвальдом из баллады Гёте «Лесной царь». Русский перевод: «Отец мой, отец мой, он держит меня!»
8. Пикколо — мальчик, прислуживающий в ресторанах.
9. Антоний — римский военачальник. Здесь герой поэмы сравнивается с героем из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», который вдохновляет свои войска перед боем.
10. В «Комментарии» к поэме поэт указывает, что эта часть вначале была написана пятистопным ямбом, но была слишком искусственной. Шенвальд заменил пятистопный ямб прозаическим диалогом.
11. «…кончив польским флагом» — т. е. ура-патриотическим призывом. Здесь — насмешка поэта над милитаристским воспитанием польской молодежи, ограничивавшимся чисто показной шагистикой, вместо серьезной военной подготовки.
II. ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА
ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ
Написана Шенвальдом в августе 1941 года, когда он сражался в рядах Советской Армии на Юго-Западном фронте. Пользовалась широкой популярностью среди солдат дивизии им. Тадеуша Костюшки и исполнялась в театре дивизии.
1. «Поплывешь по Висле венками». — В польском народе широко распространен обычай, сохранившийся с языческих времен, согласно которому в Иванову ночь плетут венки из цветов, растущих на могилах, и пускают их по течению реки с прикрепленной к венку горящей свечою.
ТРИ ЖЕНЩИНЫ
Стихотворение написано поэтом на день присяги дивизии им. Тадеуша Костюшки, которая происходила в торжественной обстановке 15 июля 1943 года, в годовщину исторической битвы под Грюнвальдом. Напечатано в дивизионной газете «Солдат свободы» («Żołnierz Wolności») 20 июля 1943 года.
ПАМЯТИ ПОГИБШЕЙ
Написано под впечатлением полученного поэтом известия о гибели его жены Розы Закс-Шенвальд, которая оставалась во время оккупации в Варшаве. Известие это оказалось недостоверным, так как Розе Закс-Шенвальд удалось спастись от преследований гитлеровцев.
1. Орфей — древнегреческий певец, родом из Фракии, который силою своих песен двигал скалы и укрощал диких зверей. В многочисленных мифах рассказывается о том, что Орфей спускался в царство мертвых за своей женой Эвридикой.
2. Орк (римск. миф.) — преисподняя, греческий Аид.
ПЯТАЯ КОЛОННА
1. Каменка — река на Урале. Над Каменкой, в 140 км к юго-востоку от Свердловска, расположен промышленный город Каменск, упоминаемый в стихотворении.
2. «Отродье Тарговицы» — т. е. наследники Тарговицкой конфедерации 1792 года, созванной реакционными польскими магнатами Потоцким, Ржевусским и др. для борьбы с прогрессивными реформами четырехлетнего сейма 1788–1792 годов и «Конституцией 3 мая» 1791 года. Деятельность этой конфедерации способствовала уничтожению польской независимости и разделу польских земель в 1793 году между Пруссией, Австрией и Россией.
ПИСЬМО ЮЛИАНУ ТУВИМУ
Написано Шенвальдом как отклик на известное стихотворение Юлиана Тувима «Молитва», в котором Тувим призывал к борьбе за новую Польшу, скрепленную дружественными узами с Советским Союзом.
1. «День Суда и Гнева» — день «страшного суда». У Шенвальда это день, когда польский народ осудит национальную реакцию.
2. Колонна Зигмунда — памятник польскому королю Зигмунду III, возвышавшийся перед королевским замком в Варшаве. Разрушенный гитлеровцами в годы войны, памятник восстанавливается теперь на прежнем месте. В стихотворении упоминается как символ независимости польского государства.
ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА
Фрагменты большой поэмы, оставшейся незаконченной, над которой Шенвальд работал в 1943–1944 годах. Поэма должна была отразить борьбу польского народа против гитлеровских захватчиков и польских реакционеров, показать героический путь дивизии им. Тадеуша Костюшки на родину. Впервые напечатана в выходившем в Москве журнале Союза польских патриотов «Новые горизонты» («Nowe Widnokręgi»).
1. Цитадель — Варшавская крепость, где помещалось управление гитлеровских оккупационных войск в Польше.
2. «Там Лукасинский сам и Траугутт вдвоем При свете месяца закладывают мины».
В этих строках поэт проводит параллель между героями национально-освободительной борьбы прошлого и героями партизанского движения во время второй мировой войны.
Валериан Лукасинский (1786–1868) — выдающийся польский демократ, заключенный царским правительством в Шлиссельбургскую крепость, где он пробыл с 1830 по 1868 год.
Ромуальд Траугутт (1826–1864) — один из руководителей польского восстания 1863 года, демократ, глава польского временного правительства. Его именем была названа 3-я польская дивизия, созданная в СССР.
3. «Варынский там звенит мазуркою кандальной».
Людвиг Варынский (1856–1889) — писатель и поэт. Выдающийся польский революционер, один из организаторов партии «Пролетариат», первой марксистской организации в Польше.
4. Павяк — тюрьма для политических заключенных в Варшаве.
5. Стегенный (1800–1890) — католический ксендз, один из руководителей крестьянского восстания 1844 года.
6. Рада Народова (Национальный совет) — государственный орган, созданный во время восстания Костюшки в 1793 году.
7. Станислав Сташиц (1755–1826) — государственный деятель, литератор и публицист. Участник сейма 1788–1792 годов и один из авторов «Конституции 3 мая» 1791 года.
8. «Лежат развалины и Модлина и Кутна».
Модлин — крепость на берегу Вислы, долго оборонявшаяся от гитлеровских захватчиков.
Кутно — уездный город центральной Польши, возле которого в 1939 году происходили тяжелые бои между польскими и германскими войсками.
9. «С гранатой Бучек встал в безлюдье улиц Воли».
Мариан Бучек (1896–1939) — варшавский рабочий, коммунист, погибший при защите Воли от гитлеровских захватчиков.
Воля — рабочее предместье Варшавы, где в сентябре 1939 года происходили наиболее кровопролитные бои с немецко-фашистской армией.
10. «О братья, если бы под бурею событий
Рукою слабою я мог соединить
Концы тринадцати разъединенных нитей
В одну сплетенную и шелковую нить!» —
т. е. из отдельных строк тринадцатисложного силлабического стиха, которым написана поэма, создать стройное, единое повествование.
11. Домброва — Домбровский угольный бассейн, центр горнорудной и сталелитейной промышленности Польши.
12. Прушковская, им. Бема, Фильтровая, Пенкная, Маршалковская и др. названия в этой строфе — улицы, площади и районы Варшавы.
III. ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
ЮЗЕФ НАДЗЕЯ ПИШЕТ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Отклик на весть о формировании дивизии им. Тадеуша Костюшки. «Надзея» — по-русски надежда. Опубликовано впервые в газете Союза польских патриотов «Свободная Польша» («Wolna Polska») в мае 1943 года.
1. «Узнал я о Войтках, Францишках, Матейках,
Чья слава гремела от края до края».
Распространенные польские имена. Поэт имеет в виду польских легионеров и солдат, сражавшихся в отрядах Костюшки, в войсках венгерской революции 1848 года, на баррикадах Парижской Коммуны.
2. «За вольность народов ближних и дальних».
Перефразировка известного патриотического лозунга польских повстанцев: «За нашу и вашу свободу!» Слова эти были вышиты на знамени дивизии им. Тадеуша Костюшки.
3. «Ужель ни Домбровских нет, ни Бема,
И новый Костюшко нам не ответит?»
Ян Генрих Домбровский (1755–1818) — польский генерал, организатор польских легионов в Италии для борьбы за освобождение Польши. Именем его называлась Вторая польская дивизия, организованная в СССР.
Ярослав Домбровский (1836–1871) — герой Парижской Коммуны, командовавший ее войсками и погибший на баррикадах. Один из виднейших польских революционеров шестидесятых годов прошлого века.
Юзеф Бем (1795–1850) — польский генерал, участник восстания 1830 года. Командовал войсками венгерской революции в 1848 году. После подавления венгерской революции эмигрировал на Ближний Восток.
Тадеуш Костюшко (1746–1817) — польский национальный герой, руководитель борьбы за независимость Польши в 1794 году.
На протяжении всей истории Польши XIX века имя Костюшки было символом народно-освободительной борьбы. В 1943 году его именем была названа Первая польская дивизия в СССР.
4. «А мы хотим воевать, как чехи!
Грюнвальд поможем создать мы новый!»
В битве под Грюнвальдом (1410) общими усилиями славянских народов были разгромлены немецкие псы-рыцари.
ПРОЩАНИЕ С СИБИРЬЮ
Написано в мае 1943 года. В нем, впервые в польской литературе, описывается Сибирь не как место ссылки польских повстанцев и демократов, а как край, где живут люди, всем сердцем преданные делу свободы, делу разгрома гитлеровских оккупантов.
МОЛОДЫМ ОФИЦЕРАМ
29 августа 1943 года, перед выступлением дивизии им. Тадеуша Костюшки на фронт, состоялось производство в офицеры выпускников дивизионной офицерской школы. Этому событию Люциан Шенвальд и посвятил свое стихотворение, напечатанное в газете «Солдат свободы».
1. «И помнить в трудный час о командире,
Что саблею коснулся ваших плеч».
По церемониалу, принятому в Польском Войске, при производстве в офицеры командир, принимающий присягу, ударяет производимого по плечу обнаженной саблей.
БАЛЛАДА О ПЕРВОМ БАТАЛЬОНЕ
12 октября 1943 года польская дивизия им. Тадеуша Костюшки вступила под Ленино в бой с немецко-фашистскими войсками. Первым вступил в бой батальон, которым командовал майор Ляхович. В рядах этого батальона находился Люциан Шенвальд, который в ночь после боя написал свою балладу. В результате боев под Ленино гитлеровцы понесли тяжелые потери. За эту битву трем польским воинам было присвоено звание Героев Советского Союза, а 250 человек были награждены советскими орденами и медалями. Среди награжденных был и Люциан Шенвальд.
1. Мерея — небольшая река, которую должны были форсировать вступающие в бой польские части.
2. Майор Бронислав Ляхович — офицер Советской Армии, а затем командир 1-го батальона дивизии им. Тадеуша Костюшки. Погиб в боях под Ленино, в восьми километрах от села, в котором проживала его семья. Ляхович посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
3. Капитан Юлиуш Гюбнер — см. примечание к стихотворению «На возвращение героя».
4. Роман Пазинский — поручик, заместитель командира батальона, павший в бою. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
5. Тригубово — населенный пункт, занятый 1-м батальоном 1-го полка дивизии им. Тадеуша Костюшки, где были похоронены павшие солдаты и офицеры.
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ МЕЧИСЛАВА КАЛИНОВСКОГО
Посвящена памяти поручика Мечислава Калиновского, одного из лучших политработников дивизии им. Тадеуша Костюшки, старого варшавского подпольщика-коммуниста, преследовавшегося «санационным» режимом. Калиновский погиб в боях под Ленино, посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.
1. «Года, когда на сейме рядом с гордым паном
Простолюдин, умом — не родом — знаменитый,
Решал о судьбах Речи Посполитой».
Сейм 1788–1792 годов, на котором под натиском депутатов от народа была принята демократическая «Конституция 3 мая» 1791 года.
2. Ян Килинский (1760–1819) — предводитель варшавского народного ополчения в войне 1798 года, по профессии сапожник. В Варшаве стоит памятник Яну Килинскому. Его именем названо одно из соединений демократического Польского Войска.
3. «Офицер Освяты» — так в дивизии им. Тадеуша Костюшки назывались политработники. «Освята» в переводе на русский язык — просвещение.
4. «Свой голос называл «Раскаяньем» порою».
В «санационной» Польше Калиновский выступал в качестве публициста в антиправительственной демократической печати, подписывая свои обличительные статьи псевдонимом «Skrucha» («Раскаянье»).
5. Петр Домбровский — капитан, командир подразделения, где заместителем по политчасти был Мечислав Калиновский.
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
1. Капитан Юлиуш Гюбнер — воин-коммунист, заместитель командира 1-го полка по политчасти, прославившийся в битве под Ленино своей беззаветной храбростью. Гюбнер был тяжело ранен и отправлен в один из полевых госпиталей Советской Армии. За бои под Ленино ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
2. «Когда вырвался ты героической былью,
Как дыхание боя, из траурных рамок».
Выходившая в Москве газета Союза польских патриотов «Свободная Польша», получив из дивизии им. Тадеуша Костюшки непроверенное сообщение о смерти капитана Гюбнера, напечатала о нем некролог.
3. «Жить, как ты, — своей грудью Мадрид заслоняя…» Капитан Гюбнер сражался в рядах Интернациональной бригады им. Домбровского, защищавшей Мадрид от фашистских войск генерала Франко. Впоследствии Гюбнер был интернирован французским правительством в одном из африканских лагерей, откуда и прибыл в дивизию им. Тадеуша Костюшки летом 1943 года.
КРАСНАЯ АРМИЯ
Это стихотворение, по замыслу поэта, должно было явиться частью поэмы «Через линию фронта», но печаталось отдельно в польских газетах в Москве и Люблине.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Поселок Смоленской области, где 12–13 октября 1943 года польская дивизия им. Тадеуша Костюшки, организованная на территории СССР, впервые участвовала в сражении с немецко-фашистской армией. (Прим. ред.)
(обратно)2
Политика польской буржуазии и помещиков, направленная на подавление революционного и национально-освободительного движения внутри страны. (Прим. ред.)
(обратно)3
Литературная группа, объединявшая в конце двадцатых — начале тридцатых годов прогрессивную поэтическую молодежь Варшавы. (Прим. ред.)
(обратно)4
Так назывались в отличие от профсоюзов, находившихся под руководством пилсудчиков, профсоюзы, руководимые компартией Польши. (Прим. ред.)
(обратно)5
Сиерра Гвадаррама — гористая местность в Испании, где в 1936 году происходили ожесточенные бои республиканцев с войсками испанских мятежников и итальянских оккупантов, стремившихся прорваться к республиканскому Мадриду.
(обратно)6
Вронки — женская тюрьма для политических заключенных в Варшаве.
(обратно)7
Полоцк — город на Висле, к северо-западу от Варшавы, в котором находились самая крупная в Польше женская тюрьма и концентрационный лагерь.
(обратно)8
Роза Закс-Шенвальд — жена поэта.
(обратно)9
«ЧтО есть орлы и чтО — полет,
Грудь, перья, ленты, флаги флотов» и т. д.
Речь директора школы представляет собой образец великодержавной, империалистической пропаганды, широко распространявшейся «санационными» профашистскими кругами через школу, молодежные организации, печать и пр. Шенвальд высмеивает эту пропаганду, наполняя директорскую речь псевдопатриотической бутафорией, которую поэт развенчивает кратким замечанием: «…и только о когтях молчит он».
(обратно)10
«Он вспомнил роз живых венки,
Не вспомнив лилий из резины».
Как и в предыдущем отрывке, Шенвальд разоблачает приукрашенную польскую действительность, противопоставляя гимнам злаченых труб и венкам из роз — лилии из резины, т. е. резиновые дубинки польской полиции.
(обратно)11
«И песня взлетала: «Все выше и выше…» — советская песня «Марш летчиков», популярная среди польской демократической молодежи того времени.
(обратно)12
«Что «боже, поддержи наш трон
И миро на сердца пролей нам».
Поэт в этих словах издевается над монархическими и католическими устремлениями польской реакции, верным представителем которой в поэме показан директор школы.
(обратно)13
«Министр вас всех переведет.
Пять школ сольют.
Он хочет там
Создать научную твердыню.
Сияя, как маяк над Гдыней,
Мильон голов вместит тот храм».
Строки эти — насмешка над гигантоманией польских правителей, рабски подражавших западным странам и тративших народные средства на нелепые затеи.
(обратно)14
Эпиграф ко второй главе поэмы взят Шенвальдом из баллады Гёте «Лесной царь». Русский перевод: «Отец мой, отец мой, он держит меня!»
(обратно)15
Пикколо — мальчик, прислуживающий в ресторанах.
(обратно)16
Антоний — римский военачальник. Здесь герой поэмы сравнивается с героем из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», который вдохновляет свои войска перед боем.
(обратно)17
В «Комментарии» к поэме поэт указывает, что эта часть вначале была написана пятистопным ямбом, но была слишком искусственной. Шенвальд заменил пятистопный ямб прозаическим диалогом.
(обратно)18
«…кончив польским флагом» — т. е. ура-патриотическим призывом. Здесь — насмешка поэта над милитаристским воспитанием польской молодежи, ограничивавшимся чисто показной шагистикой, вместо серьезной военной подготовки.
(обратно)19
«Поплывешь по Висле венками». — В польском народе широко распространен обычай, сохранившийся с языческих времен, согласно которому в Иванову ночь плетут венки из цветов, растущих на могилах, и пускают их по течению реки с прикрепленной к венку горящей свечою.
(обратно)20
Орфей — древнегреческий певец, родом из Фракии, который силою своих песен двигал скалы и укрощал диких зверей. В многочисленных мифах рассказывается о том, что Орфей спускался в царство мертвых за своей женой Эвридикой.
(обратно)21
Орк (римск. миф.) — преисподняя, греческий Аид.
(обратно)22
Каменка — река на Урале. Над Каменкой, в 140 км к юго-востоку от Свердловска, расположен промышленный город Каменск, упоминаемый в стихотворении.
(обратно)23
«Отродье Тарговицы» — т. е. наследники Тарговицкой конфедерации 1792 года, созванной реакционными польскими магнатами Потоцким, Ржевусским и др. для борьбы с прогрессивными реформами четырехлетнего сейма 1788–1792 годов и «Конституцией 3 мая» 1791 года. Деятельность этой конфедерации способствовала уничтожению польской независимости и разделу польских земель в 1793 году между Пруссией, Австрией и Россией.
(обратно)24
«День Суда и Гнева» — день «страшного суда». У Шенвальда это день, когда польский народ осудит национальную реакцию.
(обратно)25
Колонна Зигмунда — памятник польскому королю Зигмунду III, возвышавшийся перед королевским замком в Варшаве. Разрушенный гитлеровцами в годы войны, памятник восстанавливается теперь на прежнем месте. В стихотворении упоминается как символ независимости польского государства.
(обратно)26
Цитадель — Варшавская крепость, где помещалось управление гитлеровских оккупационных войск в Польше.
(обратно)27
«Там Лукасинский сам и Траугутт вдвоем
При свете месяца закладывают мины».
В этих строках поэт проводит параллель между героями национально-освободительной борьбы прошлого и героями партизанского движения во время второй мировой войны.
Валериан Лукасинский (1786–1868) — выдающийся польский демократ, заключенный царским правительством в Шлиссельбургскую крепость, где он пробыл с 1830 по 1868 год.
Ромуальд Траугутт (1826–1864) — один из руководителей польского восстания 1863 года, демократ, глава польского временного правительства. Его именем была названа 3-я польская дивизия, созданная в СССР.
(обратно)28
«Варынский там звенит мазуркою кандальной».
Людвиг Варынский (1856–1889) — писатель и поэт.
Выдающийся польский революционер, один из организаторов партии «Пролетариат», первой марксистской организации в Польше.
(обратно)29
Павяк — тюрьма для политических заключенных в Варшаве.
(обратно)30
Стегенный (1800–1890) — католический ксендз, один из руководителей крестьянского восстания 1844 года.
(обратно)31
Рада Народова (Национальный совет) — государственный орган, созданный во время восстания Костюшки в 1793 году.
(обратно)32
Станислав Сташиц (1755–1826) — государственный деятель, литератор и публицист. Участник сейма 1788–1792 годов и один из авторов «Конституции 3 мая» 1791 года.
(обратно)33
«Лежат развалины и Модлина и Кутна».
Модлин — крепость на берегу Вислы, долго оборонявшаяся от гитлеровских захватчиков.
Кутно — уездный город центральной Польши, возле которого в 1939 году происходили тяжелые бои между польскими и германскими войсками.
(обратно)34
«С гранатой Бучек встал в безлюдье улиц Воли».
Мариан Бучек (1896–1939) — варшавский рабочий, коммунист, погибший при защите Воли от гитлеровских захватчиков.
Воля — рабочее предместье Варшавы, где в сентябре 1939 года происходили наиболее кровопролитные бои с немецко-фашистской армией.
(обратно)35
«О братья, если бы под бурею событий
Рукою слабою я мог соединить
Концы тринадцати разъединенных нитей
В одну сплетенную и шелковую нить!» —
т. е. из отдельных строк тринадцатисложного силлабического стиха, которым написана поэма, создать стройное, единое повествование.
(обратно)36
Домброва — Домбровский угольный бассейн, центр горнорудной и сталелитейной промышленности Польши.
(обратно)37
Прушковская, им. Бема, Фильтровая, Пенкная, Маршалковская и др. названия в этой строфе — улицы, площади и районы Варшавы.
(обратно)38
«Узнал я о Войтках, Францишках, Матейках,
Чья слава гремела от края до края».
Распространенные польские имена. Поэт имеет в виду польских легионеров и солдат, сражавшихся в отрядах Костюшки, в войсках венгерской революции 1848 года, на баррикадах Парижской Коммуны.
(обратно)39
«За вольность народов ближних и дальних».
Перефразировка известного патриотического лозунга польских повстанцев: «За нашу и вашу свободу!» Слова эти были вышиты на знамени дивизии им. Тадеуша Костюшки.
(обратно)40
«Ужель ни Домбровских нет, ни Бема,
И новый Костюшко нам не ответит?»
Ян Генрих Домбровский (1755–1818) — польский генерал, организатор польских легионов в Италии для борьбы за освобождение Польши. Именем его называлась Вторая польская дивизия, организованная в СССР.
Ярослав Домбровский (1836–1871) — герой Парижской Коммуны, командовавший ее войсками и погибший на баррикадах. Один из виднейших польских революционеров шестидесятых годов прошлого века.
Юзеф Бем (1795–1850) — польский генерал, участник восстания 1830 года. Командовал войсками венгерской революции в 1848 году. После подавления венгерской революции эмигрировал на Ближний Восток.
Тадеуш Костюшко (1746–1817) — польский национальный герой, руководитель борьбы за независимость Польши в 1794 году.
На протяжении всей истории Польши XIX века имя Костюшки было символом народно-освободительной борьбы. В 1943 году его именем была названа Первая польская дивизия в СССР.
(обратно)41
«А мы хотим воевать, как чехи!
Грюнвальд поможем создать мы новый!»
В битве под Грюнвальдом (1410) общими усилиями славянских народов были разгромлены немецкие псы-рыцари.
(обратно)42
«И помнить в трудный час о командире,
Что саблею коснулся ваших плеч».
По церемониалу, принятому в Польском Войске, при производстве в офицеры командир, принимающий присягу, ударяет производимого по плечу обнаженной саблей.
(обратно)43
Мерея — небольшая река, которую должны были форсировать вступающие в бой польские части.
(обратно)44
Майор Бронислав Ляхович — офицер Советской Армии, а затем командир 1-го батальона дивизии им. Тадеуша Костюшки. Погиб в боях под Ленино, в восьми километрах от села, в котором проживала его семья. Ляхович посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
(обратно)45
Капитан Юлиуш Гюбнер — см. примечание к стихотворению «На возвращение героя»: Капитан Юлиуш Гюбнер — воин-коммунист, заместитель командира 1-го полка по политчасти, прославившийся в битве под Ленино своей беззаветной храбростью. Гюбнер был тяжело ранен и отправлен в один из полевых госпиталей Советской Армии. За бои под Ленино ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
(обратно)46
Роман Пазинский — поручик, заместитель командира батальона, павший в бою. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
(обратно)47
Тригубово — населенный пункт, занятый 1-м батальоном 1-го полка дивизии им. Тадеуша Костюшки, где были похоронены павшие солдаты и офицеры.
(обратно)48
«Года, когда на сейме рядом с гордым паном
Простолюдин, умом — не родом — знаменитый,
Решал о судьбах Речи Посполитой».
Сейм 1788–1792 годов, на котором под натиском депутатов от народа была принята демократическая «Конституция 3 мая» 1791 года.
(обратно)49
Ян Килинский (1760–1819) — предводитель варшавского народного ополчения в войне 1798 года, по профессии сапожник. В Варшаве стоит памятник Яну Килинскому. Его именем названо одно из соединений демократического Польского Войска.
(обратно)50
«Офицер Освяты» — так в дивизии им. Тадеуша Костюшки назывались политработники. «Освята» в переводе на русский язык — просвещение.
(обратно)51
«Свой голос называл «Раскаяньем» порою».
В «санационной» Польше Калиновский выступал в качестве публициста в антиправительственной демократической печати, подписывая свои обличительные статьи псевдонимом «Skrucha» («Раскаянье»).
(обратно)52
Петр Домбровский — капитан, командир подразделения, где заместителем по политчасти был Мечислав Калиновский.
(обратно)53
Капитан Юлиуш Гюбнер — воин-коммунист, заместитель командира 1-го полка по политчасти, прославившийся в битве под Ленино своей беззаветной храбростью. Гюбнер был тяжело ранен и отправлен в один из полевых госпиталей Советской Армии. За бои под Ленино ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
(обратно)54
«Когда вырвался ты героической былью,
Как дыхание боя, из траурных рамок».
Выходившая в Москве газета Союза польских патриотов «Свободная Польша», получив из дивизии им. Тадеуша Костюшки непроверенное сообщение о смерти капитана Гюбнера, напечатала о нем некролог.
(обратно)55
«Жить, как ты, — своей грудью Мадрид заслоняя…» Капитан Гюбнер сражался в рядах Интернациональной бригады им. Домбровского, защищавшей Мадрид от фашистских войск генерала Франко. Впоследствии Гюбнер был интернирован французским правительством в одном из африканских лагерей, откуда и прибыл в дивизию им. Тадеуша Костюшки летом 1943 года.
(обратно)


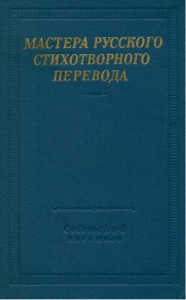

Комментарии к книге «Плечом к плечу», Люциан Шенвальд
Всего 0 комментариев