Слова, записанные аккуратным почерком на первой странице толстой клетчатой тетради в чёрной кожаной обложке с обтрёпанными краями:
…И ведь иногда надо прожить почти всю жизнь, чтобы однажды открылась истина, о существовании которой ты и не подозревал, но чей слабый свет всегда освещал твой путь в темноте, выползающей из придорожных канав.
И ведь надо пережить бесконечное множество имён и событий, чтобы однажды оказаться в самом начале и понять, что силы и годы были брошены на постижение чего-то настолько простого и очевидного, что заплакать бы, да нечем.
Надо пропустить через себя уготованное, постичь предназначенное, принять предначертанное – и тогда в дверь твоего жилища однажды постучат особенным образом, и за минуту до этого стука ты поймёшь, что путь пройден…
1.
Газета «Вечерний Черепец» доживала последние дни. Маленькому городу, скованному долгами, не требовалось своё издание. В городе вообще было невесело этой весной. Постоянно шёл дождь, ветер гонял мусор по безлюдным переулкам.
В один из последних майских дней, похожих на ночь, заместитель мэра волевым решением отправил редакцию в свободное плавание. Он был человеком, тонко понимающим душу народа, и чтобы смягчить горечь обречённости, подписал журналистам почётные грамоты.
Оставалось выпустить последний номер, получить расчёт – и разойтись. Ещё несколько дней в обычном режиме – с пониманием того, что каждый из них приближает к пустоте. Искать работу бессмысленно: она давно закончилась. На городском мосту прибавилось рыбаков, люди толпами ехали на участки и, вставая на колени, пытались умилостивить землю теплом и заботой.
Анатолий Павлович Бердин, редактор газеты, был человеком деятельным и желчным. Химик по образованию, он втайне считал журналистику никчёмным занятием, но она кормила, и он презирал её молча. Презирать оставалось несколько дней.
Когда тень надежды окончательно покинула редакцию, Анатолию Павловичу позвонили. Человек на том конце провода назвался Серафимом, сказал, что хочет предложить работу, и попросил аудиенции.
– Сегодня вечером я ненадолго окажусь в вашем городе, – сказал он. – Насколько знаю, местные кафе к тому часу уже закроются. Если это удобно, я мог бы заглянуть к вам домой.
Бердин торопливо назвал адрес.
Остаток дня прошёл в ожидании. Периодически заглядывали журналисты, он отвечал им невпопад. Нина Авдотьевна Стародумова написала очередной текст об успехах областных аграриев. Саша домучила статью о хоре ветеранов. Николай Львов принёс набор слов с заседания горсовета. Пару раз Бердин удивлялся, что не заглядывает Редьярд Князев, но сразу вспоминал, что тот уже неделю как уволился, не видя смысла оставаться.
В прошлом году редактор вышел на пенсию и особых иллюзий не питал: в таком возрасте трудно куда-то устроиться. А потому и ухватился за неожиданный звонок, как за соломинку. Наступил вечер, и весь мир вместе с ним замер, ожидая гостя, незнакомца в плаще, покрывающего пространство пешком или верхом, несущего свет надежды.
Особенно неуютно было в комнатке, выходящей на юго-восток: за её окном с мая по сентябрь висела неведомая белая звезда, чья сверкающая точка прожигала тёмно-зелёные шторы, вызывая чувство разлада. Бердин не любил эту звезду, она казалась ему тревожной. Сегодня в илистом небе было непроглядно: и звезду, и красные лампочки на поскрипывающих крыльях – всё слизал шершавый язык нелётной погоды.
Звонок в дверь раздался в полночь, одновременно с раскатом грома. Пришедший оказался человеком среднего роста и неопределённого возраста, с мокрыми волосами, собранными в хвостик. Редактор смотрел с любопытством, смотрел глазами, чей цвет трудно было определить за стёклами очков.
– Серафим? Очень приятно. Вы без зонтика?
– Я не люблю зонты, Анатолий Павлович, – ответил гость, снимая куртку. – Где мы можем поговорить?
Они прошли в зал, заставленный книжными шкафами. Редактор сел за дубовый стол, доставшийся в наследство от прадеда, который тоже был редактором, гость расположился в кресле. Жаль, он не обратил внимания на большое чёрно-белое фото за спиной. Там был запечатлён Бердин в образе Хемингуэя: с мужественной бородой и в свитере с высоким горлом.
– Спасибо, что согласились встретиться, – Серафим достал платок и вытер лицо. – Время позднее, давайте сразу к делу. Я посмотрел вашу газету. И хочу сказать, что вы подходите идеально. Стопроцентное попадание. Нужный человек в нужном месте – такое случается раз в сто лет. А тут всё срослось. Большая удача.
– Очень приятно, – вежливо сказал редактор.
– Дело в том, – продолжал Серафим, – что там, на севере, в большой белой пустыне, есть город. В нём выходила газета, потом перестала. Надо возобновить её выпуск. Я хочу, чтобы вы с коллегами занялись этим.
Бердин пожевал губами. Предложение было слишком неожиданным.
– Расскажу чуть подробнее. В центре города стоит завод, и все окружающие дома налипли на него со временем, как моллюски на борт корабля. Ещё там есть магазины с товарами, театр со спектаклями и музей с выставками. Жизнь бьёт ключом. Но теперь, когда перестала выходить единственная газета, у людей пропало чувство смысла. Зачем делать что-то, о чём нигде не напишут?
Бердин потёр лоб. Ему не приходило в голову воспринимать газету в таком ключе. Источник информации – да, но смысла!
– А почему газета перестала выходить? – растерянно спросил он.
– Коллектив ушёл. Люди были не очень стойкие, перегорели. Но вы – совсем другое дело. Я верю, что как раз вы и сможете справиться с этой работой. Понимаю, переезд – дело непростое, но имейте в виду, ваш коллектив будет обеспечен жильём, каждому полагается отдельная квартира на время работы. Что же касается денег… – он протянул бумажку. – Это годовой бюджет. Треть суммы – ваша. Остальное – делите между сотрудниками по своему усмотрению.
Бердин не удержался и нервно забарабанил пальцами по столу. Увиденные цифры взволновали, это было как перед первым поцелуем.
– Когда ехать? И надолго?
– Как будете готовы, так и поезжайте. По срокам… давайте так: мы подпишем договор на год, а там – захотите, пролонгируем, не захотите – воля ваша.
– Мне надо поговорить с коллегами, – хрипло сказал редактор.
– Разумеется, – улыбнулся Серафим. – Я перезвоню послезавтра.
Он вышел. В прихожей хлопнула дверь, и только тогда Бердин очнулся и подумал, что надо было проводить гостя. И ещё подумал о том, что станет спасителем тонущего редакционного корабля. Да-да, он, именно он…
В эту ночь редактор спал беспробудно и глубоко, и не видел снов, и ничего не чувствовал, словно и не было его в этом мире.
А за окном ночь отвешивала мокрые пощёчины случайным прохожим и разбивалась, падая на решётки канализационных люков. Ночь проникала на голубиные чердаки и в мышиные подвалы, скапливалась в сводах подземных лабиринтов.
Глазницы заброшенных строек Черепца равнодушно смотрели на опустевшие улицы. В спящих домах сквозняк волновал шторы и занавески – казалось, бесчисленные глазные яблоки тяжело ворочаются под веками, перебирая пёстрый хлам дневных впечатлений – привычных и предсказуемых.
Краткая запись, сделанная на той же странице, что и предыдущая, блаженно пахнущая ночным октябрьским морозом и частично накрытая выцветшей кофейной кляксой:
Тому, кого выбрал путь, предстоит открыть великое множество дверей, и ни одна из них не будет последней, и за каждой будет продолжение. И есть такие двери, между которыми плачут от счастья, и такие, между которыми теряют веру и сходят с ума – разные двери есть. И между одними кромешный свет, между другими – кромешная тьма, но лучше не пытаться подсмотреть в замочную скважину, потому что скважины созданы не для глаз, а для ключей. Кто впадает в сомнения и подсматривает, а не смотрит, тот теряет время и может быть наказан тупиком. Идущему же даётся пространство впереди. Узкий коридор, тропинка через поля, расступившиеся воды, ветвистая перспектива просеки – идущему вперёд.
2.
– На себя тяни, на себя! – кричал худой жилистый старик.
Редьярд собрался с силами, оторвал проклятую стиральную машинку от бетонной ступеньки и попятился, поднимаясь. С другой стороны её держал старик, его измученное лицо с набухшими прожилками лежало на исцарапанной поверхности.
Князев шатался от усталости. Дыхание перехватывало, нижний край машинки впивался в пальцы. Когда этажом выше они установили её в ванной, настойчиво взыскующей ремонта, его замутило, но он сдержался, и только отметил с удивлением, что в голове образовалась пустота. Ни одной мысли.
Оставалось поднять ещё несколько сумок. Задыхаясь и рассматривая сбитые ладони, Князев спустился вслед за стариком.
– Не своим ты делом занимаешься, – с досадой сказал тот, закуривая. – Не обижайся, но я с тобой больше не работаю. Ты и себе спину сорвёшь, и мне заодно. Вот эти вещи сейчас докидаем, а там извини, всё. На следующий заказ я другого напарника поищу.
Странное дело, Редьярд почувствовал облегчение. Остаться без работы – проще, чем много раз за день умирать на каждой ступеньке одинаковых серых лестниц. В пояснице ныло, тонкая, хорошо наточенная боль полосовала и простреливала.
На базу возвращались молча. Князев теребил усы и думал о старике – тот каждодневно преодолевал свою изношенность: у него были внуки, безработный зять и дочь-растяпа, всем требовалось помогать. «Кто есть у меня?» – Князев не мог сообразить ни одного имени. Со Светланой расстались, не нажив детей, родителей уже нет, а друзья… у бывшего моряка друзья всегда разбросаны по миру.
– Василий Фёдорович, – сказал он деду, когда они доехали до базы – складского помещения с несколькими ржавыми гаражами на окраине, – ты не обижайся, я и правда не своим делом занялся. Просто время сейчас такое, работы нет.
Доковылял до Анжелы, яркой цветущей девицы, отвечающей за персонал, написал заявление «по собственному желанию», тут же получил расчёт – смешные крохи, на которые можно протянуть ещё неделю. Когда Князев шёл к остановке, с трудом волоча ноги, дождь приутих, в воздухе посветлело – и в кармане затренькал телефон.
– Ред! – радостно прокричала трубка голосом Николая Львова. – Похоже, есть работа для всей редакции. Бердину предложили какой-то проект, он попросил тебе позвонить. Мы уже все на месте, ты когда можешь подъехать?
Князев смог через полчаса – город был невелик, пассажирские автобусы быстро добирались с окраины в центр, где дома были на два-три этажа выше, а на площади в окружении кустов сирени грустно чернел Пушкин. Поэт никогда не посещал эти края, зато здесь проезжал кто-то из его ссыльных друзей-декабристов. Уже один этот факт давал Черепцу право на прописку в пушкинской географии.
Николай увидел Редьярда в окно и вышел навстречу.
– Давай скорее, – торопил он, глядя сверху в лестничный пролёт. – Бердин ничего не рассказывает до планёрки, мы уже все извелись. А ты чего хромаешь?
– Да так, новый опыт получал. Грузчиком работал. Вот что, давай-ка покурим перед совещанием?
Формулировка была условна: Львов не курил, но охотно составлял компанию, когда надо было поговорить или помолчать за пределами кабинета.
– Как это тебя в грузчики занесло?
Князев пожал плечами и прищурился, выпуская дым. Сейчас он был выжат и пуст.
Несмотря на остроту момента, Анатолий Павлович не стал отменять планёрку – он любил говорить и не собирался лишать себя удовольствия. В этот час, заглазно прозванный «часом токования», редактор забывался. Он ворковал, клокотал, закатывал глазки – и напрасно было возражать и переспрашивать: он не слышал ничего.
– Начнём с плана, – он заглянул в бумаги. – Всё очень плохо, я вообще не знаю, как мы выпустим этот номер. Саша, где заметка о новой книжке писателя Скворцова? Только не надо говорить, что она на согласовании.
– Она на согласовании, – обречённо призналась Саша. – Не хотела портить отношения.
Бердин усмехнулся. В таких случаях он всегда говорил одно и то же, только немного разными словами, не стал делать исключение и в этот раз:
– Вы напоминаете мне одну мою коллегу… Это было сорок лет назад… Тогда журналистам было хорошо известно, что такое пунктуальность. Вам этого не понять…
Львов и Князев переглянулись, но неожиданно Бердин прервался и подобрался. В его осанке появилась монументальность.
– А впрочем, – сказал он, – всё это неважно. Коллеги, надо обсудить один проект. Как вы знаете, начался экономический кризис. Но я был бы плохим руководителем, если бы смирился с этим…
Воробей на ветке за окном видел, как люди в комнате напряжённо смотрели на одного человека, а потом завертели головами, стали улыбаться, ёрзать и раскрывать рты. Звуки не проникали через стекло. Ещё воробей заметил, что тот, на кого все смотрят, неуклонно раздувается и обрастает сиянием и пухом. «Наверное, это их главный самец», – подумал воробей.
Запись, сделанная неровным почерком, вероятно, в тёмное время суток и при обстоятельствах, не благоприятствующих письменной работе:
В школе нам внушали, что всякая формула что-то выражает, а каждое уравнение имеет решение. Мы так привыкли писать цифры после знака равенства, что не можем себе представить, что этим знаком всё заканчивается.
Икс плюс игрек – это не вопрос, это констатация, которая не подразумевает необходимость озвучивать сумму. Ведь дело не в ней, а в том, что именно икс именно плюс именно игрек.
Знак равенства – как причал, уходящий в густой туман над утренним озером. Чему равна сумма взаимодействующих цифр по эту сторону знака равенства? Для каждого есть своё решение, потому что каждый приходит к причалу со своим грузом, и нет двух одинаковых грузов, как нет двух одинаковых путников, и нет двух одинаковых иксов, игреков и плюсов…
3.
Николай Львов жил в пятиэтажке на окраине, среди котлованов, арматуры и газонов, обрамлённых автомобильными покрышками. Это было царство любителей пива и домино, рассадник ларьков и замороженных строек. Во дворах звенели воробьи и носились дети, не желающие идти обедать.
Однокомнатная квартира в центре этой локации досталась Николаю в наследство – от бабушкиной сестры, ушедшей несколько лет назад. У неё была болонка Чижик, ненадолго пережившая хозяйку. Белые собачьи волоски присутствовали во всех пасхальных куличах, которые старушка каждый год пекла в большом количестве. Она была бездетна, но однажды, сомлев от употреблённой по случаю Первомая водочки, рассказала внуку, что в молодости имела ребёнка, девочку: дитя скончалось, не протянув и года.
Николай часто вспоминал об этом. Ему казалось странным, что жизнь, загоревшаяся однажды, угасла без следа: ни документов, ни фотографий, ни свидетелей. Выходило, он один знал об этом. Однажды Львов пошёл в храм, чтобы помянуть девочку, которая, вероятно, вообще могла оказаться выдумкой. Но даже если она приходила в мир и была наречена, он не знал её имени, и Христос, замерший в ожидании над затепленной свечкой, так и не дождался упоминания, кого же конкретно надо приветить в бескрайнем небесном Царствии.
Сегодня Львов был весел. Он с детства рвался из Черепца, просто с ума сходил от жажды странствий, но не мог преодолеть инерцию бытия: то ли стартовой скорости не хватило, то ли время не пришло. Теперь же появилась надежда.
Николай извлёк из пакета и развернул большую, яркую, глянцевую карту африканского континента. Он давно присматривался к ней, регулярно наведываясь в магазин при картографической фабрике. Пробил час: далёкий материк, символ и образ, прильнул к стене над кухонным столом.
На полке справа располагалась коллекция авиамоделей. Это была гордость Львова: он покупал и собирал самолётики, преимущественно первой половины двадцатого столетия. В искусственных птицах той поры было больше дерзости и музыки, чем в их детях и внуках, таких предсказуемых, таких безупречных.
Африка на карте, самолёты в миниатюре. Макет мечты, проецирование чаяний.
– Чилилабомбве, – с удовольствием читал Николай. – Гандаджика, Бандунду, Абакалики, Тафава-Балда, Майгатари…
В названиях играло солнце, они пахли пряностями и напоминали заклинание: в каком порядке ни прочитай, что-нибудь да выйдет. Собственно, на интересе к путешествиям Николай и сдружился с Князевым. Тот был моряком, радистом, объездил полмира, а теперь, застряв на малой Родине, охотно вспоминал. Он знал: опасно всё время вспоминать, если при этом никуда не едешь, но и не вспоминать не мог.
– Ого! – воскликнул Князев с порога, увидев карту. – Какие знакомые места! – и, подойдя, заулыбался: – Знакомые, знакомые… – извлёк из сумки бутылку коньяка. – Давай стопки. Этот пузырёк я заработал честным трудом. Вот этими самыми руками.
Выпили, помолчали, с удовольствием чувствуя, как внутри растекается тепло. Умяли по ломтику безвкусного вялого сыра, снова выпили – неторопливо, весело, с лёгким сердцем. Заговорили об одном, о другом, о третьем – и так и переходили с темы на тему, не углубляясь, окрылённые радостью спасения.
Коньяк закончился скоро. Львов нырнул в морозилку и вытащил початую бутылку водки. Лёгкий весёлый иней обнимал стекло, в котором колебалась тягучая от холода жидкость.
– Слушай, а расскажи ещё раз про Африку? – попросил, разливая.
Это был их давний ритуал: один любил рассказывать, другой – слушать. Вспоминая, Князев каждый раз мостил дорогу памяти новыми словами и речевыми оборотами, с удовольствием меняя угол зрения и наслаждаясь выпуклостью, ощутимостью прошлого.
– Помню, было много жёлтого, такого, знаешь, с уходом в золото. Тусклое золото, яркое золото, песчаное, солнечное – разное. И вот это жёлтое было густым, как желток, и радостным, как цыплёнок. Синее было, да, синее тоже. Такие, знаешь, разводы, очертания, в белых прожилках. Самые разные оттенки: от бледного до тёмного. Небесный цвет, морской цвет…
Ему вдруг вспомнилась женщина из племени химба. Её лицо казалось вылепленным из глины. Да и не лицо это было, а маска, тысячи лет пролежавшая в песках пустыни Намиб в окружении мёртвых деревьев. Большие маслянистые глаза, расставленные широко, говорили об инопланетном происхождении, а волосы, собранные в толстые пучки, нисходили, переплетаясь с многочисленными кольцами такого же ярко-коричневого цвета. В тот единственный вечер, когда Ред видел её, она хлопотала у своего жилища, похожего на осколок яйца птицы Рух. Кормила коз, покрикивала на детей, пела – на других планетах те же заботы, что и на Земле.
– Зелёный, – подсказал Николай.
– Зелёный, да-да, это очень важный цвет, но его там не так много, как у нас. В основном на женских браслетах. И не малахитовая зелень, а изумрудная. Знойная зелень листьев, спасающих от расплавленного золота, которое льётся с синевы. Белый – капельками, пятнами. Белки глаз, белые улыбки, ослепительная известь высохших раковин, хрупкая белизна скелетов среди песчаного жёлтого цвета. Ну и без красного не обойтись, Африка без красного немыслима. Все эти накидки, роспись, высохшая глина, красный цвет ночного пламени, восхода и заката, звериного глаза, перьев и языков. Красные звуки, красные запахи…
– За Африку?
– За неё, родимую!
И они опрокинули, одновременно подумав о том, что, возможно, в этом районе и в этом городе есть и другие квартиры, где прямо сейчас люди, тоскующие по солнцу, выпивают за далёкий континент из детских сказок.
***
«– Детство я помню смутно. Дело в том, что отец был военным, мы часто переезжали. Самые первые воспоминания – большая шумная коммуналка в старом доме. Мама потом рассказывала, что этот дом строили китайцы, у нас же с ними был период сильной дружбы. Помню толстого белого кота, таз, в котором меня купали. Маленькую кухню, в которой постоянно клубился противный пар с запахами капусты, свёклы, чего-то такого растительного, несытного. Но всё это – как в тумане, фрагментами.
– А в каком городе это было?
– В каком-то маленьком закрытом городке на севере, точно не знаю. Там была такая интересная особенность, вокруг городка находилась равнина, выстеленная белым песком – в тех местах раньше протекала река, она исчезла, а песок остался. Но, если честно, я эту равнину не помню, мне про неё родители говорили…»
Виталий Бочков: между кино и театром. – Газета «Всё о звёздах», № 15/2006.
4.
Два дня, оставшиеся до завершения работы, были полны предчувствий. Тем сложнее было доделывать номер газеты, которая уже не существовала.
Саша готовила статью о новой книге черепецкого литературного мастодонта – писателя Аристарха Скворцова. Это был истинный громовержец, руководитель местного отделения федерального союза, наставник поросли, которая в недобрый час оказывалась на его пути. Человек широкой души, он имел склонность к рукоприкладству на почве несовпадения взглядов, поэтому менее крепкие коллеги старались не гневить легенду. Недавно у Скворцова вышла очередная книга, и Саша начала звонок с поздравления.
– Благодарю, голубушка, – пропыхтел классик, тяжёлый с похмелья. – Извините, одну секундочку… – и, не прикрывая трубку, рявкнул куда-то в сторону: – Позже, всё позже, у меня интервью… Прошу меня простить. Так вот…
Далее последовал пространный монолог. Автор был человеком опытным, он знал все вопросы наперёд, поэтому отвечал, не дожидаясь их. Безусловно, Саша хотела узнать его мнение о судьбах русской литературы. Наверняка её интересовало, как ему удалось создать такие яркие образы. Ну и, конечно же, ей не терпится спросить о тайных смыслах и мастерски спрятанных аллюзиях.
Минут через десять Саша неловко попрощалась и поплелась этажом выше, к кофейному аппарату – запивать послевкусие. Ей вослед, пронзая столетия, звучал обличительный смех русского сатирика Скворцова.
Нелегко было и Стародумовой. В последнее время на неё всё чаще находило странное затмение: она переставала понимать написанное и порой подолгу сидела, всматриваясь в привычные сочетания, за которыми не было ничего. Это пугало, но она не делилась ни с кем, списывая всё на усталость.
«Поддержка фермерства… почему поддержка, о чём речь? Надои, покосы, уборка… сто тонн навоза, тысяча литров молока… модернизация техники, гусеницы тракторов… губернатор приехал и уехал… торжественно перерезали ленточку… хлеб да соль, сельская кооперация, борьба с пожарами…»
Иная забота была у Николая – транспортные потоки, воспеваемые им, резко оскудели. Вместе с ними исчезли заторы и начались сокращения. Железнодорожники сдавали свои синие мундиры и оранжевые робы – и шли с удочкой на мост или ехали за город, где вставали на колени и молились чернозёму. Сотрудники транспортной милиции в свете происходящего тоже теряли места, а оставшиеся охраняли пустые вагоны, цистерны и всякие важные объекты, с которых граждане пытались тащить всё, что хоть отдалённо походило на цветмет.
Бердин постоянно выходил из кабинета и бродил между столами, заложив руки за спину. Он был счастлив: проявил лидерские качества, спас коллектив.
Согревало и ещё одно обстоятельство. В городской администрации работал пресс-секретарём Игорь Почкин, одноклассник редактора и оппонент по жизни. В школе Бердин под одобрительные вопли пацанов регулярно валял пухлого Игорька в снегу – беззлобно, для удовольствия. Почкин ничего не забыл и, оказавшись на госслужбе, воздал мучителю сполна: газета была зависима, каждый номер требовалось согласовывать, и процесс этот проходил заковыристо и неспешно.
– Анатолий Павлович, вот тут не очень красиво написано, вообще как-то не по-русски, – добродушно журил Игорь Андреевич. – Теперь переходим ко второму абзацу. Видите предложение «Участники конкурса прислали много работ»? Нашли, да? Ну что же у вас так неинтересно написано, даже читать не хочется. Это же всё-таки о людях текст, а не о картошке. Напишите лучше так: «много ярких, интересных и талантливых работ».
– Сука, – стонал Бердин, положив трубку. – Сука, сука, сука.
А Почкин с наслаждением потирал руки. Ему вспоминался холодный снег за шиворотом, ранец, которым играли в футбол, и отобранные бутерброды. Он знал, что самоуверенный Толик никуда не денется – пока выходит газета, и когда встал вопрос о её закрытии, не на шутку расстроился. Почкин приложил массу усилий, стараясь переубедить заместителя мэра, и даже написал коллективное обращение от лица общественности, которое сам же в неверном свете Луны бросил в почтовый ящик, дрожа и озираясь. Всё было тщетно: газета доживала последние дни.
Он знал, что Бердин – человек желчный и после согласования последнего номера возжелает высказаться. Поэтому, доведя редактора до белого каления и поставив подпись на утверждённых полосах, Игорь Андреевич не стал брать трубку, когда тот перезвонил. Телефон пел. Жертва, обретшая свободу, желала говорить, а инквизитор грустно смотрел в окно и вздыхал.
***
«Уважаемая редакция! С начала этого года через наш город на север регулярно проходят большие караваны из грузовых автомобилей. Ходят слухи, что везут материалы, необходимые для строительства нового космодрома. Мы, советские люди, с гордостью и живым интересом воспринимаем все новости об успехах нашей великой Родины в деле покорения космоса. Хотелось бы узнать и о новом космодроме, если, конечно, такое строительство действительно ведётся. Не могли бы вы прояснить этот вопрос для общественности?
С уважением, Алексей Гребешков, сотрудник проектного бюро им. И.В. Кочетова».
От редакции.
Тов. Гребешков, спасибо за письмо! На ваш вопрос отвечает заместитель начальника Черепецкого военного округа И.Ф. Павлов:
«Слухи о создании нового космодрома не соответствуют. Упомянутые грузовые экспедиции организованы для снабжения военных поселений, расположенных севернее г. Черепец, а также для переоснащения инфраструктурных объектов с учётом последних достижений науки. С нашей стороны приняты все меры для сопровождения экспедиций во время следования через территорию Черепецкого военного округа».
Газета «Вечерний Черепец», №18/1964.
5.
Трудно объяснить и осознать, но долгожданный переезд остался в памяти у всех набором смутных видений. Было что-то такое туманное и шероховатое, с запахом бутербродов и шумом ветра.
Запомнилось: когда до города оставалось километров сто, автобус неожиданно утонул в густом тумане. Вдоль дороги потянулись ограждения, похожие на огромные скрепки, они летели, как дикие гуси, соблюдающие дистанцию.
Потом призрачное марево рассеялось – и начались белые земли. Серафим рассказывал, что в тех краях протекала река, от которой осталось только песчаное дно, но всё равно это было ошеломительно: кромешная белизна, на которую больно смотреть.
Журналисты молчали, прилипнув к окнам, время от времени засыпая и просыпаясь. Это была мучительная поездка по осколкам сновидений, грёзы мешались с явью, слышался ровный гул ветра, и трудно было понять, сколько времени уже прошло – и сколько ещё должно пройти. Неизменна была лишь фигура водителя.
В один момент вдалеке стали угадываться высокие стены, они всё явственнее проступали в белом, и когда автобус нырнул в расщелину, бодрствующих оглушила внезапная зелень густого, сильного леса.
Всё это сохранилось фрагментами. Вспоминая, журналисты извлекали из памяти фрагменты, и в целом выходило нечто фантастическое, но единой картины не получалось. Зато всем хорошо запомнилась встреча с Серафимом перед отъездом. Загадочный работодатель попросил принести стулья и сесть в круг.
– Я рад, что вы приняли моё предложение, – сказал он, встречаясь глазами с каждым из присутствующих. – Постарайтесь запомнить то, что я сейчас скажу.
Слова, которые принёс гость, были помещены на сложенный вчетверо клетчатый листок, он ждал своего часа и теперь неожиданно выпорхнул из нагрудного кармана, оказавшись в руках: читай меня, читай.
– Вы должны терпеть навязчивых. Прощать надменных. С пониманием относиться к недовольным. Кто-то покажется придуманным – обращайтесь с ним как с настоящим. Чужую чрезмерность списывайте на собственную недостаточность. Чужую малость – на собственную избыточность. Старайтесь быть своевременными и уместными во всём, особенно в ошибках. Помните: за всякой стеной есть пространство, за безвременьем начинается эпоха, а за абсурдом таится смысл. Ещё помните, что основное движение совершается не ногами, а душой, и кто заблудился, пусть смотрит не вокруг, а в глубину.
Добравшись до конца страницы, он быстро сложил и убрал бумажку в карман.
– Это если в общем и целом, – уточнил Серафим. – От себя добавлю: обязательно почитайте послание Павла к коринфянам. Так сказать, для личного роста. Пригодится. Замечательно написано! Вопросы есть?
Журналисты переглянулись.
– Честно говоря, удивительно, что в период кризиса решено приступить к новому проекту, – неуверенно сказал Николай. – Правильно ли я понимаю, что каждый из нас будет обеспечен жильём?
– Именно так. У города есть маневренный фонд, так что этот вопрос мы с администрацией решили. На каждого выделена однокомнатная квартира. Мебель, холодильник, стиральная машинка – в общем, всё, что надо.
– А кто выступает заказчиком? – поинтересовался Князев.
– Я. У меня очень много работы, для встреч времени нет совсем, так что всю информацию, включая темы для публикаций, Анатолий Павлович будет получать от меня по почте.
– Серафим, хотелось бы узнать подробнее о городе, – сказал Бердин. – Я не нашёл его на картах. А это, как вы понимаете, не может не смущать.
– Хорошо искали? – улыбнулся Серафим.
– Да уж лучше некуда. Если верить картам, севернее Черепца тянется лесная и затем лесотундровая пустошь. На всём расстоянии до океана – а это почти тысяча километров! – есть лишь десяток небольших поселений.
– Ну что ж… Давайте с самого начала. В один из дней земной истории на равнину упал метеорит. Это привело к исчезновению реки и появлению воронки таких размеров, что в ней легко разместился целый город, а между ним и стенами кратера выросли леса. Этот городок носит статус секретного – власти решили воспользоваться удачным местом и разместили там производство для оборонки и космоса, а также ряд экспериментальных лабораторий. В силу статуса его и не стали заносить на карты. И получается, что этого города как бы и нет вовсе.
– Как же так? – удивился Бердин. – Разве это возможно?
– Почему нет? Если у человека нет документов и знакомых, получится, что он вроде как и не существует, верно? Нет такого человека. С городом та же самая история. Кто о нём знает? Почти никто, кроме тех строго засекреченных экипажей, которые прибывают, чтобы забрать партии оборудования и поставить заготовки, а также продовольствие. Город нельзя найти вот ещё по какой причине – под ним проходит мощный излом земной коры, что даёт интересный геофизический эффект…Это место не увидеть со спутников, над ним не летают самолёты, до него невозможно дойти своим ходом, без специальных средств. Это как бермудский треугольник.
– Ох, Серафим, вы нас не пугайте… – сказала Нина Авдотьевна.
– Я не пугаю, я, наоборот, стараюсь заинтересовать… Коллеги, если вопросов больше нет, мне, к сожалению, надо откланяться – дела не ждут.
Вопросов не было.
– Странно это всё, – спустя неделю бормотал редактор, бороздя своё новое жилище, по планировке похожее на черепецкую квартиру. – Ну ничего, мы этот город разъясним.
Бердин-Хэмингуэй молча следил за ним со стены. Несколько книг эффектной толщины, старинная чернильница, в которую макал своё перо прадед Бердина, вымпел со значками спортивной тематики, пара бюстов (один кудрявый и один лысый), чистая бумага для мудрых мыслей – всё это, привезённое, было выложено и готово к новой жизни.
Редактор посмотрел в окно. Трубы дымили в небо, а за морем разномастных крыш – плоских и треугольных, крытых шифером и черепицей – и ещё дальше, за чёрными верхушками леса, за тающей в тумане бурой полоской высоченной земляной стены – мерцало, парило в воздухе белое сияние.
6.
Вообще-то Саше не хотелось никуда ехать, по натуре она была домоседкой. Впрочем, это не удержало её когда-то от переезда в Черепец, областной центр, где был университет – в родных пенатах нечего было делать после школы, некогда крупное село неуклонно чахло, теряя молодую кровь, молодые силы.
Родители отпустили с грустью, понимая, что дочь, единственный и поздний ребёнок, должна искать своё место в жизни. Поначалу пытались придумать какое-нибудь дело, которым она могла бы заняться, вернувшись в село с дипломом, но постепенно бросили уговоры.
– Не надо ей сюда ехать, – говорил отец. – Ни женихов толковых, ни работы.
– А мы-то как? – вздыхала мать. – Силы-то уже не те.
– А как всегда, – парировал он, притягивая к себе жену крепкой ещё рукой. – Вот как раньше, так и теперь. У всех так, Аннушка. Ведь и мы с тобой не просто так здесь завелись, тоже откуда-то приехали. Пускай учится, работает, себя ищет. Дочка у нас хорошая, грех жаловаться.
– Путешественница ты у нас, – гордо сказал он, когда Саша позвонила и сообщила о новом городе. – Может, тебе консервацию прислать? Мамка тут банок накрутила.
Переезд пришёлся кстати – отношения с пресс-секретарём хора ветеранов, худощавым, подвижным юношей, достигли стадии оскорбительной инерционности.
– Значит, ты всё уже решила? – удовлетворённо кивнул он, услышав об отъезде. – Что ж. Спасибо за то, что была. Хочешь чаю?
У Саши внутри стало кисло и муторно. Она осмотрела стол в бумагах, стену в афишах хора ветеранов, скользнула взглядом по окну: с одной стороны пыль, с другой дождь – и вышла. Трудно оставаться в месте, которое закончилось, не начавшись, в неподвижной точке кипящего космоса.
Так и расстались: тихо и неощутимо, словно сухая ветка отпала. Через день из памяти стали исчезать черты, ещё через день замигало, стираясь, имя. Это было странно – и приносило облегчение.
Саша вздохнула и стала разбирать сумки. Чтобы создать свой уголок в этой ещё не освоенной части мироздания, требовалось заполнить его знаками пребывания. Чайник встал на плиту, часы взлетели на стену, одежда упала в кресло.
Как и в черепецкой квартире, место в углу, над столом, заняла картина «Богоматерь сухого древа» Петера Кристуса. Саша обожала эту работу. Дева с Младенцем стоит внутри огромного тернового венца, и красный плащ Марии кажется каплей крови на шипах. На голых ветвях покачиваются золотые альфы – рождественская ёлка в конце времён. И фон – холодный, глубокий… как ночное небо перед снегопадом… только глубже и тревожнее…
С высоты пятого этажа открывалась чудесная панорама: крыши разных форм и расцветок. За ними покачивались тёмные верхушки деревьев, ещё дальше в обе стороны полз огромный хребет. Саша распахнула окно и, чуть свесившись (прядь каштановых волос – на глаза), огляделась: хребет непрерывной линией уходил за дом.
– За стеной – белая пустыня… Странное всё-таки место. Кто эту пустыню видел? Никто не видел. Кто её помнит? Никто не помнит.
Вспомнились статьи о земных кратерах, прочитанные перед поездкой. Следы древних столкновений, видные лишь с неба, на протяжении эпох медленно угасали под натиском ветра и дождя, оползали в планетных конвульсиях, распадались на холмы, уходили в провалы. И только серебристые приборы, налипшие на орбиту, смогли найти их на подвижной земной тверди. А что под водой – то под водой…
Ночью девушка проснулась от мерцания. Протёрла глаза и сначала испугалась, а вдруг пожар, но такой отовсюду веяло тишиной, что тут же успокоилась. Серебристое свечение наполняло воздух над городом.
А ещё слышался мелодичный звон, и нельзя было понять, исходит он от звёзд или имеет другую природу. Как перед появлением Серебряного копытца – или как от ширмы: нити, унизанные дымчатыми стекляшками. И всё вокруг чудо и обряд – и эта ночь, и звон, и запрокинутая голова, и смутный блеск влажных зубов.
Саше вспомнилось, как в детстве на даче у бабушки она ловила перед сном светляков. Когда их набиралось достаточно, закрывала банку и несла в дом. Бабушка целовала её в лоб горячими сухими губами, похожими на высохшие дольки апельсина, выключала свет, и тогда девочка выпускала пленников. Тёмная комната, в которой так хорошо пахло летом и цветами, наполнялась множеством живых звёздочек, трогательной и хрупкой магией жучков, одетых в тёмно-зелёную броню.
Она вспомнила про них теперь, стоя у распахнутого окна. И все остальные, приехавшие с ней в город, тоже стояли и смотрели, не в силах оторваться.
7.
Утром журналисты собрались у входа в здание, где располагалась редакция. Серафим ещё вчера показал им этот трёхэтажный серый дом с высокими окнами, они проезжали мимо.
Бердин сдержанно поздоровался с коллегами. Он был взволнован.
На первом и втором этажах здания находились офисы, всюду бегали люди в пиджаках. На лестничном пролёте курили двое.
Под редакцию были отведены два смежных помещения на третьем этаже.
Журналисты поднялись по широкой бетонной лестнице, имеющей необычную конструкцию: три пролёта она шла вверх и только потом стала поворачивать. Ключ легко вошёл в скважину старой деревянной двери, щелчок – и перед журналистами открылся затерянный мир, заброшенный бункер.
На полу и на столах, на стульях и покосившихся полках этажерок в беспорядке грудились книги и газеты, стопки чёрно-белых фотографий, обломки деревянных рам и замшелые стаканы. Лохмотья пыли лежали на смеющихся портретах и визитках, на блокнотах, которые были раскрыты когда-то, некогда, допрежь, до того как. В один из бывших дней кто-то что-то планировал, и лелеял чаяния, и имел намерения. Паутиной подёрнулись графики и планы чужих жизней.
Бердин вытащил из нагрудного кармана большой белый платок с тёмно-синей каймой и прижал его ко рту.
– Дивно, – сказал он через образчик черепецкого текстиля. – Похоже, здесь никого не было уже много лет! А насколько я понял, редакция закрылась совсем недавно. И что же теперь делать со всем этим хламом?
– Убирать! – послышался радостный голос.
Журналисты расступились, пропуская седобородого старичка в клетчатой рубашке и кепке, вооружённого шваброй и ведром. Тот уверенно вошёл в комнату, огляделся и расплылся в улыбке.
– Убирать, – повторил он. – Убирать и ещё раз убирать. Потому что каждая новая жизнь должна начинаться с уборки. Да и заканчивать, по-хорошему, надо тоже уборкой, просто чаще всего это случается неожиданно.
– Что случается? – спросила Саша.
– Ну, когда всё заканчивается, – пояснил старичок. – Иной раз и за веник взяться не успеешь, потому что надо бежать… А вы, значит, новая редакция? Давайте знакомиться: я – Иван Афанасьевич, уборщик.
– Очень приятно, – сказал Бердин, не подавая руки. – Анатолий Павлович, редактор. Насколько понимаю, вы нам поможете навести тут порядок?
– Конечно, помогу, как не помочь. Работа у меня такая. Буду периодически у вас убирать, по настроению.
Бердин поднял брови.
– Что значит «по настроению»?
– А то и значит, – ответил Иван Афанасьевич. – У меня и в трудовом договоре так записано: уборку производить по настроению. Если интересно, почитайте.
– Да, пожалуй, я почитал бы, – сказал редактор.
– Но для этого вам надо найти работодателя, потому что все документы у него, а с этим сложность, – сказал старичок, опершись на швабру. – Работодателя можно увидеть только при трудоустройстве и при увольнении. В остальное время это невозможно. Вы тут новые, вам непривычно, но имейте в виду, так заведено.
– Вы что-то не то говорите, – заметил редактор. – В процессе работы всегда возникают вопросы, требующие уточнения.
– Согласен, – кивнул Иван Афанасьевич. – Вон за той дверью ваш кабинет, – он указал на дверь, которую сразу никто и не заметил: она сливалась со стеной и терялась за пылью и солнечными лучами. – А в том кабинете на столе лежит подробная инструкция, в которой написано всё, что надо знать. Кроме того, работодатель будет периодически присылать письма с новыми инструкциями и уточнениями. В общем, осваивайтесь, а я как-нибудь ещё зайду. По настроению. В строгом соответствии с контрактными обязательствами. Только постарайтесь, пожалуйста, не сильно пачкать. Не люблю, когда грязно. А сейчас освободите мне место для работы. Приходите завтра.
Журналисты вышли на улицу. Солнце и ветер бродили по городу в этот час, проулки сквозили, кроны звенели воробьиными ансамблями. Чай в ближайшем кафе был с запахом бергамота, белёсая дымка стелилась над чёрным кипятком. Обменялись впечатлениями: все жили неподалёку друг от друга, в одном квартале, всем, помимо квартиры, достался чудесный вид из окна.
– Немного напоминает городок под Воркутой, где я жила, – припомнила Нина Авдотьевна. – Стоят этажные дома, проведены все коммуникации, люди ходят, магазины работают. А вокруг – сплошная тайга, город находится в её кольце. Вот стоишь во дворе – и ты как бы в городе, а зайдёшь за дом – и всё, там уже лес. Здесь – бетон, асфальт и фонари, а там – стволы, хвоя и дупла. Или, скажем, ночью: выйдешь на балкон, а перед тобой – темнота и шорохи. Тут тоже так: дома, а потом лес, а дальше стена кратера, а за ней пустыня.
– Коллеги, не расслабляйтесь, – напутствовал Бердин журналистов, прощаясь. – Проведите время с пользой. Пройдитесь по городу, посмотрите, что тут да как. Завтра в девять утра жду вас на планёрку.
Журналисты посмотрели в его монументальную спину и с облегчением выдохнули.
– Чувствую себя как в школе, когда прогуливал уроки, – признался Николай.
Запись на клетчатой странице. Неровные строчки в трёх местах припечатаны каплями воска:
Совсем недавно ко мне пришло новое понимание, удивительное и невероятно отчётливое. Я вдруг осознал, что двигаюсь к Морю постоянно, даже когда сижу на работе, даже когда сплю. Я иду к Нему всю жизнь. Каждый день, каждый час.
И если вдруг я перестану видеть, то выйду к Нему, ориентируясь на шум прибоя, а если перестану слышать – найду Его по запаху соли и йода, а если перестану знать и понимать, то брошу поводья и доверюсь ветру. А если вдруг иссякну и свалюсь на полпути, в жёлтую колючую траву, среди больших чёрных камней, то Море само придёт за мной, потому что Оно большое, доброе и практически всемогущее.
Оно придёт и утащит меня, ободрав по пути о мелкие камушки, о разбросанные по пляжу топчаны и детские игрушки, утащит в холодную чёрную глубину, где мерцают рыбы и звёзды.
И там, в пучине, преодолев тысячи страхов и забыв своё имя, я воскресну совсем другим, обрету новую жизнь. И выйду на берег, на горячий песок, в котором так много двухкопеечных монет и потёртых якорьков.
И кто-то большой и добрый попросит, чтобы я не ходил один к воде.
8.
– Послушай, Ред, – сказал Львов. – Помнишь, ты рассказывал про англичанку?
– Помню.
Они сидели в парке и пили пиво. Нина Авдотьевна ушла вскоре после Бердина, Саша ещё немного посидела и тоже ушла. Старик, похожий на Тургенева, выгуливал большую лохматую собаку, день ещё был свеж, но свет его уже менялся.
– Я вчера раскрыл окно и вдруг почувствовал запах моря. И сразу вспомнил рассказ об англичанке. Расскажи ещё?
– То же самое?
– То же самое.
Львов не смущался повторами, особенно если речь шла о дальних краях. В его жизни с детства был свой сюжет, регулярно повторяющийся во сне: полёт на самолёте над пустыней, крушение и долгое блуждание по барханам под звёздами.
Раньше Князев удивлялся готовности Николая слушать одно и то же, а потом перестал. С годами он всё дальше отходил от моря, и постепенно сам повадился возвращаться: сердце было привязано к прошлому, память бродила по кругу.
– Во время службы на флоте я как-то оказался в порту, чьё название не помню, – привычно начал он. – Это было, кажется, на юго-востоке. Большой остров, северо-восточное побережье. Бухта. Наш кораблик поболтало, команда радовалась отдыху. Порт, куда мы прибыли, раньше был английским фортом. Там до сих пор живут потомки колонизаторов.
На землю пыльно приземлился голубь и засуетился, поглядывая красным глазом на подложку с вяленой рыбой.
– За портом начинается пыльная жёлтая дорога, ведущая в город. На возвышенности, на полпути к первым жилым кварталам стоит старый трактир, построенный специально для моряков. Хозяйка заведения – англичанка, миссис Батерст. В то время ей было, я думаю, лет тридцать пять, то есть старше меня лет на семь. Молодая, красивая. А главное, так себя держала, что никто не фривольничал, только заигрывали слегка. Она близоруко щурилась, и это было красиво. Во-о-от. За столами шумели моряки, за окнами синело небо, до горизонта расстилалась водная гладь…
– А на шее у неё часы, – напомнил Николай, разделывая чехонь. Тусклое серебро неохотно отходило от костлявых боков.
– Точно. Миссис Батерст носила на шее маленькие золотые часики с синей монограммой на крышке. Про них есть целая легенда, мне одна официантка рассказала. История такая: эти часы ещё сто лет назад носила первая хозяйка трактира, прапрапрабабушка миссис Батерст. Что характерно, её звали так же: миссис Батерст. Однажды в трактир забрёл боцман, он сокрушался, что сошёл на берег без часов и может опоздать на корабль. Миссис Батерст сняла эти часики с шеи и отдала ему – так легко, словно они ничего не стоили. И сказала: «Когда будете отбывать на корабль, отдайте часы кому-нибудь на берегу, меня тут все знают».
Редьярд снова отхлебнул и вытер усы салфеткой. Николай терпеливо ждал.
– В тот же день поздно вечером в трактир прибежал мальчишка, принёс часы и подзорную трубу. Боцман просил передать, что всегда будет помнить прекрасную хозяйку этих часов и что если она захочет его увидеть, то пусть в любое время дня и ночи посмотрит в эту трубу в море – и он помашет ей рукой. Маленькая такая труба, из латуни, с тёмным выпуклым стеклом, висит на цепочке над барной стойкой, я видел.
Приятели замолчали, задумавшись. Каждый представлял стройную молодую англичанку, сдержанную и красивую, отстранённую и нездешнюю. Она была в чёрном, с часиками на шее и с подзорной трубой – тонкие пальцы на вытертой чёрной трубке, белая кожа, тусклая латунь. Женщина шла по времени, не меняясь. Она снова и снова приходила в мир, получая от жизни прежнее имя и прежнее лицо.
9.
Нина Авдотьевна вышла на балкон с кружкой горячего чая. Воздух был зябким. Из кружки валил густой пар, в кипятке плавала ярко-жёлтая лимонная долька. Чай приехал из Черепца, а вот лимон был местным – куплен в магазине, который находился на первом этаже, в помещении пожарного выхода.
– Разве в пожарном выходе может быть магазин? – спросила Стародумова. – А если чрезвычайная ситуация?
– Не волнуйтесь, – неопределённо ответила дородная девушка за прилавком.
Нина Авдотьевна любовалась окрестностями – впервые за долгое время.
Пейзажи в окнах её черепецкой квартиры не радовали: вид открывался на стандартные пятиэтажки. Их было много, целое море пыльного шифера и рубероида, придавленное пресс-папье серого неба. Под балконом, выходящим на другую сторону, начиналась пустыня огородов. Колышки, листы картона и фанеры, целлофановые и газетные лохмотья, железные и стеклянные банки, ржавые бочки и рваные шины – в царстве подножного корма не было лишних и ненужных материалов, пригождалось всё.
Нина Авдотьевна до дрожи боялась огородников, она знала, что это беспощадные люди с невероятной закалкой. Недалеко от дома, где она жила, было автобусное кольцо, в выходные дни утром и вечером страшные люди с лопатами и вёдрами штурмовали старые ПАЗы и ЛИАЗы.
Однажды Нине Авдотьевне довелось оказаться в автобусе, который подъезжал к остановке с огородниками. Зная, что сейчас произойдёт, она не стала садиться, а встала в уголке – и с ужасом наблюдала за стремительной толпой.
Одна старуха смогла первой запрыгнуть на ступеньку, но была схвачена оттеснённой соперницей за ноги, упала и стала лягаться… В другом конце автобуса вспыхнула драка между коричневыми от загара мужиками, ещё две могучие женщины в синих трико с лампасами, обменявшись плевками, рвали друг другу тусклые кудряшки. Автобус раскачивался и скрипел, казалось, что он лопнет, как рукавица из сказки, но не лопнул и даже смог тронуться с места.
С годами у Стародумовой начались навязчивые кошмары, особенно когда она устроилась в редакцию черепецкой газеты. Ей отдали на откуп неполотую тему надоев, удобрений и прочего скотоводства. Исполнительной журналистке снились бесконечные поля картошки, свинофермы, трактористы с чёрными полосками под длинными ногтями, румяные директора и визгливые бухгалтерши.
Под балконом новой квартиры огородников не было, и в первый день Стародумова выбегала сюда несколько раз в страхе, что они могут завестись. К вечеру, когда воздух наполнился мерцанием, сомнения исчезли окончательно.
– Всё спокойно, всё тихо, – сказала она с улыбкой, возвращаясь в комнату.
Нина Авдотьевна уже извлекла из сумок все вещи, кроме фотоальбомов – их оставила напоследок, на вечер, когда дневные волнения улягутся, можно будет налить чай и никуда не спешить. Стародумова села на диван, придвинула к себе потёртый коричневый чемодан и раскрыла: в нём лежали альбомы.
– Анатолий Павлович такой смешной, – сказала Нина Авдотьевна, продолжая задумчиво улыбаться. – Всё надувается, трясёт гребешком. А тут за него уже всё решили. Кому что делать, кому за что отвечать.
Она раскрыла верхний альбом в синей бархатной обложке. С первой страницы улыбался молодой мужчина с чёрными усами. Его сердечный приступ был внезапным и коротким. Среди ночи сел на кровати, глухо позвал «Нина! Нина…», лёг и умер. Голос, зовущий по имени, не растворился, он жил в Нине Авдотьевна, она слышала его.
Стародумова кивнула фотографии и стала рассказывать:
– С меня, слава богу, сняли огороды, не буду больше воспевать картошку и надои. В этом городе нет никакого сельского хозяйства, зато есть большой-пребольшой завод, и я буду про него писать.
Мужчина на фотографии внимательно слушал. Нина Авдотьевна погладила его пальцем и продолжала:
– Я, конечно, никогда с такой темой не работала, но думаю, что справлюсь. Журналистика – дело такое, главное найти разговорчивых людей, всё остальное – мелочи. Всё мелочи, всё-всё мелочи…
В доме, погружённом в тёмно-синее закулисье дня, долго светился жёлтый квадратик, в нём сидела женщина, перелистывая фотоальбомы в бархатных обложках. Когда сумерки сгустились, она достала из сумки маленький подсвечник – крохотную гильзу на подставке в виде дубового листа – и связку тоненьких церковных свечек.
Это была многолетняя добровольная обязанность. Всякий раз, как делалось темно, она ставила на подоконник свечу – путеводный знак для сына, который связался не с той компанией и на волне смуты, захлестнувшей страну, исчез. Ушёл куда-то со своими вечно удивлёнными глазами, весь ушёл, без остатка.
10.
Бердин деловито приколачивал к стене своего нового кабинета грамоты черепецкой администрации, фотографию писателя Скворцова с автографом и часы с логотипом торгового комплекса, который давал одно время рекламу. Настроение было ясным, в душе цвели одуванчики.
Он полюбовался на свою работу, сел и снова погрузился в инструкцию, оставленную Серафимом. Судя по её подробности, работодатель, похоже, действительно не планировал больше появляться в редакции. Оно и к лучшему: лишний контроль – лишние переживания.
В документе описывался город и упоминались люди, к которым можно обращаться за информацией. Напротив каждой фамилии стояла краткая характеристика. Например, указывалось, что начальник сборочного цеха Эйфман «контактен, но неуловим». Или специалист отдела по работе с отделами: «излишне лапидарен он, но всё ж не чужд коммуникации вербальной». Напротив имени одной дамы значилось: «женщина с косой».
На планёрке Бердин с великодушием сеятеля облигаций раздал темы и контакты и теперь прислушивался: журналисты звонили, договаривались о встречах.
Солнечный свет мигнул: за окном пролетело облако разноцветных воздушных шаров, послышались радостные крики и аплодисменты. Бердин выглянул: внизу стояла большая толпа людей в деловых костюмах. Они смеялись и хлопали в ладоши. Некоторые возбуждённо подпрыгивали.
Когда Редьярд, иной среды взыскуя, вышел на лестницу, из массы пиджаков, кишащей пролётом ниже, выскочил и поднялся к нему человечек с усталыми глазами.
– Добрый день, коллега, – приветствовал он тихой скороговоркой. – Вы из редакции? Хорошо, что газета снова будет выходить, нам её не хватало. Валерий Вилкин, директор менеджерской фирмы, – он протянул узкую влажную ладошку.
– Очень приятно, – сказал Князев. – Да-да, я обратил внимание на вашу компанию. Деловая тематика в том числе и по моей части.
– Прекрасно, – грустно и устало улыбнулся человечек. – Я всегда открыт для общения. Вы ведь зайдёте к нам, да? Я готов дать интервью. Вы побеседуете с нашими сотрудниками. У нас получится отличный текст.
Редьярд затосковал.
– Скажите, а зачем ваши сотрудники запускают воздушные шары? – спросил он.
– О-о-о, – кивнул человечек, и лицо его стало одухотворённым, – это традиция! Она появилась много лет назад, когда основатели фирмы решили пойти в Белую Степь и узнать, нельзя ли как-то использовать её ресурсы и потенции. Они отправились в путь с большим запасом карандашей, блокнотов и скрепок, но в первый же день заблудились в лесу между городом и выходом из кратера. Как вы понимаете, проблема в том, что расположение деревьев в лесу нельзя назвать оптимальным, они растут незапланированно, там кто угодно заблудится…
– …Наши предки брели, страдая от голода и холода, – дрогнувшим голосом продолжал человечек. – Они потеряли запонки, испачкали рубашки. Галстуки пошли на перевязку кровоточащих царапин. И вот в ночи самый главный менеджер принял решение. Он велел сложить все блокноты и карандаши в кучу и поджечь их. Когда пламя костра озарило лица скитальцев, они встали в круг, взялись за руки и стали петь корпоративный гимн…
Голос сорвался, человечек быстрым движением приложил руку к лицу.
– Простите, – сказал он прочувствованно. – Я всегда волнуюсь, когда рассказываю эту историю… После того, как гимн был пропет пять раз, менеджеры почувствовали необычайное одушевление. Тут же была проведена планёрка, на которой решили идти прямо и никуда не сворачивать. Выбранная стратегия оказалась верной, они вернулись в город. Мы храним память об этом ярком примере эффективного поведения в кризисной ситуации и каждый день запускаем в небо воздушные шарики, каждый из которых что-нибудь символизирует.
– А что, – заинтересовался Редьярд, – неужели так трудно добраться до Белой Степи?
– Нам совершенно очевидно, что там нечего оптимизировать, а всем остальным ясно, что там просто нечего делать, – уклончиво ответил человечек. – Ах да, есть один старик на заводе, он туда постоянно наведывается… но это вы лучше у заводских спросите.
Прощально махнув рукой, он сбежал по лестнице вниз и пропал в массе пиджаков.
– Вот она, погибель моя, – вздохнул Князев.
Чтобы отвлечься, он стал думать о сумке, которую предстояло разобрать. В ней были сокровища радиста – предметы из разных поездок.
Массивная пивная кружка, которую подарили в одной портовой забегаловке в Австралии – очень полезная в холостяцком хозяйстве вещь и весьма востребованная.
Чернильница, изображающая арапа с кувшином, и подсвечник в виде рыбы были куплены в Марселе, чьи улицы заполнены ветрами. Этот прекрасный город нарос, как моллюск, на южное побережье Франции, ощетинившись мачтами бесчисленных яхт.
Чучело краба – так странно: раньше это маленькое существо бегало глубоко под водой, далеко отсюда, и видело своими странными глазками синий туман и зелёный туман, пряталось в песок и спало среди камней. Какой океан был его родиной? Тихий? Индийский? Атлантический?
Вспоминая, Редьярд улыбался.
11.
Нину Авдотьевну ждали.
Когда она подошла к бюро пропусков и назвала своё имя, из окошка тут же вылезла рука с пропуском: ламинированный картон с фотографией, сроком действия на год. Стародумова удивилась своему снимку – когда успели, откуда взяли? – но не стала уточнять.
На проходной сидели старушки в военной форме, с надписью «Охрана» на рукавах. Они вполголоса беседовали, не обращая на проходящих никакого внимания.
– …а потом она сфотографировалась голой, и тут же потеряла уважение коллектива… – донеслось до Нины Авдотьевны.
Женщина робко миновала проходную и остановилась.
Перед ней расстилалось заасфальтированное поле, на котором лежали гигантские прямоугольники цехов. Однотипные здания, сложенные из грязно-серых железобетонных плит, сдержанно гудели, и Нина Авдотьевна вспомнила, как мальчишки в детстве сажали больших блестящих жуков в спичечные коробки.
Между зданиями сновали электрокары, перевозя детали и ящики, мелькали рабочие в синих робах. Указывали в небо кирпичные трубы. Судя по движению дыма, наверху было безветренно, зато по земле вдоль долгих стен с выщербленной плиткой сновал сквозняк, обдирая бока об острые углы и трепля зелёный драп, которым были затянуты стены некоторых зданий.
– Извините, – обратилась Нина Авдотьевна к охранницам. – Я здесь впервые, мне нужен кузнечно-механический цех.
– А вон он, – сказала одна старушка. – Видите, угол торчит из-за угла.
Женщина побрела по асфальтированной дорожке. Ей казалось, встречные смотрят на неё с подозрением, чувствуя инородность. Старик с кустистыми бровями. Парни в белых халатах. Рабочие в спецовках. Краснолицая тётка.
«Мозолистые руки и трудовая родословная, прадеды и деды, вечно голодные люди с большими ладонями, жрецы камня и металла, сгинувшие в копоти и грохоте…» – сумбурно думала Нина Авдотьевна.
У рабочих была одна общая походка – шаркающая, неровная, разболтанная, точно в человеке стёрлись механизмы, провисли канаты, тело износилось и скособочилось, как старый усталый дом. Так шли и старые, и молодые – первые уже не могли иначе, а вторые неосознанно перенимали и вживались.
Наверное, полагала женщина, такая походка происходит от долгого общения с железом. И всё живое и невечное, что есть в человеке – кости, мышцы, жилы, – деформируется в контакте с тяжёлой непроницаемой материей, принимая обратный импульс кузнечного или токарного усилия. И постепенно в костях образуется хрупкость, прозрачность и сквозящая печаль.
Здание цеха оказалось кирпичным, с бетонными вкраплениями. С торцевой стороны в каменную плоть впивались чёрные металлические перекрытия, на которых лежала крыша – паутина каркаса, квадраты стекла, свет и воздух. По фасаду полоскались обрывки ремонтного драпа.
– Кузнечно-механический цех, – вполголоса прочитала Нина Авдотьевна табличку. Железная дверь тяжело поддалась, и на женщину дохнуло мраком, пламенем, грохотом. Клубился пыльный туман, вспышки и отсветы играли на стенах, в воздухе стоял гул, слышались крики. Далёким видением встали безмятежные поля с картошкой и трактористами.
Стародумова побледнела. Отступила на два шага и оглянулась: ей стало стыдно. По счастью, рядом никого не было.
– Да что же это такое, – сказала она, негодуя. – Взрослый человек, а боюсь как школьница. У меня же годы работы за плечами. Столько текстов написала об аграрном хозяйстве… и о производстве тоже напишу. Какая разница о чём писать, принципы везде одни и те же. Ударный труд, ответственные заказы, большие планы, дружные коллективы, высокое качество, трудовые династии…
Дверь открылась – выглянул человек лет пятидесяти, худощавый и неулыбчивый, с взлохмаченными соломенными волосами.
– Нина Авдотьевна? – осведомился он. – Пётр Андреевич Крылов, начальник цеха. Мне позвонили с проходной, сказали, вы идёте.
У Нины Авдотьевны отлегло от сердца. Она пожала протянутую руку, улыбнулась и отважно шагнула в жаркий мрак, наполненный сполохами и криками.
Надпись на клетчатой странице, ровная, аккуратная, неторопливая. К ней пристали частицы засушенного цветка.
Никогда не знаешь, за каким углом окажется предназначенная тебе кроличья нора. Многие ищут её всю жизнь, и только в конце выясняется, что она всегда была рядом, только руку протяни.
Чтобы ищущий не разуверился, нора иногда посылает намёки, знаки. Для окружающих это просто осколок повседневности, не несущий в себе ничего. Но сам адресат обычно улавливает посыл, пусть не всегда сразу и пусть не всегда осознанно.
Происходит это чаще всего незаметно для окружающих, потому что люди едва успевают прожить свою собственную жизнь, им совершенно некогда заметить, что у того, кто рядом, изменился цвет глаз. А если замечают и даже находят силы для вопроса, то человек, опьянённый новым пониманием, говорит что-то про осень, и ему верят, потому что на неверие нет времени.
И главное, никто не понимает, что в этот момент он обрёл новые силы, чтобы двигаться дальше – вперёд и вперёд, до тех пор, пока не окажется на краю долгожданной норы, падения в которую боится больше всего на свете…
12.
Анатолий Павлович по обыкновению был не в духе.
В этот раз причина была необъяснимого свойства: стена отторгла дипломы, часы и фотографии. Анатолий Павлович сидел за столом и смотрел в окно, и тут на Бердина всё упало. Рамка клюнула в плечо, а часы ощутимо приложили по затылку.
Редактор вздрогнул и досадливо поморщился: грамоты и фотография с автографом писателя остались без стекла.
– Это что ещё такое… – он потрогал маленькие дырочки, постучал по стене. Почесал затылок. Вздохнул. Снова постучал. Потом достал из верхнего ящика стола молоток и заново приколотил атрибуты своей власти. Они не провисели и десяти минут, причём в этот раз стена умудрилась выплюнуть гвоздики, которые зловеще просвистели над редакторской головой.
Бердин вскочил и потряс кулаками. Враг был невидим, а потому неуязвим.
К сожалению, другие участки кабинета плохо подходили для создания красного уголка. Расчёт был на то, что собеседник, сидя напротив, сможет созерцать и осознавать. Поэтому Анатолий Павлович решил проявить твёрдость и снова достал молоток.
В кабинет постучали. Бердин успел напустить задумчивость. Заглянула Саша:
– Анатолий Павлович, у вас всё в порядке?
– Да, всё хорошо. Работаю вот над планами, плюс ещё море разной документации надо изучить, договоры, отчёты, – редактор небрежно повёл рукой над столом. – Не успеваю, просто не успеваю. Зашиваюсь. У вас был ко мне вопрос?
– Нет-нет, это я так, был какой-то шум…
Девушка вознамерилась закрыть дверь, но редактор вспомнил:
– Саша, вы сегодня идёте на интервью с художником?
– Да, скоро выхожу.
– Обязательно поинтересуйтесь, с чего начался его творческий путь. У кого учился, где выставлялся, каковы дальнейшие планы. И получится хороший живой материал. Только имейте в виду, полполосы максимум. И никаких согласований. Всё, удачи.
Саша закрыла дверь – и почти сразу со стены посыпалось. Анатолий Павлович был не промах и сразу распознал ментальный конфликт. Он медленно встал, повернулся к стене и посмотрел на неё высокомерно.
– Главный здесь я, – сказал Бердин стене. – Это мой кабинет. А ты создана лишь для того, чтобы я мог повесить на тебя всё, что мне вздумается. И твоё мнение меня не интересует. Потому что ты – всего лишь стена.
Стена невыразительно молчала.
– Тебя сделали из неодушевлённых, мёртвых материалов. Возможно, когда-нибудь на тебя посмотрят с интересом лишь потому, что здесь работал я. У тебя нет своей воли, и однажды тебя снесут. Чугунная гиря, висящая на конце мощного троса, сокрушит тебя, разметает, поднимет облака пыли.
Ответа не было.
– А сейчас, – деловито подытожил Бердин, – я приколочу к тебе свои грамоты, и они будут висеть.
Он раздражённо вогнал гвоздики, развесил атрибуты своей власти и медленно, сохраняя достоинство, сел. Очередное падение не заставило себя ждать. В этот раз часы треснули и остановились, а рамочки просто распались на части. Стена злорадно молчала.
13.
– Извините, – сказал Николай старику с длинной белоснежной бородой. – Не подскажете, как пройти на улицу Кизюрина?
Старик махнул:
– Вон там свернёте и до первого перекрёстка.
Николаю предстояло найти местную старожилку и сделать о ней очерк. «Ей то ли сто двадцать, то ли двести десять, точно не помню, – пояснял Серафим в плане. – На самом деле разница невелика, после первого прожитого столетия уже не так важно, сколько там за плечами, потому что минувшее становится туманом».
За поворотом начался частный сектор. Заборы с почтовыми ящиками, скамейки у калиток, флюгеры и фонарики.
Улочка блаженно пахла ветхостью и сыростью. Клёны и тополя, склоняясь над дорогой, дарили обильную тень, редкие солнечные лучи были отчётливыми и обжигающими. Как всегда на исходе лета неистово летали и кишели насекомые, точно предчувствуя долгий сон, переходящий в смерть.
Большая лохматая собака внимательно следила за мальчиком, который старательно орудовал совочком под раскидистой ивой.
– Если зарыть куриную кость, – говорил мальчик, обращаясь к собаке, – из неё вырастет цветок, а в нём будет спящий цыплёнок.
Собака улыбалась, высунув длинный мягкий язык.
– Если будешь вести себя хорошо, – продолжал мальчик, – я научу тебя читать по крыльям бабочек. А когда наступит зима, я покажу, как надо мариновать сосульки.
Николай невесело подумал о старушке. Скорее всего, её разум блуждает в прошлом, среди воспоминаний. Наверняка у неё проблемы со зрением и со слухом, вопросы придётся кричать, а после каждого второго слова она станет терять нить и говорить не по делу, а может, и вовсе уснёт.
И ведь надо ещё как-то объяснить цель визита. Если старушка греется на солнышке, придётся кричать на всю улицу, прохожие станут прислушиваться, в окнах и калитках покажутся соседи.
– Пресса приехала! – крикнет одна хозяйка другой. Прибегут дети со сбитыми коленями и выгоревшими белёсыми волосами и станут смотреть с тупым любопытством.
Львов с раздражением повёл плечами. И увидел героиню своей публикации.
Старушка во всём чёрном сидела в тени, положив распухшие руки на палку. Казалось, она давно стала частью скамейки, пустила корни, превращаясь в дерево. Дунул ветер, взволновалась листва, и внезапный луч солнца вызолотил хрупкую паутину между палкой и туловищем – и маленького чёрного паучка.
14.
К Ивану Афанасьевичу постучали – и он сразу понял, кто это, тем более что два дня назад у него стала шелушиться кожа на ладонях. Стук был особенный, добрый и негромкий, рождённый от союза живой тёплой руки и влажного дерева.
Иван Афанасьевич на мгновение замер, а потом кинулся в прихожую и распахнул дверь. На пороге стоял Серафим. Взгляд был доброжелателен, волосы мокры: шёл дождь. Старик открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но смолчал и улыбнулся.
А потом они долго сидели в кухне, не включая света. Нагретая можжевеловая подставка и пучки высушенной мяты в углу выдыхали уходящее лето. Старик достал сухари с маком и графин с вишнёвой настойкой. Тёмно-красная жидкость побежала по чайным чашкам: стопок не было, бокалов тоже.
Преломившие хлеб и разделившие питие были спокойны и сосредоточенны, их молчание напоминало совместную молитву.
– Вот вроде бы и недолго я здесь, а кажется, столько времени прошло… – сказал наконец хозяин. – Как полагаете?
Серафим пожал плечами.
– Знаю, знаю, спрашивать бесполезно, у каждого оно по-своему… Я ещё хотел сказать о тех, кто приехал газету делать. Надо бы им помочь.
– Надо бы, – согласно повторил Серафим.
Иван Афанасьевич нахмурился.
– Хитро всё устроено, – вздохнул он. – Я, конечно, попытаюсь, если успею.
На мгновение воздух потемнел. За окном скользнула размашистая тень, кувыркнулась, взмахнув рукавами, и в пространстве остался, оседая, отпечаток бледного лица.
– Помните, вы как-то спрашивали, где бы я хотел оказаться? – спросил старик и, зная, что ответа не будет, продолжил: – Я выдумал себе озеро в горах. Представьте: высокая скала, по которой никто никогда не забирался, а на самом верху, в зубчатой каменной впадине, на подушке из синего снега – озеро, ледяное и чистое. За всё время бытия в нём отражалось только небо – облака, звёзды, метеоры. Оно особенное: ни один взгляд не касался этой воды, никакие слова не звучали над ней.
Старик встал и подошёл к окну. Метрах в пяти темнела крыша, за ней вставал ещё один дом, высокий и узкий, с грязно-серыми стенами и маленькими окошками, а далеко в дождливом пространстве темнели здания завода.
– С вами одно удовольствие разговаривать, – сказал Иван Афанасьевич. – Вы удивительно точно умеете молчать. Знаете, как это мучительно, когда отовсюду торчат лишние слова? Точно обломки арматуры в заросшем котловане…
– Мне нынче снился странный сон, – снова заговорил он. – Будто у меня в комнате трое часов. На стене, на полке, на столе. И вот смотрю на них и вижу, что первые безнадёжно отстали, вторые невероятно спешат, а третьи просто стоят. И тогда я начинаю соображать, как же узнать правильное время, и вообще – возможно ли это…
Серафим с улыбкой покачал головой, медленно встал и вышел.
Тихо щёлкнул дверной замок.
Иван Афанасьевич распахнул окно и высунулся в ливень. Пахло дождём, озоном, травой, землёй в горшке на подоконнике, морем. Пахло уходящим летом.
Непрерывное бурление воздуха и воды подтачивало город, словно стараясь сдвинуть его с насиженного места. Огромный улей цепко держался за землю пуповиной труб и проводов, корнями деревьев – и делал вид, что будет жить вечно.
15.
Едва Нина Авдотьевна переступила порог цеха, её ошеломило шумом и вспышками. Она прибавила шаг, стараясь держать диктофон поближе к Петру Андреевичу. Его речь, проходя сквозь шум, теряла связность.
– Инновационный задор… важнейшие задачи, стоящие перед и после… в третьем квартале… непрерывное обновление с целью…
Он остановился возле станка. Потёртый корпус в тускло-зелёной краске шёл масляными пятнами, резцы сверкали бессонным стальным блеском. Рабочий хмуро спустился со своего пьедестала.
– Здесь обрабатываются детали… – кричал Крылов. – Сюда они поступают после печки, а отсюда идут дальше, на механику, в соседний пролёт…
Оператор станка бессмысленно смотрел на Крылова и Нину Авдотьевну и не уходил. Стоял, медленно вытирая руки грязной тряпкой.
– Ведущий работник… Николай Федорчук… высокая культура производства… – Крылов тыкал пальцем в оператора. – Коля, приготовься, у тебя сейчас интервью будут брать… ха-ха-ха!.. ладно, это всё потом… пойдёмте дальше…
Они шли, углубляясь в шум и непроглядную пыль. То справа, то слева летели весёлые фейерверки, и люди, похожие на космонавтов, медленно, как на Луне, махали им большими рукавицами.
Иногда из тумана выныривали голые по пояс титаны, у которых вместо рук были газовые горелки, а на мускулистых телах темнели шляпки шурупов. У некоторых из груди торчали разноцветные проводки, ведущие к аппаратам на спине.
На разметочной плите стояла девушка с линейкой, в синем халате и коротких шортах. Она оглянулась, и журналистка увидела белый зрачок, подёрнутый дымкой слепоты.
Время от времени Крылов останавливался, кричал непонятное и тащил Нину Авдотьевну дальше, а она, оглушённая, шла, вцепившись в диктофон.
Из-за станка, на котором вращалась огромных размеров деталь, вышел высокий человек, волоча за собой пучок стальных тросов. Следом семенил карлик с глазами навыкат. Судя по мимике, он что-то говорил, высовывая язык и часто сплёвывая. Увидев Крылова, карлик тут же нырнул в туман.
– Сидорчук! – заорал начальник цеха. – Стой, клёпаная спираль! Ждите меня! – крикнул он Нине Авдотьевне и убежал.
Гигант с пучком тросов посмотрел на журналистку и двинулся дальше. Вскоре его фигура скрылась в производственном мареве, потом исчезли хвосты тросов, а затем стих и гул шагов.
Внутри у Нины Авдотьевны похолодело. В этом странном уголке реальности, где всё было многотонным и стальным, всем, кто смертен и хрупок, требовалось сохранять предельное внимание.
Через десять минут женщина затосковала. Через полчаса она поняла, что про неё забыли, и решила пойти обратно, но не могла определить направление, а спросить было не у кого.
Проплутав, она поднялась по лестнице на обширную площадку на уровне второго этажа. Отсюда цех казался ещё более ирреальным. Он жил своей жизнью, контролируя движение и сверкание каменных и металлических конечностей и отростков, с грохотом перемещая тяжёлые конфигурации и впиваясь резцами в сверкающую плоть.
Под высоким потолком ползали краны, в их кабинах белели неотчётливые лица. Над большой цилиндрической деталью колебался синий свет – внутри засели сварщики в чёрных капюшонах палачей. По рельсам, ведущим в никуда, пробегали тележки.
И вдалеке, через три пролёта, через две железные дороги, за пятью крупными станками, стоял стол. Обычный деревянный стол с настольной лампой – на небольшой площади, иссечённой рельсами, среди всего большого и железного. За ним сидел человек, читал газету и неторопливо отхлёбывал из маленькой кофейной чашки.
И он сам, живой и спокойный, и лампа, и чашка, и газета – всё это было настоящим чудом среди чёрных стальных гигантов, свершающих свои оглушительные священные обряды в гулкой бездне, в синих лучах и оранжевых искрах.
16.
В списке адресов, оставленном Серафимом, говорилось, что от конечной остановки автобуса до дома художника Георгия Бирюкова не больше десяти минут ходьбы, но Саша шла уже полчаса. Дорога, ползущая вверх, утомляла девушку одним своим видом: не было конца этой пыльной земляной ленте, изъеденной дождями.
Вдоль обочины тянулись редкие двухэтажные дома грязного цвета, окружённые чахлыми деревцами, за которыми просматривалось поле с разноцветными огромными сорняками. Иногда на обочине попадались обломки свай, ржавые балки, чернели наполовину вкопанные шины.
Саша остановилась. С достигнутой точки открывался новый вид. Городок напоминал груду цветных камней, обнаруженных в старой шкатулке на чердаке. В нём почти не было типовой застройки, в архитектуре царил удивительный разнобой, преобладали здания, напоминающие доходные дома, и строения барачного типа.
По центру, в рыжеватом облаке выбросов, темнел заводской комплекс, волнами от него расходились кварталы. Они краснели черепичными крышами и серели деревянными, пышно зеленели пятна частного сектора.
Кое-где виднелись кубы и прямоугольники промышленных зданий, стальные футляры складских амбаров. Едва заметная железная дорога, изредка показываясь среди зданий и зелени, соединяла производственные территории с заводом.
Город рос каскадом, постройки покрывали стены кратера, точно колонии грибов, и с высоты казалось, что некоторые дома нарастают один на другой, наползают, сплетаются корнями и трубами, образуя пёстрые сгустки, застывшие в невероятной чехарде окон, дверей, балконных решёток.
«Наверное, трудно не быть художником, когда живёшь высоко, когда находишься ближе к небу, чем многие другие, – рассеянно думала Саша. – А хорошо бы тоже так – забраться повыше и ни о чём не тревожиться. Интересно, неужели в таком маленьком городе можно зарабатывать на жизнь рисованием?»
Она прошла ещё немного, подъём неожиданно закончился и перешёл в ровную площадку, заполненную сочной зеленью крон и кустов, невысокие здания белели за деревьями. Откуда-то слева выныривал неглубокий ручеёк и, продолжая путь в траве, рассекал пространство надвое, стремясь в сторону хребта, мимо домов.
На берегу ручейка молодая женщина в белой блузке кормила грудью ребёнка. Напротив неё, на другом берегу, стоял, опираясь на длинную палку, кудрявый юноша в красной рубахе. Оба они разом обернулись.
– Добрый день, – поздоровалась Саша, стараясь выровнять дыхание. – Где-то здесь живёт художник Георгий Бирюков, не подскажете, где можно его найти?
Женщина мягко улыбнулась. У неё были тёмные, широко посаженные глаза.
– Вон тот дом обойдите справа, – махнула рукой. – Георгий во дворе.
Художник сидел в шезлонге перед кирпичной стеной. Крепкий мужчина лет сорока пяти, с проседью. Широкое, хорошее лицо.
– Вы из газеты, – сказал он и вздохнул. – Здравствуйте. Я ждал.
– Вас огорчает, что я из газеты? – растерянно спросила девушка.
– Забудьте, пустое. В конце концов, ваши визиты позволяют трезво оценить ситуацию.
– Мои визиты? Но я первый раз…
– Знаю, знаю. Имею в виду, что и до вас журналисты приходили, – художник наклонился, достал из лежащей перед ним сумки папку и протянул её. – Прошу. Здесь всё.
– Что «всё»?
Художник посмотрел с сожалением.
– В этой папке лежат статьи про меня. Кроме того, там есть листок, на котором я рассказал о своей текущей работе и творческих планах. Я подготовил с десяток таких папок, чтобы сэкономить время – и своё, и журналистское. Хотите – забирайте, хотите – почитайте сейчас. Мне всё равно. Текст на утверждение присылать не надо, я заранее согласен со всем, что вы напишете.
Саша молча села на большой камень, лежащий рядом с шезлонгом, и раскрыла папку.
– А картины ваши можно посмотреть?
– Боюсь, в этом нет смысла, – устало сказал художник. – То, что я пишу, можно расценить лишь как попытку понять материал.
– Но вы же художник?
– Меня так называют, потому что – формально – я вписываюсь в представления людей о художниках. У меня есть кисти и краски, в квартире царит обязательный беспорядок… ну, вы понимаете: повсюду рамы и холсты, листы с карандашными набросками, мольберт… всё как полагается… к тому же я несколько раз давал пейзажи для выставки в городской библиотеке. Именно поэтому раз в полтора года ко мне приходят из газеты.
Саша почесала кончик носа.
– Не берите в голову, – сказал художник. – В этой папке всё написано. Что я делаю, что чувствую, как мне это удаётся. Присаживайтесь, пожалуйста, – он убрал со стоящей рядом табуретки пустую кружку в кофейных подтёках.
Девушка погрузилась в чтение, бегло просматривая материалы. И где-то на пятой публикации нашло до озноба неприятное чувство – словно она куда-то опоздала или упустила что-то важное. Как будто долго шла не туда. Или – что ещё хуже – её восприятие пространства оказалось искажённым, и дорога вверх на самом деле вела вниз, а то и вовсе по кругу.
Она вдруг поразилась безликости текстов. Различия касались лишь структуры, но не сути: бодрый, кукольный марш одних и тех же пустых словоформ. Статьи не изнывали под благословенной тяжестью смысла.
«Богата наша земля талантами. И художник Бирюков – яркое тому подтверждение…»
«Немало талантливых людей живёт в нашем городе. Один из них – художник Бирюков…»
«Среди жителей нашего города встречаются настоящие таланты. Это понимаешь сразу, как только знакомишься с творчеством Георгия Бирюкова…»
Листок, заполненный Бирюковым от руки, был составлен в той же манере:
«В настоящее время работаю над серией картин. Имею большие творческие планы. Подумываю о персональной выставке».
Саша осторожно скосила глаза: человек, заранее согласный с тем, что о нём напишут, рассматривал стену. Если его спросить, он ответит, а если не спросить, промолчит: оба варианты были ему знакомы, и ни один никуда не вёл. Если только… если только не задать правильный вопрос. Или разделить молчание, как делят трапезу: присоединиться, промолчать правильно, уместно.
– Почему вы так пристально рассматриваете стену? – спросила Саша.
– Решили усложнить задачу? – улыбнулся мужчина. – Вы хотите, чтобы я ответил?
Саша кивнула.
– Я люблю на неё смотреть, потому что она прекрасна. И всегда другая. Эта фактура, эта игра теней и оттенков в разное время дня и года… при солнечном, лунном и звёздном свете, в жару и во время дождя… Летом она тёплая и шероховатая – мне нравится проводить по кирпичам рукой, закрыв глаза. Вы знаете, иногда с закрытыми глазами можно получить больше информации для картины, чем если всматриваться… Стена особенно хороша и тревожна зимой, когда снег забивается в щели. Вы любите Брейгеля? Он знал о зимних кирпичных стенах больше, чем кто-либо. Его картины, даже те, где просторы и люди, это настоящая ода стенам. Он гениально чувствовал кирпич.
– Можно я с вами посижу, посмотрю немного? – спросила девушка.
Художник поднял брови.
– Дело ваше, – сказал он. – Попробуйте.
Редкие люди, устало белея в окнах, видели, как двое сидят неподвижно у разрушенной кирпичной стены, а тени деревьев переползают через них и стену, постепенно превращаясь в вечер.
17.
Князев медленно спускался по лестнице.
– Когда земля уже качнулась, уже разверзлась подо мной… – бормотал он.
Его лицо выражало страдание, и в этом было много эпоса и пафоса.
– …и я почуял холод бездны, тот безнадежно ледяной…
Кишащая масса пиджаков приближалась, готовясь поглотить дерзкого.
– …я, как заклятье и молитву, твердил сто раз в теченье дня…
Редьярд сделал последний шаг. И тут же утонул.
– Спаси меня, моя работа, спаси меня, спаси меня…
Его куда-то поволокло, пахло бумагой и кофе, мелькали туманные, не запоминающиеся лица. На дверях не было табличек и даже ручек, они пролетали, не оставаясь в памяти. Два кабинетных труженика, прибившись к Редьярду, как водоросли к лодке, некоторое время бурлили рядом, перекрикиваясь, потом их сорвало и унесло. В общем гуле едва различимы были обрывки реплик.
– Через полчаса штурмуем мозги в переговорной…
– Срочно подготовьте индекс удовлетворённости слесарей пятого цеха…
– Входящие, исходящие, проходящие, заходящие, текущие…
– Тот макет не утверждён, возьмите этот…
Сначала Князев пробовал бороться. Он сжал кулаки и пытался противостоять течению. Несколько секунд ему удалось удерживаться на месте, но потом опять закружило. Мягкая рука, вынырнув из тьмы, взяла его за локоть – и он остановился. Пиджаки по-прежнему кишели, но уже не уносили. Это был Вилкин.
– Очень рад, – сказал директор. Голос у него был по-прежнему приглушённый, как ночная лампа, с усталой хрипотцой. – Пойдёмте поговорим. Конечно, времени нет совершенно, но ладно, постараемся что-нибудь придумать…
В приёмной Вилкин остановился возле миниатюрной секретарши, окутанной ароматом свежего лака. Чёрные волосы, собранные в хвостик, превращали её голову в запятую. Девушка впилась в Князева быстрыми глазками-точками.
– Людочка – наша гордость, – представил Вилкин. – Начинала как менеджер по талантам, доросла до правой руки руководителя. Мы сейчас обдумываем проект создания газеты для профессионалов, и я хочу, чтобы Людочка была главным редактором. Она ответственная и активная, а значит, сумеет.
– Сумею, коль скоро есть такая задача, – подтвердила Людочка. – Я просмотрела разные издания и хорошо поняла, как они делаются. Это несложно.
– Вот видите, – гордо сказал Вилкин. – Вы, пожалуйста, держите с ней контакт, как знать, может, и вы поучаствуете в нашем издательском проекте?
Редьярд сделал неопределённое движение головой и плечами, Людочка полоснула его тонкогубой улыбкой и протянула визитку.
– Я уверена, что мы сработаемся, – сказала она неровным, высоким голосом, который то проваливался, то взлетал. – И вместе сможем создать яркий продукт!
Оказавшись в кабинете, Вилкин немедленно утонул в огромном кресле и вытащил откуда-то из-под стола бутерброд невероятных размеров.
– Вы меня, пожалуйста, извините, – улыбнулся он устало. – Всё дела-дела, не успеваю обедать, приходится совмещать.
– Ничего-ничего, – сказал Редьярд, изучая портрет градоначальника за креслом директора: работа была выдающихся размеров.
– Имейте в виду, – заявил Вилкин, откусывая. – Я ничего просто так не согласовываю. Мы ценим свою репутацию, для нас каждое слово имеет значение. Не сомневаюсь в вашем профессионализме, – он снисходительно улыбнулся, – но мы ещё ни разу не утверждали текст без исправлений.
Князев представил, что колет Вилкина булавкой, и тот, со свистом выпуская воздух, носится под потолком, как воздушный шарик.
– Итак, – прошамкал директор набитым ртом. – Мы работаем, чтобы сделать мир прекраснее, а это великая миссия! Мы генерируем гигабайты идей, рисуем схемы и графики. В нашем штате трудятся лучшие эксперты. Нам есть чем гордиться.
Он сделал паузу и снова впился в бутерброд.
– А… – сказал журналист.
– Вопросы логистики, – понял Вилкин, доставая новый бутерброд. – Детали, перевязанные ленточками, грузятся в вагоны и отправляются в порт, это недалеко, километров десять. Вся цепочка работает благодаря нам. Точнее, она работала и раньше, но без обоснования, что создавало риски. Всего за полгода мы разработали необходимую концепцию, и теперь транспортный процесс хоть и замедлился, зато стал намного надёжнее.
– Порт, – повторил Редьярд. – Вы сказали: порт. А что за порт, можно подробнее? Речной, морской? Где находится?
– Вы спрашиваете об информационной безопасности, хороший вопрос, – оценил Вилкин. – У нас создан отдел по секретам, который занимается всем таким. Город изначально был закрытым, сами понимаете, да и сейчас ещё есть вещи, о которых нельзя говорить.
– Вы сказали про порт…
– Отвечаю: самой актуальной задачей остаётся борьба с закоснелым ханжеством и тотальным консерватизмом в заводской среде, – заявил Вилкин. – Конечно, это ужас. Они же работают безо всяких стратегий, странно, что завод до сих пор не остановился. Наши эксперты не раз отправлялись проповедовать, но тщетно. Посмотрите, что мы получили буквально на днях.
Редьярд взял листок и не без труда продрался через корявый кустарник почерка:
«Шлём вам, лодырям, обещание испаскудить рожи, в чём и заверяем. Не ходите больше. Нет пользы от вас, а только время тратится. И как давеча вы у станков стояли и советовали, не надо этого ничего. Мы сами себе профессора и план выполняем. А вы ни фрезеровать, ни вальцевать не умеете, даже если и с хорошим инструментом. А языками трепать мы и сами горазды. С трудовым приветом, коллектив седьмого сборочно-сварочного».
– Интересный слог, – заметил Князев, чувствуя глубокую симпатию к авторам. – И всё-таки я повторю, по поводу порта…
– В последнее время появились подвижки, – невозмутимо продолжил Вилкин. – Нам удалось создать условия, в которых на заводе завёлся Акционер. Это современный, эффективный управленец, у него чёрный костюм и уверенная поступь. Недавно мы обосновали проект оформления готовой продукции для повышения лояльности клиента. Теперь заводчан обязали перевязывать наиболее крупные детали розовыми ленточками. И это лишь начало. Следующим этапом станет создание отдела сдувателей пылинок. Заказчику неприятно получать пыльные детали, это плохо влияет на его лояльность.
Князев смотрел с неприязнью и тоской. Вопросы о порте уходили в песок, негодный человечек говорил только то, что нужно ему.
– Что ж, я рассказал вкратце о нашей компании, а теперь простите, столько дел, столько дел, – Вилкин стряхнул крошки с пиджака и снял трубку: – Коллега, к вам сейчас подойдёт журналист, расскажите ему о работе вашего подразделения, а потом передавайте по цепочке. Да-да, через все отделы!
Он положил трубку и хищно улыбнулся.
18.
– Ефросинья Харитоновна? – несмело спросил Николай.
Старуха не ответила. Её лицо утопало в таком количестве морщин, что даже нельзя было сказать с уверенностью, открыты ли её глаза.
– Ефросинья Харитоновна? – повторил Николай.
– Бабушка плохо слышит, надо громче говорить! – послышалось рядом, и он вздрогнул, увидев за калиткой девушку лет восемнадцати. – Вы из газеты?
– Как вы догадались?
– К нам почти каждый год журналисты ходят, – пожала она плечами, протягивая руку, хрупкую и тёплую. – Алина.
Отец – высокий и крепкий, мать – красивая, располневшая после многих родов. Харитон Трофимович и Мария Евдокимовна, ещё такие сильные, такие надёжные и всемогущие. «Фрося, – говорит мать, – зови давай всех к столу». Стол – длинный, из тёмного дерева. На одном краю зазубрины – Сенька, самый младший, баловался, ножом наковырял, пока тятя не видел. Светлые занавески на окне. Тёмные образа в углу. «Благодарим Тебя, Господи…» Харитон Трофимович заканчивает молитву, все крестятся. Молитва перед едой, она самая простая. А есть ещё много других, тёплых, как свечи, мягких, как куличи, красивых, как золотые купола. Не все слова понятны, но все согревают. Почему от тёмных образов светло, почему от непонятных слов всё делается ясным и понятным?..
– К сожалению, с бабушкой очень трудно говорить, она теперь очень редко отвечает – сказала Алина. – Сейчас попробую… Ба-буш-ка! Из газеты пришли!
Сельская школа стояла на другом краю села, а село было большим, пока пройдёшь, уже и заскучать успеешь. А если повторять урок, тогда идти интереснее, главное по сторонам смотреть. У Евдокимовых гуси щипучие, а перед поворотом к школе живут Фёдоровы, у них кобель брехливый. На цепи, конечно, сидит, но всё равно страшно: глаза у него волчьи, такого отпусти, сразу съест…
В школе хорошо. Учителя очень хорошие – Надежда Терентьевна и Алексей Андрианович. Добрейшие люди. «Не будьте жуликами, ворами», – часто приговаривает Надежда Терентьевна. Иногда приходит батюшка, рассказывает про Святые Писания. Только четыре класса успела окончить…
– А сколько Ефросинье Харитоновне лет? – спросил Николай.
Алина склонила голову и улыбнулась:
– Не знаю. Документов нет, а сама бабушка давно забыла. Я ей правнучка.
Ссылали всех, кто хорошо работал и знал молитвы. После ссылки мы с мужем в город приехали, он работал кочегаром, а я хлебопёком. Ещё я была мукосеем, тестомесом, разделочником, пекарем. Хлеб я пекла по своему рецепту. Делала так. Дрожжи разведу, положу в квашню, воды налью, сыпану ложку сахара и ложку соли. Замешаю и на следующее утро пеку в духовке. Хлеб у меня хороший получался.
Николай вздохнул и выключил диктофон.
– Похоже, не получится интервью записать.
– Бабушка много историй знает, – сказала Алина. – Просто, похоже, она их все уже выговорила. А теперь вот молчит. С ней пару лет назад интервью записывали последний раз… Ладно, пойдёмте, я вас чаем угощу.
В избе пахло деревом, цветами и ношеной одеждой. Одно из двух окон было распахнуто, в него заглядывали крупные бутоны пионов, между заклеенными рамами другого окна на белой полоске вате лежали старые новогодние игрушки, хрупкое стекло, поблекшая радость праздника. На небольшом столе, покрытом клетчатой исцарапанной клеёнкой, стояла коробка с тусклыми вилками и ложками.
Одну из стен сверху донизу покрывали карманные часы, висящие на цепочках. Их было несколько десятков – настоящий ковёр из шелестящих механических моллюсков. Часы в основном были однотипные, круглые, серебристые, с распахнутыми верхними крышками. Имелись и другие модели, для наручного ношения, серебряного и золотого цвета, с белыми, синими и красными циферблатами. Крупные мужские выделялись среди миниатюрных женских.
– Дарят, – пояснила Алина. – Это тоже наша семейная история, которую все журналисты записывают. Однажды у соседей ушёл дед…
– Умер? – уточнил Николай.
– Нет-нет, я же говорю – ушёл. Своих детей у них не было, и они решили подарить мне его именные часы. Вот они, с самого начала здесь висят. Потом как-то зашла одна соседка, увидела их и решила подарить мне часы, которые остались у неё от мужа. Примерно таким же образом и остальные появились. Люди заходят в гости, видят, что у меня тут такая коллекция, думают, что в этом что-то такое есть, ну и дарят мне иногда. Вот, целая выставка получилась…
Николай осторожно взял одни часы – круглая прохлада, белая тяжесть, – закрыл крышку и прочитал надпись. Получателем подарка был некий Василий, а более поздняя гравировка уточняла дату его ухода.
– Так я постепенно увлеклась часами. Сначала просто собирала, а потом заинтересовалась их устройством, научилась в них разбираться. Иногда даже принимаю на ремонт. А ещё, когда есть время, люблю ходить вдоль берега, там встречаются небольшие механизмы, которые можно использовать при ремонте часов. Не знаю, откуда они берутся в море, но оно их периодически выбрасывает… Хозяйство, разумеется, на мне… всё не успеваю, но соседи помогают… Кстати, хотите квасу? У меня свой, домашний.
Алина достала из тумбочки литровую банку с мутно-коричневой жидкостью, внизу осадок, сверху – пена, горлышко обмотано марлей и перехвачено чёрной резинкой. Запахло кислым.
Николай наблюдал украдкой: тонкие руки, гибкие пальцы. Он вдруг ощутил разницу, которая была между ним и этой девушкой. Она несла на своих хрупких плечах дом, ходила к морю, препарировала на своём столе само Время. Что делал он: складывал буквы, не имея при этом цели выложить слово «Вечность».
– У вас, наверное, совершенно нет времени, а тут ещё я с этим интервью, – сказал он.
– А, не переживайте. Пустяки. У всех своё дело на этой земле. Кто-то картошку копает, кто-то на скамейке сидит, кто-то интервью записывает…
– Вы говорили про разных людей, которые ушли. Я уже слышал это слово, и не раз. Все вокруг говорят о каком-то уходе. Может, вы мне поясните, о чём речь?
Алина удивлённо пожала плечами.
– А что тут пояснять? Иногда человек получает возможность уйти – и уходит. А бывает, что хочет, но не может. Вот как моя бабушка.
– Но как уходят, куда? Пешком, на машине? В другие города?
– Да ведь все по-разному, как сказать… И у вас тоже есть шанс. Воспользуетесь им, так и узнаете, как оно бывает.
– А примеры можете привести? Ну хоть какие-нибудь?
Алина вздохнула, села и побарабанила пальцами, собираясь. Потом посмотрела на Николая – долго и с сомнением.
– Я лишь условно и примерно знаю, в какую сторону надо идти, чтобы достигнуть цели. И если в середине пути мне по какой-то причине придётся упасть, я не смогу объяснить направление тому, кто об этом спросит. И не дай бог идти по моим следам. Вообще ходить по чужим следам – занятие бессмысленное. Следуешь за кем-то, а он достигает середины снежного поля или болота и всё, уходит в бессознательное. А всё потому, что дорога каждому даётся своя, и пройти по ней может только один человек. Все прочие соприкасаются или пересекаются, но дорога в любом случае пропустит только одного. Поэтому все мы от рождения бесконечно одиноки.
Отбросила прядь со лба, провела руками по лицу.
– Извините, устала. Так бывает. Иной раз ничего, а бывает, вот как сейчас, только начнёшь объяснять – и накатывает. Ищите вопросы. Все ищут ответы, но это ложный путь, ответы – дело второе, главное – вопросы, ищите их.
19.
Бердин получил письмо от Серафима. Хмурый почтальон вошёл без стука, положил бумажный прямоугольник на стол и вышел бессловесно.
«Порт! – писал Серафим. – Я подумал и решил, что надо написать о работе порта. Пошлите Редьярда Князева к Морю».
Редактор прошёл в соседний кабинет и остановился напротив Редьярда. Тот имел вид несколько помятый и расстроенный.
– Редьярд! – сказал Бердин. – Я посовещался с заказчиком, и мы пришли к мнению, что сейчас целесообразно подготовить материал о деятельности городского порта. Тема поручается вам. Съездите, узнайте у администрации итоги полугодия, дальнейшие планы. Постарайтесь установить хорошие контакты.
– Порт! – встрепенулся Редьярд. – Это замечательно! А как туда добраться?
– Вот, – Бердин протянул листок. – Через два часа у северного выхода с заводской территории вас будет ждать Гавриил Романович Черепанов.
– «…мужчина неопределённого возраста, полный, усатый, в очках и синей форме…» – прочитал Князев. – Интересный портрет.
– Про планы спросить не забудьте.
Ровно через два часа Гавриил Черепанов, усатый и полный мужчина в форме железнодорожника с золотым значком в петлице, крепко пожимал Редьярду руку. Железная дорога, идущая от заводских ворот, утопала в тумане.
– Я журналистов не люблю, – сообщил машинист, поправляя фуражку. – Пишете обычно неправильно, врёте много. Поэтому интервью не даю. Хотя мог бы рассказать много интересного. Но вы мне нравитесь. А я вообще человек не плохой, просто грубый немного. Ну что, едем?
Он торжественно поднял руку с пультом и нажал кнопку. В тишине, наполненной далёким низким рокотом цехов, послышался жалобный, скулящий скрип, ворота качнулись и поехали в стороны – тяжёлые стальные кулисы, битые молью ржавчины. За ними обнаружился тепловоз, чёрный от времени и дыма.
– Моя лошадка, – с гордостью представил Черепанов. – Прошу!
Князев ухватился за холодный поручень и, подтянувшись, прогрохотал по рифлёным ступенькам. Следом, тяжело пыхтя, залез и Гавриил Романович. В кабине было тесно и пахло маслом, но среди обступившей пустоты этот закуток показался Редьярду желаннейшим из земных обиталищ.
Он едва успел схватиться за стенку, когда тепловоз вздрогнул и медленно тронулся, волоча за собой несколько платформ с грузом. Как только хвост состава покинул пределы завода, Черепанов снова вскинул руку с пультом – и в белёсой пелене, поглотившей ворота, раздался знакомый скулящий скрежет.
– Полный восторг! – прокричал Редьярд. – На такой технике я ещё не катался. Часто ездите в порт? Грузы возите на отправку?
– Я не даю интервью, – довольно повторил машинист. – Хотя могу многое рассказать.
– Не боитесь в таком тумане ехать? Не видно ж ничего.
Черепанов расхохотался.
– А что бы вам хотелось увидеть? – крикнул он. – Вот был у меня напарник, ему в красном свете семафора глаз дьявола привиделся, он и поддал ходу. Крыша у парня поехала, еле остановили. Но я вам об этом не рассказывал, имейте в виду.
– Давно работаете на железке?
– А как же! Машинистом стал ещё в молодости. Правда, был случай, я надел чёрные очки и повесил табличку «Осторожно, машинист слепой», на меня одна старушка написала жалобу, я после этого два года помощником ходил. А так уже давно работаю. И отец мой был машинистом. И дед. Очень нужная у нас специальность и ответственная. Но я об этом интервью не даю.
– Хотя могли бы рассказать много интересного, – заметил Редьярд, ёжась.
Черепанов хмыкнул.
– Осень скоро, холодает. Любите осень?
Редьярд кивнул.
– Она ясная, чистая, многое даёт понять заново, – таинственно сказал Черепанов. – Понимаете? Где-то что-то открылось, щёлкнуло, ёкнуло, и всё изменилось, сделалось острее и неизбежнее. Пространство такое прозрачное, что всё стало каким-то пронзительным и невероятно отчётливым, и от этого бывает страшно тоскливо и вместе с тем хорошо. Кажется, вот-вот что-то узнаешь и поймёшь. Если вы понимаете, о чём я. Думаю, что понимаете, просто ещё не успели об этом подумать.
Машинист замолчал и смотрел вперёд.
Воздух заметно посвежел. То ли тепловоз набрал ход, а в старой кабине сквозило из всех щелей, то ли приближалось Море. Большое, серое, долго терпящее, всё прощающее, милосердствующее – оно таилось за туманом, готовясь вдруг открыться и ошеломить пронзительным чувством свободы.
20.
Нина Авдотьевна никак не могла дойти до человека, который пил чай за уютным столом, в тёплом желтковом свете. Напугав её, мимо быстро прошагала группа людей с чёрными от копоти скуластыми лицами, в картузах и сапогах.
– На участке сборки опять замечено проявление корпоративного духа, – чеканил седоусый мастер, идущий во главе. – У входа делимся: вы двое – со мной, остальные – дуйте через сварщиков. Будьте внимательны!
Стародумова прикинула направление до человека за столом и решила идти не по дорожкам, а стороной, но снова заблудилась. Её окружали детали разных форм и размеров. Потемнело: пронёсся кран, волоча полусферическую, с короткими сосками трубок, деталь, похожую на коровье вымя.
Снова появился отряд трудовых людей, к ним подошёл человек, большие жаркие ладони, лицо в масляных пятнах.
– Как в вашем пролёте, тихо? – спросил мастер, поглаживая усы.
– Никакого покоя! – махнул рукой рабочий. – Только отвернёшься, тут же лезут, как тараканы. С карандашами, с блокнотами. Я на пару минут отвлёкся, резец менял, смотрю – на моём шкафчике уже плакаты какие-то висят, а к стене ящик подвесили, чтобы письма руководству писать…
– Вот паразиты, – посочувствовал мастер.
– Ну, что уж. Боремся. Вся агитация сорвана и отправлена в подобающие контейнеры, – доложил рабочий.
Отряд одобрительно загудел.
Нина Авдотьевна проводила их глазами и пошла, переступая, подныривая, раздвигая руками лианы из тросов, кабелей, проводов. В одном месте дорогу перегородил стальной вал, покрытый бурой замшей ржавчины. В полутьме тёмно-рыжие пятна придавали ему плюшевость.
В другом месте на пути встал станок, по которому расхаживал силач в чёрной повязке корсара. Веретено станка кружилось, из-под сверкающих резцов тянулась серебристая нить стружки. Пряжа излучала мягкое сияние.
Нина Авдотьевна не решилась обратиться к корсару, обошла станок и упёрлась в стену. Пошла вдоль и вскоре обнаружила дверь, за которой таилась небольшая прямоугольная комната, залитая ярким электрическим светом. Стены были покрыты грязно-белым кафелем, окно – плотно закрыто листом фанеры.
На жёлто-коричневом кафеле лежала картонная коробка, в которой, уткнувшись в пушистое брюхо рыжей кошки, спали три маленьких котёнка. Рядом стояли два блюдца – с молоком и рыбой. Кошка подняла голову, вопросительно посмотрела слезящимися глазами, улыбнулась и снова улеглась. Женщина закрыла дверь и побрела дальше.
– Это нелепо, – говорила она. – Так не бывает. Всего-то и надо – подготовить текст. Один маленький текст. Его можно было бы написать и не приходя сюда. Как и многие другие тексты. Все компании одинаковы. Все динамично развиваются и ударно работают. Всё это можно сказать по телефону. Всё это можно написать даже не общаясь по телефону, потому что всё, что можно про них сказать, уже давно сказано…
Ей хотелось плакать.
Ещё метров через сто пыльное облако сгустилось и превратилось в массивные ворота. Споткнувшись, Нина Авдотьевна посмотрела под ноги: это была железная дорога. А значит, свобода совсем близко! Дорога должна вести на свободу. По крайней мере, можно идти по ней и не сбиться с пути.
С замиранием сердца Стародумова открыла маленькую тяжёлую дверку в самом низу огромных ворот и шагнула в непроглядную пелену. Её обволокло туманом, оглушило свежим воздухом и ветром, запахом сырости и йода. Некоторое время она стояла, закрыв глаза и наслаждаясь. Ветер смахнул усталость, подарил надежду, погладил лицо большими холодными ладонями.
Женщина пошла по рельсам, мимо деревянных ящиков высотой в два человеческих роста, мимо контейнеров и низкорослых мёртвых деревьев. Метров через двести она поняла, что идти некуда. Туман был непрогляден, дорога могла оказаться сколь угодно долгой. Оставалось вернуться и продолжить поиски хоть одного живого человека, который умеет говорить, слышать и улыбаться.
Нина Авдотьевна зашла в цех, в чёрное ошеломительное пространство, и, услышав за своей спиной грохот закрывшейся двери, вдруг почувствовала, что смертельно устала. Она увидела скамейку, села на неё и решила, что больше никуда не пойдёт. Будет сидеть здесь, пока её не найдут. Прикрыла глаза и моментально уснула, и тут же перенеслась в удивительный мир, где много солнца и яблок. Из разжавшейся руки выскользнул диктофон.
Через несколько минут по бетонному полу пробежали глухие тяжёлые импульсы, а затем в мареве, сотканном из мельчайших металлических частиц, проступили три кубические чёрные фигуры.
Фантасмагорические гиганты медленно приближались. Они были коротконоги, мускулисты и непостижимо массивны. Они пришли из мрака, из копоти, из пламени, из тартара, из кузницы Гефеста. Их тела дышали силой и жаром. На лицах, коричневых от огня, светились добрые глаза.
Большие руки протянулись к Нине Авдотьевне и уложили её в колыбель из ладоней, заботливо оплетённую бортиками узловатых пальцев. Она ничего не почувствовала и не проснулась, высоко взлетая над бетонным полом. Двое гигантов, унося Нину Авдотьевну, уходили во тьму. Третий обернулся, не без труда взял двумя пальцами диктофон и неуклюже поспешил за товарищами.
21.
Тот, кто в чёрном пиджаке, сидел во главе длинного лакированного стола, сцепив пальцы. Напротив, на другом конце, сидел Серафим. В полутьме казалось, что над его волосами разливается лёгкое сияние. Пиджак смотрел с неприязнью.
– Зачем ты приходишь так часто? – спросил он. – Это нечестно. Я же вижу. Ты даёшь им шанс.
– Я ничего не даю. Шанс изначально есть в каждом. Тебе не о чем переживать.
– Как же! – зло выкрикнул пиджак. – Ведь ты отлично знаешь, как всё будет!
Серафим чуть наклонился и прищурился.
– А ты? – сказал он. – Ты знаешь?
– Нет! – прошипел пиджак, касаясь рукавами воротника. – Я не знаю ни прошлого, ни будущего. Но у меня есть силы, чтобы владеть настоящим.
– А тебе никогда не казалось, что ты владеешь ненастоящим временем?
– Игра слов, – ухмыльнулся пиджак, странно изгибаясь. – Я не знаю, какое количество следов вмещается в поле, но этого никто не знает. Те, кто проходят поле, никогда не возвращаются, чтобы поделиться опытом, только машут издалека и делают какие-то знаки. Но я успел понять, что есть мучительная инерция, когда душа тоскливо мечется в закоулках тяжело шагающего тела. Ты не представляешь, какие выводы я вытащил из этого знания!
– Количество шагов ведомо тому, кто создал поле, – сказал Серафим.
– Да кому оно нужно, это поле! Есть непреодолимые слабости. Перед многими достаточно поставить маленький холм, чтобы они перестали видеть далёкие горы, до которых, кстати, мало кто может дойти… И потом, что за игры? Ты на них действуешь, они видят, что где-то что-то сквозит и мерцает, а что конкретно – непонятно. Сплошной обман. А я – я даю гарантии и уверенность.
– В каждом есть предчувствие близкого выхода. Многие стремятся залезть на воздушный шар по высокой лестнице, а ты пытаешься убедить, что лестница – это и есть шар.
Пиджак прошипел в ответ и принялся перебирать лежащие на столе бумаги, ручки и сувениры. Гость встал и вышел на балкон, опоясывающий башню, в которой располагался кабинет Акционера.
Серафим посмотрел на север. В тумане пыхтел тепловоз, везущий Редьярда к Морю.
На востоке Алина беседовала с Николаем о намёках и оттенках, а Ефросинья Харитоновна дремала на скамейке.
На юге Саша сидела перед остатками кирпичной стены, рядом в шезлонге сидел художник. Они давали имена зримому.
На западе три гиганта несли спящую Нину Авдотьевну по цеху, а Бердин ругался со стеной.
Тогда Серафим ещё раз прошёл по балкону вокруг башни, заново обратил свои взгляды к четырём сторонам света и увидел иное.
На севере дышало Море, в котором спали ржавые корабли, покачивались скелеты и неспешно проходили серебристые рыбы.
На юге волновалась белая степь, чей мелкий песок ещё хранил память о большой воде, а воздух был исполнен чистоты и печали.
На западе и востоке пустыня плавно переходила в леса, где рос мох, бродили древние звери с влажными очами, а в кронах спали птицы.
И тогда Серафим в третий раз обошёл башню, и в третий раз посмотрел другими глазами вокруг, и увидел иное.
На севере в воздухе дрожало влажное марево. Море жадно впитывало Солнце и тяжело качалось в огромной песчаной колыбели.
На востоке облака закручивались штопором, неосязаемые сгустки растекались по небу. Тёмно-синяя бездна наливалась и густела.
На юге за границами кратера вставало белое свечение. Тучи песчаной пыли летели, набирая высоту. За очередной бурей должно было последовать затишье.
На западе расстилалось зарево, горизонт был охвачен багровым свечением. Это свечение видели многие из разных мест. Планета поворачивалась к звезде другим боком.
– Осень скоро, – сказал Серафим. – Аминь.
22.
Море долго серело сквозь туман, не позволяя точно определить расстояние, а потом вдруг появилось и заполнило мир до краёв. У Редьярда перехватило дыхание.
Ему вспомнилось детство, долгие игры на берегу, путешествия на корабле. Море всегда было разным, оно меняло цвет в зависимости от погоды и настроения, одно оставалось неизменным: необъятность. Можно было долго плыть, изучать атласы, слушать рассказы, но от этого стихия не становилась более понятной.
– Сейчас объедем холмик, и вы увидите терминалы, – прокричал Черепанов. – Там довольно большая полоска берега забетонирована и обустроена. Иногда приходит паром, принимает на борт грузы и уходит обратно.
– Обратно – это куда?
– Вероятно, обратно – это по ту сторону моря, – предположил машинист.
Когда холмик остался по левую руку, Редьярд подумал, что слово «терминалы» было излишне громким. На берегу чернели две кучи угля, рядом стоял невысокий старый кран, а за ним – буксир на приколе. Чуть поодаль торчали два больших деревянных сарая и прямоугольное бетонное здание с жалюзи на окнах.
Тепловоз подошёл к крану, сбавляя ход, и наконец остановился. Черепанов и Князев спрыгнули на твёрдый песок, выглаженный и спрессованный ветром. Казалось, это место продувается со всех сторон света, но влажное дыхание стихии говорило о бесконечности и продолжении, и это исцеляло и спасало.
– Ну всё, – сказал Черепанов. – Я сейчас пойду груз оформлять, потом всё это добро будут сгружать, а часа через два поеду обратно. Вон там администрация порта. Сходите, поговорите и возвращайтесь.
– Спасибо, Гавриил Романович.
Редьярд побрёл к бетонному зданию, осматриваясь. Его поразило безлюдье. Скудность материала, из которого был слеплен этот уголок мироздания, ясно говорила: край света находится именно здесь. Причём нельзя было сказать определённо, край какого именно света. Вспомнилась «Аэлита», фотографии Марса, безжизненные и недосягаемые пустоши далёких планет.
На двери отсутствовала табличка, но за одним из окон горел свет, и Редьярд, вздохнув, шагнул навстречу очередному интервью в своей журналистской судьбе. Он подумал, что заранее знает всё, что ему скажут.
В длинном безлюдном коридоре плавал полумрак. Двери молча чернели друг против друга, одна была распахнута, из неё струились свет и голос. Человек, сидящий в кабинете, громко говорил по телефону. Увидев посетителя, крикнул в трубку: «Перезвони позже, ко мне пресса приехала!» и, привстав, протянул руку:
– Борис Эдуардович. Никак газета снова выходит? А? Да? И это правильно! Жизнь в городе кипит, нам без прессы никак нельзя. Нам до зарезу нужна площадка для эффективного обсуждения.
– Очень приятно, – сказал Редьярд. – Я хотел бы подготовить репортаж о работе порта…
– Замечательно, – сказал Борис Эдуардович. – Тогда позвольте я вам вкратце расскажу. Наш порт – стратегически важный проект. Его развитием занимаемся мы с партнёром, его зовут Игорёк. Но он молчун, сидит всё время в своей комнате, бумаги на подпись и еду я ему подсовываю под дверь, он такой затейник, ха-ха, лучше его не тревожить. Так вот. Десять лет назад у города не было порта. Это были тяжёлые времена. Грузов не было. Денег не было. Людей не было. Ничего не было.
– Как же вы решили эту ситуацию? – спросил Редьярд.
– Мы посовещались с менеджерами и стали действовать. Нашли деньги. Набрали людей. Построили порт. Привлекли грузы. И сегодня мы являемся бесспорным лидером по грузоперевалке на протяжении этого берега.
– А какие-нибудь цифры можно назвать?
– Ой, ну мы это не любим, давайте без цифр. Сами понимаете, коммерческая тайна. Сейчас такое время, конкуренция растёт, надо очень осторожно давать информацию. Вы как профессионал понимаете это лучше меня.
Редьярд растерянно посмотрел в окно за спиной собеседника.
– Скажите, Борис Эдуардович… ммм, а какие грузы вы…
– Это тоже тайна, – быстро проговорил человек.
– А с точки зрения тарифов…
– Тайна!
– А о чём вообще можно писать?
Борис Эдуардович удивился.
– Я же вам всё изложил. Вот только что. Распинался, можно сказать.
– Ну хорошо, я вас понял… – Князев был озадачен. – Но чтобы подготовить текст, мне нужен хоть какой-то новостной повод…
– Чтобы подготовить текст, надо взять ручку и листок бумаги, – назидательно изрёк Борис Эдуардович. – Вы как профессионал знаете это лучше меня. Впрочем, я понимаю, что работа у нас специфическая, вы не можете знать все нюансы. Чтобы вам было проще, я предоставлю нашу презентационную продукцию.
Он покопался в столе и протянул Князеву картонку с торжествующей надписью «Мы – лучшие!» и криво наклеенной чёрно-белой фотографией, на которой был запечатлён кран на фоне причала.
Выдержка в очередной раз спасла бывшего радиста.
– А планы по развитию? – спросил он. – Планы у вас есть?
Борис Эдуардович расплылся в улыбке и указал на стену. Там висел большой плакат с красной стрелкой, которая ползла вверх почти по прямой линии. Вокруг стрелки были нарисованы квадратики. В одном было написано «компетенции», в другом «профессионализм», в третьем «логистика». Дальше Редьярд читать не стал.
– Эту стратегию разработали городские специалисты, – с уважением сказал Борис Эдуардович. – Серьёзные люди. Они посоветовали нам построить три вспомогательных порта, десять складских комплексов и двадцать железнодорожных подъездов. Мы рассматриваем такую возможность.
– Спасибо за беседу, – сказал Князев. – Кстати, я забыл уточнить вашу фамилию…
– Секрет, – виновато улыбнулся Борис Эдуардович. – Понимаете, мы не разглашаем личные данные акционеров нашего порта, то есть наши с Игорьком. Конкуренция, коммерческая тайна, вы как профессионал знаете это лучше меня.
– Разумеется, – сказал Князев.
Он вышел на свежий воздух и выкурил сразу две сигареты, глядя, как старый кран медленно снимает своей рукой, обтянутой сухожилиями тросов и сосудами проводов, большие деревянные коробки с железнодорожных платформ.
– Не в первый раз, – тихо сказал Редьярд себе и ветру. – Я говорил с сотнями таких идиотов и готовил сотни таких текстов. Как-нибудь напишу.
Ветер согласно свистнул. Князев медленно побрёл по забетонированной береговой линии в сторону чёрного тепловоза. Слева серело Море, на рейде было пусто, по горизонту клубилась дымка. Справа расстилалось изъеденное траншеями песчаное поле, бледно-рыжее, серо-коричневое. Август сюда не заглядывал, здесь было царство ноября.
– На берегу холодно и ветрено, воспоминания замерзают и развеиваются, и потому у каждого, кто приходит ждать паром, меняется цвет глаз, – задумчиво сказал Редьярд. – Впрочем, если закрыть глаза, цвет будет меняться медленнее. Есть ещё способ, можно дважды посмотреть в море: первый раз – вручить своё отражение воде, а второй раз, отчаливая, забрать его обратно.
Он подошёл к тёмной воде, не знающей смерти и усталости, и, наклонившись, посмотрел в неё долгим-долгим взглядом.
Кажется, самая объёмная запись в клетчатой тетради с потрёпанными краями, заполненной не до конца:
Однажды всё заканчивается, и самое интересное, что об этом всегда известно заранее, потому что всё по-честному, однако когда приходит время, почти все оказываются не готовы и начинают протестовать и хлопать дверьми. Те, кто готов, хлопают пробками от шампанского или встают в круг и задумчиво молчат. Но никто, никто не благодарит время за щедрость, за то, что оно сумело извернуться и выделить каждому свой час. Все предпочитают обижаться на неизбежность и рассматривать необъятное через треснутое пенсне своего самомнения.
А ведь не мешало бы вспомнить, что абсолютно всё – конечно.
Конечно бытие, конечно небытие, конечен текст, который вы сейчас читаете, и когда я остановлюсь, то после финальной точки вы рухнете вниз, в белую пустошь листа. Обычно всё происходит неожиданно, но бывает, что и вполне ожидаемо, более того – в ряде случаев это предсказуемо. Как сказано выше, всё известно ещё в начале пути.
Вот понимаете, есть структура, есть система, есть границы, есть то, что держит нас. Для каждой шляпы есть свой гвоздик в стене, понимаете, для каждой. Но однажды что-то происходит, что-то немыслимое или мыслимое, что-то страшное или прекрасное, это кому как нравится, и всё тут же меняется. Шляпа перестаёт нуждаться в гвоздике, а тот – в шляпе.
Потому что где-то там, за гранью, за незримой пеленой что-то изменилось, щёлкнуло, вспыхнуло и сгорело, раз и навсегда. И уже нельзя догнать, схватить, обнять за плечи, умыть слезами. Потому что всё закончилось.
Вас не оскорбляет, что я говорю такие очевидные вещи?
Понимаете, это на самом деле игра, просто игра, в которой бумага и карандаш изначально не знают, кто сотрётся первым. То есть они, разумеется, что-то там себе думают, но никого, кроме них, эти думки не интересуют. И они стираются, и поглощают друг друга, и меняют формы своего бытия. Они становятся линиями, бумажными лохмотьями и грифельным крошевом, а потом они становятся деревом, а потом дровами, а потом дымом. У каждого дерева, у каждого полена и у каждого облака дыма есть своё мнение и своя биография. Но объединяет их и ещё кое-что: конечность.
Я никогда не смогу сосчитать интонации, смыслы и взгляды, из которых вы склеены, и это здорово. Потому что это очень плохо – жить в конечном мире, где всё одинаковое. Нет надежды на продолжение, понимаете? Такое гадкое чувство, когда прыгаешь в небо, а упираешься в потолок. Или когда засыпаешь в трёхмерном мире, а просыпаешься в двухмерном.
Но я не об этом.
Представьте картину: вот окно, вот человек. Вот человек, вот окно. Они есть друг у друга, и они счастливы, и друга без друга они просто не существуют, потому что кроме них нет больше ничего. Они есть друг у друга, и у них есть чашка горячего чая, одна на двоих. И, само собой, далёкие мерцающие миры – не важно, с какой стороны окна. Однажды человек с окном тоже исчезнут, потому что всё конечно, но они об этом знают, и потому не суетятся.
Хочу открыть вам небольшой секрет: всё закончится, чтобы продолжиться, ибо так задумано. Но только от нас зависит, каким будет продолжение. Запомните: домой вернётся только тот, кто помнит начало. И если ты чувствуешь, что твоё сердце слеплено из пепла угасшей звезды, дорога тебе – в небо.
Не правда ли, это прекрасно?
Прекрасно, но…
Видите ли… об этом достаточно сложно говорить, потому что всё это общеизвестно, тема на слуху, слова затёрты, обороты избиты. Неправда, что первопроходцу сложнее, ему проще, потому что интереснее. Он ведь ещё не знает о конечности. А мы знаем. Но это вполне в наших силах – стать первопроходцами. И вот сейчас я поставлю точку и замолчу, потому что всё конечно, я конечен, текст конечен, – а вы сделаете по инерции шаг, но в этом болоте больше нет кочек, вам придётся упасть. Вы дочитаете и скорее всего промолчите, потому что тема настолько прозрачна и разжёвана, что тут и сказать-то, в общем, нечего, всё и так ясно. И ваше молчание будет выражением не ступора, но солидарности, ведь правда?
Так сделайте этот шаг.
P.S. Вам не кажется, что я что-то недоговорил?..
23.
Холодало, в ночах появилась пронизывающая зябкость. Птицы позволяли себе роскошь отказываться от хлеба, а улитки, переждав дождь, выползали на обочины. Но листья, яблоки и метеоры уже готовились начать неостановимое скольжение вниз, и те, кто выходил ночью в коридор, видели, каким осенним сделался лунный свет, падающий из дверных и оконных проёмов.
Первый номер газеты вышел в непогоду: шёл дождь, потоки холодной воды заливали улицы. Два сонных грузчика битый час таскали в редакцию кипы из типографии, расположенной в соседнем здании. Они не спешили. Потом два других унылых грузчика так же вяло носили стопки газет к машине, выполнявшей развозку.
Бердин был счастлив. Утром ему звонили секретарши из городской администрации и заводоуправления. Они были уполномочены передать приятные слова.
– Отметили, заметили! – ликовал редактор, расхаживая по кабинету. – Вот что значит профессиональный подход, вот что значит старая школа, вот что значит настоящая журналистика! Надо бы поближе познакомиться с администрациями города и завода…
Сами журналисты энтузиазма не испытывали. Газета, свёрстанная Сашей под надзором Бердина, ни по форме, ни по содержанию не отличалась от черепецкого издания. Редактор тщательно выдерживал формат, отсекая всё, что, по его мнению, не входило в установленные границы.
Хуже всех пришлось Редьярду. Менеджеры вцепились в текст мёртвой хваткой. Они выжимали из журналиста жизнь, заставляли переписывать и править. Вилкин несколько раз звонил и в ужасе кричал, что текст сырой, а потом бросал трубку. Когда Князев почти дозрел до причинения врагам максимально возможного вреда посредством ног и рук, согласование было получено.
– Конечно, над текстом ещё работать и работать, потому как многое непонятно, люди не дочитают до конца, – огорчённо сказала телефонная трубка голосом Людочки. – Ладно уж, ставьте в таком виде, раз сроки горят. Но впредь прошу сдавать текст заранее. И создайте, пожалуйста, запас текстов, чтобы в подобных ситуациях было чем заменить.
Князев сжал кулаки и промолчал. Согласованный материал мало отличался от исходного варианта. Изменения коснулись слов «директор», «заказчик», «проект», «контракт» и «компания»: их первые буквы стали заглавными. Кроме того, во многих местах – Людочка порезвилась на славу – были сделаны дописки, по всей вероятности, призванные оживить текст.
– Яркие, нестандартные решения… творческий подход… дружный, молодой коллектив… – болезненно морщась, выискивал Редьярд. – Прочно занимает нишу… ммм… динамично развивается… ох… уверенно лидирует… Господи, прости…
Нина Авдотьевна не стала рассказывать коллегам о бесконечном путешествии сквозь пламя и крики. Отделалась общими словами, вспоминая при этом пробуждение в прокуренной комнате, на кушетке, под мягким пледом. Рядом сидел Крылов, сочувственный и виноватый.
– Ох! – воскликнул он, увидев, что Стародумова открыла глаза. – Простите великодушно, не надо было оставлять вас одну!
– Как я здесь оказалась? Где я?
– Нина Андреевна, простите! – Крылов умоляюще сложил руки. – Вы заблудились, и я послал за вами наших самых опытных кузнецов. Они работают здесь уже много лет, это надёжные люди. Мы называем их слонами, потому что они такие сильные, что могут вручную, без крановой техники, поднимать тяжёлые детали. Они нашли вас и принесли сюда, в конторку.
А потом они пили чай с пряниками, заходили мастера, и тоже пили чай, и в воздухе успокаивающе пахло махоркой и яблоками, потому что кто-то принёс целый пакет румяных плодов со своей дачи.
Когда Стародумова пришла в цех в следующий раз, он показался ей понятным и дружелюбным. Здесь по-прежнему всё грохотало и шевелилось, но в этом больше не было опасности. А главное – Нина Авдотьевна непостижимым образом стала ориентироваться в царстве машин и деталей.
Николай, думая об Алине, отстрелялся стандартным рассказом из серии «живут такие люди». Начало звучало так: «Судьба человека неисповедима. Рождается человек, живёт, и всё пытается предположить, что ждёт его. А жизнь всё идёт, не останавливаясь, и годы несутся всё быстрее и быстрее. И наступает такой момент, когда человек оглядывается на свою жизнь. И радуется, если прожил её достойно».
После этого, сжав зубы, он использовал ряд штампов, выстраивая историю жизни Ефросиньи Харитоновны. Труднее всего было с финалом, который не желал получаться счастливым. Николай ссылался на Бердина, говорил о формате, но финал лишь горько усмехался. И тогда Львов пошёл на компромисс. Вспомнил услышанное от Алины – и получилось вот что:
«Слава Богу, – говорит Ефросинья Харитоновна, – что я ещё могу ходить, видеть и слышать. И дай Бог, чтобы страна наша процветала и чтобы не было больше таких страстей, как прежде».
Обычно после таких текстов Николай целый вечер проводил среди книг и черновиков, стараясь восстановить ясность сознания. Ему просто надо было напомнить самому себе, что существует бесчисленное количество словесных комбинаций, и что есть в этом мире рифмы и образы, и что формат значительно ближе к абсурду, чем неформат.
Редьярд тоже сделал то, что от него требовалось. Для этого ему пришлось вспомнить все известные клише и осушить бутылку красного сухого. Мозг обмяк, перестав сопротивляться, и из-под пальцев побежали неживые конструкции, сухие и колючие, как мёртвый терновник.
«Морской порт является крупнейшим инвестиционным проектом и одним из градообразующих элементов в регионе… Чёткая стратегия и взаимодействие с ведущими экспертами позволяют планировать…»
Текст согласовали без правок. Акционеры Игорёк и Валера, обезличенно фигурирующие в тексте как «руководство компании», «эффективные собственники» и «успешные хозяйственники», были довольны.
Саша тоже не подвела Анатолия Павловича. В её тексте складно говорилось о том, что город богат талантами, и один из них – знаменитый художник Георгий Бирюков, чьи картины хорошо известны землякам по многочисленным выставкам.
Отсылая Бердину текст, Саша вспоминала свои метания между жизнью и форматом и как Бирюков выводил её из этого тупика.
– Не переживайте, – утешал он. – Есть множество людей, которые хотят читать не что-нибудь новое и запредельное, а наоборот, знакомое и привычное. Тот, кто ищет выход из замкнутого круга, не читает прессу. Так что не отчаивайтесь. Напишите то, что от вас требуют. Слепите монстра из тех текстов, которые я вам дал. Я не обижусь. Потому что понимаю. И это никак не помешает нашему созерцанию и обсуждению.
24.
Работа редакции постепенно набирала прежние обороты, однако было очевидно, что жизнь вышла из прежней колеи. Бердин заметил, что сотрудники время от времени впадают в подозрительную задумчивость, но, боясь перемен, старательно обходил эту тему не только на планёрках, но и в мыслях.
– Помнишь, Серафим говорил о магнитных полях? – предположил как-то Львов. – Может, это из-за них такое чувство прострации?
– Может, и так, – ответил Редьярд. – Ты, кстати, не хотел бы съездить к морю?
– Хотел бы. А как?
– На тепловозе не получится – на меня выписали какой-то особенный пропуск, а так они никого не пускают. Стратегический объект. Но ведь до моря недалеко, думаю, можно договориться в городе с кем-нибудь из частников.
Им ни с кем не удалось договориться. Водители, услышав, что надо ехать к морю, или крутили пальцем у виска, или смеялись.
– Да вы хоть знаете, сколько ехать до моря? – спросил один таксист.
– Знаю, – сказал Редьярд. – Примерно полчаса.
Таксист крякнул, закрыл окно и дал по газам.
– Странные они какие-то, – сказал Николай. – А ты действительно уверен насчёт получаса?
– Да как же иначе? Я ведь сам несколько раз ездил!
– Хорошо тебе. Я у моря был лет десять назад – летал в Сочи, на какое-то мероприятие. Очень мне тогда хотелось сбежать. Наняться в ученики к какому-нибудь старому рыбаку. Ловить рыбу, чинить сети. Стихи писать.
– Думай об этом пореже, – посоветовал Князев. – А то растратишь все силы, и мечта так и останется мечтой… Меня вот сейчас другое занимает – обратил внимание, что народ в этом городе – со странностями, причём все подряд. Мне иногда кажется, что некоторые собеседники до моего прихода вообще не существуют. А как только берусь за дверную ручку, тут же образуются в пространстве. Сам иногда поражаюсь: откуда такие берутся? Может, на них кратер плохо влияет?
– Возможно. Но ведь мы тогда и на себе должны это почувствовать?
Тема скоро вышла на повестку дня – у всех сотрудников редакции, кроме Бердина, стали шелушиться ладони. Заболевание протекало болезненно: ладони трескались, а трещины сильно кровоточили.
Журналисты переполошились и коллективно наведались в поликлинику, где поделились опасениями со старым врачом, похожим на филина. Врач мельком посмотрел на протянутые к нему ладони и мудро улыбнулся.
– Не вижу поводов для беспокойства. Обычный случай, изменение жизненных путей. Чтобы уменьшить боль, увлажняйте кожу, пользуйтесь кремом. А всё прочее не в наших силах и не в ваших.
– Это что, шутка? – спросил Князев.
– Какие могут быть шутки? – удивился врач. – У вас меняются линии судьбы, что же вы от меня хотите? Мы судьбу не лечим.
Он постучал в стену, и в кабинет заглянула молоденькая медсестра.
– Голубушка, выдайте гражданам что-нибудь для рук и заполните анкеты, – попросил врач. – А вы, товарищи, давайте паспорта, мы должны переписать данные. Конечно, они нам не нужны, через пару дней мы анкеты выбросим, но таков порядок.
– Я вас знаю, вы журналисты, – сказала медсестра. – Обращайтесь, если что. Я знаю много историй и всегда готова дать интервью. Вот, скажем, был у нас пациент, он с дождём умел разговаривать. Уж мы его лечили-лечили, а он ни в какую. Такая история. Но если будете печатать, не забудьте сначала согласовать. Сами понимаете, информация специфическая, вам как неспециалистам трудно разобраться.
Пока девушка заполняла бумаги мелким бисером фамилий, врач благодушно трепался.
– Шелушение ладоней – ерунда, – изрекал он. – Бывают случаи потяжелее. Вот вам ситуация. Жил человек, никого не трогал, дом – работа – детский сад. Ни сомнений, ни теней. Но однажды в нём обнаружился другой материал.
– Что обнаружилось? – нестройным хором спросили журналисты.
– Материал, – пояснил врач. – В каждом человеке есть осколки мироздания, но у всех разные. В ком-то больше земли, в ком-то – воды и так далее. Есть люди, в которых таится дерево, есть такие, что носят в себе птиц, или зверей, или рыб. До поры до времени эти составляющие спят спокойно. А потом что-то происходит, обстоятельства складываются определённым образом, и тогда потаённая природа просыпается. Происходят всякие реакции. Так вот, у нашего больного внутри обнаружился пепел угасшей звезды. При каких условиях пепел проснулся – никто не знает, а только проснулся – и всё тут. Потерял человек покой. По ночам на небо смотрит. Сомневаться повадился!
– Почему же вы решили, что это звезда?
– Взяли у пациента анализы, смотрим, а там бродят те же частицы, из которых звёзды состоят. Посмотрели структуру частиц – и видим: была она сильно нарушена вследствие горения. Стали ещё глубже копать, определили температуру и продолжительность горения – и по всему получается: звёздный пепел. Вот только что это за звезда, когда и где существовала – это уж мы узнать не можем.
– А можно выяснить, из чего мы сделаны? – поинтересовалась Саша.
– Заранее нельзя. Вот когда необычные реакции начнутся, тогда и узнаем.
В редакцию возвращались молча, рассматривая ладони. Каждый нёс по тюбику, ещё один купили для редактора: Бердин был человеком осмотрительным и предпочитал профилактику. Пока сотрудники ходили в поликлинику, он тщательно натёр ладони одеколоном, попутно негодуя на срыв графика.
Заболевание длилось недолго. Три ночи журналисты просыпались от боли в ладонях, три утра наволочки и пододеяльники, испещрённые кровавыми штрихами, отправлялись в стирку. На четвёртый день всё прошло без следа, точно и не было. Ладони стали гладкими и свежими, прорезанными сеткой линий, но вот незадача: никто не помнил, как эти линии располагались раньше.
И ещё странность: в течение этих дней все, с кем журналисты сталкивались, постоянно забывали и путали их имена. Сашу называли Светой и Софьей, Николая – Никанором и Никодимом, Редьярда – Ростиславом и так далее.
Одни собеседники смущались и, извиняясь, просили напомнить имя, другие говорили то же самое, но не смущённо, а деловито, как бы между прочим, с плохо скрываемым чувством собственного превосходства.
– Как-как, вы говорите, вас зовут? – небрежно спрашивали они. – Ах да, действительно. У меня очень широкий круг общения, трудно всех запомнить.
Путаница закончилась вместе со странной болезнью – через три дня.
25.
Николай сидел в кафе, коротая непогоду с кружкой пива, когда возле его столика появился Иван Афанасьевич.
– Позволите? – спросил он, присаживаясь. – Мне надо с вами поговорить.
– Да, пожалуйста.
Уборщик сел и вздохнул.
– Не знаю, с чего начать, – признался он.
– Начните с начала, – посоветовал Львов.
– Проблема в том, – сказал старичок, – что начала нет, конца тоже, а идти от середины неправильно, потому что можно упустить главное. Другая проблема связана с тем, что главное практически невозможно определить, потому что оно своё у каждого. Если я вам скажу свою правду, вы можете получить неверное представление о предмете нашего разговора. Всё ведь зависит от интонации, от полутонов, от нюансов. Любая точка мира является точкой отсчёта, вот в чём сложность.
Львов задумался.
– «Язык мой возрадуется правде твоей», псалом пятидесятый. Давайте попробуем вот как. Начните с любого места. Если у меня есть уши, я услышу. А если нет, то вам будет не о чем переживать.
Иван Афанасьевич одобрительно кивнул.
– Видите ли, вся проблема – в штампах. Попытайся сказать своими словами – и тебя тут же спросят, что ты имел в виду. Возьмись писать книгу, и у тебя уточнят, о чём ты пишешь и в чём твоя задача. Как будто книга должна быть непременно о чём-то!
– А как же по-другому? – удивился Николай. – Все книги должны быть о чём-то.
– Книги никому ничего не должны. И потом, важнее не о чём книга, а для кого. Но определённый ответ на такой вопрос могут дать только самые непонятливые писатели. Впрочем, я о другом хотел. Вы знаете, в чём особенность этого города?
– Во всём, – сказал Львов. – Город построен в кратере. Кратер светится. За его пределами лежит белая пустыня, о которой никто не может сказать ничего конкретного. Ещё есть Море, до которого почему-то отказываются ехать таксисты. Местные врачи верят в линии судьбы. Ну и так далее.
– Всё верно, – кивнул Иван Афанасьевич. – Но это только внешняя сторона. А главное – в этом городе есть что-то необъяснимое, что-то такое, что даёт человеку возможность лучше понять себя в этом мире. Знаете, это как обострённое сознание – в какой-то момент словно просыпаешься и видишь всё яснее и ярче. Вот тогда-то и начинаешь тяготиться штампами. Но и без них нельзя – вокруг полным-полно людей, которые впадают в ужас, если слышат непривычные речевые построения. Да что там говорить, иной раз от простых инверсий шарахаются… Вы знаете, кто я?
– Вы – Иван Афанасьевич.
– А по специальности?
– Ну-у… уборщик…
– Так-то оно так, но вы должны знать, что мы с вами коллеги – раньше я работал в той же самой газете. Так же, как и вы, приехал из другого города и писал одинаковые тексты. Об успешных управленцах, об итогах полугодий и планах на будущее, о том, что богат наш край талантами. А потом что-то случилось, коллеги стали уходить, а я вот задержался. Самым непонятливым оказался, наверное.
– А куда ушли ваши коллеги?
– Откуда я знаю? У каждого своя дорога.
– Я имею в виду – они уехали из города?
– Да какая разница! – воскликнул старик. – Зачем вы непременно хотите всё облечь в какую-то форму? Слушайте суть, будьте внимательнее…
Он жадно ополовинил принесённую кружку пива и с облегчением выдохнул.
– Однажды осенью ко мне пришёл человек, работавший у нас уборщиком, он оказался бывшим редактором этой газеты, и он стал со мной говорить. Вот так же, как я теперь говорю с вами. Так получилось, что к тому разговору я уже успел хорошо понять, что занимаю не своё место в системе мироздания. Как раз об этом мы с ним и говорили. И меня тогда настолько зацепило, что я уволился и взял швабру.
– Почему швабру? Разве это альтернатива?
– Нет, но для того чтобы альтернатива появилась, иногда надо уметь отказаться от того, что имеешь. Чтобы преодолеть канаву, вам надо прыгнуть, и во время прыжка вы не имеете земли под ногами, верно? Но иначе другой стороны не достичь.
– И как проходит ваш полёт над канавой? Вы уже видите другой берег?
– Да, вижу. Именно поэтому мне потребовалось поговорить с вами. У меня есть дневник, я записывал туда кое-какие соображения. Я хочу отдать его вам. Посмотрите как-нибудь, может, пригодится.
Старик вытащил из-под плаща свёрток, размотал его и положил на стол толстую клетчатую тетрадь в чёрной кожаной обложке с обтрёпанными краями. В воздухе на мгновение потемнело. Собеседникам показалось, что за окном мелькнул человек в чёрном костюме, но там уже никого не было, и они не стали сверять свои впечатления.
26.
– Наш проект развивается недостаточно динамично, – сказал Бердин. – Я оцениваю вашу работу на слабую тройку. Нам нужны новые идеи, новые подходы.
Тишина, унылая тишина: в редакции, кроме него, никого не было – все на выездных заданиях.
– Я не могу так, – продолжил Анатолий Павлович. – У меня и своей загрузки хватает. Текучка съедает всё моё время, и я вынужден задерживаться.
Он прислушался, между лопатками пробежал холодок. В редакторском кабинете ясно слышалось чавканье: текучка пожирала время. Её многочисленные лапки суетливо ловили секунды и минуты, измерение втягивалось в чёрную пасть, облепленную скрепками и клейкими листками с номерами телефонов и названиями мероприятий. Под чёрной тушкой текучки хрустнуло стекло, вскрикнул циферблат.
Анатолий Павлович задрожал, но совладал с собой.
– Неблагодарные! – воскликнул он. – Вы не журналисты, вы – позор! Я застал эпоху настоящей журналистики, и ни одному из вас в ней не нашлось бы места. Вас не пустили бы ни в одно приличное издание!
Он стоял посреди пустого кабинета, ероша волосы.
– Помнится, был у меня такой коллега Вася Николаев, – сказал Бердин, присаживаясь на стол Нины Авдотьевны и немного успокоившись. – Но вы, конечно, не можете его помнить, вы тогда были слишком молоды. Так вот этот Вася всё время сдавал тексты без заголовков. И что в итоге, где этот Вася?
Текучка перестала чавкать и прислушалась. Бердин насторожился.
– Не нравится мне этот Серафим, – сказал он, на всякий случай оглянувшись. – Вообще я думаю, что его послали за мной следить. Вы, коллеги, напрасно улыбаетесь, – снисходительно бросил он столам и стульям. – Лет сорок назад, вы этого не можете помнить, были непростые времена. Я тогда слушал одну западную группу на магнитофоне в общежитии, и милиция поставила меня на учёт, да-да, это всё очень серьёзно. Меня даже вызывали в первое отделение. Не исключено, что и Серафим оттуда. Да, я почти уверен, что ему поручили за мной следить. Но я калач тёртый!
Он замолчал, задумавшись: вспомнилось недавнее посещение городского архива – и то, что последовало за этим.
Будучи человеком серьёзным и основательным, редактор решил покопаться в местных фондах. К городу были вопросы, их надлежало разъяснить. Анатолий Павлович зашёл в архив и строгим голосом изложил желание стать пользователем.
Внося посетителя в реестр, старичок-хранитель вдруг встрепенулся.
– Главный редактор? – обрадовался он, в глазах солнце, на лице – тысячи морщин. – Наконец-то. А то я переживал, что забыли блокнот и всё никак за ним не приходите. Уж сколько лет прошло…
– Я ничего не забывал, – удивлённо сказал Бердин. – Я вообще у вас впервые.
Старичок, не слушая его, порылся в ящиках, извлёк и протянул пакет:
– Вот, специально обернул, чтобы края не обтрепались.
Бердин начал отказываться и спорить, но хранитель оказался напорист: блокнот принадлежал главному редактору и должен быть возвращён владельцу. А если владелец не хочет забирать, забытое будет уничтожено.
– Хорошо, – сказал озадаченный редактор. – Давайте.
До городских архивов он тогда не добрался – забрав блокнот, вернулся на работу. Если записки принадлежали его предшественнику, в них могли содержаться некоторые ответы. В конце концов всех главных редакторов объединяет критическое отношение к информации. Бердин мысленно оглянулся и увидел череду коллег, они ободряюще кивали ему мудрыми головами.
Блокнот был ветхим – судя по датировкам, записи вносились лет сорок назад. Подложка из плотного картона, на титуле – выцветший орнамент: решётка Летнего сада. Анатолий Павлович читал, продираясь сквозь бурелом размашистого почерка.
Его предшественник тщательно фиксировал темы публикаций и фамилии журналистов, но если записи на первых страницах были аккуратны, то чем дальше, тем больше встречалось помарок. Темы вычёркивались, над ними надписывались другие.
Потом возле почеркушек стали попадаться и комментарии – короткие, раздражённые: «Бред!», «ИДИОТИЗМ!!!», «Очередной маразм». Постепенно комментарии стали удлиняться.
«Странный город, странные люди, странная работа. Несерьёзное отношение, вплоть до шутовства. Планировать – бессмысленно».
«Раньше я почти не видел снов, а теперь покоя от них нет, приходят каждую ночь. Сплошные воспоминания, какие-то лица из прошлого, имена».
«Маяк и аэродром решено закрыть – но говорить и писать об этом запрещено. Почему закрывают – непонятно. А если письма читателей, тогда что? Райком молчит».
«Очень плохо с дисциплиной. Выговоры не помогают. Хотел решать через комитет, но передумал: что ж я тогда за руководитель?»
«От меня требуют поставить в номер бредовое объявление, пытаюсь бороться. Речь в нём о том, что какие-то врата должны открыться. Совершеннейшая бессмыслица. Я так больше не могу, надо вернуться».
«Опять плохо спал – снова всю ночь блуждал чёрт знает где. Тоскливо, гадко».
«Кажется, номер под угрозой срыва – впервые в моей практике. Сотрудники третий день не выходят на работу, ходил по квартирам, никого нет».
Анатолий Павлович достал платок, вытер лицо и прислушался. В его кабинете было тихо и пусто, текучка больше не чавкала, пожирая время. Треснувший циферблат в стеклянных брызгах молча лежал на полу.
27.
В редакцию потянулись люди. Первой пришла румяная старушка, возжелавшая рассказать миру про удивительное дерево в своём огороде. Редьярд отправил её к Бердину, который сообщил, что «среди тем, согласованных нашим стратегическим партнёром, такой темы нет».
– Как это нет? – искренне поразилась старушка. – Быть такого не может. Это же газета про людей. Должна быть такая тема, посмотрите!
Не желая препираться – бабка не оценила бы изящество аргументов и тонкость острот, – редактор открыл папку и достал список, составленный Серафимом. Пробежался глазами и споткнулся на пункте, который гласил: «Заметка о чудесном дереве в огороде».
– Странно, – растерянно пробормотал Бердин, – очень странно. Я готов поклясться, что этой темы здесь не было…
– Э, вот и я готова поклясться, что дерева в огороде не было, а оно есть, – посочувствовала старушка. – Ну так что, кому тут интервью дать?
Спустя минуту гостья сидела перед Ниной Авдотьевной и, поглядывая на красный огонёк диктофона, ворковала, бормотала и посмеивалась.
– Оно ведь как всё началось? – певуче говорила старушка. – Яблоки я купила на базаре, думаю, дай-кося яблочек поем. И вот, значит, помыла я их и стала есть. А они сла-а-адкие! Ко мне соседка зашла, угостилась, ты, говорит, где такие брала? А я и говорю: на базаре. Так вот мы с ней ели, ели, а потом она ушла, а я телевизор стала смотреть.
– А дерево-то где? – осторожно напомнила Нина Авдотьевна.
– Да где ж ему быть? В огороде! – радостно сказала старушка. – Оно ведь как было? Я когда яблоки ела, семечки-то в ладошку сплёвывала. А потом думаю, дай-кося в землю брошу, авось, чего и получится. Бросила. Закопала. Потом даже полила два раза. А потом гляжу: лезут, лезут стебельки! Год прошёл – и вот, дерево стоит! Яблочки-то у меня ещё мелкие, ну да ничего, на следующий год будут хорошие. Приходите непременно, угощу. А когда интервью моё можно будет прочитать?
«Удивительно творческие люди состоят в городском садоводстве, – морщась, писала потом Стародумова. – Когда знакомишься с их трудом, понимаешь: благодаря природной инициативности даже такой процесс, как выращивание дерева, может стать увлекательным и необычным».
Следующие визитёры были из той же когорты: один другого информативнее. Пришёл горбатый великан, придумавший стоклеточные шахматы. Припрыгал заикающийся карлик, собравший коллекцию из тридцати пяти значков, посвящённых астрономии. Притащился одноглазый мужик, нудный и подозрительный, большой любитель турпоходов и массажа.
Фееричным было появление баскетболистки: чтобы войти, ей потребовалось присесть. Редьярд, едва достававший до пупка валькирии, ощутимо волновался и чуть не заработал косоглазие, роняя взгляды на крупные яблочные колени.
Одним их самых ярких персонажей стал дед, много лет назад стоявший у истоков чего-то. Что это были за истоки, он и сам толком не помнил, зато сохранил эмоциональный запал тех легендарных дней и страстно желал поделиться с читателями своим неиссякаемым, затягивающим и подавляющим восторгом.
Слушая его, Николай уже понимал, что это будет за текст. Надо начать с того, какие инициативные и энергичные люди живут в городе. Продолжить тем, что собеседник пользуется заслуженным уважением и участвовал во многих общественно-значимых проектах. Ну и в финале – что-нибудь о передаче опыта новым поколениям, неутомимом поиске и, разумеется, масштабных планах.
– А ведь все эти чудики и раньше приходили, – заметила Саша, – Ну, имею в виду, в Черепце. Помните? Но тогда это казалось обычным делом, в порядке вещей. А здесь… их странность стала какой-то… вопиющей, вам не кажется?
Первое время Бердин пытался заворачивать гостей, но каждый раз в списке Серафима чудесным образом появлялись предложенные ими темы. Пока редактор обречённо шарил по списку, очередной визитёр терпеливо ждал, явно не рассчитывая на отказ. Вскоре Анатолий Павлович самоустранился.
– Коллеги, – сказал он жалобно. – Пишите всех на диктофоны. Абсолютно всех. Мне очень надо уединиться и поработать.
Как-то раз, когда очередной закат ложился багровыми квадратами на стену, на пороге возник новый посетитель: шаркающий, кашляющий и косматый, как тайга. Внимательно оглядел журналистов и, что-то для себя решив, направился к Редьярду. Тот, страдая над текстом об эффективной работе отдела по повышению эффективности, посмотрел недобро.
– Здравствуйте, – сказал старик, улыбаясь. Глаза у него были выцветшие и добрые. – Пришёл интервью давать. Я местный старожил, Тесей Митрофанович.
– Какое необычное имя, – сказал Князев и со вздохом включил диктофон. – Расскажите, пожалуйста, про себя. Или о себе. Как вам удобнее. Что чувствуете. Где работаете. Чем увлекаетесь. Каковы жизненные планы.
– Меня в этом городе все знают, – начал дед, поглаживая белейшую бороду. – Я работаю на заводе, почтальоном. За городом есть лес, а за лесом стоит тайный почтовый ящик. Когда строили завод, в этот ящик с большой земли секретные директивы приходили, а я их носил. Ответственное задание. Конверты были во-о-от такие, – он развёл руки. – С сургучом, с печатями, всё как полагается.
Редьярд мельком посмотрел на ладони старика и почувствовал исходящую от них силу. Сухая, тёплая, тёмная кожа в мельчайшей сетке морщин. Такие руки приятно пожимать, в них чувствуется спокойствие. Наверное, держась за эту ладонь, можно пройти через самую чёрную безысходность.
– Много лет хожу к этому ящику, раз в неделю, – продолжал Тесей Митрофанович. – В любую погоду, а как иначе? По уставу положено! Ведь письма-то всё секретные были.
– Почему были?
– Да потому что уже давно никто ничего не пишет, – пояснил Тесей Митрофанович. – Ящик пустой стоит. Вот уж лет двадцать хожу, а ничего нет.
Князев расплылся в улыбке:
– А зачем ходите-то?
– Вот же непонятливый какой! – рассердился старик. – Говорю же: по уставу положено! Тайная миссия. А вдруг чего важное пришлют? Непременно надо контролировать. У нас же режимное предприятие, стратегический объект… А журналисты у нас меняются чуть не каждый год. И каждый думает: какой смешной глупый дед!
Редьярд смутился.
– Я так не думаю, – сказал он быстро.
Тесей Митрофанович махнул рукой.
– Интервью-то моё когда можно будет прочитать?
28.
Двухэтажный дом с облупившейся штукатуркой и запылёнными окнами, где проходил Третий Городской Форум Писателей, таился в тенистом дворике, располосованном бельевыми верёвками, за бараком со светлыми занавесками, у подножия высокого брандмауэра. Деревянная лестница за дверью круто шла вверх, к комнате, из которой неслись голоса.
В душном помещении было человек двадцать. Пристроившись в углу, Саша оглядывала их, узнавая знакомые типажи. Громкоголосый седогривый председатель. Чёрно-белая девушка: угольные глаза, густая тушь, на пальцах – кольца цвета первого льда, волосы – воронье крыло. Томная дама в соломенной шляпе, наверняка пишет стихи о любви. Полдюжины зорких окололитературных старух разного калибра. Юркий толстяк с мокрыми подмышками. Наголо бритый юноша с козлиной бородкой и прилипшей полуулыбкой.
Дева с оленьими глазами и берестяным ободком грустно читала стихотворение о том, как она гуляла в поле, а потом её похитил скиф, и с тех пор она с тоской смотрит в небо и общается с вольным ветром. Стихотворение было длинным. Саша смотрела и слушала рассеянно, заранее зная, как будет выглядеть репортаж:
Мероприятие стало ярким событием в жизни нашего города. Организованное при поддержке (кто спонсор?), оно собрало (количество?) ярчайших представителей…
Чувство повтора и предсказуемости, зародившееся ещё в Черепце, в последнее время окрепло настолько, что почти причиняло боль. На какой-то миг Саша забылась, а потом очнулась и неожиданно обнаружила себя в большом гулком зале, но не удивилась. С синих стен свисали софиты, человек за трибуной говорил о необходимости поддержать местных производителей, люди в зале листали бумаги и покашливали.
«Ага, всё понятно…» – Саша снова склонилась над блокнотом, набрасывая аспекты:
«Одной из ключевых проблем остаётся несовершенство нормативной базы (название закона?). В частности, не продуманы механизмы реализации важнейших для отрасли положений (уточнить, каких именно). Предложения, озвученные спикерами, будут направлены в профильное ведомство (запросить протокол совещания)…»
По сути, любая новость – огрызок яблока, мимо которого снова и снова проходит группа, заплутавшая в лабиринте. Странно, думала Саша, зачем каждый раз описывать огрызок? Чтобы напоминать самим себе: мы здесь уже были? А может, это объясняется желанием пустоты получить имя? Ведь что названо – то существует…
Зазвучали аплодисменты, и Саша подняла голову. Яркий свет из больших окон заливал просторное, убегающее вдаль помещение, и орёл над дверью отбрасывал двухголовую тень. Далеко-далеко, в конце невероятно длинного стола, один человек тряс другому руку. Люди, сидящие за столом, улыбались и хлопали.
Саша рассеянно заскрипела ручкой:
«…Важной частью встречи (уточнить тематику) стало награждение наиболее инициативных и опытных специалистов (какая отрасль?). Из рук (должность, имя?) заслуженную награду получил представитель компании (уточнить)…»
Прямая речь – не проблема, всё пишется на диктофон. Потом можно будет прослушать и добавить в текст какую-нибудь яркую цитату. Саша скосила глаза: запись включена, красный огонёк успокаивающе горит. Всё как всегда.
Девушка потёрла виски и огляделась. Грязно-жёлтые от времени деревянные панели (дворец культуры?), тяжёлые кулисы и гипертоническая скатерть на столе, стоящем на сцене. Лёгкий гул и запах пота. Графин с водой, четыре стакана – по числу членов президиума. Над залом взметнулись руки с красными бумажками.
«…Местом для проведения мероприятия (название?) неслучайно был выбран (что за здание?) – только здесь есть зал, способный вместить участников масштабного обсуждения. Предложения, поданные заранее, были вынесены на голосование. По большинству пунктов делегаты продемонстрировали полное единодушие, что не заставляет сомневаться (потом допишу)…»
Чтобы не заниматься повторами, нужны новые идеи, подумала Саша. «Я уже говорила это, и не раз – за последние пять лет. Что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось…» Я возьму отпуск, внушила она себе, я отдохну от повторов – и обдумаю, в какую сторону идти. «И это тоже я уже говорила, и отпуск брала. Что-нибудь изменилось?» Просто у меня не было времени, не сдавалась девушка. Сначала я училась, а это же дело такое: студенческая молодость, посиделки с гитарами, курсовая и дипломная. Потом стала работать – а это тоже время, надо ведь накопить опыт. «И это тоже я говорила. Много-много-много раз…»
Посветлело. Саша огляделась: она была в толпе, перед бархатным подиумом. Улыбчивый человек с радужной лысиной примеривался золотыми ножницами к красной ленточке. Щелчок – аплодисменты – в небо полетели шары. Человек взял зелёную бутылку, спустился с подиума и, прикрывая одной рукой лицо, разбил её о грузовой контейнер, радующий глаз свежей краской.
«…Не обошлось и без интерактива: один из участников конференции (название компании?) приурочил к статусному совещанию выпуск юбилейного образца (название?), имеющего конструктивные отличия (уточнить). Честь перерезать символическую ленточку была предоставлена (ФИО, должность)…»
– Мы хорошо поработали, коллеги! – подытожил модератор.
– Единогласно! – резюмировал ведущий.
– В добрый путь! – воскликнул руководитель.
– Благодарю за работу! – подвёл черту председатель.
«…Как и в прошлом году, специалисты отметили высокий уровень организации. Совещание прошло плодотворно и конструктивно, были определены направления для дальнейшей работы – а сделать предстоит немало. Нет сомнений, что намеченное будет реализовано, ведь для этого есть всё: опыт, ресурсы, а главное – инициатива и творческий подход к преодолению трудностей…»
…Саша отложила блокнот, выключила диктофон. Писательская аудитория дремала. Седой председатель смотрел обречённо, лицо его напоминало маску. Женщина с причёской под Мирей Матье торопливо читала пьесу. У героини её сюжета ожил пиджак, и она говорила с ним на философские темы.
Саша тихо встала и начала пробираться к выходу, моля небеса, чтобы её не окликнули. Путь преградила приторно пахнущая старушка.
– Вы у нас, кажется, впервые? – свистяще прошептала она, дыша помадой. – Если хотите, можете купить издания нашего литобъединения, – ткнула рукой в столик с книгами.
Девушка заметила, что многие повернулись к ним, покраснела и взяла наугад несколько тонких книжек. Старушка полезла искать очки и калькулятор, найдя их, с важным видом просмотрела выбранные издания, а потом долго считала, жуя губами.
На улице мелко моросило, деревья роняли листья. Жизнь работала акварелью, не уставая и не тяготясь, подрисовывала к карнизам голубиные головы, вписывала в арочные проёмы людей, которые пережидают дождь и целуются, добавляла к сигаретам сизые пятна дыма. Жизнь походила на себя прежнюю, но не повторялась, обладала притягательностью, но не была обременена смыслом, дышала свежестью и не вмещалась в слова.
Запись в клетчатой тетради, слова, которые принадлежат одному, но близки многим, набросок, сделанный, когда не спалось:
«…Она умела смеяться разными смехами и плакать разными плачами. Она щедро оставляла себя везде – в стёклах витрин, в разговорах, в книгах и сердцах. Она, как планета, которую вычисляют астрономическим способом – по колебаниям звёздного света и случайным отражениям. Всё в этом мире говорило и говорит о её присутствии. Отпечаток узкой ступни на песке. Следы помады на смятой салфетке. Длинный волосок, обнаруженный на старой рубашке. Корабли, звёзды и планеты с женским именем. Шорох платья, а точнее – отзвук шороха, унаследованное воспоминание о нём, зависшее в пространстве и оттаявшее при твоём приближении спустя сотни лет после того, как она здесь прошла. Вся красота бытия, сотворённая не для одного, но для двоих, даже если они разделены непроглядным туманом времени и пространства».
29.
Выходной – это день, в который врываются на всех парах, чтобы, не совладав с инерцией, недоумённо и разочарованно вылететь с другой стороны. Но утром в субботу кажется, что понедельник не наступит никогда.
– Как бы мы жили без этого «кажется»? – спросил Редьярд, сбрасывая одеяло. Квартира ответила молчанием, в ней ещё витали контуры утреннего сна: снилась Светлана. Будто сидит она на каком-то холме и расчёсывает свои роскошные волосы, Князев ходит внизу, спрашивает о чём-то, а она смотрит грустно и молчит. И волосы чешет. Редьярд заварил кофе и вышел на балкон.
Стены кратера тонули в тумане, смутно темнела кромка леса. На улицах не было ни движения. Соседние балконы, заваленные банками и велосипедами, пустовали, лишь на одном торчала голова: старик сидел и смотрел вдаль. Из окон этажом выше ободряюще зазвучали привычные вопли – там жила семья с двумя детьми, бои с мелкими засранцами обычно не затихали до глубокой ночи.
Лифт не работал, с девятого этажа пришлось спускаться по лестнице, через тёмные площадки и светлые пролёты, мимо мусорной трубы, испещрённой надписями. Между третьим и вторым этажом он выглянул в окно – и увидел женщину.
Хрупкая фигура, узкие плечи, чёрное платье. Казалось, она не идёт, а плывёт над землёй. Какая милая походка, какое давнее воспоминание…
Выскочил на улицу, шаря взглядом, свернул за угол – и пошёл. Без всякой цели, по тайному зову. За ним следовала тишина, по безлюдным улицам летали обрывки газет. Редьярд обогнул дом, где на балконах сушилось бельё, пересёк пустую детскую площадку. Мимо проползла, наполняясь ветром, забытая коляска.
Чёрное платье показывалось между домами и скрывалось, Редьярд видел, но не мог догнать, как ни старался. Вот она скрывается за углом – и он бежит, вот он на углу дома – а она уже в другом конце следующего двора, снова скрывается. Он бежал и чувствовал, как память размагнитила и выбросила целый ворох разноцветных осколков, окружавших прошлое.
Близорукий прищур, узкие ладони и запястья, маленькие золочёные часики на белой шее. И вокруг – туман, туман, а в нём смутные очертания того, что было или не было, и вид из окна на Море, и тусклый блеск латунных колец на старой подзорной трубе, и взгляд с порога через плечо – как зацепка, флажок на карте, ниточка через время и пространство. И запах дерева, и звон стекла…
Он бежал и скоро выбился из сил, а чёрное платье было недостижимо, оно показывалось и пропадало, и женщина не оборачивалась. Дворы менялись. Сначала шли одинаковые площадки, окружённые девяти– и пятиэтажными домами, потом потянулись здания другой поры, и дворики в них были разнообразны.
А за одним из многих поворотов бежать стало некуда – женщина исчезла. Редьярд постоял, выравнивая дыхание, и пошёл вперёд, чувствуя себя обманутым. Вселенная нащупала его болевую точку, нажала на неё – и затаилась. Приличные люди после такой терапии напиваются и грустят.
Редьярд шёл по малолюдным улицам, иногда не встречая никого на протяжении двух перекрёстков. Кварталы были отрадно провинциальны – тихи, благостны.
Зашторенные низкие окна первых этажей, цветочные горшки на подоконниках, бельё на крохотных балконах. Брандмауэры с замурованными окнами и контурами снесённых построек, старые кирпичные дома с наросшими деревянными мансардами.
Памятники со стёртыми надписями и опавшими буквами – и не сказать, кому поставлены. Тихие уютные дворики, созданные для детства: со скамейками, кошками, дуплами для записок и кустами для тайных убежищ. Помятые почтовые ящики.
Редьярд шёл по треснутому асфальту и пыльным обочинам, иногда сворачивая в неожиданные проулки. Дома были настолько разные, а улицы настолько кривые, что он и не надеялся легко вернуться домой.
На пути оказалось белое кубическое здание, испещрённое квадратными окошками, вероятно, архив. На светло-коричневой доске значилось: «Хранилище детства».
– Прошу прощения, – сказал Редьярд седому охраннику, вышедшему покурить. – Я тут впервые, и мне вот стало интересно… Подскажите, чем занимается учреждение?
– Приезжий? – понял охранник. – Это бывает. Заведение у нас действительно необычное, тут сходу и не поймёшь. Люди сдают сюда на хранение свои детские игрушки и книжки.
– А… а зачем?
– Чтобы человек, заканчивая жизнь, мог ненадолго погрузиться в прошлое. Представьте: он прожил много лет, успел забыть о вещах, которые сопровождали первые годы его жизни. А потом он назначает определённый день, мы достаём фотографии, оставленные его родителями, и по этим снимкам полностью восстанавливаем комнату, в которой прошло его детство.
– Человек заходит, – продолжал охранник, – и в нём всё переворачивается. Он видит свои игрушки, книги, сидит и перебирает всё это. И в нём что-то меняется, понимаете? Как будто в его жизнь пробился солнечный лучик из невозвратных времён. Взрослые, солидные люди плачут, как дети.
– Вы только представьте, – охранник задумчиво смотрел в небо, – мир изменился, многих уже нет, человеку кажется, что он тут всего лишь гость, которому тоже не следует засиживаться. И вдруг он снова встречается с детством. В комнате, в которой когда-то играл. Здесь всё знакомо. Вплоть до запаха и света из окна. И так хочется позвать больших и добрых взрослых, которые заняты своими делами в соседних комнатах, но ведь никто не отзовётся.
– Конечно, – добавил охранник, выбрасывая окурок, – это дорогая услуга – хранить детство, не все могут стать нашими клиентами. Сами понимаете: ограниченные площади, высокая арендная плата. Работникам здесь платят не так много, совсем не много, зато есть привилегия: каждый имеет право на бесплатное хранение своего детства. Когда-нибудь и я смогу ненадолго вернуться.
– Невероятно, просто невероятно, – сказал Редьярд. – И ведь кто-то же придумал…
Он попрощался и пошёл дальше. В сердце звучала тягучая музыка: так поёт виолончель и плачут ангелы. Как раз когда это сравнение пришло ему в голову, он обратил внимание на объявление на водосточной трубе. Написанное от руки, оно сообщало: «Срочно требуются судовые радисты». Нижняя часть сообщения, где должны были быть указаны контакты, отсутствовала: её сорвали.
Отрывистая запись на листке, вложенном в тетрадь:
Должна пройти вечность, и не одна, чтобы все частицы этого мира снова сложились в том порядке, в каком находятся сейчас.
Вечность имеет границы, и не одну. Например, она существует в пределах своего названия. Или вот ещё: каждый представляет её по-своему, и это тоже границы. И если даже Время однажды было придумано, а до того было безвременье, стало быть, и с вечностью то же самое. Просто в какой-то момент, когда меняешься, начинаешь по-другому чувствовать, и тогда уже не думаешь, как бы измерить и исчислить. Это уже не надо.
30.
Дождь начался неожиданно – и так же внезапно завершился, перейдя в мелкую морось.
Николай стоял на балконе и думал, что работа у него не такая уж тяжёлая, но изнурительная. Когда ты настроен на вечное, а на тебе играют сиюминутное, да ещё и фальшиво, это выматывает.
Сердце и мысли были полны девушкой, собирающей часы. Он блуждал по её образу, задерживаясь на каждой детали. Вспомнил волосы, собранные в пучок, взгляд карих глаз – немигающий, долгий. Вспомнил улыбку – негромкую, как вечерняя лампа, и усталую, как закатное солнце.
Свежий воздух, клочья белого дыма. На ржавой полоске балконной ограды среди бисера мороси лежал мотылёк, светлый и невесомый. Николай слегка подул на него, крохотное тельце сорвалось и полетело вниз, кружась, и это было и красиво, и грустно. Такое чувство бывает, когда бродишь за кулисами покинутого театра и в темноте встречаешь скрипку, забытую на старом стуле.
Продолжая думать об Алине, вернулся в комнату, постоял перед картой Африки, рассеянно перебрал коллекцию самолетов, захваченную при переезде. Она даровала утешение, ибо утешительно всё, что связано с движением, и символично всё, что связано с полётом. Вспоминая свой неизбывный сон, в котором самолёт терпит крушение в ночной пустыне, Николай пытался определить модель. Нюансы терялись, но по общим чертам выходил двухместный биплан – британец 1930-х.
Сквозняк пошевелил бумаги на столе, занавеску между комнатой и прихожей. Накинув куртку, Львов покинул квартиру и зашагал по улицам. Думал он обо всём, что отрадно – об Алине, о самолётах, о путешествиях, – и когда очнулся, понял, что находится на улице Кизюрина.
Вокруг стыло серое марево, земля дымилась. Радужные бензиновые подтёки цвели по лужам каплями истаявшей радуги. И первая звезда среди расступающихся туч, пронзительно-белая, жалящая.
Если не увидеть Алину сейчас, как прожить ещё вечер и ещё ночь? Он должен увидеть её. А какая она? Тот, кто работает со словом, должен уметь давать названия и имена, иначе лучше сразу бросить. Он попробовал заговорить, но споткнулся о штампы и досадливо прервался. Помолчал и, поймав тональность, начал осторожное движение по словам, через слова, со словами:
– Все её черты – одна сплошная формула, которая вводит в действие тайные механизмы. У неё чудесные волосы, меняющие цвет в зависимости от настроения. Возможно, она мне приснилась, но я слишком хорошо помню её, а с другой стороны, не исключено, что это я ей приснился, и если такая версия верна, то можно говорить с уверенностью, что она – существует, а я – иллюзорен. Таким образом, моя задача теперь – угадать, когда она ляжет спать, и постараться найти вход в её сон.
– Какая неожиданная встреча! – он обернулся и мгновенно обмер, увидев Алину. Девушка улыбалась, но взгляд её был полон усталости.
– Да вот… вышел прогуляться, задумался и неожиданно забрёл в ваш район, – сказал он, волнуясь. – Просто образовалось свободное время… Вы знаете, вы только не удивляйтесь моему вопросу, вам случайно помощь по хозяйству не требуется? Я сто лет руками не работал. Всё слова да слова…
– Я вообще никогда вопросам не удивляюсь, – пожала плечами Алина. – Удивляюсь я только людям, которые их задают. От помощи не откажусь, помощь нужна. Пойдёмте, раз уж есть такое желание.
Старушка на скамейке не ответила на неуверенное приветствие Львова, блуждая в прошлом, и он, всё ещё преодолевая смущение, последовал за девушкой. С лёгким глухим стуком закрылась калитка: влажное дерево, облупленная краска.
Во время войны в доме упала икона. Десять лет стояла на полке, а тут вдруг упала. А потом пришла весточка, что в этот день муж на фронте погиб. А перед тем он писал: «Страшно, не знаю, что будет дальше; если не вернусь, лихом не поминай, живи, как можешь…»
Травинки склонялись к земле, с низких раскидистых яблонь капало, пионы дышали и не могли надышаться свежестью. Алина взошла по сырым тёмным ступенькам и вернулась, неся старую куртку и резиновые сапоги, Николай облачился. Она повела его по узкой дорожке, и он смотрел на её узкие плечи и светлые волосы, и они шли, и он смотрел.
– Я так понимаю, вы собак не держите?
– Нет. Да и не нужны они: места тихие, да и соседи рядом. Была у меня раньше собака – Найда, моя ровесница. Она прошлой зимой умерла. Жила во дворе, в конуре, и вот ночью за ней смерть пришла. Найда это почувствовала и поползла к дому. Я утром вышла, а она лежит на ступеньках, покрытая инеем… Я тогда же решила, что больше собак держать не буду.
Девушка остановилась у яблони, сорвала крупный плод и протянула гостю:
– Угощайтесь. Видите кран с водой? Там можно ополоснуть.
Они пошли дальше и свернули на заросшую тропинку, ползущую к парнику в коконе из мутного целлофана. За ним был сарай, в приоткрытой двери чернели черенки и рукоятки. От земли до низкой крыши тянулись нити, провисшие под тяжестью вьюна и дикого винограда, живой ковёр обтекал шифер красно-зелёным пятном, старательно прикрывая ржавые шляпки гвоздей. Казалось: подрежь нити – сарай рухнет или улетит.
– Здесь у меня картошка. Что-то собрала, но ещё много осталось. В сарае можно взять лопату, у входа, там же есть вёдра, мешки, перчатки…
Он проводил её взглядом, потом зашёл в сарай, выудил из темноты лопату и, примерившись, поддел первый куст. Заступ легко вошёл в жирный чернозём, крупные обильные клубни гулко упали на грядку.
Николай работал, и по мере того, как тяжелели руки, легчало сердце. Он не стал надевать перчатки и с удовольствием почувствовал кожу на руках, когда она начала саднить. Засидевшееся тело, проснувшись, задышало.
Время от времени останавливался и, отдыхая, смотрел на пройденный путь – взрытая земля в крупных картофелинах, распластанная ботва, чёрные воронки, крупные и мелкие комья. Отдышавшись, отбрасывал ботву в сторону и снова брался за лопату. Кожа всё грубела, и когда он занозил руку, это не доставило беспокойства.
Потом, когда картошка была собрана в мешки, Алина позвала к столу. Они пили чай, пахло мятой и много ещё чем – в углу висели веники высушенного разнотравья, перехваченные толстыми нитками. Молчали: говорить не хотелось.
Прощаясь, Николай спросил, можно ли прийти ещё.
– Понравилось работать? – засмеялась девушка.
– Ну… так… – он смотрел на неё, жадно вбирая, впитывая тот свет, который озарит его бытие до следующей встречи. – Есть свободное время.
– Приходите. Мне помощники всегда нужны.
Уже стемнело, когда он покинул дом и шёл к калитке по гравию узкой дорожки. Вокруг тяжело колыхались бутоны и стебли, мелко моросило. В кармане ощущалась круглая яблочная тяжесть, на душе было и тревожно, и хорошо – как будто сделано должное, и от этого в мире произошли незримые перемены.
– Алина, – тихо произносил он вслух и улыбался.
31.
Дни летели кубарем, и в безудержном движении многое терялось и ломалось – как вещи при переезде. Жизнь казалась книгой, которая пишется по вечерам после работы, и напоминала тревожный сон с пробуждением каждые полчаса.
В Саше проснулось новое. Теперь она жила двойной жизнью. На работе лепила из слов пустые формы, бесконечных двойников, понятных всем, а после работы – искала. Её всегда влекло к живописи, теперь же, после разговоров с Бирюковым, Саша бросилась разгадывать тайну материала. Начав с тени, перешла к оттенкам, затем стала экспериментировать, смешивая краски. Не так много времени потребовалось, чтобы понять, насколько далека и, возможно, недостижима её цель.
– Коллеги, – вещал Бердин, и его крупный, чуть красноватый нос отбрасывал тень на моложавую розовую кожу, – в прошлом номере все поработали неплохо, но сроки, сроки! Прошу учесть, – и чесал короткие волосы: остывший пепел, у висков темно, а к макушке – цвет пломбира в зашторенной комнате.
Саша исподтишка разглядывала коллег, давая названия каждому обнаруженному цвету. Волосы Николая – цвета сухой коричневой земли в солнечный день. Глаза Редьярда в зависимости от настроения и освещения зелены, как вода у берега, или тёмно-серы, как северное небо вечером. Губы Нины Авдотьевны также меняли цвет – от бледно-серого, когда волновалась, до одного из многих оттенков красного – Саша всё смотрела и никак не могла подобрать сравнение.
В один из вечеров она разделась и, стоя в прихожей перед большим, в человеческий рост, зеркалом, удивлённо рассматривала отражение – словно видела впервые. Электрический свет и слегка оплывшее стекло темнили её светлые каштановые волосы, а молочной коже добавляли лунный оттенок.
С Бирюковым они виделись часто – обычно по вечерам, когда Саша покидала редакцию, а художник – лакокрасочное предприятие, где трудился на конвейере. Бродили по малолюдным улицам, болтая о разном.
– Не обижайся, но для художника ты очень связно излагаешь, – сказала Саша.
– Просто художники обычно думают красками, оттенками, – пояснил Бирюков. – А для меня важно уловить не только цвет, но и то, что находится в объекте или за объектом. Ведь одна и та же груша на столе может быть и просто фруктом, и воплощением космического зла, и многослойным символом, и вообще чем угодно – всё зависит от того, что ты в ней разглядишь. Вот, скажем, у меня есть серия портретов, которые на самом деле не очень похожи на портреты. Понимаешь… я умею передавать черты. Я научился этому, я это могу, но в какой-то момент это перестало меня привлекать. Куда интереснее пытаться уловить суть человека – и выразить её штрихами, мазками, линиями.
– А как же Брейгель?
– К нему ещё надо прийти. И я иду – через те самые мазки и штрихи. Такая у меня методика. Сначала – техника, потом – суть, и только в конце – Брейгель, в котором объединяются первые два этапа.
В одну из встреч, когда надо было переходить дорогу, он потянул её за руку, как бы поторапливая, а потом уже не выпустил. С минуту молчали, слушая друг друга руками. Он ждал, не отнимет ли она, она не отнимала и ждала, не отпустит ли он. Он не отпускал. Так и шли – держась за руки, как дети среди новой, дарованной им планеты, которой ещё предстояло дать имя.
Потом они сидели и пили пиво в небольшом кафе, среди географических карт, компасов и фотографий парусников. Хозяин, коренастый бородач, прохаживался за барной стойкой, как капитан на мостике.
– Мне иногда кажется, что у меня сердце стеклянное, – говорила Саша, – Стенки тонкие, а внутри горячо, жизнь плещется, душа. И тогда мне бывает страшно, я боюсь движений, мне кажется, сердце может лопнуть, и осколки пойдут по венам, будут их рвать и царапать.
Он снова взял её за руку.
– Какого цвета моя рука? – спросила Саша.
Бирюков долго смотрел. Узкие запястья и длинные пальцы пианистки, короткие ногти покрыты бесцветным лаком.
– Цвета воздуха во время солнечного затмения – от сих до сих, – он слегка коснулся локтевого сгиба, а затем запястья. – А вот здесь, – поочерёдно тронул запястье, ладонь, пальцы, – как цветки жасмина поздно вечером, – задумался, рассматривая. – А с другой стороны… можно сказать, что это цвет августа и классической музыки, что-нибудь из Вивальди… цвет жизни, которая только начинается, и цвет сна, который приходит перед пробуждением.
32.
Анатолий Павлович спал дурно. Белая звезда, изводившая его в Черепце, в этом городке оказалась ещё ярче. Более того: казалось, она решила плевать на все календари и графики – и не меняла своё положение в небе. Каждый вечер окаянное светило зависало перед окном – и мерцало, мерцало.
Редактор по-прежнему уходил с работы ровно в шесть. Правда, домой его не тянуло, и он специально делал круг: его не ждали, а одиночество тяготило. Шёл вразвалку, покачиваясь, а дома и деревья сливались в нечто общее, лишённое черт, и не было разницы, что за город вокруг: всё едино.
В магазине Бердин брал маленькую бутылку водки: для того, кто одинок, двести-триста граммов на ночь нужнее, чем капли для больного. У Анатолия Павловича была знакомая супружеская пара: те говорили меж собой только при гостях, а наедине молчали и перед сном непременно выпивали по несколько стопок.
Здешняя водка напоминала черепецкую, но была легче и оставляла мятное послевкусие. Кроме того, ей не было альтернативы: на полках трёх магазинов, найденных редактором, имелась лишь «Кроличья нора» в исполнении Спиртзавода № 1. На этикетке под снимком кирпичного тоннеля с редкими красными лампочками багровела надпись: «Нора. Без вариантов».
Пока бутылка охлаждалась в морозилке, редактор ужинал, потом читал. В последнее время чтение давалось всё труднее: посреди абзаца, посреди предложения вспыхивали сигнальными ракетами картинки из прошлого, дымовыми шашками падали воспоминания – и тогда смысл прочитанного отступал и не возвращался.
Былое приходило без приглашения, всё чаще.
Ни с того ни с сего вспомнилась первая жена, дотошная сотрудница налоговой службы, оставленная ради второй, почти вдвое моложе, которая убежала с каким-то моряком. Бердин не любил моряков. Они были шумные, бездомные и непредсказуемые, а ещё с ними убегали жёны, и наверняка это явление носило массовый порядок. С моряками следовало бороться.
Ещё из прошлого выглядывали товарищи из школы и университета, лица их безмолвно белели. Некоторые уже покинули этот мир (Анатолий Павлович аккуратно обводил рамкой их номера в телефонной книжке), связи с прочими сами собой исчезли, растворились, будто и не было их, связей с прочими.
А ещё Анатолия Павловича стал преследовать один и тот же сон, причём началось это сразу после переезда. Будто идёт он по длинному кирпичному тоннелю, и никуда нельзя свернуть, а можно только идти и идти. Просто идти, без всякого смысла. Вперёд или назад – никакой разницы. Кирпичные стены, песчаный пол, редкие слабые лампочки.
– Странный город, – говорил редактор, отрываясь от книги, глядя в темнеющее окно. – Тревожно здесь, нехорошо, нет покоя.
Каждый вечер, усаживаясь в кресло с книгой, он заранее знал, что скоро опять начнётся, и не столько читал, сколько напряжённо прислушивался к себе и к пространству. За стеной тихо звучала флейта: сосед был музыкантом. Соблюдая правила, он извлекал звуки строго до одиннадцати часов.
В один такой вечер явилось Анатолию Павловичу новое воспоминание. В студенческой молодости он написал повесть – и теперь удивлённо понял, что не помнит, ни о чём она, ни что с ней стало. Напрягся, вспоминая авторские переживания, но ничего похожего на восторг прозрения не обнаружил.
Утром кабинет увидел в Бердине перемены: тот был странно задумчив. Текучка, с чавканьем пожирающая минуты, замерла и посмотрела маленькими жалящими глазками. С её холодных чёрных губ падали крошки мгновений.
Затрещал телефон. Звонок был раскатист и предвещал.
– Приёмная градоначальника, – изрекла надменная женщина, и Бердин, неожиданно придя в себя, заволновался. При всей своей механичности он был неравнодушен к надменным женщинам. Обычно у них были глубокие голоса, обильная грудь и хищные ногти. – Мы хотим пригласить вас на праздник. Через две недели будет день города, в центре состоится театрализованное шествие. Там будут награждения, вы – в списке награждённых.
– Я? – поразился Бердин. – Но, простите, за что?
– Да я и сама удивляюсь, – брякнула секретарша. – Сейчас найду, секундочку… а, вот: «за вдумчивое служение, безапелляционное соответствие и неистребимый профессионализм». Официальное приглашение направлено по почте.
Положив трубку, редактор долго стоял у окна. Призраки отступили и перестали тревожить. Рассеялись иллюзии и фантомы, исчезла тень слабой безымянной книги. Признание на высшем уровне! Не зря, всё не зря.
Гордеев Афанасий. «Байки из кратера» – Издательство «Кратер», 1993.
«Район манекенов – одно из самых необычных мест нашего города. Несколько лет назад на волне перестроечного кризиса местная фабрика, выпускавшая манекенов, лишилась заказчиков и разорилась. Не имея возможности ни сбыть уже изготовленный товар, ни обеспечить его хранение, владелец предприятия обратился к городской администрации. Ему дали грамоту за вклад в экономическое развитие региона и пять гвоздик, а продукцию изъяли для масштабной инсталляции. Манекенов разместили в заброшенном квартале на окраине, создав таким образом эффектное арт-пространство, которое может заинтересовать как туристов, так и режиссёров фильмов ужасов».
33.
Николай шёл по улицам, решив заблудиться и развеять по ветру тягостное настроение. Дождь заканчивался, в небе кишели чёрные тучи с серебряной каймой. От деревянных домов тянуло сыростью и сентиментальностью.
Казалось, в этом городе трудно потеряться – завод обозревался практически отовсюду, его громада служила надёжным ориентиром. Тем не менее, довольно скоро выяснилось, что ориентир удивительно недосягаем: он словно удалялся.
Улицы искривлялись, обрывались, врезались в стену, уходили под мост. Идти напрямую к заводу не получалось, он по-прежнему оставался размытой тёмной глыбой, акварельным пятном. Львов понял, что успешно добился своей цели и заблудился.
Вознамерился идти обратно, но на первом же перекрёстке с удивлением обнаружил, что не узнаёт зданий. Сюда он шёл среди деревянных строений, а здесь стояли каменные. Николай растерянно повертел головой.
«Город, город, чего ты хочешь от меня? Нужен ли я тебе, нужно ли тебе имя моё?»
Тучи совсем истощились, воздух прострелили лучи. Высоко-высоко клубилось и звенело царство золотого света, окантованное пурпуром заката. Капли этой оглушительной роскоши по чьей-то великой милости падали сюда, во тьму и сырость, где годами бродят серые люди, ищущие выход.
Николай шёл вдоль длинного кирпичного забора. Через сотню метров картинка изменилась: теперь вокруг стояли хмурые многоэтажные гиганты, с ложными колоннами, облицованные чёрными плитами и явно административного назначения.
Справа проплыл базар. Лотки уже были пусты, по земле пестрели грязные ошмётки дневного торга. Размокшие комья газет, рыбья чешуя, раздавленные помидоры, окурки. За ящиками и контейнерами копошились неприкаянные люди.
Николай шёл. Жизнь периодически посылала знаки своего присутствия, но в прямой контакт не вступала. То там, то сям мелькали прохожие – слишком далеко, чтобы заговорить – и тут же исчезали. Вот человек свернул за угол. Вот девочка нырнула в подъезд. Вот пролетела машина.
Львов остановился. Впереди на скамейке сидели два манекена, неестественная белизна их лиц дарила озноб. Николай медленно подошёл и чуть не вскрикнул, когда манекены повернули головы. Это были настоящие, живые старики. Просто очень ветхие.
Они казались не то гипсовыми, не то мраморными, а точнее – фарфоровыми, настолько очевидной была их хрупкость. Николай неловко поздоровался, старики тихо кивнули в ответ. Над скамейкой вспыхнул фонарь – последний на дороге.
Львов шёл по разбитому асфальту, который не меняли много-много лет. Из трещин торчали травинки, по обочинам колебались сорняки, чьи мощные стебли медленно и неуклонно объедали края трассы.
Нежилое место началось неожиданно. Сначала из-за бурьяна покосилась избушка, потом дома потянулись с обеих сторон одновременно. Дверные и оконные проёмы чернели, и у каждого стояли манекены.
Пластмассовые лица смотрели через разбитые стёкла комнат и чердаков, неподвижные силуэты виднелись в глубине помещений. В одном окне, куда проникал свет, было видно, что манекен лежит в кровати.
На некоторых домах висели заметные таблички: «Аптека», «Школа», «Магазин». Путник остановился возле здания с вывеской «Дом печати» и, приблизившись, заглянул. В комнате всё напоминало их редакцию. Несколько манекенов мужского и женского пола сидели за столами, глядя в неработающие мониторы, один манекен находился в центре композиции. Его руки были заведены за спину, судя по всему, он прохаживался.
– Прòклятый город или фабрика человечества… – пробормотал Николай и оглянулся. Вдали успокаивающе чернел завод, проступая сквозь влажный, нерезкий воздух.
Широкая дорога сужалась, утопая под кронами разросшихся ив. Пройдя ещё немного, Львов оказался на небольшой площади. Здесь было особенно много манекенов. Вероятно, авторы нелепой инсталляции хотели максимально приблизить её к жизни. Если площадь, то на ней должно быть людно. Точнее: манекенно.
Молодой человек собрался возвращаться обратно, и тут его внимание привлёк дом. Обычное бытовое здание из старого кирпича, два этажа, выбитые стёкла, так выглядят складские помещения при школах. С торца прислонена огромная, в два этажа, маска с пустыми глазницами, странная маска для карнавала хмурых великанов. А ещё возле здания не было манекенов.
– Я сейчас по-быстрому загляну в этот домик, – тихо сказал Николай. – Даже заходить не буду, а просто на пороге постою – и сразу обратно.
Последняя чёрная туча растаяла, площадь залили лучи. Солнечный свет – великая сила, сразу стало уютнее. Николай прошёл через толпу манекенов, стараясь не смотреть на их лица, подошёл к зданию, поднялся на крыльцо. И в глубине тёмного холла увидел дверь.
Царила тишина. Отсутствовал и обычный в таких помещениях бардак, сотканный из пыли и брошенных вещей. Стараясь ступать как можно тише, Львов пересёк прямоугольник солнечного света. И едва он взялся за ручку, как над дверью с лёгким электрическим потрескиванием вспыхнула надпись.
Большие буквы, белые на зелёном, гласили: «Вход».
34.
– Значит, я сейчас скажу как надо, а вы потом это по-русски напишете, да? – прокричала Элеонора Мартынова, преодолевая шум цеха. – Только покажите перед публикацией, а то когда суть излагают по правилам, искажается смысл. Грамматика не должна торжествовать над правдой жизни и технологического процесса.
Нина Авдотьевна вежливо улыбнулась.
Девушка была миниатюрна, но основательна, особенно ниже талии, в ней чувствовалось отчаянное желание стать своей в железных джунглях, среди твёрдых угловатых людей. Пока они шли к конторке мастеров, где намечалось интервью, Элеонора успела хлопнуть пару токарей по плечу с криком «Ну что, как там шпинделя?» Мужики оборачивались и преданно смотрели на кожаные штаны Элеоноры.
Конторка мастеров оказалась двухэтажным домиком, сложенным из серых кирпичей посреди гигантского цеха. Окружённый тьмой и грохотом, домик выглядел почти уютно благодаря окнам: они горели живым, желтковым светом.
В помещении было накурено. На столе, застеленном старой газетой, стояла тарелка с яблоками, в углу с виноватым видом замер маленький бюст мёртвого вождя, по углам висели плакаты с полуголыми девицами. Элеонора скользнула по девицам весёлыми глазами и подвинула Нине Авдотьевне стул.
– Как вы пришли в профессию? – спросила Нина Авдотьевна, включая диктофон.
– Хороший вопрос! – оценила Элеонора. – Значит, я сначала в техникуме отпахала, потом сюда пришла, в пятый сектор. Поработала. Когда получила разряд, начальник вызвал, посмотрел пронзительным взглядом и спросил: «Кем хочешь быть – технологом или конструктором?» Конечно, я пошла в технологи.
– Почему?
– Технолог – это же мечта! Технологи, они всё время здесь, на производстве, в постоянном диалоге с коллективом! Так сказать, в гуще событий, в кипении жизни! Всё, что здесь делается, зависит от нас, технологов. Как обработать деталь, чем обработать, за какое время – это всё мы должны рассчитать. Тут фантазия, знаете, какая нужна? О-о-о! Тут без фантазии никак.
Мартынова замолчала и, улыбаясь, смотрела на Стародумову. Та заволновалась: ей решительно не о чем было спрашивать.
– Какие задачи, стоящие перед вами, можно назвать самыми актуальными?
– Вот вы прямо в яблочко попали своим вопросом! – снова оценила девушка и вздохнула. – Всё на самом деле сложно, потому что системы нет. Живущую здесь совокупность погрешностей невозможно перебить точечным влиянием чего-то гениального. И даже когда мы внедряли бриллиантовые резцы и алмазные фрезы, ничего не вышло. Потому что это вопрос менталитета. Мы им инструмент, а они нам – саботаж. Я пытаюсь объяснить, а у них один ответ: мол, хотели как лучше, а не выходит по калибру.
Нина Авдотьевна негодующе мотнула головой.
– Нормальная работа не должна быть исключением из правил, – резюмировала Элеонора. – У нас сейчас как: ой, мы обработали резьбу – и все радуются и водят хороводы. А надо наоборот: наладить процесс и получать удовольствие. Чтобы заказчики удовлетворённо резюмировали, а не строчили в вышестоящие.
– Я так понимаю, вы свою работу любите, – умоляюще сказала Стародумова.
– О, да! – засмеялась девушка. – Здесь мой второй дом. Мне иногда снится страшный сон, что работы нет и я сижу дома. Бр-р-р! Часто задерживаюсь до полуночи, а то и дольше. Меня муж ругает, я, говорит, соберу твои вещи и выгоню из дома, – Элеонора расхохоталась, показав крепкие белые зубы. – Как же! Он ведь без меня жить не может: любит! Но это уже лирика, это в статье писать не надо…
Через десять минут Нина Авдотьевна миновала заводскую проходную. Охранницы не обратили на неё внимания.
– …он полгода встречался с цирковой гимнасткой, – вполголоса говорила одна другой, – но потом бросил, потому что побоялся, что она ему клоуна родит…
Через час Стародумова сидела в пустой редакции и по капле выдавливала из себя журналиста. Работала она обычно так: сначала выписывала в блокнот основные аспекты, потом набивала текст в компьютере, распечатывала – и начинала править уже на бумаге: перечеркивала и надписывала, вырезала абзацы и подклеивала их к другим участкам текстового полотна. Если требовалось перенести большой кусок текста, Нина Авдотьевна обводила его маркером и нумеровала, ставя такую же цифру в той точке, где выбранным словам предстояло обрести вечный покой.
Результат этого труда мог ужаснуть непосвященного, сама же Нина Авдотьевна легко разбиралась в своих шифрах. Но сейчас система стала сбоить: всё чаще Стародумова чувствовала странную слабость и прострацию, слова трудно складывались в предложения. Нина Авдотьевна никому об этом не говорила, боясь потерять работу.
«Девушке не хотелось заниматься чистой математикой, и она предпочла механику. Выбранный путь подарил много открытий и дал большой опыт. Сейчас Элеонора трудится над разработкой и внедрением твёрдых фрез. Когда она рассказывает о своём деле, её глаза горят…»
Нина Авдотьевна закрыла уставшие глаза и обхватила голову. Ей вспомнилась тарелка с яблоками на столе в конторке мастеров. Плакаты с юной плотью. Значок на груди. Пыльный дом посреди грохочущей тьмы.
«По признанию Элеоноры, она – человек скромный и внимание к себе привлекать не любит. Тем не менее, в цехе её знают многие. Пока ситуацию не доработает, не успокоится. Девушка уверена: для того, чтобы двигаться дальше, нужно высшее образование. И в её жизненных планах такой пункт есть».
Хлопнула дверь. В зале появился Тесей Митрофанович, почтальон, курсирующий между заводом и потайным почтовым ящиком в лесу. Старик задыхался, шёл пятнами и напоминал уголёк, обросший пеплом и поймавший случайное дуновение, чтобы разгореться в последний раз.
– Пришло! – возгласил он. – Письмо пришло! Впервые за много-много лет…
– Да что вы говорите, – воскликнула Нина Авдотьевна. – То самое, секретное?
– Нет… Оно для всех… тут сделана приписка, что это объявление в газету… я так долго его ждал, мы все ждали… вы его возьмите, а у меня ещё дела есть, мне надо кое-кого повидать… – старик положил на стол сложенный вдвое лист бумаги и вышел.
Нина Авдотьевна взяла листок и пробежала по строчкам. Написанное было туманным, но ей оно показалось ясным и свежим, как летнее утро. Бердина не было в редакции. Ему ещё предстояло удивиться и вознегодовать.
35.
Николай потянул дверь на себя, потом ещё, и наконец она поддалась, уронив кусок краски и взволновав пыль.
За дверью была безлюдная улица. Старые домики кособочились, заваливаясь друг на друга. Некоторые были сложены из крупных камней, некоторые – точно вытесаны из мягкой, осыпающейся, песчаной скалы. Целая система проводов, бельевых верёвок и лиан дикого винограда держала эту обжитую ветошь, заполненную шёпотом, не давая ей рухнуть.
Улица казалась смутно знакомой, но откуда шло это знакомство – из какой жизни, из каких сновидений? Николай вспомнил, что видел такой свет в детстве, во время затмения, когда по солнцу, пойманному в стеклянный колпак керосинки, ползла тревожная чёрная горошина, обещая конец бытия.
Он шёл по улице. Взгляд назад подарил два открытия: во-первых, завода не было видно, во-вторых, дверь, через которую вышел Николай, пропала. На её месте была стена, увитая плющом. Он остановился и смотрел, тревожно недоумевая, раз за разом проводил глазами по стене, всё надеясь вновь увидеть дверь, – но её не было. Она исчезла, растворилась, вросла, нельзя было вернуться.
Молодой человек вздрогнул, услышав рядом шаги. Ясный взгляд, доброжелательная улыбка, волосы, собранные в хвост. Лицо знакомое, но вспомнить не получается. Когда виделись, где? Как его зовут?
– Поспешите, – мягко сказал прохожий. – У вас мало времени. А точнее, у времени слишком мало вас. Извините, что вмешиваюсь, но кто-то должен сказать, что если хочешь понять правду, не следует читать её с конца. И если вы ищете, не забывайте, что на достижении цели путь не заканчивается.
Николай ничего не ответил. Он пошёл, и шёл, как ему казалось, долго, но потом усталость пропала, осталась лишь холодная тоска: он не знал, где находится, в какой стороне его дом – как лунатик, очнувшийся в конце долгого ночного пути.
Ленивым ветром пронесло алую шёлковую ленту, остался от неё слабый аромат и тихое волнение, шевеление далёких и смутных воспоминаний…
Он увидел пустую трамвайную остановку и низкую арку, ведущую во двор; из неё тянуло цветами, ветхими книгами и зверобоем. Голуби гулькали на крышах и карнизах, надуваясь и кружась перед сизоголовыми горлицами.
Странные дома были в том дворе, рассечённом бельевой верёвкой: окна и двери не имели глубины и казались нарисованными, и только в одном доме дверь была настоящей. Помедлив, Николай направился к ней, но она на глазах вросла в стену. Скользнула крохотная тень, с тихим звоном ударилась об асфальт: маленький ключ выпал из замочной скважины, которая растворилась, перестала существовать. Николай наклонился. Маленький серый ключик, к округлой головке привязан обрывок бечёвки, испачканный зелёнкой и прижжённый с конца.
– Хозяев нет дома, – послышался тихий голос: на балконе стояла сухонькая старушка, похожая на мотылька: дунь на неё – и полетит, медленно кружась. – Хозяев нет, и не будет никогда.
Накрыло, захлестнуло тревожным чувством. Ни души не было во дворе и на террасах. Пустовали полосатые шезлонги среди розовых и синих кустов, под старыми стенами в кольчуге дикого винограда.
Львов направился к арке, но металлические ворота оказались закрыты, а от стен потянуло вдруг таким холодом, что он в ужасе выскочил обратно во двор. Воздух сгущался и обступал, пытаясь поглотить или раздавить.
Молодой человек огляделся и направился в глубину двора, туда, где шелестел старый дуб, туда, где старые плиты усыпаны резной листвой и светло-коричневыми желудями. Из кроны дуба выглянул мальчишка.
– Ишь, как дуб вымахал, – сказал он странно далёким голосом. – Когда его посадили, я был ещё ребёнком. В те годы его можно было наклонить и отпустить, и тогда он дрожал и обиженно шелестел. А теперь, смотри-ка, и вдвоём не обхватить!
За деревом обнаружился старый низкий сарай, грубо обшитый мятыми металлическими пластинами, с настоящей дверью. Короткий ствол найденного ключа тяжело провернулся в скважине, и Николай оказался среди рухляди и старых чемоданов, в царстве окаменевших кистей и высохших красок, истлевших книг.
Впереди оказалась ещё одна дверь, и над ней горело зелёное слово «Выход». Чтобы до неё добраться, потребовалось разгрести торчащие отовсюду костыли, железные ножки кроватей, сломанные картинные рамы. Всё это было острым и твёрдым, сопротивлялось и отчаянно исторгало двухвосток и мотыльков.
Николай спешил. Он не понимал, что происходит, но ясно ощущал, как за спиной меняется пространство. Возможно, манекены бросились в погоню за ним – и как раз сейчас, выломав ворота, ищут по двору. Может, это яма во времени – помнится, Серафим говорил что-то про бермудский треугольник. Да, всё что угодно может быть…
Проём сзади потемнел, словно в воду вылили чернила. Николай отбрасывал вещи, рывками вытаскивал увязшие предметы, вырывал их из прошлого, обретшего плоть. А потом вещи закончились, ключ подошёл и к этой второй двери, и когда Николай раскрыл её и увидел настоящий, обычный, живой вечерний свет, пространство сзади померкло окончательно. Захлопнув дверь, он почти не удивился, когда на его глазах она утратила контуры, стала частью стены, не оставив никаких следов.
Сзади слышались голоса, шумели машины – там, в нескольких метрах, проходила самая обычная улица, на которой шла самая обычная жизнь. Вдали чернел завод. Идти до дома было недалеко. Сердце колотилось, как безумец в камере с войлочными стенами, и ничего не могло с собой сделать.
Оглядываясь и дрожа, Львов лавировал между прохожими, украдкой всматриваясь в их лица. Время от времени вынимал из кармана руку и разжимал пальцы. В ладони был ключ – тот самый, только неожиданно поржавевший и без обрывка бечёвки, привязанного к округлой металлической головке.
36.
Сашин побег, выпавший на серое утро, был спешным и взволнованным. Ей потребовалось полтора часа, чтобы упаковать вещи. Флобер с обтрёпанными краями и Пастернак в твёрдой коричневой обложке, «Богоматерь» Кристуса и женская головка в исполнении Мари Лорансен, одежда – всё, что не так давно выплеснулось из чемоданов, теперь неохотно вползало обратно.
Решение было принято накануне. Саша выяснила, что в городе есть автовокзал, и вознамерилась уехать. Ей хотелось сделать шаг, пошевелиться в системе мироздания, чтобы эта система удивилась и заинтересовалась.
– Ходить каждый день одними и теми же маршрутами – то же самое, что протаптывать тропинку в снегу, – рассуждала Саша. – Если ходить много лет, однажды тропинка станет настолько глубокой, что ты не сможешь из неё выбраться. Пока не поздно, надо сменить маршрут.
Она не хотела объясняться с Бердиным и составила для него записку из подобающих штампов. Семейные обстоятельства, прошу уволить, рассчитать и перечислить остаток (номер карты прилагается), все задания по текущему номеру газеты выполнены. Записку Саша планировала забросить на вахту редакционного здания.
– После этого шага тот, кто всё придумал, должен меня заметить, – рассуждала девушка, в ожидании такси допивая крепкий чай. – Я есть в этом мире, я произвожу движение и говорю слова. Но самое главное – я не плыву по течению, а сама выбираю, где свернуть и где причалить.
Берёзовый лист резко бросило мокрым ветром в открытую балконную дверь. Невероятно, подумала Саша, как он сумел долететь? Она взяла его и, обложив салфетками, поместила меж книг: на память. Он будет напоминать о странном городе, не нанесённом на карту. И о художнике, который разгадывает тайну материала…
Такси летело по хмурым улицам. Просвистели кварталы деревянных домов, грязно-жёлтыми штрихами скользнули бараки с ложными колоннами, ложными арками, ложными барельефами и много ещё чем ложным. За нагромождениями многоэтажек стоял завод, и чёрное его дыхание, теряя силу, спускалось вниз и накрывало город рыжим куполом – лисьим хвостом.
Автовокзал был грустен, как покинутая раковина улитки. В гулких помещениях молчали часы и темнели неудобные пластмассовые стулья, лампы не работали, но горели таблички входа и выхода.
Саша поднялась по лестнице и оказалась в просторном тёмном зале. У стены стоял пустой щит с надписью «Расписание», в дальнем углу жёлтой масляной капелькой горела лампа в окошке кассы.
– Мне надо уехать, – сказала девушка. – Можно узнать расписание?
Из окошка смотрела старушка в больших очках.
– Можно, – проскрипела она. – Автобус стоит внизу. Подойдите к водителю, пообщайтесь.
– А билет?
– Если не передумаете, снова подойдёте ко мне, и я вам продам.
– Послушайте… – Саша оскорбилась. – Что за выдумки? Мне просто нужен билет!
– Не могу. Сначала поговорите с водителем. Такие правила. Можете почитать, вон, на стене бумажка висит. А я тут при исполнении, не надо моё время отнимать.
Девушка вернулась к лестнице, волоча чемодан. Вспомнила, что забыла оставить записку для Бердина. «А, ладно, отправлю по электронке, в конце концов здесь же не глухая тайга, есть какая-то связь с внешним миром… должна быть…»
У крыльца действительно стоял автобус, хотя ещё пару минут назад его не было. На лобовом стекле белела табличка «Из кратера». Водитель сидел на земле, перебирая жёлтые шарики чёток. Лицо его казалось знакомым.
– Автобус идёт в Черепец? – спросила Саша.
Водитель кивнул.
– Можете положить вещи и сходить за билетом. Но сначала подумайте. Я в своё время недостаточно подумал – и вот результат: на полпути усомнился, тут же утратил скорость и застрял. И теперь ни то, ни сё. Работаю между мирами, всех вожу, а сам никуда не могу. Тут как с космическим кораблём: чтобы преодолеть притяжение, нужна скорость. Иначе можно зависнуть на орбите.
Саша поморщилась и подошла к автобусу. Ступеньки были вытерты, из салона пахло бензином, усталым железом, старыми резиновыми кольцами на пыльных стёклах. Тёмно-красные занавески с жёлтой бахромой охраняли полутьму.
И тут случилось нечто, неожиданное, как вспышка, и яркое, как сновидение, из которого нельзя вырваться. Занавески слились в одно красное пятно, в котором утонуло всё – пол, сиденья, перегородки, люки – и Саша увидела свою черепецкую квартиру.
На фоне красного плыли перед глазами знакомые предметы, плыли шкаф и тумбочки, столы и кресла. Полка, на которой не хватало Флобера и Пастернака. Тонкие трещины на дне ванны. Уголок обоев, отклеившийся под потолком.
Саша видела подсвечники и тарелки, разноцветные стопки книг и статуэтки. Знакомый зелёный плед лежал на кровати, готовясь укрыть и согреть.
Она поймала глазами телефон и ясно почувствовала всех, кто позвонит, и всё, что будет сказано, увидела дверь и тех, кому суждено пройти через неё в обе стороны, а потом – себя в кресле. И остро, до боли остро прониклась вкусом неизбежности, которая случится, когда закроются двери автобуса.
– Так будет, – прошептала Саша и поняла, что для преодоления черты совсем не обязательно куда-то идти, ибо черта находится внутри. Кирпичная стена – это не только точка А, но и Б, а также все прочие точки, какие можно измыслить. Взыскующий уже обрёл, а погоню изобрели беглецы.
Она отступила, тяжело дыша, сердце билось, из глаз брызнули слёзы.
Водитель внимательно наблюдал.
– Если передумали, могу подбросить до дома, – предложил он. – Куда вам сейчас из кратера… возвращайтесь, выпейте чаю. И чаще смотрите на север – там Море, а за ним другой берег. Правда, это обнадёживает?
37.
Цепкие пальцы бегали по коротким седым волосам. Анатолий Павлович негодовал, читая корреспонденцию Стародумовой, компот из преувеличений. Бердин любил штампы и считал их основой журналистского ремесла, но прежде они не казались ему такими – мучительно, болезненно очевидными.
«Пётр Кузьмич Михайлов работает на заводе с десяти лет. Сначала он работал на первом участке, потом перешёл на второй, а затем на третий, после чего устроился на четвёртый. Что же привело его сюда?
– Захотелось попробовать чего-то нового, – делится наш герой воспоминаниями. – Вот и пришёл. Попробовал – понравилось. С тех пор и работаю. Вот уже сорок лет.
Профессия Михайлова – долбёжник. С утра до ночи он стучит по железу. Неопытному человеку может показаться, что это монотонная и нетворческая работа, но это совсем не так, эта работа немонотонная и творческая. В ней много хитрых нюансов, которыми опытный мастер щедро делится с новичками.
– Долбёжка – дело тонкое, – усмехается Пётр Кузьмич в густые усы. – Нельзя долбить просто так, надо со смыслом, а иногда и с чувством. Все детали различаются и производят непохожие звуки. Скажем, если стукнуть по этой, получится «дзинь», а если по этой, то «звяк». Угол долбёжки, опять же, надо определить.
Мой собеседник говорит, что уже сроднился с заводом, и в это легко поверить, глядя на его узловатые руки и коренастые ноги, гармонирующие с интерьерной эстетикой промышленных пространств.
Вот такой Михайлов ударно трудится на нашем заводе».
– Бред какой-то, – сказал редактор.
Анатолий Павлович испытывал недоумение, точнее, недоумение беспощадно испытывало его, выискивая слабины в бронзовом покрытии. Он вздохнул и приступил к следующему тексту Стародумовой:
«Германа в цехе уважают. Никто не знает точно его специальность, потому что он на все руки мастер, и на все ноги, и на всю голову. Просто так сидеть не может. Сделает свои дела, идёт другим помогать. Чуть кто замешкался, а Герман тут же его работу и сделает. По творческой инициативе ему равных нет.
– Однажды на завод упал космический аппарат, – с улыбкой вспоминает старший мастер участка. – Из него вылезли космонавты, они плакали и думали, как взлететь. Наш Герман этот аппарат починил и в небо запустил. Правда, космонавты не успели в него залезть, а потому остались работать на заводе, выполняя ответственные и важные поручения.
Свою работу Герман делает добросовестно. Кстати, фамилию его тоже никто не знает, потому что нет смысла её знать – достаточно сказать: Герман, и все тут же понимают, о ком идёт речь.
– Я люблю завод, – признаётся молодой человек. – Мне нетрудно вставать в пять утра, ведь здесь меня ждёт интересная работа. Я сюда и жену привёл, и детей после школы приведу. Буду передавать секреты мастерства!»
На улице послышались радостные вопли, за окном рванулась к небу связка шаров. В кабинете на секунду потемнело, по стене пробежали разноцветные пятна.
Редактор потёр руки и уставился в бумаги. Он сознавал себя нужным и усталым, но внутри что-то дребезжало, словно образовалась расщелина, в которую лезли сомнения и прочее непотребство.
Помимо двух текстов Стародумова оставила Бердину заметку, написанную одним из заводчан. Грубый разум высекал эти громоздкие неспокойные слова. Анатолий Павлович, морщась, прочёл название «Мои мысли о работе» и далее:
«Окружающее томит меня, а я тянусь к красоте. Но красота разная бывает. Вот я гляжу от своего станка и вижу, что дерзкое декольте кладовщицы Настасьи сильно осложняет работу токарей, влияя на качество выпускаемой продукции. Но я сейчас говорю о другой красоте – красоте материала. Сделанная мной сверкающая деталь будет погружена во тьму и многие годы станет там гудеть и грузно рокотать, там, во тьме, света не зная.
У нас в цехе все детали тяжелы, даже маленькие. Когда смотришь на них, думаешь, до чего же плотен материал и до чего неплотно человеческое тело, полное крови и воздуха. Хочется сесть и удивлённо рассматривать свои руки, мягкие и податливые. А ещё меня удивляют птицы. Они всё время роняют перья, и я думаю, это неспроста. Чтобы вернее понять эту загадку и её природу, подберу перо и стану его рассматривать».
Недоумение закончило испытывать Анатолия Павловича. Он сидел, ничего не чувствуя, и не мог ни понять, ни даже сочинить дальнейших действий.
38.
На побережье было холодно и промозгло, стальные тучи кишели чайками, и эта белая накипь низвергалась перьями и пронзительными криками вниз, на сверкающие рельсы, полосующие чёрную землю, в жёсткий песок, обтекающий бетонную площадку, в холодную воду, лишённую дна.
Ветер дул, не прося передышки, здесь у него не было других развлечений. Он дул, размазывая по берегу чёрный дым тепловоза, дул, растягивая щёки и отчаянно ища хоть какую-нибудь зацепку среди вылизанного, спрессованного песка.
– Я не знаю, о чём спрашивать, – честно признался Редьярд. – Я приезжаю к вам уже пятый раз, а вы говорите одно и то же…
– Хороший вопрос! – кивнул Борис Эдуардович. – Стратегия нашего развития, она всё время разная. Например, после последнего интервью мы подкорректировали второй подпункт третьего пункта, который, хочу напомнить, относится к сорок пятой главе, а она является основополагающей для двадцатого раздела.
– Странно, – сказал Редьярд. – Как вы можете перебирать одни и те же слова? Вы хоть понимаете, что в них нет смысла?
– С вами одно удовольствие разговаривать! Скажите, а вы случайно стихи не пишете? Мы хотим создать гимн нашей компании, который отразит корпоративную духовность и станет для коллектива своеобразной молитвой. Не хотите взяться? Это очень интересная, творческая работа!
– Господи, какой бред… – Редьярд встал.
– Вы очень прозорливы для журналиста, – восхищённо качнул головой хозяин порта, но вдруг лицо его побледнело и вытянулось, и заговорил он иным голосом, глумливой скороговоркой, словно кто-то, сидящий в нём, не сдержался: – Кто бы говорил, кто бы говорил. Ты сам-то что здесь делаешь, что делаешь? Взял бы да уехал, уезжай, уезжай, уезжай. Море – это вода, земля – это грязь, нет тебе выхода, нет выхода, мерзкая свинья, – он вздрогнул и напрягся, растянул рот в улыбку и заговорил по-прежнему: – Конечно, жизнь не стоит на месте, но мы своевременно корректируем стратегию развития. При этом предыдущий вариант стратегии обязательно сохраняется, а то мало ли чего. У нас накопилось уже столько вариантов, что для их увязки пришлось создавать отдел. Он находится в конце этого коридора. Люди с утра до вечера сидят и увязывают.
– В конце этого коридора нет никакого отдела, – сказал Редьярд, медленно отступая к двери. Его бил озноб. – Там темнота и голые стены. И никакого партнёра у вас нет. В этом здании вообще нет никого, кроме нас.
– Если вы чего-то не видите, это ещё ничего не означает, – Борис Эдуардович вскочил, взял со стола флажок и прощально замахал им. – Спасибо вам за беседу! Честное слово, так приятно поговорить с умным человеком. Текст на согласование не забудьте скинуть, да? И если надумаете насчёт гимна, милости просим!
Редьярд брёл по бетонному полотну, и, как обычно, задержался у воды.
– Тупик, – признался он Морю. – Не всем колёсам ведома дорога, колёса с белкой крутятся на месте, и сдаётся мне, что я та самая белка. Я прошёл много кругов, прежде чем понял, что они не ведут вверх, а ложатся друг на друга, и один просвечивает сквозь другой, совпадая с ним до мелочей.
Море слушало внимательно и утешительно, и Редьярд говорил.
– Господи, устал я согревать пустоту своим сердцем – она всю жизнь из меня вытянула, и стало мне безрадостно. Господи, вот: руки мои холодны. Всё больше пепла на сердце моём. Когда Ты дуешь, оно разгорается, но потом бывает ещё хуже. Всё больше пепла, Господи, и вот: руки мои холодны…
– Мы привыкли жить в коконах, и если разорвать оболочку, можно с непривычки отравиться свежим воздухом. А коконы крепчают и постепенно начинают иметь мнение и диктовать свою волю…
– Есть вечная стихия, исцеляющая и милосердная. Блажен, у кого морское сердце, блажен, кто ведает с детства, кто пришёл в зрелости и кто успел обрести до ухода. Четыре старца ведают Море: старец Горький, старец Багрицкий, старец Конецкий, старец Беляев. Море сказало через них: нет такого острова, который сам по себе, и нет такого слова, которое само по себе, и нет такой жизни, которая сама по себе.
В мареве, в колеблющемся воздухе возникли пять Нереев: неопределённые фигуры, пенные бороды, серые взгляды, просоленные голоса.
– Кто причастился моря, тот подолгу сидит на берегу, подобный камню, среди гальки и водорослей, думая о начале, – прошелестел старец Горький.
– Кто ходил на лодке ночью, тот помнит, что внизу рыбы, а вверху звёзды, и за каждым подъёмом следует спуск, ибо такова природа волн, – пояснил старец Багрицкий.
– Если не утратишь веру, сможешь соткать парус из полосы заката, а если посмотришь на берег, увидишь того, кто ждёт тебя, – напомнил старец Грин.
– Держись горизонтали, это главная линия: горизонт, волны, туман, береговая линия, птичий полёт – всё горизонтально, – надоумил старец Конецкий.
– Уходя в море, помни белое платье на берегу, в холодной глубине грейся сердцем, в зелёной тишине шепчи женское имя – и вернёшься, – напутствовал старец Беляев.
Очертания растворились, исчезли – и Море явило знамение. Далеко, за неисчислимыми кубометрами размокшего серого воздуха, показалось белое пятнышко. Маленькое, неподвижное, похожее на парусник.
Князев долго смотрел на него, потом побрёл вдоль берега. У подножия угольной кучи Черепанов беседовал с пожилым крановщиком в кепке.
– Ну как, записал интервью? – крикнул Черепанов.
– Записал, – ответил Князев. – Видите пятнышко на горизонте? Вроде корабль?
– Корабль, – подтвердил крановщик. – Я его вчера в бинокль рассматривал. Парусник. Какие-нибудь путешественники. Они пришвартоваться хотели, но кто ж им даст, у нас же стратегический объект. Хотите? – он протянул бинокль.
Взгляд Редьярда скользнул по странно близкой воде, по отчётливой зыби, споткнулся о чёрную корягу с комком водорослей, метнулся дальше – и упёрся в высокий борт, тёмные выпуклости иллюминаторов, полоски клёпаной стали и вросшие в дерево буквы из тусклой меди: «Лиспет».
Проводив гостей, крановщик поднялся в кабину, сел на продавленное сиденье и с удовольствием посмотрел на приклеенную к стене вырезку. Это был рассказ о нём, опубликованный когда-то в газете. В заметке хорошо и правдиво сообщалось о том, что крановщик Нефёдов добился больших профессиональных успехов, пользуется уважением коллег и щедро делится опытом.
Он плеснул из термоса чай и, грея о чашку руки, смотрел вслед тепловозу.
– Журналисты, – хмыкнул он. – Писаки!
39.
Объявление, доставленное старым почтальоном, рассердило редактора, потому что он ничего в нём не понял. Он отодвинул неприятную бумагу подальше и придвинул к себе приглашение, присланное по факсу: этажом ниже менеджеры проводили тренинг и звали на него Сашу.
Получив задание, девушка расстроилась. Она работала над текстом о краеведческом музее и не хотела отрываться от того настоящего, которое было, ради того ненастоящего, чьё существование – иллюзия.
– Запишите отзывы и мнения, – сказал Бердин. – И получится…
– …хороший живой материал, – уныло кивнула Саша.
В большом конференц-зале этажом ниже было оживлённо и массово, в каждом углу стоял стол и доска на треноге. Вилкин вцепился в локоть журналистки.
– Вы вовремя! – выдохнул он с радостной озабоченностью. – У нас важное событие, к нам приехали тренеры, чтобы сделать наших опытных экспертов ещё опытнее. За каждым столом происходит проверка профессиональных качеств…
Саша, борясь с желанием бросить диктофон и дать дёру, подошла к ближайшей группе. Девушка в пиджаке что-то поясняла менеджерам, облепившим стол.
– Итак, – сказала она, поднося к доске фломастер. – Что необходимо для оптимизации?
– Опыт, – сказал кто-то.
– А ещё?
– Командный дух! Компетентность! Оперативный анализ! – выкрикивали менеджеры.
– Отлично, – кивала девушка, записывая большими печатными буквами. – Теперь скажите, что нам может помешать?
– Некомандный дух! Некомпетентность! Неоперативный анализ!
– Молодцы! – похвалила консультант и положила на стол стопку бумажных звёздочек. – Это заработанные вами баллы. Возьмите, в конце работы по секциям посмотрим, какой стол заработал больше.
Саша перешла к другому столу. Там шла деловая игра. Менеджеры стояли в шеренгу и следовали подсказкам ведущей.
– А кто у нас сегодня утром не брился? – медленно спросила девушка. – Ну-ка, погладим свои щёчки… – она изобразила и все повторили. – А кто сегодня не выспался? А ну-ка, потрём глазки… А кто пьёт слишком много кофе? Ну-ка, послушаем сердечко… – она приложила руку к груди, все дружно сделали то же самое.
– А кто лучше всех умеет радоваться пятнице? – лукаво поинтересовалась ведущая. – Ну-ка, ну-ка… – лёгким движением рук она пригласила к импровизации. Менеджеры стали прыгать, хохотать и обниматься.
– А кто больше всех не любит понедельник? – менеджеры начали хвататься за головы, топать ногами, недовольно гудеть и мычать.
– А как мы получаем премию? Ну-ка, ну-ка… где наши ручки…
Все вытянули влажные розовые ладони и широко раскрыли глаза.
– А теперь, – прищурилась девушка, – я посчитаю до трёх, и наступит конец рабочего дня.
Менеджеры впились в неё блестящими глазами. Некоторые возбуждённо подпрыгивали.
– Раз… два… три!!!
Повизгивая от восторга и толкаясь, эксперты бросились врассыпную, но, символически пробежав пару метров, остановились и вернулись. Все были радостно взволнованы, на раскрасневшихся лицах читалось удовольствие.
– Неформатное общение сближает сотрудников, – шепнул Вилкин оторопевшей Саше и снова растворился в воздухе.
– Давайте оценим уровень эффективности, – говорила третья девушка-консультант. – Итак, мы имеем десять процентов. Какой показатель лучше?
– Пятьдесят! – звонко воскликнул юный румяный менеджер.
Все засмеялись.
– Да ты, Вася, трудоголик, – сказала полная женщина. – Пятьдесят – это нереально, давайте пока запишем двадцать три.
– Та-а-ак, – девушка записала. – А теперь поговорим, как достичь этого показателя.
Настала пауза, все напряжённо задумались.
– Надо работать больше, – сказала полная женщина.
Все радостно закивали.
– Надо работать лучше! Быстрее! Эффективнее! – кричали менеджеры.
Девушка улыбнулась и положила на стол стопку бумажных звёздочек.
– М-м-м, – тихо простонала Саша.
Менеджеры оглянулись.
– Это же наша доблестная пресса! – закричал кто-то. – Идите сюда, мы хотим поделиться впечатлениями! Мы поделимся, поделимся, поделимся с вами!
– Я чувствую глубокое удовлетворение, – сообщила полная женщина, закатывая глаза. – Мой опыт стал больше!
– И моя компетенция выросла! – восторженно заявил румяный юноша.
– И мы, и мы! – загудела группа. – Мы, рядовые и начальники, заведующие и кураторы, мы всё расскажем, у вас получится хороший живой материал!
Саша попятилась. Она видела, как к ней тянутся руки, видела лица-маски, слышала голоса, сливавшиеся в один. В ней что-то надломилось, это было больно и правильно, она повернулась и побежала. Гул за спиной не оборвался недоумённым молчанием, там продолжались игрища во имя обильного приплода пустоты.
Гордеев Афанасий. «Байки из кратера» – Издательство «Кратер», 1993.
«Лес вокруг нашего города традиционно привлекает любителей загадочного. Существует множество рассказов о странных происшествиях в нём, причём регулярно появляются всё новые свидетельства.
Например, как рассказала Светлана П., 37 лет, домохозяйка, на её сына с приятелями однажды зимой в лесу напали снеговики. Снежные чудовища сбивали детей с ног, срывали с них шапки и метко бросались в них снежками.
Бывают и более интересные случаи. Рассказывает Борис Б., 50 лет, сантехник:
«Я в детстве пошёл в лес, заблудился и стал замерзать. Зарылся в сугроб, лежу и чувствую: в сон клонит. Держался, держался, глаза слипаются… и вот засыпаю и вижу сквозь дрёму: прилетело много красных снегирей, сели они вокруг, все ветки заняли. Куда ни глянь, везде красное. А потом вспорхнули, стали спускаться и собираться вместе… и вот я уже почти сплю, щёки обморожены, ресницы в инее… и вижу, что из этого красного птичьего облака образуется фигура деда Мороза! И как я его увидел, так и уснул. Проснулся уже дома, под одеялом, родители сказали, что в дверь позвонили, они открыли, а там – я сижу и сплю, к стенке прислонившись, и нет никого…»
40.
С севера тянуло освежающим холодом, и это дыхание обнажало нервы и воскрешало дремлющие сенсоры. Утром и вечером горожане надевали свитеры, выходили на балконы и дышали кофе и сыростью. Почти на всех балконах кто-нибудь стоял, закрыв глаза и прислушиваясь.
В один из дней Нина Авдотьевна закончилась. Она сидела над очередным текстом и вдруг перестала видеть смысловые связи. Попробовала сосредоточиться, но впустую: слова встали поперёк и не выходили.
– Чем заткнуть мне раны свои? – размышляла она. – Росчерками метеоров, запахом яблок? Я перегорела, я пепел, я прах…
Когда они с Сашей шли с работы, Нина Авдотьевна заметила салон проката велосипедов и неожиданно для себя решила ехать за город – проветриться. Саша предложила свою компанию.
– За город? – удивлённо переспросил продавец. – Как же так, за город?
Женщины переглянулись.
– За городом всякое бывает, – пояснил мужчина. – Одному моему знакомому призраки являлись. Он пошёл с ночёвкой, поставил палатку, лёг – тут-то они и пришли. До утра ходили, шептались и непонятное напевали. Он выглянет: нет никого. Только спрячется, снова всё начинается: шепчут и поют. Или вот ещё случай, один человек русалку видел…
– Настоящую, с хвостом? – улыбнулась Саша.
– Никакого хвоста у русалок нет. Они ведь как обычные женщины, только белые и прозрачные, а по ночам ещё и светятся, особенно когда небо звёздное. И глазищи такие, что если заглянешь, то всё, пропал.
– Как же тогда этот человек обратно пришёл, если он в глаза им заглядывал? – спросила Нина Авдотьевна.
– Прийти-то можно, не проблема, да только всю жизнь ему покоя нет. Вы, может, видели его, такой древний старик, работает на заводе и постоянно ходит в лес за почтой. У него там стратегический почтовый ящик. Он ещё в молодости от русалки тоску получил в подарок, с тех пор этим и живёт. Ходит, ищет. Спрашивал его, он говорит, видел ту русалку ещё дважды и всё. Не показывается. Смеётся где-то неподалёку, а не видно её.
Женщины переглянулись.
– Я возьму на день, – сказала Нина Авдотьевна, протягивая деньги.
– И я тоже, – добавила Саша.
– Если что, – внушил продавец, – бросайте технику: она обученная, сама вернётся.
Женщины вышли, торжественно ведя велосипеды за изогнутые серебристые рога. Их дорога лежала в лес и, если удастся добраться, до стены кратера.
Навстречу попался задумчивый Князев.
– Доброе утро! – окликнула Нина Авдотьевна, – Решили прогуляться?
Редьярд остановился. Он пребывал в глубине.
– Да так, брожу, – сказал он. – Вам не кажется, что стены кратера по осени стали сильнее светиться по ночам?
– Кажется, – кивнул Нина Авдотьевна. – А мы вот за город едем. Хотите с нами?
– Да, поедемте, – присоединилась Саша.
– Видите ли, в чём дело, – вздохнул Редьярд. – Есть много способов, чтобы отвлечься, но это всё очень временно и условно, а главное – сбивает с дороги. Если я с вами поеду, мне не хватит этих нескольких часов потом, на подступах к цели.
– А, – понимающе сказала Нина Авдотьевна.
Он помахал им рукой и пошёл дальше.
Запись на белом листе, вклеенном в клетчатую тетрадь:
Мы все постоянно копошимся и мерцаем, а между тем наша цивилизация, рисующая на прибрежном песке буквы и знаки – лишь колония светлячков, облепившая морщинистую кору поваленного Древа.
Каждый из нас – только краткая вспышка тепла, искорка над чёрной пропастью, огонёк в пространстве, где верх и низ непрерывно меняются местами, а точки начала и конца неразличимы на серебристой шкуре Уробороса.
Каждый из нас это знает, ну или чувствует, потому что совсем отрешиться нельзя, это данность, каркас в основании бытия, базовый алгоритм и ключевой посыл. Можно попробовать быть только светлячком, но ни один огонёк не горит вечно, однажды надо назвать правду по имени. Говорят, иногда она отзывается.
Никто не знает, что бывает со светлячками за границами Древа. Вышедший из тьмы на свет спасается от тоски беспамятством, а уходящий во тьму несёт свечу, но когда свет меркнет, он теряет путь и никогда не возвращается.
И вот он идёт по нескончаемому тоннелю, а впереди слышится шум, ну, такой, знаете, как на морском берегу; и никак не понять, где верх, а где низ, и невозможно различить точки начала и конца на серебристой шкуре Уробороса.
Но вот дует ветер, свежий ветер, он срывает с маленькой изнемогшей души коросту мёртвых смыслов и ненужных знаний. И тот, кто ушёл, оказывается с глазу на глаз с Тем, Кто всё это придумал.
Предчувствие встречи, а также смутное понимание того, что она никогда и не прекращалась, живёт в каждом. И поэтому люди идут к Морю. Собираются на берегу, сидят, стоят и лежат, и каждый смотрит туда, где влажный воздух превращает пространство в дымку над запретной гранью.
Оттуда, сверху, это похоже на молитву. Люди идут к Морю нескончаемым потоком. Они входят в воду, доверяя себя стихии, которая так велика и сильна, что может вобрать в себя всех и не захлебнуться всеми.
Люди хотя бы ненадолго пытаются затеряться среди серых и зелёных волн, чтобы уловить смутный отголосок пространства, лишённого верха и низа, пространства, где мелькает серебристая шкура Уробороса – такая гладкая, что невозможно различить точки начала и конца. А над пловцами проступает бледное лицо Луны, уже прошедшей половину дневного неба.
41.
Стоя на балконе высокой башни, Серафим всматривался в осеннее далёко, и увиденное его радовало. Он трижды обошёл башню, прислушиваясь к тому, как под ногами погромыхивает рифлёный металл в пятнах ржавчины. Четыре стороны света сообщали ему свои новости.
Из всех вестей он выделил облака песчаной пыли, почти добравшиеся до кратера с юга, и грузное, медленное волнение Моря на севере. Древняя вода вынашивала думу. Над ней носились ветры, отсюда хорошо был виден их стремительный полёт.
– И весь воздух колебался от движения крыльев, распространявших фимиам… – задумчиво произнёс Серафим.
Он обернулся к башне и, подойдя к большому окну, уткнулся в него лбом.
В тёмном кабинете происходило чёрное таинство, мучительная мистерия. Акционер поднялся и раскачивался в воздухе, ноги его переплелись и образовали подобие хвоста, темнота выходила из глаз и рта.
– Пустое плодит пустое, – грустно сказал Серафим. – И ещё не можно остановить это, но будет назван день, и тогда всё закончится.
Акционер поймал его взгляд и широко улыбнулся чёрным ртом. Раскачивания из стороны в сторону стали ритмичнее, по раздувшемуся телу пробегали волны судороги. Рукава пиджака были пусты, манжеты наливались чернильной тяжестью.
А потом, родившись в хвосте, тяжёлый сгусток покатился вверх, остановился в районе груди – побагровели шея и лицо, глаза выпучились – и, разделившись, пошёл по рукавам. Акционер напоминал огромное насекомое, которое готовится выбросить в мир своё жуткое потомство.
– Дети пустоты приближаются, – грустно прошептал Серафим. – Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них…
Рукава надулись, расширились – и, точно два пулемётных ствола, разорвались мощными залпами. В пространство кабинета с сухим треском саранчи хлынули мажоритарии и миноритарии, бенефициары и принципалы, вице-президенты и партнёры, крохотные и суетливые. Влажные пиджаки облегали их тельца, растущие на глазах, ножки сучили, пальчики шевелились. Чёрные шишки набухали на руках, превращались в портфели и, отсохнув, падали на пол. Маленькие человечки росли и хныкали.
– Кто вы? – вопрошал Акционер.
– Мы – аналитики и эксперты, – отвечали они тоненькими голосами.
– А почему вы плачете?
– Потому что у нас нет площадки для обсуждения ключевых проблем отрасли. Отсутствие издания, в котором мы могли бы высказать свою точку зрения, лишает возможности анализировать и дискутировать…
– Будет, будет вам площадка! – хохотал Акционер.
– Но кто воскорбит в тоске о скудости своей, будет избавлен от беззакония и к правде причащён… – одними губами проговорил Серафим.
Он достал из кармана початую бутылку вина и кусок хлеба, завёрнутый в газету, медленно отпил, закусил и снова посмотрел на юг. Пыля по дороге, две женщины на велосипедах углублялись в лес. Взгляд Серафима, легко продравшись через кроны и кусты, послал им доброе напутствие и улыбку.
– …а ещё меня познакомили с одним краеведом, – крутя педали, рассказывала Саша.
Ей хотелось рассказать о Бирюкове, но не напрямую, а через какие-нибудь отражения и примыкающие факторы. Краевед отлично подошёл.
– Хочу познакомить тебя со своим давним приятелем, – сказал художник. – Пойдём. Тебе будет интересно.
Просторная квартира краеведа Вериги напоминала музей, создатель которого совершал путь только во времени. Его обуревала страсть знать имена и истоки всего сущего. Выяснив дату постройки дома, он продолжал копать дальше, наблюдая, как землю покидают сваи, как затягиваются оставленные ими раны, как зарывается котлован и зарастает бурьяном пустошь, а из травы встают деревья. Всё заканчивалось днём, когда хрустальный небосвод брызнул, пробитый метеоритом, но по обе стороны этой точки оставалось много такого, что требовало уточнения. Художник с девушкой шли за Веригой по коридору, и руки их соприкасались, а краевед был рад гостям и говорил не умолкая.
– Ну и как, вы что-нибудь узнали об истории города? – спросила Нина Авдотьевна.
– Почти ничего. Он объяснил, что все данные хранились в архиве, который находился в другом городе… но потом случился пожар, а затем наводнение, а сразу за ним земля разверзлась. В общем, история утрачена.
– А что-нибудь ещё этот краевед рассказывал?
– Да, говорил, что градоначальник на самом деле – рыба. Его однажды выбросило на берег, Акционер сочинил ему лицо и научил сидеть в кресле. И днём он притворяется, а ночью ест червяков и спит в аквариуме. А ещё он приказывает ловить для него рыб, и самых крупных съедает, потому что боится конкуренции…
– Червяков? Фу, какая гадость, – сказала Нина Авдотьевна.
Дорога была ровная, хоть и грунтовая, ехалось легко, а ещё легче дышалось хвойной свежестью да берёзовой сыростью, осиновым трепетом, осенней прозрачностью. Всё было отчётливым: шелушащиеся стволы сосен, смолистые и шершавые, паутинки, листья и семена, медленно плывущие с неба.
– Мы в детстве думали, что паутинки – это души умерших людей, которые перед окончательным уходом ненадолго возвращаются в мир, чтобы попрощаться с ним, – вспомнила Стародумова. – Считалось, что если повредить паутинку, душа не сможет упокоиться, поэтому старались не задеть их, не порвать…
В стороне показался человек – это был старый почтальон. Он бродил, оглядываясь.
– Вы знаете, Саша, мне осенний лес всегда напоминал службу в церкви. На липах – золотые митры, на клёнах – медно-красные епитрахили. Берёзки похожи на певчих, такие же стройные, белые… а вязы – точно монахи в чёрных рясах… Вы слышите?
– Что? – Саша прислушалась. – Что именно?
– Этот стук, такой слабый, глуховатый, гулкий… вот так вот изредка: бум, бум… Так стучат яблоки, падая на землю. Я очень их люблю, они красивые…
Она не ошиблась: вскоре вдоль дороги потянулись дикие яблони, невысокие, кривые, наполовину облетевшие. В чёрных орнаментах покачивались маленькие зелёные плоды. Время от времени то там, то сям мелькал шарик, покинувший ветку.
«В каждой кроне угадывается модель вселенной, – думала Саша. – Сферы движения небесных тел переплелись, каркас мироздания хрупок, сквозь него сквозит невыразимое. Оно обволакивает сердце, плещется в глазах, а мы – сосуды, захлебнувшиеся золотым светом».
Нина Авдотьевна улыбалась, мысленно уходя в прошлое, от неё веяло теплом и уютом, как от церковной свечки или горячего хлеба. Это тепло особого рода, в нём есть жертвенная готовность напоить, осветить и согреть все озябшие души мира.
Дорога закончилась неожиданно. Она стала вилять, сужаться, темнеть – и путницы не сразу поняли, что достигли хребта, кольцующего кратер. Он начал показываться издалека, но его присутствие не было очевидным, оно растворялось в древесном мраке, среди могучих стволов и вздыбленных сгнивших коряг.
Созерцание пологого лесистого спуска вгоняло в трепет, давая хоть и слабое, но всё же ошеломительное представление о размерах метеорита. Даже в фантазиях трудно и страшно было смотреть, как чёрный камень, изборождённый оспинами столкновений, приближается к планете, и каждая его чёрточка искажается расплавленным воздухом – перед тем, как стать частью нового мира.
42.
Официант, не дожидаясь заказа, утвердил на столе запотевшую бутылку, деревянную солонку и щербатую тарелку с чёрным хлебом. Подумал и добавил в суровое меню два овощных салата и оливки. Потом повесил на дверь табличку «Закрыто» и занял место за барной стойкой.
– Сколько лет мы не виделись? – спросил Князев. – Кажется, пятнадцать?
– Да, что-то вроде того. Быстро время летит.
Князев рассматривал собеседника – тот почти не изменился. Как и прежде, спокоен и сдержан, вот только волосы сильно поредели. Странно было встретить здесь его, человека из прошлого, которое зеленело, шумело и качалось далеко за стенами кратера. Увидев штурмана Хомякова на одной из улиц, Редьярд не поверил своим глазам. Моряки долго хохотали и хлопали друг друга по плечам и спинам.
– Ну, давай, за встречу! – Князев медленно выпил и выдохнул, не закусывая. – До сих пор не могу поверить…
– Буря, – сказал Эрнест. – Всё дело в буре. Она меня сюда принесла.
Он налил, и они помолчали, прежде чем выпить по второй.
Так начинается мужской разговор: речь трогается, как корабль, постепенно набирая ход. А просто чем дальше от молодости, тем реже встречи и весомее слова. И все элементы декорации – белая скатерть, свежий сырой воздух из окна, холодная водка – говорят, что время замерло, а вопросы не требуют ответов.
Приятели начали с обычного ритуала – воспоминаний. Был вызван из прошлого капитан Поршнев, маленький и всегда подтянутый, и сын его Витька-контрабандист, из каждого рейса привозивший то велосипеды, то куртки. За парня выпили отдельно – он погиб в одном порту: возвращался пьяным на борт, был крепко избит в прибрежном парке. Смог подняться и сесть на скамейку, где и умер, лицом к морю.
Выходили из памяти люди и события, и вот уже потянуло ветром и запахло водорослями, зарокотал могучий винт, вспенивая воду, закричали чайки. Снова свалился с трапа в воду неловкий матрос Кошкин, снова при неудачном манёвре была нарушена граница, снова чуть не столкнулись с контейнеровозом.
Снова хохотали над встреченной яхтой, за которой пытался ухаживать кит, снова всматривались в зелёные африканские берега, пытались фотографировать ночное небо и в День Нептуна всей командой поливали кока, имевшего склонность пересаливать. Воспоминания извлекались, как монеты из пиратского сундука, и рассматривались через призму нового времени, на просвет.
– Что за буря принесла тебя сюда? – спросил Редьярд.
Хомяков вздохнул, расправляя плечи. И рассказал. Дело было так.
С наступлением безвременья, которое принято называть эпохой перемен, многие моряки оказались на мели. Выбрасывало на берег старпомов, боцманов, матросов. Они корчились на песке бытия, жабры их пересыхали, а суда, обрастая рыжими пятнами, стояли рядом и понимающе молчали.
Хомяков поработал в охране на железной дороге, страдая без качки, занялся ремонтами – менял сантехнику, клеил обои, ровнял стены. Утешал себя мнемоническими играми. Например, такой: выбирал один из пройденных маршрутов и вспоминал названия пунктов на его протяжении.
А потом подвернулась работа, которая была не морем, но шагом к морю: буровая платформа на шельфе.
– Тяжёлый труд, очень тяжёлый, но там было всё, чего мне не хватало: ветер и волны, – говорил Хомяков. – Я знаю, что ты меня понимаешь, дружище, и это здорово. Поэтому давай выпьем…
Ветер и волны решили судьбу бывшего штурмана. Однажды, когда он ехал в отпуск на берег, налетела буря. Хомякова выбросило из катера, остальные не могли помочь ему, ибо боролись за право не перевернуться. Эрнест погружался и выныривал, наглотался воды и почти ослеп, а потом сильно ударился головой и, вскинув руки, ухватил круг: то ли его бросили из катера, то ли он был изъят Нептуном для спасения штурмана.
– Дальше всё как в кино, то есть не как в жизни, – Хомяков побарабанил пальцами. За окном шёл дождь, люди растекались в пасмурной акварели. – Я очнулся на берегу, у старого маяка, рядом горел костёр и сидела девушка.
Короткими резкими толчками она выдавила из штурмана некоторое количество воды, а после, пока он блуждал на грани, кашляя, напихала под бока сухих водорослей, развела с двух сторон огонь и стала ждать.
– Такого не бывает, – неуверенно сказал Редьярд. Ему вдруг стало пронзительно обидно, что не его смыло за борт, не его спасла девушка.
– Конечно, не бывает, – охотно согласился Эрнест, жестом подозвал официанта и молча ткнул пальцем в меню. Парень понимающе кивнул и удалился.
– Так вот, а потом три недели…
Три недели он провёл у спасительницы и её бабушки, в частном доме, помогая по хозяйству. Старушка целыми днями сидела у калитки, девушка занималась домом и ходила гулять по берегу, с каждой прогулки принося ржавые детали, останки механизмов, не принятые водой. А Хомяков копал, рубил и приколачивал. Пару раз выбирался в город – осмотреться.
Вскоре случилось ещё одно чудо из тех, которые бывают только в кино…
– Погоди, – спохватился Редьярд. – Ты сказал, девушка нашла тебя у маяка?
– Ну да. На берегу есть маяк, старый, не работающий. Знаешь, где местный порт? Маяк будет влево от него по берегу, километров пять или около того. Так ты послушай, что там дальше было…
Девушка принесла с прогулки старую кожаную сумку штурмана, выброшенную на берег. Документы и деньги, по морской привычке основательно упакованные в целлофан, оказались целы.
– Этих денег хватило на то, чтобы начать своё дело, – Эрнест повёл рукой. – Я случайно проходил мимо и увидел объявление: продаётся кафе. Ради забавы зашёл, спросил цену. Моих денег хватало, чтобы купить готовое дело и пару месяцев платить аренду. Так что я теперь… предприниматель!
Князев снова осмотрелся. Стены небольшого помещения покрывали снимки парусников, фрагменты судовых приборов, над барной стойкой висел круг – тот самый, что спас штурмана. В сети под потолком покачивались чучела рыб. Одну из стен занимала карта мира, на которой было прочерчено несколько маршрутов – Редьярд узнал их сразу. Всё это, кроме круга, было приобретено у местного антиквара.
– Живу я здесь же, в подсобке, у меня там комнатка обустроена, – сказал Эрнест. – Дела идут ни шатко, ни валко, но на жизнь хватает. И ты знаешь, мне нравится в этом городе. Твоя очередь, дружище! Ты-то как здесь оказался?
Князев был лаконичен. Говорил коротко, тяготясь неяркостью событий, но утешая себя тем, что при общей стартовой точке, которая находилась в безвременье, они оказались в одном городе. Мысль о маяке не оставляла его.
Официант принёс вермишель по-флотски. Две дымящиеся, ароматные, сногсшибательно пахнущие горки, обильно посыпанные чёрным перцем.
– О-о-о, наше фирменное блюдо! – восхитился Редьярд.
– Лучше, намного лучше! Наш-то кок пересаливал, а у меня пропорция выдержана. И ещё у него тушёнка была, а у меня фарш…
Друзья сидели долго, до того состояния, когда слова не говорятся, а изрекаются, и всё вокруг полно особенной значимости и глубины. Возникали нелепые планы, которые надо воплотить, безумные идеи, которые неверным почерком фиксировались на салфетке. Потом они ощутили себя древними и усталыми.
– Если силы твои на исходе, никому не говори, – торжественно внушал Эрнест. – Мне скажи, а другим не говори. И если делишься с кем-то, всматривайся в человека. У каждого своя функция. Одни работают как фильтры, а другие как моторы. Всегда надо помнить, кому вручаешь слова.
– Если смутишься своими годами, посмотри на море: ему безразлично, сколько тебе лет, двадцать или сто, – поучал Редьярд. – Помни: гораздо проще украсть звезду с неба, чем родинку с плеча любимой женщины. И третье скажу: нужных людей отсеивает время, ненужных – ситуации.
– Тоже верно, – одобрил Хомяков.
43.
Николаю снова не повезло с темой очерка: позвонили с небольшого лакокрасочного предприятия и попросили написать о трудовом человеке, который отличник и во всех смыслах передовик.
– Мы тут людей соберём, и они все выскажутся, кто чего думает, – пообещала трубка.
Журналиста ждали – и взяли в оборот от проходной, обрамлённой чёрными прутьями кустарника. Здание, облепленное яркими плакатами с рекламой красящих материалов, контрастировало с серым небом, серым дождиком и серыми лицами рабочих, которые собирались в группки и дымили, несмотря на морось.
Технолог Моржов, бодрый рифмоплёт, провёл Николая в зловещие глубины конвейерного производства. Львов не оглядывался, но спиной чувствовал, как меняется дорога за ними. Под ногами шмыгали мелкие пыльные кошки, жалкие, со слезящимися взорами.
– На размеры не смотри, они сильные внутри! – радостно басил технолог. – Смысл их бытия не нов: ловят разных грызунов!
За вереницей непонятных устройств и сооружений тянулись низкие конторки и подсобки, в них плавал табачный дым и цифры производственных планов. Передовик оказался сонным парнем, рыхлым и равнодушным. Он сидел на ящике в окружении женщин в заляпанных спецовках.
– Лев Комаров, бригадир маляров! – провозгласил Моржов. – А вот и его дамы, не зря пришли сюда мы. Вот Прасковья, дай ей бог здоровья. Вот Лала, дай ей бог капитала. Вот Рогнеда, дай ей бог чего другим не дал. Вот Хадижат, подкинь ей бог деньжат. Общайтесь! – и весельчак, сделав шаг назад, исчез.
Львов повернулся и поймал взгляды. От него чего-то ждали, как от актёра, вышедшего на сцену. Он должен показать коронный номер: достать диктофон и проявить интерес.
– Говорят, что вы передовик… – упавшим голосом сказал Николай.
– Работа у меня творческая, – зевнул парень. – Я в детстве мелками рисовал и все говорили, что буду художником. Так и вышло. Работаю с краской.
– Понятно… Можно взглянуть на примеры вашего труда?
– Да, конечно, – парень указал на кусок железа, покрашенный светло-коричневым. – Вот. Такую краску мы раньше не применяли. Эту деталь мы сами покрасили. Новой краской. Она не такая коричневая, как раньше.
Николай посмотрел на кусок железа и не нашёлся что сказать.
– Нашу краску во всём городе используют, – сказал парень. – И на производстве, и в ремонте. Заборы, стены, дорожная разметка – это всё мы. Когда ещё аэродром работал, там тоже все полосы нашей краской рисовали.
Его голос лучился гордостью, женщины сияли, взгляды были прикованы к детали.
– Аэродром? – встрепенулся Николай. – Вы сказали, здесь есть аэродром?
– Ой, напишите про меня, – воскликнула крутобёдрая малярша. – Я лыжница и хохотушка, у меня есть грамоты за олимпиады…
– А у меня скоро день рожденья, давайте вы меня в статье поздравите, – предложила другая, застенчиво улыбаясь. – Можно написать, что есть в бригаде такая работница, и мы её сегодня поздравляем. Это будет хороший сюрприз…
– Где, вы говорите, находится аэродром? – переспросил Львов.
– В свободное от работы время я интересуюсь телевизором, – сообщил Комаров, моргая красными глазами. – Знаю программу передач на много дней вперёд. Переключаю каналы не глядя. Некоторых ведущих могу понимать с выключенным звуком – по губам.
– Аэродром… – снова начал Николай.
– День рожденья у меня будет через неделю, – сказала застенчивая женщина.
– А я лыжница и хохотушка… – завела румяная малярша.
Он понял, что ничего больше не услышит, стал прощаться, неловко и торопливо, и тогда женщины хором изъявили желание высказаться о Комарове. Дать товарищескую оценку и пожелать человеческого счастья.
Львов вручил им диктофон, и малярши стали по очереди хихикать и наговаривать, а он стоял и думал о самолётах. Где-то здесь есть аэродром. Раньше он работал, теперь не работает. Но даже если в лестнице, ведущей к небу, не хватает ступенек, всё равно это лестница, ведущая к небу, а не что-то другое.
Старушки-вахтёрши на проходной не обратили на него никакого внимания.
– А потом он вышел под дождь, – бормотала одна другой, – и тут же подмочил репутацию, потому что прослыл вредным фантазёром…
Николай смотрел на хмурое небо и чувствовал, как лопаются хрупкие ниточки, идущие от сердца к миру: так рубят канаты, которые держат воздушный шар. Ему вспомнилась Алина, её образ был как звёздный лучик: чистый, обнадёживающий свет.
44.
Искры, покидая костёр, взлетали и гасли, их жизнь была коротка, а путь – извилист. Серафим задумчиво смотрел в огонь, не обращая внимания на Акционера, который сверлил его чёрными глазами. Лес молчал, готовясь услышать.
– Твои усилия – капля в море, – сказал Чёрный человек. – Ты ничего не изменишь.
– Я и не должен менять, – пожал плечами Серафим. – Менять должны другие, у меня на это нет полномочий, да ты и сам знаешь.
– Всем нужна определённость, без неё они страдают. Я даю им чёткие цели…
– Получая множество целей, они утрачивают цельность.
Акционер досадливо махнул рукой и плюнул в костёр. Огонь затрещал и посинел, запахло прогорклым. В дыму проступили контуры людей, искажённые, рваные лица, разъедаемые безмолвным криком – каждый образ жил пару секунд и растворялся.
Чёрный человек посмотрел на Серафима.
– Ты причиняешь знания, не совместимые с нормальной жизнью, – заявил он. – Ты вынуждаешь их искать, но поиск чаще всего бесплоден, а обратной дороги нет.
– Поиск не бесплоден – нет шагов и слов без последствий. Просто искомое настолько велико, что иногда надо отойти на много лет, чтобы разглядеть.
– Разглядеть то, до чего уже не будет сил дойти?
Серафим хотел ответить, но промолчал. Вместо этого он встал, потёр виски и прошёлся – бесцельно, в разные стороны. В нём не было обычного ясного покоя, и Чёрный человек чувствовал это. Он бросил ещё несколько реплик, но Серафим не отвечал, продолжая ходить и оглядываясь. Наконец сел и замер.
– Господи, – тихо сказал Серафим. – Сколько же в них усталости. Как же устали эти люди, как устала эта земля. Они просыпаются измождёнными и засыпают полуживыми. В них есть жажда, но нет сил сделать глоток. Они приходят к закату заживо погребённые делами, которые, ещё не начавшись, уже обречены на забвение. Все эти люди… они тянут жизнь по-бурлацки, стирая тела и души. Усталость стала привычкой, они живут с выцветшими глазами и хриплым голосом, и даже получают удовольствие, потому что видят в этом несомненные признаки мудрости и всепонимания. Господи, огляди ночные земли и узри, сколько выжатых душ смотрят свои повторяющиеся сны… Сколькие живут не от молитвы до молитвы, а от выходного до выходного… Господи, огляди землю твою, усталостью она полна…
Он замолчал, закрыл лицо руками и замер. Казалось, большая птица сунула голову под крыло и уснула. Чёрный человек осторожно подсел и хотел приобнять Серафима за плечо, но передумал и отвёл уже занесённую руку.
– Ну, ну… – подбодрил он. – Не раскисай. Не надо принимать так близко. Я тебя отлично понимаю! И всегда понимал. Ведь мы с тобой знаем, чего от них ждать. И ты знаешь, и я знаю. И мы всегда можем об этом поговорить. Мы об одном и том же говорим, на самом деле. Просто немного разными словами.
Серафим поднял голову, потянулся – и Чёрный человек на всякий случай отодвинулся.
– Бедные они, бедные, – сказал Акционер гнусаво. – Так устают. Но мы можем помочь. Ты и я. Просто не хватает порядка иногда. Вот эти все абстракции, они расслабляют.
Серафим закрыл глаза.
Огонь испепелил дрова.
Закричали птицы, затрещали ветки под ногами, потянулись по воздуху паутинки, где-то в озере мощно ударила хвостом рыбина.
– А! – чёрный человек досадливо махнул рукой, размазался чернильным пятном и растворился меж стволов.
Серафим, улыбаясь и тихо напевая, смотрел вдаль – туда, где мшистая громада хребта, щетинистая и спокойная, источала внимание, пели невидимые птицы, бродили неведомые звери, блестя глазами. Осень не началась, но её дыхание уже опалило листву. Клёны кровоточили, берёзы и осины образовывали золотые пятна.
Огромное насекомое, изумрудно сверкая, низко и тяжело летело над тропинкой, обхватив лапками гусеницу. Почувствовав присутствие, оно бросило ношу и шарахнулось, почти сразу вернулось и стало искать утраченное, но не могло найти.
Нина Авдотьевна и Саша шли по тропе, ведя велосипеды. Проникнувшись красотой места, они молчали – и в немоте достигли подножия, где им открылся широкий извилистый проход.
– Как-то страшновато, – прошептала Саша.
– Ну, что ж страшного, – утешила Нина Авдотьевна.
Они пошли дальше, рассматривая стены. Камень был тёмный, ближе к чёрному, как сырая бычья печень на прилавке. Его усеивали белые прожилки, сверкающие штрихи, звёздные брызги. Дорога под ногами менялась: грунтовка, покрытая листьями, комками паутины и редкими перьями, перешла в мелкий песок.
Белая Степь открывалась степенно, как запретная книга. Сначала воздух стал светлеть, потом он ещё посветлел, потом ещё, а потом хлынул свет, снося переборки прозрачного марева. Стало трудно дышать и смотреть.
Перед путницами расстилалось море белого света, океан белого света, мир белого света. Белый свет плескался и клубился, порождал завихрения. Зеркало равнины производило режущее сверкание, по нему гуляли ветры, и траектории их полёта были пугающе отчётливы.
Горизонта не было – его зализал огромный белый язык. Белизна, похожая на зубную боль, била по глазам. Почему-то не было никаких сомнений в том, что никому не под силу пройти эту ослепительную пустоту.
– Наверное, в этой бездне многие сошли с ума, и теперь их скелеты смотрят глазницами туда, где должен быть горизонт, – предположила Саша.
Их внимание привлекло облачко с южной стороны. Сначала показалось, что оно плывёт по небу, потом стало ясно, что стелется по земле.
45.
Алина не удивилась, открыв дверь и увидев Николая.
– Проходите. Чай будете? Сделайте сами, ладно? Я работаю… И мне тогда тоже налейте, только покрепче.
На большом круглом столе посреди комнаты было царство механики. Шестерёнки, втулки, пружины, платины, разложенные по коробочкам, блестели под лампой с красным абажуром. Отдельно лежали инструменты – щипцы, зажимы, маленькие отвёртки. Над всем этим богатством тянулся белёсый дым из оранжевых чашек, а за окном синел вечер, и древняя женщина на скамейке казалась чёрным камнем.
Был мне вещий сон. Приснилось, будто стою в родном селе, перед знакомою церковкой – грязная, оборванная. Постояла, зашла и вижу: впереди, там, где большой крест с распятием, стоит на коленях Божья Матерь в поношенном тулупчике и горько-горько плачет. Посмотрела я налево – там, в простеночке, стоит на коленях же Христос в сером армячишке и тоже плачет. Проснулась – сердце бьётся, по всему телу напряжение, зажгла лампу и стала писать письмо в своё село родственникам: мол, так и так, такого-то числа видела сон. Через какое-то время приходит ответ: ночью ты видела сон, а утром на церкви сняли кресты…
Львов украдкой рассматривал Алину. Красивая? Это не то слово, неверное, неточное. Тогда какая? Живая и свежая, как дождь – наверное, так. В ней звучала музыка, и Николай слушал с упоением.
– Прабабушка изменилась, – сказала девушка, сосредоточенно прилаживая шестерёнку. – Не знаю, что именно случилось, просто позавчера вечером в доме остановились все часы. И я ощутила, что бабушка меняется.
Николай не сразу понял, а потом повернулся к тишине за спиной: часы, покрывавшие стену тяжёлым ковром, действительно молчали. Стрёкот стрелок больше не упорядочивал пространство.
– В тот же вечер началось вот что, – Алина раскрыла ладонь, и Львов увидел, что кожа шелушится и трескается. – Меня тоже ждут перемены.
Он смотрел на неё уже не исподтишка, а открыто.
– Будем на ты, хорошо? – предложила девушка: – Чем занимаешься, кроме газеты?
Львов растерялся.
– У меня сейчас только одна работа. Иногда бывают какие-то халтурки…
– Нет-нет, я имею в виду, чем живёшь, о чём думаешь? Стремишься куда?
Николай заулыбался, широко и смущённо. Вопрос был новый, незнакомый.
– Ну, я собираю самолёты, знаешь, продают такие коллекционные модели… Собрал уже довольно много. Мне нравится авиация, только не современная, а старая.
– Ага! – обрадовалась Алина и решительно поднялась. – Вот что, пойдём, я срочно должна тебя кое с кем познакомить.
Почувствовала в нём досаду и улыбнулась.
– Пойдём-пойдём.
Когда они вышли за калитку, Львов посмотрел на старуху. Створки век, опустившись на усталые глаза, были бестрепетны, руки сделались медными – казалось, не разорвать лабиринт пальцев, в который вошли две руки, став одной.
Была у нас корова Мара, кормилица наша. Вся рыжая, а на лбу да на груди – белые брызги. Уж на что умница была, спокойная, ласковая… Один только раз нашло что-то на Марушку, стала бодаться, в огород выскочила – насилу загнали обратно. Я с ней часто в лес ходила. Привяжу её к дереву, а сама сижу, вышиваю. А кормилица моя траву щиплет. Какую нужно – ест, какую не нужно – не трогает. Спокойно с ней было очень. А потом вышел Марушкин срок, решили её забить. Я тогда сильно плакала, из дома выходить не стала, но всё-всё слышала. Когда Марушка замычала, это она меня звала попрощаться. Я долго потом горевала и Марушку свою во сне видела. А как она меня звала напоследок, я до сих пор этот голос слышу…
Дорога петляла среди деревянных домов, полных жёлтым светом и детскими криками. В таких домах прихожие пахнут старым деревом и сыростью, а половицы по ночам скрипят, отдавая накопленные за день шаги.
– А вот тут я училась, – Алина указала на длинное двухэтажное здание, окольцованное корсетом ограды. – Вон те окна – библиотека, справа от них – кабинет математики, потом – физика, история. А окна литературы, русского и труда выходят на другую сторону… У меня тут любимое дерево есть – видишь, вон там, над кустами темнеет? Это яблоня. Она к осени всегда покрывается маленькими плодами. Наша уборщица, баба Шура, старая татарка, их собирала – говорила, варенье из них получается неплохое. А мне просто нравилось стоять рядом и смотреть, это очень красиво: чёрные ветки, покрытые зелёными шарами. Я когда мимо иду, всегда любуюсь, жаль, сейчас темно, не видно.
Они двинулись дальше. Вскоре Алина остановилась у большого гаража, сквозь неплотно прикрытые двери пробивались звук и свет. В бетонной коробке, заставленной большими странными деталями, трудился крепкий старик. Увидев девушку, заулыбался.
– Антон Павлович, добрый вечер, – поздоровалась она. – А я к вам журналиста привела. Николай Львов из местной газеты. Много о вас слышал, хочет написать. Антон Павлович строит самолёт, – объяснила она Николаю. – По своим чертежам.
– Ну, раз вас Алина рекомендует, проходите, пожалуйста, – сказал старик.
Львов растерянно вступил в трудовое пространство.
– Ну что рассказать… Работал на городском заводе. Начал с технолога, закончил начальником отдела в КБ. Проработал много лет и, если честно, совершенно этого не заметил: интересно было. Очнулся, когда на пенсию вышел. Как же это так получилось, думаю, что жизнь пролетела? Очень эта мысль задела, всё казалось, будто меня кто-то обманул… На заводе всякие грамоты и цветы вручают, руку жмут, благодарят за выслугу лет, за ударную работу, за то, что знаниями с молодёжью делился. Я всем улыбаюсь, а внутри – такая непогода, хоть зонтик ешь. Ужасно захотелось мне вырваться из этой ситуации, сбежать от неё, взлететь, воспарить… и вот однажды я проснулся среди ночи и понял: надо построить самолёт! И как-то сразу я эту мысль принял, и не было у меня в ней никаких сомнений.
– Разве можно просто так взять и построить самолёт? – усомнился Николай.
– Ещё как можно, – заверил Антон Павлович. – Аэродинамика, чертежи, оборудование и навыки работы – вот и всё! Эти детали я собрал из того, что на заводе забраковали. Они основной брак утилизируют, но мне удалось договориться, что-то мне передают. Труднее всего было с чертежами, не для всех элементов удалось их найти, где-то пришлось самостоятельно выполнять расчёты.
Николай чувствовал горечь и не мог понять, где допустил ошибку, но потом сообразил, что вопрос стоит по-другому: не надо спрашивать, что ты сделал неправильно, если ты не сделал ничего. Мысль была неприятной и обидной, но честной: если выбрал направление, не удивляйся достигнутой цели.
Старый инженер всю жизнь крутился в работе, варился в её котле, вываривая свою суть, он был нужным – и потому не успевал подумать о себе, своей жизни, своей мечте. Едва он остановился, как всё, на что не было времени, явилось за расплатой.
– …Мне просто нужен полёт, – донёсся голос Антона Павловича. – Хочу чувствовать, как машина, которую я сделал вот этими руками, бежит, набирая скорость, и отрывается от земли. Хочу чувствовать, как по всей конструкции пробегает дрожь и как машина борется с воздухом. Хочу чувствовать ветер и лавировать…
Николай всё оглядывался. Он стал узнавать детали – точно из таких же, только ненастоящих, собраны самолёты в его коллекции.
– А куда полетите, в какую сторону?
– На север полечу, – сказал инженер. – В море есть земля. Километрах в десяти. Наверное, остров.
Николай вернулся домой совершенно потерянным. За окном было темно и свежо, фонари не разгоняли тьму, но тонули в ней с шипением, оставляя в воздухе нерезкие масляные пятна. Львов оделся потеплее, распахнул окна и долго сидел перед своими самолётиками, которые никуда не могли его унести.
Когда закончилась водка, он ещё постоял на балконе, а потом лёг, не раздеваясь, и, сдерживая головокружение, почувствовал, как с какой бешеной скоростью летит его сознание – над масляными пятнами фонарей, над деревянными домами, над ржавыми механизмами, выстилающими безлюдное побережье.
46.
Пиджаки шли волнами, кислой накипью плескались воротнички и манжеты. Специалисты по большой и малой трансформации, консультанты по переносу отчётов с одного края стола на другой – все бегали и сталкивались, пожимали руки и утомлённо падали в обморок.
Время от времени распахивалась какая-нибудь дверь, из неё с воплем вылетал пиджак, объятый пламенем, и штопором ввинчивался в кабинет напротив. И все уважительно понимали: не жалеет себя, горит на работе, с планёрки сигает на летучку.
– Уровень совещаний упал, денег хватило только на раздувание щек, – говорил один менеджер другому. – Конечно, приедут не начальники, а их заместители, но ведь и этих людей надо поить…
Увидев Ивана Афанасьевича, они раздались в стороны – и за его спиной вновь сомкнулись, беззвучно и плавно, как ряска на чёрной воде. Откуда-то сбоку высунулся Вилкин, подозвал их жестом и протянул стопку бумаг:
– Коллеги, журналисты прислали текст на согласование, по-моему, он сырой, надо доработать, прошу заняться, – и втянулся обратно.
Менеджеры прикоснулись к тексту длинными тонкими пальцами.
– Ну, это как-то не по-русски, – отметил первый.
– Что-то как-то криво написано, – подчеркнул второй.
– Надо полностью переделывать, – резюмировал первый.
– Могли бы и шрифтами поиграть, – заявил второй.
На одной из распахнутых дверей висела табличка «Пресс-конференция». Уборщик осторожно заглянул. В зале, уставленном стульями, сидел растерянный Николай Львов, а перед ним за длинным столом – десяток важных пиджаков.
– Мы собрались, чтобы отметить знаменательное событие: наша фирма получила диплом городской администрации как лидер рынка, флагман отрасли и передовик ниши, – звонко прокричал самый юный из пиджаков, и все его соседи закивали и зашевелили рукавами. – А теперь, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы!
Николай ещё раз оглянулся: он был один.
– Кто первый? – спросил пиджак, осматривая пустой зал. – Не забывайте представляться и сразу уточняйте, кому именно адресован ваш вопрос.
Парень посмотрел на дверь, и старика поразило выражение его глаз. Тоска в них была звенящая, как самый ясный день осени, серебристая, как души, летящие по небу, грузная, как большая речная рыба в тёмной глубине.
Непостижимым образом дверь вздрогнула и резко захлопнулась. Иван Афанасьевич вздохнул и пошёл дальше, неся ведро и тряпку в свою каморку. Она была узка и скудна наполнением: стул да крючок, да полки для разноцветных жидкостей, едких и ароматных. Ни один пиджак не посмел бы сюда сунуться.
За стенкой послышались голоса. Там находилась комната для повышения мотивации и наращивания компетенции. Старик забрался на стул, сдвинул календарь и воззрился в тайное отверстие.
На стуле посреди комнаты сидел, сгорбившись, рабочий человек в мятом картузе, по суровому лицу бегали желваки, напрягая жёсткую кожу. Трудовые его руки, большие и мозолистые, лежали на коленях.
Перед ним стояли три менеджера с блокнотами и карандашами.
– Вы должны кое-что понять, – сказал один из них. – Предприятие, на котором вы трудитесь, является стратегическим. Для успешной работы каждый должен ведать и разделять его цели, радуясь им и проникаясь.
– Повторяй за мной, – настойчиво сказал другой менеджер. – Мы – единая команда…
Рабочий скривился и посмотрел с ненавистью.
– Слишком рано, он ещё не готов! – укоризненно бросил первый пиджак второму, снова повернулся к рабочему и грустно улыбнулся. – Возможно, вы занимаете не своё место? Вы любите свою работу?
– Люблю! – с ненавистью выкрикнул пленник.
– Наш бизнес-тренер Олеся провела тест, – сообщил менеджер. – Знаете, какой результат? Вы с вашей бригадой несовместимы!
– Да ладно! – захохотал пленник. – Мы с мужиками двадцать лет вместе пашем. Мы ж все как облупленные и вывернутые! И праздники вместе, и печали!
– Это потому, что вы не задумывались, как сделать ваши отношения более эффективными, – пояснил менеджер. – Вы находитесь в преступной эмоциональной зависимости. Но мы вам поможем. Вы должны не дружить, а сотрудничать, если разделяете цели…
Третий пиджак, доселе молчавший, приблизился.
– Вас видели, – заявил он, ухмыляясь. – Вчера после обеда вы подняли с земли несколько птичьих перьев. Зачем вы это делали?
Рабочий помолчал немного.
– Над нашим заводом летают чайки, и с них падают перья, – сказал он. – Мне пришло в голову, что это неспроста. Может быть, чайки что-то берут себе взамен. И тогда я решил собрать несколько перьев, чтобы разгадывать эту загадку…
– Нет никакой загадки, – хмыкнул пиджак. – Вы теряете связь с реальностью и не можете понимать целей компании, а значит, от вас получаются убытки, что создаёт угрозы, риски и прецеденты. Но мы социально ориентированы, и потому согласились на просьбу руководства предприятия поработать с вами…
Менеджер достал из кармана томик в чёрной обложке.
– Моя любимая книжка, – нежно сказал он. – Много лет назад первый на земле менеджер ушёл в горы. Там он провёл три ночи, питаясь бизнес-ланчами, а потом спустился, неся камни, на которых были нацарапаны корпоративные заповеди…
– Нет, нет, – замотал головой рабочий, – только не это…
– «Диалоги о целях», глава первая, – холодно произнёс пиджак. – «Между сотрудниками могут возникать дружеские, любовные либо иные непрофессиональные отношения. В таких ситуациях каждый из участников должен оценить, какие риски для компании могут повлечь возникшие отношения и не оскорбляют ли они общественную мораль…»
Морщась, Иван Афанасьевич слез со стула. С минуту он стоял, прислушиваясь к стонам рабочего, потом они стихли, слышалась только размеренная декламация.
– Нежить офисная, – вздохнул старик. – Совсем уморили…
47.
Небольшая колонна людей и повозок, запряжённых быками, приблизилась и медленно втягивалась в расщелину кратерной стены, мимо ошарашенных женщин, стремясь в прохладную зелень, в живительную тень.
Не углубляясь в лес, люди остановились и стали располагаться. Двое направились к Саше и Нине Авдотьевне – мужчина, который шёл впереди колонны, и загорелая женщина с гривой чёрных спутанных волос.
Они были молодые и усталые, с потрескавшимися губами и обветренными лицами. Необычны были глаза путников: глубокие и тёмные, как безлунная ночь, у женщины, и сквозящие неизбывным удивлением – у мужчины.
– Подскажите, пожалуйста, эта тропинка ведёт в город, я не ошибаюсь? – спросил он.
– Не ошибаетесь, – ответила Стародумова. Саша растерянно молчала.
– Мы идём к Морю, которое находится за городом, – пояснил человек. – Вы случайно не знаете, есть ли поблизости какой-нибудь источник воды?
– Есть! – вспомнила Саша. – Отсюда недалеко, метров сто, там небольшой ручеёк пересекает тропинку, мы его проезжали.
– Прекрасно, – обрадовалась женщина. – Я попрошу кого-нибудь… – и, пошатываясь, направилась обратно.
– Извините… вы путешественники? – спросила Саша. – Я слышала, через Белую Степь нельзя пройти пешком…
– Пройти можно везде, была бы цель, – не согласился мужчина. – Хотя, думаю, есть люди, которые умудряются пройти через всю жизнь, не имея цели… Вы меня извините, мы все очень устали… нам надо поставить лагерь…
Женщины отправились обратно, к расщелине, добрались до выхода из кратера и долго стояли. Ветер носил потоки воздуха, полосуя пространство белёсыми штрихами. Его далёкий гул, стелясь по безлюдному миру, был голосом планеты, музыкой, которую некому слушать. А потом сзади послышались мягкие шаги – это был человек, прошедший через пустыню.
– Сегодня я буду спать крепко и долго, – сказал он. – Позвольте представиться: я – Урий, а жену мою зовут Вирсавия. Спасибо, что подсказали, где найти ручей – как раз сегодня утром у нас закончилась вода…
По расчётам Урия через несколько дней Море должно расступиться, и тогда можно будет безбоязненно пройти по дну морскому к иным берегам. Нина Авдотьевна слушала с тревогой, смущённая тем удивлением, которое не покидало лицо мужчины.
– Это на самом деле чистая физика, – объяснял Урий. – Если некий элемент противоречит среде, она его вытесняет, ну или он сам покидает её. Когда-то я оставил одну жизнь ради другой, но и новая оказалась не моей.
– А если конкретнее? – уточнила Саша. – Как всё случилось? Как происходила эта смена жизней?
– Сложный вопрос, – нахмурился Урий. – Понимаете, если уходишь из одной жизни, то воспоминания стираются. Так устроено. Но это не главное. Главное – если находишься не в своей среде, она будет тебя выталкивать. Чем больше ей не соответствуешь, тем сильнее она тебя выталкивает. В общем, меня выбросило. Так я встретил Вирсавию, а потом и остальных. И впервые обратил внимание на ослепительную звезду, которая зажглась на севере. Как будто в далёком тёмном окне кто-то поставил маленькую свечку – специально для меня. А вскоре я научился видеть звёзды на дневном небе…
Девушка вздрогнула. Ей вспомнился автовокзал – и обрамлённое красными занавесками окно, которое открылось в жизнь, изученную до сантиметра, до минуты, до интонации.
– А что там, на иных берегах? – спросила Нина Авдотьевна.
– То, чего нет здесь, – пожал плечами путник. – То, что ищут и не могут найти на этом берегу. Там ищут себя, если не удалось отыскать себя здесь. Сегодня и завтра мы будем отдыхать, а потом двинемся дальше, в обход кратера…
Обратно Нина Авдотьевна и Саша ехали молча.
Незадолго до города на тропинке показался Иван Афанасьевич, идущий им навстречу.
– Моё почтенье! – воскликнул он. – Спасибо вам за объявление.
– За какое объявление?
Старик протянул газетную вырезку, и женщины прочитали обведённое сообщение, набранное мелким шрифтом и едва заметное в текстовом потоке: «Через три дня Море расступится. Тем, кто ждал и дождался, рекомендуется взять с собой тёплые вещи и книги. Встреча на выходе из кратера».
– Саша, это же наша газета, – удивилась Нина Авдотьевна. – Странно, что Бердин такое пропустил! – и тут она вспомнила. – Тот почтальон, это он принёс объявление, там ещё была приписка от Серафима с просьбой поставить в номер…
– Вы не представляете, как долго я ждал, – сказал старик. – Как бы объяснить… знаете, как будто живёшь в коконе и воспринимаешь мир через мутную оболочку… а потом вдруг обретаешь невероятную резкость зрения и слуха и начинаешь тяготиться коконом… а потом у тебя отрастают деревянные крылья, или паровой котёл, или мерцающая душа… в общем, ты понимаешь, что свободен…
Он улыбнулся, махнул рукой и продолжил свой путь.
48.
Анатолий Павлович томился тяжким духом дезорганизации, витавшим над вверенным ему коллективом. Всё было криво и наперекосяк.
Журналисты разболтались и развинтились. Князев последние два дня не появлялся на работе. Николай заглянул и тихо исчез. Саша и Нина Авдотьевна приходили и таращились в компьютер, но в мыслях явно пребывали где-то далеко.
При этом планы выполнялись, газета получала гекатомбы. Чёрные жучки букв ползли, неся хаос и муку, Бердин страдал, читая согласованные корреспонденции, но не мог понять причину страданий и оттого терзался ещё больше.
«Порт является стратегическим для региона, а регион является стратегическим для порта. Здесь переваливаются грузы, а стрелочки на бумаге снижают риски. Как сообщил источник, по-прежнему не желающий известности, в ближайшие годы и века здесь планируется построить терминалы таких размеров, чтобы было видно с Луны. По мнению собеседника, это позволит повысить эффективность позиционирования.
– Я не сумасшедший, – подчеркнул спикер».
Дошло до того, что Анатолий Павлович перестал уходить с работы вовремя. Он ждал, когда все уйдут, а потом бродил кругами по залу. Дома его ждали воспоминания, а больше никто не ждал. «Кроличья нора» перестала дарить утешение, а проклятый сон с путешествием по кирпичному тоннелю стал повторяться чуть не через день, постепенно становясь всё более убедительным.
Редактор вспомнил, что Серафим упоминал об изломе земной коры, и с облегчением списал всё на излучения. Такое объяснение казалось околонаучным, а значит, имело право на существование.
– Надо уезжать отсюда, – заключил редактор. – Уезжать, пока не поздно. Ещё полгода – и мы тут все с ума сойдём.
Сказав так, он с ужасом понял, что не верит своим словам. Тогда он сказал их ещё раз – и снова не поверил. «Как же я могу не верить самому себе?» – панически думал Анатолий Павлович.
Он подошёл к зеркалу и приблизил лицо. На него смотрел немолодой человек с немного выпученными глазами и резким тонкогубым ртом. Морщины были почти незаметны, кроме двух, идущих от уголков губ вниз.
– Я, Анатолий Павлович, последний гвоздь, на котором держится ковёр мироздания, – сказал Бердин. – Я всегда верил себе полностью и безоговорочно. Обязуюсь верить себе впредь и не спорить с самим собой даже осенью, даже в кратере, даже…
Стук в дверь заставил вздрогнуть. На пороге стоял невысокий толстяк с аккуратной бородкой, а за его спиной был настоящий балетный коллектив. Топорщились пачки, волновались купальники, нежно стелился по скучному казённому полу цокот пуантов.
– Моё почтение! – сказал гость. – Извините за вторжение. Я возглавляю местный балет, мы сидим и танцуем по соседству с вами, через дорогу. Там небольшая авария случилась, а нам репетировать надо. Я говорил с Серафимом, он сказал, у вас подходящее помещение и можно к вам попроситься. Вы не переживайте, мы не помешаем, будем репетировать ночью, а к утру уйдём.
Пожалуй, впервые в жизни редактор не знал, что сказать. Гулкую пустоту видел он в себе, и не было в ней слов.
«Как же я устал, – подумал Бердин».
– Извольте, – сказал он чужим голосом.
– Спасибо, – обрадовался человек.
Шелестящее облако, полное приглушённого женского смеха, пролетело по коридору мимо редактора и остановилось в зале, рассыпавшись на мизансцены. Бердин, почему-то на цыпочках, удалился к себе, сел, схватился за голову и стал искать зацепки.
И тут случилось небывалое: он стал сокращаться в размерах и зажмурился, преодолевая дурноту, а потом обнаружил себя в большом кирпичном тоннеле. Маленькие лампочки не изгоняли тьму, но обозначали направление. Редактор с удивлением посмотрел на руки, ставшие крошечными.
– Я ищу смысл, – слабым голосом обратился он к пустоте. – Хоть немного смысла. Хоть маленький лучик. Или мыслишку какую. Или несколько слов, от которых я оттолкнусь, дабы взлететь на недосягаемые высоты.
Не дождавшись ответа, он отправился в путь. Своды шелушились, красные отсветы лампочек ложились на кирпич нездоровым румянцем. Здесь было ни тепло, ни холодно, ни спокойно, ни страшно. Здесь царило перманентное Никак, и не было в поле зрения ни одной спасительной подсказки, а за полем зрения их и быть не могло.
Анатолий Павлович шёл долго, утомился и хотел сесть и выплакать неприкаянность в белый песок, хрустящий под ногами, но увидел просвет и раздумал не идти. Взорам его открылся зал. В центре высилась гора гигантских дипломов в деревянных рамках, произрастающая до головокружительного потолка.
– Может, оттуда, с высоты, смогу я увидеть хоть что-то? – задумался редактор и полез, цепляясь кукольными ручками и ножками. Некоторые дипломы срывались, но не падали с грохотом, а парили, как листья или перья.
На одном из крутых выступов нога верхолаза соскользнула, он едва успел зацепиться и повис над пропастью. И вот когда уже не стало сил и даже бессилие иссякло, откуда-то сверху высунулась женщина, огромная и властная.
– Идите же сюда, – сказала она надменно, двумя пальцами взяла маленького редактора за шиворот и легко подняла. – Сейчас мы вас будем награждать за неистребимое служение и неугомонную неутомимость.
– Ах! – слабо вскрикнул Анатолий Павлович.
49.
Ночь была неспокойна. Сияние, исходящее от стен кратера, усилилось. Высоко слышался гул: ветер, преодолев неисчислимые кубометры степной темноты и взъерошив песчаные вихры, взбегал по трамплину кратерных утёсов и торжествовал свою силу в поднебесной бездне. Сидя у костра на одной из вершин кратера, Серафим с интересом наблюдал кипение воздушных потоков.
– Бурное дыхание велие внезапу пронесеся, – нараспев говорил он, отхлёбывая вино из бутылки и закусывая хлебом. – И бысть шум, яко гром с небесе, тишине велией окрест сущей…
Темнота заволновалась, явилась фигура в чёрном костюме. Бледное лицо кривилось в плавящемся воздухе.
– Сидишь? – спросил Акционер, усаживаясь на бревно с другой стороны костра. – Не думай, что всё будет просто. Меры уже приняты.
– И колебашеся храмина, яко лодия… – покачал головой Серафим. – Будешь? – он протянул бутылку. – Нет? Дело хозяйское. И убояшеся мняще, яко от дыхания бурна падется горница…
– Этот твой, как бишь его, ну, который самый молодой… он же работу бросил! Из-за тебя, между прочим. Ходит в гараж к этому сумасшедшему. Ты же молодому человеку жизнь поломал, карьеру загубил. Из него мог выйти толк!
– Уже вышел, – кивнул Серафим.
На улицах было малолюдно. Немногочисленные машины и автобусы везли людей по домам. Редкие пешеходы ныряли в поздние магазины, выныривали и стремились прочь, прижимая к своим горячим телам свёртки и пакеты.
В чёрных квадратах заводских помещений горели белые, оранжевые и красные огни – на пост заступила ночная смена. За высокими пыльными окнами могучие краны послушно ползали, волоча неподъёмные детали из угла в угол.
На пустынной улице показалась высокая сутулая фигура. Человек, беспрестанно оглядываясь, внедрился в подъезд, вскочил в лифт и, вытирая с очков морось, поехал вверх. Ему было зябко и не по себе.
– Денис Василенко? – уточнил Редьярд. – Прошу.
Гость упал на указанный стул.
Небольшая картина, висящая над ним, была гордостью Князева – её написал по просьбе радиста знакомый старик-художник, живущий в подвале. Раньше он был реалистом, потом решил податься в авангард мирового искусства: пейзажи и натюрморты уступили место штрихам, треугольникам и квадратам. Старик не прогадал: чем непонятнее было изображение, тем лучше продавалось.
Правда, однажды Редьярд уговорил его предать современное искусство и написать сцену, в которой всё будет понятно: таверна, за столиками – моряки, за барной стойкой – женщина в тёмном платье. По просьбе Реда, все персонажи были несколько затуманены, как будто их писали через ливень: он не хотел оскорблять свои воспоминания чёткостью, ему хотелось всматриваться и додумывать.
– Спасибо, что приняли так поздно, – заговорил Василенко. – Мне очень надо поговорить с вами. Я помню, как вы приходили к нам на встречу с директором, я тогда заметил, что вы совсем не такой, как мы… и вот теперь со мной случилось что-то непонятное, и я подумал, что вы сможете помочь… Дело такое.
Василенко торопливо пересказал свои злоключения. Всё началось с прострации, которая накатила внезапно. Известный своим усердием труженик вдруг перестал понимать смысл своей работы. Уйдя в неконструктивные эмпиреи, он водил карандашом по бумаге, где была изображена структура их компании, и нечаянно перечеркнул связи между отделами. Каким же был его ужас, когда всё вокруг стало рушиться!
– Сотрудники перестали бегать, многие сели и замерли, кто-то лёг на пол, кто-то бросил бумаги и просто стоял… – торопливо говорил Василенко. – Сначала я не понял, что происходит, потом догадался, что это связано со схемой, и чтобы убедиться, перечеркнул оставшиеся линии, наблюдая за распадом…
На этом открытия не закончились. Василенко пошёл дальше – распечатал аналогичные схемы, созданные их компанией для разных учреждений, зачеркнул линии и стрелочки между квадратиками и треугольниками, а потом, сев на телефон, выяснил, что заведения продолжают работать в обычном режиме.
– Вскоре связи восстановились, коллеги встали и снова стали бегать, проводить совещания и рисовать стрелки между квадратиками, но во мне что-то исчезло, сломалось, понимаете? Я сидел и напряжённо таращился в монитор, мне было страшно, что коллеги что-то такое поймут про меня…
– О, вы мне кое-что напомнили! Моя коллега принесла почитать сборник местных поэтов, вот послушайте, тут прямо про вас написано, – Редьярд достал с полки тоненькую книжку и, открыв заложенную страницу, продекламировал:
Не знаю, чего это признак,
но сердцу спокойствия несть.
И ране, и ныне, и присно
мне странно, что всё это есть.
Нет, в целом, конечно, понятна
продуманность всех амплитуд,
но мучают белые пятна:
мне странно, что я ещё тут.
Стараюсь ни словом, ни взглядом,
хоть жжёт нестерпимей огня
боязнь, что идущие рядом
вдруг что-то поймут про меня.
Но есть подозрение, впрочем,
что прочие, пылко сопя,
своим устремленьем рабочим
всего лишь скрывают себя –
талдычат привычные басни
и носят привычный хомут
всего лишь из вечной боязни,
что в них разглядят и поймут.
И каждый, в унылой браваде
растратив себя, как пятак,
бессонно сидит на кровати:
«Как странно, что всё это так…»
Мне хочется верить – до дрожи,
не в шутку, не ради забав, –
что все мы хоть в этом похожи,
во всём остальном не совпав.
Василенко и слушал, и не слушал, блуждая в руинах сознания.
– Может, хотите согреться? – Редьярд вытащил из морозилки бутылку, но гость не отреагировал. – Может, чаю? Или кофе?
– И знаете, что самое страшное, – заговорил вдруг Василенко. – Можно много лет что-то делать, получать зарплату, какие-нибудь поощрения… а потом в один день всё рухнет, потому что окажется, что ты не сад возделывал, а бросал семена в песок. Вы не представляете, сколько разных текстов я написал в своей жизни – какие-то записки, отчёты, доклады – и так далее, и так далее. И вот сейчас я оглядываюсь на них и понимаю, что они ничего не изменили в мире, ни на что не повлияли. А ведь сколько усилий положено! Задерживался на работе, дописывал дома по ночам, утром вставал пораньше, потому что надо успеть обсудить, согласовать, внести правки. Страшно сказать, сколько часов, сколько дней ушло на всё это… И знаете ещё что? Ведь мне часто приходилось писать от имени руководства – раньше я думал, что так положено, потому что у начальства нет времени на такие мелочи, – а теперь я понял, что они просто не существуют. Только живые могут говорить и писать слова, мёртвые несловесны, поэтому приходится за них…
Князев слушал, темнея: всё это было как будто про него. Время, просеянное решетом, семена единственной жизни, распылённые в пустыне. Имеет ли он право смеяться над суетой людей в пиджаках, если и слова, проходящие через него, не аукаются в иных мирах? Имеет ли право смеяться над людьми, сделанными из чугуна, краснолицыми людьми без шеи и чувства вкуса, если он даже и не пытался бороться с согласовательным фильтром, через который проходят все тексты перед публикацией? Этот фильтр обмотан ржавыми цепями и покрыт бурыми подтёками, слова выходят из него одинаковыми – с голыми черепами, пустыми глазами, на искалеченных ногах.
– Семья есть? – спросил Редьярд. – Может, всё-таки согреться?
– У нас почти нет семейных, – покачал головой Василенко. – Некогда семью заводить. Едва успеваешь подвести итоги одного квартала, как уже следующий заканчивается, а между отчётами – бумаги, совещания. Голову поднять некогда. Выходные наступают – ничего не хочется, только лежать. А сейчас – сейчас я как будто проснулся и пытаюсь понять, где я и как сюда попал…
Редьярд покачал головой, вырвал из блокнота страницу, взял ручку – и начертал:
«Денис Василенко больше не менеджер и никогда уже им не станет. Ему было даровано новое понимание, он встал на путь постижения, цель его далека и прекрасна, а будет он идти к ней столько, сколько надо, и постепенно обретёт окончательную свободу, и это неизбежно, ибо кого выбрал путь, тот с него не сойдёт».
Гость прочёл записку, бережно спрятал в карман и молча вышел, не взглянув на стопки, наполненные хозяином. Закрыв за ним, Редьярд опрокинул – первую, потом сразу вторую, закурил и вышел на балкон.
Часом позднее ветер утих. Судя по отсветам, отзвукам и электрическим разрядам, севернее затевалась масштабная непогода с особенным смыслом и последствиями, но время ещё не настало. Серафим подбросил в костёр чёрные ветки и сунул в красный огонь руки, умывая их жаром. Акционер сидел напротив и неотрывно следил за ним сквозь искры. Взгляд его был тёмен.
50.
– Ай! – слабо вскрикнул Анатолий Павлович. И понял, что сидит на полу, в белом квадратике света. Луна смотрела на него через крестовину окна.
За стеной звучала тихая музыка. Её не требовалось трактовать, на неё надо было просто идти. Редактор покинул кабинет – и замер.
Зал был полон серебристым светом и танцем. Анатолий Павлович, нечаянный свидетель ночного балета, не пытался понять происходящее, а просто следил за колебанием воздуха, игрой теней, бледными пятнами лиц, за гибкими телами, от которых исходило нежно-голубое свечение.
Его заворожило и унесло, он растворялся в невиданных фигурах и ракурсах, каждое движение тонких рук пленяло, и уже не хотелось ни понимать, ни преломлять, а только быть и смотреть.
И вот он стоял и смотрел, а руки плескались и купались в лунном свете, и стройные ноги переступали так, что внутри становилось томительно. Источник музыки был неведом: казалось, звуки родятся от движений.
Время от времени танцовщицы отходили в сторону и, сев, начинали растирать икры, или ложились на столы и, подняв ноги, упирали их в стену и так отдыхали.
Анатолий Павлович стоял и смотрел, а потом опустился на стул – и уснул. Когда он открыл глаза, в редакции было пусто – только силуэты в пространстве, только отзвуки. Стало неприютно – словно что-то упущено.
Он выглянул в окно и никого не увидел. Никого не оказалось и этажом ниже, лишь несколько пиджаков валялись на стоптанном ковролине. Бердин подошёл ближе и с ужасом понял, что это менеджеры. Они съёжились и лежали, бессмысленно вращая глазами.
Одна из дверей приоткрылась, и в щель высунулся Валерий Вилкин, сдутый, как шарик, и спитой, как кофе.
– Мы переживаем непростой период, – уныло поведал он. – В такие времена важно соблюдать сплочённость. Скажите, не кривя сердцем, веруете ли вы в конструктивность и оптимальность исповедуемых алгоритмов?
Редактор не успел ответить: скривившись, Вилкин втянулся обратно. Дверь захлопнулась. Анатолий Павлович побежал вниз по лестнице, забыв закрыть редакцию на ключ.
– Высокие традиции… профессиональный подход… многолетняя школа… – шептал он, но заклинание не действовало, а сказанные слова рассыпались на буквы и сгорали, оставляя неприятный запах. – Репортаж, интервью, фельетон… очерк, эссе, зарисовка… колонка, титул, подвёрстка…
На улице к нему подошёл курьер.
– Из администрации, – пояснил он скучным голосом, протягивая конверт. – Вам, лично в руки. Приглашение на городской праздник. Непременно приходите, вас будут ждать для воздания и оказания.
Серафим отвернулся от редактора и посмотрел севернее, туда, где в редеющей зелени тополей за высокими и низкими заборами стояли деревянные дома.
Ефросинья Харитоновна, тяжело дыша, лежала на кровати, под светлыми занавесками да тёмными образами. Алина сидела рядом на стуле, держа её за руку – за хрупкую натруженную руку, обтянутую пергаментом ветхой, коричневой кожи.
– Бабушка, страшно это – уходить?
Древняя женщина ответила не сразу, ей потребовалось собраться с силами.
– Это, Алинушка, как в детстве, когда учишься нырять… только там надо вдохнуть, а тут – выдохнуть…
Алина задумалась.
– То есть человек потом выныривает?
– Да. Только у другого берега. А берегов-то много на свете…
– Бабушка, а мы увидимся? Потом, когда придёт моя очередь нырнуть и вынырнуть?
Ефросинья Харитоновна не ответила. Зрачки едва двигались под веками, из сухих губ вырывалось слабое, свистящее дыхание – казалось, она уснула. Девушка осторожно положила её руку и собралась выйти.
– Алина, – тихо позвала бабушка. – Увидимся, внученька. У каждого в этом мире свой берег… но берега близких людей находятся рядом…
Запись на клетчатой странице:
Нам страшно не хватает прозрачности и лёгкости, а прямолинейность так просто убивает нашу жизнь, окольцованную забором из ненужных вещей и пустых слов. Это как блуждать по автомобильной свалке и видеть за железяками отблески костра. Мы предчувствуем, но не добираемся, предвидим, но не достигаем, знаем направление, но идём в другую сторону.
И ведь проблема-то не в детях или работе, не в обязательствах и кредитах, и даже не в том, что мы все такие сонные и ненужные. Дело в том, что за хитросплетениями дней постоянно что-то сквозит, и это настоящее чудо, которое даровано нам непонятно за какие заслуги, а мы смотрим, радуемся и не меняемся.
А когда не меняешься, чувства притупляются, мысли даруются всё реже, и тогда ты становишься пустым и плывёшь дальше, как лодка с мертвецом, не имея цели и смысла. И хорошо, если прозреешь до ухода, потому что по ту сторону уже поздно прозревать, спрашивать и отвечать, там нет поиска, там претворение и начало.
И если перегорел, не жди, что тебя узнают и примут среди звёзд. А если ты сгорел, потому что стремился к тому, что сквозит, тогда другой вопрос. И дарована будет рыхлая песчаная дорога к иному берегу, где ты обретёшь искомое, а искомое обретёт тебя, и тогда ещё одна звезда загорится в небе.
51.
Проснувшись, Саша долго лежала, наблюдая, как за окном клубится серое и холодное. Был будний день, но она знала, что не пойдёт на работу, и почему-то совершенно не томилась чувством прогула.
«Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней…» – настойчиво крутилась в памяти строка из старой песни.
До полудня она пила чай в кровати, рассеянно листая альбом с репродукциями средневековых картин. Как обычно, несколько задержалась на одной из работ Гольбейна-младшего. У леди Джейн был маленький носик, гладко зачёсанные волосы и лисьи глаза лесной феи. Вторая жена сэра Паркера, жившая полтысячи лет назад, обладала той мягкой красотой, которая заставляет раз за разом приходить к портрету и всматриваться.
К полудню девушка всё-таки поднялась – ей показалось, что за окном пролетел бледный человек в чёрном костюме, похожий на огромного ворона, и она побежала посмотреть, но никого не увидела. Саше стало не по себе. Она оделась и отправилась к Нине Авдотьевне, но той не случилось: никто не отзывался на звонок, в квартире было тихо.
Девушка медленно спустилась по бетонной лестнице и с удовольствием почувствовала на лице солнце. Пахнущий подвальной сыростью подъезд остался позади – со своей облупившейся краской, с приглушёнными голосами за многочисленными дверьми, с признаниями в любви, написанными красным фломастером на серебристой трубе мусоропровода между площадками.
Был рабочий день, но Саша не тяготилась прогулом: всё, что тлело последние годы, вдруг выгорело без остатка, и даже хлопья пепла уже не летали в душе, заставляя морщиться и задыхаться, и даже копоть чудесным образом сошла со стен сознания. Саша шла и чувствовала себя лёгкой – легче воздуха.
В нескольких километрах от неё, минуя кварталы городских массивов, Нина Авдотьевна крутила педали, направляясь к лесу. Она ехала на звёздный свет, на морской шум, на запах яблок, ехала, не сомневаясь.
Миновав последние низкорослые строения, женщина увидела на опушке стол, а вокруг него – людей в деловых костюмах, с цветными шариками в руках. Приблизившись, Стародумова заметила на столе газету с объявлением, которое показал ей Иван Афанасьевич. Объявление было жирно обведено фломастером.
– Добрый день! – приветствовал путницу один из менеджеров. – К сожалению, дорога перекрыта, выполняются важные работы.
– Какие важные работы могут выполняться в лесу? – не поняла Нина Авдотьевна.
– В лесу? – усмехнулся менеджер. – Где вы видите лес? Это же огород!
Нина Авдотьевна проследила за его рукой и пошатнулась, окутанная мороком, перед глазами всё поплыло, и там, где только что высились деревья, она увидела огромный огород. Из земли торчали обломки заборов, на покосившихся столбиках покачивались калитки. Возле гигантских овощей копошились люди.
Нина Авдотьевна, открыв рот, наблюдала, как несколько человек подталкивают одного, помогая ему забраться на капусту размером с небольшой дом. В другом месте огородники, разбившись по парам, пилили морковку – во все стороны летела оранжевая стружка. Перепачканные тёмно-красным соком, бились люди со свёклой, вцепившейся в землю. В грандиозном огурце самолёт была вырыта яма, из неё периодически выглядывал какой-то человек, передавал вниз ведро, полное огуречной массы, принимал пустое и вновь скрывался в бледно-зелёном дупле.
И далеко-далеко за вздыбленным, всклокоченным, истерзанным чёрным морем земли темнела стена кратера.
– Ответственная пора сейчас, надо урожай собрать, сами понимаете, – проникновенно сказал менеджер. – А ходить по полю нельзя, тут скоро тракторная техника пойдёт, так вы только мешать будете.
Нина Авдотьевна развернулась и поехала к городу. Она знала: это поле ей не перейти.
За ближайшим домом переступал с ноги на ногу высокий худощавый человек в пиджаке и очках. Его окружала сырость старых стен и чёрные стёкла окон, запах деревянной ветоши, потемневшие доски сараев в рыжих шляпках гвоздей. Увидев Стародумову, он оживился и стал размахивать руками:
– Сюда, сюда, прошу вас…
Женщина приблизилась. Человек опасливо выглянул из-за угла, посмотрел назад, зачем-то понюхал воздух и прижал палец к губам.
– Прошу вас, только тише… Меня зовут Денис Василенко, раньше я был менеджером, но… я проснулся и теперь ищу выход. Проблема в том, что они, – он кивнул в сторону леса, – перегородили вход, потому что узнали, что там открылся выход…
– Какой вход… Денис, там же поле… там урожай собирают…
– Не волнуйтесь, – сказал Василенко. – Вам надо в лес, и я знаю, как туда попасть. Но прошу вас, возьмите меня с собой, мне страшно одному, я не привык, я так не могу…
Через несколько минут менеджеры заметили знакомую фигуру, отделившуюся от домов. За Василенко следовала Нина Авдотьевна, которая ошарашенно вертела головой: перед ней снова был лес.
– Что же ты, Денис? – с упрёком заговорил один из менеджеров. – Из-за твоей халатности пострадали наши показатели. Эффективность снизилась. Коэффициент упал. Процент рухнул и разлетелся. Ты же профессионал, Денис. Никто не сделает работу лучше тебя. Мы в тебя верим.
Василенко замедлил шаг и потянулся к воротнику: ему стало трудно дышать.
– Мы ценим тебя, – вкрадчиво продолжал пиджак. – Мы даже принесли грамоты, чтобы напомнить о твоих заслугах и достижениях. Вот грамота за оглушительное всемогущество и разнообразную универсальность. Вот за оперативное стремление и непрерывную подачу надежды. Вот за…
Задыхаясь, Василенко вытащил из кармана схему и что-то зачеркнул в ней карандашом. Менеджер побледнел и утратил речь, судорожно раскрывая рот. Его коллеги выпустили шарики и в ужасе схватились за головы.
– Не делай этого! – закричал кто-то, но Василенко, преодолев слабость, решительно орудовал, перечёркивая стрелки между квадратиками, отменяя связи между словами. С каждым взмахом карандаша толпа теряла сплочённость.
Один, сопротивляясь, затянул корпоративный гимн, но утратил смысл пения и замолчал, растерянно моргая. Другой судорожно надул шарик и хотел крикнуть что-нибудь пустое, но не смог и поник.
За полминуты с эффективным коллективом было покончено. Одни сели на траву, другие бродили кругами, третьи легли и с шипением сдулись, третьи стояли и смотрели, пытаясь понять, но не понимая.
– Скорее, скорее! – закричал Денис. – Корпоративный дух силён, я могу лишь ненадолго задержать его. Через несколько минут система восстановится, а другой схемы у меня нет, я взял только одну… Надо спешить!
Нина Авдотьевна, старательно объехав бессмысленных экспертов, устремилась в каркасы холодного леса. Долговязый Василенко легко бежал, не отставая. Руки и ноги его были длинны, он напоминал галопирующую карамору. В мутном небе таяли, прилипая к стратосфере, цветные горошины шаров.
52.
Николай и Антон Павлович обходили самолёт. Старик напевал, Львов трогал крылья и волновался, вспоминая вечное сновидение: ночной полёт над белой пустыней, среди звёзд, крылья покачиваются и поскрипывают.
– Мне в детстве казалось, что можно на самолёте улететь в космос, на другие планеты, – рассказывал Николай. – Меня так поразила эта мысль, что я всё детство представлял, как сажусь в такой самолёт и лечу среди звёзд. А потом высаживаюсь на какой-нибудь инопланетной пустоши, хожу по ней в скафандре, иду-иду… и за большим камнем или кратером нахожу что-то очень необычное. Например, яблоню. Или кресло-качалку, а рядом – стол, на котором чайник, моя фотография в рамке, роза в вазе…
Старый инженер укрепил самолёт сверх расчётов. Во многих местах он усилил крепёж контргайками, а крылья укрепил тросовыми растяжками.
– Подняться можно на высоту до пяти километров, – внушал он. – Но всё зависит от ветра, если будет лютовать, полетим ниже. Самое главное – выйти из кратера: за счёт скальных стенок образуется завихрение, важно не попасть во встречный поток…
Николай гордился – он впервые участвовал в создании самого настоящего самолёта. Помогал по мере сил, освоив различные операции: сваривал трубки, шлифовал рейки. Но системой управления всецело занимался Антон Павлович. Он сосредоточенно ворчал над двигателем, долго возился, протягивая и приваривая проводки.
– Коля, иди сюда! – звал из кабины. – Расскажи ещё раз, верно ли всё запомнил.
И Николай, встав на подножку, снова называл все кнопки, тумблеры, рычаги. Произнося прежде не знакомые слова, он погружался в них всё сильнее, и его мечта постепенно стала менять свои свойства. Это было постижение через слово и прикосновение к материалу.
– Тяговый винт, четыре тысячи оборотов в минуту! – тыкал старик узловатым пальцем. – Если двигатель откажет, он продолжит вращаться, и мы сможем сесть. Пойдём на скорости в полтораста, можно больше, но нет смысла.
Самолёт получился небольшим и уютным, в него хотелось сесть как можно скорее: кабина, скроенная из разных фрагментов и обшитая кожей, казалась самым надёжным местом на земле.
– Очень, очень, очень хорошо! – радостно бормотал старик, проверяя швы, простукивая борта и с силой дёргая перекрытия.
53.
…От слова к слову бежала чёрная линия, от абзаца к абзацу. Паучья сеть стягивала буквы, повисшие сонными мухами. Пустота восстанавливалась, тяжелела и готовилась дать отпор посягнувшим.
В разных зданиях, в разных столах, шкафах и папках, не производя ни звука, ни запаха, незримые линии простреливали бумажное пространство, собирая разрозненное в систему. Пиджаки наливались тяжестью и вставали.
Анатолий Павлович, подавленно оглядываясь, шёл по проспекту. Он чувствовал себя помятым и чужеродным, как птичье перо в рыбьем боку. Голова была полна музыкой, прозрачной как чистая океанская вода, такой же голубой и покойной, с пятнами света на белом песчаном дне.
По мере приближения к центру города воздух наполнялся цветом и радостью. Скользили змейки серпантина, из щелей и проёмов сквозняком выдувало разноцветные крапинки конфетти. Взрослые и дети кишели повсюду.
На центральной площади, обширной и продуваемой, стояли заполненные помосты для зрителей. Полотнища колебались, флагштоки дрожали, ветер носил навязчивую мелодию, которая всё не кончалась. Незнакомый юноша, подскочив к редактору, фамильярно схватил за локоть.
– Пожалуйте в ложу для прессы, – бормотал он и, задыхаясь от восторга, показывал: – Вон там сидит Акционер завода, а вон там – Глава городской администрации…
Акционер, большой бледный человек в чёрном костюме, казалось, смотрел на редактора. Глава администрации казался бронзовым. Он важно глядел перед собой, пухлые губы были нашлёпнуты друг на друга, в них чувствовалась мраморная тяжесть.
Юноша подвёл редактора к большой ложе, над которой со скрипом покачивалась вывеска с надписью «Пресса». Бердин зашёл и сел, с неудовольствием ловя любопытные взгляды: он был один в отсеке.
Отсюда хорошо просматривалась площадь. Посреди неё высился помост для ведущих, далее шли полукругом высокие ели, а за ними, неся своё величие через время, стояло пепельно-синее здание администрации с треугольной крышей и колоннами.
На помост взошла ведущая в обтягивающем красном платье, полногрудая женщина с яркими ногтями. Она приблизилась к микрофону и заговорила хриплым стонущим голосом, электризуя мужчин:
– Дорогие друзья! Сегодня наш любимый город отмечает свой очередной день рожденья! В прошлом году мы отмечали этот праздник, и в позапрошлом, и во все годы, которые были до позапрошлого, – ведущая добавила голосу проникновенной мягкости. – И в следующем году, и в том, который будет за следующим, и во все, которые наверняка наступят после, мы также станем отмечать его! С праздником, дорогие друзья!
Ведущая широко улыбнулась, между красными губами блеснула полоска зубов, трибуны зааплодировали. Зрители вертели головами, между рядами колыхались флажки и плакаты, странные на фоне свинцового, холодного неба.
Бердин с удивлением отметил, что Акционер напряжённо замер и смотрит вовсе и не на ведущую, а куда-то в сторону. Редактор попробовал проследить направление его взгляда, но ничего не обнаружил. Повернувшись, он увидел, что двое склонились и что-то зашептали Акционеру. Тот не отреагировал. Тогда двое осторожно взяли его голову и повернули в сторону ведущей. Акционер не шевельнулся, Губернатор тоже продолжал оставаться неподвижным.
– По традиции праздник откроется театрализованным представлением, которое расскажет нам о скорбных и славных страницах истории, – голос ведущей дрогнул. – Эти страницы, в которые вписаны имена наших сограждан, заставляют сильнее биться сердце, – ведущая положила руку на грудь (одобрительный гул трибун). – Эти страницы открываются сегодня для вас, дорогие друзья!
54.
К обеду Редьярд вышел из дома и постоял, оглядываясь. Побрёл по улице, всматриваясь в себя. Попытался вспомнить, когда последний раз видел коллег, и поразился: прошло не больше трёх дней, а казалось, что месяц.
В голове все последние дни настойчиво пульсировало: на рейде стоит яхта, которой не позволяют швартоваться. Возможно, они могли бы подойти к берегу, если дать им сигнал. Можно ли использовать для этого заброшенный маяк?
Он заглянул к Эрнесту, и тот в честь друга заварил кофе не в турке, а в старой алюминиевой кастрюле – как во времена флотской службы: чтобы хватило на всех. Когда края чёрного варева вспенились – добавил щепоть соли: для мягкости.
– Не хочешь сегодня прогуляться до маяка? – предложил Князев.
Сегодня не получалось. В городе праздник, люди наверняка разбредутся по кафе, надо быть здесь, предстоит много работы. А вот через пару дней – да, вполне.
– Не-е-ет, – вздохнул Редьярд. – Мне сегодня надо.
Допив кофе, он попрощался с другом, вышел на улицу и решительно зашагал в сторону завода, но пройдя немного, недоумённо сбавил шаг: здание словно удалялось от него. Он снова пошёл вперёд, но морок не проходил: промышленная громада темнела и коптила, оставаясь недосягаемой.
Редьярд огляделся. Всё было осязаемым, настоящим: старые дома, бельё на балконах, редкие машины у пыльных обочин, невысокие деревья, но в дело явно вмешивался кто-то с другой стороны. Казалось, дороги в перспективе искажаются и едва заметно уводят в сторону от цели.
Князев стоял посреди пустынного перекрёстка, не зная, что делать. И вдруг увидел женщину. Далеко, на следующем перекрёстке. Маленькая, изящная фигура, чёрное платье, плавная походка.
Она на секунду оглянулась. Он не видел её лица, но ясно понимал, что это та самая незнакомка из его снов, которую он пытался догнать. Она уже почти скрылась за углом, когда он опомнился и бросился следом.
И повторилась странная погоня. Женщина показывалась и тут же исчезала; как только он огибал угол, она скрывалась за другим. Она шла медленно, а он бежал, но расстояние между ними не сокращалось. Улицы были безлюдны, лишь кое-где редкие прохожие, сбавляя шаг, косились на бегуна, да старики, полулёжа на облупленных подоконниках, глядели бесцветно.
Так миновал он два или три квартала, срезая через дворы, обрамлённые густыми, беспорядочно растущими кустами, и неожиданно оказался перед сырым сквером, за которым темнел завод. Женщины нигде не было, а на ветке липы у входа в сквер покачивались на золотой цепочке маленькие механические часы.
И когда он взял их – так бережно и осторожно, как берут руку любимой женщины, пространство сквера странно сгустилось, из него выделился и выступил навстречу человек в чёрном костюме.
– Редьярд? Какая встреча! – улыбнулся он. – Мы с вами лично не знакомы, но слышали друг о друге. Я – Акционер завода.
Князев сдержанно поздоровался, стараясь выправить дыхание, сжимая часы в кулаке.
– А вы на самом деле большой молодец, – Акционер приблизился. – Я видел ваши тексты. У вас есть такая, знаете, творческая жилка. Опять же, ловите буквально на лету. Я хочу предложить вам работу.
Князев покачал головой.
– Благодарю вас, но должен отказаться. У меня есть… есть работа… то есть дело… и сейчас я спешу.
– Вы же профессионал, – в голосе настойчивая укоризна. – У вас отличное резюме, вы прекрасно себя зарекомендовали. У меня есть несколько интересных проектов. На это место претендуют десятки, но я выбрал вас.
Акционер достал из-за спины графин с водой и опустошил одним долгим глотком.
– Деньги! – заявил он. – Для прочих – достойная, конкурентная зарплата, а для вас – деньги, хорошие деньги!
В его руках, руках лукавого фокусника, образовался конверт – и Редьярд покачнулся, накрытый чувством тепла и покоя. Он вдруг узнал, что живёт в большом доме с дорогой мебелью и может позволить многое. Нужды больше не было. В огромном холодильнике скучали лангусты, на столе пестрели авиабилеты, придавленные ключами от машины, в тайном ящике серванта лежали купюры.
Редьярд повёл рукой перед глазами – и ему стало холодно. Он почувствовал, что на ногах – стоптанные ботинки со сбитыми подошвами, а на ветровке, купленной семь лет назад, не работает молния. С болезненной остротой припомнилось, как часто приходилось просить в долг. Желудок заболел, напоминая о плохом питании. Загнанная, щетинистая нужда с бегающими глазками встала сзади, накрывая костлявыми крыльями.
Только протяни руку – и станет тепло и хорошо.
Но Море, лежащее за домами, за лесом, за кольцом кратера, вдруг позвало неслышно, дохнуло холодной свежестью, йодом, рыбой – и глаза Редьярда снова приобрели оттенок северного неба. Он качнул головой, преодолевая, и сделал шаг вперёд.
– Новое понимание! – крикнул Акционер. – Мы ищем чего-то большего, да? Но чтобы принять правду, надо измениться! Кто ищет знания, должен понимать, что знание тоже ищет его. Но чтобы встреча состоялась, надо быть готовым…
И снова Редьярд покачнулся, и снова нахлынула на него мутная волна видений. Его домашняя библиотека полна мудрых книг, его слова весомы. Всегда сытый и хорошо одетый, он путешествует к местам силы – не к тем лесным и степным уголкам, которые доступны любому, даже самому бедному туристу, а к элитным, отборным местам, за границей, с проводником, на вертолёте.
Протяни руку – так будет.
Он всмотрелся, прищурившись, но не увидел в этой мутной волне и отзвука Моря, не услышал голоса морских дев и старцев – и отбросил призраков, которые пытались смутить его.
Акционер шагнул наперерез.
– Власть! – крикнул он. – Вы будете руководить пресс-службой крупнейшего в регионе предприятия. Милый мой, вам скоро пятьдесят, пора бы уже перейти на другой уровень. Вы не должны вкалывать. Вы должны согласовывать и отдавать указания!
На секунду Редьярд заколебался – в нём зашевелилось новое и незнакомое, он почему-то познал сладость руководства: махни рукой – и все бегут, кивни головой – и все радуются. Не надо злиться, можно быть спокойным и мраморным, ибо ты прав, и нет того, кто дерзнёт оспорить это.
Следом пришло и другое: он очнулся и осознал, что каждый, кто согласовывает его статьи, стоит выше его и может помыкать и высасывать жизнь. И где-то его тексты кладут на грязный операционный стол и безжалостно режут, кромсают, рубят и сшивают в другом порядке – и снисходительно комментируют.
Протяни руку – и встанешь над всеми.
Высоко-высоко загудел ветер, по небесам пробежала дрожь, по скверу протащило облако из листьев, перьев и песка. Редьярд зажмурился, отворачиваясь, а когда раскрыл глаза, Акционера не было рядом.
Из дневника художника Георгия Бирюкова:
«Смысл жизни – это или когда ты нужен, или когда ты должен. Неважно, кому, когда и что, не придирайтесь к словам и не уходите в конкретику, только скорбные духом ищут истину с помощью увеличительного стекла и компаса.
Да-да, именно так: или нужен, или должен. Оба эти состояния создают удивительные завихрения, за счёт которых можно ждать дольше отпущенного срока и уйти дальше уготованной пристани, на честном слове и на одном стрекозином крыле.
Это ни хорошо и ни плохо, мы с вами тут вообще про плохо и хорошо не говорим, нас интересуют только данности, верно? А данность в том, что нам в детстве сказали про смысл, и мы долгие годы искали его – наощупь, по инерции. А он в то же самое время искал нас и находил, но узнавание было односторонним, и он каждый раз пролетал мимо, как японский зонд мимо венерианской орбиты.
Мы все такие мелкие и хрупкие, и так трогательно ищем ответы, разрывая сугробы красными распухшими руками. А всего-то и надо – кому-то понадобиться и задолжать. Или тому, кто рядом, или тому, кто уже прошёл поле, или тому, кто это поле создал.
Вот и весь смысл, а другого нет и не будет, даже и не ищите».
55.
Колонки исторгли струнное, с элементами печали. На площадь выбежали артисты в белых лосинах, с картонными мечами. Они сошлись и осторожно соприкоснулись реквизитом, после чего колонки умолкли и артисты убежали.
Бердин посмотрел в сторону высоких гостей. Акционер снова отвернулся от праздника, словно высматривая что-то, и двое в пиджаках опять бережно поворачивали его голову в направлении торжества. Белое лицо казалось злым.
Зазвучал романс, на площадь выбежали мужчина в зелёном мундире и женщина в белом платье. Сцепившись, они выполнили несколько фигур, после чего разъединили руки и с помощью пластических средств показали, что им грустно.
Сцена завершилась грозной мелодией и появлением артистов в касках. Из колонок послышались звуки выстрелов. Многие упали, прижимая руки к сердцу, несколько человек встали на одно колено, прочие остались стоять, потрясая руками. Музыка оборвалась, артисты убежали.
Анатолий Павлович машинально подумал, что, вероятно, надо хоть что-нибудь записать, чтобы потом подготовить репортаж, раскрыл блокнот – и чуть не выронил его: страницы, ещё несколько минут назад пустые, теперь были покрыты вязью слов. Холодея, Бердин узнал свой почерк.
«…День города является самым любимым праздником горожан… Этот праздник прошёл в замечательной атмосфере, чему способствовала слаженная работа… Шарики и артисты подарили людям хорошее настроение… на трибунах сверкали улыбки… Артисты с непередаваемым обаянием творили что-то невероятное. Зрителей заворожила хореография…»
Бердин сильно вздрогнул и уронил блокнот. Словно молния ударила – в голове заиграли белые вспышки электричества, ноющая боль прострелила голову – и тут же прошла без следа. И вспомнилось странное видение: когда он, оставшись ночью в редакции, стал грезить и оказался в кирпичном тоннеле, к нему навстречу вышла маленькая девочка.
Как раз перед этим темнота стала особенно густой. Скудный свет лампочек обрывался в полуметре, страшно было поднять руку: казалось, можно уткнуться в темноту. И вот тогда-то послышались слабые шаги, и показался ребёнок. Редактор, обмирая, всматривался, но не мог разглядеть лица. Девочка остановилась неподалёку.
– Эх ты, – сказала она обиженно. – Ведь я твоя книга, а ты даже не помнишь, о чём я. Что же ты за автор такой? И ведь столько сил на меня потратил, и даже радовался иногда… А ты знаешь, Анатолий Павлович, что бывает с теми, кто не ценит и забывает? Ничего хорошего с ними не бывает, вот что, – и девочка, вздохнув, отступила и скрылась.
Сидя в пустынной ложе для прессы, редактор смотрел перед собой – и не замечал ни людей, ни ведущую в красном платье, ни шаров, ни флагов. Ночное видение проступало в застоявшихся озёрах его глаз, очертания снова и снова пробегали по сетчатке, и то, что было вокруг, имело меньшее значение, чем то, что было внутри.
– Спасибо, спасибо нашим городским артистам за это чудесное выступление! – громко простонала ведущая. – Это было так трогательно и чудесно… признаюсь вам, друзья, я и в прошлом году растрогалась, и в этом, и в следующем тоже обязательно растрогаюсь. А теперь – следующий номер! Каждый район нашего любимого города подготовил костюмированное выступление, встречайте!
56.
– Сегодня что-то должно случиться, – сказала Саша, глядя на город.
Окна в домах были темны, а на центральной площади, заполненной народом (она неплохо просматривалась с возвышенности), пестрели и рвались в небо шары. Небо спускалось всё ниже, словно желая лечь на поселение, которое, точно грибы в трухлявом пне, завелось посреди белой пустыни, в кратере.
– Ты разве не читаешь местную прессу? – спросил художник, улыбаясь. – Сегодня Море должно расступиться.
Ей вспомнилось: лес, люди с повозками, Нина Авдотьевна, и на обратном пути – Иван Афанасьевич с газетой, а в газете – объявление.
– Точно! – Сашу словно ожгло. – Слушай, мы с коллегой были недавно в лесу, ездили на велосипедах… и там были странные люди… они пришли через белую степь, на повозках, с быками… и один из них рассказывал, что они собираются идти через Море…
Она вдруг поняла, почему Стародумовой не оказалось дома, и расстроилась. Стоя на возвышенности, девушка смотрела так старательно, словно желала разглядеть колонну повозок, запряжённых быками, и среди путников – немолодую усталую женщину с грустной улыбкой и взглядом, обращённым внутрь.
Бирюков догадался.
– На моей памяти это уже третий случай, – сказал он. – Так иногда бывает: открываются врата, некоторые люди чувствуют это, собираются и уходят. Куда идут – неведомо. Никто не возвращался. Такая особенность у этих мест. Всё дело в том, готов ты или нет принять сигнал, встать и пойти. Я вот, получается, не готов ещё… а может, и готов, просто… раньше было не время, а сейчас… сейчас мне хочется пить с тобой чай, сидя возле дома, и чтобы вокруг было прохладно и пасмурно.
Серафим кивнул одобрительно и повернулся в другую сторону – туда, где за стеной кратера ползла колонна. Издалека расстояние между путниками и морем казалось небольшим: поднеси руку к лицу – и закроешь весь участок.
Сначала Нина Авдотьевна шла пешком, но скоро выбилась из сил, и её посадили в телегу. Она ехала, покачиваясь, прижимая к себе сумку с фотоальбомами, и смотрела назад, на пройденный путь – как на прожитую жизнь.
– Необычные глаза у человека, за которым все идут, – бормотала она, тяжело дыша: поднялось давление. – Взгляд удивлённый, серый, как небо, и удивлённый… я знаю этот взгляд, я видела его, он мне знаком…
Слева от путников тянулась стена кратера – высокая, вылизанная ветрами, покрытая блестящей слюдой. Всё, что не было стеной, было белой степью, и казалось, не кончится она никогда. Светлые пустоши замерли, следя за тучами.
И когда из-за кратера показалось Море и стало раскрываться в своём ошеломительном величии, и загромыхало над ним наэлектризованное небо, Нина Авдотьевна впервые за много лет перестала смотреть назад – она глядела только вперёд и твёрдо верила в чудо, ещё не увидав.
57.
Редьярд бежал по улицам, они примыкали к заводу, были безлики и неумолимо выводили к старой кирпичной стене. Князев искал Черепанова, ему надо было добраться до Моря. Он знал направление, знал, что тепловоз стоит на задворках завода, в северной части, но задворки не находились, дороги оживали и переползали с места на место.
Князев посмотрел на небо: затянуто, задрапировано. Огляделся: ни единого деревца на этой полуживой индустриальной земле, на выдохшейся полоске, кольцующей гигантский организм. Завод рокотал и коптил, гул и чад расходились тяжёлыми волнами, смывая ориентиры, сбивая с толку.
Редьярд снова обратился к высям. Ему показалось, что в небе мелькнул ворон, и тучи сложились в насмешливые губы, но следом пролетела чайка, и ухмылка превратилась в улыбку. Опустив глаза, Князев увидел в стене маленькую, по пояс, дверь, потянул за большое ржавое кольцо, и, согнувшись, проследовал в открывшийся коридор. Пройдя несколько шагов, он услышал механический скрежет, обернулся и увидел глухую стену: дороги назад не было.
Вскоре путник оказался в комнатке, залитой электрическим светом. Стены были покрыты грязно-белым кафелем, окно – законопачено листом фанеры. На жёлто-коричневой плитке пола лежала картонная коробка, в которой, уткнувшись в пушистое брюхо рыжей кошки, спали котята. В углу стоял перепуганный менеджер.
– Какое счастье! – воскликнул он, бросаясь к Редьярду. – Как приятно встретить нормального здравомыслящего человека! Умоляю вас, не ходите туда, там все словно с ума сошли… это всё от погоды, такое бывает… очень сильные геомагнитные излучения, люди не выдерживают… я еле ушёл от погони…
– Да что вы несёте, – не выдержал Князев. – Пустите!
– Не ходите туда, не ходите, там опасно, – заныл менеджер.
Редьярд решительно распахнул дверь, шагнул и оказался в оглушительном царстве инструмента и материала, железной и мускульной силы. Волоча тяжёлое, пролетали краны, отовсюду вырывались фонтаны искр. По щерблённому полу грохотали тележки, резцы визгливо впивались в железо, истончая его.
Менеджер, недобро сощурившись, высунулся за Князевым.
– Смотрите! – крикнул он, поводя рукой. – Смотрите, какое тут всё страшное!
Редьярда словно в голову ударили; он пошатнулся, но удержался – стоял на месте и оглядывался, холодея.
В пыльной темноте шевелились чёрные промасленные руки. Разметчики, увидев чужака, бросали труд и светили жёлтыми рысьими очами. Красноглазые крановщики свесились из кабин головами вниз, фрезеровщики с длинными комариными носами рывком отрывались от чертежей, зубастые сварщики в треугольных колпаках останавливали аппараты – и смотрели.
«Наваждение», – понял Редьярд и пошёл в поисках выхода. На пути встала новая дверь, за которой оказалась столовая. Воздух здесь был плотен и полон запахом пищевых масс, которые бурлили в алюминиевых чанах, размашисто пронумерованных белой краской. Люди за столами гудели и заливисто хохотали, но глаза у них были красные и жёлтые, и путник чуть не бегом добрался до двери, выскочил и захлопнул её за собой.
– Что-то ищете, товарищ? – поинтересовался человек, взявшись из пустоты.
– Выход, – растерянно ответил Князев.
– Все его ищут, – усмехнулся человек, уходя в никуда.
Князев протёр глаза: человека не было. Пропала и дверь, ведущая в столовую, точнее – из столовой, на её месте была глухая стена. Пространство исчезало, менялось, оставаться на месте было опасно, и потому Редьярд побежал.
Он бежал по коридорам и лестницам, прыгал через пыльные груды никому не нужных документов и списанной мебели. Пожелтевшие бумаги покрывали пол, горы ветхих стульев чернели в комнатах, неработающий аппарат с газированной водой лежал на боку. Порой в лестничных пролётах и коридорах встречались столы, за ними сидели люди и что-то писали.
Возле одной из комнат он остановился, поражённый невиданным зрелищем: помещение было заполнено большими светящимися коконами, в которых угадывались человеческие фигуры. Среди них на табуретке сидел бровастый старик.
– Вы, наверное, журналист? – спросил он Редьярда и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Меня предупредили, что вы придёте. Я наставник. Выращиваю смену – молодых токарей. В том углу специалисты почти выросли, а вон те ещё зеленоваты, не поспели. Когда ценный кадр уже готов вылупиться, менеджеры пытаются похитить его или просто испортить. И тогда рабочие люди собираются, бьют в железо и поют грубыми голосами, отгоняя корпоративного духа. Непросто быть наставником! Надо склонность иметь. Я ведь не просто выращиваю, а занимаюсь селекцией, скрещиваю токарей и слесарей, и получаются многопрофильные специалисты…
Редьярд схватился за голову.
– Я же говорил, что сюда лучше не ходить, – послышался знакомый голос: рядом оказался тот самый менеджер, из комнаты с кошкой. – Чем дальше, тем страшнее и темнее, учтите. Настоятельно советую отступить. Я знаю обратную дорогу – пойдёмте вместе? Главное – действовать согласованно, как команда!
Князев шагнул назад, пятясь от протянутой руки, бледной и вялой, как щупальце мёртвого осьминога, и тотчас коридор потемнел и стал искажаться, виляя в разные стороны. Двери скривились, выгнулись, лампочки нервно замигали.
Мелькнуло перед глазами, придало силы: вот он сидит на берегу и вручает воде взгляд, чтобы потом, когда темно и страшно, забрать его. Колеблется серо-зелёная прохлада, в каждом блике несёт память о человеке, рассказывая медузам, и рыбам, и крабам. Он вспомнил об этом и почувствовал: солоно стало на губах.
И он снова бежал по лестницам и коридорам, а за ним всё оплывало и кривилось. Пучилась и осыпалась старая краска, лопались лампочки, двери врастали в стены. Он успел рвануть одну из них – последнюю в коридоре – и увидел тьму, а в ней – далеко-далеко – пятнышко света, в котором угадывалась кабина лифта.
Вспыхивали огоньки, высвечивая лица курильщиков, звучало монотонное бормотание, приглушённый хохоток. Князев не просто добежал до лифта – темнота вытолкнула его. Двери закрылись, и лифт потащил беглеца, следуя собственной воле, в неведомом направлении – спасительная капсула обречённой ракеты, деревянный саркофаг каменной пирамиды, лодка между берегами двух миров.
Князев несколько раз осмотрел гладкие стены: здесь не было ни кнопок, ни телефона для связи с диспетчером. Люк в потолке оказался ненастоящим, нарисованным, а в крошечном зазоре между дверцами было непроглядно. В какой-то миг показалось, что снаружи – космос: глубь в мириадах светил, но видение, зазвучавшее в узкой полоске меж обрезиненными створками, почти сразу угасло.
В момент, когда отчаяние достигло пронзительной высоты, двери раскрылись. Перед лифтом стоял уютный и добродушный Черепанов, а за его спиной чернел железный конь, закопчённый ковчег, тепловоз, везущий только в одну сторону – к Морю.
– Что так долго? – развёл руками машинист. – Я уж заждался. Скорее, скорее, надо спешить, надвигается шторм, и у меня такое чувство, что в этот раз он будет с особенным смыслом!
58.
Погода сошла с ума. Сильный волевой ветер очистил небо, морось при этом продолжалась. К обеду над кратерной долиной раскинулась гигантская яркая радуга, а рядом с ней в светло-синем дневном небе отчётливо проступила Луна. Вскоре стали видны и звёзды.
– Сейчас нам надо пройти грунтовую дорогу, – объяснял Антон Павлович. – Где-то через полкилометра начнётся асфальт – там раньше был аэродром, и лётное поле хоть и запущено, но вполне подходит для взлёта.
Он забрался в кабину, мотор загудел. Стальная птица медленно тронулась, выбралась из ангара, радуясь свободе, и покатилась по безлюдной дороге. Николай шёл рядом, выжидая, когда можно будет занять место.
В молчащем воздухе, под тяжко нависшим небом самолёт казался маленьким и хрупким, и всё равно не было места уютнее, чем его кабина. Наверху, в неохватной бездне, свет лампочек на приборной панели станет светом надежды и утешения, когда со всех сторон встанут свинцовые тучи, и яростно вздыбятся воздушные потоки, и закипит Море.
Безлюдная улица ползла навстречу: все были на празднике. Дома настороженно следили за невиданной стальной птицей. Старик был сосредоточен, он находился в шаге от полёта, в нескольких минутах от неба. Когда впереди замаячила тёмная полоска асфальта, откуда-то вынырнули несколько щуплых субъектов в пиджаках.
– Полёты запрещены! – важно заявил один из них. – Во-первых, сегодня праздник. Во-вторых, погода нелётная.
– Не лезьте под колёса! – кричал старик из кабины. – Отойдите немедленно!
Пиджаки стали прыгать перед самолётом, но машина не останавливалась, и тогда они бросились к Львову. Движения их были странно суетливы и прерывисты, руки и ноги перемещались механично.
– Николай, – захныкал один из них, хватая за рукав. – Ну скажите же ему!
Львов с отвращением отбросил руку. Она оказалась на удивление лёгкой и негибкой, сделав круг, упала и повисла. Пиджак посмотрел на неё и снова заканючил:
– Николай! Ну Николай! Вы же профессионал, вы такой замечательный текст написали по итогам нашей пресс-конференции… вами очень довольны, да… скажите ему… его надо остановить… – неожиданно он придвинулся ближе и шепнул изменившимся голосом: – Нельзя взлетать, в такую погоду что угодно случается, и даже манекены могут быть опасными…
Николай вздрогнул и отпрянул.
– Отстаньте…
– Или что? – захихикал пиджак. – Что вы можете сделать? Напишете про меня фельетон, который никто кроме вас не прочитает? Изольёте на бумагу жалобу на то, как у вас отобрали мечту? Что вы можете сделать, что?
На глаза упал тёмно-багровый занавес ненависти. Львов послал в бледное кривляющееся лицо крепкую зуботычину – и ужаснулся, когда кулак отпружинило от челюсти. Пиджак не упал, а взлетел и повис в воздухе, хихикая. Остальные обратились в бегство.
– Эх! – разочарованно сказал менеджер. – А ведь мы вам грамоту хотели дать. А теперь не дадим. И да, насчёт манекенов я вас предупредил! – он снова захихикал, блестя глазами-пуговками.
– Коля, залезай скорее! – донёсся голос Антона Павловича. Самолёт доехал до асфальта и остановился.
– Я ненастоящий, ненастоящий, ты меня ни за что не достанешь! – хихикал человечек в воздухе, строя рожицы.
Николай с трудом справился с оторопью, бегом догнал самолёт и, оглядываясь, забрался в кабину. Его колотило – он пытался понять себя и всё думал, что именно с таким чувством, наверное, появляются на свет. Когда и страшно, и мучительно, и надо заново учиться дышать в холодном ослепительном пространстве.
– Да, да, именно так, – тихо сказал он. – Заново учиться дышать.
59.
Дым, звук и вечерние сомнения хлестали по лобовому стеклу и проникали в кабину. Редьярд всматривался в туман, который всегда стоял плотным облаком на подъезде к Морю, ни один ветер не мог с ним совладать.
Черепанов был сосредоточен. Дорога серебряными нитями прошивала туман, рвалась навстречу, была чиста и не предвещала. Вдоль насыпи тянулись низкорослые облетевшие деревья, они уже давно стояли здесь, переговариваясь корнями.
– А знаешь, как появилась железная дорога? – спросил машинист. – Это древняя легенда. Однажды люди захотели забраться на небо и поговорить с Богом…
– И построили Вавилонскую башню?
– Нет, башня была раньше. С ней не получилось, решили пойти другим путём. Провели тендер, нашли подрядчика, субподрядчика, технику, деньги, туда-сюда. Придумали построить лестницу в небеса. Но поскольку деревянная лестница могла сломаться от собственной тяжести, замыслили боковые перекладины стальными, а ступеньки – деревянными, в целях экономии. Посчитали габариты, массу, туда-сюда, и стали делать ступеньки в виде массивных брусьев.
– Какая удивительная легенда.
– О да! – воскликнул Черепанов. – Слушай дальше. Возникла проблема: никто никогда до неба не добирался, и никак не могли сообразить точное расстояние. Решили делать на три полёта стрелы, в лежачем положении. Долго работали, наконец, построили, стали поднимать. Прицепили тросы-канаты, впрягли лошадей, подсунули рычаги, туда-сюда… одни тянут-поднимают, другие в проём подпорки суют, чтобы, значит, успех зафиксировать…
Машинист усмехнулся, глядя в туман.
– Всё хорошо, вот только ветер забыли в свои расчёты включить. Лестница поднимается, площадь сопротивления растёт, кубометры воздуха перекатываются… уже почти подняли, да не удержали, стала она ходить, волноваться… при таких размерах в стальной материи проснулась гибкость, металл пошёл играть. В общем, упала конструкция. По всей длине. Но дело на этом не кончилось. Пошёл народ по домам: завтра, говорят, снова попробуем. А ночью поднялась буря, шум, гром, да ещё и какой-то скрежет. Народ побоялся на улицу выходить, а утром вышли: матерь божья! Лестница в землю вросла, и отростки от неё побежали: боковины стальные, перекладины из бруса. И с тех пор много ночей подряд в разных уголках земли начиналась буря, а поутру обнаруживали, что лестница ещё сильнее выросла и разветвилась. Так и появились железные дороги…
Туман стал настолько густ и плотен, что тепловоз замедлился, толкая перед собой потоки белёсой взвеси. По стеклу бежали струйки конденсата, потянуло свежестью и йодом. Железный зверь медленно крался по древней стальной лестнице, вросшей в землю, принюхиваясь и пыхтя. Низкорослые деревья уступили место тесному кустарнику, на чёрных ветках трепетали клочья воздуха.
Движение вслепую закончилось неожиданно. Тепловоз вынырнул из ложбины – и по глазам ударила внезапная ясность пространства. Небо низко и тяжело склонялось к Морю, точно отец, проверяющий, спит ребёнок или притворствует. Далеко простиралась песчаная коса, и скудное имущество порта, разбросанное по ней, казалось одиноким и случайным.
К удивлению Князева машинист оборвал движение, не доезжая до порта. Тепловоз вздохнул и мягко остановился на вылизанном песчаном плато, инкрустированном камнями и небольшими раковинами.
– Приехали, – сказал Черепанов. – Финиш. Ты ведь не в порт собрался?
– Не в порт, – подтвердил Князев. – А что, заметно?
Машинист пожал плечами.
– Давно я по этой дороге езжу, – сказал он. – Разное научился замечать. Когда везёшь человека, обычно чувствуешь, куда он едет. Потому что каждый, кто в пути, вольно или невольно всё время думает о своей цели.
– И что же я думаю? Что ты можешь сказать о моей цели?
– Могу сказать, что я тебя к ней не отвезу и не отведу, потому что это твоя цель, меня она не подпустит. И вообще, чаще всего человек и сам не знает, в чём его настоящая цель – до последнего момента не знает.
Редьярд посмотрел на Черепанова и почему-то пожалел его.
– А ты о своей цели что-нибудь знаешь?
Машинист пожал плечами.
– Мне о цели ещё рано думать, у меня задача есть – я за дорогу отвечаю. У каждого своя задача. Если один не будет отвечать за дорогу, то другой не сможет идти.
Он порылся в кармане и вытащил связку ключей. Отцепил один.
– Держи. Сувенир на память. Символ чего-нибудь возвышенного и таинственного. Я вообще журналистов не люблю, но ты ничего, с пониманием.
Они пожали друг другу руки, и Редьярд, осторожно спустившись по гулким рифлёным ступенькам, спрыгнул на жёсткий холодный песок. Было не утро и не вечер, дуло не с севера и не с запада, Море содрогалось в каменно-песчаной колыбели, вылепленной в доисторические времена.
Князев разжал руку и посмотрел на ключ, тот был шероховат и весом, робкая ржавчина тронула его. Руки внезапно ощутили тяжесть старой открываемой двери, а перед глазами с бешеной скоростью пролетели видения.
Витая лестница, щербатые ступеньки, белые облупившиеся стены. Узкие оконца, молнии трещин. Чёрная обожжённая ниша, предназначенная для такого пламени, которое можно увидеть издалека, через пелену и марево. Скудный кустарник – внизу, среди песка. Долгое хождение от земли к небу: надо кормить огонь. Исцарапанные руки. Взгляд, стремящийся за ржавые гнутые перекрытия, за ощеренные осколки – к горизонту, где белеет парус.
Князев пустился в путь. Он огибал один холм и забирался на другой, спускался ближе к воде и снова забирался повыше, потому что на пути встречались огромные чёрные коряги, оплетённые высохшими водорослями. Большие рыбьи скелеты лежали вперемешку с ржавыми деталями. Один раз путнику встретился сарай без двери. Внутри был стол, на нём лежала газета, придавленная пустым стаканом. Песок, волнами подпирающий ветхое сооружение, проник внутрь, поселился здесь.
Ред посидел немного на столе, отдыхая; странный вид открывался отсюда. Песок, чёрные кусты, рваные сети, перья и чешуя. Кусочек заброшенного мира, фотография, переданная зондом, которому не суждено вернуться.
Потом он снова шёл. Шёл, оглядываясь, иногда останавливаясь, и не сразу сообразил, что не понимает время: его часы стояли. Безмолвны были и женские часики, найденные в сквере у завода. Здесь имелось лишь одно мерило: непогода. Жизнь разделилась: первая часть предшествовала буре, вторая должна была наследовать мир после неё.
Путь завершился так же, как и начался: внезапно. Обогнув очередной холм, путник увидел врата. Две створки в росе, тончайшая ковка, искусный цветочный узор, вход, ведущий к выходу. А за вратами – чёрное море мёртвого кустарника, из которого поднималась к серому небу заветная белая башня. Распахнутая дверь, многочисленные трещины, полуразрушенная верхняя часть. Маяк, вместилище света, обитель огня, высота, с которой можно дать сигнал кораблю, сбившемуся с пути.
60.
По проспекту гигантской гусеницей ползла праздничная колонна. Её бока были истыканы плакатами, сотни рук стреляли серпантином, сотни улыбок сливались в одну.
Колонну возглавляли персонажи в безумных нарядах.
Человек в костюме инопланетянина вышагивал на ходулях, над разноцветной толпой медленно покачивалась его зелёная голова с кляксами зрачков.
Следом семенил снеговик, на шарообразной груди из папье-маше синел рекламный знак, а руки несли табличку с надписью «Знает даже снеговик: мода – это пуховик!»
Далее тянулась подвода, ведомая группой беспрерывно улыбающихся людей. На подводе колыхался гигантский чайник, из него торчала женская голова и плакат: «С пирогом, тортом и сыром чай отведаем всем миром!»
– Ну фантазёры, ну придумали! – гудели зрители. – Отличный праздник! Костюмы в этот год просто великолепные. Нина, сними так, чтобы меня было видно, и колонну сзади. Не вертись, сколько говорить, что за ребёнок, никуда больше тебя не возьму. Интересно, сколько денег во всё это вбухали? Толян, мы потом за пивом, пошли с нами, если хочешь. Говорят, в сквере будут конкурсы и сувениры.
Акционер улыбался и махал рукой, градоначальник величественно кивал бронзовой головой с мраморно сплюснутыми губами.
– Приближается колонна… – крикнула ведущая в микрофон и, выдержав паузу, хрипло простонала, выделяя каждое слово: – …колонна шестого микрорайона!
У новой группы был свой гимн, но его включили слишком рано, и Бердин уловил только последние две строчки: «Мы округа великие таланты – спортсмены, активисты, рыбаки!» Редактор предположил, что неуслышанный текст должен подробно излагать эту мысль. Всем по куплету: рыбакам, активистам, спортсменам.
В шестом микрорайоне царили свои представления о маскараде, растительная тематика доминировала. Несколько граждан оделись берёзками: длинные белые стволы в чёрных метках, внизу ноги, вверху – голова в венке из веток. Кое-кто нарядился кукурузой, в прорезях блестели торжествующие взоры.
Анатолий Павлович затравленно озирался и тёр виски холодными руками. Несмотря на то, что с утра ощутимо похолодало, ему было невыносимо душно, окружающее казалось праздником душевнобольных, балом сумасшедших… однако все вокруг радостно кивали, и выходило, что он единственный не соответствовал моменту.
Такого с редактором не случалось. Он часто осуждал и высмеивал, но всегда чувствовал себя над ситуацией, а теперь всё перевернулось: ситуация была над ним, и несовпадение с общим ликованием переживалось мучительно. Что делать? Сойти с ума, чтобы искренне радоваться? А может, это он сошёл с ума, а все вокруг – нормальные?
Внезапное воспоминание: ночь, светло-голубой сумрак, шуршание, контуры и силуэты, прозрачные женщины, которые ложатся на стол и разминают усталые ноги. Тихая музыка – не ко времени, движения – не к месту, красота, которая не считается ни с чем.
Редактор тёр виски, но наваждение не проходило, и руки казались ледяными. Он испуганно всматривался в толпу, опасаясь, что все одновременно обернутся к нему и загудят – осуждающе, растерянно, недобро.
Бердин сопротивлялся: перерисовывал буквы лозунгов, гонял по лбу задумчивые морщины, но буквы не срастались в слова, а под морщинами ничего не было. И где-то в небе, за тучами, уже зажглась белая, жалящая звезда, которую, Анатолий Павлович вдруг понял это, нельзя обмануть.
Она светила неумолимо, и Бердин чувствовал, что в нём появилось и стало бродить неведомое, и почти не удивился, когда резкая боль прорезала ладони. Только поднял руки и долго смотрел на кровоточащие трещины, выросшие во всех направлениях, и кожу, которая лопалась и шелушилась.
Меж тем на площади происходило не то. Мощным ветром опрокинуло и поволокло людей в костюмах. Активисты и рыбаки, сбитые с ног, катились, вставали, снова падали и катились. Плакаты вырывались и плыли огромными скатами, чайник стал заваливаться и утянул за собой всю подводу. Сцена поползла в сторону, но ведущая продолжала стонать речёвки, перекрывая треск дерева, взволнованный рокот трибун и одновременные музыки разных колонн.
– А сейчас мы будем награждать! – вскричала она и посмотрела на Бердина. Даже на большом расстоянии он понял, что этот взгляд – ему. – Награждается главный редактор нашего любимого печатного органа Анатолий Павлович…
Сцена накренилась и присела на одну сторону. Ведущая с визгом рухнула и скатилась на землю, где была накрыта раскрашенными фанерными щитами. Но женщина была опытной и не сдавалась. Из-под декораций показалась копна волос и руки с хищными ногтями. Трибуны оборачивались и шушукались.
– …Бердин! – провозгласила ведущая. – За то, что он такой профессиональный и неистребимый, за высокое служение печатной машинке, за переполненность планами и высокую сознательность! Подойдите же сюда, Анатолий Павлович!
В голове редактора случился ослепительный белый взрыв. Потоки света раскрошили и с бешеной скоростью распылили в пространстве частицы его сознания. Стены, возводимые на протяжении долгих лет, моментально истончились и растаяли.
И началась череда странных видений. Возникали чёрные воронки, в которые утягивало маски и предметы; обломки букв и слов налипали на орбиты, окольцовывая далёкие планеты.
Жалящий луч белой звезды пронизывал пространство, высвечивая каждую неровность на шероховатых поверхностях астероидов. Звучала тихая музыка. Происходящее в редакторе не считалось с ним.
Он пришёл в себя, пришёл так, словно никогда и не был в себе, и удивлённо осматривался, обживался в новом понимании, как в только что купленном пиджаке. «Это я? – думал с удивлением. – И это тоже я? А здесь? Здесь тоже? Сколько же меня… и как это всё получилось…»
Он был один не только в ложе – но на всей площади. Пронизывающий ветер задул свечку праздника, люди покинули трибуны, спеша укрыться от надвигающейся бури. На ветвях колебались обрывки материи, в небе таяли горошины шаров. Слышался треск – надламывались плакаты на тонконогих шестах, заваливались палатки.
Бердин встал, шатаясь, толкнул дверь и вышел в никуда, в пустоту, в затаившийся город. Рукава улиц были пусты, дома чуть наклонялись, мешая друг другу, и смотрели на редактора слепыми окнами. Он постоял, оглядываясь, но ветер вынудил его идти – через площадь, по останкам помоста. Одинокий человек на безлюдной площади, сильный ветер вытягивал его тень, втирал в асфальт.
Перед ним был незнакомый проспект в позёмке серпантина, в клочьях белого дыма и осколках междометий. И всё это – обрывки, брошенные грамоты, сквозящие проулки, бегущая волей ветра пустая детская коляска – было залито белым, почти электрическим, звёздным светом.
Из дневника Саши:
Наступила ночь, когда я поняла, что этот город – не чужой мне. Дело ведь не в знании маршрутов. Дело в том, что постепенно накапливаются картинки – кино и пиво, ночное собирание пазлов, фонтаны и галереи, весь этот приятный вздор, которым щедро грунтуется холст бытия…
…так вот, всё это копится, копится, и в какой-то момент поступает сигнал, что информация переварена и усвоена, и с этого момента ты уже другая, и город другой, и ваши отношения другие. Вы становитесь взаимно не чужими. И даже если город не очень понимает тебя, а он тебя не понимает, и даже если ты не очень понимаешь его устройство, а ты его не понимаешь, это ничего не меняет.
Всё складывается из мелочей и воспоминаний, в том числе чужих, ставших твоими. И это происходит невероятно быстро. И вот ты идёшь и думаешь: надо же, на этой осенней скамейке мы сидели летней ночью…
Разговоры, движения, вещи. На глазах меняются декорации и персонажи. Некогда учить роли, они пишутся в процессе, незачем помнить имена, они условны. Роняются маски, рвутся ленточки, стреляют хлопушки. Города со своими легендарными пряниками, саблями и самоварами – лишь место действия и реквизит долгой пьесы, в которой за окном холодно и темно, и надо пить чай и дышать на ладони.
Я смотрю с возвышенности. Я вижу, как мерцают багровыми шлаками чёрные пустоши завода. Я вижу долгий-долгий мост, который уходит в огни и холмы, в хитросплетения подземных и надземных коммуникаций, в лабиринты улиц, в стены и окна, во всё то, из чего состоит город. Я вижу.
61.
Самолёт медленно крался к взлётной полосе, потом свернул и остановился.
– Готов, Коля? – Антон Павлович не оборачивался, но исходящее от него волнение было таким явственным и ощутимым – хоть рукой потрогай. Это было волнение не того, кто сомневается, а того, кто в шаге от цели.
– Готов, – крикнул Николай.
В течение следующей минуты, пока самолёт тронулся с места и начал разбег, он успел вспомнить многое – слишком многое. Череда не связанных между собой воспоминаний, некоторые пришли впервые, другие явились как старые друзья.
Мелькнуло: давняя летняя ночь, он стоит на мосту с девушкой, они смеются и бросают в воду монетки, до расставания – не больше недели; сейчас ему особенно ясно помнилось, какой чёрной была вода. Потом ещё: зимний лес – выбирались с друзьями на лыжные пробежки – вот он стоит и слушает тишину, а тишина слушает его, а потом он бежит, досадуя: лыжи плохо скользят. Весна – её дыхание будоражит, гонит в дорогу, а дорога начинается под ногами, только сделай шаг… Тяжёлое золото осенней листвы в косматом, нечёсаном парке. Скамейка, на которой учил билет перед экзаменом.
И сквозь всю эту череду рассыпавшихся бусин, брошек, побрякушек, флаконов от духов, зелёных стёкол, обтёсанных водой, фотографий и черновиков – воспоминание о сне, неотступно следующем через годы. Полёт, пустыня, падение, странствие.
Когда самолёт оторвался от земли и по корпусу, преодолевающему пласты воздуха, прошла дрожь, Антон Павлович что-то крикнул – неразборчиво и радостно. Они сделали круг, и Николай, впившись глазами в землю, всё смотрел, смотрел – и высмотрел наконец дом Алины. Крохотная, точно игрушечная изба – и пустая лавка у калитки. Николай вдруг почувствовал, что несёт этот дом в себе.
– Было моё сердце преждевременно усталым и скучным, а теперь в нём горит жёлтое окно, и значит, оно теперь не зря, – сказал он громко, зная, что Антон Павлович не услышит.
Самолёт стал набирать высоту, пока не поднялся над кратерной стеной. Ветер под ними не просто гудел – он стонал и ревел, обдирая бока о камни.
Впереди показалось море, и Николай увидел, что оно тревожно бурлит и наливается тяжестью, а по берегу ползёт крохотная вереница – кажется, целая колонна людей. Кто они, зачем идут на берег в непогоду?
Он посмотрел в другую сторону – и увидел маяк, в котором распустился оранжевый цветок пламени. Должно быть, вблизи это очень большой огонь, если даже с такого расстояния его можно разглядеть.
Воздух был влажен; ветер доносил мельчайшие капли, они были солоны и пахли йодом. Внизу, наверху, вокруг всё гудело и предвещало, как под сводами храма, когда ладан, и акафист, и единение, и чувство прожитых тысячелетий.
Ветер чувствовал, ветер ликовал, сегодня маятники обещали пробить его час – маятники, собранные руками, которые так легко танцуют на столе, среди инструментов, греются о чашку и снова танцуют, и летают над песками, высматривая утраченное.
Ветер ликовал над притихшими просторами, и земля внимала его пению. Чёрный усталый тепловоз – железный ангел дороги – полз в ангар, за ним, далеко, на рейде, мерцал и таял белый парус – трепетный ангел моря, получивший сигнал с ожившего маяка – каменного ангела берега.
Нина Авдотьевна молчала, молчали те, кто рядом. Каждому чудилось и виделось своё, потому что у каждого своя дорога, и даже идущие вместе приходят к разному. Но каждый знал: нет такого острова, который сам по себе, и нет такой планеты, которая сама по себе, и нет такого Слова, которое само по себе.
Обнимая сумку с фотоальбомами, Нина Авдотьевна неторопливо перебирала мысли – всё те же вопросы о смысле и поиске, попытки добраться до сути, до истока. Но начало утопало в густом тумане, а вопросы были как большие льдины: вот она, твердь, вот они, границы, чего же ты хочешь? Смотри в чёрную воду, высматривая рыбу с золотыми плавниками и серебряной чешуёй, смотри в воду, где смазаны созвездия, в воду, не имеющую дна. Смотри и не спрашивай, если видишь.
Тяжёлые волны – стадо чернорунных баранов – грузно переваливались через ноздреватые камни волнореза, волнуя водоросли. Когда говорит Море, лучше молчать: так слышнее и понятнее. Да и как не онеметь, когда под ногами сырой песок, не знавший человеческой ноги, а вокруг – великие стены, сотканные из влаги, и пелена, сквозь которую видится звезда – яркая звезда среди отпрянувших туч.
Шторм гулял по улицам, клубилась песчаная пыль, ветер вылизывал гигантским языком дворы, в которых растрёпанные хозяйки торопливо снимали бельё с верёвок. Порой с крыш слетали металлические листы; полоснув пустоту, они с грохотом падали на землю. Обрывки бумаги бесприютными насекомыми сновали по тротуарам в поисках выступов и щелей.
Высокий пожилой человек шёл, покачиваясь, и тень его пласталась длинным тёмным пятном. На одном перекрёстке он увидел: вот стоят двое и смотрят на него. Один светлый, над волосами сияние, другой чёрный, глаза – две смоляные капли. Здание, у которого они стояли, показалось путнику знакомым, в окне третьего этажа струилось светло-голубое сияние. Человек сморщился, но не вспомнил и пошёл дальше.
Он долго блуждал по улицам, так долго, что о многом бросил думать. Сначала он перестал удивляться странности этого дня, потом бросил думать о цели своего пути, а затем и вовсе прекратил разговаривать с собой.
Окна молчали, жизнь затаилась в своих хрупких декорациях, спряталась от ветра среди книжных шкафов, под верблюжьим одеялом. Все светофоры мигали жёлтым, и звезда, плывущая за тучами, продолжала жечь нестерпимо.
Наступил момент – и человек увидел вход: распахнутая дверь, белый песчаный пол, кирпичные стены тоннеля. «Дело не в том, что дверь забыли закрыть, а в том, что у открытых дверей смысл другой, чем у закрытых», – подумал он.
В тоннеле было темно, сначала просто темно, потом совсем, а затем потянулись редкие тусклые лампочки, просветы и сполохи заплясали на стенах. Человек оглянулся на далёкий прямоугольник дверного проёма – и решительно пошёл дальше.
Перед ним была ночь, уготованная для тех, кто движется к свободе. Он восходил в неё так долго, что уже и время закончилось, а он все шёл. Пространство шевелилось, мычало и меняло очертания, и нельзя было понять, злое это или доброе, и что теперь делать, и как себя вести. И неясно было, надо ли драться, убегать – или просто закрыть глаза.
Так долго шёл человек, что тоннель не заметил, как он закончился – иссяк, испарился, вышел до вздоха, до звука. Тень его становилась все бледнее и наконец исчезла совсем. А ему показалось – ненадолго, на секунду – что наступило лето и где-то рядом бронзовки с тяжёлым гулом ныряют в потоки золотого света.
А потом он очнулся и увидел озеро, чёрная вода была холодна и непорочна, ни один человек не заглядывал в неё. Небо над ним было той же тёмной глубины, и светлые ангелы летали между облаками.
Человек заметил лодку и в ней гребца – два охристых пятна на сумрачном холсте. Лодка направлялась к берегу, гребец смотрел серьёзно и ясно, и путник понял, что это – за ним. Тогда он окончательно отрешился от сомнений, и всё, что надумывал и лелеял, ссохлось и разлетелось, как мёртвый, безжизненный кокон.
Последняя запись в тетради
Написанное вызревало во мне необъяснимо долго, я носил в себе все эти слова, и когда они появились, я уже не был тем человеком, который начинал путь.
Я переполнен словами. Они прошли через меня, я прошёл через них, я дал им жизнь, они дали жизнь мне, я стал их домом, они стали моим спасением.
В иные минуты я слабел и опускал руки, но они меня спасали. Сначала ты вдыхаешь жизнь в персонажей, потом они, окрепнув, делятся своим дыханием. Ты сотворил их, они творят тебя. Отныне вы связаны.
Изначально я работал по готовой формуле. Придумал и записал знаки и их сумму, а потом поставил две горизонтальные чёрточки – и лишь тогда понял, что придуманный результат сюда не встаёт. То есть, конечно, его можно втиснуть, но это будет грубо и некрасиво по отношению к книге, которая позволила себя написать. Результат – это туман над озером, который начинается на краю причала, или за окном рыбацкой избы, или за бортом катера. Теперь я это знаю.
Мой корабль построен, в его помещениях пахнет сосной, его борта высоки, его палуба крепка. Он не для воды, он для плавания по небу и под волнами, для хождения через и насквозь.
Настало время отправляться, для того ведь и строят корабли.
Эпилог. Тот, кто грезит
Видение № 1. Небесный камень
…Белое, белое пространство, лишённое ориентиров. Летит белое, то ли снег, то ли пух, то ли лепестки вечно молодого цветка – не понять. Летит белое – медленно, неторопливо – обволакивает и растворяется бесследно.
Слышится хрустальный звон, он прозрачен и льдист. Тихой музыкой заполнен мир, как сон, как смутное детское воспоминание. Ноты возникают в воздухе, исчезают и появляются вновь, за ними видны проблески созвездий.
Эта музыка сложена до начала Времени, на том отрезке, когда часы уже имели имя, но не были заведены и висели молча. Латунь уже была латунью, в ней дрожал первый свет, но Время ещё не сдвинуло с места пласты неорганизованного пространства.
Проступают очертания равнины. Всё как в замедленной съёмке: огромный камень плавно опускается с неба, вокруг него тихо плавится воздух, поднимаются стены из песка и пепла. Тягуче бьют часы, воды кишат рыбой, птицы любуются звёздами, место падения камня зарастает лесами.
Веки зрящего подрагивают. На горизонте появляется трещина – ровная, как сам горизонт. От неё шарахаются птицы. Она прорезает пространство и приближается, увеличиваясь. В ней видится иное: перила балкона, далёкое серое Море, приближение предсказанного – и недовольное лицо.
– Опять грезишь? По крайней мере, у меня в гостях мог бы и воздержаться. Хочешь, я расскажу им, что они тоже грезят и что их цели существуют только у них в голове?
– Нет.
Трещина уменьшается, захлопывается, как раковина. Остаётся тихий хрустальный звон, мелодичный и льдистый. Белое, много белого вокруг. Пух? Снег? Лепестки?
Латунный бой часов примерзает к небу, его можно рассмотреть. Вспыхивают и гаснут ноты. Созвездия дрожат сквозь музыку, созданную прежде Времени.
Видение № 2. Три рыбы
Шумит море, колеблется, дыхание его поднимается и стелется. Вправо – вода, влево – вода, везде – вода, всё – вода. Зелёная зыбь, синяя даль, чёрная глубь.
Три большие задумчивые рыбы смотрят вверх, и у одной во чреве медальон, у другой книга, у третьей ключ, и кто их поймает, тому предстоит загадка.
Ветер вылизывает волны, но язык его шершав, и не станут воды гладкими – Море раскачивается, всё сильнее, всё больше, отталкивается от скал того берега и летит к чёрным валунам берега этого. Из стороны – в сторону.
Тени птиц мелькают молниями – чёрные тени белых ангелов. Рокот мотора – и тень самолёта – большое размашистое пятно, случайная клякса на загрунтованном холсте: пилот прячется от ветра, крадётся понизу.
Над водой носятся голоса – слова, сказанные неведомо кем, кому и когда, подхваченные ветром, странствующие по миру.
– …ты же перекупался, иди на солнце… на солнце… на солнце…
Холст паруса, вечно чистый лист, свиток, летящий над Морем. Проплывает, изгибаясь в волнах, продолговатая тень: нос, корпус, выгнутый прямоугольник паруса.
– …дай руку… вот так… ничего не бойся…
Три большие рыбы смотрят вверх, и одна видела множество затонувших городов, вторая помнит названия всех погибших кораблей, а третья – прямой потомок самой первой рыбы сотворённого мира. И кто сможет их поймать, уже не будет прежним.
– Море, оно вечное… нас не будет, а ты выйдешь к нему и всё вспомнишь…
Чёрная клякса пытается проступить в воде, в ней угадываются глаза и рот, но морок держится недолго – его стирает ветром и водой. В волнах – щепки, пена. Мимо – покачиваясь – скользкая коряга, мечтающая о земле, с налипшими водорослями.
Говорят, однажды, в самом начале, мир перевернулся, и верх оказался внизу, а низ вверху, и птицы задирали головы и смотрели на рыб, но пошёл великий дождь, и Море вернулось вниз, а небо, выдавленное водой, взмыло в подобающие сферы.
Маяк, белая башня среди серого холодного песка – в одной из точек бытия. Огонь: вблизи огромен и неистов, издали едва заметен. Маяк дождался своего часа – он ждал его, как ждёт каждый из нас, неся тепло своей жизни через Вселенную. Миллионы, миллиарды, мириады маяков. Крохотные огоньки ветреных побережий.
Видение № 3. Мерцающие фонарики
Большой зал, колонны. За огромными окнами ночь, полная летящего снега, пустые улицы. Появляется человек, он проходит и скрывается в одном из зданий. Стены не мешают видеть: он сбрасывает куртку, ставит чайник на плиту и смотрит на огонь.
Белый зал, большой-большой, колонны. Люди, много людей. Некоторые без имён – бывает и такое: потеряли где-нибудь или забыли. Спокойные ясные лица. На трибуне из старого жёлтого дерева – пустой графин. Докладчик молчит, над его волосами плавает тихое золотистое сияние.
Наконец он поднимает голову и видит, что одни смотрят внутрь, а другие вовне, но и первые, и вторые осознали: нет такого острова, который сам по себе, и нет планеты, которая сама по себе…
Люди в зале непостижимо меняются. Вот зал полон. Вот в нём только несколько человек, сначала в разных углах, потом рядом, потом опять порознь. Вот зал полон наполовину, вот просто полон. Веки опускаются – веки поднимаются.
Чья-то тень рядом.
– Так-так. У вас тут собрание? А где же записки из зала?
– Они научились спрашивать – и больше не спрашивают.
– Почему ты молчишь? Ведь у вас собрание. Ты не должен молчать. Ты должен сказать им. Ведь ты многое знаешь такого, чего они не знают, надо бы поделиться.
– Нам уже нечем делиться, ибо они поняли: нет такого острова, который сам по себе…
Тень злится и нервно поправляет воротничок.
– Всё-то у вас не по-человечески. Где связь между событиями? Где эволюция сознания?
Тот, кто за трибуной, пожимает плечами.
– Хочешь, я скажу им, что они спят? – не отстаёт чёрный. – Хочешь, растолкую, что на самом деле они давно перестали существовать, а всё происходящее – коллективная фантазия, склеенная из обрывков воспоминаний и предчувствий?
– Нет.
Тень всматривается – впрочем, это только ощущение: у неё нет глаз. Презрительно фыркнув, она исчезает.
Тот, кто за трибуной, поднимает голову и смотрит сквозь потолок. Планеты и звёзды странно близки и отчётливы. Осколки неприкаянной материи, потоки мерцающих пузырьков летят, повинуясь ветрам и налипая на орбиты.
Хорошо видно пространство вокруг небесных тел, видно, что они – не просто точки, шляпки гвоздей на чёрном покрывале, но капли мироздания, мерцающие фонарики, оставленные для тех, кто совершает путь.
Голос в кратере
(Из поэтической тетради)
***
Так ветрено, что выдуло всю суть
из города. По улицам ничейным
витают формы, каждая – сосуд,
покинутый и смыслом, и значеньем.
По серым водам, до границы той,
где тает в пелене фонарный улей,
плывут сердца, набиты пустотой,
как бакены, оборванные бурей.
Клубится по оврагам хлороформ…
Нет целей, но имеется задача
не сделаться одной из этих форм;
работая, упорствуя, чудача,
не впасть в привычку, никуда не впасть,
не сделаться одной из оболочек,
в которых время умертвило страсть
неспешно, но без лишних проволочек.
Слова приходят – тут, как и везде,
процесс тенденциозен; темой этой
стихотворенье родственно звезде,
которая восходит над планетой.
И есть желанье видеть в этом знак
того, что верен путь, того, что ветер
несёт с собой подсказки: распознав,
кто тёмен был, тот сделается светел,
кто не был – значит, сделается тот.
Всего-то и делов – найти в потоке
вселенских излучений и частот
сигнал, который выведет в итоге
на глубину, что вечно здесь и тут,
но чья юдоль едва ли достижима,
когда в краю привычек и простуд
и чувствуешь, и пишешь без нажима.
***
Неделю было ветрено. Всё глуше
мир, приникая к вытяжкам, аукал,
и серый кот, бегущий краем лужи,
менял то траекторию, то угол.
А ветер был в контексте: шёл период
перемещений меж землёй и небом,
когда устало виснут на перилах,
пока сигнал для отправленья не дан.
Я уходил со сцены в закулисье
и, свет ночей не принимая на дух,
смотрел, как над домами носит листья,
не сразу признавая в них пернатых.
А ветер пел рапсодию всё ту же,
и гнулись вязы, словно перебрали,
и лунный диск, бегущий краем тучи,
сносило, словно плот на переправе.
Сценарий повторялся, впрочем, это
не порождало в зрителе заядлом
привычку равнодушно тратить лето,
ещё в сирени, но уже без яблонь.
Вот так оно и шло – всё вперемешку.
Росла гора невымытой посуды,
и ночь была не ночь, а что-то между,
и сон не до конца был сном, по сути.
И оставалось лишь одно, наверно:
смотреть в окно, превозмогая вялость,
на старый клён, бегущий краем ветра…
Под утро и того не оставалось.
Ночь, уходя, косила лунным глазом,
всё в мире примечая (не слепа ведь…)
Я засыпал, как стих свой, недосказан,
уже не в силах что-либо добавить.
***
Вот натюрморт: трюмо и медальон,
и отсвет дня, что был когда-то прожит,
и кажется, что пахнет миндалём,
а может, и не кажется, а может,
всё это сон, тот сон, который не
закончится до времени, до титров –
так календарь белеет на стене,
пока не снимут, все страницы выдрав;
так длится жизнь, а с нею в унисон,
мешая привкус моря и полыни,
всё то, что составляет этот сон,
меня не оставляющий поныне.
Вот натюрморт: три зеркала темны
над бабушкиным столиком, на этом
не всё: благоухают со стены
бутоны роз, написанные дедом;
мерцает брошка с камушком, едва
заметным в полумраке и тем паче
когда рассеян взгляд, густа листва
и всё воспринимается иначе.
Ещё бы не забыть упомянуть
о старом кресле, шторах жёлто-алых,
о том, что за отсутствием минут
часы считают ягоду в пиалах;
о том, что вечер, странно загустев,
вдруг замер, ошарашивая синим,
и звёзды, как бутоны на кусте,
отрадны астрономам и разиням.
Там, за домами, море. И оно,
не замечая времени, всё то же:
колеблется, разглаживая дно,
и тихо бьёт в песчаные ладоши.
Над ним стоит такая темнота,
что ангелы, в движении ретивы,
сбиваются; маяк да шум винта –
единственные их ориентиры.
Один мотив, всего один мотив,
но по ночам на опустевших пляжах
везде сидят, колени обхватив,
и море понимает эту блажь их.
Сквозь стены, и заботы, и века
оно следит, глубокое до дрожи,
как за одно мгновенье до звонка
бледнеют розы и тускнеют броши.
***
Что серые плиты, что чёрные брёвна,
на всём отпечаток погоды промозглой…
В такую погоду, в такую же ровно
однажды сидел я в кофейне приморской.
Да, было такое. Темнели причалы,
и волны катились, ропща в непокое,
и чудились крылья порой за плечами,
и кофе дымился… Да, было такое!
Пространство дышало прохладой, при этом
в кофейне еще не пылала жаровня,
пришлось одолжиться подушкой и пледом
(в такую погоду, в такую же ровно).
Там чайки, как я, упивались волнами,
слетая с причала, как стружка с надпила,
и некая тайна царила меж нами,
да, нечто подобное, помнится, было.
Там небо, как кофе, бурлило, дымилось,
и ветер над морем гудел, хорохорясь,
ему целый город сдавался на милость,
закутанный в зябкую зыбкую морось…
Вот вспомнил – и в прошлое кинулся страстно,
но цели не знаю, хоть бороду брейте,
а просто увидел палитру пространства
и вспомнил и мачты, и трубы на рейде.
Я всё записал аккуратно, и с теми
словами как будто добрался до кода,
который ломает любые системы
(особенно если такая погода).
И кто его знает, возможно, всё дело
в балансе оттенков, подборе тематик…
Исчислить бы точку, что космос задела,
но я, как вы знаете, не математик.
Я тот, кто в кофейне неспешно и немо,
не видя других и другими не виден,
пьёт кофе и смотрит, как чайки на небо
несут серебро немигающих рыбин.
***
Проснувшийся да будет награждён
высоким созерцаньем ритуала,
когда весь мир смывается дождём,
как пыль со стен и листья с тротуара –
когда скользят по глине города,
где каждый дом велик и лучезарен,
они не исчезают без следа,
но след довольно скоро исчезает.
Они плывут. Должно быть, та же стать
у корабля, что призрачен и прочен,
там, может быть, и есть кого свистать,
но ни к чему, да и не время, впрочем.
Всё мимо, все огни, вся канитель,
и не понять, где жизнь, а где зерцало.
Но каждая десятая постель
покинута во имя созерцанья –
такую ночь одним дано проспать,
иным дано присутствовать обрядно,
и это повод прекратить распад
и до восхода всё вернуть обратно.
А там – за этой ночью, за дождём,
переходящим с грохота на шорох –
проснувшийся да будет награждён
рассветом, оседающим на шторах.
***
Ну вот, похоже, и дошли,
как ни желтел над нами гелий,
хотя надежда на дожди
слабела с каждою неделей.
Гремело в небе: «Награжу…»,
и никаких намёков кроме,
и все надежды на грозу
стояли лишь на этом громе.
А осень сделалась в два дня.
На третий лило и гремело,
по атмосфере нас родня
с Венерой – если для примера.
Никто не ждал такого, хоть
и началось с негромких крапин
на окнах, в целом был приход
дождливой осени внезапен.
Когда листву, как прядь со лба,
смахнуло первым свежим шквалом,
везде сквозь сон пошла борьба
за обладанье одеялом.
Когда же утром серый свет
прополз грузней, чем ахатина,
никто не посмотрел вослед,
а это – лето уходило.
***
Я житель и смотритель маяка,
на полдороге от зари к закату,
у хмурых берегов материка,
ещё не нанесённого на карту.
Здесь можно извести вагон лекарств,
сжечь сто лесов во имя и на благо,
но не увидеть, хоть издалека,
плывущего над горизонтом флага.
Пока в пылу сражений и осад
эпоха пережёвывала вести,
я научился слышать голоса
в напеве волн, в молчании созвездий.
И эти голоса ведут туда,
где небо дарит пригоршни жемчужин
и заготовлен хворост для труда,
который только труженику нужен.
Здесь мой эдем и вечный мой аид,
я изучил до контуров и граней
все камни, из которых состоит
вместилище бессмысленных стараний.
Но, совершая свой ночной обряд
и каждым взглядом споря с темнотою,
я Словом, словно пламенем, объят,
и мысль моя несётся над водою.
Я засыпаю строго на заре
и слышу, угасая постепенно,
как кто-то тихо роется в золе
и сходит вниз по каменным ступеням.
***
Вот так он и проходит, этот год –
как бег на месте, пляска на татами
без перспективы сделать шаг вперёд,
чудесно разминувшись с холодами.
Одно занятье – наблюдать за тем,
как ёжатся цветы, темнеют кромки
листвы, как тихо гаснет мой Эдем,
и сны его мучительны и ломки.
Моё окно всегда открыто в сад,
он лепестками выдаёт мне ссуду,
пока вороны в кронах голосят,
разбрызгиваясь кляксами повсюду.
Да, мы летим. Мы всё ещё летим
вокруг большой звезды, и тем уютней
чаёвничать, пускать по ветру дым,
нисколько не боясь прослыть за трутней.
Возможно, я не прав, но в этот раз
я не готов, хоть вариантов нету:
уж воздух чист, и каждая из фраз,
аукнув эхом, прилипает к небу.
А это значит – время подошло,
и надо стать задумчивей, светлее,
пока, расправив крылья тяжело,
взлетает август, пробежав аллеи;
пока псалмам отчаянно тесны
любые храмы, а в домах, где охра
вечерних ламп, о чём-то шепчут сны
и аисты заглядывают в окна.
И некто, разрывая ночь, как крот,
легко идя по листьям и по иглам,
в свою копилку бережно кладёт
ещё один мотив, что недоигран.
И человек, бредущий вдоль струны,
окутанный дыханием лилейным,
вдруг видит сам себя со стороны –
и светится негромким удивленьем.
***
Среди немых и вздыбленных коряг,
когда уходит солнце, обагрив,
за неименьем водки пью коньяк
и спотыкаюсь, пробегая гриф.
За неименьем сна смотрю окно.
Там так темно и сыро потому,
что, вероятно, это всё же дно,
а если так – уже не потону.
Сигнала нет. Антенны съела ржа.
На проводах повис аэростат.
И многие, от сырости дрожа,
довольно скоро жабры отрастят.
И чем их упрекать в неправоте,
уж лучше спать, не размыкая век.
Но я не сплю – гадаю по воде:
мне выпадет, по всем приметам, снег.
Он выбелит, всего себя раздав,
живейшую из видимых планет,
и это, в общем, будет неспроста
в условиях, когда сигнала нет;
когда в тягучей зыбкой пелене
знакомо всё (не в этом ли подвох?) –
и лишь через слова даётся мне
всё то, что нужно, чтобы сделать вдох.
***
Небо стелется пеленой,
целый мир по утрам сопат.
Не выпытывай, что со мной,
очевидно же: листопад.
Листопад во мне, канитель,
нисхожденье природы вниз,
чтобы сколько-то там недель
спать в тиши ледяных гробниц.
Это всё не во вне – во мне,
где из памяти сны растут,
я сказал бы точней, но не
в эту ночь и совсем не тут.
Листопад во мне, листопад…
Медный ствол, золочёный лист,
два холма, и один горбат,
а соседний, скорей, волнист,
и летящие вдаль скамьи,
и хранящий тепло батон
(хочешь, уткам его скорми
иль себе оставь на потом).
И когда на щелчок ключа
обращается мир, стоглаз,
слышу голос из-за плеча –
из-за правого слышу глас.
Кто-то с крыльями и трубой
тихо шепчет: «Не отступать!
Ну, иди… Листопад с тобой».
Листопад со мной, листопад…
***
…В последнюю минуту гаснет свет,
и в темноте, глядящей исподлобья,
такая тишина, что слышен снег,
в полёте собирающийся в хлопья.
Всё замирает в странной немоте,
вся суета, весь бег, все «фу ты, ну ты»,
когда потянет воском и мате –
дыханье ускользающей минуты.
В молчанье померещится ответ,
хоть не было вопроса, но, в тяжёлых
портьерах растворившись, гаснет свет –
и сразу полутьма, и сразу шорох.
В такие миги, сторонясь осанн
и целый мир вбирая подчистую,
я по снежинкам лезу к небесам –
и не во все минуты существую.
В такие миги, временем несом,
уходит день, отчаянно малинов,
и золотист, и радостен, как сон,
как тёплый хлеб, как запах мандаринов.
И я уйду – полями, вдоль реки,
верхом иль пешим, в шапке ли, в венце ли,
успев понять, что всё, что вопреки,
на самом деле приближает к цели.
А цель, она виднее в полутьме,
когда свеча едва-едва погасла,
и жизнь в окне, как жизнь на полотне.
Мне через стёкла слышен запах масла –
и шорох туч, которым не указ
любой людской прогноз – и в торжестве том
не знающим о том, что свет погас,
чтоб через миг иным смениться светом.
***
Над домами с их гарью и сонным лаем
на исходе дня, на заре времён
пролетает снабжённый тремя крылами,
выкликая того, кто был обделён.
Тот, трёхкрылый, очами подобен ламе.
В небесах, где тучи бегут, бурля,
он гребёт по ветру двумя крылами,
открывая в третьем талант руля.
Он глядит направо, он зрит направо,
он глядит налево, налево зрит,
он зовёт того, кому в небе плавать –
то напевно кличет, а то навзрыд.
Он летит над морем, летит над морем
в серебристой мгле перелётных рыб,
а мы сети моем и море молим,
а он там, вверху, говорит навзрыд.
Он плывёт по небу, плывёт по небу.
Два крыла – как вёсла. Как руль – одно.
Он похож на нерпу, похож на нерпу.
И над ним созвездья покрыли дно.
***
Я выхожу на зимний мыс,
оставив свой постылый кратер,
я в сотый раз утратил смысл –
иль это он меня утратил.
Здесь небо льётся, как кумыс,
и под гортанный рокот ветра
темнеет море безответно,
с какого боку ни кумись.
Смурная облачная желчь,
простор объявшая зевота…
Здесь некого глаголом жечь
и некому ходить по водам.
Здесь песня переходит в хрип,
а пепел стелется извёсткой…
Мерцает ветер, дуют звёзды,
мелькают волны среди рыб.
А я брожу в кругу камней,
чей смысл незыблем и неведом,
и ночь склоняется ко мне
и поделиться хочет светом.
А на заре, дожив едва
на красных углях нетерпенья,
у птиц вымениваю перья
на непонятные слова.
***
В оконной раме, влипнув в переплёт
ветвей, соединяющихся в лица,
по серой тропке женщина идёт,
и этот миг непостижимо длится.
По анфиладе сумрачных стволов:
берёза, липа, ель, опять берёза…
И новый год, исполнен новых слов,
за ней стремится – но не доберётся.
Повсюду снег, он тёмен, как весной.
В его нагромождениях набухших
так странен этот пёстрый наносной
осадок серпантина и хлопушек.
И дворик, что в окне моём, и тот,
что за углом, сомкнули веки шторок –
и слушают, как женщина идёт…
И этот миг непостижимо долог.
Впечатанный в тропинку серпантин,
как след свечи, витиевато-восков,
и он, и двор, и вечер – лишь один
из бесконечной череды набросков.
Назавтра я пойду дышать зимой,
и, может, в поле зренья у кого-то
моя прогулка, путь короткий мой,
едва мелькнув, останется, как фото.
И я, бредущий к небу напрямик
по сухотравью, вставшему ершисто,
застыну, инкрустированный в миг,
который никогда не завершится.
***
Нет никаких ещё и никаких уже,
лучшее, что могу, я напишу вчера –
вечером поутру, где-то на Иртыше,
там, где плывёт Луна, звонкая, как пчела.
Делаю шаг назад – и обгоняю год,
и предо мной опять яростней, чем набат,
мечется снежный зверь именем ледоход:
«Где ты, мой давний друг именем снегопад?»
Мечется невпопад, руслом едва вмещён.
Бродят слова, блестя, рыбами в глубине:
«Нет никаких уже, нет никаких ещё –
ты у себя спроси, если не веришь мне.
Да и не в том вопрос, сколько лететь, смутив,
жаждой своей всех тех, кто оказался близ…
Я намолчу тебе очень простой мотив,
взятый из синевы, ясного неба из».
И наступает ночь, полная тишины.
Бледные фонари, давние времена…
Звуки идут со дна, глухи и тяжелы.
Речка молчит мотив – как же она нема!
Виденное – во мне, слышанное – со мной,
всё это – как цветки между сухих страниц,
где до сих пор звучит что услыхал весной:
«Время, не замирай, просто посторонись».
Мимо плывут дома, снами оплетены,
и не сказать – к черте: нету для них черты.
Школа моя плывёт, окна её темны,
классы её пусты, доски её чисты.
Следом проходят сквер, церковь, где был крещён,
тополь на берегу, утренняя звезда…
Всё это – не уже, всё это – не ещё,
всё это – пузырьки в тающей толще льда.
Сколько мне было лет, столько мне будет лет,
то, что приобрету, будет не груз, а в плюс –
всё пригодится там, на берегах планет,
где я проснусь вчера, если потороплюсь.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


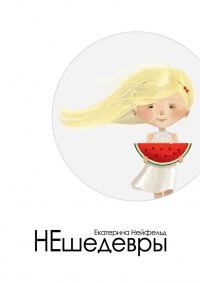



Комментарии к книге «Город в кратере», Иван Сергеевич Денисенко
Всего 0 комментариев