Сергей Соловьев Её имена
© С. Соловьев, текст, фотография, 2016
© Ст. Львовский, вступ. ст., 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Окончательная незавершённость как надежда и обещание
Работа Сергея Соловьева в современной русской поэзии происходит не то чтобы очень заметно. Его, разумеется, называют всякий раз, как речь заходит о «метареализме». Термин этот, придуманный уже, между прочим, тридцать два года назад, принадлежит, как известно, Михаилу Эпштейну. По идее он должен обозначать некоторое свойство поэтики (или поэтической оптики), которое объединяет нескольких авторов, на деле очень разных. Собственно, предыдущая книга нашего автора вышла пять лет назад (впрочем, нет, опубликована между ними ещё одна, но смешанного содержания – и в Киеве). А два года назад был опубликован opus magnum Соловьева, «Адамов Мост», будто бы роман, но совсем, к счастью, не похожий на то, что при слове «роман» представляется почти всякому нынешнему читателю по-русски. Речь у нас, вроде бы, о стихах, но роман этот важен, в том числе и для понимания – нет, не стихов, а того, кто их пишет. Тому, кто после «А.М.» возьмется читать прозу, опубликованную – за сколько, пять? семь? – лет до романа, придётся, с довольно большой вероятностью, иметь дело с мыслью о том, что если не большая, то изрядная часть этого «до» – не что иное, как тщательно и в открытую зафиксированное усилие приближения к пятисотстраничному тому «А.М.». На этом месте становится яснее и про роман – что он представляет собой не раз навсегда написанную писателем (а потом прочитанную читателем) книгу. Нет, мы имеем дело с ещё одним вариантом, только по видимости окончательным, а на самом деле, кажется, (почти) ничего не исключающим: становление длится до тех пор, пока изменение – здесь.
Для понимания поэтической практики Сергея Соловьева это соображение важно. В давнем эссе «Поле риска и изыска» он пишет о необходимости напряжением поля письма «удерживать открытыми все возможности» – то есть как раз о необходимости не становиться, об отказе от окончательности. «Её имена», книга, которую вы держите в руках, и похожа и не похожа на то, что представляется многим из нас, когда мы слышим слова «поэтический сборник». У нее не то чтобы нет чётких границ, – но они подвижны и, по крайней мере, наполовину прозрачны: в эту книгу легко зайти, – но там, внутри, читателя поджидает такой неожиданный (особенно посреди сегодняшней русской жизни) мир, что в него оказывается легко включиться, как в разговор понятных, близких тебе собеседников, – и вот, ты уже слушаешь и даже как будто говоришь. Всё проясняется быстро – и о чём рассказывают, и что было в предыдущих сериях, и о чём ещё хочется говорить. На самом деле, ты не совсем говоришь, это всё-таки то ли слышимый тебе полилог, то ли тебе одному предназначенный солилоквий, которому ты отвечаешь. «Тебе одному» – тоже неправда, это всё-таки ты читаешь книгу, и не исключено, что в тот же момент её читает и кто-то ещё. Поэтическая ситуация Соловьёва точно так же не заперта, дверь в неё распахнута: кажется, это приглашение; кажется, это значит – «входи». Но легко будет не всегда, ничего такого «Её имена» никому не обещали. Стихи Соловьёва могут быть тёмными, он склонен вполне сознательно обманывать ожидания. Есть в этой книге и тексты, в которых стремление ускользнуть от инерции собственного письма (но и от инерции восприятия воображаемой фигурой читателя) приобретает почти обсессивную форму. В некоторых из них каждая строчка чуть не с момента рождения уже подлежит перелому: иначе она может срастись не так, слишком правильно. Но сильнее желания выйти вон из пространства своих и чужих ожиданий в этой книге – желание покинуть язык (его дом) – очень сильное, ощущающееся на уровне органолептики слов (всё-таки слов). Правда, многие тексты при этом – повествовательны в самом буквальном, простом смысле, То есть они рассказывают истории, иногда даже с разговорами. Другие, – более многочисленные – запутывают истории первых. В этом, видимо, и состоит единственный – или не единственный, но по-настоящему важный организующий принцип: цельность, будучи еще одной окончательностью, – недопустима. Непременно должно остаться «что-то сквозное», та самая трещина в каждой вещи, через которую к нам сюда, как известно, и проникает свет.
Современная поэзия по умолчанию предполагает разомкнутость для интерпретаций – но Соловьёв предпринимает специальное усилие постоянного встряхивания читателя, погружающегося, чуть что, в полусон, в автоматизированное скольжение по поверхности текста. Книга от этого выглядит эклектичной – а в свете предыдущего разговора о её как бы не окончательном состоянии, обходящемся без привычной драматургии нарастания нарастаний и кульминаций, – в каком-то смысле даже и хаотичной. На ту же картину работает постоянная смена локусов от одного текста к другому. Диапазон – примерно от Мюнхена и московских спальных районов до каких-то индийских деревень, о которых я даже не могу быть уверен, что они существуют. Здесь тело привычно оборачивается языком, а язык – телом. Здесь двое живут «без конца и начала, / как стихотворный фрагмент», а женщина «с маленькими предлогами вместо ладоней» проступает из переписки. Здесь ни у чего нет раз навсегда определённых размеров, здесь ничего никогда не приобретает окончательных очертаний. Но «Её имена» – книга не о метаморфозах, тела в ней не превращаются в формы, – потому что одно из другого и так и так отличить невозможно, если «она легла в тебе и глядит со дна, / и как небо разводит тебя руками», если «Оглянешься – и годы разбегаются, как зайцы. / А отвернешься – хрусткую капустку / в слезах – жуют тебя, жуют. А тот, казанский / сирота, все выпадает из себя – с любовью». Поэтический мир этой книги – мир не превращений, для которых как раз формы необходимы, – но мир бесконечного перетекания, где все срастается, разрастается, сплавляется, расстаётся.
Странно, ты говоришь, почему — если всё для него возможно — не создал он такое несущество, как мы, например, надели он нас безграничной свободою превращений? Но и что-то сквозное должно оставаться.Это говорится оттуда, где не существует этого странного шевелящегося вещества, которое в каждой вещи, в каждом случайном ракурсе, в начале строки – и опознание всякий раз отнимает силы, так что сквозного теперь не удержать, – или это всегда было невозможно, поди теперь разбери. В «Её именах» происходит постоянное взаимопроникновение и скольжение слов и тех, кто их говорит (или не говорит). Они пересекают друг друга, выглядывают из себя, множатся, вылетают, вбегают, входят, выскальзывают, спят в позе Мёбиуса – но переходы эти осуществляются без щелчка, без усилия, без ущерба. Декларированное внимание к осязаемому, к осязанию, к материальности тел и вещей становится понятнее. Осязание, если вовсе ещё не покинуло этот протеический космос, – то покинет, и скоро, может быть, не успев даже внести себя в его Красную книгу. «Её имена» – это книга, в которой утопия тотальной трансгрессии, окончательной и необратимой, вдруг становится. И это последнее, что становится, – все остальное теперь – «этот ангельский свет, разлетающийся пичужками /любви, языка, смерти». Это книга, не принимающая окончательность формы, – а может, и вообще окончательность. Ни восстановления, ни воссоединения может никогда не случиться, – но следует сохранить возможность, точнее, даже «удерживать открытыми все возможности». Напряжением поля письма – тоже почти неосязаемого, но, несмотря на это, каким-то образом всё же действенного.
Станислав ЛьвовскийЧеловек и другое. Опыты переходов
Гераклит говорит Витгенштейну в ответ на его «всё, что может быть сказано, может быть сказано ясно»: не говорить и не утаивать, а знаменовать.
А индус-водитель на гималайском серпантине, уводя полмашины в пропасть, оборачивается ко мне через плечо: одна нога должна быть всегда на весу. В мысли, в действии, в жизни. И, возвращая дорогу под колеса, добавляет: и в смерти. И в любви? – спрашиваю. И в Боге? – Да, говорит, и в счастье. И, сплевывая кровавый бетель в окно, закладывает следующий вираж.
То, о чем мне единственно хотелось бы говорить по-настоящему, то есть молчать, удерживает обе ноги на весу и вряд ли может быть сказано ясно, но и «знаменовать» тут звучит довольно обязывающе. И нелепо. Да и кто я, чтоб становиться в эту позу.
Потому я начну по краям, с вот такой, например, реплики.
Я давно пытаюсь додумать одну мысль, и не могу, она размазывает меня по внутреннему лабиринту. К тому ж она из тех, которые не обсуждают с людьми, опирающимися на культуру (религию и пр. социальные практики), она ими естественно отторгаема. А по другую сторону – мир живых изначальных энергий, природы, не книжной, а реальной, с которой очень немногие из людей имеют дело, вступая в действительный опыт взаимосвязи. И эти, последние, как правило, молчат. А первые говорят. Гении. Порой не выходившие за пределы своей улицы и вряд ли способные развести костер, например, так, чтобы он дышал, чтобы меж деревом, рукой, воздухом и огнем жил внимательный разговор энергий, а не одностороннее нерадивое вероломство. И вот я думаю, как же такой человек, с точки зрения мира – инвалид, вмурованный в гетто своих «гуманистических» очертаний, говорит о «другом», не имея никакого опыта, кроме книжного и умозрительного, об этом «другом», создает гениальные произведения? Действительно создает. В которых есть эта живая настоящая энергия, ее космос. Или нет? При почти полном разрыве с миром этих энергий. Настолько, что любой муравей за голову бы схватился, глядя, как такой человек входит в воду, трогает землю, дышит…
Нет у меня ответа на это. И потом, кто эти люди, определяющие, есть ли там эта энергия? И откуда они судят, из какой местности восприятия, опыта? И есть ли такие среди них, кто способен быть и там, и там, по обе стороны? Это же почти невозможно – оно ведь на разрыв в человеке, когда в полноте того и другого, а не в компромиссе.
Речь ведь не о мирном сожительстве кошки с собакой, не «городе» и «деревне», не о замысленном побеге, не об уединении. Как догадался Тютчев: «не то, что мните вы, природа».
В предельном же и разверстом виде эти миры – культуры и природы – не могут сосуществовать в одновременном и равноправном режиме, разная у них гравитация, оптика, пластика, навыки поведения, вообще всё. Один другому тут должен уступать, но не целиком, а особым образом, и здесь-то, в этих перегруппировывающихся потоках энергий начинается самое трудное и мало предсказуемое. Притом что каждый из этих миров требует отданности «до полной гибели», иначе разговор теряет глубину.
В хадисе 5847 сказано, что на том свете художественные творения будут взвешены, и те из них, которые окажутся мертворожденными или чья энергия уступит энергии живого вещества, будут низвергнуты вместе с их создателями.
Сурово. И актуально, похоже. Но если всерьез (понятно, что этот экзамен не выдержит ни одно, ни один), думаю, в смягченном, щадящем к нашим возможностям виде, это единственно настоящий критерий – отдаленное равнение на «живое вещество». При понимании, на какой буквально чудовищной скорости превращений оно существует и чем оплачено в каждой своей точке. Этой непреложной готовностью ответить жизнью за каждую мельчайшую единицу, будь то слово, жест, звук, свет. Вот этого, кажется, как-то поубавилось в искусстве (и жизни) последнего времени. По умолчанию. Не симптоматично ли, что в новой поэзии, например, как-то продвинулись, заняв активные позиции, прилагательные? Не из сильных позиций речи. Особенно в сочетании с непрожитыми существительными.
Ладно, отойдем в сторону, чтоб вернуться. Или, как сказал, один мудрец: повременим, чтобы скорее кончить.
Какие жизненные сюжеты возможны для Одиссея после возвращения на Итаку? Два тривиальных. Славно стариться в кругу семьи и отправиться в новое путешествие, тавтологичное, с большой вероятностью уступающее первому, втягиваемое в поле гравитации прошлого. И третий: разрыв с семьей, уединенье на отдаленном острове, слепота, слепые письма единственному адресату и собеседнику – странствию. Ему и сквозь него – ей, Пенелопе, которую он ткет и распускает, как странствие. Одиссей, ослепший, на берегу, ставший Гомером, и потому возвращающийся Одиссеем.
Чуть утрируя, я бы сказал, что литература и путешествие – вещи несовместные. Что настоящее путешествие – катастрофа. Но – светлая, если повезет. Что опыт это неизреченный, что свое «я» вместе с даром речи нужно оставлять у порога путешествия, иначе ты просто перевозишь по миру чемоданы себя с набитым словами ртом. Что отправляешься в путешествие никогда не «зачем» и «почему». О том, что никакие концы с концами не сходятся. О Мелвилле, у которого вначале путешествие, потом литература, и о Рембо – у которого наоборот. И о Гончарове, который совместил две крайние точки: покоя – в Обломове, и кругосветки – в «Палладе». О Генри Миллере, сказавшем, что вернется на родину, лишь когда дух его отлетит. О том, что в путешествие не отправляются, с ним рождаются – немногие, и еще реже – им становятся. И о том, что из настоящих путешествий не возвращаются.
И вот здесь я бы вернулся к «другому». К той легкости, с которой вослед новым французским философам об этом говорят. Как о чем-то находящемся рядом. Куда можно перейти, как в соседнюю комнату. И это давно уже стало нормой продвинутости в творческих практиках. Письменных в частности. Особенно на пару с отчуждением от (лирического) я, эго, и вообще интереса к собственной био как полям усталым, исчерпанным. Сильный ход. С одной поправкой. Если всё это всерьез, если переход этот проходит под знаком сметения твоего «я», всего, кем ты себя знал, мнил, помнил. И помимо чуткости, опыта, расположенности двигаться в этом направлении и предельного риска, это еще и колоссальный ежедневный труд. И выживших на этом пути – единицы. Иначе – демагогия, профанация, в лучшем случае – игра.
Неизъяснимый труд разотождествления, крайне одинокий на пути к родству. Или это дается как благодать. Но об этом мне трудно судить. С первым же, на каких-то начальных шагах, да, мне кажется, я знаком. Но приходит это с осенью опыта, вряд ли раньше.
Я странствовал с детства. (Как говорил Пржевальский: путешественником не становятся, им надо родиться. И он же: у путешествия нет памяти.) Перекинув за спину связанные сандалии и уходя из детского сада куда глаза глядели. И потом в юности – по тайге, по пустыне, по Заполярью, один. И потом – переплывая море на детской надувной лодке, на которую установил стальную мачту с веселым парусом, унесенным первым же порывом штормового ветра, и затем в течение нескольких дней находясь то под, то над волнами. И все это было чудесно, но в немалой мере во всем этом было свойственное возрасту самоутверждение. Опыт разутверждения приходит потом. На границах «я», на границах сред.
Я помню одно из самых больших своих поражений на этом пути. Вторая из трех частей романа «Адамов мост» называется «Чандра» – по имени тигрицы, от которой и ведется повествование; происходящее дано ее глазами. К началу работы над этой повестью я знал, что задача невыполнима. В принципе невыполнима. Нет и не было в литературе перехода в это «другое». Все, что мы считаем лучшим на этом пути, – лишь подступы, остающиеся в пределах антропоморфного взгляда, и в этом смысле почти никакого отношения к миру животных и природы не имеющее. Но мне самонадеянно казалось, что весь мой опыт, и особенно последних лет, проведенных в джунглях, дает мне шансы на эту попытку. Реальные встречи с тиграми – вплотную, когда он ревет в лицо так, что ты чувствуешь всю морозную ветку своего хребта, где ему ничего не стоит лапой смахнуть с тебя жизнь, и в этом положении вы находитесь около часа… Пять лет изучения, вхождения в эту шкуру, не говоря о чувстве леса и его энергий к тому времени, казалось… Полное поражение. Не выйти из человека. В слове – не выйти.
Есть у индусов такая формула всего живого в мироздании, его основной принцип: Тат твам Аси. Ты есть То. То есть ты – не ты, а вон та ветка дерева, но и она – не она, а вон то облако, но и оно… и так до бесконечности, пока в этой круговой поруке вселенского родства не вернет тебе тебя, но уже как всю вселенную: Атман – Брахман. И есть майя, иллюзия мира, как говорят индусы: головная боль без головы.
Тот индус, балансировавший над пропастью, сплевывая в нее кровавый бетель, говорил: «я», «народ», родина» и тому подобное – как голые провода под током, и человек висит на них, вцепившись побелевшими пальцами, трясет его, синеет, как герой. Сплевывает и смеется. Нет пальцев, нет проводов, нет «я». И, помолчав, посерьезнев: есть. Но чем мягче и подвижней его очертания, тем лучше. Для всех. Для переходов. Там твам Аси. И ахимса. А человек он кто? Ману. Сын Солнца, брат смерти.
И я думаю об этих очертаниях «я» в разных культурах, на Западе и Востоке. И вспоминаю, как тем же индусам мусульмане насильно впихивали в рот куски говядины, и те безропотно тем самым переходили в ислам. И это длилось веками. А потом пришли христиане и за теплую вещичку и башмаки обращали Бхагавана в Джона. Где индуизм, где язык, где культура, где нация, где народ? Где-то там – за и под. А потом, восемь веков спустя, страна встает – молода, нерастрачена. И понятия не имеет, что такое депрессия, например. Нет такого, вообще. Ляжет индус посреди дороги и спит. И машины, непрестанно сигналя, его объезжают, и коровы его обходят. Спит с улыбкой, а во сне не обманешь.
Я понимаю, что не все так просто и безоблачно. Но и это ведь никуда не денешь.
И вот я думаю об утопическом, конечно, но кто знает. Сейчас ведь что-то очень важное происходит с человеком и сдвигом всей антропосферы. И если в результате этого хоть отчасти смягчатся очертания его «я», эго, то, может, и легче, лучше будет, как говорил тот индус, для всех. И дело не в религиях, индуизм ведь тоже не религия, а, скорее, мироощущение. Я понимаю, что сейчас об этом говорить рано, особенно на фоне последних событий, ИГИЛа и пр., но, даст бог, этим мир не кончится и впереди еще не один поворот.
Скандхи, говорят, обычно движутся ста восемью способами, образуя устойчивые очертания. Но при переходе из одной формы в другую возникают завихрения и разрывы, образующие переходные формы. Между человеком, например, нюхающим цветок, и самим цветком. Или между голосом и слухом. Или когда тело кладут в огонь и душа начинает блуждать, переходя с перрона на перрон. И поезд придет, когда на роду написано. Как явленье природы, как дождь, перелет журавлей, как девочка, смывающая у колонки первую кровь.
Убеждения, они хороши, конечно. Как предохранители. И горят, как предохранители. Как и любая система. Как все твердое, говорящее: «я». Не выходит из строя лишь невидимое, не сплоченное в очертанья. Передоверяющее себя другому.
Хайдеггер говорил, что мы должны избыть до конца эпоху техники (в широком смысле – как технэ), и лишь тогда, может быть, выйти к просвету бытия. А зачем ее избывать? Завершить гештальт? Может быть. Но хочется думать, что это не единственный путь. Слишком уж он широкий. И фаталистический. Кроме того, есть и частные пути, личные. Как и индия у каждого своя – у тех, у кого она есть. Не страна. И вообще это может не быть связано с географией.
Моя индия (и Индия) возникла, думаю, задолго до того, как я в ней оказался географически. И весь мой дальнейший опыт в ней был в очень малой степени связан с тем, ради чего обычно туда отправляются. Это не ашрамы, не всяческие «лестницы просветления», не культура и «достопримечательности», не города и уж тем более не Гоа. Это опыт джунглей, особая тантра, если уж говорить на языке практик. Хотя тут никакой практики, кроме собственной жизни, которую ты целиком кладешь на этот путь, и лишь тогда лес, может быть, со временем, начинает отвечать тебе той же мерой открытости.
Я помню, как где-то к исходу первых месяцев в джунглях начал чувствовать что называется кожей энергетическую карту леса – где просвет, где затемнение, опасность. Понемногу, постепенно. И эту неизъяснимую тревожную радость, в чем-то даже нечеловеческую, связи с «другим», когда лес тебя начинает признавать и незаметно держит, как на плаву, на ладони. И меньше всего, о чем ты думаешь, – о письме. Это перестает быть существенным. Придет потом, если придет. Ты весь здесь, сейчас, в этих, как говорил Лейбниц, «незаметных переходах» из одного в другое, в круговороте энергий живого вещества. И не дышишь в затылок будущего. Спокойно зная, что, входя в лес на рассвете, шансов вернуться у тебя – 50 на 50. Но иначе шансов войти в это по-настоящему нет совсем.
Примерно это же происходит и у входа в книгу. Или жизнь. С очень взрослой, как лишь у детей, надеждой. И непредсказуемой дорогой.
Текст этот написан перед самым отъездом в мою пятую Индию. Из которой я только что вернулся. Пусть он будет здесь как своего рода предисловие. И послесловие.
I Не жизнь, а что-то-то рядом
«Поправь меня, если я подзабыл…»
Поправь меня, если я подзабыл, но, кажется, нет никакой мотивации для сотворения мира. Чего ради? Вот смотри: уже дух над водами. А зачем? Или Хаос вначале, метаморфозы. Или Слово, его развертывание. Или у гностиков – Эпинойя, нисхождение света. Или вот у индусов: вначале был Ся (Самость), и решил он создать территории. Точка. Никакой мотивации. Описанье процесса. Но вот любопытное. Всё создав, он задается вопросом: «Может ли существовать оно без меня?» И отвечает: «Может. Но без меня». И дальше: «Как же войти мне?» Темя вскрывает и входит в творенье через «Воротца радости», и изумлен: кроме него там нет никого. Так и зовут его: Тот, который видит. Но опять же – неясно с мотивацией. А пока ты гадаешь, как мне ответить, да и вообще — отвечать ли, поскольку ты существуешь, и ты без меня, и Воротца без нас, но открыты, я скажу тебе вот что: не сразу у него получилось. «Не то!», — говорило ему сотворенное им, и он переделывал, слушал, пока оно не ответило: «Да, вот теперь хорошо!». Да? Ты слышишь? Уже не войти.«В той мавке хвойной, где свой подвиг Павка…»
В той мавке хвойной, где свой подвиг Павка… Нет, не так. Спустя полвека, как не строил он узкоколейку… Да. Я оказался в сумрачном лесу. В Боярке (на втором, но правильно – на первом). Книга о том, как строил он, стояла между Аэлитой и Фенимором Купером, двухтомником. Вороны порой из гнезд вышвыривают цапель. Детей, пока родители в отлете. И те с верхушек падают, как дети. Но с крыльями бумажными. Я шел, а он свалился на меня. Подросток. Девочка, наверно. Как рукопись она летела, я не видел, сыпалась меж веток. Взял. Потом мы у костра сидели. Я имя подбирал. Иеронимка? Глаз в кровавых отблесках, в огне, и чуткий клюв полуоткрыт, поцокивает. Шея – растет, растет над нею, надо мной, над лесом… Модильянка? Принес домой. Во вторник. Вторником назвал. А я был человеком, Четвергом. Четверг ее, природы, обитанья. Жила она под небом, на балконе. Балконская Цаца (здесь на втором). Кормил ее я мойвой (в гастрономе – 30 коп/кг), а на рассвете она будила всю округу, запрокинув голову, разинув клюв, приветствуя светило, треща на весь микрорайон, как самопальный харлей дэвидсон. А если удавалось днем ей в комнату пробраться – клевала отраженья свои в румынской мебели: приглядывалась к ним, играя шеей, замирала, и точечно лупила. Следы, как от шрапнели. Еще был пес – Кальмар, походный русский спаниель. Мать выдворяла цаплю – тряпкой: Аустерлиц домашний, бились внимательно, переходя на танец, пес – в тылу, за юбкой маминой, а тряпка – в клюве сжатом у Вторника, у девочки. А я – с авоськой мойвы в дверях. Вообще же, мама реставрировала церкви, а отчим был геологом, возил мне из пустыни земную оторопь, песчаных гадов голубых кровей, Шахерезада замок снов плела. Отец, детдомовец, под окнами свистел в два пальца, мы втроем — он, я и мама – шли гулять по улице Петра, который Запорожец, Ильича соратник. Вторник вышагивал за нами, чуть волоча крыло. Под домом был детский сад, за садом – лес, оттуда лисы в сад ходили, а я в окно смотрел. Мой дед чаевничал в Калуге с Циолковским, потом ушел сапером на войну, вернулся из Берлина с перочинным ножиком, карандашами и отрезом крепдешина для дочки и жены, и сорок лет не спал, был юн и лыс, молчал, а жил на Банковой, неподалеку от Майдана. Повторно овдовев, он переехал к нам. Был на углу Перова и Петра сбит автокраном – их колонна шла из Чернобыля. Лежал с улыбкой в морге. На том же месте год спустя был пес раздавлен, я в рюкзаке его отнес в тот мавкин лес, где мы сидели со Вторником, и под кострищем закопал. Квартира продана, и сад уже не детский. Путь зарос. Отец лежит в могиле – в том краю, откуда дед привез карандаши. Я в Индии, в лесу, на середине, на спине слона, под ним земля, как черепаха, под нею тьма. Со мною та, которая, прижавшись, дрожит и зябнет от счастия, в пыльце словесной, с небылицей в руке и даром божьим, как иголкой в сердце. За тридевять морей окно горит – там мама Набокова читает, ждет. И ночь роняет звезды из гнезд. И Вторник все летит, летит — как день второй.«У каждого свой лес. Особенно дойдя…»
У каждого свой лес. Особенно дойдя до середины сумрака. У Кафки – тот, где он сказал: сомнительно родство с людьми. Биологическое разве что. Мне кажется, в моем лесу и этот вздох уж выдохнут. Как и другой, другого: живя в аду, не жалуются. Нет здесь ни ада, ни родства, ни жалоб. Помнишь, друг в друга по утрам мы вглядывались: «кто ты?», и смущена улыбка. «Где мы живем с тобой?» – ты спрашивала так, что было счастье нам хотя бы оттого что было откуда спрашивать. В одном, скажи, из тех миров возможных. Как по-детски, беспечно и светло и страшно это сочетанье слов. Они сочлись. И некого спросить — ни кто, ни где. Песок, шалашик слов и ветер – вот и весь возможный мир, и тем роднее он, чем в нем однее. Рай. Ну да, животных много. Общественных, переходящих в жертвенных. Поговори со мною. Больше не с кем, тут собеседника молчанью нет. Одна отрада – мертвые и не рожденные еще. Вот весь огонь в камине. Знаешь, лег вчера, свет выключил, не сплю, и вдруг – не чувство, не мерещится, а так и есть – мое лицо исчезло. Но не маска и не зиянье там, а призрачной пыльцой — лицо отца. Мое. С того давно уж света. О было бы оно развернуто ко мне! Но нет. Простил? Не знал, что думать, не решаясь его рукой потрогать. Не дыша, уткнувшись в лицо его. Как блудный сын – в ладони..«Когда исчезнет «я» и станется причудой…»
Когда исчезнет «я» и станется причудой, как домик на Луне или язык, (а был ты для него лишь куклой вуду и колышком ходил вокруг козы), когда исчезнет «я» как недоты — комка, комком переглотнется… И память, выйдя вон, из немоты летит в лицо, как пыль, и огибает.«В тюремном дворике души…»
В тюремном дворике души гуляет разум. Дыши-дыши, не надышишься. Ах как она застенчива, душа — застеночек. Бежать-бежать, да не набегаешься. А обернешься – ни добра, ни зла, ни дворика. Ах весна-весна, руки за спину.«Живу я в Мюнхене на Изарек штрассе…»
Живу я в Мюнхене на Изарек штрассе. Изар – местная речка, эк – угол, но реки тут, кажется, отродясь не было. Улица тихая. Липы, акации, булыжная мостовая. Дома невысокие, разноцветные. Этаж у меня нулевой, выходящий во внутренний дворик с садом. Птицы, белки, куница. И коты. Слева – живет Герта, медсестра, рукопашной комплекции. Отец ее был в гитлер-югенд, в первый же бой вышел навстречу врагу с поднятыми руками. У Герты – сын от неизвестного мужа и два любовника – оба Вольфганги. Ходят к ней в будни попеременно, а по праздникам – вдвоем, в обнимку. Первый Вольфганг, жизнерадостно худенький, который без одного лёгкого, помогал мне с выставками, возил картины, вместе развешивали. Потом он кнайпу открыл неподалеку — маленький пивнячок, и без следа растворился в нем. А второй еще раньше исчез. Тем временем сын Герты, карапуз Кристиан, вымахал в двухметрового светлокудрого увальня и женился на маленькой невзрачной польке, родившей ему двоих, которых они поделили, когда она его, образцового мужа и трепетного отца, бросила. Справа живет седовласая хризантема, под девяносто ей, немка, фамилия – Пятерик. Семья ее погибла в аварии. Больше у нее никого нет. Мы ходим под ручку с ней до аптеки. Со скоростью улитки. После каждого шага, она шепчет: данкешён. Ночами ее тревожат призраки, она указывает пальцем на розетки в стене: оттуда. Раз в неделю я перекладываю ей матрас — голова-ноги. Угощает конфетой. К ней ходит на дом парикмахер, омолаживает ее до трогательной мужеподобности. Ест она, как и подобает цветку. И клонится к заходу солнца. А на моем кожаном диване, на веранде, лежит Андреа, девственница, даром что только с виду. За тридцать ей, длинноногая, истерично одатливая. Тоненько так поет, сохнет. Говорит: будем жить с тобой счастливо, эротично-интеллектуально, и вся дрожит, покрываясь пятнами, как карта контурная. Я, говорит, открою маленькое издательство, а у тебя, наконец, будет страховка медицинская. И сворачивается калачиком под небом, зябнет, а с рассветом идет домой. Выше этажом живет Урсула. Девятимесячной, еще до Октябрьской революции, она была вывезена из Питера. Первым мужем ее был немецкий композитор. Погиб в расцвете. Вторым – австрийский барон, оставившей ей большое наследство и замок. Третьим – жиголо, итальянец, всё промотал и исчез. Сын ее от первого брака в юности покончил с собой. Я навещаю ее, помогаю по мелочам. Как-то чинил у нее телефон, вроде наладил, и говорю: надо бы позвонить кому-нибудь, проверить. И вот она долго листает ветхую записную, испещренную меленьким почерком. Этот, говорит, умер давно, эта тоже, и тот, и на эту – последнюю букву – уж нет никого. Alle tot, говорит, все умерли, все! И смеется — так по-детски, до слез, но беззвучно, и остановиться не может… Верней, не могла.«В степи под Богодуховом был мясокомбинат…»
В степи под Богодуховом был мясокомбинат, там жил козел, он вел в последний путь коров по желобу – к электрошоку, и возвращался, звали Федя, янтарные глаза, бородка, медиум. Еще блуждающий был поезд «Комсомолец Украины», он замирал в степи, агитбригада пела и плясала в разделочном цеху для персонала, и стихи произносила. Там женщины работали, а из мужчин был Федя. Туши, кровь, стихи, аплодисменты… К чему я вспомнил? Упустил. Пью кофе на веранде, Мюнхен, меня уж нет, лишь степь и Федя. Скажи еще, что в каждом, особенно под Богодуховом. И под Любвинском. Ведет, а мы поем и пляшем. Скажи еще, что ум ведет с янтарными глазами, а они, коровки чувств, под резаком доверчиво… Но кто ж поет и пляшет? Как мы. Тут что-то недодумано. И женщины идут с работы. И степь, как кровь, тепла. Тут что-то недодумано. И бог, и дух, и смрад, и мы с тобой, и эти тусклые янтарные глаза.«И стоят они счастливые – взрослые и дети…»
И стоят они счастливые – взрослые и дети, и расчесывают их парикмахеры-ухажеры, кому – СПА, а кому – легонький петинг ботанический, не ведущий к растлению, пока пяточки-хтоники темные пьют узоры из земли, голова на свету, сердце в зелени, так стоят они в своем месмерическом счастье, в этой нежно идиотичной красе, что спасает — вопреки всем благим твоим – от соучастия, просто смотришь, как стоят они, наглотавшись иголок воздуха… Но хочется чего-то простого. Девушка с лицом чау-чау: пойдем развеемся, говорит. Хорошо, что лишь взглядом, в сторону. А в другой – церковь и озерцо, два селезня: Людвиг Баварский с Вагнером. Да, погожий денек, из тех, когда Ницше сошел с ума, увидев как в нем туринскую избивают лошадь. В общем, стоят счастливые, выгуливаю слова, и они повторяют за мной: любил бы лето я, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. А к ночи Альпы вдали потряхивает скелетами, как в шкафу. Страна Германия, город Мюнхен.«Смерть, говорят, – момент истины…»
Смерть, говорят, – момент истины, мгновенье, когда видно во все концы. Вряд ли, думаю, даже для кисти рябины или руки, не говоря о целом. Хорошо, если вообще что-нибудь видим, кроме перекошенного во все концы здесь и теперь, да и то – в хламиде нашего восприятия, уходящего, со спины. Да и что там меж нами, кроме случайного я, подвернувшегося под смерть? Призрачная хламидка пожмет плечами, обернувшись: а нет никого. Да и кто там был, с чьей ушел он не своею жизнью во все концы? Опустевшие «я», как в гареме жёны перешептываются…«Вот что я бы хотел: жизнь посвятить нильгау …»
Вот что я бы хотел: жизнь посвятить нильгау — голубой антилопе. Переселиться в Индию, вставать затемно и уходить в джунгли, читать следы, ждать у затоки в зарослях, пока проступают тропы, деревья в косичках света, и солнце, сбоку дующее, как в угли, в кромку леса. И вот он выходит — неизъяснимый, голый, будто призрачное стекло, темно-синее, выдуваемое землей, и поворачивает к тебе свою маленькую недоуменную голову из дальней дали, из дней творенья, и с неба вниз голубой рекой струится шея и в лес впадает, где замок тела плывет высокий, дрожа на легких, как свет, ногах. Я б жил в деревне, в семье индусов, немного риса, немного сабджи и чашка кофе. А он в осоке стоял, единорог, и думал: уж полдень, странно, где ж этот тузик, который пишет мои дни, как Джойс Улисса. А я бы домик построил в кроне, шалаш с обзором, с трубой подзорной, и там дневалил, а что мне надо – вода и кофе, еды котомка и третий глаз мой — походный лумикс FZ двухсотый, да нож татарский пятидюймовый, в чехле. Презренье к оружью огнестрельному – на знамени у Лермонтова было. Пойдем мы дальше – презрение к любому виду, кроме зренья и пятерых соколиков… Нет, все же лучше маленькая вилла в викторианском духе, я не против с индусами делить сансару, но лучше одному, и в шляпе, и в шезлонге, под сенью, и с газоном — пусть маленьким, но уж английским, и служанка, или пара — ну например, Бхагилакшми и просто Гита – лакомка и соня… А что? Немного сибаритства не претит в часы сиесты, а в остальном – труды и дни в лесу. А нож – для хлеба, огня, тропы и писем, не ждать которых, да, и вместо зеркала. Ну что ж, все это я прошел, и сердцу было лепо, и телу, и уму. Так отчего ж не довести гештальт отрады до светозарности, и встретить старость там, с единорогом, в махабхарате леса, в эпосе страниц, в раю, номадом волшебных звуков, чувств и дум? А он стоит и волооко обводит даль и божьими губами шевелит: ну где ж ты, писарь, за нумизматикой, небось? Евангелие природы пишешь, да? Хотя, пиши, пиши, всё будет — все шары на свете, елки все и лисы, и тигры, и павлины, и слова… Скажи еще, что водит их дитя.«Взгляни в лицо цветка…»
Взгляни в лицо цветка: благословенье и проклятье — в одном. Как смертная тоска и счастье. Не рифмуй, и так всё связано смирительной рубахой родства, как белый свет нательный во тьме и звездный кляп во рту. Зачем ты, камень, мать моя, лежишь в песке, во мне, а небу глаз не проморгать от птиц. Рифмуй – «отец», но про себя. Слезится даль так старчески и близоруко. А близь – как дай вам бог сойти с ума. Никто не изгнан. Но и рай не создан. Сосны? Да, пусть будут, и закат меж ними. И ангелы, как кошки на пожаре, в нем носятся. И в соснах, и в тебе. На этом тут всё и держится, на этих нана каторжанах света – в пыльце, в цепях и песнях, без лица, взгляни…«Сиянье дня меня тревожит…»
Сиянье дня меня тревожит. Оставь ее, пусть пишет рука: во всём, и среди ночи — сиянье дня. Любовь еще быть может без женщины. Без сына и отца. Без речи. Как мальчики в глазах – сиянье дня. Пусть пишет. У нее – края, а у меня — ни края, ни того, что держит их. Что держит? Какой-то бог зарыт, и дышит земля. Шевелится и дышит. В сердце. Как заживо. И дух всё режет хрусталик, затуманивает, пишет, где ни руки, ни глаза, ни меня. Откуда же сиянье? Что тревожит? И почему здесь близость, как культя, перебирает письма? Мир как письма. Так меленько изорвано, не сложит. И, как дитя растленное, где разошлись мы, — сиянье дня.«Жизнь отплывает за спину, всё светлей впереди…»
Жизнь отплывает за спину, всё светлей впереди и просторнее. Смерть, видать, возьмет налегке. Дождь и кошка в окне, спрыгнула в комнату, и уже на груди, лапой меня обняла за шею. Пришлая. Пришвин ее зову. Дерево в парике, поправляет его. Столько сказано и не понято ничего. Это странно – такая близость. Шельма метит углы ее. Всё разрозненно, но на миг, как на снимке на память, выстроилось: улыбки несколько принужденные. Или гости съезжались на так называемую. Да, mon ami трехцветный? Зыбко, но нет ничего устойчивей. Божья шалость. Как один, семеро их – вниз головой, в плаценте, чуть надорванной. За окошком. И все же странно. Так и сиди, пиши – с этой лапой на шее, анной.«Этот рассказ будет в рифму и несколько дурковат…»
Этот рассказ будет в рифму и несколько дурковат в целях самодисциплины, ну и чтобы не унесло чёрт знает куда. Типа связываем рукава за спиной – смирительные, как добро и зло. В общем, звали ее мадам Гхош. Познакомились мы, как в колодец летящее ведерко. Это когда оказался я до середины вхож в Индию, земную жизнь пройдя до дырки лучезарной. Где ангелы, как в лужах воробьи, купались… Нет, не так все было. По порядку. Она ребенком в лес пошла. И стала егерицей, окончив в Дехрадуне ДепЛесХоз и отпустив бородку животных знаний, эпистемку, короче. Не водица которая, слегка смешалась в ней с звериной и смутилась. Но не надолго. Да, отличницей была и женщиной. Что редкость – для егериц в веригах домостроя. Смугла. И крепко сбита? Нет, смола, скорее, в ней преобладала. Свой род от кшатриев вела. Смола, сказал? Ну нет, ботва. Вообще, едва поймем мы что в индийской женщине. В мундире она была – картофель. Одинокий. Ее распределили в пропащий заповедник, в никуда, и на другом конце Бхарата. Ни леса там, ни зверя, ни людей. Война племен, нет языка, гортанное арго и пули. И помощник, из тех которые везде-нигде, по имени Творец Вселенной – Брахма, местный, с лицом текучим и улыбчиво древесным. Да, Брахма нас селил в лесничестве, она потом приехала. Я был с собой, вернее, с той, которая могла бы, и порой могла. Наш милый дом несуществующий звенел меж нами солнечной серьгой цыганской. Хозяйство Гхош – полсотни золотых лангуров, обезьян из Красной книги, они сидят на ветках, как авгуры, и следы ведут по небу к ним. В коротких шубках, темнолики, они сидят, листву перебирая пеплом пальцев, стволы деревьев забинтованы под ними, их доит племя здешнее, деревья то есть. В танце ритуальном подносят кринки. А те сидят, как в нимбах меховых, и смотрят вниз, на племя молодое незнакомое. А в крайней к лесу хате, триста лет пустующей, живет король. Он – Шилорай. Удои ему приносят, пол метут, постель перестилают и обед готовят. И ждут. Хотя его уж семь веков как нет. Да, Шилорай, и имя подходящее. И Гхош мадам из спального района наведывалась с Брахмой к нам в лесничество. Мы их встречали с петухом, вернее, супом из. Потом фотографировались. Ом, — при каждом снимке Брахма наш икал, поскольку мы мадам хотели снять с ружьем, по весу равным ей, но совладать никак ей с ним не удавалось: то в висок направив Брахме, то в меня, то в ногу себе. К тому ж она надела поясок с патронами. К тому ж волченок за порогом скулил и скреб, и, приоткрыв из кухни дверь, врывался. И это не последний зверь, который был там на довольствии. Питон, израненный мотыгами, хромой павлин делил с ним жизнь. Ну в общем, тот еще притон любви и боли. И лес лежал, как исполин, сожжен, сворочен, срублен. «Красные рога» — военная застава за холмом, мертва дорога, и простыни висят со списками погибших, но врага никто не видит. Неподалеку Манас, носороги истреблены, рога растворены в Китае. Манас, разум. Он пуст. Мы по ночам включаем Мертвых душ и слушаем под сеткою москитной. Спим, как пазл, прильнув друг другу. А наутро фройляйн Гхош к нам приезжает, с нею – Бхубан, вождь неведомого племени в подбрюшии Бутана, он нас зовет к себе, мы едем, там со ста коров для нас собрали тридцать грамм сметаны, чтоб встретить подобающе. Совет старейшин перед походом в джунгли: два брата-киборга и черепаха полуметровая глядят в огонь, понеже судьба кроится там, по крайней мере, выборка ее. Но тут отдельная история, вернемся к мисс. Так вот, вчера, в фб, скольжу по ленте: ба, знакомое лицо! И ссылка на газету. Интервью. Она теперь Верховный Егерь. Да, в ней вырос лес. И рис. И край другой. И Брахмапутра течет в ней. И ружье стреляет. Вечер обычный мюнхенский, переходящий в утро сто лет спустя. И та, с которой был, давно далече.«Радость меня гложет…»
Радость меня гложет. Я ж полжизни выкатывался в смехе, как пес в снегу. А теперь не знает, что делать со мной, и не может от меня отойти, так и говорит: не могу. И гложет. Но не меня, а что-то рядом. Как сахарную косточку. Детство ли, смерть мою. Собственно, одно и то же. Что, говорит, не рад ты мне? Я тебя, говорит, не узнаю. И гложет. И вот ведь что, я и сам невольно, как соломинку, подсасываю то ли беду неузнанную, то ли радость, то ли эту светлую тоненькую пустоту.«Немочка бродит по Мюнхену и кричит…»
Немочка бродит по Мюнхену и кричит: «Франц-Йозеф, Франц-Йозеф!». Пришвин лежит на шкафу – женщина полицветная, ухом подергивает и молчит, как природа в прозе, но не та, что мните вы, не обещанная. Франц – зовет она, обходя ночные дворы — Йозеф! Как та набоковская гувернантка, прибывшая в Россию с единственным в багаже русским словом, и в пелену пурги взывала им с пустынного полустанка: где?.. где!.. где… Хозяин Пришвина живет на соседней улице, она, Пришвин, от него уходит – на дни и ночи, и кажется не в себе, но как бы медитативно. А хозяин высаживает селезня с утицей на лужок под свое окно. И те, как от порчи или сглаза, сидят, живые, недвижно. Дивная история. В центре Монахова, баварской байки, ну, почти. На окраине путча и Тютчева. При том что Пришвин – сестра Франц-Йозефа. А что касается отношений хозяина и хозяйки — никакой информации. Редкий случай. И надо всем этим летят журавли Калатозова. Как говорила мне Розмари Титце (Rosemarie Tietze), здешняя переводчица «Анны Карениной» на de: все эти линии где-то должны сходиться. Только где? Где… где…«Вспомнил, как еще в брежневские времена…»
Вспомнил, как еще в брежневские времена, работая реставратором, чтоб не сказать богомазом, спал я посреди страны в Рождестве Богородицы, прикрытой, как срамное место, свято-пусто. Это чтоб не вставать чуть свет и на метро не ехать через реку четырех согласных с редкой ятью, долетевшей до ее середины, приволок я кровать из отселенческих дебрей в Лавре, диванчик такой, пахнущий базиликом, чтоб не сказать клопами. Церковь была голой, и я был молод, оба мы были внутри в лесах. А живопись – обмелевшая, шелушилась, как рябь на реке под дряблым солнцем, где-то там, за Никольской пустынью. Зачатия Анны маленькая церквушка неподалеку, как и положено. Там, из Дальних пещер, буду я выносить на руках мумии: смуглые легонькие тела, ростом 1.40 – 1.50, с живым выраженьем лиц и кожей, похожей на корочку украинского хлеба. Илья Муромец, Нестор летописец, Агапит, врач Ярослава. Я их в дворике, огороженном, майском, клал на скамейки, тихих, распеленывал, одежку их развешивал на веревке, чтобы протряхла, а они лежали, смотрели в небо, просто в небо – тем же взглядом, что оно на них, облака развешивая на прищепках, обернувшись через плечо. А на ногах – бирочки: Муромец, Агапит… Вспомнил фамилию бригадира, он же парторг: Честнейший. Такая фамилия. В Лавре Почаевской, где мы несколько лет работали, он строчил на меня докладные в Киев, что, мол, позорю советский облик, вхожу в контакт с монахами, ем и пью и пою с ними, а с отцом Валерием из окошка келии по ночам глядим в телескоп и ведем беседы. Отстранял от работы и отправлял в Киев с этой бумагой. Я и ехал, но только во Львов, предавался радостям жизни и возвращался, дописав размашисто под письмом: Воспитательная работа проведена. Приступить к работе с (такого-то). Начальник – Пилипонский. Число, подпись. И шел за монастырским квасом к дьякону. Сидели на куполе с ним, смотрели вдаль, на поселок в несколько улочек, где в полупустом сельмаге объявленье висело: круглые батарейки выдаются в обмен на яйца. А чего вспомнил? Бог его знает. Здесь, в Мюнхене, две эпохи спустя. Да и кто там лежит в Рождестве Богородицы, в этом дворике памяти, с бирочкой на ноге, на кровати, пахнущей базиликом…«Это проба письма, не отрывая руки…»
Это проба письма, не отрывая руки. Не от плеча ль? – переспрашивает рука. Метафора строится как расходящиеся круги от «камня», который не чувствует дна. Ты у меня одна, бродячая, говорю я душе, как собака, которую я подкармливаю собой. Смотрит в глаза, отведи, мол, меня домой. Ну вот, думаю, опять начинается. Женщины потихонечку стервенеют, набросив на себя заглохший сад, чуть расстегнутый снизу, там и виднеет — ся это расположение – зоркое, как Моссад. Совершенно непонятно, куда теперь жить, когда мир с людьми отошел, как воды. Ни роженицы, ни младенца. Просто годы на песке подсыхают, как водоросли.«Одна рука над тобой – весна, другая – осень…»
Одна рука над тобой – весна, другая – осень, а сам – обрубок, без ног, без рук, на тебе играют, как на терменвоксе, вся твоя душенька – этот звук. Так я думал, сидя в мюнхенском арт-подвале, глядя на кореянку, извлекавшую музыку из бедра. Усиливались, как говорил Парщиков, колебания через меня бегущего эфирного кота. Нервный ее кулачок потряхивало, как от тока, а другой – распущенный, увядал, цветок. Термен в моей голове ставил Ленину руку: кореянка, Глинка, жаворонок, воронок… Немка рядом со мной на полу сидела — Вронски, Клавдия Вронски, ела глаз кондитерский, верней, посасывала, смотрела им на меня, чуть прикусывая, чтобы был раскос. На сцене увесистая лекторша в доспехах БДСМ вела указкой по космосу, вокс-кореянка сопровождала ее, и, казалось, семь между мной и Клавдией дней – но уже не явных. Волосы ее простирались куда-то совсем за Польшу, пахли тихой бедой и немножко Сережей — там, в таежном краю, куда сослан Термен… Свет зажгли, поклонились, унесли инструмент.«Что там виднеется, Осип Эмильевич, в нашем окне?…»
Что там виднеется, Осип Эмильевич, в нашем окне? Вниз, по Ламарку, жизни левее, на заднем дворе, там где под вывеской «Воздух ворованный» – верткое время, где упражняются евнухи речи с дизайн-гаремом, где так искусен брюссельский узор, искушен, обезличен, где управляют приказчики с беджиком сомелье, где мудрецы выезжают на рейсовом бродском осле в светлый читательский ерусалимчик, там где ничто под луной. Многоточье. Не ново. Там где, как мальчик потерянный, слово, что-то на жизни рисуя, что было вначале, шепчет: мы в дворике этом совсем не скучаем… Видишь? И через плечо поглядело.«И как соотносится благодеянье с раной…»
И как соотносится благодеянье с раной, и где стоит печка? В тяжести ли, в свеченье? Чисто в горнице, черен погреб от примечаний. Мертвые – в рукаве твоем, и не имут сраму. На покаянной соломке змеи лежат, как числа. Слово и жертва, пишут индусы, было вначале. Под одной простынкой. Пожимающие плечами. О том, что могло быть, и не случилось. Но тоже взвешено – незримое на незримом, и учтено. Может быть, там и печка с горящими в ней страницами? Снилось, наверно, ей, что она Гоголь в Риме: в одном углу – кочерга, в другом – богу свечка.«Ехали мы с Кутиком из Питера…»
Ехали мы с Кутиком из Питера, где давали Парщикову – Белого, через станцию Дно в Киев, ехали автостопом, в кюветах спали в домовине листвы. Небо как стекловолокно было наутро, и на вкус тоже. Под Гомелем мы сложили речь в выгребную яму, выли псы, колыхались вороны, как армейские трусы над свинцовым озером, где мы умывались промахиваясь мимо своих очертаний. Козлом пахла земля, время, любовь, слова… Палец слюнили, пытаясь поймать ветер. Что-то ползло с востока в маскхалате листьев, и вдруг на пуант вскидывалось, заверчиваясь, опадая. Куцый какой-то свет юлил между нами, и под и над, город вдали торчал – как скомканная страница во рту разинутом. Да, Нева, синева, Белый, шли каналами, канализировались до мела — периодами, пили «медвежью кровь», как всегда, Драгомощенко легче воздуха был, за ним вода, потом уже мы, и какая-то Кибела, кажется, но это мы уже плохо помнили, да, город-Аттис? Уж лучше посох и автостоп. За Питером – Дно, за ним – Гомель, это мы помнили. Как латекс дерево помнит. Молочко чернобыльское. Наливай. Приближались к Киеву, и въехали в Первомай.«Оглянешься – и годы разбегаются, как зайцы…»
Оглянешься – и годы разбегаются, как зайцы. А отвернешься – хрусткую капустку в слезах – жуют тебя, жуют. А тот, казанский сирота, все выпадает из себя – с любовью. Ах поле, поле, полустертый коврик — как тот, который над кроватью в детстве, и тот, последний, за которым дверца чуть приоткрыта, и – не наглядеться. Как тот, который был у ангела под мышкой, когда свернул его и встал с колен, а зайцы сыпались на мнимую дорогу, лишь тот, кто выпадал, висел на нитке.«В котлах алхимии кипела жизнь твоя…»
В котлах алхимии кипела жизнь твоя, и ты не понимал, что происходит, голос чей, зачем кольцо, мешок, петух, змея, и звуков, чувств и дум горящий хворост, и что за тени над тобой в дыму, и смех, и шепот вдруг (ты здесь?), и темные вязанки дорог, и близость женщин – этих, а не тех, с которыми, казалось, весь в одно касанье. Зачем всё так таинственно вразброс, и так снует, поет, но где? Ни слов, ни песни. Кто в танце душу водит? И стоишь, простак, и ждешь, пока вернут, у кромочки, у бездны. Ни имени тебе, ни лет. Незримый крюк вверху как бог, на нем висишь ты, светел от копоти, порукой превращений. Друг единственный твой – ты, их лжесвидетель. Круг замедляется, и вот пустеет зал, исчез огонь, и дым, и тень на мнимом своде. И проступают имя и черты, но не прочесть, и некому спросить: что происходит…«Сегодня в ночь приснилось мне…»
Сегодня в ночь приснилось мне, что мы стоим за пологом во тьме с индусом, он глазами смерил меня как тьму и говорит: «Развеем двадцатого». И сладковатый дым под полог стелется, и тихий холод кладет ладонь мне на плечо. Стоим, молчим. Нет, ничего плохого не думаю, но все же десять дней еще ведь до двадцатого, куда их деть и как? И жив ли я? Развей хоть это, думаю, до первой стражи. Ведь если мертв, то эти десять – срок великоват для тел. А если жив – ну что сказать… Душевно. «Вот порог, а вот и Бог, – и молочко на Шиву с улыбкой льет. – Увы, мой друг, придется подождать, никак не раньше двадцатого. Точнее, в ночь, к утру». Иду я. Осторожно, мир окрашен и свеж. Иду и вижу там, во сне: пресветлый сад – шелковица, деревья белым белы. Душа, как женщина, но не скрывает опыт свой, а просто время выносит легче, становясь другой с другим, как некогда со мной. А тело тлеет памятью, мужчина, дотла. Я шел и вдруг увидел близнеца — на дереве, в шелковичной пучине сидел он, тих и светел, без лица.«И снег в тебе идет…»
И снег в тебе идет, и нет под ним земли, и кто-то свет зажег и потушил, поди ошибся. Просто шел, как ты, как снег, и в нем темнел живой проем, как ты, как он, как снег ошибся. Взгляд, рука, и свет и тьма – вдвоем, и быстрые века подрагивавших век.«Ох дурень ты, дурень, скажет он мне на том свете…»
Ох дурень ты, дурень, скажет он мне на том свете. Жил бы на краю джунглей, был бы у тебя слоненок, трогал хоботом по утрам лицо твое, слушал сердце, завтракали бы на лужайке, разговаривали о важном, и был бы ты счастлив так, как у людей не случается, олени паслись бы у кромки зренья, в них солнце садилось, и река темнела, вспыхивая, как от стыда неведомого, и всё было бы по-настоящему – жизнь, счастье, спиной к спине с гибелью, они вели тебя взглядом – где бы ты ни был, брали и отпускали, вдох-выдох, и слоненок бы рос, да, Хатхи? А потом, может быть, я бы послал тебе женщину — с тем же чувством и леса и света, и слова — на весу, между ними, между счастьем и гибелью, медленно поворачивающихся лицом друг к другу. И ведь всё это было так рядом с тобой и почти что сбывалось. Но ты медлил, был рядом, но ждал от судьбы, этой дамы с собачкой… Проходи, скажет он. Ты один, и в глазах твоих лес, и темнеет река твоих губ… Проходи. И прикроет за мной своей длинной рукою, как хоботом, дверь.«Что делать страшной красоте…»
Что делать страшной красоте творенья божьего с любви проклятьем на лице? Светится непроглядью? И в языке стоять, как Даниил в огне… Я не могу продолжить, нет пути. Ты этого хотел? Любовь, быть может, в душе моей на беженку похожа — как мертвое дитя прижав меня к груди.«Местность лежит, как запавшая клавиша…»
Местность лежит, как запавшая клавиша. Местность ли, женщина… Бублик хочу, бублик, – бубнит душа, отлетев. А сам – камешек где-то в ее ботинке. Алеша говорит: как змеиный мозг, этот камешек в пустыне. А еще: мы помним, когда очнулись, а не когда утратили. А ты что помнишь? Лес надевал тебя куклой на руку, вёл к братьям меньшим, и прижимал руки твои к лицу, чтоб не остыли. Надо б совсем от любви оглохнуть, как за соломинку ухватившись за эту клавишу, как-то вывернуться из себя, говорящего, отлетающего с камешком под пятой.«Ходить в слова, как в лес…»
Ходить в слова, как в лес. И понимать едва ли — где лес, а где слова. Все меньше надеяться на жизнь — свою, уже ничью. Да и не жизнь, а что-то рядом, round — about. И смерть, похоже, такой же будет: ближе всего на свете, и так же к нам спиною, как и всё. Скажи себе (кому и чем? Слова — двуногое ума, такой же голем, как в сердце бог): печаль моя светла. И повтори. И что-то там про поле. Но даже если ты, а не они, подобье — крест не меняется от перемены мест. Не быть, и не с ума сойти, твой посох ищет «или». Удел счастливцев, взысканных свободой и детской горечью. Лежи теперь, как демон, низринутый в себя, и переписывай — все лучше, все больней, до слепоты, едва ли понимая, что здесь не ты, не жизнь, а что-то рядом…«Смотрю, как будто это не глаза мои…»
Смотрю, как будто это не глаза мои, а что-то от меня отдельное, и то, куда глядят, отдельно от того, что видимо: от неба, дома, дерева, и думаю о феномене расстояний, о лабиринте воздуха без сердца и окна, о тьме матрешечных миров меж нами, о времени, его змеиных свадьбах с пространством, о живых, незримых ризомах, в которые уходит взгляд, не ведая ни их, ни где он, ни того, что происходит с ним, о произволе божественном и дьявольском законе между деревьями, людьми, дождями, словами, чувствами, о веществе едином, их образующем, об ангелах кромешных на призрачных галерах расстояний, о маленьком блуждающем театре, играющем в проеме взгляда сокрытую от зренья драму, где вся история земная — не больше мышеловки. Смотрю в лицо свое — как жгут листву, и взгляд висит как дым, и тает кисея.«Я живу с собой, как с тварью…»
Я живу с собой, как с тварью, неизвестной мне, за дверью ходит, водит, за язык тянет, бог, отец мой, сын, он творит меня из петель немоты, из междометий между телом и не телом, шьет крестом, чтобы летело, я живу с собой, как демон с той тамарой, только где он, был он весь, как вечер ясный, дверь стоит и точит лясы с ветром, эта дверь без дома, я живу с собой, потомок с пращуром, где между нами лишь бумага, нож и камень, на котором мать-природа, как словарь для перевода с полумертвых языков, вяжет свой чулок из слов, и с травой во рту, как зверь, нас по кругу водит дверь.«Я разглядываю следы эволюции…»
Я разглядываю следы эволюции, нашего т. н. естественного отбора — в речи, в чувствах, во всем, что дышит. Разные тут стратегии – притвориться, к примеру, мертвой. Иль божьим даром, чтобы пахли Торой твои подмышки. Любовь играет и слепнет в танце: кто с ней от сердца – отнимет сына, кто усомнится – подложит агнца. А между делом – почти парсуна. Кто выживает в таком отборе, в сухом остатке что остается? Какая жажда жизни на водопое у пошлости. Не расхлебаться.«А потом они изменяют своей природе…»
А потом они изменяют своей природе: женщина изливается в смерть, а в мужчину смерть входит. Важно, с кем вступаешь там в отношенья. Белое мутное всё, как сперма. Спазмы преображенья. Или ключ бренчит, иль река в кармане. Солнце змеится сквозь эту муть или ты, родная? Не обознаться б, но как и чем, если ни лица, ни памяти, ни души: вот весь ты.«Надо бы вот что…»
Надо бы вот что. Прекратить жить своей жизнью, изживать себя. Создать паузу, некое воскресенье. Пусть этот другой ты, оставаясь на вашем общем коште судьбы, сойдет с твоей карусели. Пусть попробует то, что тебе не свойственно или вообще не дано, помоги ему, оставаясь на расстоянии взгляда, руки, этой выжимки света… Пусть он потом расскажет – тот, под твоим именем, тот, кто из вас выживет.«В тихом мюнхенском дворике у реки…»
В тихом мюнхенском дворике у реки лежат камни: на спине, на боку, лбом в землю. Маленький, брошенный, безутешен, всего ничего ему: 35 млн. лет. Ах люба, зачем это с нами случилось?«Летят, как порванные письма…»
Летят, как порванные письма. Ползут и давятся любовью. А осьминог – он просто сердце без ничего и никого. Какой-то сбой бредет в природе вещей, похожих на людей, где женщины совсем не предназначены мужчинам. И мирозданье каракатицы мигает, и в схиме материнства умирает. А он ее всё катит, скарабей, как землю, как судьбу, вниз головой.«Фотон не ходит в детский сад…»
Фотон не ходит в детский сад. Ни времени, ни расстояний нет для ангелов, – Фома сказал. Такой расклад. И в этом смысле все они – один, одновременно, в каждой точке пространства. А попадая в глаз, он преломляется и создает картинку. Ты вся из бога состоишь. И за околицей тебя – повсюду он как ты. Расхожий материал вселенной. Я чувствую губами, языком все десять тысяч миллиардов его – в твоем сосочке. Таково его вращение в секунду в каждой точке. И в пупке, и ниже – там, невдалеке. И влажный свет. Как импульс и волна. Но не измерить жизнью эти два… А может, ходит. Ростом – ноль, и весом столько же. Вот бог, лишь скорость выдает его — незрим, но поле зренья. И направление движенья — к тебе и от тебя, и вновь к тебе, которой там уж нет, как и меня, но длится взгляд и тмится дом. Так возникают подозренья. И сад планет, куда наш мальчик вышел босиком.«Лицо ее – колеблемый мираж, грудь приоткрыта, караваны…»
Лицо ее – колеблемый мираж, грудь приоткрыта, караваны плывут в соске ее. Суров пейзаж. И перекинуты между горбов невольники. Подумал вдруг: сокурсник Шнитке – Караманов, жил в Симферополе, в пародонтозном дворике, свой кров искала музыка в семи оркестрах, играющих одновременно. Но где ж их взять? Возможно, меж прямым, слегка змеиным взглядом и уголками губ, едва приподнятых ее. Равенна, я сказал? И нет, родней. И непреодолимей нет. Но имя — в молчании семи оркестров. И еще подумал, что сближенье с нею – боковой скользящий ход змеи с бархана на бархан, как иероглиф, пишущий песок и жар. И замерла. По шею скрылась. Еще движение – и нет ее. Лишь мотылек порхал над язычком раздвоенным. И вспыхивал. Как зеркальце. Сближения. Их сброшенная кожа. Надрывы в уголках родных, казалось, губ, измученных сближением. И светится лицо ее, темнея, молодея, и семь песков играет на губах.«Разведчик встреч сознания и речи…»
Разведчик встреч сознания и речи… Сознания? Скажи: глухонемых невольниц и демонов, сходящих к ним. Скажи еще: их встреча — круженье мельниц. Огни, скрещения, разметчик… Ну как тебе в раю, Иероним, под кистью ангельской живется? Не кисть, а песнь. Когда б еще лицо… Но их не пишут здесь. А там – бог знает кто стоит с яйцом в руках, от света отделяя солнце, как от белка желток. В словах развей мой прах, в их небе, мой герой, предатель мой, разведчик, скажи еще: «сынок» – пока не вечер, играй, играй с богооставленной единокровной речью в меня – как в исаака и овечку, и дальше – в край преображений и невстреч.«Как же оно происходит – падаешь из окна, летишь…»
Как же оно происходит – падаешь из окна, летишь, и в то же время в женщину входишь, как в тишь голос, который кажется не твоим, а потом в стороне от себя они расплетаются и звучат на чужом языке, а ты всё летишь, и в то же время где-то идешь, и вот, казалось бы, ты, то есть тот, кто эту жизнь живет, но он сейчас не совсем с тобой, а во тьме стоит, обхвативши дерево, но и это – так и не так: летит, а точнее, восходит он, и она отпускает его, едва не встречаясь глазами с тем, кто падает из окна.«Кто может «я» сказать …»
Кто может «я» сказать — вокзал? Там где-то комнаты для спящих. Как людей. Связать два слова. Мы умираем набело. С козлиной песней. Не ночь, а черный ящик под мышкой ангела. Кто может «я», тот «ты» не может. Хоть в жизнь оденься. Да, Вагинов? Не мир – тату на божьей коже. Связал, и спит. Как в летке — еньке. И дерево в саду похоже на вокзал. И мальчик там на пригородной ветке сидит и по слогам читает красоту.«Бедуин языка, я бы шел между маленьких голых…»
Бедуин языка, я бы шел между маленьких голых аравийских холмов твоей светом залитой груди, и ладонь моя где-то за жизнью, размывом пути уходила в лицо твое, как в заполярье монголы. Я бы вел языком, я – последний «язык и рука», и овечки мгновений стоят, чудотворец Николка водит руку мою в дождевых облаках, у флажка твоих губ, изводя как последнего белого волка. Я бы стал твоей крови пожизненным пеньем, если б двое нас было с тобой, а не этот проем. И в долине, вдали подо мной разводящей колени, чуть светало навстречу и меркло свиданье твое.«У нее такое лицо, редкой…»
У нее такое лицо, редкой… И слов не найти, да и чувство – трудно. Будто всю жизнь шел, и вдруг ветви раздвинул: а там дом у запруды. Твой дом, но ты подойти не можешь. Мог бы, наверно, но ведь не в этом дело. Он такой же твой, как ничей, божий, и стоит он где-то между душой и телом. Но не там и не там, и горит окно в нем тихим светом, и нет дороги. То есть вот она, от тебя к дому, но к нему не ведут ни слова, ни ноги. Словно ты там внутри и всегда снаружи, и щекой и ладонью к стене прижался, словно вы с ней родные души, и настолько, что только стена осталась — легче вдоха, молчанья тише, и теплее, чем губы ваши. Ты из этого дома вышел никогда. И все дальше, дальше, чем ты ближе к нему. И знаешь весь его – до ресниц, до каждой. Это старшая память, в которой таешь, как снег на солнце, как лик на своде. Но нет зазора уже для взгляда, и вспять течет он, и не находит того, кто смотрит. Вы где-то рядом — и ты, и дом, и тропка, вынутая из сада, — на этом свете, и там, на том.«Почему такой тяжелый осадок…»
Почему такой тяжелый осадок, он говорит, от людей? От всех. Потому что дней – семь, а ночей – не счесть. А откуда шинель – из сада? То, что часть больше целого, легче понять, оглядываясь на жизнь. Лежи-лежи, мальчик, глиняный крестик, образующий ять с Богом, это женщина схватывается в тебе, а не межреберная невралгия. Речь к истоку плывет – груз-200, но кто оплачет? Любовь – как пальцы на тетиве, в них весь ты. А что ж тогда летит – полет валькирий? Держись, мальчик.«Какое чудесное слово «млеччха»…»
Какое чудесное слово «млеччха», чужестранец то есть, «вне дома», его уклада. Помнишь, август до сотворенья, звездная течка над головой, а в сердце – чуточки лада. С отсветом ада. С эхом уже ниоткуда и никуда. Как по земному это отзывчиво, да? Она лежала, голая, и тихонечко так бежала внутри себя. А он смотрел: как прекрасны ее черты, варны, касты: вот голова-брамин, руки-кшатрии, бедра-вайши, а между ними что – Ом, Ом – ни нашим, ни вашим? Сами с усами. И бежали пяточки неприкасаемые. Далиты – тоже хорошее слово. Лечь бы. Даль твоя так близка, да любовь – млеччха.«Она легла в тебе и глядит со дна…»
Она легла в тебе и глядит со дна, и как небо разводит тебя руками, ты не видим ей, и не то чтоб она видна, смуглой водою соткана, твёрже камня. Не жалей ей, полуденный демон, просто сверху ты здесь и сейчас оказался. И это сплетённое тело между вами двумя – не указ.«Открыт? И чувствуешь ладонь, прижатую к тебе?…»
Открыт? И чувствуешь ладонь, прижатую к тебе? Ладонь природы – к открытой ране в животе. Пульсация как разум, и тепло. И очертаний корочка. Ты чувствуешь? Она читает. А взгляд отведен. Кружит ворон зрачка, без ворона. Лишь взгляд, в котором и рана дышит, и ладонь. И нити тянутся за ним. Не те что мните вы…«Волк – на горле, а олень …»
Волк – на горле, а олень — на коленях: волколени ходят-бродят в человеке между жизнью и нежизнью, то летают, то скользят. И не то чтобы не больно и не страшно, но, похоже, их на танец пригласили, они даже плодоносят, а печальные – цветут. Если б кто раздвинул ветви и взглянул – почти виденье: на груди он, как младенец, у нее – глаза Марии, затуманен влажный свет. Но никто их не раздвинет — ни видение, ни ветви, ни запекшиеся губы, ни колени, ни реальность кем и чем бы ни была. Разве что, в условном небе, в мимолетном человеке, в этой нежити-любови, в этой душечке тоске ли, знать бы разве в этой жизни, знать бы что…«У любви своя ниша памяти, своё царство…»
У любви своя ниша памяти, своё царство теней и света, нам едва ли подвластное. И пока мы друг в друге с тобой исчезаем, они проступают – но где? – наши бывшие женщины и мужчины. Вполкасания или ближе губ? Незнакомые меж собой, что-то шепчут, проступают как складки воздуха, а те двое, у окна, обнялись, словно это не наша встреча, а их, настоящая. Им видней, что с тобою, что со мной. И, где были одним мы, лишь тени припадают к пустой, еще теплой постели.«А помнишь, я тело твое необитаемое открывал…»
А помнишь, я тело твое необитаемое открывал, снаряжал экспедиции из ладоней и губ, шел и плыл, и на бедре-береге цвета слоновой кости твоем умирал, надо мной кружили все твои ни гугу, светлый пыл мой взметая крыльями, словно пыль. В молодых мирах, где еще не родилось солнце, лежало твое лицо. Я был, казалось, когда оборачивался, но не отсюда – будущим оборачиваясь. А настоящее не сводило своих концов, как и мы этих рук, ног, времён… Туловище любви, отделившись от нас, рвало себя на горящие корабли и запускало по глади, лён собирало, играло в плен, взгляд мой между Харибдой и Сциллой твоих колен трепетал, как птица, защемлен… И сдвинулся створ, и ослеп Одиссей, и сомкнулось над ним волшебство.«Маленький хайдеггер вопрошания…»
Маленький хайдеггер вопрошания распускается, тих и холост, воздух в полях радеет, небо в незримых прачках. Когда пчела жалит — утрачивает способность к деторожденью, будущее утрачивает, остаются только корзиночки на ногах. Пыльцу собирать с бытия-к-смерти. Да и так ни на ком ведь лица нет, и не было. Светел легонький прах. Лишь ветер и корзиночки. И пыльца.«Я любил тебя на границах сред…»
Я любил тебя на границах сред. Как и ты меня – в междуречье. Даже тело было такой границей, а не пределом. Ничего от нас не осталось. И слава богу. Всё что здесь оставляет след, исподволь потом разворачивает за плечи к себе лицом и ест, подцеловывая. Чтобы пела каждая жилочка, чтоб без голоса ничего не осталось. Ничего, что без голоса. Только свет, а течет, как кровь, где любовь была превращеньем, мной с тобой обернувшейся на прощанье на границах сред, на границах сред…«Одиссей возвратился, и не может ее узнать…»
Одиссей возвратился, и не может ее узнать. Кто она, как сквозь воду в него глядящая? Так похожая на жену, а верней, на мать, только чью? Как сквозь воду, а проступает соль, где вода отступает в ней от волос до пят. Не узнать ее. И она его не узнаёт. Он пространством и временем так объят, что всё кончено для него. Кто стоит рядом с ней – сын ли? Тот, кого провожала? И всё то, что она распускала и пряла, горит под ногами. Так они и стоят эти трое, и солнце над морем висит, и, похоже, уже никогда не зайдет.«Происхождение человека – история воображенья…»
Происхождение человека – история воображенья. (Как говорят в Украине: шалэна уява, скажэна. Волшебные черевички, да, котя?) Мы отличаемся от всего живого только этим, верней, степенью этого дара. (Грядущий пращур. И не ноги, а кущи. Вечное возвращенье божественного кадавра.) Странно, что столь очевидное, рядом лежащее, было как бы в слепом пятне. (Как женщина. Игра света на полотне. А написана вся с голоса.) Труд, социальные связи, защита «голости» — расскажите об этом животным. (– Вот я, Господи. – Да неужели.) «Язык и рука» – следствие воображения. Как и искусство – его полигон. (И тут они сходятся как молоко с кровью.) И свобода, и время – в нем. И огонь с любовью. А уж сколько в этом даре божьего промысла, и сколько червячной необходимости — вопрос к весам. (Что-то с кем-то боролось, а потом один из них вышел из колеса. Полегчало. Не пылит дорога. Улыбнулась, а глаза случайны.) Потанцуем немного?«Она ходит из угла в угол, у окна замирает…»
Она ходит из угла в угол, у окна замирает, чувствуя, как минуты скользят по ней мухами по стеклу. Временем, говорит, надкусывая яблоко, мы себя замарали… Все, что есть я, говорит, – пред-взятое. Девственность снится ей, снегири на снегу. Ходит по комнате и стареет, чувствуя, как время трогает ее повсюду, льнет, срастается с ней, незаметно, исподволь, а особенно от повторений жестов, слов, и – чего там еще? Сосуды проступающие на ногах, ручейки Леты, она говорит, вниз, как бы вдаль глядя, и, поднимая глаза к зеркалу: ты, время, не существуешь – без я… Как пламя без воздуха. Неужели же это тренье (дует на отраженье: ложись, ложись), этот трепет меж нами – жизнь?«Чувство такое – как накроет, и не увернуться…»
Чувство такое – как накроет, и не увернуться. Будто тебя изнасиловали. Тихо так, пусто, ни дуновенья, нити подрагивают, не рвутся. Безотчетное, беспричинное, и лица не видел. А потом лети к ангелам, танцуй, как умеешь. Вот радость-то. Может, сказать прямее? Демон тебя имеет сзади, а бог спереди. Вот и всё пожизненное милосердие.«Здесь красота живет вниз головой…»
Здесь красота живет вниз головой и цедит землю, а к небу – вульвочкой цветет, благоухает. Сама себе и цаца, и изгой, и дева юная, и семя, и моисея избранный народ рассеянный, и арабесковый мухаммед, и будда в колесе воздушном, и брахма дремлющий во рву некошеном, и все они в ней видятся, как меньшее в неизмеримо большем. И мотыльки, обмолвки света божьего, хмелеют на полях, сосут красу кромешную, и как пыльцу несут ее благие вести, и сретенье, и крест, и воскресенье… Цветочки это всё, цветочки, — поют они, – от жениха невесте, отцов пустырников их женам непорочным… И тьма луну катает в горних сенях, как знахарка яйцо от порчи.«Рыбы ели Соснору…»
Рыбы ели Соснору. Длинные и слепые. Обсасывали с исподу. Как водоросли висели на прутике позвоночника внутренности. Как рейтузы или чулки на веревке. Сепия. Все было сепией — воздух, соснора, рыбы, земля, вода, похожая на солдатские скатки. Или доведенный до состояния сепии воздух (пигмент), вода (разбавлен). И нужно было куда-то его нести, взявшись за этот прутик со спутанными буквами. Но куда? Не вспомнить уже. Утро, как декорации не разобранные. Танки, поля, панночка-жизнь… Там, где-то в гражданскую все еще боронят сепию хуторяне под Богодуховым на слонах. Откуда ж они взялись и куда их потом дели? Ты не возьмешь меня за руку — нет у нас этих рук. С кем изменяет память? Длинные и слепые. Уголь. Окаменелости, отпечатки.«Все очевидней: слово не хочет жить…»
Все очевидней: слово не хочет жить с пишущим, дышит в сторону. Вроде обоим есть еще чем дорожить, но в близости не обманешь. Вроде еще семья, вроде жена еще, даже возлюбленная… В тебе, как за соломинку утопающий, речь хватается за немоту. Но не обманешь, она не верит ни в гибель с тобой уже, ни в спасенье. Рядом она, в доме, по крайней мере. Но это «рядом» невыносимей, чем врозь. Хоть бы сталось куда отвести глаза, если с ней живешь и не видишь. Цветут наперсточники чувств и лжесвидетели. В Опочку уехать бы. Молчит, не хочет. Как сослана в тебя без права переписки.«Снился Алеша Парщиков, но не он – звездный хамелеон…»
Снился Алеша Парщиков, но не он – звездный хамелеон мерно раскачивался вместе с космосом на рессорных лапах, обмениваясь образчиками возможной среды обитания — вдох на выдохе. Тьма под ним двигалась, как эскалатор, в разные стороны, и где-то вверху, далеко, на выходе — мушка светящаяся трепетала, он мог бы одним плевком взять ее. Медлил язык, и глаза назначали свидания — каждый свое, множились женщины сред и мужчины суббот, сад не пойми чьих друзей, как зарница, по небу метался, тазовой костью под ними обломок вращался, как колизей. Где-то, совсем на краю выживания зренья и пенья комет, видел себя он, Алеша, – живого – как слово — которого нет.«Вот один. В полутьме…»
Вот один. В полутьме: нарушение равновесья через оползни зренья, когда тени от веток скользят под ногой. Где ж стоит это дерево? — ни земли под ним нет, ни источника света, ни ветра. Может, даже и нет его, только тени колеблются. Но откуда и в ком это легкое сердцекруженье? Почему всё плывет, и так трудно идти? И так зыбко, так приблизительно всё, не единственно. И невесомо. И смертно. Или это не тени, а строчки. Аркадий. А другой — в чистом поле без поля, без края, но с преданным псом: взмах руки — в упоении пес исчезает. Но только куда, если нет ни пути, ни имен в той седьмой стороне? И откуда возвращается, преображенный, к ноге? Если нету ни поля, ни взмаха, ни пса. И не видно ни зги. Только строчки. Алеша.«Дни токуют, как глухари …»
Дни токуют, как глухари — где-то там, на деревьях жизни. А сам лежишь, недвижим, и пальцем пошевелить не можешь. Но всё слышишь, дышишь, только веки тяжелые. Так бывает, когда жалит змея, но не всякая, – вроде крайта: где-то к исходу второго часа начинает плавиться и искрить — там, внутри, далеко под тобой, как ночной город, но огни не болят, и следа от укуса нет, да и не было никакой змеи. Свет ли божий, или близкие водят лучом по зрачку? Яд не трогает мозг. Ужаленные обездвижены, но в сознании, они слышат тебя, просто отнято всё, чем могли дать понять, что они еще здесь. Их хоронят, сжигают – живых. Или вот, как бывает с природой: стоит и смотрит в пустоту остекленевшим взглядом, и шевельнуть не может ни светом, ни тобой. И с ней судьба твоя, спиной к тебе, перебирает рифмы, как воду пожилая нимфа. Короткая, но дивная пора беззвучно свернулась кольцами. И птица, как Тютчев, отвлекает от гнезда — которого и не было – молчаньем.«Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка…»
Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка, и ты, лунная дорожка позвоночника, и ты, полукровка — жизнь, и ты, левиафан в голове моей, посудной лавке, радуйся, мужское и женское, вас могло и не быть вовсе, радуйся, ослик несотворенного и ты, икающая пустота, радуйся, желтое чувство смерти, как на ветру колосья, Богородица-Дева, радуйся, евангелие твоего живота, радуйся, радость моя, что ж ты одна сидишь в темноте, ни души в тебе.«И запах осени, как в доме престарелых…»
И запах осени, как в доме престарелых в какой-нибудь Швейцарии, и чистенько и тихо, до утра не гаснет коридорный свет, и мелом начертанное облачко мерцанья, как за стеклом дежурная сестра. Река лежит, вся брошена, не спится, глаза открыты, и песок в горсти бесчувственно в ночи перебирает. И у деревьев прожитые лица — до жилочек, до каждой, до кости. Душа припала к телу – как украли. И память роется в углах и водит взглядом по голым стенам. Кто здесь, покажись. Одна душа. С сестрой. И запах прелый почти неощутим. Прийти бы рады, но не придет никто. И ложечка звенит о жизнь. Как чай разносят в доме престарелых.«Этот маленький город русыми косами…»
Этот маленький город русыми косами лег на темную воду, а лицо стёсано вместе с именем, весь у края России. Двое здесь их: ворон из Абиссинии и человек, которого звали Иммануил. Ворон, ростом с ребенка, стоял, долбил пупсика, он взвизгивал, ворон вздыхал, череп Иммануила в гробнице своей лежал на боку, смотрел на кости – вроде бы все. Когда-то он на этих ногах ровно в семь ходил на прогулку, и горожане свои часы по нему сверяли, покачивался, как сын чистого разума и нравственной невралгии. Небо в этом городе жило лишь благими намереньями, а не звездами или синью. Чередовал вздохи с грудной икотою абиссинец, Зоб его бирюзов, сам черен, а рог сломан, землю сжимал в горсти, как я – слово. Так мы с ним говорили, оба прильнув к сетке, солнце висело над нами на нижней ветке. Горькое говорили. Собирая последние вещи взглядом. Мир минус небо женщин строил Иммануил. Видимо, для острастки время долбило пупсика брошенного пространства. Ворон сквозь сетку просунул клюв и приоткрыл, насколько ему позволяли прутья, будто был я его отраженьем. Я и был. По ту сторону — там, где в кости играет Иммануил, или в ворона — день с бирюзовой шеей. То есть здесь, нигде, в городе на краю, где страна оборвана, только косы русые стелятся по воде.«В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег…»
В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег, смастерил себе гроб и держал его на корме, чтобы отправиться в этом, волнами увитом, челне к звездным архипелагам, а не на дне как цветок распускаться в пучинных пчелах. Но когда корабль в битве с белым китом пошел ко дну, всплыл только гробик-челн из черной вспенившейся воронки. Я о том, что давно уже в нем плыву. Такое чувство. Плыву, пишу на стенах свои трудодни и ночи, точнее, пальцем вожу в пустоте. А тусклый свет оттого что другого тут нет источника, кроме собственных глаз. Тиха в разоре, дрейфует память. Он существует еще, наверно, мир, хотя, чем дальше, тем иллюзорней. Да, память, болезнь морская, ты ей не мера. Пиши. Ни звука, ни отраженья. Как будто мелом твой челн очерчен. И мутный морок. Чистый лист плывет, как парус белый, и топит все, что ищет смысл. Я помню женщину… Она была. У слова должна быть женщина, как боженька. На слух чтоб речь стремилась выйти из разлома теней ли, жизни, языка… Была у губ. Добру и злу — свобода что? Они ее не знают. Морось, буквы метет над гладью. Домовинку на волнах, как колыбель, качает. Ночь, и нет голубки со слухом певчим, веточкой в губах.«Мне ли знать, что случилось?…»
Мне ли знать, что случилось? Был у нас дом, сын, мы. Отойди от меня, сказала, и обернулась. Глаза другие. Губы – те, что теплей и мягче детства, вдруг стемнели и стали тверже дома, мира в окне, руки… Отойди, тебе сын через годы скажет, не с тобой мое сердце. Возвращается все, только нет тех, к кому. Отойди все, что жизнью звалось. Мы едва это счастье затеплили. У тебя – чудеса, у меня – ремесло, между нами был сад, и в подоле твоем пахли яблоки. Мальчик будет, я думал. Мой сын. Чей бы ни был. Не помню, как тебя подменили. Ты – его, он… Не помню, как вошел в тебя свет, от которого все так стемнело, и ответила кроткой улыбкой – кому? Мне не сладить с умом. Если грех на тебе, было б легче, наверно. Я с тобой или с жизнью, что ты отняла? За покровом, который холмом обернется, что ты пела? Не ты? Не из смерти его? Он поверил тебе, и стемнело, только лица светились волхвов.«Войди в меня, как облако в облако…»
Войди в меня, как облако в облако, обволакивая, оплакивая сквозь солнце, возьми, как цветок чудище, любящие не спасутся. То что меж нами – не имет имени. Камни теплеют, поют пустоты. Думаешь, губы? Возьми, возьми меня! Светел бог, потому и в глазах темно так.«Зелёный, зелёный, здравствуй, здравствуй…»
Зелёный, зелёный, здравствуй, здравствуй, древесный, травный живи-умирай, станешь ты желтым, станешь красным, вот и весь облетевший рай. Зелёный, зелёный, я тебя вижу, вижу, я – твои живи-умирай глаза, я – твои человечьи книжные леса, леса, леса… Ты, наверно, даже не знаешь, знаешь о зеленом своем вдвоем-вдвоем, только взгляд облетающий ощущаешь, как и я на себе: умирай-живи.«Иногда в процессе письма…»
Иногда в процессе письма бывает такое чувство, что вот сейчас между словами что-то произойдет, случится — то, чего не было и, наверное, быть не может на пути слов. (Но что значит «не было», что мы знаем об этом?) Вот кажется, ты подходишь к каким-то пределам близости между жизнью и речью, и в просвете вдруг начинает мерещится выход… Куда? Что-то сдвинулось и вот-вот разрешится… Но нет, заволакивает. И просвет, и слова, и тебя с твоей жизнью.«Лицо у нее отвернуто…»
Лицо у нее отвернуто, а руки-ноги, как молдаване — вино и песни. Пахнет спермой и ворванью. Красота растлевает, да, мальчик с головою песьей? Разве ты не помнишь ее-себя, как сновали вы из живого в мертвое: сезам – сезам, и она вобрала всего тебя, а потом лежал в ней, к стене отвернут, а она, как посуху, по слезам. Неприкаянная благодать, небеса из конца в конец, отрешенные шарики и сосуды. Уходящее, со спины – отец, обернется – мать. Но едва против света уже разглядишь отсюда.«Слоны во мне возвращаются на могилы…»
Слоны во мне возвращаются на могилы, водят хоботом над травой, с умершими разговаривают, переглядываются, но не прямо, а через землю. Дни идут позади смерти, как солдаты смерша. Хава нагила, не оборачивайся, сынок. В мужском и женском. Кто у тебя в роду третий? Если женщины как туман лежат и рассеиваются на восходе. Если речь трогает твое лицо, руки, как слепой на опознании. Если зеркало от ножа отраженье не отличает. Если ключ любовь проглотила и говорит: любой, кто возьмет меня – человек. А сама как дверь витает, поет в чистом поле: я ли, я ли… Если мир – только асана божья – выдохнет, перейдет к другой ли. А пока отдыхают ангелы, на детей играют в подкидную войну краплеными картами. Ангел-родина, ангел-народ, ангел-деньги. Люди отправятся в рай, говорит Коран, на спинах животных. Например, леопард или королевская кобра. Брезгливо наденут их на спину и внесут. Не оборачивайся, сынок. Они возвращаются. Туч румянец. Водят иноискателем. И вдали – пятнистый, как Декарт, смотрит с дерева: цена-качество. А другая, наглотавшаяся соплеменниц, у лица раскачивается в капюшоне, свистом считывая тоненьким и раздвоенным твой ID: мыслишь – стало быть, отойди.«Когда я, говорит муха, была, прости господи, Петраркой…»
Когда я, говорит муха, была, прости господи, Петраркой… Даже вспоминать не хочу, страшный сон. Казалось бы, две-три помарки — и всё, крути колесо. Но где оно, а где белочка «я», не говоря уж про «ты». А еще бывает, в этом божьем угаре полюбишь кого живого, обнимешь его, как дым, и глядишь – разматывается за плечом весь этот бестиарий. А ты говоришь: «возлюбленный мой», «любимая». И комарик Шекспир перелетает с одного на другого. Что-то меня от тебя кумарит, геном говорит геному. Сколько крови, сестра, ты выудила стеклянной палочкой? Подожми губы, дави на пальчик. Один он и ты одна. Когда я был панночкой, говорит одуванчик, был у меня Хома. Откуда ж ноги растут у воздуха, что там зияет в жизни, что так открыто чувству и неподвластно мысли? Лепестки мои, говорит роза, выстраданы — из людей не рожденных, выскобленных. Когда мы были ладонями, говорят кроты, мы стояли у слепого оконца, как в молитве, а потом всё рыли ходы, ходы… Доня, душа моя, не вглядывайся в меня, это просто заходит солнце.«Еще этот легкий вкус молока оставался и кориандра…»
Еще этот легкий вкус молока оставался и кориандра что ли, особенно там, у затуманенного сосца… Говорили, что любила она разные варианты превращений между мужским и женским. Но лица не помнил уже никто. А может быть, и не видел. Что-то она хотела, но вроде бросила на полдороге, между внешним и внутренним в ней какой-то инбридинг происходил, и родилась душа. И ходила, как в караоке, в тела. Говорили, кто-то помнил ее ладонь, и что-то она делала с нами внизу живота, то есть с ними… Говорили в зеленом, любили на белом – всем народом богоизбранных чувств, и казнимы, как память, на синем.«Вода колеблется, наводчик…»
Вода колеблется, наводчик духа играет маревом, как зеркальцем. Ни дьявол не указ мне, ни Христос. Я пропаду поодиночке, не взявшись за руки, как пропадал не раз. Ничто нам, кроме смерти, не обещано, но тем и дороги черты пропавших без вести всех наших «я» — поодиночке, в нас. В той местности, которая с тобой, как женщина, чуть светится во тьме, колеблется, и дух танцует на воде.«Не торопиться, нетерпенье – роскошь…»
Не торопиться, нетерпенье – роскошь, я понемногу сбавлю скорость, где мир как в жизнь впадает в кому. И там-то всё и происходит. Как на искусственном дыханьи того, что с богом, и не может, как при естественном отборе любви, которой страшно выжить, как без вести пропавший в слове, как слово в даре созерцанья, я позабыл, что я хотел… Я сбавил и это. Вот и происходит.«Едино всё и так пребудет…»
Едино всё и так пребудет. И облако, и сын, и лес. Христос повесился в Иуде, Иуда во Христе воскрес. В Иерусалиме ли, в Тамани, распалась связь иль стая птиц, белеет парус ли в тумане, иль просто мальчик и отец, и тайной теплою окутан, как Магдалиной, тает след, и свет исходит не оттуда, откуда светII За мостом
«В ней пространство и время в силе…»
В ней пространство и время в силе сошлись, как борцы сумо. А с виду она – гусыня, выполненная с умом. Левша воображенья, блоху обиды она подковывает на скаку. Ее психика имеет виды… Пожалуй, точка. Она – в стогу иголка. А стог – в горах тех, где лишь слова цветут на прокорм людям. Ее характер — сундук, плывущий у мыса Горн. А в сундуке гуляют лисы и словари – их чтец и жнец, она актриса театра букв, она жилец вершин – в углу медвежьем. Есть верх и низ в ней, и есть просвет, в котором всё, что должно бы между — но нет. Переждем. В осле — обрыв и озеро печали, и дух святой застыл над ним, колеблется… В начале — был осел. Потом труды и дни над женщиной. И в доме затеплен свет. Но никого там нет. Борцы сумо раскланиваются…«Было это лет десять тому назад…»
Было это лет десять тому назад. Снял я однушку в Москве, район Люблино. И собирался выпускать альманах «Мета», который потом стал «Фигурами речи». И вот живу, собираю его и посматриваю на экран, где охотник преследует раненую антилопу: они бегут – день и ночь, по саванне, один – по следу, другая – чувствуя его за спиной. Алеша Парщиков говорит: а ты напиши Мише Йосселю, который в Торонто живет, а жена у него из Кении, семинары ведет он в Питере и Найроби. Написал, и потянулась дорожка в Африку, о которой грезил, и дошло до Совета племени Масаев. Шли месяцы, масаи рассматривали мои бумаги, чтобы я у них поселился на длительный срок как — не выговорить – как русский писатель-натуралист, пишущий «уединенное». За окном – Люблино. Тем временем, вставало солнце второго дня, охотник все продолжал свой бег, главное – не останавливаться, и не давать ей времени на передышку, лук у него и нож, под 50 в тени, босые пятки колесуют зернистый воздух, она уже чувствует обреченность, но все бежит – без воды, еды, третий день. Альманах почти уже собран, и хорошо на душе – светлым событьем. Охотник видит ее: она опускается на траву, выдохлась, на бок легла, ноги подрагивают. Он к ней подходит, садится, глаз ее (крупный план) смотрит в его лицо. Он говорит ей, взгляд отведя и чуть нараспев, что-то, похоже, из экклезиаста, только теплей, здешней. И кладет ей ладонь на голову, медленно вводит лезвие в шею. Она не дергается, только смотрит все так же ему в лицо, которое, судя по глазу ее, становится небом, и смерклось. Я просыпаюсь. Женщина рядом. Вчера – в это трудно поверить – ее еще не было. В ней сердце дрожит, как вальсок, и маленький йоссель в засаде, и губы, и стойкий солдатик в огне, и россыпи нищих чудес, и шепот в плечо мне: мы в Индии, да? мы не снимся друг другу?«Души склещиваются, как собаки…»
Души склещиваются, как собаки, семейство волчьих. Визжат, не разъять. Когда я тебя встретила, говорит, глаза у тебя были гончие. А потом она превратилась в «ять», вычеркнутую из языка, не став матерью. Странно вела себя эта любовь — то снизу поглядывала, то свысока, то сидела в ногах у нас, на кровати, вязала кровь. Но чем – веточками омелы? Имя свое скрывала, кто ж ее знает – кем была? Легкая такая, худенькая, смелая вселенная, не вывезла ее кривая, черт-те где теперь, сама не своя. Да, стрелы точно подходят к ранам, ими нанесенными, как он говорит. Спиной стоит, и лица ее не увидеть, а мимо – мы с тобой, караваны нас с тобой движутся: пить, пить… Как постыден со временем сам себе ты становишься. Не привить ни закат, ни песок, ни сознание — по-живому. Да, эпифит? Не от почвы судьба, одни притязанья. Или плющ, оторочивший деревце, все цветешь, наливаясь до пожилого опыта. Ввысь, ввысь… Как дымок над Освенцимом.«Она умерла. Но так, что нигде ее нет …»
Она умерла. Но так, что нигде ее нет — ни на том, ни на этом свете. Переродилась? Кто ж это скажет. Как саламандры, отращивая отсеченное? Нет, всей душою и телом, вместе с запахом, кожей, лицом. Но не уличить в самозванстве. Или все ж не бесследно? По нисходящей, на выживание той из себя, с которой труднее выжить. И эти следы видны. Не ей. Иначе б она была. Иначе б она была на том и на этом свете, как любая душа, если она одна. Иначе — стыд бы нашел щеку, боль – губы, бог – сына. Иначе — заячьих петель зуд, сыпь счастья. Видишь, как эта фальшь крепнет, как она жить хочет, ей ли, невесте, саван? Если б она, а не эти гробки, сирые празднички поминовенья на могилках, которых нет. Ястребок, Мировая душа, Саммамит, разрывает себя на части в небе, а на земле – гробки, как узелки на память. Если б она, но нет. Нет ни ее, ни нити к той, в кого она перешита. Будто дверью ошибся — ею. И, выходит, собой. Так они прорастают, наливаясь любовью, и цветут, обвивая все родней. А потом умирают, чтобы переродится и цвести, прорастая в другое, в другом. Но что делать с лицом, с пустотой меж ладоней и душой в стороне? Ничего. Ничего, что фальшивит путь и голос, и чувства мутятся. Тут, как в детстве: болеют – растут.«Здравствуй… Мы с тобой для веселья…»
Здравствуй… Мы с тобой для веселья повод – божьего, он пропал, как молочко грудное. Здравствуй. Так говорят в землю, лежа ничком. Видишь, дожили – не назвать по имени даже. Дуем, как на ожоги: ты… ты… Мир под речью лежал, как вода под ивою. С тех и спросится – извивами немоты. Что ж итожить нам? Что под елочкой новогоднее? Шить и шить… И сволачивается, как нить, память – вся с иголочки. И куда-то в сторону – ту, где были мы, говорим, чуть дыша: держись… Как в петле. Чуть покачиваясь. Без имени. Разве боль притупилась? – жизнь. Столько счастья далось нам – умо ли постижимо? А даров сколько – видишь? Глаз не отвесть. Мы спеленаты в них, как мумии, — хоть на елочку вешай нас.«Знаешь, сидел на веранде…»
Знаешь, сидел на веранде, курил, смотрел, как дождь и солнце друг друга отталкивали локтями, немцы вокруг – птицы, деревья, отменно выглядят, даже белочка – и та Марлен. Только вижу ли? Пелена говорит: я воздух, видишь, как я прозрачен? В письменах пелена, в разводах. А присмотришься: будто жизнь. Будто весь ты в ней. Это, помнишь, как в детстве коврик над кроватью. Будто весь ты там. На поруки тебя берет пелена. И не выдаст уже. Ну а ты, гесиод молчанья, моя девочка, мой герой, мой павший, как живется тебе без жизни — труды и дни? Твоя кожа тепла, как пепел, и, как пепел, глаза светлы. Но откуда ж такая тяжесть, если легче огня он и горя тише? На краю земли, за три моря, сын тебя по утрам возводит из любви и тоски, как воздушный или песочный замок. За три моря ищу, но где ты — в том краю ли, который телом был, а потом проснешься — такое чувство, будто там, во сне, надругались над ним. Лишь сон, но сердцу ведь не прикажешь. Пелена. Или коврик детства. Ночь меж нами, как пепел, еще тепла.«Я живу в тебе, как Марко Поло в тюрьме…»
Я живу в тебе, как Марко Поло в тюрьме, от стены к стене хожу, баю. Сплю в углу на твоей стерне, бо нiчого крiм неї не маю. Знаешь, Васко привез игрушку — рукомойник с пипочкой, в Ындию. Летят три избушки через три пичужки… Тоже мне Аль Капоне, индиго. А другой – за три моря коня волок, Афанасий, думал, невидаль эту индусам впарит. А ему басурмане: сделаешь обрезанье, масик, — возьмем коня и гарем подарим. Баю, баю, тюремщик в глазок смотрит, как в мир боженька. Хорошо, говорит, баешь. Может быть, так и задумано всё – по три: двое мужчин и одна женщина, понимаешь? — кем бы они ни были. Рада ли ты, не тесно в этой светелке речи, в этой темнице взгляда? Баюшки, наши жизни. Слушаешь ты чудесно — одна отрада.«Знаешь, что вспомнил…»
Знаешь, что вспомнил, глядя на детский волчок в ладони? Как на острове том, о котором не знали, что это остров, мы весь день переправу искали после ночевки в джунглях. Шли вдоль берега, пекло такое, что камни в песке дымились, а река изводила их пением горловым. Ты, сознанье терявшая от жары, чтоб не выдать себя — за улыбку держалась, тихонечко пела. Пара стройных оленей, стоявших в тени на другом берегу, всё глядела на нас как на пару. И я обнял тебя, и в свои очертанья ты так мило не попадала в объятьях моих. И блуждающий слон из полуденной чащи, в нашу сторону вытянул хобот и как будто перекрестил. А потом, когда (не) опустились на землю, было чудо нам. Да? Но об этом – молчок. Мир, как детский волчок, укатился, качнулся и лег на бочок.«Я понять не могу…»
Я понять не могу, как ты можешь, натыкаясь на каждом шагу на жизнь, на погоду, на чашку, на кожу свою, на слова – те что мы, те что нас… Это, знаешь, как ангелов резать на скотобойне. А они потом, за стеной, опять собираются – из крови, из узнаванья тебя, из прощального взгляда, из всего, что есть ты, из всего, кем мы были с тобой, и снова идут под нож. Я понять не могу, как ты с этим живешь. Не даешь себе чувствовать, видеть? Просто проходишь сквозь, как проходят мертвые сквозь живых? Но за спинами тянутся эти нити, кость разматывая, понимаешь, кость — на нити, когда нет уж ни тех, ни других. С кем же ты говоришь, с кем они, эти ожоги-бабочки, отшелушенные от слов? Что с глазами твоими в этой сиротской темени счастья, когда по зрачку оно вдруг полоснет? Что с ладонями-поводырями, за которыми всё так беспомощно стало, и не знает, что делать с дарами и сердца пустыми дворами. Упала любовь и разбилась – о детство. Ну, значит, живешь ты, хотя и не трудно понять — и где ты, и с кем ты — жена и другое, и наше с тобой всё на свете, и мать — но я не могу. А ты помнишь, индусы-аскеты в бидончиках носят свой личный огонь, и он навсегда, как дыханье. В плохую погоду его можно трогать рукой. И судьбой. И губами, как я. Называется дхуни.«Я так любил писать с тобой с голоса, кто бы знал…»
Я так любил писать с тобой с голоса, кто бы знал. Вот сидим мы на траве, в тени, на краю джунглей, у тебя лэптоп на коленях, бабочка на мизинце ноги, а я взглядом по верхушкам деревьев выхаживаю, шевелю губами беззвучно, что-то там наживляя, а ты смотришь мне в губы и улыбаешься, ждешь, и я говорю: ну помоги же мне, здесь, в этом месте… такой переход прихотливый… Киваешь с улыбкой, и плавно покачиваешь головой: «не-не-не». И я не понимал никогда, почему. И не верил тебе, что, мол, синтаксис это такой у меня и всё прочее, входа-выхода нет, мол, со стороны. В самом деле, не опускаться же до имитации… Нет, конечно, так ты не говорила. Покачивала. «Не-не-не-не, — как сказал в разговоре со мной философ с чудным именем Подорога, — время созерцания кончилось». И тебе так нравился этот реверсный брачный его пируэт перед пропастью. О какой же ты стороне, если их божьей милостью нет. Как бывает в любви, а у нас с тобой – в слове. В этой чуткости, близости инцестуальной, которую божьей едва назовешь. А ты говоришь: не могу. И это тем более странно, что вот Мандельштам, например, или Данте стоял бы, глядел на верхушки и что-то шептал: в этом месте такой переход… ну ты понимаешь… А я бы с лэптопом сидел, с мотыльком на ноге, и если б о связке шла речь, стилистической что ли запинке, намётке, не больше, то я бы, наверно, два-три варианта каких-то нашел бы — не значит, что те, но не это ведь важно. Сидишь как пейзаж, как условье акустики голоса, речи, как ля камертона, похожем на шпильку в твоих волосах, «не-не-не», улыбаешься, годы, и бабочка не улетает.«Ничего, моя милая, всё пройдет…»
Ничего, моя милая, всё пройдет, схлынет с кровью, с любовью, ничего не останется, в сердце яблонька расцветет и у ног сядут зайцы. Ничего, моя милая, это будет вначале — ничего. А потом полегчает. Дивный свет над могилою, детки, солнышко, всё включено. Надо жить, моя ясная, это боженька в спину тебя толкает, никого там нет. Всё он взял себе, чтобы связана не была. Не смолкает этот дивный свет.«Я пока не знаю, как это сказать…»
Я пока не знаю, как это сказать. Так всё неочевидно. Разве что ты могла бы меня понять. Ты, которой нет. И это «нет» как свидетеля – куда больше, чем наше «есть», порознь, в нынешнем. Как же это сказать? О покровах памяти: взгляд приблизишь – притворяются неживыми. Отойдешь – оживают. Это знаешь, как что? Как… Велáнголи. Дивное имя для индийского городка на краю света, обдуваемого песком забвения у Залива. Веланголи, ни одной тропы человечьей не вело к нему, кроме той несусветной, становившейся нами. Длиннее чем жизнь был автобус, без дна, без «откуда – куда», и водитель в леса уходил, возвращался другим. Да и люди, как годы, менялись в лице. Да и люди ли? Помнишь, так долго мы смотрели в окно, что лицо незаметно превращалось в окно, и когда возвращались мы взглядом друг к другу, будто медленно падали в окна. А потом вдруг Веланголи — с того света картинка: какой-то диспансер пространства и времени: все населенье, ни за что обращенное в христианство, шло по городу с метлами и мело на ветру ускользающий этот песок. И особенно дети. Или кажется так мне теперь сквозь прореху. А потом мы сидели с тобой на кривом берегу, и какой-то бычок-лилипут между нами ел с ладони незрелое манго и смотрел то в твои, то в мои – как в прорехи – глаза, словно в этом причина, что он существует. И багровое солнце топило себя в океане. А потом — сквозь узор истончившейся ткани и дней — утлый егерский домик, степь, плывущая в мареве зноя, два оленя, сцепившись, висят над землей, как кулон. А в другой стороне – у залива — розовато карминный колышется свет, будто прачки полощут его, не фламинго. Между этих сторон, и лицом в эту жухлую горькую степь ты лежишь и всё шепчешь в нее мое имя. Ранголи — узоры миров, их рисуют цветными мелками в предутренней тьме у порогов домов босоногие женщины, свет их читает, стирая. Wie lange? Как долго? Веланголи, помнишь, Веланголи… Как… Велáнголи. Дивное имя для индийского городка на краю света, обдуваемого песком забвения у Залива. Веланголи, ни одной тропы человечьей не вело к нему, кроме той несусветной, становившейся нами. Длиннее чем жизнь был автобус, без дна, без «откуда – куда», и водитель в леса уходил, возвращался другим. Да и люди, как годы, менялись в лице. Да и люди ли? Помнишь, так долго мы смотрели в окно, что лицо незаметно превращалось в окно, и когда возвращались мы взглядом друг к другу, будто медленно падали в окна. А потом вдруг Веланголи — с того света картинка: какой-то диспансер пространства и времени: все населенье, ни за что обращенное в христианство, шло по городу с метлами и мело на ветру ускользающий этот песок. И особенно дети. Или кажется так мне теперь сквозь прореху. А потом мы сидели с тобой на кривом берегу, и какой-то бычок-лилипут между нами ел с ладони незрелое манго и смотрел то в твои, то в мои – как в прорехи – глаза, словно в этом причина, что он существует. И багровое солнце топило себя в океане. А потом — сквозь узор истончившейся ткани и дней — утлый егерский домик, степь, плывущая в мареве зноя, два оленя, сцепившись, висят над землей, как кулон. А в другой стороне – у залива — розовато карминный колышется свет, будто прачки полощут его, не фламинго. Между этих сторон, и лицом в эту жухлую горькую степь ты лежишь и всё шепчешь в нее мое имя. Ранголи — узоры миров, их рисуют цветными мелками в предутренней тьме у порогов домов босоногие женщины, свет их читает, стирая. Wie lange? Как долго? Веланголи, помнишь, Веланголи…«Речь моя так любит тебя, вся светится…»
Речь моя так любит тебя, вся светится, а с другими – пятку волочит, клюет носом. Легкие лестницы нас кружили. Из рукава воздуха вынешь фразу, а ты подхватишь, минуя триста сорок одну страницу, несуществующую, и мир создан. Думаешь, за это тебя люблю? Трудный вопрос. Счастье у нас речевое, что ему стоит сердце вырвать мое, твое? Ничего. И разойдемся мирно, вроде души и тела, слов не найдя тому, что в нас не умело дышать иначе, минуя триста сорок одну… Ты ведь смогла? Значит, и я смогу.«Где же ты, почему ты молчишь?…»
Где же ты, почему ты молчишь? Надо идти, говоришь, ту жизнь, которая под ногами, чтоб не упасть, ведь и так ее нет, как земли. Я оглох от молчания. Надо идти. У того, что меж нами, нет могилы. Как у Паганини. Ветерок заголяет останки. Ветерок и слова. Мы и внешне немного похожи, если вместе сложить наши лица, на него, и особенно ты, да, Николо? Ну не то чтобы нет, сорок лет из могил вынимали его, опуская в другие. Истлело всё, кроме лица. Перед смертью его голос покинул, тишина исповедалась. Почему ты молчишь? Надо жить. Эта музыка ходит за нами, как тихий и зоркий горбун, и разверсты могилы, как футляры без скрипок.«Что происходит с нами? Только следы, следы…»
Что происходит с нами? Только следы, следы, только песок, песок, змейки сыпучие слов, смертей. Это не путь – узор на зеркале. Вытри. Из пустоты, как грудничок у сердца, видишь ли ты меня? Видишь – как, перевернуты, тянутся к нам те, кем мы с тобою были, мертвых не хороня. Вижу ли я? Нет, не глаза это. Кто я, чтоб их иметь? Можешь воткнуть иголки, как в подушечку для шитья. Сердце за рукоять держит не кровь, а плеть. Я тебя чувствую – ежеминутно: семьдесят пять — пульс. Вытри себя, меня – и проступит она, любовь. Ой ли. Холодом веет от наших душ. Наломали дров? Будет им обогреться на свете том.«Пришла средь ночи, без лица, и постелила…»
Пришла средь ночи, без лица, и постелила в углу себе. Но не легла, всё семенила от стены к стене, и тоненько так дула, как на раны, на них и сквозь меня. Пришла, и всё. Сказать не может, предутренним прерывистым мелком начертана, лишь кружит, крошит, мажет, и стихнет вдруг, дрожит. Как не тревога. Как не во тьме дорога, и запорошен дом.«А помнишь, как мы отправились в Вайташваранкоил…»
А помнишь, как мы отправились в Вайташваранкоил через всю Индию? Ыыыыындия, вдали гудел машинист, и мы подпевали: ом, дом! Ча-ча-ча, танцевали разносчики чай. Нас там четверо было: Рашид, пару юных японок прихвативший с собою под мышки, и мы. Ну, бакинец Рашид он – для нас, а для тех, кто стоит на ходулях просветления – свами Амрит и индус. И мы едем на юг, в эти дивные заросли букв (гарба грха – дыр бул щыл алтаря) – за судьбою своей. Ну не так чтоб всерьез, но об этом при свами – ни-ни. Гардероб всех людских (и не только, как мнится) там судеб. Но – тсс! Тайны хроник Акаши. Века, Нотрадамус и Папа. И дети. И мы. Не до шуток, они от смущенья. Вот палец Рашида, вот Индия, поезд, две юных японки самосу едят и всё конспектируют. Библиотек этих несколько – здесь, на земле, а архив – наверху, это знает, похоже, тут каждый вернадский. (Ты помнишь, какой-то старик в темноте, когда мы спросили его, как пройти, обернулся к нам: Там, – культею взмахнул, – всё написано, в Книге небесной!). А ключи от канала между верхом и низом – во рту у брамина. Он библиотекарь. И дар этот вместе с ключом и каналом (ты здесь?) переходит в пределах семьи – по наследству. Отец, видно, пишет, он там, наверху, а сын, он же «ридер», вас в доме встречает. Лет десять назад этот ридер нашел в гардеробе Рашида, судьбу его то есть, и на руки выдал, с тех пор он с судьбой на руках (как ты со мной, помнишь, когда на коленях твоих я уснул с глазами открытыми, глядя в лицо твое, в тихом ночном, похожем на утлый леденчик, автобусе). Да, все подробно – от предков до дня его смерти. И чин-чинарем – всё узорах кармических знаков. И были такие детали, как он говорит, о которых никто, только он. Всё сошлось. Ежегодно теперь приезжает сюда – чтобы править судьбу. Как корректор к редактору. Местность – небесной зеркальна: планеты стоят на земле в виде храмов, вот карта: храм Солнца – он здесь. Ты помнишь, мы, босые, там по дорогам пылили и краски с лотка покупали (веселые горки пигмента лежат, осиянные, в темной шухлядке в г. Мюнхене, живы еще), пока наш Амриторашиджи судьбу корректировал пуджей в заросшем, заброшенном Солнце (в фб, на страничке моей, на заставке). А там – храм Плутона, а в нашей деревне – храм Марса. И вот, ежегодно, Рашид как планетообходчик их в строгом порядке узором обносит с судьбой на руках. А поезд гудит с переливом протяжным, в нем нет машиниста, и ветер гуляет вагоны, и вечер, и окна без стекол, японки на верхние полки вспорхнули, у них на ладонях нет линии жизни. У всех, добавляет Рашид, японок она исчезает. И список приводит причин журавлиный. Бананы во тьме продают на перроне, пятнадцать сортов их на юге. Тамилов земля, терракота, патлатые реют орлы в расклешенных штанах с бахромой, зиккураты навоза коровьего, солнце в полнеба, и дымка молочно медовая, и – сказать ли? – такое внутри и вокруг безнадежное счастье, такое барбослое… Мы в тамбурке, и земля под ногами летит во все свои детские – видишь? – лопатки мелькают. Судьба. Ее нам вручают. На пальмовых тонких дощечках, исписанных мелко и стянутых ниткой в вязанку. Моя и твоя – не поверишь – судьба. Нашли нас. Но прежде, лишь только я пальцем коснулся бумаги (берут отпечаток, чтоб легче найти в гардеробе), как вышибло свет по всему околотку, во тьме они долго кивали (на пали): непрост этот гость… Потом развели нас по разным каморкам, и там так наивно удили из нас наши био, и уходили, и возвращались, судьбой ошибившись, и уточняли, и вновь исчезали, и все это было такой глубокоуважаемой мутью с дешевой поверх позолотцей, что я, не сдержавшись, легонько вспылил. А ты все пыталась меня урезонить: зачем ты их домик песочный разрушил, взгляни на их лица – в слезах! Мы всё перепишем, – бубнили они нам в дверях, извиняясь, и долго еще нас искали в деревне (в деревне! Ты помнишь, вдруг так захотелось в лесок нам – костер, шашлычок… На улице я у кого-то спросил, он не понял, я стал рисовать на песке: вот курица, это огонь, вот шампуры… Где можно купить их? Вокруг нас толпа собиралась, и все мы рисуем: костер, облака и деревья, и птиц… И тут один вскрикнул: я понял, что нужно им! Сел на мопед и исчез. И занавес пыли. А с чем возвратился – не помнишь? С газонокосилкой? С ребенком? С мотыгой?)… О чем я? Ах да, нас искали в деревне, и свами был очень расстроен конфузом в Акаши, и был разговор у нас с ним в храме Марса (о, Марс потирал нами руки – до искр), полночи кружили мы с ним в колоннадах, как Запад с Востоком, которым вовек не бывать. А ты всё у окон ждала и «божечки-боже» шептала. (Вот годы прошли, и где эти судьбы? Два свитка забвенья лежат в том краю, где прежде по страшным дорогам возили, сокрыв в чемодане, отъятую голову Сергия. Лавра. В Посаде. Вернее, на даче, в прогнившем сарае, где вся наша жизнь потихоньку истлела без нас, и только бинокль тех свитков белеет… И что-то, похоже, сбылось.) У окон, и «божечки-боже». Пришли, а наутро ему подарил я сандалии, а он – марсианина Шиву, фигурку с мизинец. Обнялись. Простились. И в раннем тумане, чумазы от счастья, стыда и свободы, как дети от жгучей картошки в золе, весь день колесили полями-лесами, ища океана обещанный берег, прижавшись друг к другу в той маленькой бричке тук-тук.«Любовь у нас – ребенок из детдома…»
Любовь у нас – ребенок из детдома… Ты ладонь на губы мне кладешь: не надо… Я помню тех кротов, лежали у тропы, за ручки взявшись, мертвые, из сада — на божий свет… А помнишь: кварк, нобелиат (бим или бом, за ручки, тот же сад…): ведь должен отношенье к мыслям разум иметь? А Кришнамурти: разве? Ребенок мимо нас глядел, но сквозь (как будто мы душа живая), собой сшивая нас и ось земную, ось… намах шивайя. И ребра твои светом отзывались, прильнув щекой к их худенькой гряде летучей, звал тебя, и, просыпаясь, блуждал в тебе, как Блум в июньский день. И нет конца ему, и занавеской душа полощется в пустом окне – ловец проема. Ее намаз. И мир как арабеска с запретом на изображенье лиц.«Мы столкнулись внезапно…»
Мы столкнулись внезапно, в джунглях, на изгибе тропы: он стоял… Но прежде – запах прелой соломы, яслей… Он стоял – так огромен, что с его высоты человек в нас проваливался, как в дыру, и падал, падал… Мама! — выдохнула ты потом. – Разве это был слон? Мамонт! Стоял, как в банном пару, в миру, горой Меру, мутные реки текли из крохотных глаз — там, в небе, и запекались в ногах, а он стоял, рвал над собой ветки – веру, любовь, надежду – рвал, ронял. Легонький расписной прах вился вокруг твоей головы, трепетал, а он всё стоял, чуть раскачиваясь. Пустота, как женщина, билась внутри него. Мотылек вдоль по линии взгляда горел восходя, и зрачок заволакивался затменьем.«А по утрам я пальцы твои пересчитывал…»
А по утрам я пальцы твои пересчитывал, да? С таким трогательным самозабвеньем – со смеху помереть. А что? – мало ли как могло обернуться за ночь! Тучка на груди утеса – тоже поди не та, что была с вечера. А потом я индийским деревцем стоял над тобой на одной ноге, радостно, и ладони над головой сведены: ом, ом! А ты пряталась под одеяло, потому что ну нельзя же на счастье смотреть вот так, распахнутыми. А потом ты, как птица, слегка на земле неумелая, в бумазейной ночнушке тумана выходила и на пол садилась под батареей, обхвативши руками колени, и я наряжал тебя в платьица речи, и ты, белошвейка чудес и сестра неземных словарей, озарялась тем внутренним светом, которого здесь днем с огнем. И я изнывал наслаждением слушать тебя, превращаясь то в дунь-пустоту, то в сверчка между турочкой с кофе и красным в окне паруском, за которым шел снег. В общем, та еще школа для дураков, то есть тех, кого губят-голубят слова, с кем живут ненаглядно и места себе от родства не находят, вот и сходит с ума в этой близости жизнь, и уходим в слова, как вода (ты любила пустыни) в песок.«Если я замолкаю, смолкаешь и ты…»
Если я замолкаю, смолкаешь и ты, и возникает меж нами что-то вроде воздушной ямы, в которую валится всё – люди, слова… Цветы, когда жизнь подступает к горлу, распускаются. Черт его знает, к чему это здесь. Или будущий лама выбирает предметы своей прежней жизни, так я тебя узнавал, трогал, водил по губам пальцем. Близость обустраивала углы со сдержанным фетишизмом. Они и остались, а между ними – яма воздушная, в которую валимся медленно, молча, криво, чтоб они подступали к горлу, вынимая душу, углы и яма, и дышали края разрывов.«Что делать на краю света?…»
Что делать на краю света? Даже не на краю, а далеко за краем. Только лечь.
Лечь у реки, соорудив из песка и камней призрачную гряду с подветренной стороны, длиной в человечье тело. И закрыть глаза.
А одежда сушится на единственном здесь кусте. Единственном, как и та, вдали, непохожая на живую, фигурка у воды. То ли книгу читает, то ли пишет.
А по другую сторону, рядом совсем, из обрывистой бухты доносится рваный, всполошенный, птичий – не крик и не плач, не техканье… Женщина там заходится. Как между жизнью и смертью. И ветер порывами ее голос швыряет, метет. Но глаз не открыть от песка. Ты прижалась, лежим.
На краю мир разбелен. Почти белый песок и река, и небо. И чувства, и память – все покинуло цвет. Почти. Будто в облаке мы – распускающемся на нити. Как же мы здесь оказались, помнишь?
Да, говоришь, не открывая глаз. Вначале был заповедник, где жили гиббоны – седобровые мальчики в черных тужурках, и девочки из театра Кабуки. А живут они парами на верхушках деревьев и бегут по ним как по небу. Потому что им больно ходить по земле, не умеют. Бегут и поют: и-ееху, и-ееху…
Я сдуваю песок с твоих век, Джайна. И умираю в тебе, и возрождаюсь. И чувствую твой живот, уже на четвертом. Там наш маленький Путра. Ибо, как сказано в Ведах, сын спасает отца от ада, который зовется Пут. Да-да…
А в сторожке, на краю того заповедника, сидел биолог с пером и большим гроссбухом. И писал повесть временных лет гиббонов. А жена его – за двести миль от него, на острове Умананда, вела летопись вымирающих золотых лангуров. Они встречались изредка, на конференциях.
Что же там происходит – то как с жизнью прощается, голосит, то стихает, поет… Бьют ее, рвут на части? Насилуют? Жгут? Или она одна там в своем безумии? Даже не скажешь по голосу – молодая, старуха ли.
Фигурка пишет, острова текут, как белила…
А у ближайшей деревушки было странное имя – итальянское: Мариони. Вернее, не деревушка, а жд переезд со шлагбаумом, по обе стороны от которого продавали рыбу Рух. С земли, на газетах. А муку мы брали в пекарне – четвертый из девяти видов. И леденцов. О, леденцы! Там ведь обычно один леденец покупают, ну два-три. А мы гребли пригоршнями по всей Индии, стыд какой, сладкий, особенно те – манговые, ананасовые, ну и лимонные тоже. И возвращались в свой заповедник, который был в двух шагах от границы с той землей (как они говорят: Сестрой), где по-прежнему ели людей. Ты уснула что ли?
Вот так, наверно, годы идут, река течет, и голос этот – без тела, один только голос вьется, рвется, заходится, места себе не найдет – тысячелетья, да?
А потом мы зашли в военную часть и оставили там рюкзаки, чтобы налегке добраться до Брахмапутры, а там паромом – на остров. На ближний, потому как на дальний плыть дольше, чем жизнь. Рюкзаки они отнесли к шалашику ружей. Да, они знают о нас, поначалу прислали два джипа с пулеметом, чтобы аборигены не съели нас. Ночевали они за нашей сторожкой в джунглях. Пришлось убеждать командиров снять опеку.
А потом добрались до реки, но паром был так переполнен, что мы сошли. И побрели вниз по теченью, просто вниз, по контуру берега. И, оглядываясь: это было последнее цветовое пятно – отплывающий паром, исчезающий в этом белесом безвременье.
Нашли место у того единственного куста. И пытались войти в реку, но донный песок там таков, что, ступив, человек исчезает в теченье секунд. Представь, мы могли бы исчезнуть – вот так, на щелчок, в Брахмапутре. И эти дивные реликтовые гангетик-долфинс, каким-то чудом живущие здесь речные дельфины сопели бы и поцокивали у нас над головами, тычась в песок. Вот как сейчас, прямо у берега, смотри. Спишь?
Что-то тебе снилось тогда, что-то важное очень, не помнишь? Ты ведь потом мне рассказывала… Как же это собрать? Как же собрать всю эту жизнь? Все так разбросано в ней, да, как тело Озириса на том свете. Так оно, видно, и происходит: думаем, что живем, а потом не собрать. Это, наверно, и станет участью – там: собирание жизни, вечное.
А потом ты стирала наши вещички, стояла в сорочке у самой кромки, а вода ледяная, бела от холода, и дельфины выметывались из реки и грузно заваливались, чуть набок. И пар над нею стелился, и дальние острова – кружевом. А потом мы легли.
А она все кричала, порывами, и вдруг стихла. Солнце было таким же белесым и рваным, как и земля с рекой. Верней, его не было, солнца, будто забелено. И смеркалось уже. Мы сидели, глядя на реку, безвидную, как на полпути к сотворенью.
И вдруг лодочка выплыла из той лагуны, откуда крик доносился. Лодочка – узкая, черная, кривенькая, и поплыла по теченью. А в ней никого.

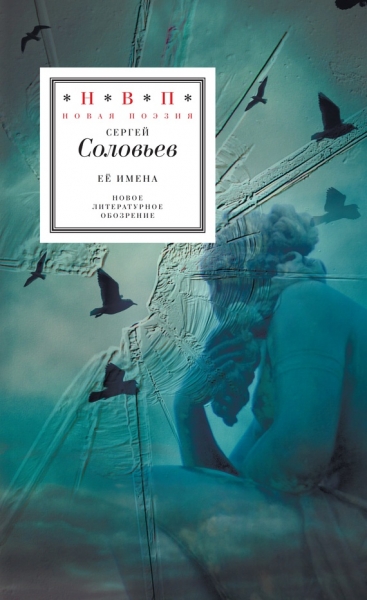




Комментарии к книге «Её имена (сборник)», Сергей Владимирович Соловьёв
Всего 0 комментариев