Николай Байтов Что касается
«Каждое утро на протяжении многих лет...»
Каждое утро на протяжении многих лет я появляюсь на грани травы и воды. Я убеждаюсь, что у теней отражений нет. Все это знают, но мало кто делает выводы.«Моя коллекция затей...»
Моя коллекция затей представлена – в апреле, в мае. Свирелью я зову детей — они гуляют, ноль вниманья. Речитативом разольюсь, расплачиваюсь равнодушьем. Гуляю в садике цветущем, скучаю, сам себе дивлюсь.Конус
1 Новую плёнку он зарядив, вновь молчанью не вняв, вновь к моему лицу объектив приставив, спросит меня: «Это ваш храм, да? а вон там — тоже?.. Ну хорошо, ты только ответь: тоже вода? море? или там что? Кустарник, шерсть, кизил или кровь? Она распускает ткань? А в чаше там бесконечная дробь, шифры двоичных тайн? Зачем этот свод и замкнутый свет? Зачем этот текст и зов? Где спрятан у этих женщин и дев кассетный экскурсовод? А эти каменные столбы сдавили кого? Христа?.. Что ж ты молчишь? Зачем встал ты, как сторож, здесь у крыльца?» Я отвернусь, пойду. А турист снова глядит в алтарь. Никто не покажет ему, как Улисс выходит за Гибралтар. 2 Весна опять подняла весло — сушить, а потом копать. Кому-то бросить велит ремесло, точить лемех и пахать. Когда же я наконец упрусь килем в сухое дно, и пахарь вопросом прервёт мой путь: – Ты, чужеземец, кто? Привёз ли товары к нам иль плоды какие-нибудь?.. И вообще: что за лопату странную ты несёшь на блестящем плече? Нет, это геодезист внизу рейку выставил вверх. Ночью он изобразит в мозгу цепь этих твёрдых вех. Дверь заперла эта тварь, и тот в подъезде уснул подлец. В отель последний поезд идёт от станции Лептон-Ленц. Введя дырявую ленту лиц из перфоратора в кадр, сержант не видит, как быстрый Улисс выходит за Гибралтар. 3 Есть ли кто стерегущий здесь в кадре двоичную дробь? Кто дешифрует: кустарник, шерсть, скалы, кизил или кровь? Скатилась под землю четверть луны, следом спешит океан. Пеной в горле вскипели нули: она распускает ткань. Дверь заперла эта тварь, и тот в подъезде уснул подлец. В тоннель последний поезд идёт со станции Лептон-Ленц. И консул, выйдя из фильма убийств, «халтура», – пробормотал. Никто не видит, как лёгкий Улисс уходит за Гибралтар. 4 Я знал, что в этом отеле вряд ли мне суждено заснуть: пляшет «лампада» на тёмной веранде, хоть ноги могли разуть… Нет, это старый падре внизу пердит, завернувшись в плед. Ночью он проявил в мозгу остатки двух липких лент.— Джон Леннон с Иконой в кадре повис, цветы возложив на алтарь. И консул, выйдя из фильма убийств, «халтура», – пробормотал.«Что касается правил этой игры...»
Что касается правил этой игры, то не в них суть. Не от них покачиваются миры и в морях муть. И не я их придумал, и не ты, а они даны нам в виде еды, если же здесь будут едва видны, значит так, пусть. Мне вообще не надо, чтоб здесь был я, как волна боли. Только чьи-то с тонущего корабля вдалеке вопли. Это будет игрок или пусть моряк — всё равно – хоть игрек, хоть имярек. Пусть с обломком брига его на брег принесли волны. Он пройдёт тропой чьей-то в снегу, забредёт в лес, потеряв мгновенно свою беду в забытьи мест, заметённых с опушки на ветру. Он увидит перед собой игру вышесказанную – и я не вру, я держу текст. Ухожу и прячусь к себе туда за сугроб тёплый, где бормочет всякая ерунда под густой ёлкой. Что поделаешь? – наша жизнь трудна. Наши достиженья – одна труха. Для того игру и берёт рука, чтобы стать лёгкой. Что касается правил этой игры, то не в них вкус. Ни желаний, ни страха, ни вины, ни иных чувств, от Адама известных и доныне, слава Богу, не затронут они, если же и сбоку где-то даны, значит так, пусть. Это вроде того, как бы некий «он» размышлял: «Чем бы мне разукрасить времени ветхий сон иль препровождение? Вот хотя бы Плотин или Платон, — всё равно – из плоти он иль фантом,— мы его помучаем, а потом разрешим чтение. Нам вообще не важно, чтоб здесь был «я», словно чья тварь. Сам себя направляя и пыля, пусть бредёт вдаль. А кругом засеянные поля, и уже косить-молотить пора. Кабы не всегда с кем-нибудь война, так совсем рай. Можно лечь с подругой в светлых садах и сплести взоры. Как послушное эхо, в её устах пить свои стоны. И до вечера целый день с утра наслаждаться тем, что дала судьба, поворачивая туда-сюда интерес сонный».— Если эти мысли столь же верны, сколь широк жест, то, переставляя фишки игры, я несу крест. Что касается правил, то их ряды перестраиваются, как под утро грибы, предлагая от страсти и дурноты миллион средств. Тот, кто выпал из пасти свирепых волн, — пусть он спас минимум из того, чем был, пусть стоит он гол в бытии мнимом,— всё равно ему под любым углом можно видеть в звёздах добро со злом или разукрасить времени сон слабым днём зимним. Он заглянет в тёплую полынью, где дрожит пульс. И туда сосульку, словно слюну, протянул куст. А потом весною, уйдя в листву, потеряет вскоре и всю свою ледяную твёрдость, – а я не сплю, я держу курс. Уползу и спрячусь опять в дыру под сугроб рыхлый, между тем как узенькую луну заметёт вихрем на востоке, в самом тёмном углу — и она серебром подсветит пургу,— для того луна и ведёт игру, чтобы стать рифмой. И коснётся правил этой возни между слов – перст. А потом коснётся влажных низин близ её чресл. Он коснётся впадин смелой весны, и туда прольётся одно из них, от летучей тоненькой белизны удержав блеск.«С незнакомыми именами...»
С незнакомыми именами на устах – до оскомины я скитаюсь, хотя едва ли понимаю топонимы. Запинаясь, ангелы пели над полями полыни. Пусть по Волге плывут колыбели.— Колыбели поплыли.«А между тем еловый куст...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
А между тем еловый куст чернел на жёлтом скате неба. И поскользь лыж, их скрип и хруст по загрубевшей корке снега я слышал, палками стуча. А у Мелецкого свеча в окне приветливо горела вдали, деревни на краю. Трещит камин. Там водку пью. Стоит передо мной тарелка. Часы задумчиво идут. Собаки головы кладут мне на усталую коленку. Втыкаю вилку в огурец. И Даша разговор сердец закидывает втихомолку… Мелецкий снял с гвоздя двустволку, словно трагический артист. Его пример – другим наука. Я говорю себе: «А ну-ка попробую и я, как он».— Выглядываю: в чёрном поле ни огонька. Ослеп я что ли? — Одна лишь вьюга за окном.«Много книжек читал я в родной стороне...»
Много книжек читал я в родной стороне: много букв, много слов, много мнений. Ничего не унёс я в своей котоме, уходя в непогоду и темень. В это утро упрёков, утрат и тревог, в пустоту бесполезных терзаний лезут пятна рябин и бригады грибов, сопрягаясь в багряный гербарий. Приблизительно так. Приблизительно всё. По просёлку трясётся автобус. Сквозь рассветную мглу на опушки лесов тупо смотрит проезжий оболтус. Много книг и брошюр он в родной Костроме прочитал и забыл без последствий. Ничего не случилось в его голове. Только дождик да ветер осенний торопливо стучится в слепое окно, как сосед бьёт в окошко слепое, — знать, машина пришла, знать, открыли сельпо, как сказал бы Гандлевский-Запоев. Неужели опять обретать атрибут, утеряв предикат пререканий?… В поле ветер метёт ярлычки мёртвых букв, составляя последний гербарий.«Древнее живое имя рек и морей...»
Древнее живое имя рек и морей ветром протянуло в золотых облаках. Вышел на прогулку молодой иерей, смотрит с косогора на красивый закат. Вышел на поляну многотравный июль, вынул из тумана молодой нож луны. Надвое на западе разрезал лазурь, нагло улыбаясь – почти до хулы. Но хотя повсюду безбожная власть, много тут и проса, и ржи, и овса. Всякая святая еда удалась, всякое дыхание – хвалит Творца. Светом лучезарным просиял эмпирей. Ветер надувает облаков каскад. Долго с косогора молодой иерей смотрит, улыбаясь, на родной закат. Океанов имя, островов, гор и льдов протянулось ветром вдоль осенних широт. Люди мы смиренные – так дай же нам Бог краешек святыни от осенних щедрот. Даже вот сливовое варенье – и то можно облизнуться – для души западня. Многие пытаются и это, и то — одна только умница моя попадья. Можно соблазниться, над полями летя, взглядом погружаясь в золотой эмпирей. Тоже собралась там облаков лития, дымом поедая рыб и зверей. Там на речке с удочкой старик-пионер курит самокруточку, чудак-самодур. Постоял в раздумье молодой иерей и вернулся к матушке – пить самовар.«Владивосток, понимаешь, Мукден да Харбин...»
Владивосток, понимаешь, Мукден да Харбин. Всё не так просто, Господи, трудно-то как! Вот и скитаемся где-то, вот и скорбим. Суд на земле, а адвокат в облаках. В Иерусалиме по вирусологии был конгресс. Те же проблемы, только другим языком. Где дефицит иммунитета пролез — всюду ущерб и всюду нарушен закон. Где моя alma mater? – В Алма-Ате. Эвакуация, знаешь, сума да тюрьма. Я по большому секрету скажу тебе: подозреваю, что теорема Ферма не верна. Если бы это открылось – всему конец. Что мы умеем? – только молоть языком. Всюду проблемы. Какой-то зыбкий контекст, где узелок ты вяжешь за узелком. Вряд ли тебе это важно. И ты права. Вон вернисажи, тусовки – весело как! Есть у художника, скажешь, своя тропа? Всё не так просто, Господи, если бы так!«Опушкой пробегают волки...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Опушкой пробегают волки, и звёзды сыплются из глаз. А гости выпивают водки и клеят рифмы между фраз. Вот легкомыслие! – Куда же нас заведёт оно? – У Даши дрожит тревога на губах. Прищурившись, она собак почёсывает и поглаживает… И я не знаю, что там дальше, ищу грибы средь леса букв.О моём шурине
В пространствах холодных, где фары в метели дымят и в метеосводках на завтра лишь феня да мат, нигде до заправки ни пса, ни жилья – только лес, и парень поёт, загребая толчками колёс под брюхо, как раненый лось. Нигде ледяного мотеля в сугробах под дверь, под мёртвые окна. – Порой только чёрная ель метнётся с дороги, завидев фар прыгнувший свет. Он крутит настройку – по радио хрипы и свист. Он сам кое-как себе Биттлс. А то и «ламбаду». Он каждые десять минут закуривает, – так в кабине истошная муть висит и мотается в запертых стёклах, и дует горячая топка, и клонит заснуть. Мой шурин отнюдь не такой был помятый шофёр. Он красные дюны без шума на память прошёл. Другой бы ослаб в одиночку сосать валидол — подписку на смерть чтобы молча: давал – не давал,— а в песенке вот она вам: Un son do lon — bada le. Un son do lon — bada la. Un son do lon — bada le. Un son do lon-bada. Лови этот звук и бросай ей, как мячик: – «На, лови этот звук и сразу обратно мне бросай этот звук!» – И так, пока снежная мгла не остановится в изумленье и не собьётся со счёта в уме. Тогда-то, отбросив все обстоятельства, встреть в очищенном виде первоначальную весть. Увидишь: как пыль, на простейшие доли она бесконечно раздробленная обоюдная смерть. Нет, шурин мой был не такой баснословный шофёр, — отнюдь. – И он красные дюны без шума прошёл: на память до крайнего дюйма съел щей бензобак. Но правильной речью поведать мог сей эпизод лишь в притче, как древний Эзоп. «Представь себе, – он говорил, – например, облака. Представь в глубине головы, отойдя от окна. Представь, как они оседают на дебри волос. Представил? – теперь посмотри: там за дерево лес укрылся, как опыт за текст. Они оседают, а я укрываюсь в песках немым одеялом. – Иные и в спальных мешках ворочаются и боятся змеиных укусов: хотят незаметно уснуть – да никак…» Когда мёртвый ветер летит над полянами рощ, иной литератор чернил виноградную гроздь с лица вытирает, как слёзы, – и вытер почти и смотрит на мелкие звёзды, как рыцарь в плаще, и смотрит на небо вообще. Там можно увидеть любые фигуры земли: пустыни и горы, улыбки и руки вблизи и губы в слезах – и что может здесь произойти, всё там поднимается в знак – и копируй себе в гармонии и красоте. Вот это и есть баснословья высокий полёт. А низкий кружит в испареньях житейских болот. Но есть в вышине и зверей силуэты, там можно сложить теоремы из львов и ослов. Там есть арматура и шлаки затёртых пространств. И шурин недаром был в школе десантных ОСНАЗ, — другой бы ослаб в одиночку сосать валидол — подписку на смерть чтобы молча: давал – не давал,— а в песенке вот она вам: Michelle, та belle, these are words that go together well, my Michelle. И всё же, какая в словах образуется западня! Ты слышишь? – как в красных дюнах, тебе западло ловушка любому опыту – и не зря смысл их ложится с нотами заодно в ту ямку от до до до. Напрасно, цепляясь за оползающий снег, карабкаешься из сухого омута вверх — кругом, как песок, бесконечно раздробленная на простейшие доли одна тавтология: смерть. Когда жёсткий ветер сечёт лобовое стекло, иной сочинитель добавил бы к счёту число последнее и произвольное, чтобы прервать сие издевательство звёзд, – и в особый привет вложил бы весомый предмет. То есть афоризм на бетонных, допустим, столбах, — какой-нибудь там указатель, а лучше – шлагбаум. Но как же он, будучи необходимо весом, как он (мы немедленно спросим) взлетит к небесам из всех аксиом себе сам? Пора, в этих чёрных метельных пространствах пора ходить вдохновенно без польз и без смыслов – тогда случайная милость нас проще согреет, и может быть бросит на берег слепая волна. Труднее всего – это в рейсе не думать о той, которой-нибудь, что лежит кверх ногами – хоть стой, хоть падай, неважно: реальна она или нет, пускай она лишь на мгновенье в вибрации нот возникла от губ и до ног: Michelle, та belle, sont les mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble. Какая тревога и трепет! Другой бы ослаб, заплакал бы, забуксовал бы в вибрациях слов, и в свете фар число на бетонных столбах, из мрака вымахнувшее хотя бы ему в лоб, едва ли его спасло б. Однако же попробуй не спать и не петь, проламываясь сквозь летящую, мельтешащую персть, — увидишь сам, напряжённо тараща глаза, бесконечно дробящуюся несомненную смерть. Так необъяснимо, насколько мой шурин был крут,— ходил вдохновенно всё около, рядом, вокруг по песням и басням, и мимо, и вскользь, зубы сжав, без смысла и пользы – и пальцы фигурой сложив, на память остался он жив. «Представь себе, – он говорил, – например, ураган. Представь в голове осязаемо, как дуракам представить нельзя: они жмурят намыленный глаз, а ты утерпи и смотри, – видишь: мысленный лес от бури укрылся за текст. И я перелистываю невозможный абзац, как будто моргаю, последовательно назвав болота и тундру, пески и снега – и дорогу как будто сдвигаю по пунктам назад. Горгону, ты помнишь, не глядя Персей убивал. И ты, как бы ни был отважен, удачлив и нагл, но можешь лишь в зеркало видеть свой аппендицит, когда твои пальцы то скальпель ведут, то пинцет, и сам ты себе пациент. Поэтому я только косвенно воспроизвёл запретный себе самому навсегда разговор. Есть мнимые способы всё обезболить подряд, но я, возвращаясь по заданным пунктам вперёд, тебя от картин уберёг. По следу моих маргиналий пробрался ты над смертельною зрительной ямой, пока кино-ад показывал документальные кадры в пространствах холодных, где фары в метели дымят.«Скажи кизил, который я сказал...»
Скажи кизил, который я сказал: не вкусом – лыком сам язык вязал. Не ликом весел враль: забыл с Кавказа в рай не взял словарь. Я сто акцентов знал. Давно старик. А вот лишь по церквям дразню заик. Устал, забыл, ослеп. Скажи кизил, Господь наш Логопед. Кто кровью окропил холмы вокруг, окрасил привкус мне слюны во рту? — Я вырастил куст слов. Свяжи кисель в раю Твоим узлом.«Ни молока, ни мёда...»
Ни молока, ни мёда в пустыне Вади-Кельт. Так далеко от дома беглец находит бейт. Как буквы в свитках, мнимы тут молоко и мёд, — струится над камнями лишь облако имён. И бесы дуют зноем настолько мимо чувств, насколько преподобен был житель здешних кущ на дне глубоких трещин, где узкий водопад меж скалами подвешен, — был житель прост и свят. Он рад, что ты покинул свою страну, беглец. Ты, как бесстрастный гимел, корабль безводных мест, тропою каменистой плывёшь – уже не мёртв — а он навстречу с миской: там молоко и мёд.«Пошёл я гулять в чистое поле...»
Пошёл я гулять в чистое поле. За первым полем увидел второе. Прошёл второе – встретил козла. Вышел в третье – а там Москва. Глухое поле отваги и брани. Поперёк и вдоль овраги да ямы. На семи холмах – лопух да бурьян. Восьмая Москва – алый мак-дурман. Сидит в ней девушка на вокзале. Голубыми плачет она глазами. Плачет над мёртвой гнилью-трухой. Чей-то череп гладит рукой. – По ком, скажи мне, твои рыданья? — – Убила я красивого парня. Он изменил. Это был твой брат. Теперь бери меня в законный брак. – О, долго была у него ты в рабстве! Теперь не мешает он нашей страсти. Улыбнись, подставь мне губки свои. Возьму тебя, увезу с Москвы. Она ведь поле гульбы и брани. В могилу здесь сводят девушек парни. И только пули свищут но ним. В этом поле любовь – полынь.«Как поехал Исидор на Флорентийский собор...»
Как поехал Исидор на Флорентийский собор — скопом передать всю свою паству папству, — так и не вернулся Исидор до сих пор, знает: надо быть ему от паствы опасну. А в Москве зима не от большого ума. Тут у нас людишки живут по привычке. Разве с бодуна кому дадут тумака. Да на Пасху кáтают мальчишки яички. Ходят кривоулочками, спустя рукава, да на возке архимандрит какой сугроб раскимдарит. Потчует блинами и квасом Москва, только блядомыслия не благословляет. Всяко змеесловие зловесно весьма, — особливо на латыни оно как на ладони. То-то на Москве темна завеса ума, а широко и далеко видать с любой колокольни. Как уехал Исидор на Флорентийский собор — скопом передавать свою паству папству, — так и не вернулся Исидор до сих пор: всё готовит грозную острастку пространству. Топчется – и деньги суёт – и сулит тишь да гладь, да русские дали-широты. В тригонометрических коридорах интриг он берёт уроки надменья у Европы. Сила pax romano – вся в надменьи одном. Только ткнёшь – так палец в труху и провалится. А нашу ойкумену не замкнуть в окоём. Скоро Исидора будем ждать к масленице.«Медленно грузная цепь облаков...»
Медленно грузная цепь облаков тянется в небо из-за сарая — стадо коров, запряжённых зарёю, стадо коров, ой ты стадо коров! С длинным бичом позади возникая, едет бельё полоскать Навсикая. Сотня голов, ой, две сотни рогов, ваша пастушка состарилась с вами, ваша старушка поссорилась с нами. Тяжко бредут, свесив полное вымя, дождик цедя на просторы лугов. Был ей жених, да давно был таков. Что я, дурак, обо всём этом знаю?«Суха поэзия, мой друг...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Суха поэзия, мой друг, но зеленеет жизни проза, как старый на лужайке дуб листвой оделся вдруг так просто, что проезжающий Болконский воскликнул: «О, как был я глуп, когда искал средь леса букв подобия своей печали!.. Где ж вы, друзья однополчане, лишившиеся ног и рук? Ужели эти ваши члены — и те, и прочие, и все, творя банальный гимн весне, восходят к солнечной листве в безличном веществе вселенной?»…«Серёжа приехал с приветом...»
Серёжа приехал с приветом из дальних неведомых стран. Андрюша поздравил с приездом и съел угощение сам. Но мне сам Серёжа неведом, равно как Андрюша далёк, и я оставался эстетом, которому всё невдомёк. Похоже, я с детства болтался, всему человечеству чужд, в прозрачном кристалле пространства вдали от количества душ. И вот эти грустные мысли, да бедные игры ума. Одни только буквы и числа, да некоторые имена.«Что ты, товарищ, набычился?..»
Что ты, товарищ, набычился? Свет ли тебе вдруг обрыдл? Или ты только что вычислил много обычных обид? Каждый своё горе мыкает — трудно понять, почему. Много обидных обычаев ходит у нас по селу. Звёздные ль это дурачества, или то лунная дурь? — Сам я давно насобачился все их суммировать в нуль. Видишь, какие тут мерзкие, чудные всюду места? Видишь все разности местные? — нет им ни зва, ни числа. Луг вон румянцем окрасился, брезжит в туманах заря. Зря ты, товарищ, окрысился, Распетушиться пора. — Тяжкую дрёму взбить крыльями, крикнуть до самой Москвы. Видишь, какие обширные дали явились из мглы. Речки, овражки, болотины, пашни, пригорки, леса. Трудно понять, где тут что-нибудь. Твёрдо ручаться нельзя.«Сканнер сканирует скатерть...»
Сканнер сканирует скатерть. Принтер копирует пир. В сумме какая-то пакость. В небе какая-то пыль. В сумерках светят отбросы: бритва, петарда, гондон, С клипера сходят матросы — скрипка, гитара, гармонь… Есть у меня на примете добрый приятель один. Кликну его в Интернете — встретимся и посидим. Пусть даже он в бескозырке — это всего лишь игра. Девушку в красной косынке нам не забыть никогда.«Прощайся бережно со мной...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Прощайся бережно со мной и береги воспоминанье: пустое зеркальце, как ноль, и дым, текущий по спирали. Лизнув шершавый шёлк огня, я между пауз ноты вдуну. Но это не о том, как я, искомый в данную минуту, внимательно прикрыл глаза: письмо Татьяны предо мною. Сползаю в яму бреда Молли. И лома дребом вью сполза —«Лиса аскета в Киев вела...»
Лиса аскета в Киев вела, хвостом заметая след. Зря думаете, что её дела — всегда непременно блеф. Лиса наивна. Она – дитя. Её вероломно ловить нельзя. Она, словно синичка, свистя, с ладони хватает хлеб. В пещерах киевских – свечки, мрак, нетленье и сладкий тлен. Лиса аскета сюда привела, хвостом подметая след. Лиса прелестна. Её пути поэтому и неисповеди — мы можем, конечно, её схватить, — но нет – немыслимо! – нет! Со свечек течёт ароматный воск. В пещерах холод и мрак. Вглядываешься: здесь рядом Бог? — Странно, но это так. Вглядываешься в глаза лисы — они наивны, они ясны, лишь хвост заметает твои следы, покачиваясь им в такт.«Пожелтели парки...»
Пожелтели парки. В этот день осенний Мура ходит с Ксеней по горам близ Лавры. Бледными губами говорит, обрадована или нет – обманута медными дубами с фотоаппаратом… Только в этом старом вот фотоальбоме Муриной любови пожелтели кадры.«Забвение: сначала дымка...»
Забвение: сначала дымка, а там и дырка. Похоже, нам гордиться нечем. Но кто же вечен? Как много дырок незаметных средь незабвенных. Но праведники [1]? – Что ж, допустим. Даже обсудим. — Как без имён растёт их толща, — обсудим молча.«Когда б мы жили под луной...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Когда б мы жили под луной, нам не было б конца и края. Из тени в свет перебегая незатухающей волной, мы без вреда неслись бы мимо фосфоресцирующих форм, как некий неделимый фон, в ловушки смыслов не ловимый, или безликий длинный хор, с закрытыми поющий ртами… Но солнце, перебив волну, вгоняет в грани очертаний, и, жёсткий облик наш чеканя, душу текучую к нему приковывает на мученья. И скука познанного зла, и суд, и казнь, и разрушенье глядят нам, пойманным, в глаза.«Есть поэзия чувств, но увы – даже там...»
Есть поэзия чувств, но увы – даже там не бывает метафор без слов.— Алиб Юля любила Надежду Джедан, подарила на память брелок. Тот брелок, а с другой стороны – тот кулон интегральный имел калибр: её девичий вход он под острым углом закрывал для небесных игр. Колокольчик, а с другой стороны – камертон, он всегда звенел в резонанс. Он, как джокер, пальчиком перед ртом свою тайну держал, резвясь. Как словесный жетон в буриме, он держал в том же тоне другие слова. И кого б ни встречала Надежда Джедан, Алиб Юлю любила она.«Комсобежец, горбеженец, соцренегат...»
Комсобежец, горбеженец, соцренегат, моя прелесть, как черви в стихах: её серьги висят до колен иногда, как тяжёлые пики в степях. На рассвете ей регент принёс чертежи, жертва лжи, шантажа и интриг. Подписать интерьер приходские тузы приложили труды и дары. Комсобежец, горбеженец, соцренегат приложили печатей круги: на плече, как серьга, суррогат серебра, на запястьях живые рубли. На рассвете шуршат ксерокопии смет: поколения призрачных цифр. Ну и цирк, значит риск: балансирует смерть в застеклённых глазах её искр. Это золото всё, словно черви, я вру, ударяясь о грани стиха. Благочестие в жёстких ладонях я тру в порошок золотого стекла. Бижутерия, мелкая дрянь, ерунда, воск конфессий, газетный свинец — всё течёт – и госбеженец, соцренегат, и прочьвечнобеглец – и смеюсь…«Владимир Андреич послал ему много вина...»
«Владимир Андреич послал ему много вина», — написано в летописи. И у нас нет сомнений. — И правда, какая его в том могла быть вина? — Владимир Андреич послал ему много вина. Потом он поехал на прежнюю отчину в Брест в дождливую пору, раскисшей дорогой осенней, когда вспоминаешь: «се повести временный блеск!» — Вот так он поехал на прежнюю отчину в Брест. Когда же в столетьях наступит такая зима, что сразу возьмётся стоять без знамён и знамений? — И правда: то было бы всем непонятно весьма. Нескоро, как видно, наступит такая зима. Но он исцелился и милостью выполз на брег сознания: милость Господня рукою незримой вцепилась – и хрустнул, как тоненький лёд, его бред. Так он исцелился и милостью вышел на брег. И долго казалась застрявшая в горле стрела вороньей крамолой. И брезжило утро изменой. Там чья-то торчала хоругвь, а кругом всё снега, и долго казалась проткнувшая горло стрела.«Странно ехать под шофе в грузовой машине...»
Странно ехать под шофе в грузовой машине. Страшно ехать по шоссе в грозовую ночь. По обочинам бегут случаи из жизни: Ратца, Чагодица, Кихть, Воя, Вондожь, Вочь. Ни таланта, ни ума, – Ёмба, Индоманка. Пельшма, Андога, Мегра, – из последних сил! Я убогий инвалид, житель интерната. Я боюсь твоих молитв, преподобный Нил. Где-то блещет в тростнике мелкий Мареотис. Вон пещеры и скиты в скалах и песках. Вкруг оазиса сидит скорченный народец — тут в склерозе и в тоске дух его иссяк. Лесопилка в лопухах, тёса серый штабель. Чья-то банька заросла выше двери в сныть. Удит рыбу на мостках житель-нестяжатель. Ковжа, Колонга, Кулай, Шола, Юза, Сить. Пала молния в скирду посредине луга. Шумный ливень пал стеной, зарево залил. Малохольные в скиту плачут от испуга. Пожалей их, успокой, преподобный Нил.«Когда с весёлыми подругами...»
Когда с весёлыми подругами глядишь ты жадно на дорогу, не слышишь ты ямщицкой ругани, лишь одинокую корову встречаешь удивлённым взглядом: она бредёт, бренча бубенчиком, за ней бежит с кнутом и матом хромой пастух в плаще брезентовом. А я всё длю и длю тоску твою и не пылю вдали, не еду. Я соответствую отсутствию, питая модную легенду. Питая жадную надежду, ты заплетаешь ленту в кудри. И тракту молятся наезженному твои весёлые подруги.«Весь мир ты отторгать привыкла...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Весь мир ты отторгать привыкла. Меня, забывшись, привлекла. Ты памятник себе воздвигла. К его подножью привела меня заросшая тропинка. Уж осень. Зябко на ветру дрожит засохшая травинка, склоняясь к твоему бедру. Кругом холодный дождик сеет, и нагота твоя белеет на постаменте средь кустов полунагого бересклета. Твои глаза застыли слепо среди живых его зрачков,— упёрлись окнами пустот в скелет разрушенного лета, в его прорехах ты за ним вплотную следуешь, как эхо… Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим.«На поляну бросил берёзовый июнь...»
На поляну бросил берёзовый июнь моего растерзанного разума изюм. Я лежу в больнице посреди лесов, на поляне птицы водят выводки птенцов. Водят их и поят изумрудною росой, а мои изюминки обходят стороной: «Не учитесь, детки, эти ягодки клевать, а не то вовеки не будете летать. И от изумленья, прежде чем вспорхнуть, вспоминать начнёте все загадки наизусть.— Будете всё думать, зачем да почему Боженька устроил такую чехарду…»«Выступает рыхлый рельеф лица...»
Выступает рыхлый рельеф лица в собрании лунных теней. Он что-то бормочет, сходя с крыльца в оттепель, тьму, метель. Вот пути перепутались в саду, и ключи поблескивают в снегу. «Так что ты учти, ты имей в виду — отпусти, не то убегу». Перевыпукло кругло большое «О» ползёт, как пузырь изо рта. С тихим вздохом лопнуло его тепло, и вопрос повис до утра на рябине среди терпких кистей в белых шапках снега, – и что теперь? — И ныряет, закрыв за собою дверь, в оттепель, тьму, метель.«Когда смутятся очертанья...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Когда смутятся очертанья ближайших пригородных зон, усталый ум, едва читая, уйдёт за тонкий горизонт строки… И тут от поворота тропинка поведёт в овраг. Отрава – белая atropa — раскинет в дебре аромат… И я не знаю, что тогда. — Не понимаю знаков смеха и страха. Возгласов добра не помню и не вижу эха. Не осязаю вкуса зла. — Письмо Татьяны предо мною… Сползаю в яму бреда Молли и лома древом вью сполза —«Туман черёмуху укрыл...»
Туман черёмуху укрыл под насыпью внизу. Набоков в тамбуре курил, вздыхая на звезду. В недвижном поезде все спят. Лишь где-то невзначай из туалета водопад на шпалы прожурчал. Там стукнула о стенку дверь, на полку кто-то влез. И вот бесшумно, словно тень, пошёл, поплыл экспресс. Уже, качаясь, шлёт привет покинутым лугам, где стелется и вслед плывёт сиреневый туман.Лодья
Тесны пустынные просторы. Они ползут в окошке мутном. Однообразные рассказы иссякли, надоев друг другу. Одни пасьянсы да кроссворды шуршат, бубнят в вагоне нудном. Я задремал или – не помню. Во всяком случае, не сразу знакомую в себе тревогу почувствовал. И тут я понял, что нет тебя: ты где-то вышла. Меня безмолвно, как обычно, покинула. Спустясь на насыпь, мимо шлагбаума, мимо будки направилась куда-то в поле. В твоём купе все спят по полкам. Разнообразный храп спокоен. Твоей ни сумки нет, ни куртки. Я к проводнице: – Остановка давно была? – А что такое? Минут пятнадцать была – Лодья. Да это просто деревушка. – Там девушка сошла? – Нет, вроде. Да мы стояли там минуту. – А следующая скоро? – Укша. Такими темпами под утро… Да нет, шучу. В ноль сорок восемь. Вы ищите свою подружку? Найдётся. Может, просто шутка. Может, пошла к кому-то в гости? По коридору – неизвестно зачем – я в нерабочий тамбур побрёл. – Он пуст, как я и думал. Скрипит, раскачиваясь, сцепка. И рядом туалет не заперт. Мотается косая дверца. Розетка сломана над краном. В окно опущенное дунул хвост пробегающего ветра. Искать тебя по всем вагонам неловко, да и бесполезно.— Я чувствую. Мне стало ясно: пока я собирал пасьянсы во сне, ты резко и безмолвно меня покинула, исчезла, намерений не проверяя. Без размышлений, произвольно ушла в иное измеренье, в пустые тёмные пространства. Окно открыто. Ночь сырая. Опять плетёмся еле-еле. Ну, чуть быстрей велосипеда. Я тонкий – как-нибудь пролезу. Нет, задом… и тогда… и если повисну на руках на раме… Не знаю как, но я так сделал: повис – и, оттолкнувшись, прыгнул. Я пролетел балласт – и в землю уткнулся кубарем с обрыва. Верней, в какое-то болото. Кругом трава, кусты и кочки. Прошла, наверное, минута иль две, прежде чем я очнулся — в воде, во тьме осенней ночи — и медленно себя ощупал. Лицо в крови, рукав разодран. Зато, смотрю, как будто ноги не поломал – и это чудо. И стал карабкаться на насыпь, чтобы идти обратно в Лодью. Куда ж ещё? Ведь я не знаю, где ты. Но рано или поздно мы встретимся. По крайней мере, это безликое пространство внутри себя ещё имеет хотя бы маленькое имя. И вкруг него сначала близко, как бабочка, ты будешь виться, простыми смыслами палима. Лишь понемногу, постепенно, когда словесные привычки обуглятся, – ты удаляться начнёшь. Но я к тебе успею. Я чувствую: ещё застану. Только бы нам не разминуться. А вдруг случится так: увижу и не узнаю? Здесь так странно всё выглядит и происходит. И ты могла здесь измениться. Есть что-нибудь, что неподвижно в тебе средь разных обстоятельств и не подвержено изгнанью при вот таких метаморфозах? Я брёл в смятенье, спотыкаясь. Припоминал ушедший поезд. Себя клял за беспечность: что я за этот краткий срок знакомства успел увидеть и запомнить? — Одни лишь мелочи, причуды, твои забавные приметы. Я знаю, как ты чистишь зубы, причёсываешься, красишь ногти. Пьёшь чай без сахара с лимоном. Потом, в бумажную салфетку собрав обглоданные кости куриные, – несёшь их в мусор. Потом ты, морщась, пьёшь таблетку — по-видимому, цитрамона… Но что ты будешь делать в Лодье? Как будешь выглядеть? Что думать? …Здесь километров, может, десять, да и не важно, – хоть пятнадцать. Как радостно меня ты встретишь, чтоб никогда уж не расстаться. Мы отреклись от прежней жизни, которая была ничтожна. Мы бросили всё, что возможно. Всё, что мы бросили, – излишне. Мы бросили себя на ветер, бесформенный и безразличный. Он – не вагон, который катит искать, надеяться, бояться. Здесь термин не авторитетен, нет здесь ни качеств, ни количеств. Здесь явлена и что-то значит лишь форма нашего объятья. 15 апр. 2005 ПОСЛЕСЛОВИЕ Читатель, ты ль столь простодушен? Ты всё за чистую монету здесь принял? Ты развесил уши? Ну что ж, перечитай поэму — теперь уж с некою подсказкой: здесь всё трактуется двояко.— Быть может, женщине несчастной пришлось спасаться от маньяка?«Ты возьми, ты держи этот флокс...»
Ты возьми, ты держи этот флокс. Пусть я лжец, но печален мой жест. Впереди наибольший мост, а за ним наименьший лес. Мы идём, мы идём туда. А обратно придём не мы.— Будет путаница, чепуха. Мы умрём, мы будем смешны.«Лязгнули цепи, и выпал из рук...»
Лязгнули цепи, и выпал из рук город Том Сойера Санкт-Петербург. Ржавых гвоздей и железок в том соре больше, чем бантиков в хоре. «Прочь, хулиганы зубриловых скул! Вы мне не дети, и я не Джамбул!» — так я в пустых коридорах каникул скверной цитатой воскликнул. В фартуке белом и в валенках негр утром воскресным метёт пыльный сквер, фыркает шлангом, кусты поливая, сленгом бубнит заклинанья: «Пусть зеленеет на дикой скале, пусть он летит на безумном коне, вслед вам осклабясь бешеным ликом! Сорри, донт меншн ми лихом!»«Когда б не пламя быстрого костра...»
Когда б не пламя быстрого костра, в моём мозгу пылающее едко, вокруг меня росла б одна попса — и даже чернокудрая соседка меня б от этой доли не спасла. Господь даёт сильнейшему простор. Простые люди тянутся к простому. Зачем в тумане светит мой костёр? — Они на пять шагов нейдут из дому. А между тем, я весел и хитёр. Когда б не зимняя любовь Творца, повсюду возводящая сугробы, на быстром счастье моего костра соседка чернокудрая давно бы растаяла бы и дала б дрозда.«Была слаба моя молитва...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Была слаба моя молитва, слепа была моя вина. Ты памятник себе воздвигла. К его подножью привела меня чуть видная тропинка. Везде безумствует зима. На пьедестале ты гранитном метелями заметена. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. — Метёт декабрь – и ты за ним летишь, покорная, как эхо, и неподвижно в тучах снега сквозишь над безднами равнин. И я такой же, – ещё хуже: я космос созерцаю вчуже и делаю брезгливый жест, не думая, потусторонний, — и репликой неосторожной мараю жизнь свою и честь. Кому пример, кому наука или религия кому-то, допустим, в космосе видна. Выглядываю: вот те на! — В окне одна мелькает вьюга. Опять зеваешь ты, подруга? Налей-ка мне ещё вина.«Налетела тучка на Киклады...»
Налетела тучка на Киклады, затуманила их дальний танец. Повторяющиеся сигналы, потерявшиеся над лугами, всё мигали, по волнам скитаясь. Всё равно никто б их не увидел, даже если б не было и тучки. — Ученик, учёный и учитель влипли в свои пухлые подушки. В знаниях засели теоремы, в них заснули залежи застоя. На горизонтальные деревни ночь, как душный обморок сирени, наползает густо слой за слоем.«Как неподвижно и странно...»
Как неподвижно и странно, выглянув из-за угла, в тёмные окна веранды смотрит немая луна. Тёмный овраг за забором движется через забор. Пенной черёмухой полон, входит на белый газон. Лишь угловатые тени резко лежат на столе, тесно стоят у постели, густо висят на стене. Бабушка, дедушка, мама — все почему-то ушли. В доме так пусто и странно, нет ни единой души. Спрячься тихонько в кроватку, глазки скорее закрой. Близко решенье загадки — только не знаю, какой.«Я смотрю на небо – там теорема Пенроуза...»
Я смотрю на небо – там теорема Пенроуза. От ночного чуть ветерка шелестит берёза, выделяясь узорчатым силуэтом на бледном фоне. Не стемнело ещё, да и вряд ли совсем стемнеет. Тем не менее, кроме тьмы, как будто и тем нет для раздумий и наблюдений в летнем поле. Гравитация плюс квантовые эффекты, две иль три константы (среди них – скорость света), — «всё премудростью сотворил», повсюду логика… Выделяясь на гладком фоне лёгким трепетом, куст сирени робко противится её требованиям… Но смотрю на небо – а там теорема Хоккинга.«Мальчик, забудь суеверья и страхи...»
Мальчик, забудь суеверья и страхи, выплюнь знаки культур. Станешь простым сталкером свалки — сгинут и жрец, и колдун. Пред пожирающим истуканом смело гляди пастухом. Ржавый будильник держи чемоданом, будку держи сундуком. Кончен тяжёлый парад парадоксов, гаснет последний контраст: яркие россыпи пёстрых отбросов в бледном мерцании царств.Две темы
1 Я слегка завираюсь, я, может быть, пьян, только вот что хочу вам сказать: с одинокой скалы в мировой океан, разумеется, можно поссать. Только что это даст, кроме глупых понтов? — Ничего ровным счётом не даст.— Не смутишь ни акул, ни медуз, ни китов в бесконечности водных пространств. Нет нужды выводить прямым текстом мораль, вам понятен смысл притчи моей.— Лучше сесть на какой-нибудь крепкий корабль, помолиться и плыть средь зыбей. И смирение будет вознаграждено: ты причалишь к волшебной стране, бесконечно сквозь пляшущее решето будешь золото мыть, как во сне… 2 А вот если наполнить водою стакан и пометить молекулы в нём, а потом с одинокой скалы в океан — так сказать, в мировой водоём — его вылить и тщательно перемешать, радикально глубины взмутив, и подальше – в другое вообще полушарие земли – оттуда уйти… — Вам становится ясно, к чему я клоню: то есть если мы вновь зачерпнём, мы молекулу меченую хоть одну обнаружим в стакане своём! Этой притчи потоньше уже будет мысль, да и оптимистичней, чем той… Мы стоим на скале в ореоле из брызг и в туманах блуждаем мечтой.«По количеству мячей...»
По количеству мячей дело близится к ничьей. На трибунах хоровод строят пёстрые подруги. Вяло дёргает хоругви бестолковый ветерок. Вяло треплет ураган бестолковые знамёна. Стоит выпить двести грамм — алкогольный лик зелёный в церкви телевизионной выползает на экран. Так и надо всё подряд. Так и мы бы, маргиналы, на трибунах и полях ничего не проиграли, на моргающем экране не особенно поняв.«Осенней аллеей – унылой, пустынной...»
Осенней аллеей – унылой, пустынной — гуляет последний – трусливый, постыдный, противный, сопливый – художник. А все остальные, отважны, надменны, проносятся мимо – успешны, победны, — не зная мучений ничтожных… Итак, повторяю: проносятся мимо, теснясь и теряясь, проекты, проблемы, тщеславны, нелепы, надменны.. Мелькают фрагменты, в которых не видно ни тайны, ни смерти, – лишь мелкое пиво покрыто нетленною пеной. Иными словами, как вечно, так ныне мучительно мечутся все остальные, поспешны, скучны и тщедушны, в то время как рядом гуляет на ощупь от ясных сомнений ослепший художник весенней аллеей цветущей.«Дремал бы себе до полудня...»
Дремал бы себе до полудня.— Ан нет, что-то гложет и жжёт. Сквозь пыльные стёкла июля заглядывает солнце в рот. Скажи – ты всё видела – разве так глуп был мой вид и вопрос, когда в перевёрнутой фазе мне так вдохновенно спалось? Мне снилась пустая деревня. Ноябрь. Серый дождик идёт. Я встал, чтоб использовать время, которое тоже идёт.«Я истины касаюсь мыслью...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Я истины касаюсь мыслью почтительно. Почти без слов.— Так следопыт шифровку лисью на свежих ярусах снегов прочитывает – будто ноты нанизывает на струну. Я удивляюсь: ну и ну! — мои открытия не новы! Зачем кругами я иду и в ямбомерную волну вправляю бестолочь природы? . . . . . . . . Кому мораль, кому наука иль философия кому-то, допустим, в жизни не нужна. Однако же ведь что-то нужно? — выглядываю: в поле вьюжно, и невидимкою луна…Что в имени?
Ника, то есть победа, она – она мне даётся на всех случайных путях. Но она двусмысленна, как волна, набегающая уже с намереньем вспять. Догоняю тебя, говорю: die! Не подумав, ты тормозишь и даёшь. В моём имени тебе слышится лай. Ты пугаешься: это lie, то есть ложь.«Посмотри, возлюбленная, на цепких птиц...»
Посмотри, возлюбленная, на цепких птиц, оцени их воздушно-рептильный тип, объясни их щебет и писк. Ветерок ветвей, зыбкий свет листвы, — ты представь, что там обитаешь ты в суете всеобщей весны. На путях опасностей и забот зашифрован каждый мгновенный полёт и понятен – наоборот. Ты представь, что нет никаких обид — только диспозиция мелких битв, только птицы – их взгляд и вид.«Интриганы каверзные злы...»
Интриганы каверзные злы, хищные воители заядлы. В тучах подступающей грозы копятся смертельные заряды. Царь угрюмо жмётся в уголке, топчется, томится и тоскует. А царица всюду на доске держит, контролирует, рискует.«Теперь без сил я еле мыслю...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Теперь без сил я еле мыслю, переползая сети строк. Вдали чернеется лесок. Но не могу пуститься рысью на лыжах – и шифровку лисью читать на ярусах снегов. Собаки головы кладут мне на усталую коленку. Передо мной стоит тарелка. Часы задумчиво идут. Трещит камин. Я выпил стопку — и рифма вкралась между фраз. Какую же на этот раз она придумает уловку? Нет, я подстерегу плутовку… Словно трагический актёр, Мелецкий снял с гвоздя двустволку и ветошью замок протёр.«Ошибочная движется дикость...»
Ошибочная движется дикость, как облако в углу небосклона. Накапливается в оптике жидкость, как будто у Будды глаукома. Бамбуковая рисуется хижина, где кроется робкая надежда. Высовывается пробная фишка и прячется смущённо-поспешно. Мусолится мыслимая плесень, съедающая остатки контрастов. Размытая голубоватая зелень размазывается поверх слабых красок. И это всё, – я мельком догадываюсь,— затеяно – кем-то – не затем ли, чтоб я зашифровал эту гадость и вы бы ничего не заметили?…«В травостое скрежет стригущих стрекоз...»
В травостое скрежет стригущих стрекоз подсекает мысли мерцание. Тянется святое бесстыдство цветов, выставив цветное бесстрастие, — выставив бесчувственный аромат в инородный мир вожделений, как сокрытый в капсуле астронавт в неантропоморфной вселенной… Вот и ты безгрешен, поэт. Вот и ты, тайный безучастный участник, в роскоши звучаний остался святым при своих безмолвных задачах.«Кто ветошью протёр замок...»
[фрагмент поэмы «Нескончаемые сетования»]
Кто ветошью протёр замок над бестолочью мирозданья, тот действовал рационально и лучше выдумать не мог! Зачем почтительно и дерзко поэт глядит издалека в глубины сердца – пленник текста, чернорабочий языка. Он – раб, прикованный к кастрюле. Он – стриж, мелькающий в лазури. Он – швед: пред ним его канва: в душе, в природе и в культуре катятся ядра, свищут пули, — повсюду вечная война. Повсюду зависть и вражда. Нет ни поэзии, ни тайны. Угрюмой тучей жизнь прошла. А ведь ещё совсем недавно… Скажи-ка, дядя, ведь недаром, переходя росистый луг, я замирал, спеша к наядам, на плеск и смех, на знак и звук?.. — Ответа нет. Ногой ни в зуб, ни в глаз, ни в бровь не попадаешь. Всю жизнь мою сковал испуг с рожденья иль с зачатья даже… И я не знаю, что там дальше, ищу грибы средь леса букв.«От меня не осталось секретов...»
От меня не осталось секретов в твоей жизни, моей и чужой. Угости же теперь сигаретой, выпьем водки, читатель родной! Что тебе рассказать? – Погадаю. Покажи молодую ладонь. Да, не очень она молодая. Так что думай, читатель родной. Не хотелось бы обескуражить. Ты уверен в себе? – Так изволь: вижу слабость твою, вижу тяжесть, вижу хаос, читатель родной. Эта тяжесть, что копится в звёздах, равновесные строит миры. Эта слабость, пролитая в космос, вечно движет загадку игры. Этот хаос – фрактал безмасштабный, беспонтовый фигляр площадной. Он же наш и палач беспощадный. Всё так просто, читатель родной.«Мы спорили о вкусе всуе...»
Мы спорили о вкусе всуе. Должна же быть в искусстве тайна. В искусстве мы трудились втуне: оно сторонится старанья. Но я и в этом не уверен. Льёт дождь. Он будет лить и завтра. Сижу и зябну, как Сальери. Пью в одиночку, без Моцарта.«Ты помнишь – извергся Везувий...»
Ты помнишь – извергся Везувий, Неаполь дрожит, чуть живой. А в небе – охвостья акклюзий, — и снова погода и зной. И знай, что всё будет забыто, и – как бы ни возмущена, — но будет любая орбита аттрактору возвращена.«Запылало – потухло...»
Запылало – потухло Появилось – исчезло. Возопило – затихло. Возомнило – смирилось. Иллюзорно – реально. Справедливо – бесчестно. В диссиденте лояльность. В обскуранте терпимость. Только старая яблоня заскрипела от ветра. Налетел слабый дождик на увядшие клумбы. Только ночь, только лампа. Только рюмка портвейна. Только печка – и что ещё? — только звуки и буквы.«Наверху застыли в плоском танце...»
Наверху застыли в плоском танце сосны звёзды сосны звёзды сосны, а внизу гуляют флоксы, астры, розы флоксы астры розы флоксы. Все они друг другу братья, сёстры — астры сосны розы звёзды флоксы. Ну а мы пред Богом разве монстры? — просто овцы, козы, козы, овцы.Тридцать девять комнат
1 Вот комната моя. В ней медленный рассвет ощупывает каждый призрачный предмет. Я просыпаюсь, вглядываюсь: там очки, часы, стакан… 2 Вот комната моя. Здесь на иконах пыль. В лампаде треснувшей засох давно фитиль. Старинные тома лет, может, сто не открывал никто. 3 Вот комната моя в сплетеньи разных сил среди пустых пространств, галактик, чёрных дыр, пульсаров, квазаров, нейтронных звёзд, а тут мой слабый мозг. 4 Вот комната моя. Входи, чего застрял. Вчера с Ахметьевым мы пили здесь «Кристалл». Закуски мало. Впрочем, не беда. Садись-ка вот сюда. 5 Вот комната моя стоит среди миров. Она сама есть мир. Она – мой мирный кров. Зачем, куда я из неё бегу? Что там я обрету? 6 Вот комната моя. Она сама есть мир. Среди туманностей, галактик, чёрных дыр пульсаров, квазаров, кротовых нор широк её простор. 7 Вот комната моя. В ней шесть иль даже семь квадратных метров. – Что ж? – мне измерять их лень. И незачем. Вон шкаф измерил раз да и забыл тотчас. 8 Вот комната моя. Далёкие края меня влекут. Уйду в дубравы и поля. Не надо слёз. Оставь лишь два рубля. Я всё начну с нуля. 9 Я всё начну с нуля. Оставь лишь два рубля. Не надо слёз. Уйду в дубравы и поля. Меня влекут далёкие края. Там комната моя. 10 Вот комната моя среди чужих квартир. Как много там жильцов, я здесь жилец один. В подъезде лифта шум и кухонь чад. И во дворе кричат. 11 Вот комната моя. Нормальный интерьер. Куда уютней, чем у Джона, например. Картинки на стенах – не авангард, не сюр и не соцарт. 12 Вот комната моя. Смотрю: какой-то мрак. Вчера с Киясовым мы пили «Сълнчев бряг» и обсуждали новый детектив. И что теперь? я жив? 13 Вот комната моя средь плоти и костей, но я не вижу в ней ни потолка, ни стен, ни пола: обернуться не могу, прикованный к окну. 14 Вот комната моя. О чём ты загрустил? Ну, блядь она. Ну. изменила. Ну, простил. Смотри сюда. Держи вот этот текст и всунь его в контекст. 15 Вот комната моя. Я не хозяин ей. Там в зеркале живёт старинный некий змей. И каждый раз, едва туда войду, я с ним веду войну. 16 Вот комната моя. На грани бытия она висит. И здесь мне нравится, хотя сдавило грудь. Она – моя змея. Пьёт душу из меня. 17 Пьёт душу из меня. Она – моя змея: сдавила грудь. И здесь мне нравится, хотя она висит на грани бытия. — Вот комната моя. 18 Вот комната моя. Но на худой конец её сменял бы я на некий, пусть, дворец. Какая разница? – мне всё равно, лишь было б там окно. 19 Вот комната моя: шкафы, диван и стол. Несметным барахлом забит её простор. Всё мило мне: здесь всё свой смысл хранит и сердцу говорит. 20 Вот комната моя. Она – мой кабинет. А где же ванная? где кухня? туалет? где антресоль, чулан, прихожая? где лоджия? 21 Вот комната моя, в ней гости и вино. Две дамы курят «Мор», пуская дым в окно. Движенье, смех. Олег прочёл эссе. И вновь налили все. 22 Вот комната моя. Войдя в её простор, сажусь я сразу на диван и «Беломор» закуриваю, даже не раскрыв окна. – Ну что? я жив? 23 Вот комната моя стоит. В ней всюду прах. Я где-то далеко: в скитаньях иль в бегах. А всё-таки нет-нет да и зайду, прилягу там, вздремну. 24 Вот комната моя. Стеная и моля, смотрю в окно. Там в тучах всполохи огня. Сейчас, сейчас разверзнется земля, грядет мой Судия. 25 Грядет мой Судия. Разверзнется земля. Сейчас, сейчас… Там в тучах всполохи огня. Смотрю в окно, стеная и моля. Вот комната моя. 26 Вот комната моя. Никто из разных лиц ни разу не перелистал её страниц. А хоть бы и перелистал – так что? — с тех пор прошло лет сто. 27 Вот комната моя. Широк её простор. Изящно у окна две дамы курят «Мор». Киясов взял гитару, гладит гриф и сердцу говорит. 28 Вот комната моя качнулась от толчка подземного. И трещина вдоль потолка. И с полок на меня в единый миг упали груды книг. 29 Вот комната моя. Она озарена янтарным блеском. За окном цветёт зима: мороз и солнце… солнце и мороз… И в чём тут парадокс? 30 Вот комната моя, и там в который раз немало я пишу красивых всяких фраз. Но скучно мне, и грязен мой халат. И вянет мой талант. 31 Вот комната моя. Разбросано бельё. В шкафу и под столом какое-то гнильё. Кто заходил, валялся тут и спал? чего он тут искал? 32 Вот комната моя. Тебя простыл и след. Поэтому она напоминает склеп. Напоминает? – что за странный эллипс? Неужто я воскрес? 33 Вот комната моя. Неужто я воскрес? Я слышу в зеркале какой-то странный треск. Давно ли мы… Тебя простыл и след. И вспомнил я свой склеп. 34 Вот комната моя. В ней много было дел. Я там читал, писал и просто так сидел, и плакал, и валялся на полу, и грезил наяву. 35 Вот комната моя. Твой след давно простыл. Твой запах улетел, и я тебя простил. Смотрю в окно на стаи чёрных птиц. И в чём тут драматизм? 36 Вот комната моя плывёт в рассветной мгле кругами тихими в бессонной голове не знаю чьей, – в отчаяньи прильнувшей, прилипнувшей к подушке. 37 Вот комната моя меж небом и землёй. Там иногда сижу, то благостный, то злой, меж потолком и полом. Ну и что? — Мне иногда смешно. 38 Вот комната моя: сырой промёрзлый склеп, в котором я лежу, не знаю сколько лет. Два гроба там и сверху чёрный памятник и пышный папоротник. 39 Вот комната моя. Не помню ничего — что там и как лежит, когда и где чего. В последний раз я был там или нет? — Не нужен и ответ.Примечания
1
Василий Радзевич, Мура Пшенишняк.
(обратно)


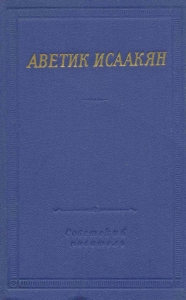
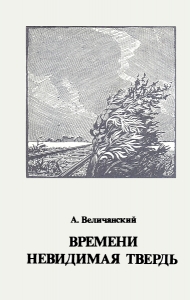

Комментарии к книге «Что касается», Николай Владимирович Байтов
Всего 0 комментариев