Журавли
А я сегодня видел журавлей. Они, построясь в клин традиционный, наполнив тишину крылатым звоном над пестрорядьем леса и полей, летели молча в сторону заката. И я, оставив в борозде лопату и от земли не отряхнувши рук, взбежал на холм следить за их полетом. Махать крылом — нелегкая работа. Но древнее, загадочное что-то и вечное почувствовалось вдруг. Да, я смотрел сквозь годы и века, сквозь временные связи и пространства. Пролетов журавлиных постоянством был восхищен: — Счастливо вам!.. Пока!..— И вдруг увидел четко: там, вдали, где поднимался горизонта гребень, не двигаясь, зависли журавли и крыльями раскачивали небо. Мне показалось: небо там прогнулось и стало много выше и светлей. И вот с холма я окунулся в юность, в землянки, в грязь, в деревни без огней. А немец прет! Гудит аэродром. Взлетаем, строим клин традиционный. Бомбим, бомбим немецкие колонны. А небо — выше, чище под крылом. Война!.. И тут же, омрачая свет, вошла тревога нынешнего века, где снова угрожают человеку косые тени ядерных ракет. А человек рожден, чтоб жить и жить, любить, работать — золотая доля. И слушать шум тугих колосьев ржи, и видеть журавлей в осеннем поле, и нянчить внуков… Небо было чистым, прозрачным и чуть-чуть голубоватым, за лето отгоревшим. И к закату летели журавли. Подобно искрам сверкали крылья в солнечной дали. Спасибо вам! Спасибо, журавли, за ваш полет! Уверенное чувство, чуть тронутое солнечною грустью, меня переполняло, как прибой. Жизнь беспредельна. Рано ставить точку, раз журавли спокойною цепочкой бесстрашно пролетают над землей.Дорога
Кого-то автобус Позвал вдалеке. Кому-то в лесочке откликнулось эхо. А я все стою с дипломатом в руке, смотрю на дорогу, которой приехал. Не знаю, не знаю… Но что-то не так. Я ждал этой встречи с таким интересом. А вышло все просто: билет за пятак и десять минут в дерматиновом кресле. Я вымерял всю ее тысячи раз. А может, и больше — считать не захочешь: в распутицу, в зной и осеннюю грязь, в крещенский мороз и февральские ночи. Закрою глаза — и пошел под уклон, в овраге — на мостик, служивший без срока, а там — через лес, через поле — в район, и вот она — школа с крылечком высоким. Как сладок с горчинкою памяти дым и ярки те дни: не забудешь вовеки. Открытие первых земных величин, открытье себя и в себе человека. Бывало, зимой угадаешь в пургу: идти невозможно, а встанешь — и крышка. Себя ободряешь: ведь ты — не мальчишка! И снова шагаешь по пояс в снегу. И каждый не просто дающийся шаг к взросленью и вере в себя приближает… Теперь это — десять минут и пятак. А лучше ли это? Не знаю, не знаю…«Судить-рядить…»
Судить-рядить — для нас не ново. Умеет русский человек дать прозвище, придумать слово: как припечатает — навек! Мой прадед (пусть же ему пухом земля) за силу кулака в народе прозван был Обухом. Забыли имя мужика. Был крепок прадед. Не обсевок, не из разинь — в живом уме. Пять мужиков и восемь девок поднять и выкормить сумел. Ладонь — лопата. Грудь — столешня. Глаза тяжелые — в упор. Седой, косматый, лешим леший. Попробуй с этаким поспорь… Застрянет воз на косогоре: мелькает кнут, мужик орет. Обух присмотрится и вскоре на недотепу чертом прет. Кнут пополам. Осмотрит клячу. Возницу выругает: «Э-эх!..» В оглобли встанет, раскорячась, воз раскачает — и наверх. В народе крепко любят силу, но по уму и делу — честь. Обух — косить, все шли, косили. Он по грибы — деревня в лес. Вся жизнь его была открыта, как был открыт соседям дом. К нему бежали за защитой, шли за советом и судом. Не ратоборствовал — не доля, и атаманом не служил. Из чернолесья делал поле, болота тощие сушил. Пять мужиков — тут не подремлешь. Строй, обживай — с тебя весь спрос. Женил сынка — дай дом и землю, потом к земле давай покос. Не хвастаясь сермяжной силой, не полагаясь «на авось», он к полю хлебному России сумел добавить пять полос… Обуха нет в живых давненько, а на земле не стерся след. Пусть не Россия — деревенька оберегает память лет. Услышишь — и не веришь слуху: ведь через столько лет, друзья, еще живут «покос Обуха» или — «Обухова земля».«Всю ночь…»
Всю ночь откашливался гром. На окнах вспыхивали шторы. И по стеклу, и за стеклом струился шорох, шорох, шорох. Но явственно со всех дорог, от рощ, полей, от грядки каждой катился облегченный вздох с восторгом утоливших жажду. К рассвету навалился сон, сместив привычные границы. Так материнская ладонь ложилась в детстве на ресницы… А утром не было зари и солнце потерялось где-то. Но все живое изнутри ликующе лучилось светом. Исчез, как дым, давящий зной. Неторопливо, неуклюже шел день, от радости хмельной, довольно шлепая по лужам.«Экзамен времени?..»
Экзамен времени? Наверно. Совсем подчистив закрома, свои последние резервы на оборону шлет зима. Опять все лужи застеклила, деревьям нашептала сны. А днем заплачет перед силой ее величества — весны. Спешат за солнечным потоком, подвластные тревоге дней, толчок ростка, движенье сока и вздох разбуженных ветвей. Не переспоришь гимн весенний, земной не остановишь шар. В широком мире потрясений живет раскованней душа. В ней — заостреннее причастность и к трубной песне лебедей, и к человеческому счастью, и к человеческой беде.Высота
Дух захватывало невольно, только глянешь вниз с колокольни. Сердце, где ты? Лечу среди птиц. Облака плывут у ресниц. И, казалось, немыслимо выше: дым из труб, деревенские крыши далеко под тобою, там. Открывались такие дали! Мир качался и плыл. Не тогда ли поманила нас высота?.. Высота!.. Ты бежишь по кочкам. Пузырем на спине сорочка. А модель за витком виток режет небо наискосок. Высота!.. Строевой — до пота. Подвело животы учлетам. Только сердце твое поет от короткого слова: — Взлет!.. И смешны колокольни стали, если крылья твои из стали. Сразу видишь Европу и Азию. Выше только горит звезда. — Что с тобой? — Ну, хотя бы разик вровень с нею, наверх, туда! …Три!.. …Два!.. …Пуск!.. В дюзах пламя — жаром. Ты далек от земного шара. Рядом звезды летят и тают. — Сердце? — Я с Луною на «ты». …Будь же вечной, жажда святая покорения высоты!Зарницы
Желтела рожь, сбивались в стаи птицы. Ночь напролет тревожно, как призыв, все вспыхивали дальние зарницы сюда не торопящейся грозы. А в свете их, в короткий промежуток, распахиваясь, продолжали звать глубокие и близкие до жути такие откровенные глаза. Не верилось, не понималось просто, что счастье — только руки протяни… Не дозвалась. Ушла по сухоросу неутоленной, жаждущей земли… Бежать бы вслед, упрашивать остаться… Когда зарницы дальние дрожат, мне кажется, что это бьется счастье, которого тогда не удержал.«Ночь — впереди…»
Ночь — впереди, ночь — позади, ночь — маскировочным тентом. Патрульный окрик. Штык у груди. Фонарик по документам. Дождь на ощупь, дождь наугад. Шинели шеи мозолят. Скользкий булыжник рубит нога новенькою кирзою. Молчит старшина. Молчим и мы, друг к другу жмемся, салаги. Гудок паровоза из сочной тьмы. Команда: — Прибавить шагу! Сорок — в первый. Сорок — сюда. Скрипят у теплушек трапы. Забота — одна, и беда одна, и поезд идет на запад.Черемуховый вечер
Льет полусвет черемуховый вечер, прощально осыпая лепестки. Иду в него. Все кажется, я встречу виновницу тревоги и тоски. Ту девочку из школьной перемены, из сумерек вторых счастливых смен, что закружила ласточкою первой в мальчишечьей распахнутой весне. Темнели палисадники смущенно. Доверчива была ее рука. И весь поселок в кипени черемух с рассветом розовел, как облака. Он поднимался над знакомым краем, он излучал неповторимый свет. И вместе с ним, от счастья замирая, мы плыли в бесконечной синеве… Неправду говорят, что время — лечит. Но правду, что беду — ведет беда… Когда цветет черемуха, на плечи ревнивые ложатся холода. Я лишь рассудком принимаю тропы, ушедшие в немыслимую даль, в осклизлые холодные окопы, в транзитные глухие поезда… Вступаю в ночь, в ее прохладный омут, но сердце не умеет не искать. А лепестки, упавшие с черемух, все гуще оседают на висках.Первый прыжок
Открытый люк — и пустота под ним. И нет опоры: воздух, свет и дымка. А там земля — со всем своим земным — переводною детскою картинкой. Игрушки-села, ниточки дорог, посевов и лесов цветные пятна. Перешагни невидимый порог в себе самом. Так просто и понятно. Натянут каждый нерв — нельзя сильней. Живое тело каждой клеткой, порой, всем опытом, инстинктом, кровью всей противится, с твоим решеньем спорит. Сжимаешь зубы. Сам себе: …два…три! Бросаешься, глаза закрыв, как в прорву. И все, что есть и было там, внутри, срывается и камнем давит в горло. Невольно — ах! А ветер бьет в лицо. Где небо? Где земля? Бросает, крутит. Рукой окостеневшей рвешь кольцо. И через вечность — встряска парашюта.«И по памяти — черта…»
И по памяти — черта, и на сердце — вмятина. Он, Чита моя, Чита. Госпиталь. Приятели. Обошла старуха смерть, а рубцы — обносятся. Только с Гитлера теперь вдвое больше спросится… По утрам — из печек дым. Солнце сушит лавочки. Тротуаром дощаным моционю с палочкой. Без нее бы мог. Порой так мешает, бросил бы. Но она мне как пароль, лучше всяких пропусков. Патрули чеканят шаг: кто, мол, там с девчонкою? Летчик с палочкой? Вот так — топайте сторонкою… По ненастью от тоски заняты наукою: вновь планируем броски Конева и Жукова. Артиллерии гроза где-то в сопках клюнула. Сразу — строгие глаза: вспоминают, думают… Мы успеем, ни черта, к главному пожарищу. А тебе — поклон, Чита! Пропуск мой — товарищу!Лётчики
Отбомбились… Сели… Зарулили… И еще в своем не откипев, мимо замолчавших эскадрилий летчики шагают на КП. Осторожно двигаются. Вроде б пробуют, а как она, земля? Не болтает? В вираже не ходит? Можно топнуть? Ноги не скользят?.. От подъема — и до сей минуты километр по ней и тот бегом. А над нею в огненном маршруте сколько их промчалось под крылом? Летчики над ними, стиснув зубы, проходили сквозь зенитный вой. Ожидая, а возьмет да врубит в бомбы или баки за спиной… Воспаленно щурятся от света. Солнцем их глаза налиты всклень. Сложенные летные планшеты бликами стреляют в ясный день. Чуть вразвалку, скинув шлемофоны, ко всему вниманием полны, двигаются, словно после грома тишиной земли оглушены.Солдаты
Лежат солдаты после боя и в наступившей тишине не торопясь дымят махрою, забыв на время о войне. Разбросив руки, каски скинув, лежат, приняв домашний вид. А на немецкой луговине по-русски коростель скрипит. Направо — крыши. Черепица. На ней закатный луч — огнем. Ефрейтор сплюнул: — Заграница!.. И помолчал. — Переживем. И сразу в памяти невольно: ветряк, деревня, скрип телег — земля, где радостью и болью сердца прописаны навек.«Ходил. Курил…»
Ходил. Курил. И звал. Однако молчали печи бывших хат. Лишь одичавшая собака метнулась тенью в лопухах. Солдат не бросил пепелища. Он вытоптал траву вокруг, шалаш поставил для жилища и приволок ржавевший плуг. Вернулись женщины из лесу. Старик пришел на огонек. И пес калачиком пригрелся, как сторож, у солдатских ног.Полковник
Как маскхалат, на обелиске лежит пятнисто тень листвы. Склонил полковник низко-низко седую тяжесть головы. А он не кланялся железу. В тех роковых-сороковых он — без наград и без протезов — водил в атаки молодых. От Волги к Одеру и дальше могилами отмечен путь… Корявые култышки пальцев соломенную шляпу мнут. Нет, не успеть ему, пожалуй, не хватит времени и сил пройти дорогой битв, пожарищ и постоять у всех могил. Там плачут дождики косые. Плывет листвы печальный звон. Лежат защитники России, и в каждой — похоронен он.«У него на лице морщины…»
У него на лице морщины грубо выпахал оползень лет. Под романовскую овчину голова начала сиветь. На ненастье тревожат раны: смерть брала за горло не раз… Весь подавшись вперед, с экрана напряженных не сводит глаз. Там в кустарнике минных взрывов, задушив рукавицей стон, в луже крови на снежной гриве умирает вторично он… Зал застыл на едином вздохе. Но врывается в этот миг отголоском его эпохи не сдержавшийся вдовий крик. …Бред. Беспамятство. Пытки немцев. Лагеря, овчарки — не счесть. По ночам его душит Освенцим, по утрам поднимает месть… Да, артист, не видавший сраженья, не видавший того бойца, только силой преображения заставляет стучать сердца. Посерела на скулах кожа. В горле ком — проглотить нет сил… Он играет, чтоб быть похожим на солдата, что просто жил.Анкета
Читай построчно. Делай вывод. Сиди, домысливай ответ. А прямо б: жгла ему крапива босое детство или нет? А черный хлеб с крутою солью всегда ли шел через мозоли? Кого согрел? Когда и где? Кому и скольким одолжился? Какому идолу молился? Кого конкретно спас в беде? Таких вопросов нет в анкете. И не узнаешь между строк, как он живет с семьей? Как дети? И много ли друзей сберег?.. Вопрос — ответ. За строчкой — строчка. Полуоткрытье, полужест. Не человек, а оболочка на нераспознанной душе. Ответы — кратки. До полсотни. Построены в привычный ряд… А человек — он как высотка, которую не просто взять.Граница
Пусть она условная, но все же существует многие века, обозначив резкую несхожесть двух живых частей материка. Даже ливня родственные капли делятся на этом рубеже: те уходят в волжские объятья, эти ищут долю в Иртыше. Промелькнула каменная россыпь. В ручейке вода бежит чиста. Чувствуешь: уже стучат колеса позвонком уральского хребта. Где она? Ищи ее глазами… Теплый европейский ветерок облака казаней и рязаней гонит, как отару, на восток. Обелиск в лучах заката розов. Мир вокруг — и каменист, и крут. Только европейские березы нам навстречу в Азию бегут. Да косарь, не покосясь на грохот в спешке пролетающих колес, не спеша из Азии в Европу, как сшивая их, ведет прокос. Может быть, когда-нибудь случится, что по всей планете будет так, и нигде не будет на границах часовых, таможен и собак.Руки
Для дела, а не для парада живем. …В карманы пиджака он прячет руки, если рядом лежит холеная рука. Свои он называет «лапы». Шрам перечеркивает шрам… Тогда река рванула запань, ломая бревна пополам. А с баржами — буксир навстречу. Детишки, женщины… Потом он мог бы вспомнить ветер, вечер и перевал, покрытый льдом. А там, над пропастью, машина буксует и ползет назад. Дымится лед, дымятся шины. А в кузове — глаза, глаза… Он вспоминает неохотно, он никогда не говорит, как тонут тракторы в болотах, как рвется трос, как нефть горит… Всегда один бывает первым. Когда схлестнутся смерть и жизнь, когда отказывают нервы, такой находится: — Держись!.. В большой компании случайной, в толпе, шагающей не в лад, мы эти руки замечаем и почему-то прячем взгляд.Снегопад
Словно рябь на воде — то сильнее, то реже… Снегопад целый день тихий, ласковый, нежный. Никуда не спешит, никого не торопит. Беззащитен, пушист снег садится на тропы. Я люблю снегопад вот такой, беззаботный. Он меня, словно брат, провожает с работы. И пока мы идем, ожидаем трамвая, мы без слов обо всем говорить успеваем. Я устал, говорю, от себя, от начальства. Он в ответ — не горюй, все пройдет, не печалься. Сколько в жизни утрат? Сколько было тревоги? — Хочешь, я до утра замету все дороги? И опять — ни следа, начинай все сначала. Снегопад, снегопад, мне ведь этого мало. Тех дорог? Никогда ни единого шага — не предам, не отдам за великие блага. Я для них был рожден, там и смерть свою встречу. Жадно слушает он, соглашается, шепчет. Говорю: виноват, ты, дружище, не слушай. Это твой искропад растревожил мне душу. Видишь: мал мой успех. А хотелось так много: говорить ото всех, отболеть за любого… Обострением чувств, обещаньем надежды льется светлая грусть успокоенно, нежно.«Все рвусь…»
Все рвусь, но редко успеваю встать раньше солнца. Ночь как миг. И в ней горит, не выключаясь, зари привернутый ночник. А если все-таки удастся подняться в утреннюю тень, в душе, похожее на счастье, гнездится чувство целый день. Идешь пружинистой тропинкой, промытый свежестью насквозь. В объятья просятся осинки, березы не скрывают слез. От радости хмелеют птицы. Дымок цветенья над сосной. И сладко пахнет медуницей, и терпко — первой бороздой. Смывает зимнюю досаду едва наметившийся пир. И знаешь, что немного надо, а сердце просит целый мир.«Мне вспоминается деревня…»
Мне вспоминается деревня в час равновесья дня и тьмы, когда несуетно на землю нисходят сумерки зимы… Я четко вижу: мир старинный, часов замедленная речь. Стихали женщины, мужчины, детишки занимали печь. Невольно — в сторону работу, все недоделки — на потом. Еще несказанное что-то раздумьем наполняло дом. Гудел таинственно подтопок, метались блики на стене. А в сердце скрещивались тропы минувших и грядущих дней. Вставала правда за плечами: не изощряйся и не лги. Тогда значительно молчанье, вздох и касание руки. Смывалась всякая условность, все взвешивалось не спеша. И если появлялось слово, то обнажалась и душа… А мы — все наспех: любим, верим… Нет, не спеши включать торшер. Сядь рядом. Помолчим. Проверим, что за душой, что на душе.Ливень
Ликуя молнией и громом, он в настороженную тишь ударил конным эскадроном по звонкому железу крыш. Отяжелев, пошел работать с хозяйской щедростью, с умом и до седьмого сеял пота густым серебряным зерном. Потом притих. Дождинки тоньше летели. И оборвались. Внезапно появилось солнце, и вспыхнул ярко каждый лист. Но еще долго под окошком, себя до капельки отдав, совсем как в детские ладошки, в кадушку шлепала вода.Волк
У прорана, в глубине распадка, он лежит, забившись в краснотал. Глубоко под левую лопатку угодил губительный металл. Шерсть его ружейным пахнет дымом. Дрожь пронзает тело вновь и вновь. Он ушел, но гроздьями калины по следам его ложилась кровь. Здесь он был царем. По-царски — много крови проливал. Но пересек жизнью ему данную дорогу по своим законам человек. Волк глядит сквозь заросли малины, сквозь густые ветви ивняка. А в глазах его непримиримых затаилась смертная тоска. И волчата тут же, у прорана, ощущая страшный дух свинца, у него зализывают раны, наливаясь злобою отца.Лед-тощак
Было поздно судить-гадать, где и как потерялась гать… Всюду тонкий, на палец, лед, на три пальца поверху — снег, а под ними — болото ждет, жадно чавкает в глубине. Только шаг, единственный шаг,— с громом рушится лед-тощак. Не могу побежать вперед, не могу рвануться назад. А болото сосет, сосет, тянет, пучится на глазах, лижет мне патронташ и нож. До зубов пробирает дрожь… Где-то ветер прошел стороной. Тихо дрогнул вечерний мрак. И завыл мой пес надо мной, словно сердце рванул наждак. Ой, любовь моя, синий чад. Ой, судьба моя, лед-тощак! Закричись — вокруг ни души. До рассвета — сомкнется гладь. Вот и смерть по кустам спешит. То-то рада: подстерегла! Я сто раз от ее косы буйну голову уносил. Был доверчив, наивен, прост. Пред тобою я — чист и прав… — Ну, прощай, мой пес!.. Он подполз, мертвой хваткой вцепился в рукав. Упираясь в кочку, скуля, стал тянуть из болота меня… Опоздала, смерть, я не твой! Сапоги сняла — подавись!.. Я в лесу, на снегу, босой, но готов сражаться за жизнь. Буду жить, не считая лет: я собачьей болью отпет!«Пенную, клокочущую брагу…»
Пенную, клокочущую брагу выплеснуло разом из оврагов — безрассудно, яростно, хмельно. Цветоносным маем пахнет терпко. В пойме перепуганные вербы ощупью отыскивают дно. Половодьем света, блеском, гулом, каждою воронкой и волной и меня, как вербу, захлестнуло, замотало шалой новизной. Я хожу по тающим дорогам, я ношу нетающей тревогу, ожиданьем заливает грудь. Бьется в окна голубая птица, и туманов непросохших ситцы ночью мне покою не дают. На рассвете жарко тянет вальдшнеп, крыльями разбрызгивая высь… Хоть на миг забудь, что будет дальше, но весне и сердцу подчинись.«Не девушке ли в скупости сердечной …»
Не девушке ли в скупости сердечной я сделал зло, не понимая зла? Не роще ли редеющей? Не речке ль, что, обмелев, до моря не дошла? Не замутил ли правды пустословьем? Не получил ли что-то не в черед? Не растоптал ли редкое гнездовье той птицы, что сегодня не поет? Когда уверен, что не тронут грозы, и ты непогрешим, и чист зенит, легко пройти, и не заметить слезы, и отвернуться сердцем от обид… На росстани дорог стою, как витязь, вполне прозревший, без меча и лат. Кому я сделал больно? Отзовитесь! Откройтесь — перед кем я виноват. Без скидок на условия и время, все тот же — не силен, не знаменит приму вину — мучительное бремя, и постараюсь честно искупить.Рапана
Приложи ее к уху и стой: в многослойном приглушенном хоре ты услышишь, как бьется прибой у нее в перламутровом горле. Сколько лет с безделушками в ряд в этой комнате, тихой и сонной… Как стеклянные, волны звенят, и ревут штормовые муссоны. Слышен склянок отчетливый бой, скрип грот-мачты в безбрежном просторе. …Я вот так же наполнен тобой, как рапана пронизана морем.«По-летнему зори лучисты…»
По-летнему зори лучисты, и август уйти не спешит. Но первые желтые листья срываются тихо с вершин, на травы в измятости волглой ложатся к подножью берез. Все дни своей жизни недолгой прожили они на износ. Все лето ни грозы, ни ветры, ни ливней тяжелый накат не смяли их, рвущихся к свету, тянувшихся вверх, в облака. Царапнет тревогою острой паденья печальный обряд. Не просто живому, не просто уйти, не познав сентября… Срываются листья покорно и падают — жизнь протекла,— бросают на отчие корни последние капли тепла.Новогоднее
…Слушай, сделаем иначе: сядем в поезд и — на дачу. Сказка ночи, тишины. Что возьмем? Консервов банку, чаю, хлеба полбуханки и кусочек ветчины. С электрички в полвосьмого — прямо в юность, в лес сосновый, полный шорохов и снов. Как снежком запахнет вкусно! А какая воля чувствам: ни огней, ни голосов. Я уверен: будешь рада походить тропинкой сада раз и два. Куда спешить? Шаг упруг. Сильнее плечи. И тебя коснется вечность очищением души. Постоим под синей бездной, вспоминая строй созвездий, позабытых так давно. А когда-то изучали, уходя в поля ночами после взрослого кино. А потом растопим печку, на столе пристроим свечку, стол накроем без хлопот. Без речей, без шумных тостов, откровенно, тихо, просто вспомним весь прожитый год… А какое пробуждение! Утро словно день рожденья. Снегом щеки обожжет. Днем уже знакомой трассой мы вернемся, как из странствий, в новый город, в новый год.Вислянка
Режут ветры здесь бритвами острыми. Давит слезы из камня мороз. И лежат снеговые простыни до горячих июльских гроз. Но на скалах, над козьими тропками, на обрывах кремнистых пород уцепилась вислянка неробкая, зеленеет и нежно цветет. И, обжившая голые гребни, где идут ниже ног облака, сине щурится в дикое небо изумленною каплей цветка. Щедро вымыта, скупо согрета, не поступится верою в лето, не уступит гранитный карниз. Позавидуешь скромности светлой, позавидуешь жадности этой — каждой клеткой держаться за жизнь.«Дай мне, жизнь до самого заката …»
Дай мне, жизнь, до самого заката, как всегда ходил я, дошагать: легким, крепким и молодцеватым, слышимым для друга и врага… Чтоб была незыблемой Россия, чтобы на земле не меркнул день, все я отдал — молодость и силу, ничего не требуя взамен. Падал навзничь, но не на колени. И горел, не покидая строй, рядовой большого поколенья, беспощадно смятого войной. Мы в горниле бойни выжгли страх свой, поднялись у смерти на пути. Как же мне пред молодыми — дряхлым, сгорбленным и немощным идти? Промолчим о болях и обидах. Памяти — наш твердый шаг и след, чтобы те, кто вышел и кто выйдет, знали, как прошли мы по земле.Право сердца (глава из поэмы «Фронтовики»)
Вместо вступления
От взрывов вздрагивают нары. Песок с наката словно дождь… Я просыпаюсь, рядом шарю — ищу одежду, обувь, нож. Я помню: складывал все это здесь, в головах, и возле ног… Ни пистолета, ни планшета, ни шлемофона, ни сапог… Кричу и сам себе не верю: в землянке пусто, нет ребят. Плечом высаживаю двери и вижу: черно-красный ад. Разрывы. Грохот. Дым как вата. В земной коре глухая дрожь. Где самолеты? Где ребята? Куда бежать — не разберешь. Бегу, и падаю, и боком ползу. Кричу — беззвучен рот. А на меня заходит «фоккер», враз из обеих пушек бьет. Разрывы справа. А, промазал! Я резко влево — недолет. Я снова вправо: врешь, зараза!.. А он все кружится и бьет… Разрыв. Огонь. Ударом в спину взрывная бросила волна… …И просыпаюсь… Чертовщина!.. Опять ты снишься мне, война!* * *
Друзья мои, однополчане, товарищи-фронтовики, скажите, снится вам ночами война, рассудку вопреки?.. Нам всем одна досталась доля: перловый суп из котелка, с восьми — недетские мозоли и боли в сердце — к сорока. Все было так, а не иначе. Так будь ты проклята, война!.. …Фронтовики при встречах плачут. Не забывается она!.. Я столько лет молчал об этом. Чем оправдаться? Что я ждал? Все меньше нас на белом свете, кто в черном небе воевал. Нет, Не могу я быть спокойным, когда земле грозит беда. Здесь слово, как патрон в обойме, не будет лишним никогда.1
Таится, закрепясь, пехота, У нас, разведчиков, — аврал. Я из кабины самолета по целым дням не вылезал. Едва рассветные полотна окрасит густо киноварь, ты, вырулив на кромку взлетной, уже запрашиваешь старт. — Пошел! Рванется под кабину земля, навстречу устремясь. Упруго выгибает спину и, над тобой теряя власть, уходит в темень, словно тонет, в рассветный облекаясь дым. Ты в теплых солнечных ладонях, с землей расставшийся, один… О, власть над небом! Зов простора. Безбрежье, бьющее в упор. Грудь наливается восторгом, и сердце громко, как мотор… Но ты летишь. И все, что было существенным, самим тобой,— ушло немедля, отступило, осталось где-то за чертой. Ты весь — стрелок и навигатор, звериный слух и птичий глаз. По воле сердца чувства сжаты в кулак стремительный сейчас. Но ты — один. Стань невидимкой и все сумей преодолеть, чтоб цель — дорожкой фотоснимков лежала в штабе на столе… Глубокий крен на развороте. Большое солнце за спиной. Передний край. Уже пехота лежит прислушиваясь: — Свой!.. Но не помашет — для удачи, простого знака не подаст. Лежит себе. Зарылась, значит, в болота эти, в эту грязь. Готовится. Вцепилась плотно, в себе уверенная, ждет, когда на бруствер вскочит ротный и руку выбросит: — Вперед! Ударит час. Ударит скоро. Мы все готовимся к нему. Пехота ждет, а ты с набором идешь все выше в синеву. Навстречу движется не быстро земля, но дальше видит глаз. Передний край. Тылы фашистов. Два слова в полк: — Кончаю связь!* * *
Как высока цена мгновенья! Маршрут на карте проложив, ты знаешь время возвращенья — вернешься, если будешь жив. Шесть тысяч метров за минуту. Полет в пределах ста минут. Повторно собственным маршрутом не проходи: подстерегут. Разведчику, чему научен и приобрел на фронте сам, нужна особая везучесть ходить по вражеским тылам. В полете, далеко от базы, где помощи и связи нет, ты все предчувствовать обязан, предугадать, предусмотреть. И где бы ни был на маршруте, в начале и в конце пути, врага увидев, на минуту его во всем опередить… Но где б ни шел, везде, пожалуй, услышат, засекут посты. Весть о тебе, опережая тебя, уйдет в немецкий тыл. Фашисты рвут чехлы с орудий. Штабисты их — стоят у карт. И «фоккера» — на ветер грудью уже торопятся на старт… Взлетит разведчик — полк проводит его глазами. Как стена меж им и базою. И сводок — где он?.. что с ним?..— не даст война.* * *
Не тот стал немец. Был он круче. Он в небе спуску не давал. Теперь же многому научен и сам побаиваться стал. Поменьше стало спеси, дыму. Уловок стало — через край. Расставит танки, пыль поднимет: мол, на, разведчик, засекай. А там — не танки, а фанера. Не пыль — искусственный туман. Стрельбу откроет, чтоб поверил, чтоб записал его обман… Цель цели — рознь. Но если надо укрыть какой-нибудь квадрат, фриц не считает ни снарядов, ни «фоккеров» — на перехват.* * *
Как ни опасен, но привычен огонь зенитный по пути: ты можешь скорость увеличить, подняться, в сторону уйти. Ты волен в выборе маршрута, режима — все в твоих руках. Но уж над целью — не до шуток. Как встал — забудь про смерть и страх… Миную цель. Тяну мгновенья. Иду как будто стороной… И с разворотом, со снижением кладу рули на боевой. Фриц разгадал, да слишком поздно. Такого он не ожидал. Через минуту — вздрогнул воздух. Лютует враг. Гремит металл. С овчинку небо над тобою, разрывов дым, огни слепят. Ты молишь: только б не прямое, не по моторам, не в тебя… Зенитки злобно воздух рубят. По крыльям пробегает дрожь. Случись беда — пешком отсюда домой до базы — не дойдешь… Цель позади. Крути, сколь можешь, за пируэтом пируэт. Пусть вылезает фриц из кожи, паля зенитками вослед. Снижение… Скорость до отказа… Под солнце, чтоб ударил блеск в глаза зенитчиков. Не сразу они увидят, где ты есть. Теперь на юг, туда, к болотам, к лесным массивам, в тишину, где немец по своей охоте не побывал за всю войну… Цель далеко. Как фотоснимки? Как там АФА?[1] Скорей домой! А день стоит! Ни капли дымки, ни облачка над головой.* * *
Сел. Зарулил. У капонира — бригады техников черед. И тут же «виллис» командира тебя с открытой дверкой ждет. Земля родная. Неба просинь. Качает хмелем тишина. Шофер протянет папиросу и зажигалкой щелкнет: — На! Тут загордиться впору: что ты! Такая встреча! Только факт: весь труд твой, смысл и риск полета, расскажет снимками АФА. …А через час, сгибаясь круто, земля под крыльями летит. И вновь зенитные «тулупы» тебя встречают на пути… …Вот так, усталый, на закате прилег — планшет под головой. Поднял посыльный: — Срочно к Бате! Приказ — на десять дней домой! —* * *
Домой? Да можно ли поверить? Не розыгрыш? Вот так — домой?.. Едва закрыв штабные двери, я снова вынул отпускной. О, невесомая бумага, какую ты имеешь власть! В унтах, в комбинезоне, в крагах — перечитал — пустился в пляс… Тогда, в году сорок четвертом, воюй, пока ты жив и здрав, а отпуска или курорты гражданских не имели прав. Случалось, в маршевых, в попутных частях — отпустят на часок. Но чтобы так, на десять суток,— никто рассчитывать не мог. Не понял сразу, что не просто начштаба говорил со мной о матери с отцом, о сестрах. И вот, пожалуйста, домой!2
Все начинается с дороги, с пронзительной минуты той, когда у отчего порога ступеньки скрипнут под тобой. На вертлюжок закрой калитку. На отрочество оглянись. Дорог нехоженые свитки разматывать не торопись. Все взвесь, не сделал ли огреха? Пошел, а надо ли искать? А может, память горьким эхом до гроба будет окликать?.. Все начинается с дороги: удача, подвиг и вина. И первый выстрел по тревоге, и первый бой, и вся война. Да и судьба твоя — отсюда, и судьбы всех, ведущих бой… И в жизни есть такое чудо, как возвращение домой.* * *
Стою на станции знакомой. Оторопел: ой, как мала! В висках набатом: до-ма, до-ма! гудят, гудят колокола… Был полдень ласковый и синий. Дымились стрехи от тепла. Гряда оливковых осинок вдали качалась и плыла. Горели в солнечном пожаре водой набухшие лога. Как гуси серые, лежали в полях последние снега. Я шел и вглядывался живо, все схватывал в единый миг: фигуры, лица, взгляд тоскливый и чей-то шепот: — Фронтовик! Налитый смутною истомой весны и тающих снегов, шагал. Была дорога к дому — дорогой в первую любовь…* * *
Теперь уже не вспомнишь просто, когда и как, в какой из дней меня впервые беспокойство вдруг захлестнуло перед ней. Всегда хотелось почему-то быть рядом, слушать, видеть взгляд. А сам робел и в те минуты все делал глупо, невпопад. Мне все в ней нравилось: походка, корона кос на голове, и ямочка на подбородке, и глаз ее скользящий свет. А голос: стоило услышать средь голосов ее подруг, весна и голуби на крыше на память приходили вдруг. Так ласков был ее глубинный, гортанный, удлиненный «р»… Он снова песней голубиной припоминался мне теперь…* * *
С тяглом в колхозе было туго. И потому-то конь любой впрягался в воз, в постромки плуга, шел под седлом и под дугой. Коней отец мой знал отлично. В бригаде, раскрепляя их на летний срок, себе привычно брал необъезженных и злых. Так каждый год. Куда же деться, раз бригадир? Стоял на том… Ах, кони, кони-птицы детства, вы долго снились мне потом! От вас пришла — я верю в это — в минуты риска и огня та жажда скорости и света, что в небо вынесла меня. Конечно, было с непривычки страшненько подражать отцу. Но я доволен был, что кличку давал, объездив, жеребцу. На удивление колхозу, не так легки для языка, в строй Буцефалы, Карагезы шли вместо Сивки и Карька. И мужики толпой густою, бывало, встанут, как один, когда я медленно с уздою к такому черту заходил. Тот землю скреб, ушами прядал, под кожей зло катилась дрожь. Он норовил ударить задом — тут сдрейфь — вторично не зайдешь. Седлал, покрикивая твердо и лаской усмиряя зло. И заливала сердце гордость, когда я вскакивал в седло. Девичий взгляд. Мальчишья зависть. Душа распахнуто поет. И вот танцующий красавец из рук моих поводья рвет. А я отыскивал причину проехать раз, и два, и три по улице ее недлинной, у милых окон — посмотри!* * *
Я шел и думал, что меж нами, какая даль, какая близь? В тугом клубке воспоминаний сейчас попробуй разберись… Бежали дни, и с каждым новым росло, захватывало дух то неоформленное в слово, еще не сказанное вслух. Сперва — записки. Дальше — встречи. Заря. Черемухи в росе. Слова. Молчанье. Снова речи с их недосказанностью всей… В районном центре — пусть не город, но не деревня: ритм другой — мы оказались в разных школах, как разделенные рекой. Как молодость нетерпелива — тогда, и раньше, и теперь. Спеши, не сдерживай порывы, открой сейчас любую дверь. Самонадеянность подростка: ты — на виду, ты — впереди… Друзья на каждом перекрестке, кругом знакомых — пруд пруди. Одни на утро, те на вечер, на волейбол и на фокстрот… Все реже, все труднее встречи. Сумбурней письма. Выше счет… И те черемухи и окна теперь за пламенем войны, как в перевернутом бинокле, безмерностью удалены… Ей — двадцать два. В селе к тому же давно детей иметь пора, уметь покрикивать на мужа и быть хозяйкою двора. Найду ли? Горькая тревога переполняла до краев… Я к твоему иду порогу, как встретишь ты меня, любовь?3
Почти бегом — остались метры — я, под собой не чуя ног, нежданный, как с другого света, перемахнул родной порог… На мне повисла мать со стоном. Отцовский ус к щеке приник. А я мальчишкой несмышленым себя почувствовал на миг. И я закрыл глаза, вдыхая тот запах детства, дух избы. А веки сами набухали от слез и счастья — жить и быть. Вдруг все качнулось, как над бездной, пошло, поплыло колесом. «Сейчас, — подумал, — все исчезнет, все это было только сном». Открыл… На место встали стены, печь, половик, комод и стол. (И на полу валялся веник — мать уронила, как вошел.) Все узнаваемо, знакомо, погладь и ощути в руке. И даже мамина икона чернеет там же, в уголке. Как я вздохнул! Да, я поверил: все наяву, я дома вновь… …А двери, открываясь, пели, впуская баб и стариков. Не постучав, по-деревенски, соседи шли, одним полны: я был живой знакомый вестник, я был — оттуда, из войны.* * *
Входила выцветшая старость, ровесники отцовских лет, которой вновь в войну досталось быть главной силой на селе. Шли матери друзей, подростков, уже ушедших воевать, меня по отчеству, не просто, теперь стараясь называть. Ввалилась женская бригада, тесня шутливо стариков, бросая мимолетно взгляды: сейчас посмотрим, мол, каков. Отец, гордясь,— достался случай,— мой нарукавный гладил знак: сын, по старинке, — подпоручик, гвардеец, летчик — это как? Стареет батя. Был он тверже, умел в руках держать народ. Сейчас махнул, как бросил вожжи: пускай бригада отдохнет. А на меня взглянул: мол, так ли? И я, робевший перед ним всю жизнь, сейчас ему поддакнул как равному, кивком одним. «Казбек» открыл. К нему подходят, берут, дымят бородачи. — У нас — теплынь… А там — погода?.. — А как с одежей? Как харчи?.. Они замолкнут — бабы встрянут, своя забота — как смолчать? — Ты там не видел ли Ивана?.. — Мово Алешку — не встречал?.. — Летаешь, значит? — Да, летаю. — Поди-ка, страх? — Земля видна. Знать главное хотят, я знаю, когда же кончится война? Плывет в глазах туман печали. Спросили — напряженно ждут. Я отшучусь: — Об этом Сталин да Жуков знают что-нибудь. У них спроси. И станет легче, хоть никакой, а все ответ… …Гостей разводит теплый вечер, бросая в окна синий свет. Неторопливо подымаясь и перед тем, как дверь открыть, зовут к себе: — Зайди на малость. — Приди хотя бы покурить.* * *
И остаются те, которых родней считают на селе. Сестра задергивает шторы, Все, что есть в доме, — на столе. И с непривычки так спокойно… Ночь — наша, время — не в обрез. Сначала сравниваем войны, те, что прошли, и ту, что есть. Их много: три войны у бати и две — у дяди за спиной. Перебираем годы, даты, Мукден, Карпаты и Джанкой… И я рассказываю связно, что испытал и что успел. Сначала был подбит под Вязьмой. Потом над Сещею горел. Как приземлился. Днями полз я, ночами шел, глотая страх, оврагами, в воде — по пояс. В воронках прятался, в кустах. Раз на рассвете вышел — поле. Скорей назад и под завал. А немцы — пять шагов, не боле, пилили целый день дрова. Как зажимал я рот — не кашлять, себя не выдать с головой… Как наконец-то вышел к нашим голодный и на немцев злой. Но чтобы сгладить впечатленье, пытаюсь оживить гостей и сам смеюсь, что на коленях протер всю шкуру до костей. Но зятю делается жарко, встает, хромает по избе: он осенью из-под Можайска — хлебнул сполна солдатских бед. Считает он, кусая губы, парней, женатых мужиков, которые уже не будут в деревне подновлять домов. Он долго загибает пальцы и называет имена убитых, без вести пропавших… Так будь ты проклята, война! Потом ко мне: сходи к Максиму, хоть добрым словом помоги. Хандрит кузнец не без причины: вчистую списан — без ноги… Давно убрали чашки-ложки. Чай на столе. Веду опрос: как с хлебом? Как у них с картошкой? Как люди? Как живет колхоз? Отец, хвативший лишку горькой, быть с нами вровень норовит и все пытается махорку — век не куривший — закурить. Он браво дым пускает носом. Ну, молодец! Совсем герой! Но отвечает на вопросы, качая сивой головой. И все подробно — о колхозе, про сенокос, про лен и рожь, про лошадей: — А Карагезы,— вздохнул, — на фронте. Не найдешь…—* * *
Наговорились понемногу, устали гости, я устал. И собирается в дорогу гостей последняя чета. Мать им подносит на прощанье перед порогом «посошок». С меня берется обещанье к ним заскочить на вечерок. Я обещал сегодня — скольким? А отпуск мой — сгорает треть. К нему бы столько, да полстолька, да четверть столька — не успеть. Но обещаю снова: — Добре!.. …Я выхожу в ночной апрель. Чуть подмораживает. Дробью реденько падает капель. А тишина! Весь мир — хрустальный. На уши давит тишина. Не веришь, что за дальней далью бессонно ахает война. Чуть-чуть сереет купол неба. Восток наполнился зарей. Дымком попахивает, хлебом и тонко — тающей землей. Редеет млечная дорожка, прохлада гладит кожу щек. …Все хорошо. А вот немножко чего-то надо бы еще.* * *
Лежу, ворочаюсь. Не спится. Считаю. Жмурюсь — не берет. То слышу голоса, то лица ведут какой-то хоровод. Из кухни мать пришла тихонько, пришла и села у окна. — Не спишь?.. Родимая сторонка не первому тебе — без сна. Сменить подушку? Может, жестко?.. И, помолчав: — А там-то… как? — Там, мама, чаще нары, доски, солома… Не болят бока. И словно сердце обрывая, сказала тихо, наклонясь: — Твоей-то нет… Она не знает. На курсах в городе сейчас. «Не надо, милая, не надо»,— я не сказал, потер висок. А мать: — Ни складу и ни ладу у вас с ней не было, сынок. Она сама не приласкает. Вся в мать… Сердечко под замком… Ей — покорись… Она такая, чтоб был мужик под каблуком. Я закурил, волненье спрятав, в окне угадывалась даль. И снова мать: — Галину сватай, хоть завтра же… А та — горда… Я вспомнил вдруг: от всех в сторонке стояла в шубке. Все гадал: откуда?.. Броская девчонка! Сестренку друга не узнал… — Мать, не жени меня до срока. Галина мне — не клином свет. И для нее найдется сокол: ей что сейчас?.. Шестнадцать лет? — Галина — девка без изъяна: работать, петь или плясать. Она с тобой за океаны всегда пойдет — жена и мать. Вот так я думаю, сыночек… — Не трать напрасно слов и сил. Девчонке голову морочить — не буду, мама, не проси!.. Опять молчим. Она тихонько мне гладит волосы рукой. Не знаю, спится ли девчонке с характеристикой такой?.. Но чую: топчется медведем забота, маме застит свет: — Скажи, ты в город не уедешь?.. Ты обещаешь?.. Точно — нет?.. Ну, спи, сынок! — И мама крестит, и медленно идет к двери… Не спится мне. От мыслей тесно. И сердце… Черт его бери!4
Каким меня пронзило током, спалив защитное — дотла, когда ты мимо низких окон, потупясь, тропочкой прошла! …Сидели мы. Да, видно, так уж не мной, не им заведено, при встречах, бывшие в атаках, берутся часто за вино. Ничто — годов прошедших ноша. Ничто — забвения туман. Любая встреча — бинт присохший сдирает с незаживших ран. Фронтовики — народ особый, пусть без отметины во лбу, бывает, их скупое слово скрывает целую судьбу. Не торопясь, не с кем попало и не с таким, что круть да верть, а чтоб обоих целовала одна и та же сволочь — смерть… Сидели мы. Сине от дыма. Беседа медленно текла, стихала. Костыли Максима стояли тут же, у стола. …А ты прошла… Весь хмель — как клином ударило — рванулся вон… И тут легла ладонь Максима на золоченый мой погон. Глаза опять колючи стали, зрачок горяч и недвижим: — Обида жжет… Не рассчитаюсь. Не ковырну я их Берлин… Встряхнул бутылку и наполнил стаканы: — Ну, давай — за жизнь! Потом кивнул на окна: — Понял? Тебя зовет… Поторопись!..* * *
— Ты… в отпуске?.. Не по раненью?.. В глазах — испуг. — Жалеет бог. Все непритворное: волненье, румянец, облегченный вздох. — Дай посмотрю в глаза… — Знакомы…— — Не смей смеяться!… — Вот те раз? — Ну, не смотри… Я — не икона… — Ты больше. Ты — иконостас!.. Глаза с лукавинкой бегучей все те же. Может быть, теплей… — Сбежала с курсов… Редкий случай… А ты домой — на сколько дней?.. — Узнала — как? — Через знакомых. Вахтер зовет: такая — есть? Там женщина: — Приехал… Дома!.. Я ночью — в поезд. Утром — здесь —… …Землянки. Грязь. Воронки. Глина. Тылов немецких рубежи. И черный «фоккер», бьющий в спину. Возмещены. Спасибо, жизнь! Схватить на руки. Закружиться. Зацеловать бы. Унести. «На улице!» Ее ресницы в испуге дрогнули: пусти! — Как ты живешь? — Как все, не хуже. А ты? — Воюю, как любой… — Не мальчика я слышу — мужа,— пропела басом. — Вон какой!.. Ремни погладила, погоны, тихонько по лицу — рукой, как в детстве: ласково, знакомо. Вздохнула: — А уже другой… Все те слова, что я упорно все эти годы шлифовал, каким бы оказались вздором — произнеси их… Что слова? Глаза в глаза. Ладонь в ладони. Смятенье распирает грудь. И чувствуешь, что в светлом тонешь, и рад до боли — утонуть… Ты — есть, и большего не надо. Пой, смейся, слушай, говори Мы шли. С моей кирзою рядом шагали туфельки твои. Мы шли. Куда? Не все равно ли? Веди, дороженька, веди! Пусть будет лес, пусть будет поле, пусть будут горы впереди. Пусть бьются ливни, ветры воют, пусть вьюги заметают след. Да что нам мир? Мы были двое. Нас было двое на земле… Манила светлая округа. Звенели весело ручьи. И бились чибисы над лугом, выпытывая; — Чьи вы?.. Чьи?.. Не узнают. Ах, птичье племя! Весна, любовь, птенцы, отлет. Лишь мы живем в такое время, не знаем, что нас завтра ждет. Но вместе, рядом!.. С неба мощно текла на землю синева. В зеленой дымке млела роща. Вставала первая трава.5
Три года не было вечерок, а нынче — только б выходной… Шли в клуб по вечеру девчонки, несли «Семеновну» с собой. И парни шли со всех окрестных колхозов лихо, под гармонь… Там было весело и тесно, плясали — вздрагивал огонь. Одна на клуб семилинейка. Под гармонистом — табурет, и все. Для нас нашли скамейку, наверно, довоенных лет… В пятнадцать — парни, не мальчишки, а пахари и косари, нужды хватившие с излишком, в труде с зари и до зари. Держась солидно, деловито, басят простудно — строгий вид. Но их цыплячья беззащитность за каждой фразою стоит. Пока апрель, пока не пашут, в воскресный вечер тут как тут. Повеселятся и попляшут, немножко душу отведут. Пускай же в музыке утонут глухая боль и злая речь, и немальчишечьи ладони оттают от девичьих плеч. Среди парней — девчонок стайки, как васильки во вдовьей ржи. А сзади жмутся перестарки — печаль в глазах, а надо жить. Неловко им. Краснеют густо. Для них парнишки — не серьез. А все война. Да будь ей пусто от вдовьих и девичьих слез! И не нарядной, и не сытой проходит девичья пора. Их половиночки зарыты в полях от Волги до Днепра. И вроде быть им здесь не место, и вроде верят в лучший час. Танцуют вечные невесты, друг друга пригласив на вальс.* * *
Война прошла лесоповалом по населенью деревень. Тылы? Кто был там? Кто остался кормить Россию каждый день? А вот он — тыл! Стоят живые, на плечи взяв крестьянский груз… Наверно, понял я впервые душою, что такое Русь! Она живет в труде и горе и в том, как пляшет молодежь. Нет, Русь не вырубишь под корень, ее со света не сживешь! Не запугать ее крестами, не задавить ее броней. Пусть ты падешь в бою, но встанут мальчишки эти за тобой. И автомат возьмут и в пламя пойдут, как мы идем сейчас. Пусть закричат в атаке: «Мама!» — с испуга только первый раз. А во второй — смолчат: мужчины свершить сумеют правый суд. И наше знамя до Берлина они победно донесут!* * *
Дымили густо самосадом в углу мальчишки-мужики… — Пойдем станцуем. Это надо! Нам быть гостями не с руки. Нам жизнь тянуть в одной упряжке, нам вместе строить и пахать… Долой шинель, долой фуражку, мы встали — начал шум стихать. …Нас только двое в клубном зале. Сыграй нам, мальчик, старый вальс… Бесцеремонными глазами девчонки изучали нас. Круг разошелся, дали место: танцуй, товарищ фронтовик. Ты в их глазах была невестой счастливой самой в этот миг.6
А утро было ясным-ясным. День прокатился, как в бреду. Нас усадили в угол красный у полдеревни на виду. А солнце — взламывало рамы, играло на эмали блюд. Застолье было как экзамен на право дочери в семью. А взгляды — как тут без пристрастья? И шуточек — прямая суть: уж погуляли бы на счастье на вашей свадьбе — что тянуть? Ну, шуточки… А как ты рдела: что тут ответить? Как смолчать? Чтоб опереться, то и дело касалась моего плеча. Ты выдержала тот экзамен. И даже мама расцвела… Нам стали лишними признанья, все обещанья, все слова. А мир весь солнечный и синий. В душе горячечной обвал… …Я никогда таким красивым, таким счастливым не бывал. Привыкший к раннему подъему еще с далеких детских дней, чуть свет я выходил из дому по стежкам юности своей. Колхоз не то чтоб знаменитый, Вполне обычный, средних сил, но без дотаций и кредитов себя и Родину кормил. Со стариками да мальцами (теперь с него — какой уж спрос?) едва сводил концы с концами, на сверхпределе жил колхоз. С зерном — беда, с кормами — туго, чуть — лошадей, чуть-чуть коров. В бригадах — бороны и плуги, нет ни машин, ни тракторов. Нет соли, спичек, керосина. На фермах — течи, сбруя — срам. По вечерам горит лучина, стучит кресало по утрам. Пока подсобным да запасом (да уж какой теперь запас?) живет деревня. Пусть без мяса, картошка есть и вволю квас. И только, словно свет в окошке, надеждой держится одной: вот скоро немца укокошим и мужики придут домой.7
Четыре дня — почти мгновенье — короток срок переступить ту робость, жажду поклоненья, святого отрочества нить. В большой любви — такого мало… …Сереют окна под рассвет. Мы двое в мире. — Ты устала?.. Вторую ночь не спишь… — Нет, нет… Чем пахнут волосы? Травою, слегка привядшей на лугу. — Теперь я знаю, что с тобою я очень сильной быть могу. И год, и два, и три сумею… И десять лет — я буду ждать… Согнусь, состарюсь, поседею… С клюкой пойду… — Серьезно? — Да! — Я верю. Только… это слезы?.. — Заклятие!.. Платок возьми… …Любовь, когда ты станешь прозой в моей душе, — меня казни!* * *
Опять в обстрелянной суконной сижу, готовый в дальний путь. Зал. Темнота. В проем оконный ненастная струится муть. Дорога в дождь — всегда на счастье. Ну, как же! Только ожидай… Вот и мелькнули наши «здравствуй!», осталось горькое «прощай!» Все нами сказано о главном? Или не все?.. Опять слова? Но почему любовь бесправна и почему всегда права? И ты молчишь. Притихла рядом. Касаюсь локона виском. Тебе шепчу на ушко: «Лада». А в горле ком, горячий ком. Пыхтит за стенкой маневровый с одышкой тяжкой паровоз… — Четыре дня… А сколько снова тебя не будет?.. Сколько врозь?.. Что отвечать тебе? Как смею? «Жди!» — приказать? Но буду ль прав? Мне далеко идти. До Шпрее. А я еще не взял Днепра. Ночь. Темнота. Твои ладони. Сухие губы. Пальцев дрожь… …Курю. Считаю перегоны. А за окошком плачет дождь.8
Опять с утра ревут моторы. Опять планшет через плечо. И вновь работа, от которой я был на время отлучен. Так принимай теперь на веру, не осознав душой пока, все измененья, все потери и пополнение полка. И было мне тогда не просто домыслить, в чем моя вина… Нет, не домой я ездил — в гости. А дом мой — полк и жизнь — война.* * *
В те дни отчетливо впервые ума коснулось моего, что на войне трудней не вылет, а ожидание его… Май — ни полетов, ни разведки, в матчасть зарылись с головой. Уже пошучивали едко: «Займемся, может, строевой?» Восточный вал. Мы рвемся в дело. Душа горит: пора, пора!.. В конце июня загудело. Пехота ахнула: «Ура-а!» И стало весело и жарко. Разворотив Восточный вал, не успевали клеить карты, за фронтом тыл не успевал. С утра до вечера полеты. Горит земля, горит металл, и дым пожаров в самолете, на высоте, в носу щипал. Сегодня — Орша, завтра — Крупки. А следом — Любча или Клодь. По одному, десятком, группой сдаются немцы — «майн гот!»… Давно ли было — вспомнить горько, чтоб взять деревню в три двора, мы изучали все пригорки, разведкой мучаясь с утра. И радовались, словно дети, что овладели пустырем… Да, были мы за все в ответе: за каждый куст, за каждый дом. За все. За всех. И вот мы встали, умеющие воевать. Мы городов не успевали ни рассмотреть, ни сосчитать.* * *
Я из ржаной муки замешан. Меня простой мужик испек. И никакой немецкий леший со мной управиться не мог. Он был силен. А я — сильнее. Он был — стервятник. Я — орел. Не он на Клязьму — я на Шпрее к нему в конце концов пришел. Сильней я правдой был земною, моя любовь была со мной. Вот потому прошел войною пусть обожженный, но живой.* * *
Когда о Родине не всуе идет серьезный разговор, мне память медленно рисует отцовский дом, отцовский двор. Тропинки в кипени ромашек, плетни, калитки, дым из труб, околицу, где резво машет ветряк крылами на ветру. И всю деревню, всю округу, любой районный уголок… Я жил на севере и юге, я знаю запад и восток. У сердца есть такое право и зрение такое есть, что вижу я свою державу сквозь призму вечно милых мест. Не раз за годы — из станицы, от полонии и аймака — спешил сюда, чтоб поклониться незамутненным родникам.Примечания
1
АФА — аэрофотоаппарат.
(обратно)



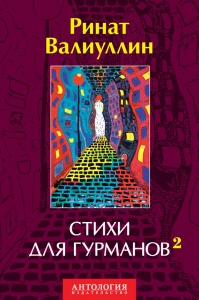

Комментарии к книге «Не считая лет», Михаил Дмитриевич Созинов
Всего 0 комментариев