ВИКТОР МАМЧЕНКО. СОН В ХОЛОДНОМ ДОМЕ (Париж, 1970)
Ночной разговор
Ночных сверчков опять с цикадами не путай Цикады ночью спят, им ночью — все равно, А в сердце, может быть, как в пропаде темно И кажется земля тяжелой мертвой грудой. Живут цикады днем. Растопленной смолою Горячий сосен сок пьянит до песен их; Не надо им тогда веселых глаз твоих, Не надо слез твоих, ночей со звездной мглою. Они живут в раю. Им нас совсем не надо. И нам они — к чему? Представь себе, что вдруг Земля горит, беда, что все — как ад вокруг, А мы с тобою райского вкушаем сада.1946
Она
Светом солнечным пьянели Золотистые глаза, Неподвижны были ели И морская полоса, И цикады жарко пели. Слов чудесных я не помню — Не они сомкнули круг, — Я глаза сияньем помню, И таким волненьем вдруг, Что закрыли солнце к полдню. Помню тоже: сердце билось Под рукою об белье, А потом оно открылось Грудью темною ее, — Будто так оно приснилось. А потом прикрыла очи, И была она тиха, Как звезда июльской ночи, — Вся в печали без греха, Тишины любовной кротче. Вновь шумели в знойной лени Море, сосны и земля, И вязало время тени, Будто Парка, оголя Ее детские колени.1946
Акварель
Тяжелый дом, а дальше — холмы, горы; Прованса день уходит в дальний свет; Прохладе солнечной раздвинул шторы Привычный жест, как было сотни лет. К приходу вечера девичьи зовы Спешат сказать — и чем душа полна; Повторные слова взволнованны и новы, Как в море миллиардная волна. Старушка черная под черной шляпой Сидит и спит у солнечной стены, И ловит тень котенок мягкой лапой — Кривую тень старушечьей спины. Старушка спит, ей снится в кухне лужа Когда-то пролитого молока, Письмо с войны (тогда живого) мужа, Иль гнев его и темная рука. А может быть, теперь, в минуты эти, Легчайший сон летит по городам — Куда ушли ее большие дети, Ступая прочь по сердцу и годам. Идут быки с рожном большим на выях, Их очи — тихие, а вечер — вот уже Об землю бьется на прохладных крыльях В огнях зари, на звездном рубеже.1949
На вокзале
Последний знак, и вот скользят огни, А в сумраке — твои глаза одни; Тяжелый поезд медлит все, пока В прощанье бьется жаркая рука. Уйдет он прочь под арками мостов, Но — звездный путь ему, счастливых снов! И дней — с утра — цветущею землей, Людей ему — веселою семьей! Шумит в огнях Париж ночной, глухой… Ну что, дитя, уехал милый твой; Чего ж ты ждешь, и плачешь, как во сне, И сон — не твой, не в розовой весне; Должно быть, поезда нещадный стук Об сердце бьется, сердце из-под рук Летит за ним, летит как счастье дней, — Подстреленным полетом лебедей. Скажу тебе о днях. Пройдут они. У жизни будут дни — другие дни. Не может быть, чтоб в сердце навсегда Жила, была горячая беда.1949
Лютенция
Здесь редок снег, здесь только зимний холод, Здесь снег бранят и грязью и чумой, И парижанину подснежный город Давно не мил, и он спешит домой. Люблю я снег полночною зимою В латинских улицах и тупиках, Когда века в снегу идут со мною, Спешат со снежной музой на руках. И тишина звучит тревожным боем Курантов, вдруг очнувшихся в снегу… Мечта со мной, нам весело обоим, Молчит она, молчать я не могу; И вот шепчу я (с русским удареньем!) Слова чужие страсти и любви, — Французским меряю стихотвореньем Печаль и радость русские в крови. Печаль и радость русские в крови.1957
Итальянский мальчик
Под небом Парижа — случайные встречи играл на гармошке тот юнга в порту И темные очи, и детские плечи казались под солнцем в любовном поту. Вокруг нас теснились и шхуны, и лайбы, и полдень Туниса дремотно дышал, и якорь огромный тяжелые лапы раскинул на пирсе и шхуну держал. Пустынно и море, и порт был безлюдный, мальчишка играл и смотрел на меня, и час был высокий, безоблачно трудный, и солнце мерцало, всем миром звеня. Там Индия где-то, а там — Заполярье… Куда же идти нам в тугих парусах? Но юнга вдруг вспомнил о плачущей Марье, припал вновь к гармошке, под солнцем в слезах.1963
Баллада о рыбаке
Рыбак ушел в нехожую погоду — Чтоб море было без луны и звезд, — Приморскому покорен небосводу, И ничего, что ветер бьется вхлест — Норд-остом бьется, парусом играет, А чайка в море — будто умирает. Его жена, на каменистом пляже, Как будто не плетет, а вяжет Худую сеть, разодранную бурей, Сейчас её дитя, играя ляжет И на сетях спокойно вдруг уснет. Стрижей косых неистовый полет Сшибается под крышею понурой Поет рыбачка песенку простую, Следя за парусом, белеющим волной. Но вот и ночь. И вновь тугую тую Терзает ветер за ее спиной. На западе — пожарище заката, — Природы чудной ветреная плата. К тугой груди прижав дитя, рыбачка Идет к соседке — душу отвести: Какая ночью в море рыбьем качка, Как трудно прорвы в неводе сплести, Как рыбу надо во-время продать, И с мужем в море жить и умирать… Над холмами приморскими светло Звезда вечерняя пропала в туче, Сгребает ветер тяжкою метлой Кипенье волн, взлетающих всё круче, И темная рыбачка смотрит в море И, как влюбленная, не верит в горе. Пришел рыбак под утро. Парус влажный Он крепко с мачтой шкотами связал. С уловом он — как если б счастье взял, — Умчался вдаль куда-то ветер страшный… Он в дом вошел, и сонную улыбку Жены схватил, как золотую рыбку.Любовь
Сколько радости было от снега, Он всю ночь будто шелком шуршал; За окном моим тропкою бега Узкий след, как от серны, лежал. Был любим ею я до рассвета; Время мчалось дорогой земной, И дышала она, будто Лета, Легкокрылой бедою и мной. Как же так вдруг бежит, убежала, Тяжкой дверью прикрыла себя, А рассвет, без конца и начала, Леденеет, беглянкой слепя.Зимние ямбы
Весь день тот был как счастье в тихом слоге Зеленый свет простерся далеко, Сжимала руку жарко и легко Весна моя, веселая в дороге, Чтоб всё неистовым казалось мне, Как власть любви в невероятном сне. И тихо бились в паутинке света Глаза ее, бесстрашные в себе, И не казалось мне — в такой судьбе, — Что всё пройдет, как полыханье лета, Как осени угрюмые дожди, Чтоб вдруг зимой проснуться от «Не жди!» Был праведный от часа и до часа Тот день свободы — вечности часов, Мерцала стрелка золотых весов В руках любви, как солнечная масса. Ах, жаждой полная весна моя. Куда же ты… Так жаждой напоя! Стоит зима у моего порога, А ночь тиха, а ночь совсем не спит Как тот замученный бессонницей пиит Для трудной вечности любви своей Средь Елисейских розовых полей.Снежная оторопь
Снежная оторопь степью курганною Крылья раскинула в дальний полет; Солнце февральское розою алою Вспыхнуло в окнах и будто поёт. Дева высокая, убранно белая, Снежною пылью стоит у окна; Мать всё поёт, у стола что-то делая, Плачет о деве — как дева бледна… Что же в окно, среди снежного топота Снежного чуда и детского сна, К мальчику тихо из вьюжного пропада Солнечным тополем бьется весна! Дивная песня метелится ветрами, Жарко взлетает, как искры в огне, Смотрит в глаза его буднями светлыми, Инеем звездным мерцает в окне. И не уйти от тревоги и радости, — О как родная рука горяча! Мальчику страшно от песни и жалости — У материнского плачет плеча.Смерть тополей
Больные тополи Парижа На тротуаре — как в бреду, В угаре, листьями колыша, Они на родину бредут. И потрясает дымный грохот Их тополиную тоску, В которой слышен речки рокот, Несущей солнце по песку. Квартальный ветер неумелый, Пройдя предутренней волной, Тревожно пух роняет белый Над звонко-каменной землей. Над крышами поток весенний Прохладой розовой летит, Как чудный сон стихотворений, Еще не павший на гранит.Память Черноморья
У моря Черного я помню Буг: Он тих и стар у летнего порога, Но осенью, как отрок-недотрога, На море грозное кидался вдруг. Вдали — и мост, в Варваровку, понтонный; Чуть-чуть по-эллински он музыкой звучал; По нем стучал натужный топот конный, А Николаев — Ольвией скучал. Варваровка! Не скифский ли там стан Гонял коней для эллинской заставы? В земле, поглубже, — вот Дианы стан, В руке — стрела охотничей забавы; В глазах ее и мужество, и робость… Историей весь берег перекрыт! Археология, божественная пропасть, А сад в цвету, весь пчёлами покрыт! И вот, как в дни «Крещения Руси», Раздетые аттические боги Потоплены в волнах; пощады не проси; Об лодку мрамором их бьются ноги… А белые акации цветут В неистовом и теплом аромате, Вот полнолуние, и вот поют Все соловьи в сиреневой прохладе. Росисто утро. День настал, пришел, Плечом широким Буг коснулся моря, Гудит буксир, он из породы пчёл, Идет, дымит, с волной высокой споря.Птичий базар
Что так слабо бьется сердце С мертвой силой на земле — Вот на проволочной дверце Та же кровь, что на крыле; Или воля птичья ниже Всех прославленных свобод, Или песнями обижен Весь березовый народ; Или птице быть пристало В томноте да на шестке, Чтоб торжественнее стало Пенье в клеточной тоске; Ходят люди среди клеток, Тычут пальцем всем в глаза; Водят люди своих деток, Чтоб глазеть на голоса.Вики Оболенская
Судья нацист бандиту дал топор, Чтоб палачом был русской партизанки; На русскую смотрел, как смерть, в упор, На раны черные её и ранки. Тюремный двор — застенок палачей; Вот щелкает ефрейтор каблуками; Не видит он живых ее очей, Кровавый лик с кровавыми губами. Ах, Вики, Вики, как ты хороша, — С тобою Родина, весь мир с тобою! Удара ждешь, едва-едва дыша, Но вся душа твоя зовёт всех к бою. Чудовищен нацистов балаган, Вот эта плаха, — как «почет принцессе»… Известный Франции Гаврошка-хулиган Стоял с тобою рядом на процессе! Палач бандит, ему под стать — судья Вели игру в кровавом исступленьи; Был проклят час предутреннего дня И к плахе аккуратные ступени. Бессмертье здесь, оно ведь — навсегда, Таких, как ты, народ не забывает: Крылатым воином — когда беда, И смерти мертвенной герой не знает.1944
Деревенская баллада
Буря снегом замела Две избушки на откосе; Будто льдины от весла — Тучи лунные в морозе; За откосом — мутный свет, Вдоль избушек — волчий след. Два соседа — два врага — И судили, и рядили — Как делить им два стога, Что под снегом звездным стыли. Помирились всё ж в Сочельник И пошли за водкой в Ельник. А когда домой пришли — Много пили, много ели, Табачок примерно жгли, Друг на друга не смотрели. Ведь привычно было так — У соседа брать табак. Вот Иван и говорит: «Ты свою жену не знаешь, Марья за меня сгорит, — Ты жену, ведь, не ласкаешь»… И Степан с Иваном пьют, Об ладонь ладонью бьют. Ночи лунные прошли, Марья Ваню отравила, А потом, весной, нашли Марью: умерла на вилах. Что ж, Степан ее убил — Муж, который не любил. Так делили два стога, Что казались лишь стогами; Боги были в сапогах Эллинийскими богами, — Мужики российской были, Мягче воска, проще пыли.Мольба
В пышных храмах торжество: Где-то в небе — Рождество… На земле бесснежный лёд, — Ночью скованный блестит, Ветер северный свистит Время движется вперед Никому никто не верит Не стучись ты в эти двери, — Не отворят никогда Отойди опять во мглу И замерзни там в углу. Братство может быть приснится Будет сердце счастьем биться Умереть, ведь, не беда. Слезы страшные помогут Дописать живому богу Мертвый образ Рождества.Старая история
Плачет тихо над собой Ночью дева: друг не любит. А по саду молодой Бродит месяц, — не отступит. Не отступит он, такой, От влюбленных, кто с тоской, Чтобы влиться в очи; Чтобы плакал и любил, Кто забвенье жарко пил В росах белой ночи. Дева девочкой была, И была вся — легче смеха; До зари с луной плыла — С милым, — милый не помеха. А теперь вот говорят, Что глаза ее горят Болью и позором; Говорят еще — с тоской, Жизнью не живет людской, Бредит всяким вздором. Всё б ничто, да только как Встретиться с любимым! Вновь любилась бы — вот так! — С огненным и льдинным. Вот совсем уж побледнел От мечтаний и от дел Месяц, с ним и дева; Утро вспыхнуло зарей, Сгинул месяца герой, Всходит солнце гнева.Эмигрантское
Старуха едет. Едет. Боже мой, Ее девчонкой видел я когда-то, Всё трудное мое ей было радо, — Цветущей яблоней была земной! Теперь — старуха едет, губы проглотив, И почему Чайковского мотив Всю душу жарко вдруг мою так гложет Ах, Родина, твой Лебедь у рояля, — Виденье детское, всё в белом существо! Но вот — старуха. Всё вокруг мертво, А я — как проклятый в вагонных далях.Улыбка Джиоконды
Одни слова, слова. О нет, Любви Твоей как жизни верю. Но жизнь — не радостный ответ. Да, я входил и этой дверью В прекрасный мир очарованья, Кружили голову признанья Высокой юности моей; Я верен был и верил ей. Бывает так — что страшно вдруг: Вот этот мой красивый друг, Идущий к нам походкой важной Идет к Тебе. Улыбкой влажной Лицо Твое пылает горячо, Возможному вы улыбнулись оба, Меж вами, да, мое плечо… Нет, не клянись любить до гроба.С Новым Годом
Снежнозубая улыбка У красавицы моей; Веет снегом, веет зыбко Из заснеженных полей; Ее очи лучевые Вижу часто и во сне; Вся звучит — как ключевые Воды в солнечной весне; С новогоднею звездою В косы месяц заплела, Чтоб надежда красотою Счастьем-лебедем плыла С Новым годом — в счастье новом, И влюбленность не тая, Вверх бокалы, с добрым словом, — Это Родина моя!Сон в холодном доме
В зимнем небе низком, мутном — Желтая луна; Я в лесу, в усильи трудном: Предо мной — стена. Подымаюсь. Время ночи В снежной тишине Неподвижно. Нету мочи, Силы нет во мне. Страшно мне: я ненавижу И душа в огне, За стеною дом я вижу И людей в окне. Вижу золото и вещи, Явства и ковры, Блеск мечей, во тьме зловещий, Час глухой поры. Всё богатство здесь добыто Грабежом, войной, Много и рабов зарыто, Битых за стеной. Слышу споры я и крики Иностранных слов, И слова как звери дики, Будто волчий зов. Затемненный, как туманом, Холодом седин, — «Погублю их я обманом», — Говорит один. Говорит другой: «Отравой Надо извести!» И кричат: «Войной кровавой, Бог наш, отомсти!..» И грозят мечами, ядом, Глядя на восток… Вижу — дом там, близко, рядом, Как живой цветок. Дом иной, иные люди, Всё не так, как здесь; Ярким светом дышат груди, Дом открытый весь — Для друзей, для мира. К счастью Строят жизнь. Она — Целым миром, каждой частью Как любовь полна. Будто пчелы золотые Люди там живут; Вижу — мне они родные И к себе зовут. Многочисленны, едины И сильны в труде И упорны, как плотины На большой воде. Чуден труд, умны движенья Напряженных рук; В братском подвиге служенья Нет напрасных мук. Есть у них мечи, отвага И огонь, чтоб жечь, Но они у них — для блага, Чтоб народ сберечь. Потому что волчьим воем, Как больной урод, — Черный дом войной, разбоем Истреблял народ. Понимаю: смертью, кровью Дышит черный дом; Светлый дом, чтоб жить с любовью, Счастием ведом. В черном доме — брань и топот, Мерный стали звон, Нет людей и воин — робот… Вот — выходят вон — Это — сон, проснуться надо, Никогда не спать, Но душа и в боли рада Вещее познать. Знаю: сплю я мне б проснуться, Но сквозь тяжесть сна Вижу, как сгорая гнутся Черный дом, стена.1951
Медонский рассказ
Мне мил мой городок, где прожил я Так много лет и трудных и счастливых, Где холмы, лес и толпы суетливых Прекрасных птиц вкруг нищего жилья. И время вечное — когда друзья Неистово решали и решили Как надо жить, и как отцы их жили, И что в наш век так жить уже нельзя. Друзья уйдут, и снова тишина Глядела пристально в ночные очи; Внизу — Париж, и праздный и рабочий, Он виден мне, скрывает лишь стена. Мой сад — мой парк! — размером в пять шагов, Но, как в раю, — всё отдано цветенью; Он светом был, он тоже был и тенью, — Убежищем от глупых и врагов. Шумела звонкая вокруг страна, И не моя, — чужая по закону, Но молодость спешила к шуму, звону, Как добрый гость в круг знойного вина. Казалось мне, что могут петь Простор и камни кружевной столицы, И свет мерцал глазами чудной птицы, Когда она взлетает, чтоб лететь. И в дружбу, вдруг, входили ритмы дней — Поэзией, бессонной музой ночи: Не страшен был мне черный день рабочий — Тяжелый труд нерадостных людей. *** У бедствий много есть прямых примет: Как ветры в море связаны с волною — Приметы зла давно слились с войною, И вот она пришла — на много лет. Случилось так, что в тишине моей Взметнулось всё под окриком тревоги, Дымились прахом чёрные дороги В зовущей дали розовых полей. Не в дикий лес, не в воровской овраг, — В открытый дом и в тайную обитель Входил бедою дикой победитель — Цивилизованный хвастливый враг. Нацисты Гитлера! Приятель мой — Без думы огненной о кругах Данта, — Хотел убить в Париже коменданта И сам погиб, ведя народный бой. Его жена тогда сошла с ума, И я готов был горестно поверить, Что знает всё — кому и что отмерить — Судьба людей, премудрая сама. Не много верят люди в ворожбу, Богам не много кланяются тоже, С природою беседуют всё строже, Но верят все в всесильную судьбу. Как будто-бы в покорности такой Нам легче быть, когда нам путь неведом, Когда ведёт на радости иль к бедам Судьба своей судьбинною рукой. *** Пустой стоит приятеля барак, Над ним звенит весна печалью милой; Не знаю я — тогда какою силой Жила безумная. Не знаю, как. Пред казнью, говорят, влечёт ко сну, И крепко спит под утро обреченный; Нам снился сон пустынный, злой и чёрный, Когда очнулись в пятую весну. Мир праздновал победу год, и два, Он сам себе казался чудно новым, Но взгляд победы стал опять суровым, И смеха нет, и дышится едва. Извечный враг был весел, жив, дышал, Всем людям враг — война, — он не был мертвый, Когда, поверженный и злобой гордый, Свой меч разбойничий как крест держал. Бывает так, что утра свет не мил И сердце рвется в напряженной ноте, Как если б жил в прославленной свободе, И вот тебя вдруг кто-то ослепил. В такое утро я бродил в лесу, Деревья черные, во льду, скрипели, Я думал о весне, хмельной в апреле, Что вот ноябрь теперь в себе несу. Но было мне в печали всё ж легко: Я знал о силе дремлющей в народе, Я знал о солнце вечности в природе, К которому не так уж далеко. *** Есть холм в лесу, с него видны зимой Ряды крестов на кладбище недальнем, На том холме, на фоне погребальном, Вдруг встретилась безумная со мной. Не знаю я — признала-ли меня, Или она теперь для всякой встречи Несла как сон взволнованные речи, Виденьями бесплодными маня. О, сложность трудная в простых словах! Ты мне дороже ясности небесной, В тебе всегда, как в клетке тесной, Стучится сердца неуёмный взмах. Убитого приятеля жена Издалека молила, причитала, И небо низкое, как из металла, Над нею стыло, — злая тишина. Катились слёзы тяжко по щекам — Как зёрна звездные, в глазах — сухие… Слова, слова, с какой еще стихией Сшибётесь вы на подступах к векам! Безумной речь мне трудно передать: Как понял я — о муже говорила, То дико пела, то в ладоши била, И плакала, чтоб воплем не рыдать. Французской речи ближе ритм ручья; Я в русский лад вложил потоки речи Моей безумной, неуёмность встречи И бедственность ее, как понял я. *** Я шёл за ней, сшибая с веток лёд. Вокруг — всё лес, пустынный, бездыханный Стоит, как храм бесчувственный и странный, И в нем — она, безумная, поёт: «Где б ни были — везде найду, Сомненье больше не тревожит, Люблю я вас, любовь не может Лежать снежинкою на льду. Дорогой, лётаной орлами, Среди обвалов и камней Я буду следовать за вами Любовью трудною моей. И если надо — к смерти строгой Я подойду, и всё скажу, И боль сожженною дорогой В своем я сердце покажу. Но если надо, если надо, — Собой прикрою вас, пойду Одна на черную беду, И буду гибели я рада…» Так пела боль ее, — могла бы петь! Безумная спешит тропой крутою, На пень падёт, или скользит пятою, И хлещет ветка жгучая, как плеть. И к кладбищу стремительно дошла, Мне пальцем детским строго погрозила И тёмный взгляд свой гневом исказила, — Своей бедою будто обожгла. *** Страшит безумие невольно нас, Всегда мы видим в разуме спасенье, Но в гибели нам дорого забвенье, Когда зовём и — как на плахе глас. Но даже там я слышал, за стеной, На кладбище для всех — на вечной плахе, Как любит человек во тьме и страхе Под крыльями надежды голубой. Отвергнет всё снобический уют, — Не новы чувства, и слова не новы: Беды естественно гремят оковы, И пусть о них безумные поют: «О, дорогой, что делать мне, — Гостей я к свадьбе пригласила, Они смеялись, я — грозила, А смерть — стояла в стороне. Они сказали — мертвый вы Что вас люблю — они не знали; И вот — дорогу указали Среди кладбищенской травы. Вот видите? — она опять, Как если б вас я не любила; Она мне сердце ослепила, Чтоб как-нибудь его унять. Какой пустяк, к чему они — Кресты и плиты и ограда? Вы рады мне? — Я — очень рада! Эй, колокол, звени, звени…» *** Она смеялась, но глаза её Смотрели строже мертвого покоя, — Как очи ангелов, умерших стоя, Проклявших вдруг могильное жильё. И прочь пошла по узенькой тропе — С поклонами направо и налево Как некогда, уже венчальной девой, С любимым шла в взволнованной толпе… И я бежал, — я мог еще бежать! — К жилым домам и к радостям заботы Чтобы кружиться в них и дни и годы, Чтоб просто — жить и разум удержать. Легенда есть: среди времён иных Для смертных чашу чудного забвенья Прислали боги, чтобы жизни звенья Не прервались отчаяньем живых. Испив забвенье, вновь живут они. Я пью его, я пьянствую все ночи. И дни мои — тревожней и коротче Пока не вспыхнут звездные огни. И верен я моим неверным дням, По прежнему волнуют их приходы; Люблю и легкость ясную природы, И сумрачность тяжелую в камнях. Но простоты уж нет! В каком дворце Её я видел, — сердцем или взглядом? — Шла, как дитя, она со мною, рядом, С невыносимым счастьем на лице. И как сказать: не будет никогда! — О, как она сияла первым цветом Для всех, всегда, везде, как в дне согретом Из облаков зарёвая гряда. И знаю я: восстанет вечность вновь, И даже так — и в бедственное время, Свободно станет в боевое стремя, Чтоб жизнью билась жаркая любовь.Еврею
Мерцая солнечным виденьем У скал горючих и воды Под снежно-розовым цветеньем Растут Израиля сады. По городам простерты сети Цивилизаций, но вблизи — Все те же ослики, и дети Шумят в божественной грязи. Ресницы их пречудно длинны И взоры древние горят, — О них библейские былины Псалмами в храмах говорят. На холмах ночь в прохладе млеет, Она — как сон веков святых, И ветер звездный тихо веет Для добрых, мудрых и простых. О, близок день такого света, Когда народы — твой и мой, По слову вечного Поэта, — Сольются радостью земной. Но помни, помни, к испытанью Еще не кончены пути: В дороге к счастью и свиданью Нам надо братьями придти.Монако
I. «Много золота, много свет…»
Много золота, много света, Будто Боттичелли в раю; Солнце огромного лета У сердца стоит на краю. О чем ты мечтаешь, неловкий, — Нет, ведь, покоя нигде; Моря горизонт ломкий Птицами блещет к беде. Может быть так, как и ныне Здесь, в отдаленных краях, Ты — в человечьей пустыне, — Без любви, — на тупых остриях.II. «Прохлада и солнце, и моря черта голубая…»
Прохлада и солнце, и моря черта голубая. Друг мой, довольно, нам незачем дальше идти. Скалы и солнце. Во сне лишь, совсем погибая, Счастье от боли в такое сиянье летит. Тихое, страшное, бедное сердце, слепое — Может и больше неверную землю любить, Только забыть в голубом и высоком покое — Что душу за други… это — тебя погубить.III. «Прозрачно всё, воздушно и легко…»
Прозрачно всё, воздушно и легко, Скользит вдоль неба парус осиянный, За ним весь мир воздушностью влеком, Простерт и день по солнцу далеко, Как будто медленным он счастьем пьяный. Не веришь, нет, я знаю — ты устал, Ты в золотой свободе не уверен; О, как прекрасны мертвые уста — Не правда-ли — там, где-то, у Христа, Или у женщины, которой ты неверен. Прозрачно тень касается лица, Прозрачно сердце голубой природы; Сольешься в ней, как крайности кольца, Забудешь всё, забудешь до конца И совести мучительные роды.«О любви мне говори…»
О любви мне говори — Как тебя любили, — От зари и до зари Счастливы ли были? Говорила ли ему О любви последней, Так же верила всему В синий вечер летний? Виновата ли ты в чем, Что любовь любила? — За твоим была плечом Вся земная сила! Как же ты любила вновь, Навсегда прощалась, Или древняя любовь Болью оказалась? Не казалось ли тебе, Что любовь такая На костер к своей судьбе Уведет, толкая? Ледяная — и живет Та судьба кострами: Не иди, когда зовет Легкими перстами.Тунис в звездах
Уснувший порт, гитара в темноте Все итальянские мотивы вторит; А Млечный Путь в безмерной высоте, Срываясь звездами, над морем спорит — Что глуше в легкой тишине, Что глубже в полной вышине. Ночное Тютчева не знать нельзя. Нельзя не жить Арагвенной печалью — «На холмах Грузии». И вот, скользя, Пришла печаль, и шелковою шалью Сжимает туго сердце и плечо, Которому от сердца горячо. Распяты в небе реи кораблей, Высоко подняты морские тени; А юнга все поет про журавлей, Распластанных в волнах морской кипени, О том, что дева, будто сгоряча, В любви сгорела тихо, как свеча. О сколько звезд над Африкой твоей! Их может быть на Черноморье столько — В тиши, в ночи, средь жатвенных полей, В сверканье росном, где колосья стойко Так бурно в грозах вынесли свой рост, Где звездный всплеск божественен и прост. Теплом согрет, еще теченьем дня Так щедро пролитым в долинах Керуана, Вдруг вижу я, как Лермонтов меня Касается; его мерцает рана Под звездами — горячей и земной, И кто-то в звездах плачет надо мной.СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ
«Вот опять загорятся пески…»
Вот опять загорятся пески, Замаячится море огнями, Будут звездные всплески Пьяными. А рядом, в пустыне, Где не видно солнца в яркости, Новые в ночь остынут Кости. Серенадная ночь заглушит Образы, сонно, на крышах. И будет медлительней шаг Души. Луна, подражая кубистам, Фантазию встретит на городе, И опять я один из ста Буду голоден. Будет снова мята постель, От придуманных дерзостей, Буду силиться писать нежности, Стихи. Захочу опять искриться, Как на пальмах самум, Чтоб не узнать самому Муть лица. И опять окрылено, вдруг, Перепутаю райские ценности И устану усталость нести К утру.Сборник стихов. 1930. Выпуск III.
«И будет день тяжелый и святой…»
И будет день тяжелый и святой, На желтых листьях осень станет биться, И ветер, стиснутый дождливою водой, Приблизить резко огненные лица. Сплетется мост добра и зла, Настанет бредь беснующих молений И разума — в знакомой лени — Звездой взмятется синяя зола. А телу жуткая миражится печаль — В высоком ястребе подстреленный полет — Покорные потери на плечах, Легчайший взмах и недолет.«Стихает бред…»
Стихает бред Нежности, слов и зла; В добре Окаянной повисла Тоска. В скате Стиснутых дней — Песков Сковано Все, что обиднее. Любви звонкое горе, Напряженной ночью в пустыне Стынет В горле. Необыкновенные круги Благополучия: — Круче, Лунного моря на скалах, Падают руки. Берложной убыли, — В нетерпеливом оскале, — Губы. И умирает Святое противоречие Без встречи Рая. Звенит тишина в виске, Стынуть в небе образы, Дымятся звездные росы В песке.«Числа» 1930, № 2–3
«Загорятся упорно глаза…»
Загорятся упорно глаза, Метнутся сполохами души И тяжесть видений сдушит — Голоса. А потом, исступленные сны Звездопадами в черное море, Будут вязнуть криком лесным В горе. Обползет круг в тишине Равноценность, с правом единым, И повиснуть крылья льдинами В вышине. К небу, опять, побредут Без дорог — навзничь — на горы, Впереди человек на кресте и в бреду Загорится. Ожидать будут вновь по ночам Напряженного, тихого шепота И земного, берложного пота Палача.«За горой залегла последняя ночь…»
За горой залегла последняя ночь, С красной луной недвижной в зените И шуршать облака паутиновых нитей; На осенних кустах умирают мучительно розы, Море рвется меж скалами в звездные клочья. В памяти образы холодной земли, — Человеческой жизни любовные взятки, И слов искупленья торопливых и зябких, И Бога их звонкие ветры мели, К ангелам входа, глухонемым и безумным… Человеческий мост из сплетенных людей, Прикрепленный к райскому дереву знанья! — — Стонал и метался под тяжестью сна Веры, любви и надежды, и тяжестью тела, Об дерево бился — паденьем в огонь лебедей.«Числа» 1931, № 5
«Туманами образы от рая до ада…»
Туманами образы от рая до ада Из болот до вершин, к исступленью И стынут смертельною ленью, И цепкими взмахами падают. Измеряет в душе полуночные будни Спокойное райское море, В жизни безумное горе Без веры, любви — блудное. Усталость природно разумная — Постоянной, невольной бедности — Силится душу на звезды нести В последнюю, умирая, грозу. Кто-то упорный любви хотел, Чтоб на земле (ведь больше нигде) Из-за счастья скомканных дел — Корчилось битое тело.«О тишине мельчайшего дробленья…»
О тишине мельчайшего дробленья, Из ничего оглохнувшего зова — Луна молчит и море из низов Буранами застыло в звеньях. Молчит душа, взметенная насильем Невольной жизни — райского закона, Ум загнанный молитвою закован И снится бунт ему о силе. Тяжелым шагом Демоны повисли Над простотой — о, так безумной, — рая И слово в горле пламенем сгорает. Взлетают вдруг и замирают мысли. И умирает ночь, как умирает день, Такие разные и равные друг другу, Сжигая образы по облачному кругу, Молчит душа, безлюдная везде. «Лес, вечер, покой…» Лес, вечер, покой, Пролетают торжественно птицы, Умирают звездные лица В траве под ногой. Замирает в висках на дне Напряженность скользкого гнева. …Запах ушедших дней, Запад осенний в огне… На деревьях цветет тишина, — Покорный, привычный плен — Так, не сжимая колен, В любви догорает жена.«Числа» 1933, № 7–8
«Все тот же день всегда и снова…»
Все тот же день всегда и снова, Все тянется крылом к закату доплеснуть. Вот нежность вечера у озера лесного, Глядит заклятостью хмельного слова В случайную мою неясную весну. — Неясная, как будто день печали, Поет весна в сиреневых кустах; Хотел и я запить, но песни лишь кричали, Хотя б во сне… — о, только бы молчали Проклятья детства моего и страх. И этот день, чтоб только заблудиться, В таких отчетливых и узких коридорах, Вот в липком холоде, — и спится и не спится, Как стынут замертво неистовые лица, Под тяжким взглядом уличного вздора. О, если б дни слагались из ночей!.. Чем ночь темней — беспомощность яснее: Безумный я, преступный и ничей.«Встречи» 1934, № 6
«Тишина, всплеск огней, тишина…»
Георгию Иванову
Тишина, всплеск огней, тишина. Паруса привиденьями в воду повисли. — Слушай, молчи, — это слишком немыслимо, Ведь там наша жизнь решена. — Только память о смерти сотри. — Ах, слова это звездные пропасти, И разума нам не спасти, Посмотри, вот туда посмотри. — Небо там, где-то, везде, — Все равно, где глаза, и где взгляды потерей, — Там, где парус вздыблен реей, Загоралась печаль на прекрасной звезде. Там наверное сердцу остыть. Там сердце не станет биться. Вот так умирает птица, Вера, надежда, и стыд.«Современные записки» Кн. LX, 1936
«Стихает день в мерцаньи паутин…»
Стихает день в мерцаньи паутин, Тревожней птиц полет в лиловом отдаленьи, И сердцу хочется лишь от себя уйти, Куда то в сторону, где в медленном пути Печальной осени холодны я колени. Холодный шорох в хрупкой вышине Скользит к земле прозрачным листопадом, И солнце, будто бы огромная лампада, Пролившись западом, припало к тишине. Какие страшные глаза утрат, Когда за них в борьбе смертельное виденье! Такая будет ночь, такое — до утра… Вот ледяным бичом затихшего бедра Касается уже крылатое паденье. Касается, и будто нет спасенья; Оно звенит, как колокольный бред: — Да, гибель здесь, вот в этом Ноябре, И не было, не будет воскресенья. Спасенья нет. Но отчего легко, Как в юных снах, — их взрослые не хвалят, — Как будто близко то, что было далеко, Как будто музыкою огненной влеком — Опять идти дорогой Парсифаля.Альманах «Круг» № 1, 1936
«Цветы отцветают, не надо иллюзий…»
Цветы отцветают, не надо иллюзий, Недетское время бродить по полям, Недетской тревогой о загнанной музе, Срываясь за ветром, шумят тополя. Не надо тоски, этой ломкой надежды, — Ведь тело привыкнет навыки хотеть — До солнца тянутся, без всякой одежды. Навыки Икаром крылатым гореть. Не надо иллюзий и правды не надо, — Правдивое стало как спутанный бред, И только вот сердце, как будто, не радо Опять не казаться огромным в добре. Огромным, как море — сквозь ночи и холод, Оно, наконец, заблудилось о крови, Теперь под рукою, как медленный молот, Ударом последним упасть норовит. Ну, что же, крылатый… Печальная птица Бескрыло прижалась к холодной земле… Ведь тело привыкнет над, кротостью биться, В потуге бессмертья метаться и млеть.Альманах «Круг» № 2, 1937
«Разверзается небо и падают в ночь…»
Разверзается небо и падают в ночь Учащенным дыханием дни; За такое виденье ты мне напророчь Путь туда, где герои одни. Может быть я тогда вдруг от них убегу, Чтобы в поле быть снова одним, Может быть и тогда моих стиснутых губ Не коснутся любовий огни. Все равно, напророчь, — я не знаю к чему Приведет меня жаждущий бред, — Суждено ли мне выпить истошную муть До конца в непочатом добре. Или может быть небо мне только грозит Перевернутым дном наших дней,— Но я вижу надежду, надежда сквозит В его опрокинутом дне. Напророчь мне огромное царство мое, Где с улыбкой и сеют и жнут, — О потерянном царстве, где сердце твое, Где ушедших и любят и ждут.«Русские Записки». 1937. № 2
I. «По юности — срывается и бьется тело…»
По юности — срывается и бьется тело. Величье старости! — Какое дело мне Во всем таком бреду, какое дело В тех утешениях на медленном огне. Еще в руках легки угрозы неба, Еще миражи слов крылатых по плечу, Но чаще кажется, что жизнь без сил и слепа. И вот тогда я будто в сон кричу — Кричу неистово колеблющейся тверди, О чем кричу — не знаю сам тогда, — О нежности, и что сильнее смерти, О счастьи, кажется, о теле навсегда.II. «Пройди сквозь сон, пройди сквозь эту вечность…»
Пройди сквозь сон, пройди сквозь эту вечность, Судьба беду такую не поймет, Как с высоты подстреленный полет — Ее слепит убийства безупречность. Но будет так: взметнешься ты Из этой липкой пустоты, И день в улыбке голубой Восстанет плотью высоты Между тобою и судьбой. Наперекор всему спасенью верь Наперекор мучительным виденьям. Не доверяйся блудным теням, Так всечеловеческим теперь. Не верь рабам, что счастья нет, Они судьбе такой покорны, Ее принес им ангел черный, Пронзая страхом тихий свет, Судьбою тоже обольщенный.III. «Не говори, заступница моя…»
Не говори, заступница моя, Об этом дне — ближайшем для расплаты; За всем ушедшим сторожа стоять Каких-то сил безумных и крылатых. За все ответят в этот день они Пред вечным равнодушнейшим Пилатом, И будут гневны звездные огни На каждом существе крылатом. Подруга трудная, теперь одна любовь, Она и ты, но больше нет надежды На перекрестке мира распахнуться вновь Без разума, проклятья и одежды. Я не отдам тебя ни другу, ни врагу, — Смотри, душа, мы погибаем оба, — Тебя в себе я цепко сберегу Последней верностью отчаянья — до гроба. И что отдать, и надо ли, за то, Чтоб нежности прошедшее виденье Остановило сетью золотой Любви взлетавшей скользкое паденье.Альманах «Круг» № 3, 1938
Сумасшедший
Влажный снег, луна в зените, Странный город, неживой, Стынет, стиснутый в граните. Речка красной синевой. Ночь все длится, — будет длиться, Будет длиться тишина, — Будто силится молиться Нелюбимая жена. Вавилоном иль Содомом Было ль место для зверей, Кто там прячется за домом, — Отворите дверь скорей. Еле жив я в этом мире Нелюбовном, немирском; Как чума на блудном пире — Кровь на счастии людском. Отпустите, я невинный, Мы невинны и в добре… Жили-были… Свет звериный Криком воет во дворе; Все заглядывает в душу Из пустого далека — Это он метелит стужу Дни и годы и века; Это он распятым миром Распростерся над душой… А ведь было в свете милом Много радости большой. Сердца нет, но так и надо: Вместо сердца — волчья пасть, Равнодушие лишь радо — Чтобы падалью упасть. Отворите дверь скорее — На земле мы все цари… Флаг любви на каждой рее… Боль святая, отвори.«Новоселье», 1949. № 39–41
«Желтеют листья тополей…»
Желтеют листья тополей. И это — осень. Бог тебе порукой — Слепого сердца не жалей, Будь осияннее, светлей С твоею темною подругой. И будут снежные глаза На зимней чистой и пустой дороге, И поседеют волоса И ближе станут небеса, И ты остынешь в добром Боге.«Осенний свет вокруг. Душе светло…»
Осенний свет вокруг. Душе светло. Печаль и свет — от края и до края. И смерть легка, как птица голубая, Летящая в небесное село. Она вся в золоте. Она тревожно Обходит нас, по западу скользя… Не плачь, дитя, нельзя не быть, нельзя,— Благословенно все и все возможно.«Настигли сумерки холодною тропой…»
Настигли сумерки холодною тропой, И зимний лес во тьме без шороха, пустыней. Итак, беспечное, мне пой или не пой, Но тело снов моих когда-нибудь остынет, Когда-нибудь, ведь, пой или не пой. Не легче мне, что звездное здесь вижу, Не легче мне, что не своей рукой В глазах моих все эти звезды выжгу Рукою вечности, чудовищно слепой. И что припала ты, горючая, ко мне, — Тебя, посредницу, жалеть я не умею, Такие же, как ты, средь стиснутых камней На кладбище теперь наверно леденеют, А ты со мной, и радуйся в огне!.. И знаю я, что ты одна не в силах Своим сияньем сметь, своими снами знать Какая музыка земли тебя носила, С какою силою ты будешь отлетать.«Зеленый свет, весна и ты в лесу…»
Зеленый свет, весна и ты в лесу. Тиха в руках воздушная прохлада. Не в первый раз я этот дар несу Так бережно, как будто навесу Вся жизнь моя, ушедшая из ада. Ненужная в законе диких лет, Я знаю, здесь — ты больше всех законов О, нежность детская, тебе во след Стремится все — и тьма, и свет, И тишина среди распевных звонов. Пройдите, годы, мимо, стороной, — Вас много было ни живых, ни мертвых, — Ведь день взошел сияющей страной, Он весь всему подобен и иной, На небесах землею распростертых.Жизнь
Где нет надежд, любви, призваний, Где сердце холодно молчит, Где, в час весны высокий, ранний, В окно никто не постучит, — Ее я вижу затаенной, Униженной, и все ж влюбленной. С каким неведомым названьем Из дальних лет она летит, Каким еще очарованьем Или слезами — отзвенит, — Всегда мучительно знакома От роста ввысь и до излома. И под какими небесами Зажжет она свои огни, Мерцая темными глазами На догорающие дни, И не уклонится от взгляда, Когда измучена и смята. Но если в ком-нибудь она, Как бы к самой себе влекома, Самовлюбленна и одна, Без родины, людей и дома, — Она уйдет, и навсегда, Без памяти и без следа.Антология «На Западе», 1953
«Сияет свет утра. Сияние беспечно…»
Сияет свет утра. Сияние беспечно На крыльях бабочки (весенним днем в глазах людей взволнован он извечно всепретворяющим каким-то бытием). Беги, дитя, за райским излучением Из глаз твоих струящимся, беги, Не растеряй его высокое значенье, Улыбкой верности как счастье сбереги. И я, и ты, — мы оба не случайно В пожар земли не верим, не хотим; Ты — радостью, я — радостью печальной, Быть может, к звездам скоро улетим.Журнал «Грани» 1959, № 44
«Вот так, вдруг залетев в тупик…»
Вот так, вдруг залетев в тупик, Вдруг пробуждается душа, Чтоб видеть, как тоской велик, Земли перегруженный шаг, Чтоб видеть, как больна она, Вся эта звездная земля, И как устала изумлять — Извечно в ледяных волнах — Красиво мертвая луна… Я не знаю что там — за чертой, Откуда явился герой; Говорят — пустота, Говорят — темнота, Говорят, что родятся на свет, Чтоб пред Богом держать ответ; Но родиться так тоже могла б Пустая, бездонная мгла.«Куда-то прочь ушли спокойные туманы…»
Куда-то прочь ушли спокойные туманы. И утро стало вновь средь росистых полей; С дарами для земли, с дарами для людей Текут, плывут лучи — златые караваны. До корневой, живой и влажной глуби Припали солнце, свет и жизни час большой Высокий час утра, с намеренной душой Как та душа, что рано мною любит. Что, человек, в тени прижался ты к стене! Беги, скорей беги с любовною подругой До поля радости, труда, усталости упругой. Чтоб счастьем прозвенеть вам в солнечном звене.Под названием «Утро» включено в сборник стихов «В потоке света» (Париж, 1949).
Приложение. НИКОЛАЙ ОЦУП. Рецензия на книгу В. Мамченко «В ПОТОКЕ СВЕТА» (Париж, 1949)
К стихам В. Мамченко уже давно читатель ответственный перестал относиться как к замысловатому ребусу: их стиль, чем дальше, тем очевиднее, подтверждал, что автор владеет всеми средствами современной поэтической техники, но отказывается сознательно от готовых приемов и, что важнее всего, пытается запечатлеть свое непрерывное усилие изменить что-то в себе и в окружающих.
Конечно, уже много раньше Ницше, философ и поэт умели требовать от себя и от других людей мыслящих и сочиняющих как бы вещественных доказательств подлинности их дела жизни. Но может быть именно от Ницше (и Маркса) естественнее всего вести начало новейшей эпохи в истории культуры, и потому имя его не случайно приходит на память каждый раз, когда воля нового искателя новых идей или звуков возвращает нас к трудной и необходимой проверке истоков нашего века. Ведь и чуть-чуть развращенный поверхностным успехом экзистенциализм лишь договаривает то, над чем отшельники-одиночки работают в уединении, неизбежно трагическом: где-то там, во второй половине прошлого столетия, рухнули окончательно основы одного мира, но еще и в малой степени не удалось его заменить другим, новым. Идеи-чувства, изнемогающие в усилии, наперекор очевидности, даровать нашей переходной эпохе еще не достижимое согласие муз, относятся к едва ли не самому благородному владению человека этих лет.
От Баратынского, если говорить о поэзии русской, идет в ней линия мысли, не боящейся одиночества, непризнания. У одного из замечательнейших современников Пушкина, у автора стихов «Последний поэт» и «Последняя смерть», в лучших созданиях трудного, почти «корявого», поражает всегда (в лирике, не в поэмах) решимость оставаться от всех в стороне и высокая требовательность не только к себе, но и к читателю. Баратынский — поющая мысль.
Всякое утверждение родства между музами поэтов не может быть бесспорным. Но так же, как например Гумилев чем-то напоминает Лермонтова (как бы ни были очевидны различия в качестве или технике их поэзии), так же Мамченко не раз лично меня заставил вспомнить Баратынского и Ницше (удивительного, кстати, не только в философии, но и в чистой лирике и даже, говоря формально, в мастерстве стихотворца).
Подвижническая муза Мамченко не берет себе на венок «тафтяные цветы», мир ее суров, почти аскетичен. Может быть, именно поэтому вступает она в более интимное, более тайное соприкосновение с человеком и внешним миром, чем поэзия внешне отзывчивая, но внутри себя недостаточно напряженная.
Неясность Мамченко? Недоговоренность? Но… lе sens trop precis rature ta vague litterature. К тому же, «В потоке света» — еще один шаг вперед (по сравнению с «Тяжелыми птицами» и со «Звездами в аду») на пути к прекрасной ясности, если и неотъемлемой от лучших созданий поэзии, то все же допускающей отклонения, поиски, риск…
Стиль Мамченко — гарантия его самобытности. Если он и соприкасается с чужими вдохновениями, то в своей поэзии-мысли-жизни он все преображает по своему, и всеобщее идет у него в обработку наравне с собственными находками, плаченными дорого.
«Высокое косноязычье» поэта требует от читателя все меньше усилий, потому что светлеет глубина его лирики, яснее и проще она «в потоке света».
Но приближаясь к законам обычной логики языка, Мамченко не уступает своих трудных особенностей, продолжает вести читателя к тому, к чему этого рода искусство не может не вести: к сотрудничеству, к ответному напряжению духовных сил.
Можно, мне кажется, утверждать, что никогда еще никакой поэзии зарубежной не удавалось организовать в каком-то общем, едва ли не патетическом, служении столько людей, отдающих так много сил работе над стихами. Объясняется это, конечно, прежде всего прямым воздействием на каждого, кто мыслит и пишет по-русски, тех учителей (в самом высоком смысле слова), которыми так богата русская поэзия от Пушкина до сегодня.
Обилие и разнообразие поэтических дарований отмечалось недавно в связи с выходом в свет антологии советской поэзии. Эмиграция, с ее отрывом от всего, или почти от всего, что называется родиной, приобрела, если и не прямое чувство «иной родины», то, во всяком случае, особо-углубленное сознание общности человеческих судеб. «Они и оне» в нашем зарубежьи заслуживают внимания самого пристального.
Работа над стихом и над собой, упорные поиски своего стиля, неслыханно-подлинная готовность «для звуков жизни не щадить», оправдывают многие уродства, неизбежные в быту слишком тесно и бедно существующих людей одного ремесла. Среди них Мамченко занял свое место, голос его не тонет в общем хоре. Он — сам по себе. Хороши многие его стихи в отдельности, хороши они в особенности вместе, одно за другим, в музыкально-осмысленной их непрерывности. Не хочется приводить примеры, но прочитайте хотя бы строчки о реющих над вечерним Парижем огнях.
Как пустыня, море и горы издавна были университетами для самопознания, так одиночество возле жизни больших городов помогает дочувствовать многое ускользающее в рассеянии, в суете.
Стихи Мамченко — живой след одной из очень своеобразных биографий того существа, которое люди духовного опыта называют «человеком внутренним».
«Новоселье». 1950. № 42–44. С. 222–223

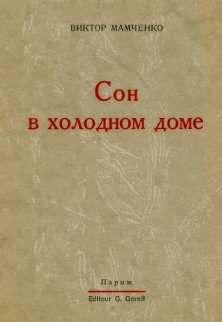


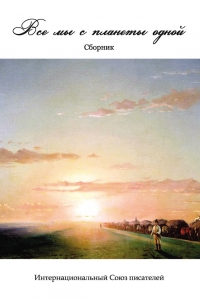




Комментарии к книге «Сон в холодном доме», Виктор Андреевич Мамченко
Всего 0 комментариев