Глава «Борис Лапин и Захар Хацревин» из книги «Строка, оборванная пулей»
Илья Эренбург Из книги «Люди, годы, жизнь»
…В 1932 г. я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник». Она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.
Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.
…Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.
У Ирины[1] сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11 мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля, был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.
Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию: жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 г, он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.
Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.
Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.
При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом (Захаром Львовичем) Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем…
…Хац был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, — жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, по Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.
…В один из последних вечеров[2] мы читали в Переделкине роман Хемингуэя[3]. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте: про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель… Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй…»
Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.
Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга… «Скорей! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер…» Это последние его слова, которые до меня дошли…
Борис Лапин
Недалеко от Оренбурга
Мы ехали в скотском вагоне в далекий и сытный Ташкент, И наши тифозные руки. сжимали холодный брезент. У края последнего леса разобраны были пути. На склон выходили казаки, чтоб нас, безоружных, — вести. Когда нас вели на закате казаки в багровый овраг, Мы пели, что смертью заплатит наш Деспот, Мучитель и Враг (Тот Деспот давно похоронен, а нас отводили в овраг). Когда нас потом хоронили В холодной осклизлой земле, Ни бабы по нас не вопили, ни девки в соседнем селе. Погасшие тучи дымили над белой казачьей землей В тот час, когда нас хоронили На свалке на темной, лесной. Товарищей теплились знаки на дальней багровой горе. На степь выезжали казаки, убившие нас на заре (На дальней багровой горе).1923
Опасность
Человек тридцатилетний, Грубый, хитрый, удалой, Вышел к миру ночью летней И с гармонью под полой. А вокруг — девицы тают: «Этот светлый — чем не туз!» Кудри лихо упадают Под заломленный картуз. Он идет по тротуару, И фонарь желто горит. Ветер в шапке говорит. Поддает гармошка жару. Тени важно проплывают. Не видать во тьме липа. Он идет и напевает Песню вольного бойца.1925
Борис Лапин, Захар Хацревин Шпион
Перед нами лежит жизнеописание господина Абэ. Он родился в Муроране и был изгнан из провинциального университете за неспособность к наукам. На экзамене он провалился по философии, по стилистике и по изящной литературе.
Два года от проболтался без дела, обивая пороги контор и городских учреждений. Он часто заходил в канцелярию школы военных топографов. Оттуда его выгоняли, но он снова возвращался, выстаивая на лестнице, увешанной картинами морских боев.
— Вы забыли? Вас выбросили отсюда, — говорил ему швейцар.
— С тех пор прошло два два дня, господин начальник, — отвечал Абэ.
Заметив эту необычайную настойчивость, секретарь директора распорядился зачислить Абэ на первый курс. Здесь он показал недюжинные способности к ориентировке в неизвестных местностях и составлению сводок во время практических занятий. Он учился китайскому и русскому языкам и к концу курса владел ими свободно. В обращении с товарищами он был мягок и услужлив, но иногда мог сказать: «Отдай готовальню, тебе не понадобится, я думаю. Я слышал сегодня, что у тебя открылась чахотка и ты долго не протянешь».
Абэ чертил карты и не забывал ничего, что попадалось ему на пути. Он мог рассказать, какого цвета носки были у человека, встреченного позавчера на проспекте, какие были облака в тот день, номер автомобиля, в котором проехала женщина с розовым гребнем вместе с американским инженером — служащим Ллойда, судя по значку в петлице. Он не пропускал ничего. Тумбы, вывески, фонари, дороги, паденье ручьев, горы, длина часовой цепочки у репортера Н. — все сохранялось в его памяти.
По окончании школы Абэ был послан в Корею, на границу русского Приморья. Здесь он прослужил восемь лет, совершенствуясь в своей области. Ему приходилось видеться со многими людьми, часто выезжать, вставать ночью и встречаться с живописными корейскими нищими с черным наческом на голове, передававшими ему завернутые в лохмотья полоски бумаги. Они «выходили в море за тунцами», как выражаются шпионы между собой в разговоре.
Иногда он начинал пьянствовать и выбегал на улицу босой, в коротких штанах, в распахнутом плаще, с голой грудью. Говорили, что он убил жену, содержательницу ночного дома на Хансе.
По виду Абэ — веселый молодой человек, с прямыми плечами и крепкими мышцами. Он был одним из выведывателей — вывернутых наизнанку людей «с глазами во всех карманах».
Рассказывают, что памятка выведывателей состоит из нескольких заповедей:
«Задавать вопросы раньше, чем собеседник; отвечать так, чтобы в ответе заключался вопрос; спрашивать так, чтобы в вопросе заключался ответ; казаться упрямым и имеющим свои принципы, вместе с тем быть безликим, пустым и серым, как паутина. Узнавать мысли».
Абэ вытягивал у человека нужные ему слова и составлял донесения. Он проверял агентурную цепь и сочинял отчеты, каллиграфически выписывая знаки и располагая слова тщательно и красиво, как в стихах. Это он считал особым щегольством службы. Иные из его донесений в переводе могли бы звучать так:
Господин начальник! Я пишу вам на пути В укрепление Футана. Честь имею донести Снисхожденью капитана: Проверяя нашу сеть, Я беседовал с купцами,с арендаторами земельных участков, с певицами, тибетскими докторами, содержателями номеров, с аптекарем, Риу и другими нашими людьми,
Долженствующими впредь Выйти в море за тунцами.Мрак застал меня в восьми милях от границы. Я остановился в деревне и решил заночевать в придорожной чайной нашего корейца, о котором я докладывал вам, — шепелявого, с маленькой выемкой на правой щеке, косящего, с неравномерной ширины бровями, наклоняющего голову во время разговора. В чайной было одиннадцать человек.
Там сидел видавший свет, Вороватый, беспардонный, Пробиравшийся в Посьет Наш разведчик закордонный. Он был несколько смущен Пограничным инцидентом, Где был А. разоблачен По раскрытым документам. Я рванул его, шутя, За его начесок жалкий. Он был бледен, как дитя, Ожидающее палки. Он кричал, что не пойдет, Что его здоровье слабо, Что его в деревне ждет Голодающая баба, Что его агентский флаг Скоро выйдет к юбилею… Я воткнул ему кулак В льстиво согнутую шею. Я не дал ему вздохнуть Громом отповеди строгой. Он направлен мною в путь В тот же день кружной дорогой. И легли его пути По равнинам гаоляна. Честь имею донести Снисхожденью капитана.Не так давно Абэ, примелькавшийся в Корее, был переведен на работу в один из маньчжурских городов. На следующий день он стоял уже на людном перекрестке — приятный молодой человек в чистом платье, в канотье от Чоу Чжана, вертящий в руках камышовую трость.
Вечером город Ц. представляет собой любопытное зрелище. Казарменные дома, освещенные с улицы двухцветными фонарями, японские солдаты, гуляющие молчаливыми группами, лысые черные псы, столбы дыма, составленного из жавелевого пара прачечных, кухонной гари и пороховой копоти от учебной канонады, доносящейся издалека.
Абэ вошел в вечерний городской обиход. Его видели всюду, он бродил по улице Дзоудая, торчал на площади между управлением почт и деревянным цирком, вертелся среди спекулянтов, торгующих фондовыми бумагами. Вместе с приезжими он смотрел на багровые майские закаты, его соломенная шляпа была покрыта летящим с деревьев пухом.
— Какое чудесное выражение природы, — сентиментально восхищался Абэ. Он выдавал себя за китайца, воспитывавшегося в Японии и наконец возвратившегося домой. Он поочередно прикидывался коммунистом, гоминдановцем, японофилом и антияпонцем и всегда занимался предательством.
Он беспрерывно общался с людьми, влезая в разговор по каждому поводу.
— Извините меня, не встречал ли я вас где-то?
— Прошу простить меня, если я не заблуждаюсь, вы служащий сберегательного банка? Очень рад побеседовать.
— Здравствуйте! Ужасные дела. Мне, как китайцу, это больно видеть.
— Хотите, я расскажу вам анекдот: когда у сычуанца спросили, что тебе больше всего нравится — зима ли, лето ли, — он закричал: «Весна». А мы, когда нас спрашивают, кто вам больше по душе — англичане или японцы, — Я мы говорим: «Китай».
— Не правда ли? Вам нравится? Вы согласны с этими словами? Мы единомышленники. Я так и подумал. А какого мнения об этом держится господин Ши?
В последнее время Абэ получил прибавку содержания и «благодарность за поступки». Он переехал в Дзо-Ин. Говорят, что его перебрасывают на монгольскую границу. Он будет монголом. Он подвижен, как волчок, и завтра может оказаться в любом месте земного шара. Приметы его трудно описать — он старается их не иметь.
1935
И. Осипов В трудные дни
В сентябре сорок первого года немцы форсировали Десну и подошли к Черниговскому шоссе.
Наступили трудные дни Киева.
Утром 12 сентября я увидел Бориса Лапина и Захара Хацревина у пустынного подъезда гостиницы. «Континенталь».
Молча, терпеливо наблюдали они, как сержант Швец протирал забрызганное ветровое стекло автомобиля. Этот говорливый толстяк прослыл самым медлительным шофером на Юго-Западном фронте. Но машина корреспондентов «Красной звезды», на зависть всему журналистскому корпусу, постоянно была в боевой готовности.
— Мы только что видели сводку, — сказал Лапин. — Немцы у Козельца.
Он вынул из полевой сумки аккуратно сложенную вчетверо карту и в нескольких словах охарактеризовал обстановку на северо-восточном участке фронта.
— Едем под Козелец. Там все решается…
Борис и Захар всегда стремились именно туда, где происходило или могло произойти самое важное.
Они умели выуживать у неразговорчивых штабных работников достоверные сведения и благодаря этому точно определяли правильный маршрут очередной поездки.
Лапин отлично читал карту. В то время, в начале войны, это был, пожалуй, единственный человек среди военных корреспондентов, умевший ориентироваться среди рек, деревень, холмов и рощ, рассыпанных по зеленому полю двухверстки.
И на этот раз он не ошибся в выборе маршрута.
Наша камуфлированная под цвет лягушки машина появилась на Черниговском шоссе в нужный момент. Здесь, неподалеку от Козельца, стрелковая дивизия остановила прорвавшихся из-за Десны немцев.
Мы свернули с шоссе на узкий, раздавленный гусеничными тягачами проселок и, приглядываясь, как всегда, к отмеченным на лапинской карте ориентирам, некоторое время продвигались навстречу орудийному грохоту.
Потом остановили машину возле обвалившегося глинобитного сарая, и Лапин уверенно повел нас огородами в штаб полка.
Борис обладал особым талантом находить в любой неразберихе нужного человека или хотя бы след его недавнего пребывания. На фронте это бывает иногда очень полезным.
В избе, к которой приткнулась заваленная необмолоченными снопами радиостанция, сидел боец с телефонной трубкой, привязанной к уху.
Командир и начальник штаба только что ушли на южную окраину деревни, в расположение второго батальона.
Оттуда доносился почти несмолкающий треск автоматов.
— Контратакует. Пятый раз сегодня лезет, сволочь, — с досадой сказал телефонист.
Выйдя на улицу, мы посовещались, что делать дальше.
Очевидно, командиру полка в данный момент не до беседы с корреспондентами. Разумно было бы подождать его возвращения из батальона, который отражает пятую, атаку немцев.
Но, зная уже, как в подобных случаях поступают Борис и Захар, я не удивился их решению идти на южную окраину и покорно последовал за ними.
Мы благополучно добрались до командного пункта батальона. Это была неглубокая, по пояс, траншея, прикрытая сверху тяжелыми бревнами. Для нас уже не хватало в ней места, и мы легли рядом, зарывшись в солому.
— Отсюда ни черта не видно, — заявил через минуту Лапин.
— Но ничто не мешает нам слушать, — философски отозвался Хацревин.
Командиру полка действительно было не до нас. Он руководил боем, исход которого еще нельзя было предвидеть. Мы не отважились оторвать его от стереотрубы. Немецкие мины с противным скрежетом падали позади нас. После каждого разрыва слышалось жужжание осколков, и некоторое время над землей висело маленькое черное облако дыма.
Лапин достал из полевой сумки длинный блокнот в твердом синем переплете и принялся что-то записывать.
Время от времени он высовывался из соломенного укрытия и, поправляя очки, внимательно, неторопливо оглядывал клочок земли, на который ворвалась война.
Он с увлечением работал. Узкие листы блокнота покрывались стремительными записями. Обладатель цепкой, не изменявшей ему памяти, Борис никогда полностью ей не доверялся. На этой разбитой снарядами деревенской окраине, под огнем минометов он оставался таким же трезвым и взволнованным наблюдателем, каким его воспитали годы странствий по нашей земле. Таким он был и на Памире, и на Камчатке, и на Халхин-Голе.
Стрельба на минуту утихла.
Захар приподнялся на локте, встретился взглядом с командиром полка и вежливо осведомился, не уделит ли тот немного времени военным корреспондентам.
Командир полка с удивлением посмотрел на незнакомых командиров, лежавших возле траншеи.
Мы вернулись в Киев вечером. Борис и Захар были в отличном настроении.
— На Черниговском шоссе немцы получили крепко по морде, — сообщал всем знакомым Лапин, и лицо его озарено было неподдельным восторгом.
Всю ночь в тринадцатом номере горел свет. Борис и Захар писали очередную корреспонденцию.
…Тусклым осенним утром покидали мы Киев. Над городом вставало дымное зарево. Немцы били фугасными снарядами по Крещатику.
Мы прошли по цепному мосту, служившему в течение трех месяцев мишенью для немецких асов. Мост был неуязвим. Обломки «юнкерсов» и «хейнкелей» валялись на песчаном островке посреди Днепра.
Борис и Захар молча шагали в колонне бойцов. Ночью, когда уже стало известно, что город будет оставлен, они отнесли на радиостанцию последнюю киевскую корреспонденцию. Пряча в карман второй экземпляр — шесть страничек, запечатлевших самые напряженные часы обороны Киева, Захар сказал:
— Если этот очерк затеряется в эфире, мы сами доставим его в редакцию.
Радист обиженно заметил:
— У нас, товарищ военный корреспондент, ничего не теряется.
— Ну, разумеется, — вмешался Борис. — Мой друг просто пошутил. Поверьте, мы уверены, что наша корреспонденция будет доставлена по назначению.
Когда они вышли из палатки радистов, Борис обратился к Захару:
— Не понимаю, зачем вы огорчили их? Я тоже опасаюсь, что наш прощальный опус не попадет в редакцию. Не велика беда, честное слово. Гораздо важнее, чтобы никакие сомнения не мешали людям в такую минуту.
— Пожалуй, в этом есть доля истины, — согласился Захар.
Поток автомобилей, орудийных упряжек, обозных телег катился через мост на левый берег Днепра.
Выглянуло солнце, его косые лучи упали на купола Печерской лавры.
Я увидел в руках у Лапина знакомый блокнот в синем переплете. Не знаю, что записал он, перейдя через Днепр. Может быть, услышанное на мосту меткое солдатское словцо или еще одну, последнюю строку к «Журналистской задушевной»?
Таким — очень сосредоточенным, с блокнотом и карандашом в руках, на обочине фронтовой дороги — навсегда вошел он в мою память.
Мы долго глядели на оставленный город. Трудно и горько было представить себе, что сегодня по аллеям Владимирской горки будут расхаживать фашисты.
Лапин обернулся к нам. Враг всяческой высокопарности, он произнес:
— Теперь у нас может быть только одна цель в жизни: вернуться в Киев.
Это прозвучало как клятва.
Когда-то Лапин писал о годах своей журналистской работы: «Я был незаметным солдатом непобедимой армии бумажных людей, помогающих сражаться с временем».
С первого дня войны Хацревин надели солдатские шинели и заняли место в строю нашей непобедимой армии.
Они прошли с нею по тудным дорогпм сорок первого года, выполнив свой воинский долг перед Родиной.
Лев Славин О Лапине и Хацревине (отрывок из воспоминаний)
…Они были очень дружны. Эта дружба выдержала испытания работой, опасностями, самой смертью.
Они были товарищами в труде, в путешествиях, в войнах. Это была дружба мужественных людей. Они обходились без сентиментальных заверений во взаимной приязни. Напротив, они нередко препирались.
Хацревин не упускал случая подтрунить над феноменальной рассеянностью Лапина.
Эта рассеянность происходила от сосредоточенности. Иногда она бывала так глубока, что походила на одержимость. Это означало, что Лапин охвачен идеей новой книги или замыслом нового путешествия, куда непрерывно гнал его беспокойный и отважный дух исследователя. Решения его часто казались внезапными. На самом деле они длительно и незримо созревали в недрах его деятельного мозга, что бы другое, видимое, ни делал он в эту минуту: читал ли, гулял ли, разговаривал ли на постороннюю тему. И тогда под незначительностью обыденного разговора порой чувствовалась пылающая работа его воображения. Легкий тик, пробегавший в такие минуты по его лицу, казался произвольным мускульным усилием, способствовавшим напряженной работе мысли.
Лапин любил Хацревина немного покровительственной любовью старшего брата (хотя он был моложе Хацревина) или матери, которая хоть сама и покрикивает на своего несмышленыша, но никому другому не позволяет обижать его. В этом, несомненно, был и оттенок жалости. Широкоплечий жизнерадостный Хацревин был очень больным человеком. Это не помешало ему в 1939 г., когда вспыхнули военные действия на реке Халхин-Гол, домогаться командировки на фронт.
Там, в районе упорных боев, этот человек, с привычками изнеженного горожанина, страдавший жестоким пороком сердца и изнурительными припадками ноктурны (род падучей болезни), не знал ни страха, ни уныния, ни усталости.
Койки Лапина и Хацревина в редакции арийской газеты всегда пустовали. Друзья вечно пропадали на переднем крае. Им было нелегко. Никто никогда не слышал от них жалоб. Хацревин мужественно преодолевал свою физическую хрупкость, свои сердечные обмирания, свои эпилептические припадки, которые почти каждую ночь били его. У Лапина от невзгод фронтовой жизни открылся старый рубец на спине, откуда все время сочилась кровь. Он больше всего боялся, чтобы редактор не заметил этого и не откомандировал его с фронта.
Помимо всего, война остро интересовала их как неповторимый материал для наблюдений. Тут и начинаются различия.
Хацревин наблюдал войну с жадной любознательностью, не затрудняя наблюдений никакими литературными расчетами. Эта неутомимая любознательность гнала его под огонь минометов, в гущу атаки, делала его опасным спутником.
У Лапина же этот процесс осложнялся чрезвычайным напряжением внимания, направленным на запоминание. Не доверяя памяти, он записывал все, что видел, в свою тетрадку, которая, так же как и пистолет, всегда была при нем. Он заносил в нее как бы моментальные снимки с натуры — короткими словами, почти стенографическими иероглифами. Тут же с лихорадочной быстротой он запечатлевал обобщения, образы, ассоциации, вихрем проносившиеся в его мозгу. Он запоминал войну как материал для искусства. И никакая острота обстановки не в состоянии была парализовать эту профессиональную потребность писателя.
Как-то на одном из участков на Халхин-Голе наблюдатель доложил, что японцы надевают противогазы. Можно было ожидать химической атаки. Ни у кого из нас троих не было противогазов — по недопустимой небрежности мы оставили их в машине и отпустили ее. Все вокруг натянули на себя противогазы, запасных не оказалось.
Я закурил папиросу, чтобы определить направление ветра по дыму. Но медлил смотреть на него. Странное оцепенение овладело мной.
Хацревин беспечно улыбался и, засунув руки в карманы, с любопытством озирался по сторонам.
Лапин же выхватил из кармана свою тетрадку и принялся писать. Он фиксировал свои «предсмертные» ощущения. Он писал очень быстро, чтобы успеть записать как можно больше. Наконец Хацревин сказал, покосившись на дым моей папиросы:
— Ветер к японцу.
Мы вздохнули и рассмеялись.
Потом Лапин читал нам свои лжепосмертные записи: «Газовая тревога. Барханы. Глубокий песок. До японцев 350 метров. Сидим под высокой насыпью. Над головами жужжат пули. Массивность майских жуков. Здесь в песках портится все автоматическое — пистолеты, часы, ручки. Минометы молчат. Вечер. Но еще светло. Где же газы? Все в масках. Тупоносые. Ворочают серыми резиновыми пятачками. Наших три голых беззащитных лица. Чувство неизбежности. Газ еще не дошел. А может быть, он без запаха? Пульс учащенный. Смуглое небо. Орлы. Низко пролетают. Бегут. Мясистые крылья свистят, сдвигаясь…» И так далее, все в том же стиле скрупулезно-точного описания обстановки.
Они оба не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснился страстью видеть, у другого — страстью изображать.
* * *
Разразилась Отечественная война. Лапин мог эвакуироваться вместе с теми, кто уехал в тыл заниматься литературой. Он уже достиг того возраста, когда писатель начинает меньше скитаться, а больше сидеть за письменным столом и разрабатывать накопленное. Но ему показалось невозможным писать, покойно расположившись за широкой спиной Красной Армии. Не жажда впечатлений гнала его на войну, а высокоразвитое чувство патриотического долга. Он примкнул к тому отряду писателей, которые шли, погибали и побеждали вместе с солдатами.
В сторону неоконченные рукописи! Из-под кровати извлечены запыленные сапоги, к поясу подвешен пистолет, сунута в карман тетрадка. Военные корреспонденты Лапин и Хацревин уехали на Юго-Западное направление. И вскоре на страницах «Красной звезды» стали появляться их «Письма с фронта» — едва ли не ежедневно…
Лапин и Хацревин гордились своим родом оружия. В армии во время Отечественной войны работали несколько сот журналистов и писателей. Они шагали рядом с солдатами, они мокли в окопах, вылетали на штурмовки, ходили на подлодках в неприятельские воды, высаживались с десантами, работали среди партизан в тылу у врага. Как у всякого рода оружия, у них были свои обычаи, свой фольклор, своя честь. Они пели свои песни, которые им написали Лапин с Хацревиным и Симонов. Они жили с народом на войне, звали его в бой и сами ходили в бой. Поистине перо было приравнено к штыку и к свинцу пуль — свинец типографского набора. Среди храбрейших из них были Лапин и Хацревин.
С самого начала войны нас разбросало по разным фронтам. Я был на Ленинградском. Все же еще раз я увидел их.
* * *
В августе 1941 г. редакция вызвала отовсюду своих военных корреспондентов на несколько дней в Москву, чтобы дать им новые инструкции. Из-под Киева примчались в пятнистой простреленной «эмке» Лапин и Хацревин. В ночь перед возвращением на фронт Хацревин метался в сорокаградусном жару. К его обычным недугам добавилась — дизентерия. Он запретил нам сообщать редактору о его болезни. На следующее утро никто не сказал бы, что он болен. Он был, как всегда, весел, ясен, бодр, он в совершенстве сыграл здорового. И они уехали в своей пятнистой машине обратно под Киев.
А на следующий день уехали обратно в Ленинград Михаил Светлов и я. Поезда уже не ходили. Мы поехали в машине. Но и Ленинградское шоссе оказалось перерезанным. Обходными путями, через леса, мы добрались до Мги и проскользнули сквозь нее. Через несколько часов она была занята немцами. Последняя дверь в Ленинград захлопнулась за нашей спиной. Мы въехали в блокаду.
Но оставались воздушные пути. Самолеты из Москвы садились на маленьких площадках на окраинах Ленинграда. В октябре прилетел один знакомый летчик. Он рассказал, что Лапин и Хацревин погибли в боях под Киевом.
Офицер, который видел их последним, рассказывал; на охапках сена при дороге лежал Хацревин. Он был окровавлен. Лапин склонился над ним, в солдатской шинели, сутулый, с винтовкой за спиной. Они пререкались. Хацревин требовал, чтобы Лапин уходил без него. Лапин отвечал, скрывая нежность и грусть под маской раздраженности: «Ну, ладно, хватит говорить глупости, я Вас не оставлю…»
* * *
Почему их жизнь мне кажется такой замечательной? Ничего как будто и особенного: труд, скитания, война.
Но доброта, талант, естественное и деятельное благородство, честность, мужество, скромность, рассеянные по многим людям, соединялись в каждом из них слитком высочайшей пробы.
«Мальчики убиты!» — эта весть горестно поразила всех друзей. Я забыл сказать, что их называли «мальчиками» (хотя старшему из них исполнилось тридцать семь), — вероятно, за то сияние чистоты, которое так молодило их.
Произведения Б. М. Лапина: Молнияиин. [Стихи]. М., 1922 (совм. с Е. Габриловичем); 1922-я книга стихов. М., 1923; Повесть о стране Памир. М., 1929; Тихоокеанский дневник. М., 1929; Журналист на границе. Л., 1930; Подвиг. Повесть. М., 1933; 1869 год. Повесть. М., 1935; Избранное. [Вступит. ст. Л. Славина]. М., 1947; Избранное. [Предисл. И. Эренбурга]. М., 1958; Стихи. — В сб.: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. М.—Л., 1965; Подвиг. Повести и рассказы. М., 1966; Стихи. — В сб.: Пять обелисков. Вып. 2. М., 1970.
Произведения 3. Л. Хацревина: Персианка. М., 1928; Тегеран. Рассказы. Л., 1933.
Произведения Б. М. Лапина и 3. Л. Хацревина: Америка граничит с нами. М., 1932; Сталинабадский архив. М., 1932; Дальневосточные рассказы. М., 1935; На большой дороге. [Киносценарий]. Л., 1935 (в соавторстве с Л. И. Славиным); Путешествие. М., 1937; Лето в Монголии. [Рассказы]. М., 1939 (в соавторстве с Л. И. Славиным); Его зовут Сухэ-Батор. [Киносценарий]. — В кн.: Избранные сценарии советского кино. Изд. 2-е. Т. 4. М., 1951; Когда идет бой. — Лесная армия. — В сб.: Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне. T. 1. М., 1957.
О Б. М. Лапине и 3. Л. Хацревине: Рыскова Н. Вымысел под быль. — «Литературный Ленинград», 1933, 5 октября; Гервье О. Тегеран. — «Литературная газета», 1934, 22 марта; Островский Ю. Заметки о стиле Лапина. — «Знамя», 1935, № 6; Севрук Ю. [Рецензия на кн.: Лапин Б. М. и Хацревин 3. Л. Дальневосточные рассказы. М., 1935]. — «Красная звезда», 1936, 8 января; Славин Л. И. О Лапине и Хацревине. — В сб.: В редакцию не вернулся… Изд. 2-е. T. 1. М., 1972; Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. 3–4. М., 1963; Протасова М. П., Темкина И. Я. Путешествие длиною в жизнь. О Б. Лапине и 3. Хацревине. М., 1972; Гордон Я И. Открыватели нехоженых троп. Душанбе, 1973; Ортенберг Д. И. Грани мужества. Страницы воспоминаний. — «Литературная Россия», 1973, 5 мая; Краткая литературная энциклопедия. Т. 4, 8. М., 1967–1975.
Борис Лапин (первый справа) и Захар Хацревин (второй справа) прощаются с кинооператором Або Кричевским, улетающим из Киева с последним самолетом. Сентябрь 1941 года.
Примечания
1
Дочь И. Г. Эренбурга, жена Б. М. Лапина. — Ред.
(обратно)2
Перед отъездом на фронт. — Ред.
(обратно)3
«По ком звонит колокол». — Ред.
(обратно)
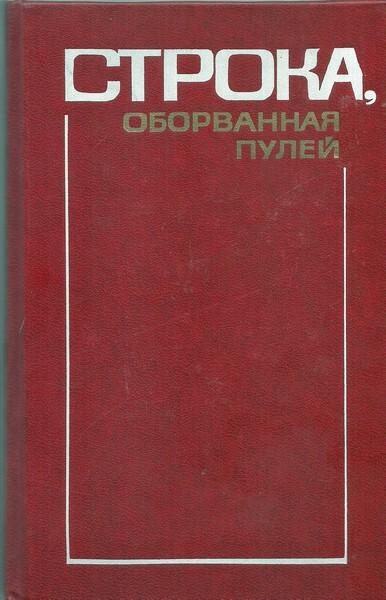



Комментарии к книге «Глава «Борис Лапин и Захар Хацревин» из книги «Строка, оборванная пулей»», Борис Матвеевич Лапин
Всего 0 комментариев