Стихотворения (fb2) - Стихотворения (пер. Владимир Григорьевич Бенедиктов) 216K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Виктор Гюго
Виктор Гюго
Стихотворения
Не обвиняй ее
Нет! Падшей женщины не порицай открыто!
Кто ведает весь груз ее земного быта?
Кто ведает число ее голодных дней?
Печальных опытов кто не бывал свидетель,
Как вихрь несчастия колеблет добродетель
И как несчастная вотще стремится к ней?
На ветке дерева так капля дождевая
Блестит, на ней держась и небо отражая,
Но ветку покачнут – и капля сорвалась,
И – до паденья – перл, она с паденьем – грязь.
Виновен ты, богач, виновны мы и злато.
Та капля чистая, небесная когда-то,
В грязи сохранена, – и, чтоб явилась вновь,
От праха отделясь, приняв свой вид хрустальный,
Она, блестящая, в красе первоначальной –
Тут нужен солнца луч, там надобна – любовь.
<1840>
«Порой, когда всё спит, восторженный вполне…»
Порой, когда всё спит, восторженный вполне
Под звездным куполом сажусь я в тишине,
К полету времени бесчувствен – жду и внемлю,
Не снидут ли с небес глаголы их на землю,
И, трепетный, смотрю на праздник торжества,
Ниспосланного в ночь земле от божества,
И мнится: те огни, что в безднах пламенеют,
Мою лишь только грудь, мое лишь сердце греют,
Что мне лишь суждено читать на небесах,
Что я – земная тень, ничтожный призрак, прах –
Днесь царь таинственный на пышном троне ночи,
Что небо блеском звезд мои лишь тешит очи,
<1840>
Два зрелища
Как в дремлющем пруде под сению древесной,
У смертного в душе два зрелища совместны –
В ней видимы: небес блистательный покров
С его светилами и дымкой облаков –
И тинистое дно, где зелья коренятся
И гады черные во мраке шевелятся,
<1843>
К Фанни П.
Оградясь невинностью святою,
Пой, играй и веселись, малютка!
Будь цветком! Будь утренней зарею!
Жизнь твоя покуда – смех и шутка.
О судьбе не погружайся в думу!
Даль темна. Среди земных явлений
Наша жизнь – увы – немножко шуму
В грустном мире, где так много тени.
Зла судьба: мы это видим ясно, –
Наша скорбь ей ничего не значит. –
Ты мила; но то, что так прекрасно,
Пуще страждет, наигорше плачет.
Ты сверкаешь детскими очами,
А в грядущем – горе и утраты.
Глазки, так богатые лучами,
И слезами наконец богаты.
Но пока закрыто всё, что худо, –
Смейся! Смех есть лучший дар незнанья.
Веселись, дитя мое, покуда
Над тобой покров очарованья!
Розан мой! Еще ты вихрем светским
Не измят, не испытал ненастья,
Озарен ты тихим счастьем детским –
Отраженьем маменькина счастья,
Дар небес – поэзия святая
При тебе, как ключ неистощимый;
При тебе живет она, блистая
Из очей ее – твоей родимой.
На земле ты – ангел настоящий,
Херувим! Меня в восторг приводит
Ясность та, что в твой зрачок блестящий
Из души невинной переходит.
Пользуйся блаженною минутой!
Наслаждайся! Радость мимолетна,
Все мы прежде мук сей жизни лютой
Сладость детства пили беззаботно,
О, прими мое благословенье!
При разлуке так идет молитва!
Предо мною – гроб, успокоенье,
Пред тобою – жизненная битва.
Бог с тобой, невинное созданье!
Жребий твой сказался от пеленок:
Ангел ты, ведомый на страданье,
В женщины назначенный ребенок!
<1856>
Она сказала
Она сказала: «Да, – и тем я дорожу!
Мечта о лучшем пусть в соблазн меня не вводит!
Ведь ты со мною здесь, глазами я слежу,
Как мысль в твоих глазах вращается и ходит,
И тем довольна я – конечно, не вполне!..
И всё же мой удел – удел благополучных.
Чего не любишь ты – насквозь известно мне,
Я двери стерегу от лиц, тебе докучных.
Твоя голубка – я. Ты пишешь – близ тебя,
Уютно сжавшись, я на локоток прилягу,
То подниму перо, то вслушиваюсь я,
Как ты, мой гордый лев, ворочаешь бумагу.
Воображенье – хмель, мечта – напиток, да.
Трудись! Я счастлива и не ропщу нисколько…
Но не мешало б мной заняться иногда,
А то ведь целый день всё книги, книги только!
Под тенью твоего склоненного чела
Подчас и грустно мне. Ни слова мне, ни взгляда!
Чтоб на тебя смотреть удобно я могла,
И на меня тебе взглянуть немножко надо».
<1856>
Что слава?
Что слава? – Нелепые крики.
Свет жалок, куда ни взгляни –
В нем многие тем и велики,
Что малы, ничтожны они.
Я знаю, что свет рукоплещет
Героям – когтистым орлам,
Железу, которое блещет,
И многим несветлым делам.
Да! Счастье земли – колесница,
Помпеи в триумфальной красе
В одном из колес ее зрится,
А Кесарь – в другом колесе.
Всё то ж – в Тразимене, Фарсале.
Любуйтесь сквозь пламя и дым
Всем тем, что Нероны взорвали
Палящим дыханьем своим!
Молитесь! Склоняйте колена!
Мне ж крошкой глядит великан.
Всё вздор! Потому что он – пена,
Уж будто б он стал океан?
Да, – веруйте в прах величавый,
В громады пустых пирамид,
Во всё, что прикинулось славой,
Во всё, что так бурно шумит!
Коснея в понятиях диких,
Молюсь я, поверженный ниц,
Не богу героев великих,
А господу маленьких птиц, –
Не богу воинственных станов,
Орудий, мечей и штыков,
Не богу тех злых ураганов,
Что двигают массы полков, –
Не идолу тех, что тревогу
Подъемлют, купаясь в крови,
Но мирному, доброму богу –
Источнику вечной любви, –
Тому, что в поэме вселенной
Зажег, в мирозданья строфах,
Стих первый – любовию в сердце,
Последний – звездой в небесах;
Что пищу дает своим птичкам,
Дарует и мох, и тепло
Их гнездышку с белым яичком,
Чтоб певчее племя росло;
Что, грея соломкою сельской
Семейство Орфеев лесных,
Шлет в лиственной почке апрельской
Мир новый, волшебный для них;
Когда ж это всё оперится,
Излучисто врозь полетит –
Вкруг каждого гнездышка, мнится,
Святое сиянье горит.
Историю мы без препоны
Творим себе – всем напоказ, –
Великие есть Пантеоны,
Огромные храмы у нас.
У нас есть мечи роковые,
И мало ль различных чудес?
У нас – Вавилон, Ниневия,
Гробницы до самых небес.
А что бы осталось? – лишь слезы, –
Когда бы зиждитель миров
Отнять захотел у нас розы,
Когда бы он отнял любовь!
<1856>
Детство
Ребенок пел, играл, вблизи лежала мать,
Едва, едва дыша. Ребяческому пенью
И бедной матери предсмертному хрипенью –
Обоим вдруг тогда мне довелось внимать.
Ребенок – лет пяти. Что он? – Малютка, крошка!
От детских игр его не отгоняйте прочь!
И вот – он целый день был весел у окошка,
Весь день резвился, пел; мать кашляла всю ночь –
И к утру умерла, вздохнув о малолетке,
А он – он принялся опять играть и петь.
Печаль есть зрелый плод, – на слишком слабой ветке
Тяжелому плоду бог не дает созреть.
<1856>
Выходец из могилы
О, стоны матерей! Вам царь всевышний внемлет.
Птенцов почивших он от вас к себе приемлет,
И птичку милую, им взятую туда,
Низводит к вам с небес на землю иногда.
У неба много тайн. У бога много силы.
Есть к колыбели путь обратный из могилы.
Одна из матерей жила в Блуа. Знаком
Мне был ее большой соседний с нашим дом.
В довольстве родилась, росла, потом вступила
В союз желанный с тем, кого она любила.
У них родился сын. Какая радость! Сын!
И что за колыбель! Шелк! Бархат! Балдахин!
Младенца кормит мать своею грудью нежной,
Всю ночь она полна заботою мятежной,
Не спит, ее глаза горят во тьме ночной, –
К ребенку наклонясь с подушки головой,
Чуть дышит, бедная, чтоб слышать, как он дышит;
Малейший стон его, малейший шорох слышит,
И утром вновь бодра, довольна, весела!..
Вот в кресла кинулась и гордо прилегла
Горячей головой на их косую спинку,
Грудь, полнясь молоком, раздвинула косынку,
Улыбка на устах, и вот – ее дитя!
«Мое сокровище! Мой ангел! Жизнь моя!» –
Бывало, говорит, и целовать у крошки
Начнет те маленькие розовые ножки –
И как целует их! Младенец-херувим
Смеется, голенький, и корчится упрямо,
Визжит и тянется к источникам родным,
И, бережно прижат к местам заповедным,
Притихнул.
Дни бегут. Уж он лепечет «мама».
Растет. Младенца рост так шаток – боже мой!
Он ходит, говорит: он в возраст уж такой
Приходит, где язык – впоследствии привычка –
Едва лишь оперен, бьет крылышком, как птичка,
И пробует лететь, и кое-как летит.
«Вот он! Каков сынок! – родная говорит. –
Ведь он уж учится, он азбуку уж знает, –
Такой понятливый! Всё на лету хватает.
Он – страшный умница и плут большой руки, –
Вообразите, – он уж хочет по-мужски
Одетым быть! О да, вот он о чем хлопочет!
Он и по платьицу быть девочкой не хочет.
Я Библию ему читаю – он за мной
Всё – слово за словом – мне вторит. Ангел мой!»
И мать восхищена, и детскою головкой
Не налюбуется. Обновка за обновкой!
Что день, то радости. Мечтаньями полна
О будущем, она им детски предается.
Какое торжество! Как чувствует она,
Что сердце матери в ее ребенке бьется!
Но дни идут, идут, и вдруг – крутой уступ.
Однажды злейший бич, исчадье ада – круп
Нежданный налетел и, в дом открыв лазейку,
Напал на мальчика, схватил его за шейку
И стал его душить… Тот силится дохнуть –
Не может: воздуху загородила путь
Болезнь проклятая, того и жди – разрушит!
Бедняжку, кажется, и самый воздух душит,
Гортань его хрипит. Во впавших глазках тень
Всё глубже, всё темней, – померкнул ясный день,
Как плод, как ягодка под клевом птицы жадной,
Ребенок вдруг завял. Как вор, как тать нещадный,
Его схватила смерть. Отчаянье кругом!
Гроб, траур, мать, отец, биенье в стену лбом –
И вопль – ужасный вопль!.. Где мать о сыне плачет,
Там онемей язык! Что слово наше значит?
Всё кончено. Нет слов!
И вот, погружена
В свое отчаянье, недвижная, она
Три месяца сидит. Хоть бы малейший трепет
Был жизни признаком! В устах – несвязный лепет,
Она не ест, не пьет, глаза устремлены
Тупые, мутные – в один кирпич стены.
Тут муж при ней в слезах. Она почти не дышит,
Тень смерти на лице. Зовут ее – не слышит.
Порой лишь в ужасе страданья своего
Шептала скорбная: «Отдайте мне его!»
Врач мужу намекнул тайком, что было б кстати,
Когда б родился брат покойному дитяти,
Что это бы спасло страдалицу; и вот
Проходит день за днем, проходит месяц, год…
Потом несчастная вдруг чувствует в недуге
Под сердцем у себя движенье – и в испуге
Затрепетала вся, бледнеет: «Боже мой!
Нет, нет, я не хочу, чтоб был не тот – другой;
Тот стал бы ревновать, сказал бы: «А! ты любишь
Другого – не меня, его теперь голубишь;
Меня забыла ты, достала мне взамен
Любимца нового, он у твоих колен
Обласкан и согрет, он стал твоя отрада,
А я лежу зарыт в подземной этой мгле.
Мне душно здесь, в гробу, мне холодно в земле». –
Так мать рыдала. – Нет! Я не хочу. Не надо!»
Но день судьбы настал, настал и час родин –
И радостный отец опять воскликнул: сын!
Но он один был рад: несчастная больная
Лежала, прошлое в бреду припоминая;
Новорожденного к ней принесли, – она
Взяла его на грудь, как мрамор холодна,
Почти бесчувственна; она о том ребенке
Всё думой занята, у бедной не пеленки,
А саван на уме, ей тот погибший сын
Всё представляется: бедняжка – там – один!..
Но в это время вдруг – о, чудо! Миг блаженный!
Ей голосом того ее новорожденный
Так сладко произнес, как ангелы поют:
«Послушай! Это – я. Не сказывай! Я тут».
<1857>
У реки
Жил лев близ той реки, где и орел порою
Водицу испивал,
И тут же встретились два мужа раз – и к бою!
И оба – наповал!
То были короли, над многими странами
Их высился престол,
А тут, над мертвыми носясь их головами,
Так произнес орел:
«Давно ль при вас, цари, весь мир дрожал
от страха?
Вы спорили в боях
За лоскуток земли – за горсть земного праха,
И вот вы сами – прах.
Вчера блистали вы в венках своих лавровых,
Властители властей, –
А завтра явится ряд камней известковых
Из царственных костей.
Скажите: для чего дух алчный вас за грани
Владений ваших вел?
Здесь, у одной реки, живем же мы без брани –
Он – лев, и я – орел.
И из одной реки мы пьем спокойно воду,
Он взял себе леса,
Пески, пещеры; я взял воздух и свободу,
Простор и небеса».
<1857>
Теперь (после смерти дочери)
Теперь, когда Париж, и эти мостовые,
И эти мраморы и бронзы – далеко,
Когда мне тень дают деревья вековые
И мне лазурь небес оглядывать легко, –
Теперь, когда от злой душевной непогоды
Успел я отдохнуть,
И после бури той святая тишь природы
В мою ложится грудь, –
Теперь, когда могу, близ вод кругом разлитых,
Я мыслью вознестись и видеть с высоты
Глубоких истин ряд, в душе моей сокрытых,
И видеть под травой сокрытые цветы, –
Теперь, создатель мой, с сей затишью святою
Пришла мне череда
Сознать, что дочь моя под этою плитою
Уснула навсегда.
И вновь, глубокого исполнен умиленья,
На горы, на леса и воды я гляжу,
И, видя, как я мал в безмерности творенья,
Вновь чувствую себя и в разум прихожу.
Вновь на тебя, творец, смотрю я правоверцем,
И вновь согрет мольбой,
Иду к тебе с моим окровавленным сердцем,
Растерзанным тобой.
И вновь душа моя к тебе, мой бог, взывает:
Ты свят, ты терпелив и в благости велик!
Ты знаешь, что творишь, а смертный – что он знает?
Он – ветра прихотью колеблемый тростник!
Гроб закрывается, но щель есть в этой крыше –
То дверь к тебе, творец!
И то, что здесь внизу концом считают, – выше
Начало, не конец.
Коленопреклонен, я сознаю, о боже,
Что ты единый – сущ. Чтоб весь я изболел –
Так было надобно. Кто спросит: для чего же?
Так было надобно, – ты этого хотел.
Пред волею твоей стою, смиренья полный.
Челн жизни мы тянуть
Должны из скорби в скорбь, из волн в другие волны –
И в вечность завернуть.
Всё видимое нам проходит часом, мигом.
На вещи смотрим мы с одной лишь стороны,
С другой – всё мрак для нас. Мы клонимся под игом,
Таинственных причин не зная глубины.
Уединенная, туманная окрестность
Везде объемлет нас.
Всевышний так хотел, – нам в мире ни известность,
Ни радость не далась.
Лишь благо низойдет – оно и улетело.
Наш мир – в руках судьбы, и бедный смертный в нем
Не видит уголка, где б мог сказать он смело:
«Вот здесь участок мой, моя любовь, мой дом!»
Глядь! Время старости угрюмой подступило,
А нечем дух отвесть, –
И это всё, как есть, так надобно, чтоб было,
Затем что это есть.
Творец! Наш темен мир, а небо многозвездно,
И песнь и вопль идут в гармонии святой.
Что смертный? – Прах, атом, а вечность – это бездна,
Куда парит один и падает другой.
И что тебе, творец, на вышине бесстрастной
Объемлющему твердь,
Наш стон, скорбь матери, отчаянье несчастной –
Ее дитяти смерть?
Я знаю: должен плод под ветром падать, птица –
Ронять свое перо, цветок – свой аромат,
И чтоб неслась вперед творенья колесница,
Быть должен кто-нибудь под колесом измят.
Пыль, волны, слезы – всё необходимо в свете.
Условье бытия,
Чтоб там – росла трава, там – умирали дети, –
Всё это знаю я.
Создатель! Может быть, во глубине от века
Непроницаемых и чуждых нам небес
Творишь ты новый мир, где горесть человека
Идет в состав твоих неведомых чудес.
Быть может, это – цель иного мирозданья,
Чтоб полный грозных сил
Событий вихрь с земли прекрасные созданья
Куда-то уносил.
Неумягчаемость божественных законов,
Быть может, держит всё, чем населен эфир,
И снисходительность к безумью наших стонов
Расстроила бы всё, разрушила б весь мир.
Ты видишь, бог мой, здесь с лиющейся незвонко,
Но теплою мольбой,
С смиреньем женщины и простотой ребенка
Я весь перед тобой!
Взвесь, горний судия, всё, что я делал прежде,
Как мыслил, действовал, в борениях томим,
Трудился и страдал и жалкому невежде
Природу освещал сиянием твоим, –
Как шел я, не боясь ни ссылки, ни изгнанья!
Суди меня, мой бог!
Я мог ли ожидать такого воздаянья?
Суди! – Нет, я не мог –
Не мог я ожидать, склонен главой и бледен,
Что, тяжко надо мной десницу опустя,
Возьмешь ты у того, кто радостью так беден,
Ее последний луч, возьмешь его дитя!
Прости, что на тебя роптал я в лютом горе,
Что на тебя хула,
Как из ребячьих рук тяжелый камень в море,
Мной кинута была!
Могли ль твой видеть свет мои больные очи,
Когда спалила их нежданная гроза,
И траур лег на них чернее адской ночи,
И в нем до слепоты изъела их слеза?
И можно ль, господи, чтоб человек в потере,
Где мысли луч исчез,
Всё помнил, что над ним всё те ж на вечной сфере
Созвездия небес?
Да, я был слаб, как мать. Пред высшим приговором
Теперь склоняюсь я, приемля свой удел.
Другим мной брошенным на всю природу взором
В широкой горести мой разум просветлел.
Творец! Я сознаю, что тяжкий грех – проклятья.
Выдерживая боль,
Не буду я роптать, не буду проклинать я,
Но плакать мне позволь!
Да, слезы пусть текут, как водный ток обильный!
Ты сам нам слезы дал, – пускай они текут!
Позволь мне иногда на камень пасть могильный
И дочери шепнуть: «Ты чувствуешь? Я тут».
Позволь мне иногда ей перекинуть слово
Под тихий вечерок,
Когда казалось бы, что этот ангел снова
Меня услышать мог!
Сквозь зависть в прошлое я взор вперяю жадный
И всё мне видится тот миг, тот страшный час,
Когда мой херувим, мой ангел ненаглядный
Вдруг крылья развернул и улетел от пас.
И будет мне весь век тянуться час тот лютый,
Когда, утратив дочь,
Вскричал я: «Здесь был день – тому одна минута,
И вот – теперь уж ночь!»
Прости мне, господи, что дух мой так расстроен!
Не гневайся, что я горюю вновь и вновь!
Я умирен с судьбой, но я не успокоен, –
Из язвы роковой лилась так долго кровь!
Не гневайся, что так терпенье наше скудно!
Теряющим детей,
Ты знаешь, господи, как душу вырвать трудно
У скорби из когтей.
Ты знаешь: ежели во мгле существованья
Вдруг озарила нас в один счастливый день
Улыбка нового нам милого созданья
И жизни сумрачной нам разогнала тень, –
Когда нас обновил веселый вид ребенка,
Чья прелесть так светла,
Что кажется, для нас невинная ручонка
Дверь неба отперла, –
Когда шестнадцать лет, шаг проследив за шагом
И дочь прекрасную всем сердцем возлюбя,
Ее признали мы своим верховным благом,
Лучом дневным в душе и в доме у себя, –
Когда решили мы: нам этого довольно!
Всё прочее есть бред, –
О боже, посуди, как тяжело, как больно
Сказать: ее уж нет!
<1857>
Дерево
Суровая зима мир саваном одела,
Зачерствела земля, вода окоченела.
«О дерево! Скажи, – воскликнул человек, –
Ты хочешь в топливо идти мне на потребу?»
– «Родившись из земли, в огне всхожу я к небу
Сказало дерево, – руби, о дровосек,
Руби меня и жги! – и дряхлый дед, и внуки
У этого огня пусть согревают руки,
Как божьей милостью их греется душа!»
– «А хочешь, дерево, идти в мой плуг?» – «Согласно,
Хочу идти в твой плуг, я буду не напрасно
В нем землю бороздить. «Как жатва хороша!» –
Потом воскликнешь ты. Свершив труды святые,
Я ими вызову колосья золотые».
– «А хочешь ли идти в строенье, стать бревном
И в образе столба поддерживать мой дом?»
– «Согласно и на то, – я этим обусловлю
Твое спокойствие, держать я буду кровлю
Приюта мирного твоих домашних лиц,
Как прежде на себе держало гнезда птиц,
И листьев шум моих, тебя склонявший к думам,
Заменится твоих детей веселым шумом».
– «А хочешь, дерево, быть мачтой корабля?»
– «О, да, хочу, хочу, – скажу: прости, земля!
И в море синее без страха, без боязни
Сквозь бурю двинусь я». – «А хочешь в деле казни
Служить, о дерево, – позорной плахой быть
Иль виселицей?» – «Стой! Не смей меня рубить!
Прочь руку! Прочь топор! Прочь, адские созданья!
Прочь, люди, изверги! Нет, в деле истязанья
Я не согласно быть подставкой палачу, –
Я – дерево лесов – на корне жить хочу;
Одевшись листьями, я – род живой беседки –
Расту, даю плоды. Прочь! Ни единой ветки,
Свирепый человек, с меня не обрывай!
Живи, как хочешь, сам, – живи и убивай!
Я не сообщник твой в убийствах, не посредник.
Я мирный, добрый дуб. Мне ветер собеседник.
Сын мрака! Тьма нужна стеклу твоих очей!
А я – я солнца сын и друг его лучей.
Закон природы мне начертан весь любовью,
Тогда как твой закон нередко писан кровью.
Оставь меня! Пируй! Коль празднеств, балов счет
Неполон у тебя – прибавь к ним эшафот, –
Им можешь ты всегда меж двух забав, двух шуток,
Двух зрелищ, двух пиров – наполнить промежуток, –
Веревки, цепи есть – и есть всегда собрат.
Который, пополам с несчастьем, виноват
В своем падении… А я меж листьев тенью
Дать места не хочу кровавому виденью».
<1857>
Матери, лишившейся ребенка-сына
Ты, верно, ангелу земному своему
Об ангелах небес наговорила слишком, –
Что в небе так светло, твердила ты ему,
Что там так хорошо, так весело мальчишкам;
Что небо – это храм, рассказывала ты,
На золотых столбах, что это – род беседки
В роскошнейшем саду, где звездочки – цветы,
А солнце – яблочко, сорвавшееся с ветки;
Что сколько там, в раю, нельзя и описать,
Игрушек, лакомства; хотим ли быть любимы?
Для этого есть бог; хотим ли поиграть
И порезвиться мы? На это – херувимы;
Что сладко с богом там сливаться всей душой
И что встречает там с земли переселенца
В домашней прелести близ девы пресвятой
С улыбкой ясный лик предвечного младенца.
А не внушила ты былинке нежной той –
Ребенку милому, что он, тобой любимый,
Тобой взлелеянный, весь неотъемно твой,
Что он в сей жизни – свет, тебе необходимый;
Что после, как к концу наклонится твой век,
Нуждаться будешь ты в сокровище едином,
Чтоб при тебе тогда был крепкий человек
И этот человек тебе был нежным сыном.
Не говорила ты, что божья воля есть
На то, чтоб вдаль и вдаль идти земной дорогой,
Что женщина сперва должна мужчину весть,
А он потом ей был опорой и подмогой.
И что ж – однажды… Верх несчастья твоего!
В тот лучезарный храм, в ту горнюю беседку
Та птичка милая вспорхнула – оттого,
Что для нее сама ты отворила клетку.
<1857>
К дочери
Живи, как я, мой друг, в тиши, глуши – и только.
Блаженство на земле для нас не суждено.
Что нужно? Счастье? – Нет! – Что ж? Торжество? –
Нисколько!
Смирение одно.
Будь кроткой, доброй будь! Как сводит полдень ясный
В один небесный круг весь пыл своих лучей,
Своди всю благодать души твоей прекрасной
В лазурь твоих очей!
Нет торжествующих, счастливых нет на свете.
Для жизни дан нам час, и то неполный час –
Минута – миг один, и все мы точно дети:
Игрушка тешит нас.
Для счастья нашего недостает так много,
Недостает того и этого, всего, –
Нам нужно многое… А как рассмотришь строго –
Что нужно? – Ничего –
Иль малость сущая. Чего на сцене светской
Все ищут? – Это звук, звук имени, – наряд, –
Ряд блесток, галунов, – гремушка славы детской, –
Улыбка, слово, взгляд.
Любви недостает – и скучно под короной!
Воды недостает – и умирай в степи!
Повсюду человек – пустой сосуд бездонный.
Терпи, мой друг, терпи!
Взгляни на мудрецов, превознесенных нами!
Взгляни на воевод, летавших через Понт,
Которых яркими сияет именами
Наш бледный горизонт!
Они, подобные истаявшим светилам,
Рассыпав все лучи на жизненный свой путь,
Шагнули в сумрак, в тень, пошли к гробам, к могилам –
От блеска отдохнуть.
С зарею влажными от жалости глазами
Глядят на бедный мир святые небеса
И утро каждое кропят его слезами –
Мы говорим: роса!
Бог вразумляет нас на дольнем нашем ходе,
И что такое – мы, и что такое – он,
Начертан в нас самих и в видимой природе
Божественный закон.
Покорствуй, дочь моя: его веленья святы
И должно каждому жить неизменно в нем.
Дух ненависти – прочь! Иль всё любить должна ты,
Иль плакать обо всем.
<1857>
Капля
Между скал струя бежала
И холодною слезой
Вся по капле ниспадала
В море, полное грозой.
«Это что? Мне сестры – бури,
Молний луч на мне горит,
Слито с небом я в лазури, –
Море гневно говорит. –
Крошка! Ты о чем хлопочешь?
Мне ль – гиганту ты помочь,
Мне ль воды прибавить хочешь?
Труд напрасный! Плакса, прочь!»
«Да, бассейн твой, море, полон, –
Струйка молвила, – но я
Влить хочу в него… он солон…
Каплю годного питья».
<1858>
По поводу стихов Горация (Отрывок)
Настанут времена: не будут птичку с ветки
Хватать и обучать в объеме узкой клетки,
И общество людей посмотрит не шутя
Как на святой залог на каждое дитя,
И будет так умно воспитывать ребенка,
Чтоб выйти мог орел из слабого орленка,
И дастся божий свет там каждому на часть,
Где горечь знания преобразится в сласть.
Всё, что оставили нам римляне и греки,
К наследникам пойдет без варварской опеки
И станет подвигов учебных пред концом
Ученья роскошью, оправою, венцом,
А не фундаментом. Не будет бедный школьник
К стихам Виргилия прикован, как невольник,
Иль маленький лошак, навьюченный сверх мер,
Под плетью черствого схоластика-педанта,
Который мальчику под ношей фолианта
Кричит: «Ну! Ну! Тащи! Ведь этот вьюк – Гомер!»
В селенье каждое там свет проникнет быстро,
Где место темного в училище магистра
Займется мыслящим вожатаем людей,
Врачом невежества, апостолом идей.
Не будут наконец и школьник и учитель
Тот – вечный мученик, а тот – всегда мучитель,
Легко освободясь от нашей дикой тьмы,
Там будут спрашивать с улыбкой наши внуки
О том, что делали и как учились мы,
Как филин воробья вгонял в гнездо науки,
Науки возблестят во всем величье там,
Как царственный чертог, как лучезарный храм;
Наставник явится на поприще высоком
Благовещателем, святителем, пророком,
Лиющим теплоту, и свет, и благодать
В полуотверстую ребяческую душу,
Из кубка вечности дающим ей вкушать
Того, кто создал всё – и зыбь морей, и сушу;
И утвердится всё: законы, долг, права,
И станет всё ясней, и, более раскрыта,
Природа сложит там понятные слова
Из литер своего святого алфавита.
<1858>
Ребячество
Шестнадцать было ей, а мне двенадцать только,
Резвясь и о любви не думая нисколько,
Чтоб с Лизой поболтать свободно вечерком,
Я маменьки ее ухода ждал тайком,
И тут поодаль мне от Лизы не сиделось,
Я придвигался к ней, мне ближе быть хотелось.
Как много отцвело с тех пор весенних роз!
Как много перешло людей, гробов и слез!
Порою думаешь: где эти розы, слезы?
Где Лиза? И мои ребяческие грезы?
Тогда любились мы. Мы были с ней вдвоем
Две птички, два цветка в убежище своем.
Я любопытствовал, она была большая,
А я был маленький. Стократно вопрошая:
К чему и для чего? – я спрашивал затем,
Чтоб только спрашивать. Когда моя пытливость
В ней возбуждала вдруг иль нежную стыдливость,
Или задумчивость – я всё твердил: зачем?
Потом показывал я ей свои игрушки,
Моих солдатиков, мой кивер, саблю, пушки,
Я книги все свои пред ней перебирал,
Латынь, мою латынь – предмет моих усилий.
«Вот, – говорил я, – Федр! А вот и мой Виргилий!»
Потом я говорил: «Отец мой – генерал!»
И Лизе для молитв, для церкви, для святыни,
Знать было надобно немножко по-латыни, –
И вот, чтоб ей помочь перевести псалом,
К ней на молитвенник склоняться мне случалось,
Когда молились мы, и в этот миг, казалось,
Нас ангел осенял невидимым крылом.
Она, как взрослая, свободно, без уклонок,
Мне говорила «ты». Ведь что ж я был? – Ребенок.
Я «вы» ей говорил и робок был и глуп.
Со мною вместе раз над книжкою нагнулась
Она, и… боже мой! Щека ее коснулась
Своими розами моих горящих губ, –
Я вспыхнул, покраснел, и спрятался наивно
Под Лизы локоном и крепко, инстинктивно
Припал, прижался к ней, – и вырвалась, скользя,
Она из рук моих с увертливостью гибкой,
И, обратясь ко мне с лукавою улыбкой,
Произнесла: «Шалун!» – мне пальчиком грозя.
<1858>
Смерть
Над нивой жизненной я видел эту жницу.
Схватив блестящий серп в костлявую десницу,
Она, повсюду страх и ужас разнося,
Шагала, тем серпом махая и кося, –
И триумфаторы по мановенью жницы
Мгновенно падали с победной колесницы;
И рушился алтарь, и низвергался трон,
И обращались в прах и Тир, и Вавилон,
Младенец – в горсть земли, и в пыль – зачаток розы,
А слезы матери – в источник вечный – в слезы,
И скорбный женский стон мне слышался: «Отдай!
Затем ли, чтоб терять, мне сказано «рождай!»».
Я слышал общий вопль неисходимой муки.
Там из-под войлока высовывались руки
Окостенелые, и всё росло, росло
Людских могил, гробов и саванов число.
То было торжество печали, тьмы и хлада,
И в вечный мрак неслась, как трепетное стадо,
Под взмахом грозного, всежнущего серпа
Народов и племен смятенная толпа;
А сзади роковой и всеразящей жницы,
С челом, увенчанным сиянием зарницы,
Веселый ангел нес чрез мира глушь
Снопы им избранных на этой жатве душ.
<1859>
Фиалка и мотылек
«Как наши участи различны меж собою! –
На бархатном лужку
Сказала некогда, увлажившись росою,
Фиалка мотыльку. –
По резвой прихоти ты вьешься в свете горнем,
А я – внизу, во мгле,
Всегда прикована своим извитым корнем
К безрадостной земле.
А всё ж мы любимся. Обоим, с дня рожденья,
Нам человек – злодей,
Обоим лучше нам в глуши уединенья,
Подальше от людей.
В сравненья мы идем. Меня зовут поэты
Сидячим мотыльком,
Тебя ж они зовут… читал ты их куплеты?..
Порхающим цветком.
Я часто в воздухе слежу твое мельканье
И, милого любя,
Стараюсь, чтоб и там мое благоуханье
Достигло до тебя, –
Да нет! К другим цветкам умчишься ты далеко,
А я смотрю весь день
Всё под ноги себе, по солнцу одиноко
Свою вращаю тень.
Бог знает, где ты там, как время ты проводишь
В лазурных небесах;
Лишь к утру прилетишь – и на заре находишь
Всегда меня в слезах.
Чтоб нам не розниться, чтоб нам идти одною
Стезею бытия,
Иль крылья дай ты мне, иль, чтоб сидеть со мною,
Укоренись, как я!»
<1860>
Завтра
Куреньем славы упоенный,
С младенцем сыном на руках,
Летал он думой дерзновенной
В грядущих царственных веках
И мыслил: «Будущее – наше.
Да, вот – мой сын! Оно – мое».
– Нет, государь! Оно не ваше,
Ошиблись вы: оно – ничье.
Пусть наше темя – вам подножье,
Пусть целый мир от вас дрожит,
_Сегодня_ – ваше, _завтра_ – божье;
Оно не вам принадлежит.
О, это _завтра_ зыбко, шатко;
Оно – глубокий, страшный день,
Оно – огромный призрак, тень,
Оно – великая загадка,
Бездонной вечности ступень.
Того, что в этом _завтра_ зреет,
Из нас никто не разъяснит.
_Сегодня_ человек посеет,
А _завтра_ бог произрастит.
Сегодня вы на троне крепки,
Вы царь царей – Наполеон,
А завтра что? – Осколки, щепки,
Вязанка дров – ваш славный трон.
Сегодня Аустерлиц, огонь Ваграма, Иены,
А завтра – дымный столб пылающей Москвы;
А завтра – Ватерло, скала святой Елены;
А завтра?.. Завтра – в гробе вы.
Всевышний уступил на долю вам пространство, –
Берите! – Время он оставил лишь себе.
Будь вашему челу лавровый лес – убранство,
Земля вся ваша, вам нет равного в борьбе,
Европу, Африку вы мнете под собою,
Пускай и Азию отдаст вам Магомет!
Но завтрашнего дня вы не возьмете с бою –
Творец вам не уступит, – нет!
Роза в руках инфанты
Она еще дитя, при ней надзор дуэньи,
И с розою в руке, в чистейшем упоенье
Она глядит… на что? – Бог ведает. На всё:
Вот – светлая вода! Вот, оттенив ее,
Душистый лавр и мирт стоят благоговейно.
Вот лебедь плавает по зеркалу бассейна.
Вот – весь в лучах, в цветах благоуханный сад,
Обширный парк, дворец, зверинец, водопад!
Там – лани быстрые под зеленью мелькнули.
Там – звездоносный хвост павлины развернули.
Как горный снег бела малютка, – да она
Невинна сверх того, – двойная белизна!
На берегу пруда, под ножками инфанты
Росинки на траве блестят как бриллианты,
Пред нею ж, посреди всех видов и картин,
Сапфирный сноп воды пускает вверх дельфин.
Наряд ее блестящ: баскина кружевная,
По пышной юбочке, меж складками блуждая,
Нить золота прошла и змейкой обвилась,
И вдруг то выглянет, то спрячется в атлас.
А роза полная, подняв свой венчик чудный
Бутона свежего из урны изумрудной,
Казалось, в царственном цвету своем была
Для крошечной руки малютки тяжела;
Когда ж она в цветок, как в чашу из коралла,
Прозрачный носик свой с улыбкой погружала –
Та роза, заслонив ребенку пол-лица
Листками своего широкого венца,
С румяной щечкою так совпадала чудно,
Что щечку отличить от розы было трудно.
Прелестное дитя! Глаза как после бурь
Открывшихся небес глубокая лазурь,
И имя райское – Мария. Свежесть в красках,
Молитва в имени, и божье небо в глазках.
Прелестное… притом несчастное дитя!
Она уже свое величье не шутя
И в детстве чувствует, – и, глядя на природу,
Оно с младенчества гнетет ее свободу.
На солнце, на поля, на каждый в мире вид
Она уж маленькой владычицей глядит,
И в этой куколке начаток королевы
Так явствен, что мертвит все игры, все напевы,
А смертного она и видеть не могла
Прямым, каким его природа создала, –
Пред нею он всегда, почуяв близость трона,
Являлся согнутым в тяжелый крюк поклона;
И пятилетнее престольное дитя,
Глазенки гордые на мелочь обратя,
Умеет важничать и мыслить: «Я – инфанта!
Я буду некогда дюшессою Брабанта!
Потом мне Фландрию, Сардинию дадут!
Не розу для меня – империю сорвут,
А роза – так, пока…» И кто-нибудь некстати
Пускай дотронется до этого дитяти,
Хотя б имея цель, что он его спасет, –
Несчастный голову на плаху понесет!
Нам этот детский лик улыбку – не угрозу –
Представил. Вот она – в ручонке держит розу,
Сама среди цветов прелестнейший цветок.
День гаснет. Птичка, в свой забившись уголок,
Укладывает спать своих пискливых деток.
Уж пурпур запада между древесных веток
Сквозит, эфирную раскрашивая синь
И бросив отблеск свой на мраморных богинь,
Которые в саду, им озаряясь, блещут
В дрожащем воздухе и, кажется, трепещут.
Час тихий вечера, приблизившись тайком,
Скрыл солнце под волной и пташку под листком.
…………………..
И вот, меж тем как здесь – ребенок да цветок,
Там – заключенная в тот царственный чертог,
Где каждый острый свод висел тяжелой митрой,
Где Рим служил резцом, и кистью, и палитрой,
И камнем зодчества, – виднелась тень одна,
К окну перенося свой образ от окна.
Бывало, целый день, как на кладбище мрачном,
Являлась эта тень в окне полупрозрачном,
Задумчиво склонив на тусклое стекло
Злой мыслью взрытое и бледное чело:
От мысли той весь мир сжимался, цепенея.
Тень эта, к вечеру всё становясь длиннее,
Ходила… Страшный вид! Во тьме ходила тьма,
И шаг свершался тот в размере неуклонном,
Как колокола ход в обряде похоронном.
Кто это был? – Король. Не он – так смерть сама.
Да, то был он, Филипп, – он, жизнь и смерть творенья.
Такого призрака, такого привиденья
Другого в мире нет. Из темной глубины
Вот он глядит в окно, прижавшись у стены.
Что ж видит он теперь? – Конечно, не ребенка,
Не розу, не зарю вечернюю, так тонко
Накинувшую свой румянец на пруды,
Не сад, не лебедя на зеркале воды,
Не птичек, кончивших дня божьего пирушку
И острым носиком целующих друг дружку, –
О нет, – в его глазах глубоких, роковых,
Под бровью жесткою, нависшею на них,
Теперь отражена далекая громада,
Могучий флот его – великая Армада,
Несущаяся там, среди шумящих волн,
И видится ему, тревоги робкой полн,
Тот остров – Альбион, что смотрит из тумана,
Как гром его браздит равнину океана.
Грозя и Англии, и всем концам земли,
В его глазах, в мозгу несутся корабли.
Армада – вот один всесильный, неизменный
Рычаг, которым он поднимет полвселенной!
Победоносная, она летит туда –
Филипповой судьбы зенитная звезда!
Король Филипп Второй был идеал тирана.
Ни Каин Библии, ни образ Аримана
Так не были черны, как этот властелин.
Он миром управлял с невидимых вершин,
Как некий горний дух. Он жил и ненавидел.
Мир ведал, что он жив, но мир его не видел.
Смерть знала, что он жив. В Эскуриале он
Безмолвным ужасом был вечно окружен.
Сливался он для всех в одно со сферой звездной,
С пространством, с миром сил, с какой-то страшной бездной,
Где приближался он, там приближался рок,
Которому никто противустать не мог,
Сама судьба тряслась, визжа от лютой боли,
И корчилась в клещах его железной воли;
Душа его была таинственна, как гроб,
Глаза – два факела, уста – могильный склеп.
Его был крепок трон фундаментом коварства,
Мрак был оградою его немого царства.
Одетый в черное, казалось, облечен
Сам в траур о своем существованье он,
И черная, как ночь, тьма власти непреклонной
Казалась лошадью его статуи конной.
Как сфинкс, всё пожирал он мыслью – и молчал,
Он и не спрашивал, а каждый отвечал.
Улыбки он не знал, улыбка – луч денницы,
Не проникающий в подобные темницы;
Когда ж, бодрясь душой, он сбрасывал с нее
Оцепенение змеиное свое,
То с тем, чтоб умножать всеобщий дух боязни
Своим присутствием близ палача при казни,
И на зрачках его рдел пламени разгул,
Когда он на костер собственноустно дул.
Ужасный для всего – для всех стремлений века,
Для прав, для совести, для мысли человека,
Он был – в честь римского, в честь папского креста –
На царстве сатана под именем Христа.
Как группы ящериц из темных нор пещерных,
Дела ползли из дум его неблаговерных.
Нет во дворцах пиров, иллюминаций нет, –
Одно аутодафе им сообщало свет;
Эскуриал и все Филипповы чертоги
Дремали, как в лесу звериные берлоги.
Там казни – для забав, измены – для потех!
Не мучить, не пытать – Филипп считал за грех,
И самая мечта души сей сокровенной
Носилась тяжестью над трепетной вселенной,
Да и молился он едва ль перед добром:
Его молитва шла, как отдаленный гром,
И жглись, как молнии, тирана сновиденья,
А те, кто был его предметом помышленья,
Кричали в ужасе: «Настал наш смертный час!
Нас кто-то давит, жжет, смертельно душит нас».
На гибель там себя народы обрекали,
Где эти два зрачка вперялись и сверкали.
Из хищно-птичьих лиц отменны эти два:
Карл Пятый – коршун злой, Филипп Второй – сова.
В камзоле бархатном, кромешной тьмы чернее,
Он, с орденом Руна на королевской шее,
Не изменяющий ни поз своих, ни мест,
Вдруг, к удивлению, как будто сделал жест,
И даже – чудеса, коль это не ошибка! –
На стиснутых губах нарезалась улыбка, –
Улыбка страшная, конечно, и сполна
Никто б не разгадал, что значила она, –
А это значило: в открытом, шумном море
Теперь мой огнь и гром несутся на просторе,
Моя Армада – там, и, страхом обуян,
Пред ней смиряется строптивый океан, –
Так древле средь своих мятежных волн разбега
Потоп был устрашен явлением ковчега.
Валы равняются, становятся в ряды
И лижут кораблей широкие следы,
И, назначенья их познав святую цену,
Чтоб путь их умягчить, им подстилают пену,
И каждая скала преобразилась в порт,
И крики слышатся: «На палубу! – на борт! –
На мачту! – к парусу!» Попутный ветер дышит.
Вот – барабан! свисток! Филипп всё это слышит,
Всё видит мысленно и мнит: всё это – я!
Я – кормчий кораблей, их движет мысль моя, –
И Англия дрожит, бледнеет пред Армадой,
Поникла, и ничто не служит ей оградой.
Так мыслил он. В сей миг, казалося, горел,
В руке Филипповой пук громоносных стрел,
И в царственных мечтах лишь вид сей развернулся –
Державный гробовщик впервые улыбнулся.
В Каире некогда единый из владык,
Который силою и славой был велик,
У водного ключа своей мечети главной
На камне начертал рукою своенравной:
«Аллаху – небеса, мне – дольний мир, земля».
Десп_о_т-султан – двойник тирана-короля.
Тиранство, деспотизм – одно с другим так схоже!
Что начертал султан, король наш мыслит то же.
А там, на берегу бассейна, то дитя,
На розу пышную глазенки опустя,
К губам своим ее подносит и целует.
Вдруг – темных туч напор и сильный ветер дует.
Вода возмущена, трясутся мирт, жасмин,
Деревья клонятся до корня от вершин,
И розы лепестки какой-то дух зловредный
Вдруг в воду побросал из рук инфанты бледной,
Так что у ней в руке едва остаться мог
С шипами острыми колючий стебелек.
Кто смеет так шутить? И, трепетом объята,
Инфанта смотрит вверх: не небо ль виновато?
Там – чернота кругом. Она глядит туда,
В бассейн: там морщится и пенится вода,
Пруд светлый морем стал, и по волне сердитой
Листочки носятся, как будто флот разбитый:
Судьба Армады здесь – так небеса хотят!
И гневное дитя насупило свой взгляд,
Немало удивясь, как смеют так свободно
Здесь делать то, что ей, инфанте, не угодно,
И вот – она должна досадой кончить день!
Малютка сердится, угрюмо брови хмуря…
При этом, следуя за нею словно тень,
Дуэнья говорит: «Позвольте! Это – буря,
А ветер иногда, хоть это и не шло б,
Так дерзок, что не чтит и царственных особ».
Желания
Коль есть хоть угол света,
Где бездна красоты,
Где всё весна да лето
И всё цветы, цветы, –
Я там бы понемножку
Под маленькую ножку
Провел тебе дорожку,
Где всё б гуляла ты!
Когда средь прозы света,
Корысти и тщеты
Осталась от поэта
Хоть тень его мечты
(Что мир зовет химерой) –
Пускай бы с теплой верой
Лишь этой атмосферой
Всегда дышала ты!
Когда меж хламом света
И прахом суеты
Одна хоть грудь согрета
Святыней правоты, –
К такому изголовью,
Смеясь людей злословью,
Дай бог, чтобы с любовью
Челом склонилась ты!
Проснись!
Проснись, моя радость! Уж слезы
Роняет роса на цветы.
Когда пробуждаются розы –
Ужель не пробудишься ты?
Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.
За дверью твоей перекличка:
Я – день! – восклицает заря,
Я – песнь! – откликается птичка,
Я – чувство! – грудь вторит моя.
Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.
Я в милой два мира сближаю:
В ней небо и землю ловлю,
В ней – ангела я обожаю,
В ней – женщину страстно люблю.
Утро блещет,
Друг идет,
И трепещет,
И поет.
Творенья творец не обидел, –
Всевышний меня наделил
Глазами, чтоб прелесть я видел,
И сердцем, чтоб сердце любил.
Ты любишь?
Ты любишь, милая? Послушай же: любовь –
Сначала зеркало, где в трепетном движенье
Встречает девушка свое изображенье,
Своею прелестью любуясь вновь и вновь;
И лучше, и добрей она себя находит.
Мечтательность ее до тех высот возводит,
Где чистой благостью сияет красота, –
Любовью убелясь, она почти свята.
Потом – с вершины спуск, нога скользит всё ниже,
Сил удержаться нет – и бух в водоворот!
Так иногда к реке ребенок подойдет,
Вода заманчива, он к ней всё ближе, ближе, –
Увидит в ней себя, в лицо себе плеснет
Водицей, голову наклонит,
И вдруг – скользит, упал – и бедное дитя
В одной же всё реке, невинно с ней шутя,
Глядится, моется и тонет.
Не бойся
Не бойся, добрая и любящая мать,
За сына своего, когда он понимать
Так рано начал всё! Не полагай, что это –
Недолговечности опасная примета.
Пускай твой маленький задумчив и угрюм,
Как будто уж его коснулся сумрак дум!
Кто знает? Может быть, подобно птичке белой,
Сидящей на скале в виду освирепелой
Пучины моря, он уж видит сквозь туман,
Как близится к нему весь жизни океан.
Ребенок хмурится, как птичка хохлит перья, –
А ты, полна любви, исполнись и доверья
К святому промыслу и посмотри светло
Ребенка милого на умное чело.
Мечтает он? – Так что ж? К мечтам так близок гений!
Мечты те выжгутся в горниле размышлений;
Мыслитель будет он, а мысль – святой залог
Всего великого, в ней жизнь миров, в ней бог.
Да! Пламенная мысль, сказав «твори!» таланту,
Дает Мильтону рай, ад завещает Данту.
Поверь, – великая ребенка участь ждет,
Когда он жаждет знать, когда предузнает.
Недаром действует в нем Прометеев пламень.
Он вопросительно глядит теперь на камень,
А там – с резцом в руке и с мрамором в борьбе –
Он Микеланджело нам воскресит в себе
И дивный образ даст порфирам и гранитам;
Или воителем предстанет знаменитым,
И посреди царьков и поземельных карт
В нем миру явится Франциск иль Бонапарт,
И царственный игрок, лишь славы отголоску
Внимая, мир сочтет за шахматную доску,
Где будет раздвигать несметных пешек ряд,
Пока ему судьба не скажет: шах и мат!
Как знать? Пойдет с трубой иль под компасным румбом
Он в небо Гершелем, иль в океан Колумбом,
Схватить сквозь горы волн или сквозь весь эфир
Иль новую звезду, иль новый чудный мир.
Кто ведает? Среди младенческих усилий
Растет, быть может, в нем певец певцов – Виргилий,
Стремящийся сорвать бессмертия венец,
Стихом поколебать весь мир и, наконец,
Крылатым гением, подобно дивной тени,
Лететь по головам грядущих поколений.
Бедные люди
Пустынный берег. Ночь. Шум бури. Темнота.
Убога и ветха, но крепко заперта
Рыбачья хижина. В дрожащем полусвете
Рисуются вдоль стен развешанные сети.
От углей, тлеющих в высоком камельке,
Мелькает алый круг на сером потолке,
И отблеск кое-где играет красноватый
На бренных черепках посуды небогатой,
В березовом шкафу уставленной. За ним
Широкая кровать под пологом простым,
А дальше – на скамьях, покрытых тюфяками,
Спят дети малые. Их пятеро. Клубками
Свернулись, съежились. От бурных вьюг и стуж,
Казалось, скрыто тут гнездо бесперых душ.
Кто ж эта женщина? – Она в тени с тоскою,
Колени преклонив, поникла головою
На полускрытую завесами кровать
И тихо молится, – о, это, верно, мать!
Она одна, в слезах, в тревоге, в страхе, в горе,
А там – пред хижиной – бушующее море.
Муж там, средь ярых волн. С младенчества моряк,
Он презирает всё – рев бури, ночи мрак.
Он должен и в грозу свои закинуть сети,
Он должен – потому что голодают дети;
Он должен с вечера, пока морской прилив
Благоприятствует, ладью свою спустив,
Четыре паруса как следует уставить,
А там – изволь один и действовать, и править!
Жена тогда чинит изорванную сеть,
Да между тем должна и за детьми смотреть,
И рыбный суп сварить, глотая дым и копоть,
И разное старье домашнее заштопать.
Плыви, рыбак! Трудись! Ищи среди валов
Местечка, где хорош бывает рыбный лов!
А место это как, вы б думали, пространно?
С большую комнату, притом – непостоянно:
Оно то там, то здесь, кругом же – океан!
Плыви! А тут и дождь, и холод, и туман, –
А волны вкруг ладьи и над ее краями,
Клубясь, вращаются зелеными змеями,
Он мыслит о жене, она его зовет
Среди своих молитв, – и, пущены вразлет,
Их мысли, как из гнезд поднявшиеся птицы,
Крест-накрест мечутся в пространстве без границы.
Вот жребий рыбака! А в этот самый час
Танцуют где-нибудь, – там бархат и атлас,
Цветы, гирлянды, блеск. А тут – во тьме беззвездной
Плавучая доска над разъяренной бездной
Да жалкий лоскуток дырявого холста,
На палку вздернутый: плыви! А тут – места,
Где смерть со всех сторон, и мели, и утесы!
А дома – хлеба нет, а дома – дети босы.
Там где-нибудь – пиры, там роскошь свыше мер,
Мечты и замыслы, и мало ли химер, –
А тут одна мечта – вразрез напорам водным,
Добравшись к берегу холодным и голодным,
Взглянуть у пристани дню светлому в лицо,
Причалить, вдеть канат в железное кольцо
И лишь до вечера вкусить покой желанный
В семействе, близ своей хозяйки доброй – Жанны!
О Жанна бедная! Твой муж теперь один
Под бурей на море, средь бешеных пучин!
Один – в глухую ночь! Хоть бы подмога в сыне!
Да дети малы все, – так думаешь ты ныне,
А там, как взрослые поедут с ним, – поверь,
Ты скажешь: «Лучше б им быть малыми теперь!»
Она берет фонарь: «Пойду взгляну! Ведь вскоре
Вернуться должен муж. Не тише ль стало море?
Пора бы утру быть!» Пошла и смотрит, – нет!
Всё бурно. Дождь идет. В слезах стоит рассвет,
Рождающийся день, как бы боясь явиться,
Расплакался о том, что надобно родиться.
Та в трепете идет. Хоть где-б-нибудь окно
Мелькнуло огоньком! Кругом всё сплошь черно.
Дороги не видать. Вот, покривясь, горюет
Лачуга темная, сквозь щели ветер дует,
Раскачивая дверь, а крыша… Боже мой!
В ней еле держится отвагой лишь одной
Злой бурей взрытая изгнившая солома.
Ужель живущие там говорят: «Мы – дома»?
«Постой-ка! Дай зайду! – подумала она,
Мимоидущая. – Ведь там живет одна
Несчастная. О ней говаривал со мною
Мой муж. Намедни он нашел ее больною.
Она вдова. Узнать, что, как она теперь!»
И с этой мыслию стучится Жанна в дверь.
Ответа не дает пустынное жилище.
«Больна!.. А дети-то? Пожалуй, ведь без пищи!
Их двое. Без отца!» Она еще стучит:
«Эй, отоприте мне, соседка!» – Всё молчит.
«Впустите!» – Наконец неведомой судьбою
Дверь двинулась – и вход открылся сам собою.
И Жанна в дверь вошла, лучами фонаря
Жилище страждущей вдовицы озаря,
Где тот же крупный дождь, холодный, сверху на пол
Сквозь дырья потолка, как через сито, капал, –
И что же? В глубине, в углу – ужасный вид! –
Пав навзничь, женщина недвижная лежит
В лохмотьях, обуви нет на ногах бедняги,
В глазах – безжизненность стоячей, мутной влаги.
Домохозяйка-мать! Ужели это ты?
Ведь это труп? – Да, труп почившей нищеты.
Вот всё, что на земле от матери осталось!
Как перед смертию страдалица металась,
Так и застыла тут. Рука, позеленев
И с войлока спустись, висит, окоченев, –
И пальцы скорчены, – и в немоте ужасной
Разомкнуты уста, отколь душа несчастной
Рванулась, испустив в предсмертный, страшный миг,
Последний, слышанный лишь вечностию крик,
Близ мертвой матери сном счастья упивались
Младенцы нежные и сладко улыбались –
Два – в общей люльке их. То были сын и дочь.
Мать, чувствуя уж смерть, старалась превозмочь
Еще сама себя: привстав, на них взглянула
И ножки им своей шубенкой обвернула,
А тельце – юбками, чтоб было им тепло,
Чтоб смертным холодом на них не понесло
От трупа матери, – ее покров пусть греет
Малюток и тогда, как труп охолодеет!
И как покоен сон согревшихся детей!
Тиха их колыбель. Казалось, спящих в ней
И Страшного суда звук трубный не разбудит.
Пусть судия придет! Ведь им суда не будет, –
Невинны! Незачем и пробуждаться им.
А дождь меж тем грозит потопом мировым.
Порою с потолка вдруг капля дождевая
Летит – и, на чело умершей упадая
И по щеке катясь, становится слезой.
А звонкая волна, под вихрем и грозой,
Бьет в берег и гудит, как колокол набатный.
Усопшая сквозь мрак и сон свой необъятный
Как будто слушает, что тени говорят,
Как будто хочется ей душу взять назад,
И, кажется, уста отверстые и очи
Недвижные – ведут беседу в бездне ночи:
Дыханье ваше где? – глаза устам твердят,
Уста ж в укор глазам: куда ваш делся взгляд?
Любите! Радуйтесь! Живите! Веселитесь!
Ликуйте на пирах! На бал в цветы рядитесь!
Как ни блестящ ручей – всё в темный океан
Ему назначен путь. Удел нам общий дан:
Забавам юности, всем песням, играм, шуткам,
Улыбке матери, любви ее к малюткам,
Лобзанью страстному двух пламенных особ –
Всему один конец: холодный, мрачный гроб!
Что ж Жанна, хижину умершей оставляя,
Несет теперь с собой, близ сердца укрывая?
Какая ноша тут? Что так трепещет грудь
У Жанны? Что она свой ускоряет путь?
Что значит этот взгляд, исполненный тревоги?
Зачем у ней дрожат, подкашиваясь, ноги?
Украла ль что-нибудь у мертвой? Неужель?
Она пришла домой и на свою постель
Ту ношу бережно, при первом утра блеске,
Сложила – и спешит задернуть занавески.
И села, бледная, у той постели. Страх
И внутренний укор во всех ее чертах,
К подушкам голова склонилась; в членах трепет,
И на устах ее дрожит несвязный лепет:
«А он-то? – Боже мой! – Еще забота! Вот!
И так в трудах всю ночь! Вон – море-то ревет!
А он еще всё там! – И что на ум мне вспало?
Своих ведь пятеро, – нет! Показалось – мало.
Что я наделала? Пусть он меня побьет!
Ох, надо, надо бить – и больно. Чу!.. Идет?..
Нет! Нету никого. Тем лучше. Что ответить?
Ох, страшно, страшно так теперь его мне встретить
Входящего!.. Нет! нет! Пусть он нейдет теперь!
А вот… мне кажется… нет! Ветер стукнул в дверь».
И вот – она сидит, поникла, еле дышит
И словно ничего не видит и не слышит.
Вдруг распахнулась дверь – и с парой добрых слов
Перед своей женой явился рыболов.
Глядел он весело, а за его плечами
С увлаженных сетей вода лилась ручьями.
И, вспрянув, будто вдруг от сна пробуждена,
С огнем любовницы так и впилась жена
Устами в грудь его – и жар ее привета
Прогрел ему сукно измокшего жилета:
«Моряк мой!» – «Твой моряк. Да вот – со мной беда!
Совсем ограблен я. Грабитель – ветер. Да.
А море – это лес. Все снасти поломались.
Рыбенки не привез: вот – сети изорвались.
Веревка лопнула, – и в лодку-то волна
Хватила было так… Да что ты так бледна?
Перепугалась? Вздор! О господи владыко!
Беда не велика. Поправимся! Скажи-ка:
Ну как ты без меня? Что делала?» – «Кто? Я?
Да так, как и всегда. Ведь мало ли шитья,
Вязанья? Между тем мне было страшно, – море
Шумело, выло так…» – «Ну что же? Эко горе!
Ведь нам не в первый раз». – «Да… кстати… я пошла
Проведать… Знаешь, что? Соседка умерла –
Та бедная вдова… Теперь осталось двое
Сироток… Мальчик-то… несчастие такое! –
Еще почти грудной, и девочка мала.
Бедняжки! Мать-то их ведь нищая была».
Задумался моряк и, скомкав словно тряпку,
Швырнул он под скамью свою морскую шапку,
Наморщась, почесал затылок и вздохнул.
«Эх, трудно, – говорит, – а то уж я смекнул,
Что сделать надобно. Да только… со своими
Едва справлялись мы. Тех пять, – а с семерыми
Как справиться? Легко ль вскормить да воспитать?
И так без ужина порой ложимся спать.
А впрочем… Божья власть! Его уж это дело!
У этой мелюзги, у мелочи незрелой,
Зачем он отнял мать? Ведь это – пыль да пух!
Тут думать нечего: возьмем и этих двух!
Ступай, жена, бери, покуда не проснулись!
При них ведь мертвая… Слышь: двери пошатнулись –
Покойница идет просить за них. Возьмем!
Пусть заодно растут все дети всемером!
Все, вместе с нашими, пусть будут сестры, братья!
Вкруг нас пусть ползают! Не сделаем изъятья!
Бог, верно, сжалится, даст больше рыбы нам,
Счастливей будет лов, вдвойне я буду сам
Трудиться… Что же ты так медлишь? Тратишь время?
Не сердишься ли ты? Быть может, это бремя
Тебя пугает? А?»
А та ему: «Взгляни! –
Отдернув занавесь, сказала. – Вот они!»
1840–1850-е гг.
Оглавление
Не обвиняй ее «Порой, когда всё спит, восторженный вполне…» Два зрелища К Фанни П. Она сказала Что слава? Детство Выходец из могилы У реки Теперь (после смерти дочери) Дерево Матери, лишившейся ребенка-сына К дочери Капля По поводу стихов Горация (Отрывок) Ребячество Смерть Фиалка и мотылек Завтра Роза в руках инфанты Желания Проснись! Ты любишь? Не бойся Бедные люди
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
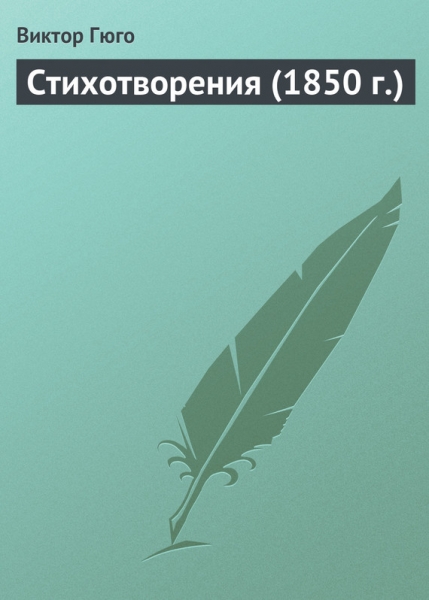





Комментарии к книге «Стихотворения», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев