Григорий Кружков Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2
© Г.Кружков, 2015
© И.В. Орлова, оформление, 2015
© Прогресс-Традиция, 2015
* * *
Часть I Романтики
«Природы он рисует идеал» (О Уильяме Вордсворте)
I
Суровый Дант не презирал сонета, В нем жар любви Петрарка изливал, Игру его любил творец Макбета, Им скорбну мысль Камоэнс облекал. И в наши дни пленяет он поэта: Вордсворт его орудием избрал, Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал. А ПушкинПушкин, как всегда, ухватывает главное: в то время как поэты веками воспевали в сонетах идеал женщины, прекрасной дамы, – Вордсворт избирает своим предметом Природу.
А как же Любовь? Вспомним хрестоматийные стихи о Люси. Мы не знаем, с кого образован «милый идеал» этого зыбкого создания, девушки-цветка, – или он просто свит из воздуха той же таинственной Природы:
Среди нехоженых дорог, Где ключ студеный бил, Ее узнать никто не мог И мало кто любил. Фиалка пряталась в лесах, Под камнем чуть видна. Звезда мерцала в небесах Одна, всегда одна. Не опечалит никого, Что Люси больше нет, Но Люси нет – и оттого Так изменился свет. (Перевод С. Маршака)Застенчивость, скромность, даже скрытность – таков образ женственности в поэзии Вордсворта. Чуть особняком стоят его более поздние стихи, посвященные жене: «Созданьем зыбкой красоты / Казались мне ее черты…»[1]. Проходит время, и поэт с умилением обнаруживает в супруге множество земных, практичных талантов: «уверенность хозяйских рук», «ее размеренность во всем, единство опыта с умом»… Благодарность торопит вывод: «Венец земных начал она, / Для дома Богом создана». В общем, опять по Пушкину: «Мой идеал теперь – хозяйка, / Мои желания – покой…»
Уильям Вордсворт. Рис. Генри Эдриджа, 1805–1806 г.
Сонетов гордой деве и пылкой страсти у Вордсворта вы не найдете. Зато у него есть большой цикл сонетов, посвященный речке Даддон; это ее, а не юную красавицу на балу, поэт сравнивает с вакханкой.
Ясно, что «идеал природы» – не какое-то нововведение Вордсворта, то была модная тема в эпоху Просвещения. Знаменитый на всю Европу Жан-Жак Руссо восславил великую учительницу Природу, а еще раньше шотландский философ Дэвид Хьюм установил приоритет чувства над разумом, природы над познающими способностями человека. В Англии их идеи подхватил Уильям Годвин, пик популярности которого совпал с молодостью Вордсворта. «Забрось свои химические учебники и читай Годвина», – писал он другу. Вордсворт лишь углубил рудник, который застолбили задолго до него.
В стихотворении, которое можно назвать программным, он называет Природу «якорем чистейших мыслей, нянькой, советчиком и хранителем сердца, душой всего моего нравственного существа»[2]. Отчего Природа обладает такой властью над человеком? Оттого, объясняет Вордсворт, что в ней мы ощущаем Присутствие чего-то высшего, растворенного повсюду, – в свете солнца, в животворном воздухе, в синем небе и в необъятном океане, – которое пронизывает и душу человека, и весь мир. Вордсворт, конечно, говорит о Боге; но можно быть и атеистом, как Джон Ките, и все-таки заразиться этим религиозным чувством:
Тому, кто в городе был заточен, Такая радость – видеть над собою Раскрытый лик небес, дышать мольбою В распахнутый, какдвери, небосклон. (Перевод С. Маршака)Романтики (не только Вордсворт и Ките, но и потрясатели общественных устоев Байрон и Шелли) обожествляли Природу. В конце концов они достигли того, что образованный англичанин XIX века отправлялся на загородную прогулку с тем же чувством, с каким раньше люди отправлялись в храм.
А поэты? Природа сделалась для них не только «нянькой» и «советчицей», но прямо-таки костылем, без которого и шагу нельзя ступить: все ее проявления, изменения, капризы стали «коррелятами» (отражениями) душевных состояний поэта. Романтическое стихотворение не мыслится без описательной природной увертюры.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» «Редеет облаков летучая гряда…» «Мороз и солнце – день чудесный…»Порой поэт сам порывается «командовать» природой («Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!» – Шекспир), но это – не стремление повелевать стихиями, как может показаться, а детски-эгоистическое требование сочувствия.
Впрочем, сомнения в Природе как в абсолютном благе уже зародились. Тот же Ките в письме Джону Рейнольдсу размышлял о жестоком законе, на котором стоит мир.
И тем же самым мысли заняты Сегодня, – хоть весенние цветы Я собирал и листья земляники, – Но все Закон мне представлялся дикий: Над жертвой Волк, с добычею Сова, Малиновка, с остервененьем льва Когтящая червя… Прочь, мрак угрюмый! Чужие мысли, черт бы их побрал! Я бы охотно колоколом стал Миссионерской церкви на Камчатке, Чтоб эту мерзость подавить в зачатке![3]Те же мысли мучили Эмили Бронте: «Жизнь существует на принципе гибели; каждое существо должно быть беспощадным орудием смерти для другого, или оно само перестанет жить…»
Сомнения укрепились в результате научных открытий середины XIX века. Теннисон и его чувствительные современники были потрясены тем, сколько миллионов существ природа безжалостно губит и отбрасывает во имя совершенствования своих видов. Оставалось надеяться, что «всё не напрасно», – как писал Теннисон, что «есть цель, неведомая нам»:
О да, когда-нибудь потом Все зло мирское, кровь и грязь, Каким-то чудом истребясь, Мы верим, кончится добром.Интересно сравнить стихи Тютчева до этого умственного переворота в Европе и после. «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик, – пылко писал он в молодости. – В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык…» А в посмертном издании 1886 года читаем, что «природа – сфинкс», которая лишь мучит человека, может быть, сама не зная разгадки своих роковых вопросов.
Но вопросы и сомнения со временем постепенно стихли[4], отошли на рассмотрение ученых, а лирика как слилась с природой, так и стала с ней неразлучной. Это ее новое качество особенно заметно в широкой исторической перспективе. Можно образно сказать: в шестнадцатом веке поэт почти не замечал природы, в семнадцатом – стал на нее посматривать, в восемнадцатом – ухаживать, а в девятнадцатом веке он на ней женился.
II
Уильям Вордсворт родился в одном из красивейших мест Англии, в Озёрном краю. Так называется область на северо-западе, недалеко от шотландской границы – край живописных гор и долин, холмов, озер и извилистых рек. Вордсворт прожил там, общим счетом, шестьдесят лет – сначала мальчиком и подростком, впоследствии – известным поэтом. Дом Голубя (Dove Cottage) в деревне Грасмир – самое знаменитое в Англии место литературного паломничества, разумеется, после шекспировского Стратфорда. Неподалеку, в городке Кесвик, жил Сэмюэл Кольридж, часто приезжавший погостить в Грасмир, там же, в Кесвике, поселился и Роберт Саути. С легкой руки Фрэнсиса Джеффри, редактора влиятельного тогда литературного журнала «Эдинбургское обозрение», этих трех поэтов традиционно называют «озёрными поэтами».
Джеффри, конечно, имел в виду географическую близость и дружеские отношения между тремя поэтами, не более того, но термин «озерная школа» закрепился. Другое дело, насколько он содержателен, – уж слишком это были разные творческие индивидуальности: Роберт Саути с его интересом к готическим сюжетам, к романтической экзотике, Кольридж, философский ум, остроумный собеседник и выдающийся критик; и Уильям Вордсворт, самый обыкновенный и самый оригинальный из всех троих.
Он рано осиротел, потеряв мать в восьмилетнем возрасте, а через несколько лет и отца. Окончил курс в Кембридже, но выбирать профессию не торопился, его влекло к поэзии, но как совместить это влечение со скромностью перепадавших ему от опекунов средств было неясно.
В 1790-м году Вордсворт, вместе с другом, совершает пешее путешествие в Альпы, побывав по дороге в революционном Париже, а через год, после окончания университета, снова приезжает во Францию. На этот раз он еще больше проникается республиканскими идеями, надеждами на близкое осуществление провозглашенных революцией идеалов – свободы, равенства и братства. Здесь он переживает, по-видимому, единственную страстную любовь в своей жизни – к юной француженке по имени Аннет Валлон. Плодом их взаимного чувства стала девочка, названная Каролиной. Незадолго до ее рождения Вордсворт едет в Англию, чтобы уговорить своих опекунов на брак и достать деньги, необходимые для семейной жизни. В это время происходит казнь Людовика XVI, Англия вступает в войну против Франции, и возвращение становится невозможным.
Между тем события во Франции принимали все более зловещий оборот. Вслед за королем и королевой на плаху отправляют уже республиканцев, членов Конвента – революция пожирает своих собственных детей. Комитет общественного спасения и его комиссары в провинции свирепствуют, людей казнят практически без суда, по одному подозрению. Лишь термидорианский переворот и казнь Робеспьера останавливает маховик террора. К власти приходит Наполеон Бонапарт, который вскоре тоже разочаровывает республиканцев, присваивая себе диктаторскую власть и фактически реставрируя монархию, лишь под другим названием (империя).
С этого начинается попятный путь взглядов Вордсворта – от радикальных идей к полному отрицанию всякого насилия и поискам глубоких откровений в человеческой душе и в природе.
III
В 1798 году Уильям Вордсворт вместе со своим другом Сэмюэлом Кольриджем издал «Лирические баллады» – одну из важнейших книг английского романтизма. Императив «природности», естественности, ярко проявился в этом сборнике, точнее говоря, той его части, что написана Вордсвортом. В предисловии ко второму изданию он сформулировал свой идеал поэтического языка, очищенного от обветшалых поэтизмов, близкого к речи простых людей.
Пушкин был знаком с этой программой, по крайней мере, по журнальной полемике. В наброске своей статьи «О поэтическом слоге» (1827–1828) он пишет о произведениях Вордсворта и Кольриджа, что они «исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина».
Лирические баллады. 1802 г. Том I. Титульный лист.
По свидетельству Шевырева, едва выучившись по-английски, Пушкин уже читал в подлиннике Вордсворта. Есть веские основания связать «Вновь я посетил…» с «Тинтернским аббатством» – одним из самых известных стихотворений Вордсворта, полное название которого звучит так: «Строки, сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства, при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года».
Уже в самом названии, в его ключевом слове revisiting – «вновь посещая» – читается начало пушкинской элегии. Сравним начальные строки Вордсворта и Пушкина:
Пять лет прошло; пять лет, и вместе с ними Пять долгих скучных зим! и вновь я слышу Шум этих струй, бегущих с высей горных, Журча, в долину мирную. – И вновь Я вижу эти сумрачные скалы… (У. Вордсворт) …Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных. Уж десять лет ушло с тех пор – и много Переменилось в жизни для меня, И сам, покорный общему закону, Переменился я – но здесь опять Минувшее меня объемлет живо, И, кажется, вечор еще бродил Я в этих рощах… (А. Пушкин)Сходство заметное. Только у Вордсворта: «Пять лет прошло», а у Пушкина «Уж десять лет ушло». Но главное – не тематическая перекличка, а родимое пятно интонации. Эти три раза повторяемые Вордсвортом на конце строк (2-й, 4-й и 14-й) «again» – «вновь»:
and again I hear These waters… Once again Do I behold… Once again I see These hedge-rows…To есть: «и вновь я слышу / Шум этих струй», «и вновь / Взираю я…», «И вновь я вижу / ряды кустов колючих…» Именно эта нагнетаемая Вордсвортом интонация и породила, кажется, пушкинское начало «из-за такта»:
Вновь я посетил Тот уголок земли…Отсюда, видимо, шел импульс, а дальше – «заразило по контрасту». Это был самый плодотворный для Пушкина путь. На противоречии его муза лучше работала, и, сопоставляя «Вновь я посетил…» с «Тинтернским аббатством», можно это отчетливо увидеть. Вордсворт в своих стихах занят доказательством глубокого благотворного воздействия, какое природа имеет на душу человека. У Пушкина никакого благоговейного трепета в отношении к ландшафту нет; наоборот, поэт как будто играет сменой регистров в описаниях: то – «меж нив златых и пажитей зеленых / Оно, синея, стелется широко», то – «скривилась мельница», «дорога, изрытая дождями…»
Но всего интереснее различие двух концовок. У Вордсворта вся заключительная часть стихотворения обращена к любимой сестре. Он благодарит ее за разделенные радости и невзгоды и просит навек запомнить эти отрадные часы, чтобы, когда одиночество, страх, боль или печаль омрачат ее поздние годы и когда, может быть, сам поэт будет там, где он более не сможет услышать ее голос, она вспомнила, как они стояли на этом берегу, объединенные в молитвенном восторге перед святой Природой.
И здесь мы видим пушкинское отталкивание от Вордсворта, от того, что Ките называл «эгоистически возвышенным» в Вордсвор-те. Тон явно взят на октаву ниже. Автор «Тинтернского аббатства» обращается к «дорогой, дорогой сестре», Пушкин – к молодым сосенкам возле дороги – то есть ни к кому – и ко всем. Одиночество его глубже, но не безнадежней. Вордсворт просит сестру вспомнить о нем в горе и утешиться. Пушкин, наоборот, призывает вспомнить о нем в радости и задуматься.
Но пусть мой внук Услышит ваш приветный шум, когда, С приятельской беседы возвращаясь, Веселых и приятных мыслей полон, Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспомянет.IV
Предисловие к «Лирическим балладам» пылко и размашисто, кажется, что оно писалось без плана, по одному вдохновению. Конечно, в нем есть противоречия, о которых говорил Кольридж, и преувеличения, и почти неизбежная для такого жанра самореклама, но есть интреснейшие и весьма злободневные места. Вот отрывок из начала:
«…Множество неизвестных доселе сил, объединившись, действуют сейчас, стараясь притупить ум человека и, лишив его способности самостоятельного мышления, довести до почти дикарского отупления. Наиболее эффективными из этих сил являются всевозможные государственные события, происходящие ежедневно, и возрастающее сосредоточение людей в городах, где единообразие жизни порождает страсть к сенсациям, которому современная информация ежечасно удовлетворяет. К этим вкусам подлаживаются литература и театр. Бесценные творения писателей прошлого – я чуть было не сказал творения Шекспира и Мильтона – вытесняются романами ужасов… Когда я размышляю об этой недостойной жажде сильных ощущений…»[5] И так далее.
Когда я размышляю о том, что эти строки написаны двести лет назад, в 1800 году, меня охватывает какое-то почти суеверное чувство. Неужели ничего не меняется? К чему тогда Вордсворт, Пушкин, Ките, Тютчев, и все остальные?
Возникает впечатление, что поэты – это какие-то палки, вставляемые в колеса того, что именуется прогрессом: ход его на какое-то время задерживается, но потом палочки ломаются и колымага движется дальше.
V
Особый интерес представляют те места «Предисловия» Вор-дсворта, где он пытается определить суть поэзии. Ключевое слово, которое тут используется, удовольствие; думаю, без специального подсчета, что это самое частотное понятие в данном тексте. Вот лишь часть примеров.
«Он [поэт] пишет с определенной целью – доставить удовольствие».
«Поэт подчиняется лишь одному требованию, а именно: необходимости доставить непосредственное удовольствие читателю…»
«Эта необходимость доставлять непосредственное удовольствие не унижает искусства поэта».
«Более того, это дань уважения исконной сущности человеку, великому первоначалу – удовольствию, благодаря которому он познает, чувствует, живет и движется».
«Даже наше сочувствие порождено удовольствием: я не хотел бы, чтобы меня неправильно поняли, но всякий раз, когда мы сочувствуем боли, можно обнаружить, что сочувствие наше порождено и проявляет себя в едва заметном соединении с удовольствием».
«Поэт, побуждаемый чувством удовольствия, которое сопутствует ему во всех его занятиях, вступает в общение с природой…»
«Знание и поэта и ученого основано на удовольствии…»
«Цель поэзии – вызвать возбуждение, сопровождающееся повышенным удовольствием…»
«…разнообразные причины, обуславливающие удовольствие, которое мы испытываем от размера стихотворения».
«…при сознательном описании какой-то страсти разум, как правило, тоже испытывает удовольствие».
«Музыка гармоничного размера, сознание преодоленной трудности и смутное воспоминание об удовольствии, ранее испытанном от подобных произведений… незаметно породит сложное чувство наслаждения, совершенно необходимого, чтобы умерить боль, всегда присутствующую в описании сильных страстей».
Итак, цель поэзии, по Вордсворту, удовольствие.
Напомним, что, по Пушкину, «цель поэзии – поэзия»[6].
Не подумайте, однако, что я собираюсь здесь побивать Вор-дсворта Пушкиным. По сути, эти определения совсем не противоречат друг другу. В формуле Пушкина, если вдуматься, субъект и предикат по смыслу не тождественны. Слово «поэзия», по-видимому, употреблено тут в двух разных смыслах: как занятие и как результат. Навряд ли Александр Сергеевич имел в виду, что цель писания стихов есть писание стихов. Скорее, он хотел сказать, что цель писания стихов есть получение некоторого продукта, познаваемого только в ощущении, как вкус или запах, и не выразимого иными словами, кроме самого слова «поэзия». Этот продукт, или это ощущение, безусловно приятны, раз одни люди тратят время и усилия, чтобы писать стихи, а другие – время и деньги, чтобы их читать, но поскольку он не сводится к знанию, истине, добродетели или чему-то другому, можно назвать его (по безусловному признаку) удовольствием, хотя бы и особенного рода.
Разумеется, удовольствие Вордсворта – также особого рода, так что никакого явного спора между классиками я здесь не наблюдаю.
Правда, Вордсворт пытается разобраться в механизме поэзии. Он говорит об удовольствии неожиданности, об удовольствии узнавания, о стихийном излиянии сильных чувств, об истине, вливающейся прямо в сердце вместе с чувством, о любви к миру и природе… Порой входит в противоречие сам с собой, порой впадает в панегирик: «поэт поет песню, которую подхватывает все человечество», он – «оплот человеческой природы, ее защитник и хранитель». «Поэзия – начало и венец всякого знания», она «бессмертна, как человеческое сердце»… Многие из афоризмов Вордсворта через двадцать лет повторит романтик следующего поколения Перси Биши Шелли в своей «Защите поэзии».
Поэтические манифесты могут быть прекрасны, но выводимые из них правила бесполезны на практике, если только не вредны; вредны же они тем, что похожи на картинки модного журнала. Одевшись по такой картинке, самый серый Волк сойдет за Бабушку (по крайней мере, в собственных глазах).
Может быть, лучше все-таки не определять словами вкус соли? Отделаться шуткой, как Пушкин. Или воскликнуть, как Лермонтов: «Но в храме, средь боя / И где я ни буду, / Услышав, ее я / Узнаю повсюду».
VI
Сразу вслед за циклом о Люси, написанной в 1799 во время путешествия по Германии, Вордсворт там же написал балладу «Люси Грей, или Одиночество», рисующие образ девочки – столь же прелестной, как героиня предыдущего цикла, и описанной почти теми же словами. Там было: «Среди нехоженых дорог, / Где ключ студеный бил, / Ее узнать никто не мог / И мало кто любил. / Фиалка пряталась в лесах…». А здесь:
Никто ей другом быть не мог Среди глухих болот. Никто не знал, какой цветок В лесном краю растет[7].Поэтическая душа все-таки потемки. Как угадать, почему вслед за стихотворным рассказом о тихо увядшей девушке-цветке Вордсворт начал новую балладу о девочке, погибшей в метель, – фактически о той же Люси, лишь убавив ей лет и сделав ее не жертвой, а символом одиночества.
Композиция «Люси Грей» соответствует жанру баллады: для достижения максимального эффекта рассказ монтируются с коротким диалогом.
– Эй, Люси, где-то наша мать, Не сбилась бы с пути. Возьми фонарь, ступай встречать, Стемнеет – посвети. – Отец, я справлюсь дотемна, Всего-то два часа. Еще едва-едва луна Взошла на небеса. – Иди, да только не забудь, Мы к ночи бурю ждем. – И Люси смело вышла в путь Со старым фонарем. Стройна, проворна и легка, Как козочка в горах, Она ударом башмака Взметала снежный прах. Потом спустился полог тьмы, Завыло, замело. Взбиралась Люси на холмы, Но не пришла в село.Наутро отец и мать выходят искать Люси, не вернувшуюся домой, – сперва безрезультатно, но потом они замечают на снегу следы башмаков, следуют за ними через холм, сквозь пролом в ограде, через поле – и оказываются на берегу реку Следы ведут на мост – и где-то посередине обрываются.
На сваях ледяной нарост Вода стремит свой бег. Следы пересекают мост… А дальше чистый снег.После этого следует еще восьмистишие, самое главное. Но я задержусь здесь, чтобы сказать о работе переводчика. «Люси Грей» – одно из тех «простых» стихотворений, которые так легко загубить плохим переводом. Более того, я утверждаю, что и хороший, и даже очень хороший перевод загубили бы это стихотворение, превратили бы его в бессмыслицу. Здесь требовался перевод конгениальный, и только так я могу оценивать работу Игн. Ивановского. Нигде ни стыка, ни ухаба. Поток баллады так же прозрачен и чист, как в оригинале. А последние восемь строк (скажу вам кощунственную вещь) по-русски, кажется, звучат даже лучше, чем по-английски:
Но до сих пор передают, Что Люси Грей жива, Что и теперь ее приют – Лесные острова. Она болотом и леском Петляет наугад, Поет печальным голоском И не глядит назад.Стихотворение это – не сентиментальное (хотя многие стихи Вордсворта вполне укладываются в рамки сентиментализма XVIII века), не романтическое (хотя автора числят среди родоначальников английского романтизма); оно – символическое. И хотя символизм в Англии начинается с Уильяма Блейка и в его самиздатовских «Песнях невинности» (1789) уже есть стихи о потерявшихся детях, но символизм Блейка – явный, с открытыми намерениями. «Заблудившийся мальчик» или «Мальчик найденный» как бы заранее объявляют: мы стихи-эмблемы, стихи-аллегории. В то время как «Люси Грей» ни о чем не объявляет, и символизм этих стихов (если я прав, что он там есть) не лезет на глаза, «как сахар прошлогоднего варенья».
Люси Грей – это сама душа человеческая, вышедшая с фонарем, чтобы помочь другой душе, и заблудившаяся в пути. Она изначально, обреченно одинока; можно лишь издалека заметить ее в рассветных потемках, услышать «печальный голосок». И зачем ей оглядываться назад, когда перед ней такая далекая и одинокая дорога? Печаль и одиночество, которыми щедро была наделена уже первая Люси, в этой балладе возводится в степень тождества („a solitary child“); автор убавил лет своей Люси, потому что душа всегда девочка, puella, как сказано у Стивенса.
VII
Природа – великий источник добра, но есть другой – детство, которое человек хранит и несет в себе, божественный свет, который со временем тускнеет и гаснет в душе; но память может воскресить его, хотя бы на время. Это тема оды Вордсворта «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства» (1802–1804); критики часто называют ее просто «Одой о бессмертии» или «великой одой». Вордсворт очень ценил ее и завершал ею свои собрания стихотворений 1807 и 1815 годов. В любой хрестоматии английской поэзии вы найдете эти строки:
Розкденье наше – только лишь забвенье; Душа, что нам дана на срок земной, До своего на свете пробуязденья Живет в обители иной; Но не в кромешной темноте, Не в первозданной наготе, А в ореоле славы мы идем Из мест святых, где был наш дом!Вордсворт был не первым, воспевшим младенческое состояние души. Об этом писал Уильям Блейк в «Песнях невинности», а задолго до него – религиозные поэты семнадцатого века Генри Воэн (1622–1695) и Томас Траэрн (1636–1674). Для Траэрна его детские воспоминания были неиссякаемым родником восторга перед миром: «Как ангел, слетел я на землю! Каким ярким виделось всё вокруг, когда я впервые явился среди его творений! Какое сияние меня короновало!», – писал он в стихотворении «Чудо» (прозаический перевод). В унисон с ним Воэн так начинает свое «Возвращение»:
Благословенна память дней Блаженной младости моей, Когда еще я знать не мог, Зачем живу свой новый срок… (Перевод Г. Русакова)Для Воэна несомненно, что путь праведной души – возвращение в детство: «Мое вперед ведет назад». Вордсворт как бы развивает эту мысль. «Дитя озарено сияньем божьим», – говорит он, в ребенке заключены вся философия и всё бессмертие; и пусть сияние детства с годами меркнет, оно не вовсе исчезает:
О счастье, что в руине нежилой Еще хранится дух жилого крова, Что память сохраняет под золой Живые искорки былого!На смену ушедшему младенческому раю приходит новая мудрость, которую человек извлекает из опыта страдания и понимания, сочувствия и веры. И Вордсворт заканчивает свою оду хвалой человеческому сердцу, его созревшей тяжести, венчающей ту пору жизни, когда цветок юности отцвел и порывы осеннего ветра все злее и холоднее:
Лик солнечный, склоняясь на закат, Окрашивает облака иначе – Задумчивей, спокойней, мягче: Трезвее умудренный жизнью взгляд. Тебе спасибо, сердце человечье, За тот цветок, что ветер вдаль унес, За всё, что в строки не могу облечь я, За то, что дальше слов и глубже слез.VII
В 1835 году, после смерти Саути, Вордсворт был назначен поэтом-лауреатом; свои обязанности он отправлял безукоризненно, то есть никак: за пятнадцать лет не написал ни одного официального стихотворения. В это время его уже почитали как живого классика. Но признание пришло не сразу. Вплоть до 1820 года Вордсворта, по словам современника, «топтали ногами». Байрон издевался над ним и в «Чайльд-Гарольде», и в «Дон Жуане», Китса раздражала его проповедническая поза, Шелли назвал его «евнухом Природы»[8]. У него было немало поклонников и сторонников; тем не менее книги Вордсворта распродавались вяло; известна пародия Хартли Кольриджа (сына Сэмюэла):
Среди нехоженых дорог Писатель проживал. Его понять никто не мог И мало кто читал…Надо сказать, что Вордсворт как будто подставлялся под пародии. Взять, к примеру, его длинное стихотворение «Слабоумный мальчик» („The Idiot Boy“), где слабоумного подростка посылают за подмогой в город на ночь глядя и после этого ищут до утра – но, слава Богу, находят. Мальчик отпустил поводья и, пока его конек щипал траву, мечтал в седле, слушая крики филинов и смотря на луну. Когда его потом спросили, что он видел и слышал ночью, мальчик ответил: «Петухи кричали: ту-ит, ту-гу! И солнышко холодило!» Увы, Байрон не мог пропустить столь явной подставки; свой фрагмент о «простаке Вордсворте» в сатире «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809) он заключает без церемоний: мол, каждый, кто прочтет стихи о славном идиоте, неминуемо сделает вывод, что герой рассказа – сам поэт.
Или возьмем другое стихотворение «Нас – семь» из «Лирических баллад». Из семерых братьев и сестер двое умерли, двое уехали в город, двое ушли в плавание, но «простодушная девочка», которой не дано понять, что такое смерть, упрямо отвечает на вопрос автора: «Нас – семь». Тот пытается воздействовать на нее арифметикой, задавая задачи вроде того: «Вас было семь, двое уплыли на корабле (или двое умерли), сколько осталось?» – но получает неизменный ответ: «Нас – семь». Я уверен, что сцена с Браконьером и Бобром в «Охоте на Снарка», когда они вдвоем пытаются сосчитать, сколько раз прокричал Хворобей, основана именно на этом стихотворении:
«Это – легкий пример, – заявил Браконьер, – Принесите перо и чернила; Я решу вам шутя этот легкий пример, Лишь бы только бумаги хватило». Тут Бобер притащил две бутылки чернил, Кипу лучшей бумаги в портфеле… Обитатели гор выползали из нор И на них с любопытством смотрели.Вордсворт был одним из любимым мишеней Кэрролла-пересмешника. Помните песню про «старичка, сидящего на стене», которую Белый Рыцарь предлагает спеть «в утешение» Алисе?
«А она длинная? – подозрительно спрашивает девочка, уставшая от слышанных за день стихов. «Длинная, – отвечает Рыцарь. – Но очень, очень красивая! Когдая ее пою, все рыдают… или…» «Или что?» – спрашивает Алиса. «Или не рыдают», – заканчивает Белый Рыцарь.
Так до сих происходит с Вордсвортом. Одни рыдают от «Лирических баллад», другие – нет. Но само мгновенное отождествление Вордсворта с Белым Рыцарем, поющим «его песню», происходит – словно два неукротимых чудачества накладываются друг на друга.
Песня про старичка на стене, как можно прочесть в любых комментариях к «Алисе», пародирует стихотворение Вордсворта «Решимость и свобода» („Resolution and Independence“). Как и «Нас – семь», оно представляет серию докучных вопросов автора к совершенно незнакомому человеку. В данном случае встречным оказывается ветхий, согнутый пополам старик, собирающий пиявок в лесном болоте.
Диалогу предшествует длинная экспозиция. Автор бродит по лесу, размышляя о горьких судьбах поэтов, которых в конце пути ожидают нищета, болезни, отчаянье и безумие. Тени Чаттертона и Бернса проходят перед ним; и, когда он говорит со стариком, навязчивые мысли то и дело заглушают речь собеседника. Эту мизансцену блестяще воспроизвел Кэрролл в своей пародии:
Я рассказать тебе бы мог, Как повстречался мне, Какой-то древний старичок, Сидящий на стене. Спросил я: «Старый, старый дед, Чем ты живешь? На что?» Но проскочил его ответ Как пыль сквозь решето. – Ловлю я бабочек больших На берегу реки, Потом я делаю их них Блины и пирожки И продаю их морякам – Три штуки за пятак. И в общем, с горем пополам, Справляюсь кое-как[9].В конце концов автор (не пародии, а спародированного стихотворения) утверждается в мысли, что старик, выбравший сам свою судьбу и ничего не боящийся, послан ему недаром. «Господи! – восклицает он. – Будь мне подмогой и оплотом. Я никогда не забуду этого Ловца Пиявок на пустынном болоте»[10].
Вот я и спрашиваю: почему Вордсворт в качестве примера для поэта выбрал старика с такой странной профессией – ловца пиявок? Не странно ли? Для русского читателя, знакомого только с одним литературным героем этой профессии – продавцом лечебных пиявок Дуремаром, другом Карабаса Барабаса, – странно вдвойне.
Я не верю в случайность поэтического выбора, хотя и не могу четко объяснить его смысл. Я только чувствую, что в основе этой странности – настоящая лирическая смелость. Что же до связи пиявок и поэзии, может быть, суть в том, что поэзия оттягивает дурную кровь человечества и тем его лечит. Дурная кровь – плотское, варварское, дохристианское. Поэзия способна очищать душу от дурных страстей. Добавлять ничего не нужно, ведь Бог все дал человеку в момент творения, надо лишь убавить, отнять лишнее, зараженное змеем. Может быть, в этом и разгадка?
IX
За свою жизнь Вордсворт написал более пятисот сонетов, среди которых много замечательных. Жанр сонета был полузабыт в эпоху Просвещения, и хотя Вордсворт был не первым в своем поколении, кто вспомнил о нем (первым был, кажется, Уильям Бо-улз), но именно Вордсворту принадлежит заслуга воскрешения сонета в английской поэзии XIX века. В своей лирике он двигался от баллады к сонету; с годами эта форма все больше выходила у него на первый план. Среди сонетов Вордсворта есть политические, пейзажные, «церковные» и прочие; но шедевры в этом трудном жанре зависят не от темы, а от степени воплощения основного принципа сонета: великое в малом.
Развалины Тинтернского аббатства. С картины Джозефа Тернера, 1794 г.
Этот принцип сонета, как мы видим, хорошо сочетается с ранее определившейся установкой поэта: находить необыкновенное – в обыденном, красоту – «в повседневном лице Природы». Для мгновения лирического «отрыва» от житейской суеты Вордсворт находит сравнение, по своей необычности не уступающее самым удивительным кончетти поэтов-метафизиков:
…весь этот вздор банальный Стирается с меня, как в зале бальной Разметка мелом в праздничную ночь[11].Сонет Вордсворта оказывается семимильными башмаками, в которых можно совершать огромные шаги во времени и пространстве. Восхищаясь подснежниками, цветущими под бурей, поэт сравнивает их с воинством древних:
Взгляни на доблестных – и удостой Сравненьем их бессмертные знамена. Так македонская фаланга в бой Стеною шла – и так во время оно Герои, обреченные судьбой, Под Фивами стояли непреклонно[12].В другом сонете он вглядывается в сумрак и видит мир как бы глазами своего пращура – косматого дикаря:
Что мог узреть он в меркнущем просторе Пред тем, как сном его глаза смежило? – То, что доныне видим мы вдали: Подкову темных гор и это море, Прибой и звезды – все, что есть и было От сотворенья неба и земли.Предвосхищая методы кино, Вордсворт умеет неожиданно изменить оптику и завершить «панораму» – «наездом» и крупным планом:
На мощных крыльях уносясь в зенит, Пируя на заоблачных вершинах, Поэзия с высот своих орлиных Порой на землю взоры устремит – И, в дол слетев, задумчиво следит, Как манят пчел цветы на луговинах, Как птаха прыгает на ножках длинных И паучок на ниточке скользит.Мне кажется, что ранний сонет Джона Китса «К Одиночеству», с точки зрения его монтажа, есть прямая имитация сонета Вор-дсворта:
«О одиночество! если мне суждено с тобой жить, то пусть это будет не среди бесформенной кучи мрачных зданий; взберемся с тобой на крутизну – в обсерваторию Природы, откуда долина, ее цветущие склоны, кристальное колыханье ручья – покажутся не больше пяди; позволь мне быть твоим стражем под ее раскидистыми кронами, где прыжок оленя спугивает пчелу с наперстянки…»[13]
Здесь у Китса не Поэзия, а ее подруга Одиночество, не заоблачные вершины, а крутая гора (обсерватория Природы), но сама смена планов – от головокружительной высоты до пчел на луговинах, до отдельного цветка или паучка – та же самая.
Это стихотворение Джона Китса, по моему предположению, привлекло внимание Николая Огарева, который в 1856 году написал свое подражание:
О, если бы я мог на час один Отстать от мелкого брожения людского, Я радостно б ушел туда, за даль равнин, На выси горные, где свежая дуброва Зеленые листы колышет и шумит, Между кустов ручей серебряный бежит, Жужжит пчела, садясь на стебель гибкий, И луч дневной дрожит сквозь чащи зыбкой… (Н. Огарев. «Sehnsucht»)Увлеченный этим широким размахом поэтического маятника: город – выси горные – пчела на качающейся травинке, Огарев и пошел за Китсом, – который, в свою очередь, шел за Вордсвортом.
В России судьба Вордсворта сложилась не очень удачно. Лорд Байрон оказался ближе русскому сердцу. Даже сентиментальный Жуковский мгновенно зажегся Байроном, а к предложению Пушкина переводить Вордсворта (который, предположительно, должен быть ему «по руке») остался равнодушен – не разглядел.
На родине поэтическая иерархия обратная: Вордсворта помещают значительно выше Байрона. В чем причина этой незыблемой репутации «поэта Природы» на протяжении вот уже двух веков? Наверное, как раз в том, что Уильям Вордсворт – очень английский поэт. Задумчивый, упрямый, мягкосердечный; его поэтический герб выкрашен в зеленый цвет, напоминающий одновременно об английских пастбищах и о том, что «man is but grass»[14]. Господь, сотворивший и тигра, и овечку, решил сразу после Блейка подарить миру Вордсворта.
Уильям Вордсворт (1770–1850)
Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства
Ода
I
Когда-то все ручьи, луга, леса Великим дивом представлялись мне; Вода, земля и небеса Сияли, как в прекрасном сне, И всюду мне являлись чудеса. Теперь не то – куда ни погляжу, Ни в ясный полдень, ни в полночной мгле, Ни на воде, ни на земле Чудес, что видел встарь, не нахожу.II
Дождь теплый прошумит – И радуга взойдет; Стемнеет небосвод – И лунный свет на волнах заблестит; И тыщи ярких глаз Зажгутся, чтоб сверкать Там, в головокружительной дали! Но знаю я: какой-то свет погас, Что прежде озарял лицо земли.III
Я слышу пение лесных пичуг, Гляжу на скачущих ягнят, На пестрый луг И не могу понять, какою вдруг Печалью я объят, И сам себя виню, Что омрачаю праздник, и гоню Тень горестную прочь; – Чтоб мне помочь, Гремит веселым эхом водопад И дует ветерок С высоких гор; Куда ни кину взор, Любая тварь, любой росток – Все славят май. О, крикни громче, крикни и сломай Лед, что плитою мне на сердце лег, Дитя лугов, счастливый пастушок!IV
Природы твари, баловни весны! Я слышу перекличку голосов; Издалека слышны В них страстная мольба и нежный зов. Веселый майский шум! Я слышу, чувствую его душой. Зачем же я угрюм И на всеобщем празднестве – чужой? О горе мне! Все радуются утру и весне, Срывая в долах свежие цветы, Резвяся и шутя; Смеется солнце с высоты, И на коленях прыгает дитя; – Для счастья нет помех! Я вижу всё, я рад за всех… Но дерево одно среди долин, Но возле ног моих цветок один Мне с грустью прежний задают вопрос: Где тот нездешний сон? Куда сокрылся он? Какой отсюда вихрь его унес?V
Рожденье наше – только лишь забвенье; Душа, что нам дана на срок земной, До своего на свете пробужденья Живет в обители иной; Но не в кромешной темноте, Не в первозданной наготе, А в ореоле славы мы идем Из мест святых, где был наш дом! Дитя озарено сияньем Божьим; На мальчике растущем тень тюрьмы Сгущается с теченьем лет, Но он умеет видеть среди тьмы Свет радости, небесный свет; Для юноши лишь отблеск остается – Как путеводный луч Среди закатных туч Или как свет звезды со дна колодца; Для взрослого уже погас и он – И мир в потёмки будней погружен.VI
Земля несет охапками дары Приемному сыночку своему (И пленнику), чтобы его развлечь, Чтобы он радовался и резвился – И позабыл в пылу игры Ту, ангельскую, речь, Свет, что сиял ему, И дивный край, откуда он явился.VII
Взгляните на счастливое дитя, На шестилетнего султана – Как подданными правит он шутя – Под ласками восторженной мамаши, Перед глазами гордого отца! У ног его листок, подобье плана Судьбы, что сам он начертал, Вернее, намечтал В своем уме: победы, кубки, чаши; Из боя – под венец, из-под венца – На бал, и где-то там маячит Какой-то поп, какой-то гроб, Но это ничего не значит; Он это все отбрасывает, чтоб Начать сначала; маленький актер, Он заново выучивает роли, И всякий фарс, и всякий вздор Играет словно поневоле – Как будто с неких пор Всему на свете он постигнул цену И изучил «комическую сцену», Как будто жизнь сегодня, и вчера, И завтра – бесконечная игра.VIII
О ты, чей вид обманывает взор, Тая души простор; О зрящее среди незрячих око, Мудрец, что свыше тайной награжден Бессмертия, – читающий глубоко В сердцах людей, в дали времен: Пророк благословенный! Могучий ясновидец вдохновенный, Познавший всё, что так стремимся мы Познать, напрасно напрягая силы, В потёмках жизни и во тьме могилы, – Но для тебя ни тайны нет, ни тьмы! Тебя Бессмертье осеняет, И Правда над тобой сияет, Как ясный день; могила для тебя – Лишь одинокая постель, где, лёжа Во мгле, бессонницею мысли множа, Мы ждем, когда рассвет блеснет, слепя; О ты, дитя по сущности природной, Но духом всемогущий и свободный, Зачем так жаждешь ты Стать взрослым и расстаться безвозвратно С тем, что в тебе сошлось так благодатно? Ты не заметишь роковой черты – И взвалишь сам себе ярмо на плечи, Тяжелое, как будни человечьи!IX
О счастье, что в руине нежилой Еще хранится дух жилого крова, Что память сохраняет под золой Живые искорки былого! Благословенна память ранних дней – Не потому, что это было время Простых отрад, бесхитростных затей – И над душой не тяготело бремя Страстей – и вольно вдаль ее влекла Надежда, простодушна и светла, – Нет, не затем хвалу мою Я детской памяти пою – Но ради тех мгновений Догадок смутных, страхов, озарений, Осколков тайны – тех чудесных крох, Что дарит нам высокая свобода, Пред ней же наша смертная природа Дрожит, как вор, застигнутый врасплох; – Но ради той, полузабытой, Той, первой, – как ни назови – Тревоги, нежности, любви, Что стала нашим светом и защитой От злобы мира, – девственно сокрытой Лампадой наших дней; Храни нас, направляй, лелей, Внушай, что нашей жизни ток бурлящий – Лишь миг пред ликом вечной тишины, Что осеняет наши сны, – Той истины безмолвной, но звучащей С младенчества в людских сердцах, Что нас томит, и будит, и тревожит; Её не заглушат печаль и страх, Ни скука, ни мятеж не уничтожат. И в самый тихий час, И даже вдалеке от океана Мы слышим вещий глас Родной стихии, бьющей неустанно В скалистый брег, И видим тайным оком Детей, играющих на берегу далеком, И вечных волн скользящий мерный бег.X
Так звонче щебечи, певец пернатый! Пляшите на лугу Резвей, ягнята! Я с вами мысленно в одном кругу – Со всеми, кто ликует и порхает, Кто из свистульки трели выдувает, Веселый славя май! Пусть то, что встарь сияло и слепило, В моих зрачках померкло и остыло, И тот лазурно-изумрудный рай Уж не воротишь никакою силой, – Прочь, дух унылый! Мы силу обретем В том, что осталось, в том прямом Богатстве, что вовек не истощится, В том утешенье, что таится В страдании самом, В той вере, что и смерти не боится.XI
О вы, Озера, Рощи и Холмы, Пусть никогда не разлучимся мы! Я ваш – и никогда из вашей власти Не выйду; мне дано такое счастье Любить вас вопреки ушедшим дням; Я радуюсь бегущим вскачь ручьям Не меньше, чем когда я вскачь пускался С ручьями наравне, И нынешний рассвет не меньше дорог мне, Чем тот, что в детстве мне являлся. Лик солнечный, склоняясь на закат, Окрашивает облака иначе – Задумчивей, спокойней, мягче: Трезвее умудренный жизнью взгляд. Тебе спасибо, сердце человечье, За тот цветок, что ветер вдаль унес, За всё, что в строки не могу облечь я, За то, что дальше слов и глубже слез.Радуга
Когда я эту радугу-дугу В отмытой ливнем вижу синеве, Я удержать восторга не могу; Как в детстве, сердце рвется прочь, Трепещет на незримой тетиве! И я хочу, пока не пала ночь, На радугу после дождя, Рождающую столько смелых стрел, Смотреть с таким же счастьем, уходя, Как я на утре жизненном смотрел. Дитя – отец Мужчины. Эту нить Чтоб не порвать в душе, а сохранить, Я одного себе желаю впредь: Не разучиться бы благоговеть!Сонеты
«Путь суеты – с него нам не свернуть!..»
Путь суеты – с него нам не свернуть! Проходит жизнь за выгодой в погоне; Наш род Природе – как бы посторонний, Мы от нее свободны, вот в чем жуть. Пусть лунный свет волны ласкает грудь, Пускай ветра зайдутся в диком стоне Или заснут, как спит цветок в бутоне, – Все это нас не может всколыхнуть. О Боже! Для чего в дали блаженной Язычником родиться я не мог! Своей наивной верой вдохновенный, Я в мире так бы не был одинок: Протей вставал бы предо мной из пены И дул Тритон в свой перевитый рог!«О Сумрак, предвечерья государь!..»
О Сумрак, предвечерья государь! Халиф на час, ты Тьмы ночной щедрее, Когда стираешь, над землею рея, Все преходящее. – О древний царь! Не так ли за грядой скалистой встарь Мерцал залив, когда в ложбине хмурой Косматый бритт, покрытый волчьей шкурой, Устраивал себе ночлег? Дикарь, Что мог узреть он в меркнущем просторе Пред тем, как сном его глаза смежило? – То, что доныне видим мы вдали: Подкову темных гор, и это море, Прибой и звезды – все, что есть и было От сотворенья неба и земли.Глядя на островок цветущих подснежников в бурю
Когда надежд развеется покров И рухнет Гордость воином усталым, Тогда величье переходит к малым: В сплоченье братском робость поборов, Они встречают бури грозный рев, – Так хрупкие подснежники под шквалом Стоят, противясь вихрям одичалым, В помятых шлемах белых лепестков. Взгляни на доблестных – и удостой Сравненьем их бессмертные знамена. Так македонская фаланга в бой Стеною шла – и так во время оно Герои, обреченные Судьбой, Под Фивами стояли непреклонно.«На мощных крыльях уносясь в зенит…»
На мощных крыльях уносясь в зенит, Пируя на заоблачных вершинах, Поэзия с высот своих орлиных Порой на землю взоры устремит – И, в дол слетев, задумчиво следит, Как манят пчел цветы на луговинах, Как птаха прыгает на ножках длинных И паучок по ниточке скользит. Ужель тогда ее восторг священный Беднее смыслом? Или меньше в нем Глубинной мудрости? О дерзновенный! Когда ты смог помыслить о таком, Покайся, принося ей дар смиренный, И на колени встань пред алтарем.Уильям Блейк (1757–1827)
Сын лондонского галантерейщика, Блейк в 10 лет поступил в подмастерья к граверу, и это стало его основной профессией. В 1789 году он опубликовал «Песни невинности», а пятью годами позже – «Песни опыта». Эти и все последующие книги Блейка изданы им самим и иллюстрированы собственными гравюрами.
Уильям Блейк. С картины Томаса Филипса, 1807 г.
Уже в первых сборниках проявился визионерский и пророческий характер поэзии Блейка. Он громко прозвучал в «Книге Тэль», «Бракосочетании Рая и Ада» и других т. н. «пророческих книгах» поэта. Блейк яростно отрицал утилитарный Разум, воспевая поэтический Гений и интуицию свободного человека.
Талант Блейка, художника и поэта, не был оценен при жизни. Он был заново открыт прерафаэлитами в 1850-х годах и впервые полно представлен в трехтомном издании Э. Эллиса и УБ. Йейтса (1893).
Весна (Из «Песен Невинности»)
Пой, свирель! В небе – трель Жаворонка Льется звонко; А в ночи Хор звучит Соловьиный Над долиной… Весело, весело, весело весной! Петушок, Наш дружок, День встречает, Величает; Детвора Мчит с утра В сад и в поле – Смейся вволю! Весело, весело, весело весной! Как я рад Меж ягнят Встретить братца, С ним обняться – Шёрстку мять, Целовать Лобик нежный, Белоснежный! Весело, весело, весело весной!Больная роза (Из «Песен Опыта»)
О роза больная! Кто скрытно проник В твой сумрак росистый, Пурпурный тайник? То червь бесприютный, Изгнанник высот, Чья чёрная страсть Твою душу сосёт.Дерзи, Вольтер, шути, Руссо! (Из Манускрипта Россетти)
Дерзи, Вольтер, шути, Руссо, Кощунствуйте, входя в азарт! На ветер брошенный песок Несет насмешникам в глаза. И каждая песчинка – свет, Алмазный колкий огонек, Как россыпь звезд в глухой степи, Где путь Израиля пролег. Все атомы, что грек открыл, И Галилеевы миры – Песок на берегу морском, Где спят Израиля шатры.Хрустальный шкафчик (Из Манускрипта Пикеринга)
Я Девой пойман был в Лесу, Где я плясал в тени густой, В Хрустальный Шкафчик заключен, На Ключик заперт золотой. Тот Шкафчик гранями сиял – Жемчужный, радужный, сквозной, В нем открывался новый Мир С волшебной маленькой Луной. Там новый Лондон я узрел – Деревья, шпили, купола; В нем новый Тауэр стоял И Темза новая текла. И Дева – в точности, как Та, – Мерцала предо мной в лучах; Их было три, одна в другой: О тайный трепет, сладкий страх! И очарованный трикрат, Тройной улыбкой освещен, Я к ней прильнул: мой поцелуй Был троекратно возвращен. Я руки алчно к ней простер, Палимый лихорадкой уст… Но Шкафчик раскололся вдруг, Рассыпался, как снежный куст; И, безутешное Дитя, Я вновь рыдал в глуши лесной, И Бледная Жена в слезах, Скорбя, склонялась надо мной.Врагу человеческому, который есть бог этого мира (Из книги «Ворота Рая» (1818))
Воистину ты, Сатана, дуралей, Что не отличаешь овцы от козла, Ведь каждая шлюха – и Нэнси, и Мэй – Когда-то святою невестой была. Тебя величают Иисусом в миру, Зовут Иеговой, небесным Царем. А ты – сын Зари, что погас поутру, Усталого путника сон под холмом.Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834)
Родом из Девоншира. Учился в Кембридже, превосходил знаниями большинство товарищей, но скучал университетской рутиной и диплома не получил. В 1794 году планировал вместе с Робертом Саути отправиться в Америку и основать там коммуну. В «Лирических балладах», изданных напополам с Вордсвортом среди других вещей напечатан его шедевр «Сказание о старом мореходе» (1798) – таинственная легенда об убийстве моряком альбатроса и последовавшем возмездии. Два года провел во Франции, где изучал философию, по возвращении поселился рядом с Вордсвортом в Озерном краю. В дальнейшем много путешествовал, писал статьи, читал лекции, был блестящим собеседником (вспомним его «Застольные беседы», которыми увлекался Пушкин!) и одним из законодателей вкуса своего времени. На время пристрастился к опиуму и торжественно утверждал, что стихотворение «Кубла Хан» не сочинено, а явлено ему в наркотическом сне. Свою философию искусства изложил в книге «Biographia Liter-aria» (1817).
Сэмюэл Тейлор Кольридж. С картины Питера Вандей-ка, 1795 г.
О стихах Донна
На кляче рифм увечных скачет Донн, Из кочерги – сердечки вяжет он. Его стихи – фантазии разброд, Давильня смысла, кузница острот.Труд без надежды
Природа вся в трудах. Жужжат шмели, Щебечут ласточки, хлопочут пчелы – И на лице проснувшейся земли Играет беглый луч весны веселой. Лишь я один мед в улей не тащу, Гнезда не строю, пары не ищу. О, знаю я, где край есть лучезарный, Луг амарантовый, родник нектарный. Как жадно я б к его волнам приник! – Не для меня тот берег и родник. Уныло, праздно обречен блуждать я: Хотите знать суть моего проклятья? Труд без надежды – смех в дому пустом, Батрак, носящий воду решетом.Имя, написанное на воде (О Джоне Китсе)
Цыганка Слава
Не каждому поэту выпадает проснуться знаменитым – или просто дожить до признания своих трудов. Джона Китса после его смерти скорей жалели, чем ценили, и место ему было отведено где-то во вторых рядах английских поэтов-романтиков. По-настоящему Китса открыли лишь прерафаэлиты, и понадобился еще не один десяток лет прежде, чем он был введен в Пантеон английской литературы. В 1818 году Ричард Вудхаус, преданный друг поэта, писал в частном письме: «При жизни (если Господь благословит его дожить до старости) он сравняется с лучшими из поэтов нынешнего поколения, а после смерти займет среди них первое место». Пророчество сбылось – увы! – лишь в своей второй половине. Жизнь Китса была слишком коротка. Он родился в семье простого конюха, который, женившись на дочке хозяина, возвысился до владельца конного двора – и разбился насмерть, упав с лошади, когда Джону едва исполнилось девять лет. Мать вторично вышла замуж и через шесть лет умерла, оставив четверых детей (из которых Джон был старшим) круглыми сиротами. Юноша окончил школу и был отдан опекуном в ученье к аптекарю, а позднее – на медицинские курсы. Но врачом не стал, хотя и успешно сдал экзамен в 1816 году.
Джон Ките. Миниатюра работы Джозефа Северна, 1819 г.
Его влекла поэзия. Изучение греческой мифологии и английской поэзии эпохи Возрождения отвлекало от медицинских предметов. Он выбрал литературную карьеру, что для человека без средств было довольно отчаянным решением. Всю свою трагически короткую жизнь ему пришлось бороться с бедностью, безвестностью, враждебной критикой. Многие не выдерживали такой борьбы. Полувеком раньше, например, на лондонском чердаке покончил с собой доведенный до отчаяния нуждой и голодом Томас Чаттертон (1752–1770), которому Ките посвятил один из первых своих сонетов:
О Чаттертон! О жертва злых гонений! Дитя нужды и тягостных тревог! Как рано взор сияющий поблек, Где мысль играла, где светился гений! (Перевод В. Левика)В 1817 году Ките опубликовал свой первый сборник стихов, а на следующий год – большую поэму «Эндимион», в основе которой лежит миф о любви богини Луны Цинтии к смертному – пастуху Эндимиону.
А между тем наследственный недуг, туберкулез, который уже унес в могилу мать и младшего брата, скрыто и неуклонно подтачивал его силы – тем скорей, чем упорней отдавался он своему труду. В раннем стихотворении «Сон и поэзия» Ките восклицает: «О, дайте мне десять лет, чтобы я мог переполниться поэзией и совершить то, что судьба моя велела мне совершить!» Судьба дала ему только три года. Решающий удар болезнь нанесла в начале 1820 года, вскоре после помолвки Китса с Фанни Брон – девушкой, которую он глубоко и мучительно любил. В оставшиеся ему месяцы он уже почти ничего не писал.
Вершинным для творчества Китса остался 1819 год, когда были созданы его знаменитые оды, величаемые теперь английской критикой не иначе как «великими»: «Ода Греческой Вазе», «К Соловью», «Осень» и другие. Были написаны замечательные поэмы, сонеты редкого совершенства и глубины мысли.
В сентябре 1820 года по настоянию врачей Ките едет в Италию – вместе со своим другом художником Северном. Слишком поздно. Болезнь, которую в то время совершенно не умели лечить, не дала отсрочки, и в феврале 1821 года поэт умирает. Страдания его последних недель усугублены разлукой с Фанни и сознанием невыполненного поэтического предназначения. На его могиле в Риме – эпитафия, которую он сам для себя сочинил: «Здесь лежит тот, чье имя было написано на воде».
Золотое и серебряное
Алхимики и мистики Средневековья делили животных на солярных и лунных, то есть подчиняющихся влиянию Солнца или Луны. Долгое время Китса считали поэтом лунным по преимуществу – то есть экзальтированным мечтателем, певцом смутных чувствований. Солярная, рациональная часть его гения не учитывалась. А между тем он обладал необычайно трезвым и самокритичным умом. В некотором смысле он являл собой идеал романтического поэта, как его понимал С. Кольридж: «Здравый смысл – плоть поэтического гения, Фантазия – его одежды, Движение – способ его существования, а Воображение – его душа, которая присутствует везде и во всем и творит из всего разнообразия одно прекрасное и исполненное смысла целое».
Ките скептически относился к традиционным формам религиозности. Он верил в Воображение и Красоту. Главное для поэта – владеть этой магической силой, Воображением, которая не только преображает косные предметы миры, давая им истинную жизнь, но и примиряет противоположности: абстрактное с конкретным, индивидуальное с типическим, чувство с разумом, новизну с повседневностью, сплавляя их в одно гармоническое целое.
В представлении Китса именно Воображение (читай: Поэзия) придавало жизни духовную составляющую и смысл. Впрочем, сия романтическая мысль была выдвинута Филипом Сидни еще в XVI веке: «Природа – бронзовый кумир, лишь поэты покрывают его позолотой». Именно из этой фразы исходит Ките в своем сонете о гармонии поэзии:
Как много славных бардов золотят Пространства времени! Мне их творенья И пищей были для воображенья, И вечным, чистым кладезем отрад; И часто этих важных теней ряд Проходит предо мной в час вдохновенья, Но в мысли ни разброда, ни смятенья Они не вносят – только мир и лад.Златокузнецами (goldsmiths) – может быть, с подсознательной оглядкой на Шелли – называет поэтов и Уильям Йейтс в своем «Плавании в Византию», только там эти мастера заняты не золочением «бронзового кумира», а изготовлением Золотой птички на забаву Императору: то же своего рода посрамление Природы – Искусством. Йейтс заканчивает стихотворение прославлением мастеров:
Развоплотясь, я оживу едва ли В телесной форме, кроме, может быть, Подобной той, что в кованом металле Сумел искусный эллин воплотить, Сплетя узоры скани и эмали, – Дабы владыку сонного будить И с древа золотого петь живущим О прошлом, настоящем и грядущем.Так «солярность» побеждает «лунность», «золотые яблоки» затмевают «серебряные», – что особенно наглядно в оригинале, где трижды повторяется: gold, gold, golden.
Сон и поэзия
Равновесие лунного и солярного начал у Китса ярче всего демонстрируется противостоянием его важнейших поэм – «Эндимион» и «Гиперион». Первая, основанная на греческом мифе, посвящена Луне и влюбленному в нее пастуху Эндимиону; в центре второй стоит титан Гиперион, предшественник Аполлона на посту солнечного божества. В читательском сознании Эндимион долгое время затмевал Гипериона. Популярный на обоих берегах Атлантики Генри Лонгфелло писал в своем сонете, посвященном Китсу:
Бессмертно-юный, спит Эндимион, Все в этом сне – и мука и отрада; Над спящим лесом яркая лампада – Луна, взошедшая на небосклон.Казалось бы, Ките именно таков. Поэтический дар неотделим у него от вещего сна; Орфей нерасторжимо связан с Морфеем. В незаконченной поэме Китса «Гиперион» Мнемозина говорит юноше Аполлону, воспитанному в одиночестве на острове Делос:
Тебе приснилась я, и, пробудившись, Нашел ты рядом золотую лиру…Но не только рождение архетипического Поэта – Аполлона – связано у Китса со сном и пробуждением, и не только в эпической поэме мы это находим; сон – почти непременное условие творчества, способ снятия печатей с «запечатленного ключа» поэзии. Почти во всех его «великих одах» 1819 года мотив сна, видения – один из ведущих. «Ужель я грезил…» («Ода Психее»); «Пускай напевы звучные нежны, / Беззвучные – они еще нежней…» («Ода Греческой Вазе»); «Мечтал я? – или грезил наяву? / Проснулся? – или это снова сон?» («Ода Соловью»); «Однажды утром предо мной прошли / Три тени, низко голову клоня…» («Ода Праздности»). Поэзия возникает в момент пробуждения (зарождаясь еще во сне) или засыпания.
Джон Ките. Рисунок Чарльза Брауна, иклъ 1819 г.
Мой милый Рейнольде! Вечером в постели, Когда я засыпал, ко мне слетели Воспоминанья… («Письмо Рейнолъдсу»)А вот миг пробуждения:
Ты любишь созерцать зарю вполглаза, Прильнув к подушке заспанной щекой? («На поэму Ли Ханта „Повесть о Римини“». Перевод В. Потаповой)Если читатель отвечает «да», значит, он не чужд воображения и заслуживает дальнейшего разговора. В своем раннем программном стихотворении «Сон и поэзия» (1816) Ките пишет о сне как о важнейшем подспорье поэта (во сне ему даже приходят рифмы), а о постели поэта – как самой надежной обители, в которой обретаются ключи от Храма Радости[15].
Сон отрешает поэта от скорбей и забот мира, земной юдоли, – и дарит ему крылья вдохновения. В сонете «Сон над книгой Данте» мир уподоблен стоглазому сторожу подземного царства, которого поэт должен усыпить, чтобы выполнить свою задачу.
Как Аргусу зачаровавши слух, Ликуя, взмыл Гермес над спящим стражем, Так, силою дельфийских чар, мой дух Возобладал над вечным бденьем вражьим И, видя, что стоглазый мир-дракон Уснул, умчался мощно и крылато…Поэзия для Китса – сон, но не тот опиумный провал, в котором Кольридж однажды нашел готовое описание дворца Кубла Хана (а потом, сколько ни старался, не мог добавить больше ни строчки к своему фрагменту); нет, сон Китса – управляемый, «люсидный». Сон как способ расковать воображение, «умчаться мощно и крылато» в царство мечты. «Он описывает то, что видит; я описываю то, что воображаю», – пишет Ките, сравнивая себя с Байроном.
Однако воображение – не только уход из действительности в царство идеала, оно имеет и обратную силу – преображать реальность. В одном из писем Ките вспоминает сон Адама в «Потерянном рае» Мильтона: «Он проснулся и увидел, что все это – правда». Такой в идеале представляется Китсу великая поэзия.
Безусловно, Ките знает и темные сны, вылетающие из мрачного царства Прозерпины, он помнит, что сон – брат смерти, и, когда мы читаем, например, сонет «К Сну», озноб пробирает от зловещей двусмысленности его заключительных строк:
О ты, хранитель тишины ночной, Не пальцев ли твоих прикосновенье Дает глазам, укрытым темнотой, Успокоенье боли и забвенье? О Сон, не дли молитвенный обряд, Закрой глаза мои или во мраке Дождись, когда дремоту расточат Рассыпанные в изголовье маки. Тогда спаси меня, иль отсвет дня Все заблужденья явит, все сомненья; Спаси меня от совести, тишком Скребущейся, как крот в норе горбатой, Неслышно щелкни смазанным замком И ларь души умолкшей запечатай. (Перевод О. Чухонцева)В сонете «Чему смеялся я сейчас во сне?..» связь сна и смерти еще теснее, еще прямей.
Чему смеялся я сейчас во сне? Ни знаменьем небес, ни адской речью Никто в тиши не отозвался мне… Тогда спросил я сердце человечье: Ты, бьющееся, мой вопрос услышь, – Чему смеялся я? В ответ – ни звука. Тьма, тьма кругом. И бесконечна мука. Молчат и бог и ад. И ты молчишь. Чему смеялся я? Познал ли ночью Своей короткой жизни благодать? Но я давно готов ее отдать. Пусть яркий флаг изорван будет в клочья. Сильны любовь и слава смертных дней, И красота сильна. Но смерть сильней. (Перевод С. Маршака)Уильям Йейтс объясняет мечтательность Китса его социальным происхождением: «Сын конюха, с рожденья обделенный / Богатством, он роскошествовал в грезах / И расточал слова…». Как известно, профессия, которой в молодости обучался Ките, была сугубо материальная – хирург. Но, слушая лекции на лондонских медицинских курсах, студент-медик следил за проникшим в аудиторию солнечным лучом, пляшущими в нем пылинками и видел романтические картины – рыцарей, прекрасных дам, поединки и сражения (он тогда увлекался Чосером).
Ките не изменил себе до конца. Напечатав фрагмент «Гипериона», который был достаточно высоко оценен критиками (Байрон сказал, что он «словно внушен титанами»), поэт немедленно разочаровался в нем и стал переделывать поэму («Падение Гипериона. Видение», 1820). Теперь рассказ обрамлен в форму сна. Поэт попадает в огромный храм, приближается к загадочному алтарю и видит прислуживающую возле огня жрицу, закутанную в покрывало. Это – богиня памяти Монета (Мнемозина), которая погружает его в транс (сон во сне) и дает ему увидеть величественные картины борьбы богов и титанов. Монета и корит, и жалеет поэта – несчастного мечтателя, сновидца (a dreaming thing), но считает, что он должен быть вознагражден за свои муки и героические усилия взойти на алтарь славы.
Примечательно, что любовь в поэзии Китса также связана со сном. Вообще тот момент или ситуация, в котором возлюбленная чаще всего является в лирике поэта, есть сугубо индивидуальная и характерная парадигма данного поэта. Например, у Джона Донна – это расставание, у Эдгара По – смерть, у Йейтса, пожалуй, танец. Нет сомнения, что у Китса такой парадигмой является сон. Вспомним волшебный сон Маделины в «Кануне Святой Агнессы», в который неожиданно «входит» Порфиро, и лишь таким образом влюбленные достигают счастья. Или один из лучших сонетов Китса «Яркая звезда», в котором поэт жаждет навек забыться и заснуть на груди у спящей любимой:
О, быть и мне бы, яркая звезда, Таким же неизменным и счастливым, Но не аскетом в подвиге труда, Следящим за приливом и отливом В обряде омовения Земли Или смотрящим на седые складки Помолодевших гор в канун зимы И на снега в просторном беспорядке, – Нет, быть бы неизменней, головой Покоиться бы на груди любимой, Чтоб неусыпно слышать над собой Ее дыханья шелест тополиный И чтобы в милом шелесте ночном Жить вечно – иль забыться вечным сном. (Перевод О. Чухонцева)Момент благоговения, как перед святыней, здесь безусловно присутствует, но и стремление очистить любовь от всего случайного, перенести ее в идеальный мир творческого сна.
Между сном и любовью существует важное соединяющее звено: ночь. Ночь создана для сна и любви. «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел…» (М. Ю. Лермонтов).
Вообще, последняя строфа стихотворения «Выхожу один я на дорогу…» чрезвычайно близка по настроению к концовке «Яркой звезды». Эта параллель, кажется, еще никем не отмечена. Самый романтический из английских поэтов и самый романтический из русских. Оба рано погибли: Ките в неполные двадцать шесть, Лермонтов – в двадцать семь лет, оба остро чувствовали и выразили в стихах свою обреченность. Переводчик (стихийный литературовед!) такие вещи замечает первым. Именно на Лермонтова, по-видимому, ориентировался Олег Чухонцев в своей версии «Яркой звезды». Отметим лишь одну деталь. В оригинале у Китса никакого шума листвы нет, а у русского переводчика он повторяется дважды: «Чтоб неусыпно слышать над собой ее дыханья шелест тополиный, и чтобы в милом шелесте ночном…». Древесный шелест, конечно, залетел сюда из лермонтовского сна: «Надо мной чтоб, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел»[16].
Китс и Пушкин
Ките был современником Пушкина, четыре года разницы между ними – пустяк. К сожалению, английский поэт умер слишком рано, и то, что он успел совершить, оценили лишь много лет спустя. Но, может быть, Пушкин все же читал его стихи? В пушкинской библиотеке сохранилась книга «The Poetical Works of Coleridge, Shelley and Keats», издание Галиньяни, Париж, 1829. Известно, что Пушкин в Болдине «перечитывал Кольриджа» (его собственные слова). Возможно, он захватил с собой этот самый том, – как захватил он другой том Галиньяни, включающий Боулса, Милмана, Уилсона и Корнуолла (оттуда, в частности, взят «Пир во время чумы» – переведенный Пушкиным отрывок трагедии Уилсона). Но – увы! – ни Шелли, ни Ките нигде в пушкинских произведениях не упоминаются. Особенно досадной кажется невстреча Пушкина с Китсом: у них и впрямь было много общего.
Что именно? Во-первых, эллинизм. Джон Ките, как и Пушкин, не знал греческого: интерес к античности пробудился в нем от чтения поэтов-елизаветинцев и популярных книг по классической древности. В 1817 году он увидел «мраморы Элгина» – фрагменты скульптур из Акрополя, привезенные в Лондон лордом Элгином, и выразил свое восхищение в двух замечательных сонетах. Эти семена красоты, пустив корни в его художественном воображении, породили образы его первой большой поэмы «Эндимион», «Оды Психее», «Оды греческой вазе» и фрагмента поэмы «Гиперион». В своих лучших творениях Ките достиг той гармонии стиля, которая является отличительной чертой классического искусства и воплощением которой в русской культуре принято считать Пушкина.
Во-вторых, общим для Пушкина и Китса было то, что можно назвать шекспирианством. Пушкинскую фразу, произнесенную после ареста декабристов: «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира», – можно сравнить с признанием Китса: «Я никогда сильно не отчаиваюсь и читаю Шекспира; не думаю, что какую-нибудь другую книгу я мог бы читать так долго…». Ките приводил в пример другим поэтам беспристрастность и художественную объективность Шекспира:
Несколько мыслей внезапно сошлись в моей голове, и меня осенило, какое качество формирует гения, особенно в литературе, – качество, которым в огромной степени обладал Шекспир, – я имею в виду Отрицательную Способность, проявляющуюся, когда человек способен находиться в неопределенности, в сумраке тайны, в сомнениях, не делая суетливых попыток непременно добиться до фактов и смысла… У великого поэта чувство Красоты перевешивает все прочие соображения, вернее, отметает иные соображения.
Эта «отрицательная способность», открытая Китсом в Шекспире, и есть та самая пушкинская «пустота», которая так раздражала Писарева и восхищала Андрея Синявского: «Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи, как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры…».
Ките и Пушкин как поэты были единомышленниками и в вопросе о цели искусства. Оба дружно подписались бы под пушкинским: «Цель поэзии – поэзия». Вот как говорил об этом Ките: «Мы ненавидим поэзию, которая имеет относительно нас очевидные намерения, а если мы не согласны, угрожающе засовывает руки в карманы. Поэзия должна быть великой и ненавязчивой…».
Эти слова имеют прямое отношение к Пушкину, которого при жизни и посмертно упрекали в эстетизме и отстранении от современных проблем. Отзвуки таких мнений впоследствии отразились в замечании Валерия Брюсова: «Пушкин писал „маленькие трагедии“ для кучки людей, которые могли оценить квинтэссенцию драмы… „Маленькие трагедии“ Пушкина – это театр для поэтов». Английский биографический словарь 1860 года подобным же образом говорил о Китсе: «Его поэзия более близка поэтам, нежели обычным читателям, чья мысль не может или не смеет следовать за полетом его гения». Ките, как мы уже говорили, был канонизирован лишь прерафаэлитами, до того времени он был мало известен. Нечто подобное произошло и с Пушкиным. Его нынешнее положение в русском каноне изгладило из памяти читателей тот факт, что популярность поэта испытала резкий спад в первые десятилетия после его смерти и что он был, по существу, заново открыт символистами.
Можно только сожалеть, что Джон Ките, один из гениев английского стиха, не привлек к себе внимание Пушкина, который живо интересовался современной ему английской поэзией; но это, в общем, отражало литературную ситуацию на берегах Альбиона.
Самыми популярными английскими писателями во времена Пушкина были трое: Вальтер Скотт, Джордж Байрон и Томас Мур. Полезно иметь в виду, что литературная карта Англии, подобно российской, имела два географических «полюса»: Эдинбург соперничал с Лондоном, как Москва с Петербургом. Лондон считался центром либерализма, оплотом «вигов»; Эдинбург был более консервативным городом, с преобладающим влиянием «тори». В действительности картина была более сложной: среди лондонских литературных журналов был и либеральный «Икзэминер», и консервативный «Куортерли Ревью», эдинбургские журналы включали в себя вигский «Куортерли Ревью» и ультраконсервативный «Блэквудс Эдинбург Мэгэзин». В Лондоне самым влиятельным был кружок журналиста и поэта Ли Ханта, к которому принадлежали замечательный эссеист Чарльз Лэм, один из лучших английских критиков Уильям Хэз-лит и несколько многообещающих юных поэтов, в числе которых был Джон Ките. Эдинбург мог похвастать именем Вальтера Скотта, который жил неподалеку, на границе с Шотландией. Между этими полюсами располагались так называемые поэты «озерной школы» – Вордсворт, Саути и Кольридж (Озерным назывался район Кэм-берленда в Северной Англии, где все трое поселились в конце 1790-х годов; хотя Кольридж в дальнейшем больше жил в Лондоне).
Джон Ките держался в стороне от партийной борьбы. Однако его связь с Хантом сделала его мишенью для резких нападок в журналах тори, особенно участившихся в 1818 году, после публикации поэмы «Эндимион». Самой оскорбительной была статья в «Блэквудс мэгэзин», подписанная инициалом «Z». Известно, что под таким именем выступали соредакторы журнала «Блэквудс» – Джон Гибсон Локхарт и Джон Уилсон. Их критические статьи отличались дерзостью и необузданностью. Даже в те суровые времена, когда, по словам С. Кольвина, «метание громов и молний в журнальной полемике было обычным делом», даже тогда «нигде нельзя было встретить таких жестоких и беспардонных выходок, как в ранних номерах „Блэквудса“». В «Манускрипте Чадли» – сатире на современную литературу, написанной в пародийном «библейском» стиле, – ведущие журналисты этого журнала скрылись под красноречивыми псевдонимами: Уилсон – Леопард, Локхарт – Скорпион. Леопард – это и есть тот самый автор, который два года спустя, в 1816 году, опубликует «The City of Plague» – источник пушкинского «Пира во время чумы».
В одной из статей, направленных против «школы кокни» в поэзии, Скорпион и Леопард беспощадно высмеяли Джона Китса – «помощника аптекаря» (в действительности у Китса был диплом хирурга), советуя ему бросить пустое занятие стихоплетства: «Лучше и мудрее быть голодным аптекарем, чем голодным поэтом, так что возвращайтесь назад в свою лавку, мистер Джон, к своим пластырям, пилюлям и баночкам с притираниями…» Об этом инциденте много писали, и легенда о поэте, «убитом критиками», впервые высказанная Шелли в предисловии к поэме «Адонаис», прижилась. На самом деле, Ките был убит туберкулезом, а не критиками, но такова сентиментальная история, которую Пушкин мог прочесть в предисловии к стихам Китса в издании Галиньяни, где была процитирована и надпись на могиле поэта в Риме:
Сия могила содержит бренный прах
МОЛОДОГО АНГЛИЙСКОГО ПОЭТА,
который на смертном одре,
сокрушаясь всем сердцем из-за злобы своих врагов,
желал, чтобы на его могильной плите
были помещены такие слова:
ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ТОТ,
ЧЬЕ ИМЯ НАПИСАНО НА ВОДЕ
Февр. 24. 1821
Ни эта многословная надпись (из которой только последние две строки соответствовали завещанию поэта), ни вступительная заметка об авторе, который подавал большие надежды, «но не принес зрелых плодов», не могли понудить Пушкина вчитаться в собрание стихов Китса. Напечатанное в два столбца мельчайшим шрифтом, оно начиналось с длинной поэмы «Эндимион», стихи в которой идут сплошной колонной, без разбивки на строфы, и кончалось такими же колоннами ранних стихотворных посланий. Сонеты зрелого периода, «великие оды» Китса 1819 года запрятаны где-то в середине, так что читатель, не очень хорошо знакомый с языком, без редакторских пояснений вряд ли и отыскал бы эти стихи.
Кроме того, у иностранного читателя нет чутья, каким обладает носитель языка. Он может оценить образ и замысел стихотворения, но не выражение: ему приходится поверить на слово, что поэтический язык автора безупречен. Здесь одна из причин, почему Пушкин не познакомился с Китсом: не было того, кто бы мог представить его Пушкину как великого поэта. Издание Галиньяни было первым посмертным изданием Джона Китса, репутация которого еще только начинала медленно складываться. Генри Милман, например, был гораздо более популярен: его трагедия о скупом «Фацио», которую Пушкин мог прочесть в «четверопоэтии» (Боулс, Милман, Уилсон и Корнуолл), за три года, с 1816-го по 1818-й, выдержала не менее девяти изданий. Боулс, Уилсон и Барри Корнуолл во мнении читающей публики также стояли много выше Китса.
Могила Джона Китса. Протестантское кладбище, Рим
Итак, Пушкин разминулся с Китсом; причин тому было, видимо, несколько: малая известность этого имени, двусмысленное вступление к его стихам в книге Галиньяни, представлявшее Китса скорее мучеником лиры, чем реализовавшимся поэтом, неудачное расположение стихотворений в этом единственном доступном издании, недостаточная уверенность Пушкина в английском. В оправдание можно сказать, что русской поэзии понадобилось еще почти сто лет, чтобы встреча с Китсом наконец состоялась: первый перевод его стихов на русский язык появился лишь в 1895 году, первые же хорошие переводы – еще полвека спустя. Характерный для литературы пример запаздывания: поэты живут в одно и то же время, ничего друг о друге не зная, и встречаются лишь в читательском сознании – много десятилетий спустя после своей смерти.
Смерть поэта
Конечно, я упрощаю, выстраивая эту оппозицию: лунное – солярное, Эндимион – Гиперион, романтизм – классицизм и присоединяя сюда оппозицию Пушкин – Лермонтов, но без упрощения нет объяснения. А для понимания Китса, так же как и для понимания русских романтиков, чрезвычайно важна оппозиция классицизма и новаторства. Ките в основе своей был классицистом, сохранившим многое от искусства XVIII века, в том числе систему жанров: сонеты, послания, оды; он и дурачился нередко в стихах, потому что понимал, что классический автор имеет право переходить в легкий жанр без ущерба для своей «высокой» поэзии. Но ведь и первый сборник стихотворений Пушкина был выстроен по жанровому принципу: элегии, послания и так далее. Пушкина мы главным образом ассоциируем с Гиперионом («солнце русской поэзии»), а Лермонтова – с ночью, луной, звездами, тучами и прочими атмосферными явлениями. «… Как бы светящаяся туча, / По небу русскому прошел», – сказал про него другой поэт (В. Соколов).
В Китсе солярное начало выражено, пожалуй, не в меньшей степени, чем лунное. О его стремлении к шекспировской объективности мы уже говорили. В другом письме он так излагает свой творческий метод: «Образы должны подыматься, двигаться и заходить перед ним (читателем) естественно, как солнце, должны озарять и угасать в строгой торжественности и великолепии, оставляя его в роскошном сумраке». Венцом творчества Китса и ярчайшим примером этого принципа остается ода «К Осени», о которой мы еще будем говорить, но он нашел воплощение и во многих других произведениях Китса, например в его явно «солярном» сонете: «За полосою долгих дней ненастных…». Потому что этот сюжет опять-таки таинственно связан с Пушкиным.
Поздний период творчества Пушкина знаменуется поиском и устройством своего дома. Окончился период странствий. В личной, домашней жизни надеялся поэт обрести «покой и волю», синонимичные счастью, и возможность творить. Не случайно в эти годы он проникновенно переводит «Гимн Пенатам» Саути:
…Хоть долго был изгнаньем удален От ваших жертв и тихих возлияний, Но вас любить не остывал я, боги, И в долгие часы пустынной грусти Томительно просилась отдохнуть У вашего святого пепелища Моя душа –Он пишет стихотворение «Вновь я посетил…», предположительно связанное со хрестоматийным стихотворением Вордсворта «Тинтернское аббатство». Само пушкинское начало «из-за такта», по нашему мнению, связано с анжамбеманами Вордсворта в начале «Тинтернского аббатства»[17]:
Пять лет прошло; пять лет и вместе с ними Пять долгих скучных зим! Ивновъя слышу Шум этих струй, бегущих с высей горных, Журча, в долину мирную. – И вновь Я вижу эти сумрачные скалы…[18]Пушкинское обращение к английским поэтам в последние годы жизни так или иначе связано с темой дома и возвращения. Корабль Медока с распущенными парусами возвращается из Америки в родные «Уаллы», звучит гимн Пенатам, поэт посещает места, связанные в протекшей молодостью. Вспомним: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения…» Такова была его программа продолжения стихотворения «Пора, мой друг, пора…»:
Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь, etc. – религия, смерть.
Пушкин не знал, что такая программа уже реализована и такие стихи написаны. Это сонет Китса «After dark vapours have oppressed our plains», который кончается так:
And calmest thoughts come round us – as of leaves Budding – fruit ripening in stillness – autumn suns Smiling at eve upon the quiet sheaves – Sweet Sappho's cheek – a sleeping infant's breath – The gradual sand that through an hour-glass runs – A woodland rivulet – a Poet's death.В буквальном переводе: «И самые безмятежные мысли обволакивают нас – нам грезятся распускающиеся почки – плоды, зреющие в тишине – улыбка осеннего закатного солнца над мирными снопами – нежная щека Сафо – дыхание спящего младенца – медленный песок, утекающий в стеклянных часах, – ручеек в лесной глуши – смерть Поэта».
Две «осени»
Осеннее солнце, глянувшее на нас в сонете «After dark vapours…», разворачивается всеми своими красками в оде «К Осени». Парадоксальным образом этот шедевр романтической поэзии целиком выдержан в духе классицизма. Каждая из трех строф так же стройна и гармонична, как и композиция оды в целом. Образы, в полном соответствии со словами поэта, поднимаются, двигаются и заходят перед нами естественно, как солнце, «озаряя нас и угасая… в строгой торжественности и великолепии». В центре оды аллегорические Осень, Лето и Весна (все с большой буквы). Каждая строфа начинается с образов полноты: зрелости плодов (I), собранного урожая (II), музыки (III), а заканчивается намеком на расточение, конец, уход. Но лишь намеком; общее впечатление – торжественного благодарственного гимна.
В весенних одах – даже в самой уравновешенной из них, «Оде Греческой Вазе» – чувствовалась горечь и боль («Любви, родившись, гибнуть без отрады»). В оде «К Осени», написанной всего лишь тремя месяцами позже, все преодолено, смолото на мукомольне сердца, преображено в текучее золото поэзии.
Невольно напрашивается сравнение с «Осенью» Е. Баратынского. Величайшее стихотворение Баратынского, написанное в зрелые годы, есть величайшее «нет» природе и жизни: «Перед тобой таков отныне свет, / Но в нем тебе грядущей жатвы нет!» Ода Китса – его таинственное «да». Ответ, купленный дорогой ценой.
Есть две русских версии оды «К Осени», и поистине нелегко решить, которая из них лучше. Вот перевод Самуила Маршака:
К осени
Пора туманов, зрелости полей, Ты с поздним солнцем шепчешься тайком, Как наши лозы сделать тяжелей На скатах кровли, крытой тростником, Как переполнить сладостью плоды, Чтобы они, созрев, сгибали ствол, Распарить тыкву в ширину гряды, Заставить вновь и вновь цвести сады, Где носятся рои бессчетных пчел, – Пускай им кажется, что целый год Продлится лето, не иссякнет мед! Твой склад – в амбаре, в житнице, в дупле. Бродя на воле, можно увидать Тебя сидящей в риге на земле, И веялка твою взвевает прядь. Или в полях ты убираешь рожь И, опьянев от маков, чуть вздремнешь, Щадя цветы последней полосы, Или снопы на голове несешь По шаткому бревну через поток Иль выжимаешь яблок терпкий сок За каплей каплю долгие часы… Где песни вешних дней? Ах, где они? Другие песни славят твой приход. Когда зажжет полосками огни Над опустевшим жнивьем небосвод, Ты слышишь: роем комары звенят За ивами – там, где речная мель, И ветер вдаль несет их скорбный хор. То донесутся голоса ягнят, Так выросших за несколько недель, Малиновки задумчивая трель И ласточек прощальный разговор!В заключительной строфе я бы отметил не только две последние прекрасные строки, но и третью от конца, с неминуемым ударением на «так», сообщающим строфе особую, «отцовскую» или «материнскую», интонацию удивления: «Так выросших за несколько недель…» Да что говорить, весь перевод – чудо! Тем интереснее сравнить его с переводом Бориса Пастернака, сделанным на несколько лет раньше, в 1938 году:
Ода к осени
Пора плодоношенья и дождей! Ты вместе с солнцем огибаешь мызу, Советуясь, во сколько штук гроздей Одеть лозу, обвившую карнизы; Как яблоками отягченный ствол У входа к дому опереть на колья, И вспучить тыкву и напыжить шейки Лесных орехов, и как можно доле Растить последние цветы для пчел, Чтоб думали, что час их не прошел И ломится в их клейкие ячейки. Кто не видал тебя в воротах риг? Забравшись на задворки экономии, На сквозняке, раскинув воротник, Ты, сидя, отдыхаешь на соломе; Или, лицом упавши наперед И бросив серп средь маков недожатых, На полосе храпишь, подобно жнице; Иль со снопом одоньев от богатых, Подняв охапку, переходишь брод; Или тисков подвертываешь гнет И смотришь, как из яблок сидр сочится. Где песни дней весенних, где они? Не вспоминай, твои ничуть не хуже, Когда зарею облака в тени И пламенеет жнивий полукружье, Звеня, роятся мошки у прудов, Вытягиваясь в воздухе бессонном То веретенами, то вереницей; Как вдруг заблеют овцы по загонам; Засвиристит кузнечик; из садов Ударит крупной трелью реполов; И ласточка с чириканьем промчится.Бросается в глаза обилие необычных слов. В частности: «мыза» – старопетербургское «дача» или «хутор» (взято из эстонского или финского языка), «экономия» – тоже хутор, но уже в применении к немецким колонистам на юге России. Так Пастернак создавал отстранение, «нерусский» колорит стихов.
Обратимся к последней строфе. Как зримо и точно сказано о тучах мошкары, вытягивающихся в воздухе «то веретенами, то вереницей»! Вместо малиновки в предпоследнюю строку залетает «реполов» (согласно словарю, то же, что коноплянка). И самое разительное – полное отсутствие эмоционально окрашенных слов. У Маршака, как мы помним, их было три: «скорбный», «задумчивый», «прощальный»… Тут уже впору глядеть в оригинал. У Китса – только одно печальное слово: «gnats mourn» – комары заунывно звенят, в двух же последних строках сказано просто:
The red-breast whistles from a garden-croft; And gathering swallows twitter in the sky. (Малиновка свистит с огорода, И собирающиеся в стаи ласточки щебечут в небе.)Итак, что скажет простая арифметика? Эмфатической лексики: у Китса – 1 шт., у Пастернака – 0, у Маршака – 3. Пастернак, по-видимому, полагал, что ореола названия («Ода к осени»), витающего над стихотворением, достаточно, – оставив несказанное на догадку читателю. Маршак, не удержавшись, добавил «жалостливых слов», аукнувшись с Жуковским и Греем. Я очень люблю его перевод. Но с чисто арифметической точки зрения Пастернак ближе к оригиналу.
Уроки английского
Впервые серьезно взяться за английский язык Пастернак решил осенью 1913 года. В сборник «Сестра моя – жизнь» войдет стихотворение «Уроки английского»:
Когда случилось петь Дездемоне, – А жить так мало оставалось, – Не по любви, своей звезде, она – По иве, иве разрыдалась.К сожалению, мы не знаем имени учительницы, у которой он брал уроки; известно лишь, что это была англичанка-гувернантка, работавшая одно время в семье Высоцких. Несомненно одно: к языку гордых бриттов ученика влекла прежде всего поэзия (как и Пушкина, учившего английский сперва ради Байрона, потом ради Шекспира). В январском письме Локсу Пастернак выписывает отрывок из письма Китса Джону Рейнольд су. Ситуация зеркальная: через сто лет одна пара друзей отражается в другой. «Дорогой Костя», – начинает письмо Пастернак, а в выписке идет: «Дорогой мой Рейнольде». Впрочем, Борис затушевывает симметрию с удивительной деликатностью: он не только извиняется за «безвкусицу перевода» (!), вызванную поспешностью и тем, что книгу нужно вернуть «через два часа» (значит, очень понравилось, если выпросил на такой краткий срок), но и объясняет саму выписку своим удивлением от сходства мыслей Китса с «образом жизни» своего друга. Мы же, читая, удивляемся сходству этих мыслей с философией самого Пастернака. Перевод (действительно шероховатый, но отнюдь не «безвкусный») звучит так:
У меня явилась мысль, что человек мог бы провести жизнь в сплошном наслаждении такого рода: пусть он прочтет в один прекрасный день какую-нибудь страницу, исполненную поэзии, или страницу утонченной прозы, пусть он отправится затем бродить без цели, не оставляя мысли об этой странице, пусть он согласует с нею свои мечты, размышляет о ней, сживется с ее жизнью, пророчит, на ней основываясь, и видит ее во сне ‹…› как сладостно будет ему это ‹…› усердное бездействие. И никогда скупое это пользование великими книгами не будет каким-то видом неуважения к писателям. Потому что почести, оказываемые людьми друг другу, – может быть, одни пустые безделицы в сравнении с благодеянием, совершенным великими творениями при их только пассивном существовании. ‹…› В последнее время мне кажется, что каждый может, подобно пауку, выткать изнутри, из самого себя, свою воздушную цитадель.
И дальше от перевода Пастернак переходит к пересказу (курсив – мой):
Затем он говорит о том, что своеобразие каждой души при таком неуклонном удалении от соседней грозит уделом полной непонятности. Но опасность эта мнимая. Доведя свою исключительность до абсолютных размеров, каждый в этой абсолютности встретит однажды покинутого соседа.
Даже не верится, что это мысли Китса, – настолько по-пастернаковски они звучат. Перед нами – надолго вперед рассчитанная стратегия его собственной поэзии, исчерпывающее объяснение ее «сложности и непонятности». А впрочем, можно проверить. Откроем письмо Рейнольдсу от 19 февраля 1818 года. В оригинале сказано примерно следующее: характеры людей различны, трудно найти трех человек с одинаковыми вкусами; но это только так кажется; мысли людей расходятся в разные стороны, а потом снова пересекаются и совпадают. Ничего от драматизма пастернаковского изложения у Китса нет – ни «неуклонного удаления от соседней», ни «угрозы полной непонятности», ни «опасности». И конечно, никакого «доведения своей исключительности до абсолютных размеров».
Что же, Пастернак нарочно вводит в заблуждение друга? Да нет же! Он просто сделал то, что ему насоветовал Ките: прочел страницу «утонченной прозы», отправился бродить, не оставляя мысли об этой странице, согласовал с нею свои мечты – и, наконец, стал пророчить, основываясь на этой странице… (И кстати, правильно напророчил.) Видимо, он даже не заметил, что говорит уже больше от себя, чем от пересказываемого автора.
Далее в письме Рейнольдсу следует стихотворение «Что сказал дрозд», с помощью которого Ките доказывает свой тезис об «усердном безделье», об ущербности многознания и о том, что люди напрасно не доверяют самобытности собственного ума. Пастернак тоже перевел его в своем письме Локсу, хотя вчерне и не полностью. Я позволю себе привести здесь последние шесть строк в своем переводе.
За знаньем не гонись – я знаю мало, Но по весне сама родится песня. За знаньем не гонись – я знаю мало, Но Вечер мне внимает. Тот, кто мыслью О праздности терзается, не празден, И тот не спит, кто думает, что спит.Пастернаковские переводы из Китса (сделанные весной 1938 года) наперечет: «Ода к осени», вступление к «Эндимиону», два сонета. Но оказывается, еще за двадцать пять лет до этого Пастернак выписывал цитаты из Китса и пробовал его на зуб. И напрасно потом Пастернак бранился против романтизма: оказал же ему английский романтик неоценимое благодеяние одним своим «пассивным существованием», заочным разговором о непонятности поэзии. Далеко раскатилось эхо и от китсовского дрозда – может быть, вплоть до самого: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну…».
Римские лестницы. Вместо эпилога
Рим – город холмов и, следовательно, лестниц. Лестница – символ преодоления, фонтан – легкости и неистощимости жизни.
О римских фонтанах я впервые услышал от Аркадия Штейн-берга. Он сказал: «Всякий, кто хочет научиться переводить сонеты, должен знать наизусть «Римские сонеты» Вячеслава Иванова». И прочел:
Через плечо слагая черепах, Горбатых пленниц, на мель плоской вазы, Где брызжутся на воле водолазы, Забыв, неповоротливые, страх, – Танцуют отроки на головах Курносых чудищ. Дивны их проказы: Под их пятой уроды пучеглазы Из круглой пасти прышут водный прах.Фонтан «Черепаха» я отыскал на маленькой затрапезной площади, в стороне от обычных туристских троп. Я тщательно проверил Иванова, сравнил, так сказать, с оригиналом: в сонете все оказалось верно, только много лучше:
Их четверо резвятся на дельфинах. На бронзовых то голенях, то спинах Лоснится дня зелено-зыбкий смех. И в этой неге лени и приволий Твоих ловлю я праздничных утех, Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.Вот я и увидел римские фонтаны – почти через тридцать лет. Длинная жизнь. Помнится, в том году, когда я познакомился с А. Штейнбергом, Худлит заказал мне переводить «Падение Гипериона» Китса. Главное в этой поэме – лестница. Поэт во сне оказывается в каком-то колоссальном храме, видит впереди возвышение, на котором мерцает алтарное пламя, – и вдруг поражен голосом, грозящим ему немедленной гибелью, если он не сумеет взойти на священную высоту:
Во всей Вселенной нет руки, могущей Перевернуть песочные часы Твоей погибшей жизни, если эта Смолистая кора на алтаре Дотлеет прежде, чем сумеешь ты Подняться на бессмертные ступени.Поэт ошеломлен величием храма, высота кажется недостижимой… Уже угасает жертвенное пламя, когда последним усилием он преодолевает страх и неминуемую гибель. Кажется, сама судорога преодоления окаменела в этих строках:
еще горел Огонь на алтаре, когда внезапно Меня сотряс – от головы до пят – Озноб, и словно жесткий лед сковал Те струи, что пульсируют у горла. Я закричал; и собственный мой крик Ожег мне уши болью; я напряг Все силы, чтобы вырваться из хватки Оцепенения, чтобы достичь Ступени нижней…Есть какая-то робость, которая заставляет паломника ходить кругами, прежде чем приблизиться к цели своего паломничества. Ая не знал, где в Риме находится «дом Китса» и кладбище, на котором он похоронен. Я просто взял карту и наметил карандашом линию: от Колизея до Пьяцца ди Спанья – потому что в путеводителе было сказано, что это место сбора туристов, приезжающих в Рим. Главная достопримечательность площади – живописная, в двенадцать пролетов, лестница, ведущая наверх, к церкви Тринитадей Монти. Здесь всегда много молодежи – смеются, едят мороженое, знакомятся. Я тоже присел на ступеньку, жмурясь на солнце. Минут двадцать прошло в бессмысленной эйфории. Потом, с чувством исполненного долга, я поднялся и попросту обратился к первому попавшемуся карабинеру с вопросом, где мне найти музей Китса в Риме.
– Музей Китса – вот эта дверь, – ответил он, указывая на соседний дом.
Так бывает. Блуждание наугад мистическим образом привело меня прямо к цели; дом, в котором умирал Джон Ките, стоял на самом углу площади Испании. Окна его комнаты выходили на знаменитую лестницу. Хотя вряд ли он даже открывал эти окна: в те времена врачи полагали, что порыв свежего воздуха может оказаться роковым для больного чахоткой. Но и просто глядя через стекло на высокую лестницу, обтекающую с двух сторон мраморную балюстраду и египетский обелиск, не вспоминал ли он из своей поэмы –
Алтарь, и мраморные с двух сторон Подъемы, и бессчетные ступени?Надеюсь, что в ту зиму (180 лет назад) ничего похожего на нынешнюю туристскую вакханалию здесь не было. Этим ребятам, конечно, вся эта дребедень – алтарь, жертвы, «Ода Греческой Вазе» – мягко говоря, по барабану. За тот час, что я провел в музее, туда заглянуло, должно быть, двое или трое.
И все-таки поэт восходит по лестнице ввысь и там, у алтаря бессмертия, голос из-под покрывала вещает ему:
Знай, посягнуть на эту высоту Дано лишь тем, кому страданье мира Своим страданьем стало навсегда…И вот еще загадка. Таинственная жрица Сатурнова храма – по всем приметам, богиня памяти Мнемозина – называет себя у Китса совсем другим именем: Монетой. Энциклопедия объясняет, что Монета – одно из имен римской богини Юноны, жены Юпитера, и означает «Предупреждающая», ибо это ее священные гуси спасли Рим бдительным кряканьем, и что на месте разрушенного храма Юноны Монеты позднее устроили чеканку денег и отсюда произошло позд-нелатинское и современное значение слова «монета». Почему Ките выбрал такое имя для Мнемозины – с одной стороны, необычное, а с другой – вызывающе современное?
Чтобы понять это, нужно было прежде всего увидеть то место, где стоял храм Монеты. Теперь там церковь Санта Мария д'Аракели, построенная в VII веке. Две лестницы (их зовут Лестницами Вздохов), расходятся от подножья Капитолийского холма: одна идет к Сенаторскому дворцу, другая – к церкви Аракели. Эта, должно быть, самая высокая лестница в Риме, ведущая к храму; я запыхался, поднимаясь на нее. (Кажется, даже считал ступени, но сейчас уже не помню результата.) Сама базилика сурова и монументальна: три ее нефа разделены колоннами, взятыми от еще более древних, античных, сооружений. Трудно отделаться от мысли, что Ките, хотя он еще и не видел Рима, когда писал «Падение Гипериона», все-таки представлял себе эту крутую каменную лестницу к одному из древнейших алтарей Рима. И разве храм, сделавшийся монетным двором, не мог привлечь его внимания как символ? Ведь смысл истории, которую рассказывает Ките в «Гиперионе», в том, что древний род богов-титанов, великих и неукротимых, погиб; и горькая ирония чудится мне в двусмысленном имени жрицы храма:
…этот древний Колосс, чей лик суровый искажен Морщинами с тех пор, как он низвергнут, Сатурна изваянье; я – Монета, Последняя богиня этих мест, Где ныне лишь печаль и запустенье.Трудно поверить, но именно сюда, в церковь Аракели каждую неделю по воскресеньям приходил к обедне Вячеслав Иванов с дочерью Лидией и сыном Дмитрием. В 1936–1939 годах он жил рядом, на впоследствии снесенной Улице имени Тарпейской Скалы (Монте Тарпео); если кто забыл, с этой скалы римляне сбрасывали предателей. Похоронив в России двух любимых жен, перейдя в католическое вероисповедание, он жил в фантастической квартирке на вершине Капитолия, на самом краю Монте Тарпео. Внизу под стеной каким-то чудом лепился маленький «журчливый садик», воспетый поэтом, – с фонтаном, с розами и лозами, с бюстом ми-келанджеловского Моисея в нише. Туда вела лестница, которую Зинаида Гиппиус описывала как «шаткую, коленчатую, со сквозными ступеньками, похожую на пожарную». Какие разные бывают судьбы, какие разные лестницы.
Я посетил старое протестантское кладбище возле Пирамиды Кая Цестия – натуральной пирамиды, сооруженной одним из римских патрициев по египетскому образцу. Если фотографировать памятник Джону Китсу, стена Пирамиды обязательно влезает в кадр. Привет тебе, Кай! Вообще, кладбище закрытое, но тех, кто приходит не просто так, пускают. Имени Китса, например, было достаточно. Служитель, который меня впустил, извинился, что не может проводить сам, потому что время обеденное, и показав тропинку в дальний угол кладбища, вернулся к товарищам на служебную терраску. Рядом с Китсом похоронен художник Северн, который привез его в Рим и ухаживал за ним во время последней болезни; на их симметричных памятниках – барельефы лиры и палитры. А в глубине сада, у подножья старинной башни, погребен прах Перси Шелли, другого романтического гения Англии; он утонул в море через год после смерти Китса, успев оплакать его гибель в поэме «Адонаис». На кладбище живут кошки; могилу Китса, например, облюбовали два увесистых черных кота, работающих на пару, Лентяй и Попрошайка: один спит в траве у постамента, сторожит участок, другой выходит навстречу посетителю, намекает на желательность добровольных даяний. У меня, к стыду моему, ничего с собой не было.
Джон Ките (1795–1821)
Ода Психее
К незвучным этим снизойдя стихам, Прости, богиня, если я не скрою И ветру ненадежному предам Воспоминанье, сердцу дорогое. Ужель я грезил? или наяву Узнал я взор Психеи пробужденной? Без цели я бродил в глуши зеленой, Как вдруг, застыв, увидел сквозь листву Два существа прекрасных. За сплетенной Завесой стеблей, трав и лепестков Они лежали вместе, и студеный Родник на сто ладов Баюкал их певучими струями… Душистыми, притихшими глазами Цветы глядели, нежно их обняв; Они покоились в объятьях трав, Переплетясь руками и крылами. Дыханья их живая теплота В одно тепло сливалась, хоть уста Рукою мягкой развела дремота, – Чтоб снова поцелуями без счета Они, с румяным расставаясь снова, Готовы были одарять друг друга… Крылатый этот мальчик мне знаком; Но кто его счастливая подруга? В семье бессмертных младшая она, Но чудотворней, чем сама Природа, Прекраснее, чем Солнце и Луна И Веспер, жук лучистый небосвода; Прекрасней всех! – хоть храма нет у ней, Ни алтаря с цветами, Ни гимнов, под навесами ветвей Звучащих вечерами; Ни флейты, ни кифары, ни дымков От смол благоуханных; Ни рощи, ни святыни, ни жрецов, От заклинаний пьяных… О Светлая! Быть может, слишком поздно, Бесплодно воскрешать ушедший мир, Когда священны были звуки лир, Лес полон тайн и небо многозвездно. Но и теперь, хоть это все ушло, Вдали восторгов, ныне заповедных, Я вижу, как меж олимпийцев бледных Искрится это легкое крыло. Так разреши мне быть твоим жрецом, От заклинаний пьяным; Кифарой, флейтой, вьющимся дымком – Дымком благоуханным; Святилищем, и рощей, и певцом, И вещим истуканом! Да, я пророком сделаюсь твоим – И возведу уединенный храм В лесу своей души, чтоб мысли-сосны, Со сладкой болью прорастая там, Тянулись ввысь, густы и мироносны. С уступа на уступ, за склоном склон Скалистые они покроют гряды, И там, под говор птиц, ручьев и пчел Уснут в траве пугливые дриады. И в этом средоточье, в тишине Невиданными, дивными цветами, Гирляндами и светлыми звездами – Всем, что едва ли виделось во сне Фантазии, шальному садоводу, – Я храм украшу – и тебе в угоду Всех радостей оставлю там ключи, Чтоб никогда ты не глядела хмуро, И яркий факел, и окно в ночи, Раскрытое для мальчика Амура!Ода греческой вазе
I
О строгая весталка тишины, Питомица медлительных времен, Молчунья, на которой старины Красноречивый след запечатлен! О чем по кругу ты ведешь рассказ? То смертных силуэты иль богов? Темпейский дол или Аркадский луг? Откуда этот яростный экстаз? Что за погоня, девственный испуг? Флейт и тимпанов отдаленный зов?II
Напевы, слуху внятные, нежны – Но те, неслышные, еще нежней; Так не смолкайте, флейты! вы вольны Владеть душой послушливой моей. И песню – ни прервать, ни приглушить; Под сводом охраняющей листвы Ты, юность, будешь вечно молода; Любовник смелый! никогда, увы, Желания тебе не утолить, До губ не дотянуться никогда!III
О вечно свежих листьев переплет, Весны непреходящей торжество! Счастливый музыкант не устает, Не старятся мелодии его. Трикрат, трикрат счастливая любовь! Не задохнуться ей и не упасть, Едва оттрепетавшей на лету! Низка пред ней живая наша страсть, Что оставляет воспаленной кровь, Жар в голове и в сердце пустоту.IV
Кто этот жрец, чей величавый вид Внушает всем благоговейный страх? К какому алтарю толпа спешит, Ведя телицу в лентах и цветах? Зачем с утра свой мирный городок Покинул сей благочестивый люд – Уже не сможет камень рассказать. Пустынных улиц там покой глубок, Века прошли, века еще пройдут, Но ни души не воротится вспять.V
Высокий мир! Высокая печаль! Навек смирённый мрамором порыв! Холодная, как вечность, пастораль! Когда и мы, дар жизни расточив, Уйдем бесследно – и на смену нам Придет иная скорбь и маета, Тогда, не помня о минувшем зле, Скажи иным векам и племенам: «В прекрасном – правда, в правде – красота; Иного знать не нужно на земле».Ода соловью
I
Боль в сердце, и в сознании туман, Плеснувший ледяной волной испуг, Как будто жгучий выпил я дурман И в волнах Леты захлебнулся вдруг. Но нет, не зависть низкая во мне – Я слишком счастлив счастием твоим, Вечерних рощ таинственный Орфей! В певучей глубине Ветвей сплетенных и густых теней Ты славишь лето горлом золотым!II
Глоток вина – и улечу с тобой! – Прохладного вина из погребов, Таящих солнца южного настой И загорелого веселья зов! О кубок в ожерелье пузырьков, Мерцающий, как южный небосвод! О Иппокрены огненной струя, Что обжигает рот! Один глоток – и мир оставлю я, Исчезну в темноте между стволов.III
Исчезну, растворюсь в лесной глуши И позабуду в благодатной мгле Усталость, скорбь, напрасный жар души – Все, что томит живущих на земле, Где пожинает смерть посев людской И даже юным не дает пощады, Где думать – значит взоры отравлять Свинцового тоской, Где красоте – всего лишь миг сиять, Любви, родившись, гибнуть без отрады.IV
Прочь, прочь отсюда! Я умчусь с тобой – Не Бахусом влеком в тупую тьму – Но на крылах Поэзии самой, Наперекор строптивому уму! Уже мы вместе, рядом! Ночь нежна, Покорно все владычице Луне, И звезд лучистые глаза светлы, И веет вышина Прохладным блеском, тающим на дне Тропинок мшистых и зеленой мглы.V
Не вижу я, какие льнут цветы К моим ногам и по лицу скользят, Но среди волн душистой темноты Угадываю каждый аромат – Боярышника, яблони лесной, Шуршащих папоротников, орляка, Фиалок, отдохнувших от жары, И медлящей пока Инфанты майской, розы молодой, Жужжащей кельи летней мошкары.VII
Вот здесь, впотьмах, о смерти я мечтал, С ней, безмятежной, я хотел уснуть, И звал, и нежные слова шептал, Ночным ознобом наполняя грудь. Ужели не блаженство – умереть, Без муки ускользнуть из бытия, Пока над миром льется голос твой… Ты будешь так же петь Свой реквием торжественный, а я – Я стану ком земли глухонемой.VII
Мне – смерть, тебе – бессмертье суждено! Не поглотили алчные века Твой чистый голос, что звучал равно Для императора и бедняка. Быть может, та же песня в старину Мирить умела Руфь с ее тоской, Привязывая к чуждому жнивью; Будила тишину Волшебных окон, над скалой морской, В забытом, очарованном краю.VIII
Забытом!.. Словно стон колоколов, Тот звук зовет меня в обратный путь. Прощай! Фантазия, в конце концов, Навечно нас не может обмануть. Прощай, прощай! Печальный твой напев Уходит за поля… через листву Опушек дальних., вот и скрылся он. Холмы перелетев… Мечтал я – или грезил наяву? Проснулся – или это снова сон?Ода меланхолии
I
О нет! к волнам летейским не ходи, От белладонны отведи ладонь, Гадюк, уснувших в чаще, не буди И Прозерпины горьких трав не тронь. Не надо четок тисовых, ни той Ночной Психеи, «мертвой головы», Чтобы печали совершить обряд, Ни пугала пушистого совы – Они затопят разум темнотой И сердце страждущее усыпят.II
Но если Меланхолии порыв Вдруг налетит, как буря с высоты, Холмы апрельским саваном укрыв, Клоня к земле намокшие цветы, – Пусть роза утренняя утолит Печаль твою, – иль моря бирюза, Иль на пустом песке – волны узор; И если госпожа твоя вспылит, Сожми ей руку, загляни в глаза, Не отрываясь, выпей дивный взор.III
В нем Красоты недолговечный взлет, И беглой Радости прощальный взмах, И жалящих Услад блаженный мед, В яд обращающийся на устах. О, даже в храме Наслажденья скрыт Всевластной Меланхолии алтарь, И всяк, чье нёбо жаждет редких нег, Поймет, вкусив, что эта гроздь горчит, Что счастье – ненадежный государь, – И душу скорби передаст навек.Ода праздности (Они не трудятся, не прядут.)
Однажды утром предо мной прошли Три тени, низко головы склони, В сандалиях и ризах до земли; Скользнув, они покинули меня, Как будто вазы плавный поворот Увел изображение от глаз; И вновь, пока их вспомнить я хотел, Возникли, завершая оборот; Но смутны, бледны силуэты ваз Тому, кто Фидия творенья зрел. О Тени, я старался угадать: Кто вас такою тайною облек? Не совестно ль – все время ускользать, Разгадки не оставив мне в залог? Блаженной летней лени облака Шли надо мной; я таял, словно воск, В безвольной растворяясь теплоте; Печаль – без яда, радость – без венка Остались; для чего дразнить мой мозг, Стремящийся к одной лишь пустоте? Они возникли вновь – и, лишь на миг Явив мне лица, скрылись. День оглох. Вдогонку им я прянул, как тростник, Взмолясь о крыльях, – я узнал всех трех. Вожатой шла прекрасная Любовь; Вслед – Честолюбье, жадное похвал, Измучено бессонницей ночной; А третьей – Дева, для кого всю кровь Я отдал бы, кого и клял и звал, – Поэзия, мой демон роковой. Они исчезли – я хотел лететь! Вздор! За Любовью? где ж ее искать? За Честолюбьем жалким? – в эту сеть Другим предоставляю попадать; Нет – за Поэзией! Хоть в ней отрад Мне не нашлось – таких, как сонный час Полудня иль вечерней лени мед; Зато не знал я с ней пустых досад, Не замечал ни смены лунных фаз, Ни пошлости назойливых забот! Они возникли вновь… к чему? Увы! Мой сон окутан был туманом грез, Восторгом птичьим, шелестом травы, Игрой лучей, благоуханьем роз. Таило утро влагу меж ресниц; Все замерло, предчувствуя грозу; Раскрытый с треском ставень придавил Зеленую курчавую лозу… О Тени! Я не пал пред вами ниц И покаянных слез не уронил. Прощайте, Призраки! Мне недосуг С подушкой трав затылок разлучить; Я не желаю есть из ваших рук, Ягненком в балаганном действе быть! Сокройтесь с глаз моих, чтобы опять Вернуться масками на вазу снов; Прощайте! Для ночей моих и дней Видений бледных мне не занимать; Прочь, Духи, прочь из памяти моей – В край миражей, в обитель облаков!Зимней ночью
Зимой, в ночи кромешной, Блаженный нищий сад, Ты позабыл, конечно, Как ветви шелестят. Пускай ветрам неймется И дождь холодный льется, Придет весна – вернется Зеленый твой наряд. Зимой, в ночи кромешной, Блаженный ручеек, Ты позабыл, конечно, Как летний свод высок. Тебя лучи не греют, В плену хрустальном тлеют, Но сон тебя лелеет, Морозы не томят. Вот так бы жить, ни мучась Ни скорбью, ни виной, Забыв про злую участь Под коркой ледяной! Но как найти забвенье, Печали утоленье, Хотя бы на мгновенье, – Стихи не говорят.Мэг Меррилиз
Вы помните старуху Мэг? Она жила в лесу, На груде вереска спала, Пила с цветов росу. Цыганку ветер охранял, Свечой ей месяц был, А книгами – надгробья Заброшенных могил. Ей были братьями холмы И ель была сестрой, И вольно ей жилось с такой Веселою семьей. Пускай нежирен был обед И, отходя ко сну, Ей вместо ужина глазеть Случалось на луну. Но по утрам зато всегда Вила венки она И песни пела по ночам, Гуляя допоздна. И в темных старческих руках Стеблями трав шурша, Она циновки для крестьян Плела из камыша. Как Амазонка, Мэг была Высокой и прямой, Носила рваный красный плащ И летом и зимой. Прими скиталицу, Господь, И прах ее укрой!Сонеты
«Как много славных бардов золотят…»
Как много славных бардов золотят Пространства времени! Мне их творенья И пищей были для воображенья, И вечным, чистым кладезем отрад; И часто этих важных теней ряд Проходит предо мной в час вдохновенья, Но в мысли ни разброда, ни смятенья Они не вносят – только мир и лад. Так звуки вечера в себя вбирают И пенье птиц, и плеск, и шум лесной, И благовеста гул над головой, И чей-то оклик, что вдали витает… И это все не дикий разнобой, А стройную гармонию рождает.«За долгой полосою дней ненастных…»
За долгой полосою дней ненастных, Мрачивших землю, наконец придет Желанная теплынь – и небосвод Очистится от пятен безобразных. Май, отрешась от всех забот несчастных, Свои права счастливо заберет, Глаза овеет свежестью, прольет Дождь теплый на бутоны роз прекрасных. Тогда из сердца исчезает страх И можно думать обо всем на свете – О зелени – о зреющих плодах – О нежности Сафо – о том, как дети Во сне смеются, – о песке в часах – О ручейке – о смерти – о Поэте.Записано на чистой странице поэмы Чосера «Цветок и лист»
Поэма эта – рощица, где дует Меж чутких строк прохладный ветерок; Когда от зноя путник изнемог, Тень лиственная дух его врачует. Зажмурившись, он дождь росинок чует Разгоряченной кожей лба и щек И, коноплянки слыша голосок, Угадывает, где она кочует. Какая сила в простоте святой, Какая бескорыстная отрада! Ни славы мне, ни счастия не надо – Лежал бы я теперь в траве густой Без слов, без слез! – как те, о чьей печали Никто не знал… одни лишь птицы знали.Море
Там берега пустынные объяты Шептанием глухим; прилива ход То усмирит, то снова подстрекнет Влиянье чародейственной Гекаты. Там иногда так ласковы закаты, Так миротворны, что дыханье вод Едва ли и ракушку колыхнет – С тех пор, как бури улеглись раскаты. О ты, чей утомлен и скучен взор, Скорее в этот окунись простор! Чей слух устал терпеть глупцов обиды Или пресыщен музыкою строф – Ступай туда и слушай гул валов, Пока не запоют Океаниды!Коту госпожи Рейнольдс
Что, котик? Знать, клонится на закат Звезда твоя? А сколько душ мышиных Сгубил ты? Сколько совершил бесчинных Из кухни краж? Зрачков зеленых взгляд Не потупляй, но расскажи мне, брат, О юных днях своих, грехах и винах: О драках, о расколотых кувшинах, Как ты рыбачил, как таскал цыплят. Гляди бодрей! Чего там не бывало! Пускай дышать от астмы тяжело, Пусть колотушек много перепало, Но шерсть твоя мягка, всему назло, Как прежде на ограде, где мерцало Под лунным светом битое стекло.Перед тем, как перечитать «Короля лира»
О Лютня, что покой на сердце льет! Умолкни, скройся, дивная Сирена! Холодный Ветер вырвался из плена, Рванул листы, захлопнул переплет. Теперь – прощай! Опять меня зовет Боренье Рока с Перстью вдохновенной; Дай мне сгореть, дай мне вкусить смиренно Шекспира этот горько-сладкий плод. О Вождь поэтов! И гонцы небес, Вы, облака над вещим Альбионом! Когда пройду я этот грозный лес, Не дайте мне блуждать в мечтанье сонном; Пускай, когда душа моя сгорит, Воспряну Фениксом и улечу в зенит!К Фанни
Пощады! милосердия! любви! Любви прошу – не милостыни скудной – Но милосердной, искренней любви – Открытой, безраздельной, безрассудной! О, дай мне всю себя – вобрать, вдохнуть Твое тепло – благоуханье – нежность Ресниц, ладоней, плеч – и эту грудь, В которой свет, блаженство, безмятежность! Люби меня – душой – всем существом – Хотя б из милосердия! – Иначе Умру; иль, сделавшись твоим рабом, В страданьях праздных сам себя растрачу, И сгинет в безнадежности пустой Мой разум, пораженный слепотой!* * *
Спящая
the blisses of her dream so pure and deep. John Keats Во сне она так безмятежна! Будто Там, в этом сне, поверила кому-то, Что будет мир ее красой спасен. Отвеяна от ложа скорбь и смута, Покоем и лавандой пахнет сон. Во сне она так беззащитна! Точно Лесной зверек бездомный, в час полночный Уснувший на поляне в темноте, – Или птенец на веточке непрочной В дырявом можжевеловом кусте. Не просыпайся! Этот сон глубокий Покрыл все недомолвки и упреки, Как снег апрельский – слякотную муть; Ты спишь – и спит дракон тысячеокий Дневных забот. Как ровно дышит грудь Под кисеей! Не все ль теперь едино – Назвать тебя Психеей, Маделиной Пли соседкой милой? – Все равно; Когда ты – луч, струящийся в окно, И неумолчный шелест тополиный. Пусть блики от витражного окна В цвет крови или красного вина С размаху мне забрызгают рубаху, – По этот воздух не подвластен страху, И пурпура сильней голубизна. Позволь и мне с тобою затвориться В сон переливчатый, как перловица: Не смерть в нем, а избыток бытия. Не бойся! Спи, жемчужина моя, Нам этот сон уже навеки снится. День отошел, и все с ним отошло: Сиянье глаз – и трепет льнущих рук – Ладоней жар – и мягких губ тепло – И томный шепот, нежный полузвук. И вот мои объятия пусты, Увял цветок, и аромата нет, Прекрасные затмилися черты; Блаженство, белизна, небесный свет – Все, все исчезло на исходе дня, И догорает страсти ореол, И, новой, тайной негою маня, Ложится ночь; но я уже прочел Все – до доски – из требника любви; Теперь уснуть меня благослови.Джордж Гордон Байрон (1788–1824)
Происходил из старинного баронского рода. Учился в Хэрроу Кембридже, вел экстравагантный образ жизни богатого повесы. Первый сборник стихов Байрона «Часы досуга» не привлек внимания, зато поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Песни I–II, 1812) сразу сделало его знаменитым. Его развод с первой женой после года супружества и близкие отношения со сводной сестрой Августой скандализировали высший свет. В 1816 году Байрон покинул Англию и с тех пор жил по преимуществу за границей. В Италии Байрон начал писать поэму «Дон Жуан», которая считается его высшим достижением. Смерть Байрона в Греции, освободительную борьбу которой он активно поддерживал, оплакивалась всей просвещенной Европой. Влияние Байрона на русский романтизм, в частности на Пушкина и Лермонтова, общеизвестно.
Джордж Гордон Байрон. Гравюра с портрета Томаса Филипса, 1814 г.
«Не гулять нам больше вместе…»
Не гулять нам больше вместе В час, когда луна блестит, Хоть душа, как прежде, любит, Лес, как прежде, шелестит. Ибо меч дырявит ножны, А душа тиранит грудь, И уж в сердце невозможно Радость прежнюю вдохнуть. И хотя сияет месяц И рассвет не за горой, – Не гулять нам больше вместе Под луною в час ночной.Расставание
Когда мы прощались, Безмолвные слезы роняя, На годы разлуки, На муки сердца разделяя, Как губы студило Последнее наше лобзанье! – Воистину было В нем худшей тоски предсказанье. Застыл после ночи На окнах нетающий иней, Как будто пророча Тот холод, что сделался ныне. Ты клятвы забыла; Зачем же, в намеке салонном Ловя твое имя, Казнюсь я стыдом потаенным? То имя родное Звучит как удар колокольный, И ты предо мною Опять возникаешь невольно. Как судят окольно Твои беспощадные судьи, Как горько, как больно Наш спор продолжать на безлюдье! Мы тайно встречались, И молча скорблю я, что силы Тебе не хватило, Что сердце твое изменило. Когда через годы Мы встретимся вновь, дорогая, Как встречу тебя я? – Безмолвные слезы роняя.Перси Биши Шелли (1792–1822)
Родился в Сассексе, в имении Филд-Плейс. Был исключен из университета за публикацию атеистического памфлета. Женился на шестнадцатилетней девушке, чтобы спасти ее от «тиранических» родителей, но брак оказался неудачным. Спустя год он влюбился в образованную и талантливую Мэри Годвин, будущего автора романа «Франкенштейн», и уехал с ней за границу. Жил большей частью в Италии, дружил с Байроном. Погиб во время бури, катаясь на яхте вместе с женой и капитаном Трелони. Шелли – романтический поэт, одержимый с юности идеей свободы, которой пронизаны его поэма «Королева Мэб» (1813), лирическая драма «Освобожденный Прометей» (1820) и ряд других произведений; автор многих хрестоматийных стихотворений, а также замечательного трактата «Защита поэзии». Незадолго до собственной гибели Шелли оплакал безвременную смерть Джона Китса в поэме «Адонаис».
Перси Биши Шелли. Гравюра с портрета Амелии Курран, 1819 г.
Англия в 1819 году
Безумный, дряхлый и слепой король, С ним рядом – подхалимы-болтуны, Играющие царедворцев роль, – Бездарных предков жалкие сыны, Честь нашу пожирающая моль, Пиявки, кровь сосущие страны; Несчастный голодающий народ, Перед бесстыдной властью павший ниц; Солдаты, превращенные в убийц Свободы, в мародерствующий сброд; Ничтожный, гнусно блеющий Сенат, Религия, чей идеал – Пилат… Гроба, гроба… Ужель из них взлетит Звезда победоносная – в зенит?Никогда
О мир! о жизнь! о тени Минувшего! Последние ступени Я перешел, и вниз гляжу – туда, Где навсегда исчез мой свет весенний. Вернется ль? – Никогда! Я сам на всех распутьях Моих дорог распят. На голых прутьях От юности цветущей – ни следа. Печаль еще способна всколыхнуть их, Но радость – никогда!«Зеленый человечек» английской поэзии (О Джоне Клэре)
A green delight the wounded mind endears…»
John Clare[19]Я ловлю себя на том, что твержу про себя стихи Клэра, хотя никогда не пытался запомнить их наизусть. Однажды он сказал одному из посетителей: «Я знаю Грея, хорошо его знаю», и это было принято как доказательство безумия. Рискну сказать с тем же убеждением: «Я знаю Клэра, хорошо знаю. Я часто плакал вместе с ним».
Роберт ГрейвзI
Полузабытый крестьянский поэт романтический эпохи – но не «второй Роберт Берне», а наоборот, по характеру и темпераменту абсолютно противоположный знаменитому шотландскому барду, – Джон Клэр в последние десятилетия пережил нечто вроде ренессанса: публикуются новые биографии, письма, дневники, в сериях классики издаются его стихотворения. 13 июня 1989 года в «Уголке поэтов» Вестминстерского собора, этом Пантеоне английской литературы, в котором похоронены Чосер, Диккенс и многие другие, торжественно открыли мемориал Джону Клэру.
Одно из свидетельств возвращения поэта – цикл стихов нобелевского лауреата Дерека Уолкотта, посвященный памяти матери («Щедрость», 1996), в котором Клэр присутствует с начала до конца как важный контрапункт в сознании автора, переполненного щедростью жизни, щедростью природы его родных Карибских островов. На фоне моря, пальм и тропического рассвета является неожиданный и трогательный образ – или, можно сказать, призрак – Джона Клэра –
бедного Тома-бродяги, поэта своей глухомани, друга Жуков и Сверчков, зашнуровывающего башмаки стеблем вьюнка, подгоняющего Бронзовика тонкой соломинкой, Рыцаря Сороконожки, облаченного в топкую мглу – с городками, издалека кажущими свои башни, какулитины рожки, вольного духом, хоть скованы ноги струей ледяной. Заиндевела стерня; он стоит посредине потока, жестом Предтечи благословляя даль за рекой, башни, улиток, рассвет и песчаную эту дорогу…Характерно, что образ Клэра смешивается у Уолкотта с образом «бедного Тома» – шекспировского Тома из Бедлама, жалкого сумасшедшего, с которым встречается король Лир во время бури – обездоленный король с обездоленным нищим. Мотив Бедлама, мотив безумия здесь не случаен. Впрочем, мы знаем, что у шекспировского Тома была своя тайна, и заключалась она в том, что одетый в лохмотья, бормочущий всякую чушь бродяга – на самом деле не безумец, а переодетый Эдгар, сын графа Глостера, спасающийся от злосчастных обстоятельств своей судьбы.
Мне кажется, что и Клэра стишком рано и слишком надолго записали в безумцы. Впрочем, не будем забегать вперед…
II
История полна странными совпадениями. В начале 1820 года лондонские издатели Тейлор и Хесси почти одновременно выпустили две новые книги стихов: последний прижизненный сборник Джона Китса и первый сборник совершенно неизвестного публике Джона Клэра. Двадцатипятилетнему Китсу предстояло через год умереть от чахотки в Риме; Клэр, который был на два года старше, дожил до семидесяти лет, из которых почти тридцать он провел в сумасшедшем доме; и поистине трудно решить, какая из двух жизней сложилась труднее и трагичнее.
Джон Клэр. Гравюра с портрета Уильяма Хилтона, 1820 г.
Джон Тейлор, издатель с репутацией и поэтическим вкусом, долго колебался, получив в руки стихи необразованного крестьянина из Нортгемптоншира; он вообще славился привычкой долго запрягать перед тем, как ехать. В конце концов книга все же была издана под названием: «Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу. Сочинение Джона Клэра, крестьянина из Нортгемптоншира». Стараясь заинтриговать читателя, Тейлор предпослал сборнику обширное издательское предисловие – по сути, подробный биографический очерк об авторе с анализом его стихов. Думаю, будет уместно, если я приведу здесь отрывки из этого предисловия.
Нижеследующие стихотворения должны привлечь интерес благодаря своим внутренним достоинствам; но, помимо этого, они заслуживают внимания из-за обстоятельств, в которых были написаны. Перед нами подлинные произведения молодого крестьянина, поденного сельского работника, не получившего никакого образования сверх обычного для своего класса минимума; и хотя поэтам в этой стране вообще редко сопутствует счастье, это, по всей вероятности, самый обделенный из всех – обделенный судьбой, обделенный друзьями.
Джон Клэр, автор этой книги, родился в Хелпстоне, вблизи Питерборо, в Нортгемптоншире, 13 июля 1793 года; он единственный сын Паркера и Анны Клэр, урожденных жителей той же деревни, проживавших в крайней нужде и бедности; насколько известно, также существовали и все их предки…
Может показаться удивительным, что, живя в такой нищете, Клэр сумел найти средства, чтобы получить хоть какое-то образование. Он заработал их сам: брался за все, что предложат, батрачил с утра и дотемна. За восемь недель работы мальчик мог скопить ровно столько пенсов, сколько хватало на оплату месяца занятий в школе, и так, урывками, за три года он приобрел некоторые знания и научился свободно читать Библию…
Однако склонность к поэзии проявилась в маленьком Джоне еще до того, как он овладел грамотой. Однажды отец прочитал ему стихотворение из книги какого-то нравоучительного поэта – такие книжки разносились коробейниками по деревням и порой попадали в самые бедные семьи. Впоследствии он не мог вспомнить ничего – ни сюжета, ни слова, ни фразы – лишь острое, ни с чем не сравнимое наслаждение от самого звука метрической речи, от музыки стихов… Неудивительно, что вскоре после того, как Клэр пристрастился к чтению, он начал писать, подражая «Временам года» Томсона и любым другим поэтическим образцам, которые могли попасться в руки сельскому школьнику.
Прошло тринадцать лет с тех пор, как Клэр сочинил свое первое стихотворение: все это время он втайне развивал свой вкус и поэтический талант, без единого слова поддержки или сочувствия, без даже отдаленной перспективы какой-либо награды. Какой же сильной и чистой изначально должна была быть эта страсть, не истребленная столькими годами нужды, труда и беспросветной нищеты…
Публикация этих стихотворений стала результатом случая. В декабре 1818 года мистер Эдвард Друри, книгопродавец из Стамфорда, случайно прочел «Сонет к заходящему солнцу», записанный на листе бумаги, служившим оберткой для какого-то письма. Сонет был подписан двумя буквами «J. С.» Выяснив имя и местопребывание автора, Друри приехал в Хелпстон, где познакомился и с другими стихами Клэра, которые ему весьма понравились. По его просьбе Клэр подготовил сборник, который был послан в Лондон на рассмотрение издателей, отобравших часть предложенных стихотворений для настоящего тома…
Автор и его произведения представлены ныне на суд читателей; от их решения зависит, в конечном счете, их судьба; но как бы ни рассудила публика, не подлежит сомнению, что ни один поэт в нашей стране не выказал больших способностей в обстоятельствах, столь враждебных их развитию…
III
Умелый ход Тейлора, разрекламировавшего Клэра как крестьянского поэта-самородка, а также его старания обеспечить благоприятные отзывы в печати сделали свое дело: эдинбургский журнал «Куотерли Ревю», который еще недавно вместе с «Блэквудс Мэгэзин» разгромил сочинения Китса, доброжелательно отозвался о стихах Джона Клэра. Книга имела успех, в течение года было продано более трех тысяч экземпляров. Для сравнения: книга Китса «Ламия, Изабелла, Канун Св. Агнессы и другие стихи», изданная тиражом в пятьсот экземпляров, расходилась двадцать лет, поэма Вор-дсворта «Прогулка» при том же тираже – семь лет. Впрочем, были популярные поэты, например, Вальтер Скотт, Джордж Байрон или Томас Мур, да и ряд других, ныне забытых, тиражи которых доходили до десяти тысяч экземпляров и более. Вообще, в этот период Англия переживала настоящий поэтический бум, пик которого пришелся как раз на 1820 год; позже читательский интерес к стихам резко упал…
Итак, на какой-то срок Клэр сделался литературной сенсацией, в газетах чуть не ежедневно печатали похвальные отзывы, он получал письма от читателей, в Хелпстон стали заезжать любопытствующие, бесцеремонно отрывая Клэра от дел и смущая разными досужими вопросами. В общем и целом, Клэр наслаждался успехом – но не гонорарами: их издатель выплачивал скупо, с натугой; более того, приличные меценатские пожертвования, поступившие для автора от разных лиц, он поместил в какую-то компанию под проценты, которые должны были регулярно поступать Клэру, обеспечивая ему и его семье минимальный доход: в 1820 году Клэр женился и через шесть лет у него уже было шестеро детей. На практике эти деньги доходили до него не всегда регулярно, а в какой-то момент маленькая сумма уменьшилась еще вдвое. Но Клэр был не такой человек, чтобы чего-то требовать или выяснять. Он мог лишь иногда, ссылаясь на отчаянное положение, просить Тейлора заплатить хоть малость из того, что ему причиталось, и терпеливо, месяцами, ждать ответа.
В марте 1820 года состоялась первая поездка Клэра в Лондон. Он впервые увидел Темзу, Вестминстерское аббатство, театры, музеи, познакомился с многими литераторами, включая Джона Рей-нольдса, друга Китса. С самим Китсом, в то время болевшим, повидаться не удалось. Вдогонку Клэру ушло письмо Тейлора от 16 марта: «Позавчера Ките зашел ко мне на обед в первый раз после своей болезни – Он очень огорчился, что не успел познакомиться с Вами – Когда я прочитал ему «Одиночество», он заметил, что Описание у автора слишком перевешивает Чувство – Но не огорчайтесь – Если это и недостаток, то хороший недостаток».
Мнение Китса о Клэре можно сравнить с мнением самого Клэра о Китсе из сохранившегося черновика его письма. Клэр признает, что описания природы у Китса бывают весьма изящны, но все-таки это взгляд горожанина, основанный больше на фантазии, чем на непосредственном наблюдении. Кроме того, говоря о лесах и полянах, он не может обойтись без нимф, дриад, фавнов и прочих фигур из древнегреческой мифологии, «за каждым розовым кустом у него притаилась Венера, за каждым лавровым деревцем – Аполлон».
К сожалению, с Китсом они разминулись навсегда. И лишь впоследствии их портреты работы художника Уильяма Хилтона (Клэр позировал для него в те же мартовские дни) много лет висели рядом в Национальной портретной галерее.
IV
Поражает, насколько портрет Хилтона не соответствует нашему представлению о «поэте-пахаре». Высокий лоб, мечтательный, устремленный к невидимой цели взгляд, длинные «артистические» волосы…[20] Могут сказать, что художник увидел и намеренно показал в Клэре именно поэта, а не крестьянина. Но и по письменным свидетельствам рисуется отнюдь не «мужицкий» образ. Простые, сдержанные манеры Клэра и мягкость его обращения отмечались многими. В его собственных письмах и в дневниках обнаруживается острая впечатлительность и ранимость: все в мире было для него источником муки или наслаждения. Бродя по полям в своей бедной крестьянской одежде, он выглядел, по словам одной женщины, «как переодетый аристократ» (снова вспомним «бедного Тома» в лохмотьях!).
Недаром Чарльз Лэм в шутку называл его princely Clare, а также Clarissimus (от латинского «clarus» – светлый, ясный, а также «славный, знаменитый»), что можно, используя туже игру, перевести как «ясновельможный Клэр, Клариссимус».
Клэр приезжал в Лондон всего четыре раза в жизни. Эти поездки приходятся на двадцатые годы – время процветания «Лондонского журнала», редактируемого Тейлором. В числе авторов были знаменитый критик Уильям Хэзлит, эссеист Чарльз Лэм, автор «Очерков Элии», Джон Рейнольде, Томас Гуд, Барри Корнуолл (Брайан Про-ктер) и другие известные литераторы. Клэр подружился с многими из них; они вместе гуляли по Лондону, навещали знакомых, участвовали в шумных писательских обедах, на которых блистали сам Лэм и другие «великие остроумцы», как их называл Джон Клэр.
Вот характерная сценка из такого обеда, описанная пером талантливого поэта и журналиста Томаса Гуда[21].
По правую руку Редактора сидит улыбающийся Элия со своим зорким взглядом – Проктер однажды заметил, что „от него не укроется иголка на полу“ – и с таким же острым умом: будьте уверены, говорил Хэзлит, что именно с этих запинающихся губ слетит лучший каламбур и лучшая шутка за все время обеда. Рядом с Элией, выделяясь изумрудной зеленью на фоне похоронных писательских костюмов, как грядка брюквы среди вспаханного под пар поля, гляньте! да это наш Зеленый Человечек – Джон Клэр! В своем травяного цвета сюртуке и желтом жилете (с бледно-зелеными ростками панталон под столом) он выглядит как настоящая весенняя Примула… Неудивительно, что лакей в ливрее и бриджах попытался загородить дорогу странному гостю, который из скромности поднимался по лестнице самым последним; впрочем, впоследствии он искупил свой промах, за обедом прислуживая исключительно нашему Пахарю, совершенно уверенный в том, что перед ним некий эксцентричный магнат или вельможа, нарядившийся Селянином…
Но вернемся к столу. Элия, будучи в душе более Ягненком, чем он хотел бы признать[22], и неосознанно влекомый пасторальной зеленью, раз за разом обращается к Нортемптонширскому поэту с громогласными тостами, именуя его Клариссимусом и Клэром Великолепным, заставляя того вновь и вновь опускать глаза в свою кружку. Всем своим блаженным видом Хелпстон-ский житель изображает простака-деревенщину в обществе сливок писательского общества: Элии, Барри[23], Герберта[24], мистера Table Talk[25], и прочих…
Впрочем, Клэр был вовсе не так прост. Его собственные воспоминания о Лондоне и портретные зарисовки тех же Рейнольдса, Лэма, Хэзлита и других остры и независимы. «Деревенщина»? Деревенскими в нем были лишь непосредственность и простодушие. Недаром Томас Гуд в своем словесном портрете поэта отмечает «изящное сложение, тонкость черт и нежный цвет лица, напоминающий скорее о Саде, чем о Пашне». Но наиболее точно и кратко общее впечатление от Клэра в Лондоне сформулировал Тейлор в частном письме:
«От нас только что уехал Клэр… Он был прекрасным Гостем, может быть, только чересчур воодушевлявшимся от Стаканчика Эля – Он встречался со всеми нашими Литературными Знакомцами и установил добрые отношения со всеми. Он не умеет каламбурить, но зато обнаружил такой запас Здравого Смысла и в разговоре делал такие проницательные Замечания – притом, что его Суждения о Книгах были глубоки и серьезны, – что, каков бы ни был Предмет Беседы, его всегда было интересно слушать».
V
Клэра как поэта, выбившегося из необразованных низов, зачастую сравнивают с Бёрнсом. Такое сравнение в корне неверно. Берне принадлежал к классу фермеров, а Клэр – к самому низшему классу наемных сельских рабочих: между этими классами проходила резкая граница. По сути, фермеры стояли ближе к сквайрам, чем к той деревенской голытьбе без кола, без двора, откуда вышел Клэр, и, как правило, относились к этой голытьбе, из которой они нанимали себе батраков, с большим высокомерием, чем даже сельские сквайры.
«Поэт-пахарь» Роберт Берне получил вполне приличное образование, он учился философии, истории, физике, французскому языку и латыни. Батрак Джон Клэр не выучился даже грамотно писать; двадцать пять первых, самых важных лет он прожил в такой полной изоляции от всякой культурной среды, как если бы он был пленником замка Иф. Тяжелая работа от зари до зари не располагает к изящному, наоборот, она убивает всякую любознательность, всякую любовь к книгам и учению. То, что Клэр сумел сохранить в душе детское очарование поэзией, – чудо. Сродни десятилетиями лелеемой мечте узника о побеге.
Он батрачил за гроши, урывками, втайне от всех писал стихи и засовывал их в щель между кирпичей, которая казалась ему надежным тайником; но мать, приметив это, нередко брала несколько листков на растопку печи: так погибло большинство его ранних стихотворений.
Одна природа была его сочувственницей. Только в одиночестве среди полей, ручьев и лесов он ощущал себя счастливым. Его стихи доказывают, что он любил все эти травинки и деревья, букашек и улиток, оттенки неба и облаков самозабвенно и бескорыстно. В детстве он, правда, как и другие мальчишки, разорял гнезда, но, повзрослев, только удивлялся им и мог часами следить за жизнью какого-то птичьего семейства. Чем дальше, тем больше он отвращался от любого насилия и жестокости. Когда в своем удивительном стихотворении «Барсук» (1830-е годы) он восстает против варварской английской забавы – травли барсуков собаками, – степень его сочувствия достигает полного отождествления: автор сам становится барсуком, сам отбивается от кровожадных врагов, ненавидит их, сражается до последнего и гибнет в неравном бою.
Вообще-то, любовь к природе – не крестьянская черта. Природой обычно восхищаются горожане, дорвавшиеся до зелени и тишины (как Ките, например) или обеспеченные сельские жители, у которых довольно досуга (как Вордсворт, рисовавший ее идеальный образ «вдали от суетного света»). Даже у Роберта Бёрнса природа, в основном, служит фоном для лирического или обличительного монолога («К срезанной плугом маргаритке», «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня»). Джон Клэр поражает и обескураживает читателя отсутствием всякой морали. Он не обменивает своей любви к природе на откровение, как, например, Вордсворт или Роберт Фрост. В его восхищении всеми формами жизни есть нечто буддийское – как сказали бы сегодня, «экологическое». Он просто смотрит и делится с нами радостью от увиденного.
Вот, скажем, начало стихотворения:
Я выйду рано – в час мучнисто-серый, Когда еще вокруг лежит роса И ветерок порывисто-несмелый, Как веялка, взвивает волоса.И так далее, и тому подобное. Мы ждем – вот сейчас начнет вырисовываться вывод, но ничего не вырисовывается, стихотворение заканчивается также описательно, как и начиналось. Это может вызвать разочарование. Но может быть и освежительно для читателя, уставшего от непременных сентенций и епифаний.
Кто-то, пожалуй, почувствует себя чуть ли не обманутым: вот, я прочитал целое стихотворение – для чего? где тут вывод? Но не то же ли это, что ждать вывода от жизни, верить, что в конце откроется смысл, «все распутается» (Кант)? И вот жизнь прожита, а откровения нет. Обделили?
Да нет же, оглянитесь назад, подсказывает нам Клэр, – откровение уже было, каждый миг этой жизни был откровением, каждая деталь, каждая мелочь в ней была откровением: удивляйтесь, радуйтесь и смотрите!
Вы можете сказать, что такого у него нет, я сам «вчитываю» это в Клэра. Не спорю. Может быть. Но и тогда спасибо автору, который дал мне возможность вчитывать это в его стихи.
VI
Второй сборник Клэра «Деревенский менестрель и другие стихотворения» вышел в конце 1821 года; он состоял большей частью из стихотворений, написанных в то время, пока готовился первый сборник. Отчасти в нем сказалось намерение автора сделать шаг навстречу тем, кто упрекал его за чрезмерную описательность, советовал «поднять глаза от земли» и «говорить о явлениях природы более философично». В результате получалось нечто более привычное, похожее на других поэтов-романтиков, например, на Вордсворта, – но все-таки не перепев; главная тематическая триада Клэра «природа – одиночество – детство» звучала у него по-своему:
Джеймсу Огастасу Хесси
Когда я только-только в мир вступал И глупых истин мудрости не ведал, Добра и зла еще не различал И страху смерти и греха не предал Души младенческой – о, если бы Я был оставлен в местности пустынной, Где нет людей, – и милостью судьбы Меня природа, как родного сына, Взрастила, не уча и не браня, А лишь во всем хваля и потакая, Чтоб в райской неге длящегося дня Не знал я грез и снов – чтоб жизнь такая, Блаженна, неизменна и светла, Предвосхищеньем вечности была!По форме это сонет, причем английского, «шекспировского», канона: три четверостишия плюс двустишие. В «Деревенском менестреле» много сонетов – или, говоря осторожней, «четырнадцати строчников», ибо в большинстве из них никакие структурные каноны не соблюдаются: на шестьдесят сонетов приходится 36 (!) различных рифменных схем. Тут есть и итальянский, и шекспировский, и спенсерианский сонеты, и всевозможные их «сплавы», есть и сонеты, состоящие просто из семи двустиший. Некоторые критики полагают, что Клэр ничего не понимал в катренах и терцетах, я же уверен, что, наоборот, перед нами плоды сознательного экспериментирования. Не о таком ли «расковывании», «освобождении» сонета мечтал Ките:
Раз цепью рифм должны мы неизбежно, Как Андромеду, сковывать сонет, Живую прелесть обрекая мукам, Давайте, если выхода здесь нет, Хотя бы новым выучимся трюкам, Дабы иным аллюром шел Пегас…То, что продемонстрировал Клэр в своих сонетах, это и есть 36 разных «аллюров», – притом исполненных так непринужденно, что это до сих вводит в заблуждение литературоведов, подозревающих Клэра в незнании правил; он знал правила, но нарочно их забывал ради спонтанности и свободы.
Он любил все делать по-своему. Его стихи написаны без знаков препинания; ясно, что он был не в ладах с пунктуацией, как и многие другие поэты, оставляющие ее на произвол редактора (впрочем, теперь английские издатели предпочитают восстанавливать первоначальный, «модернистский», вид стихотворений Клэра). Но письма Клэр писал вообще без деления на предложения; и хотя в те времена манкировать точками и запятыми и злоупотреблять тире в переписке было модно, – но хотя бы начинать новое предложение с большой буквы он мог? Мог, но, по-видимому, не хотел, так что его проза внешне выглядит точь-в-точь, как поток сознания Молли в последней главе «Улисса» (в чем у нас еще будет возможность убедиться).
Вообще, в характере и в стихах Клэра чувствуется смесь внешней мягкости (пластичности) с внутренней силой и упрямством. Он умел настаивать на своих заблуждениях (важнейшая черта поэта!), превращать и сами недостатки в особенности стиля.
VII
«Деревенский менестрель» был, в общем, благосклонно принят критиками, но прежнего успеха не имел – новизна пропала. Между тем Джон Тейлор, занятый журнальными заботами, уже прохладней относился к делам Клэра: со следующим сборником «Пастуший календарь» (1827) он проканителил несколько лет. Изменилась и литературная ситуация: поэтический бум 1815–1825 годов закончился, начиналось время прозы.
То же самое происходило и в России с небольшим временным отставанием. Не случайно даже Пушкин в 1830-е годы все больше переходил на прозу и журналистику. Публика гонялась за интригующими новинками, в моде было гротескное, страшное или смешное: Барон Брамбеус, Гоголь с «Вечерами на хуторе», Одоевский с «Русскими ночами». В поэзии после смерти Пушкина и Лермонтова вплоть до середины пятидесятых годов установилась прочная пауза. Ситуация в Англии была сходная. К 1825 году Байрон, Ките и Шелли уже ушли из жизни; Кольридж и Вордсворт еще писали, но их лучший творческий период был давно позади; интерес публики к поэзии упал, и редкие светлячки стихов в журналах оставались почти незамеченными, пока в середине 1840-х годов их всех не затмила восходящая звезда Альфреда Теннисона.
Между тем жизнь Клэра в Хелпстоне становилась все труднее. Семья с каждым годом увеличивалась; жить в двух комнатах, которые они арендовали, становилось невозможно; летом, особенно в сезон уборки, Клэр, как прежде, нанимался поденным работником в поле. Критики, убеждавшие его не оставлять сельских трудов, исходили из благих соображений: они хотели, чтобы он оставался «поэтом-пахарем», и, поощряя его поэтические труды, не могли одобрить его попыток вырваться за пределы сословных перегородок. Отношение даже сочувствующих ему друзей и покровителей было половинчатым: ему помогали, но до известных пределов, так сказать, с разумной умеренностью.
Такое двойственное положение со временем становилась все более нестерпимым. Хуже всего было то, что в деревне Клэр был начисто лишен интеллектуального общения. При всей его любви к природе и одиноким прогулкам, жажда поделиться мыслями с равным собеседником была насущной, и она оставалась неудовлетворенной. Он вел обширную переписку, много читал и продолжал упорно, не давая себе передышки, работать над новыми стихами. Но тяготы и переутомление в конце концов сказались. Первый звонок прозвенел в 1823 году; по-видимому, это было нервное истощение, сопровождаемое разнообразными телесными симптомами; мы лишь знаем, что в письме к миссис Эммерсон он жаловался на «омертвение мозгов», «провалы памяти», «ухудшение зрения», «блуждающие боли» и «приступы озноба». В конце апреля следующего года Клэр в последний раз приезжает в Лондон. Его цель посоветоваться с доктором Дарлингом – врачом, которого ему рекомендовал Джеймс Хесси и который до этого лечил Китса, Хэзлита и других литераторов.
В Лондоне ему стало лучше. Не думаю, что помогло лечение – скорее, смена обстановки, общение с друзьями, которые старались его развлечь. Он, как ребенок, радовался новым впечатлениям. Например, поединкам между боксерскими знаменитостями в большом лондонском зале; ухваткам модного френолога, определяющего характер человека по форме и «шишкам» его головы (ср. пьесу Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог»); визиту к знаменитому художнику Томасу Лоренсу, очаровавшему Клэра своей любезностью; театральным вечерам и так далее.
Кроме старых знакомых он обзавелся новыми; назовем, в частности, Джона Бауринга, составителя «Антологии российских поэтов» (1821), а также Чарльза Элтона, ученого-античника, переводчика Гесиода и Проперция. Элтон посвятил Клэру интересное стихотворение, опубликованное в «Лондонском журнале»: «Послание от безделья Джону Клэру».
Оно содержит немало любопытного; в частности, Элтон с первой строки отговаривает Клэра от мыслей задержаться в Лондоне: «So loth, friend John, to quit the town?» – «Так значит, тебе неохота, дружище Джон, уезжать из города?» И далее, продолжая эту тему: «Я бы не стал на твоем месте жертвовать привычками простодушного детства, толкаться среди толпы и изнурять свой ум на обедах и ужинах, чтобы от шумных увеселений в конце концов зачахнуть и сгинуть»[26].
Далее Элтон утверждает, что почитатели Клэра сбивают его с толку, склоняя к подражанию устарелым образцам: «Они хвалят худшее в тебе; твое лучшее до сих пор неизвестно».
Он упрекает публику в ханжестве: «Многие из них обременены скорбью и подозрениями! Им хотелось бы знать, как ты молишься, Клэр. Ты не лицемеришь, потому-то они таращат глаза и нюхом чуют вольнодумца; они умоляют тебя страшиться дьявола и клянутся, что ты попадешь в ад». Обратим внимание, что крестьянин Клэр – как и горожанин Ките, между прочим, – скептически относился к религиозным догмам. Отсюда, кстати, его расхождения с Вордсвортом, которого он, в целом, очень ценил: «Честно говоря мне не очень-то нравится его показная набожность в некоторых длинных вещах она порой становится невыносима». Как и Ките, он не терпел поэзии, имеющей «слишком очевидные намерения» по отношению к читателю.
Добавлю еще несколько слов, чтобы расставить все точки над «i». Клэр не был атеистом, но он не выносил лицемерия священников и стадных путей к спасению, не любил, чтобы его пасли. «Одиночество и Бог для меня едины».
Послание Элтона заканчивается обращением к их общему другу, бристольскому художнику Риппинджилю, с призывом нарисовать портрет Клэра: «Его кисть, мазок за мазком, изобразит твои задумчивые глаза с их упорным блеском, виски шекспировских линий, спокойную улыбку, твой здравый смысл и ум – прямой, без подвоха».
His touch will, hue by hue, combine The thoughtful eyes that steady shine, The temples of Shakespearian line, The quiet smile, The sense and shrewdness which are thine, Withouten guile.VIII
Во время своего третьего приезда в Лондон Клэр стал очевидцем события, оказавшего на него незабываемое впечатление: похорон лорда Байрона 14 июля 1824 года. Разумеется, Клэр читал в газетах о смерти поэта, но с похоронным кортежем встретился неожиданно. Шел в гости к кому-то по Оксфорд-стрит, увидел толпу, запрудившую тротуар. Толковали о каких-то похоронах, и по выражению лиц Клэр понял, что людьми владеет не просто досужее любопытство. Стоящая рядом девушка вздохнула и негромко воскликнула: «Бедный лорд Байрон!» «Я взглянул в лицо этой девушки оно было так печально и прекрасно в этот момент я мог влюбиться в нее за один этот вздох которым она почтила поэта он стоил больше чем все надутые хвалы в журналах и газетные выражения скорби… простые люди страны лучшие свидетели и пророки будущего они те вены и артерии которые питают сердце истинной славы дыхание вечности и душа времени запечатлены в этом пророчестве», – записал он позже в своем дневнике[27].
В эссе «О популярности», в других заметках для себя Клэр дает высокую оценку Байрону, хотя и достаточно взвешенную: он пишет, например, о том, что его греческая эпопея – «скорее актерство, чем геройство»; и тем не менее считает все грехи и недостатки поэта «пятнами на солнце»: «он приобщен к бессмертным и сияет как алмаз на фоне современной литературы». Пройдет десять лет, и помещенный в лечебницу Клэр объявит себя Байроном и станет сочинять новые песни «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана»…
В Хелпстон Клэр вернулся ненамного здоровее, чем был до отъезда. Тем не менее он продолжал упорно работать. В его голове роилось множество планов. Он писал стихи, дневники, критическую и очерковую прозу, брался за «Естественную историю Хелп-стона», собирал и записывал народные песни, вел наблюдения за птицами: он был орнитологом-самоучкой, любил приручать птиц, в том числе ястребов и галок. Его стихи о птичьих гнездах образуют большой цикл, который он мечтал опубликовать отдельной книгой; среди этих стихотворений есть замечательные, например «Гнездо соловья», «Гнездо ворона»… Впрочем, замечателен и сам замысел.
Птичьи гнезда
Как зелен лес! Как свеж весенний воздух! Куда ни поверну – вокруг меня Летанье, щебетанье и возня, Куда ни загляну – повсюду гнезда Таятся в гуще крон, в тени ветвей, Укромные, как маленькие кельи; Вот зяблика плетеный, круглый дом, А выше – домик робкой варакушки, Прилежно устланный травой и мхом, А рядом – чиж скучает без подружки, Посвистывая, чисто соловей, Какая это радость и веселье – Гулять вдоль рощ и кущ в закатный час Под бдительным присмотром стольких глаз.Другим – к счастью, осуществившимся – замыслом Клэра был «Пастуший календарь», цикл больших стихотворений о двенадцати месяцах. Это – чисто описательные, но яркие, интересные стихи, полные движения, красок и звуков. Круговорот времен года увиден в них детскими глазами – еще «незамыленными», любопытными до всего на свете. Сколько раз издатели Тейлор и Хесси упрекали Клэра в бескрылости, в «отсутствии человеческого интереса». Может быть, они и правы, если под «человеком» разуметь взрослого, но в том-то и дело, что в «Календаре» Клэра автор – ребенок, чье сознание лишь полупроснулось. Оно еще не отрефлексировано, зато обладает яркостью сна и абсолютным бескорыстием.
На мой взгляд, в своем «райском», радостном восприятии мира Джон Клэр чрезвычайно близок Кристоферу Смарту, автору «Ликований об Агнце» и «Гимнов, написанных на забаву детворе». Есть у Клэра и безусловное родство с автором «Песен невинности», о котором он еще тогда, в 1824 году, проницательно написал, что «слава Блейка будет возрастать неудержимо, как морской прилив».
Помещенный в этот ряд: Кристофер Смарт – Уильям Блейк, – Джон Клэр оказывается в своем истинном контексте; становится понятней и его «безумие», и неистребимая детскость, и тайный героизм его судьбы.
IX
Здесь будет уместно рассказать об одной проделке Клэра, на которую биографы обращают мало внимания, но которая мне кажется очень важной. Еще до выхода своего первого сборника Клэр увлекся поэзией XVI–XVII века, и этот интерес, несмотря на скудость имеющихся в его распоряжении книг, с годами лишь усиливался. В январе 1824 года он послал редактору газеты «Радуга» в Шеффилде стихи под названием «Тщеты жизни» в сопровождении письма, в котором сообщал:
я скопировал эти строки с рукописного текста, записанного на чистых страницах старинной книги, озаглавленной «Сокровище Мира, Сборник отменных Советов на все Случаи Жизни в стихах и в прозе, отпечатанный для А. Бетсворта под вывеской красного Льва в Патерностер-лейн год 1720» они кажутся навеянными чтением этой книги и написаны в манере той компании среди которой я их нашел мне думается они не хуже многих других старинных стихотворений сохраняемых с куда большим тщанием и под таким впечатлением я решился послать их вам надеясь что они смогут найти приютный уголок и спастись от забвения в вашем занимательном литературном издании но если я опрометчиво переоценил достоинства этих стихов прошу меня простить за потерянное время и труды…
Разумеется, все это, включая название книги, было чистейшей мистификацией. Но мистер Монтгомери, редактор, заглотал крючок и напечатал стихотворение на страницах «Радуги», тщательно воспроизведя историю их открытия, по Клэру Вдохновленный этим опытом, Клэр в последующие два года сочинил, разослал (подписываясь разными именами) и опубликовал в английских газетах, журналах и другие «счастливые находки», в том числе «О смерти» Эндрю Марвелла, «Отвергнутую любовь» сэра Джона Харринг-тона, «Мысли на кладбище» Генри Уоттона, «Цыганскую песню» Томаса Дейвиса и «Попрекай или дразни» Джона Саклинга. В мае 1826 года, когда Монгомери решил включить «Тщеты жизни» в сборник религиозной поэзии и попросил разрешения взглянуть на рукопись, Клэр чистосердечно во всем сознался и так объяснил мотив своего «преступления»:
Я давно питал любовь к поэзии елизаветинской эпохи, хотя у меня никогда не было возможности познакомиться с ней глубже, чем позволяли узкие рамки «Английских песен» Рит-сона, «Образцов» Эллиса и уолтонского «Рыболова»[28]; позапрошлой зимой, несмотря на сильную болезнь, я написал ряд стихотворений в этой манере, постаравшись воспроизвести ее как можно лучше, и намереваясь напечатать свои стихи под именем старых поэтов, хотя произведения некоторых из них я и в глаза не видел…[29]
Надо сказать, что Клэр ввел в заблуждение не только Монтгомери; его поделки попали и в другие антологии, и даже через десять лет после его смерти, в 1873 году, в печати еще шел спор, подлинные это стихи или нет. Невольно вспоминается «честоновская трагикомедия The Covetous Knight», из которой Пушкин якобы перевел своего «Скупого рыцаря» и дискуссия о которой до сих пор не смолкла. Литературные проказы были в духе того времени.
Впрочем, для Клэра это было не просто мистификацией, но проявлением искренней очарованности поэзией той эпохи, о чем лучше всего свидетельствует запись в его «Дневнике» от 8 сентября 1824 года, которую можно назвать: «Сон наяву после чтения „Рыболова“ Уолтона». Клэр представляет себя на берегу реки в компании поэтов – «которым я недостоин и шнурки развязать на туфлях» – и тем не менее обходящихся с ним весьма любезно и запросто. Среди них Исаак Уолтон, сэр Генри Уоттон, сэр Уолтер Рэли, доктор Донн, Чарльз Коттон и Джордж Герберт. Некоторые из них декламируют отрывки из своих стихов, группка цыган напевает «Цыганскую песню» Фрэнка Дейвисона, – как вдруг брызнувший дождик заставил их поспешно смотать удочки и укрыться под сенью огромного сикомора, где прекрасная пейзанка, только что с сенокоса, спела им «нежнейшую из мелодий, сочиненных Китом Марло», после чего вся компания отправилась в таверну и провела ночь, предаваясь веселью и воспоминаниям.
«Нежнейшей из мелодий» Кристофера Марло (1564–1593) может быть только его знаменитое стихотворение (сразу положенное на музыку) «Влюбленный пастух – своей возлюбленной»:
Пойдем со мной и заживем, Любясь, как голубь с голубком, Среди лугов, среди дубрав, Среди цветов и горных трав.Знаменитым стало и стихотворение сэра Уолтера Рэли под названием: «Ответ нимфы влюбленному пастуху»:
Будь вечны радости весны, Будь клятвы пастухов прочны, Я б зажила с тобой вдвоем, Любясь, как голубь с голубком…«Дневник» Клэра доказывает, что он знал стихотворение Марло «Come live with те and be ту love». В сущности, я в этом не сомневался с тех пор, как впервые прочел грандиозное «Приглашение в вечность», написанное Клэром в 1844 году в Нортемптонской больнице для душевнобольных. Это стихотворение читается как дальнейшая реплика в споре: ответ пастуха на ответ нимфы. Но какой это страшный ответ! Нимфа говорит: «Все увядает, поля и горы остывают, весна надежд превращается в зиму печали; ах, если бы юность длилась вечно! – тогда я согласилась бы пойти с тобой». Клэр отвечает: «Не только все увядает и остывает – горы рушатся и миры гибнут; впереди нас – бездна, но если ты не боишься – come live with те and be ту love!»
После выхода в свет «Пастушьего календаря» (1827) Тейлор окончательно отказался быть издателем Клэра: дескать, поэзия сделалась убыточной, печатайтесь, мой друг, в альманахах. После десятилетних напоминаний ему прислали наконец-то счет от издательства, по которому выходило, что а) за три вышедших книги ему практически ничего не следовало и б) что он остался в долгу перед издателями. Клэр не терпел денежных тяжб, все его недоумения и обиды остались в черновиках писем, которые он так и не решился отправить. Лишь в некоторых строках дневника да в стихах прорывается его горькое разочарование в Тейлоре и других лондонских друзьях, которые, как ему казалось, бросили его, оставив терпеть бедствие на хелпстонской мели. К этому времени относится его «Песня старика», в которой есть такие строки (в дословном переводе):
Я не знал, что счастью моему придет конец, – пока, казалось бы, самые сердечные друзья не охладели ко мне, как солнце, которое высокомерно уклоняется от одинокой ночи. Мне не верилось в измену, ибо они не выказывали прямой вражды, а пылкая память напоминала мне об их прежней доброте. И вот я оглянулся и увидел, что все меня покинули, кроме собственной тени.
Между тем в семье Клэра было уже десять человек, включая беспомощных родителей, а основным его доходом являлись дивиденды от капитала, собранного почитателями после издания первой книги («деньги от Фонда»). Эту мизерную сумму высылал ему тот же Тейлор. Долги росли. Здоровье Клэра было подорвано. Его лечили, как было принято в то время, кровопусканием, пиявками, жестокой (на хлебе и воде) диетой и так далее. Если эти средства окончательно не доконали больного, благодарить следует лишь его врожденную крестьянскую живучесть, а не докторов. Но едва чуть-чуть отпускало, как он снова брался за стихи и прозу, и снова ему приходилось барахтаться в море разнообразных житейских забот. Глубокая меланхолия становилась фоном жизни поэта, созданного для радости, умеющего извлекать ее крупицы из самой невзрачной жизненной руды. Дважды подряд в своих письмах он цитирует горькую мудрость Соломона: «Сын мой, лучше умереть, чем быть бедным».
После того как иллюзии литературных заработков испарились, единственной надеждой стало получение в аренду дома с небольшим участком, чтобы кормиться от земли крестьянским трудом. После нескольких лет обращений к местным землевладельцам, обещаний и проволочек его покровителям удалось найти подходящий дом в деревне Нортборо, неподалеку от Хелпстона. Местность вокруг была менее лесистой, проще говоря, вокруг простиралась болотистая равнина, но сама деревня была красивой и обсаженной деревьями. Дом под соломенной крышей делился на шесть комнат, включая три спальни, просторную кухню и кабинет Клэра, за домом был огород и сад, в котором Клэр высадил множество яблонь, груш, кустарников и цветов, к саду примыкал выгон для двух коров. По сравнению с хелпстонскими условиями это был просто дворец.
И тем не менее переезд для Клэра сделался причиной глубокой депрессии, которую нетрудно объяснить. Его тоска по старому месту была, в сущности, тоской по прошлому. Ему не хватало знакомых деревьев, на которые он привешивал качели, вороньих гнезд на сосне. В стихотворении «Воспоминания» он перечисляет все милые названия детства, всю эту звучащую географию утраченной страны: Опушка Лэнгли, Футбольная Лужайка, Звенящий Ручей, Холодный Холм, Лягушачий Затон, Круглый Дуб… Нужно еще знать, какое значение Клэр придавал понятию «самости» («identity»). Утратив то, что его окружало, он испугался, что может потерять самого себя. Для поэта такой чуткости и ранимости всякая чужбина (пусть даже расположенная в нескольких милях от родного дома) есть инобытие, всякое переселение – репетиция смерти. Он запаниковал – так ничтожно мало еще сделано для бессмертия. И тогда ему снова начали сниться сны о Мэри Джойс.
XI
Голубоглазая девочка, «самая молчаливая и добронравная в школе», она была на четыре года его младше. Но разница, должно быть, не бросалась в глаза, потому что Клэр всегда был невысокого роста (как и Ките, который стеснялся танцевать, оттого что был коротышкой). Они гуляли и играли вместе и болтали о том, о чем болтают дети за игрой, но он вспоминает в автобиографических записках, как внезапно холодело и трепетало его сердце, когда он касался руки Мэри.
Потом он перестал ходить в школу в Глинтон и не видел ее несколько лет. Они снова встретились в Мартынов день на деревенских посиделках. Играли в фанты. Она раз за разом выбирала его и, краснея, платила штраф поцелуем. Они стали часто встречаться. Ему было уже семнадцать, а ей в ту зиму только исполнилось тринадцать – по деревенским понятиям, девушка, почти невеста (да и по веронским – тоже).
Но она была дочерью фермера, а он – нищим батраком без ясного будущего, а значит – ей не пара. Он все больше думал об этом, и ему казалось, что она думает о том же. Все его стихи к ней остались утаенными, романтические признания невысказанными. Их свидания, прогулки по весенним полям и дорогам постепенно сошли на нет. Ему нужно было что-то делать ради хлеба насущного, искать работу, постоянное место. После 1816 года они, кажется, больше совсем не встречались.
Но Мэри осталась в его стихах, в его воспоминаниях. Чтобы не обижать Пэтти, он старался не упоминать в стихах имени своей первой любви, скрывая его за тремя звездочками. Но утаенное чувство продолжало жить в нем. И настало время, когда оно его спасло.
Погубило и спасло. Тогда, в Нортборо, он очутился на распутье. Можно было оставить «поэтическую блажь» и попытаться стать просто крестьянином. В сущности, у него не было другого выхода. Он устал жить на ничтожные подачки, которые никак не покрывали расходов семьи. Батрацкий сын, отравившийся в юности стихами, он жил как сомнамбула, стремящийся к одной недостижимой цели. Он сам понимал неуместность, раздвоенность своей жизни.
«Когда бы все люди чувствовали, как я, человечество не могло бы существовать – зелень полей лежала бы нераспаханной, деревья не рубили бы на дрова или на мебель и люди сохраняли бы мир таким, каким они нашли его в детстве, до самой своей смерти». Поразительно, но здесь почти дословное совпадение с Пушкиным (хотя и несколько другая мотивация): «Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии! Но нет: тогда б не мог / И мир существовать; никто б не стал / Заботиться о нуждах низкой жизни; / Все предались бы вольному искусству» («Моцарт и Сальери»).
Клэр не мог предаться вольному искусству как «праздный счастливец»; но он не мог и предать триединый идеал, к которому тянулся с юности: красоты, бессмертия, поэзии. Мэри Джойс явилась к нему как воплощение этого идеала: призрачная опора, ангел-хранитель его снов и яви.
Он вспоминает и записывает в дневник давний сон, приснившийся ему еще тогда, когда он не напечатал ни строчки стихов. Она предстала перед ним, улыбаясь своей завораживающей улыбкой, вызвала из дому и повела его на поле, называемое Хилли Сноу. Вокруг было множество народа, дамы в пышных платьях, какие-то солдаты верхами, упражнявшиеся в сабельных приемах, толпа кишела как на ярмарке. Он поразился своей малости в этой толпе и смущенно спросил ее, зачем она позвала его в это огромное скопище людей, когда его единственное желание и радость – быть в одиночестве со своими мыслями. «Ты лишь один из этой толпы», – произнесла она и быстро повела его прочь. В следующий момент они оказались в городе, в книжной лавке, и там на одной из полок он увидел три тома со своим именем на переплете. Он недоуменно оглянулся на нее – и проснулся.
Другой сон, который он записал, был как бы видением Судного дня: много людей, спешащих по улице в сторону церкви, неестественный цвет неба и солнце, светящее каким-то лихорадочным, «лунным» блеском. В переполненном людьми храме она оказалась рядом – облаченная в белые одежды, как ангел-хранитель. Из угла часовни струился таинственный свет, оттуда должен был прозвучать окончательный приговор всему, что человек совершил на земле. Он услышал свое имя – и в этот миг «водительница моя улыбнулась озаренная радостью и губы ее прорекли что-то такое отчего мое сердце исполнилось спокойствием и счастьем…»
Я проснулся под звуки тихой музыки переполненный отрадой и печалью и продолжал говорить с ней наяву как будто она все еще склонялась надо мной – Эти грезы в которых она присутствовала как прекрасное женское божество подарили мне представление об возвышенной небесной красоте и ее приходы ночь за ночью оставили такие яркие следы в моей памяти – божественные отпечатки снов – что я не мог больше сомневаться в ее существовании…
XII
Не следует преувеличивать наивности Клэра, его «литературного целомудрия». Разумеется, за этими снами стоят великие литературные прототипы, прежде всего Данте, автор «Новой жизни» и «Комедии», певец Беатриче. Его венчанная жена Джемма ни разу не упоминается в его произведениях. Заметим, кстати, что Данте впервые увидел Беатриче, когда той было девять лет – почти как Мэри Джойс в год ее встречи с Клэром. Ангельское очарование детства, несомненно, отразилось на сакрализации образа возлюбленной у обоих поэтов: первое впечатление – самое сильное.
Можно вспомнить и Петрарку, и – ближе – Китса с его пророческими снами. Так, в «Оде Праздности» (1819) перед мысленным взором поэта проходят три символические фигуры: Любви, Честолюбия и Поэзии. В пароксизме тоски и безволия он гонит их из своей жизни и навеки прощается с этими тревожащими, демонскими образами:: «Прочь, тени, прочь из памяти моей / В край миражей, в обитель облаков!»
Напрасно: Ките был не в силах изгнать из памяти эту триаду – любовь, поэзию и жажду славы. Он тоже нуждался в поддержке, в женственном воплощении своего идеала; но Фанни Брон была слишком живой, слишком земной женщиной для того, чтобы соответствовать этому тройному образу.
Клэру было «проще»: Мэри Джойс уже давно перешла из плана реального в реальнейший, то есть идеальный. Став символом тоски и утраты, она утвердила свое место рядом с ним и в трудную минуту вдохнула в него силу сопротивления судьбе. Она стала его музой, ангелом-хранителем его дней и ночей; удивительно ли, что со временем он стал считать ее своей первой женой?
В 1835 году вышел последний, изданный по подписке сборник Джона Клэра «Сельская муза». Это было навязанное ему название, оригинальная рукопись Клэра называлась «The Midsummer Cushion» – «Летний коврик»; был такой старинный крестьянский обычай – вносить в дом вырезанный на лугу кусок дерна с цветами и украшать им комнату как ковриком. Последовало несколько благожелательных рецензий, несколько добрых писем от старых и новых знакомых – и все. И глухая безнадежность опять сомкнулась над ним.
Часы мои ползут, но время не идет, Я чувствую себя лягушкой, вмерзшей в лед.Но Клэр не сдавался. Он продолжал записывать в свою рабочую тетрадь все новые и новые стихи – как пишут его биографы, «ужасными самодельными чернилами». Их рецепт тоже сохранился среди бумаг Клэра: «Возьмите 3 унции растолченных дубильных орешков поместите в полторы пинты дождевой воды дайте постоять три дня добавьте полторы унции позеленевшей меди и кусочек медного купороса и встряхивайте каждый день перед употреблением».
Этими «ужасными» чернилами он писал стихи о бродягах и отверженных, о живущих в лесу «одиноких испуганных тварях» (выражение Шеймаса Хини): птахах, ежах, зайцах, барсуках… В этих стихах все больше напряжения и тревоги, все меньше проблесков безмятежной радости.
Клэра опять донимает депрессия. Письмо доктору Дарлингу в Лондон поражает беспомощностью, почти отчаянием:
…я очень болен, не могу описать что я чувствую но попытаюсь как смогу – любые звуки сделались мне невыносимы разные мысли хорошие и плохие беспрестанно кружатся в моем мозгу я не могу спать по ночам лежу с открытыми глазами и чувствую холод пробегающий по телу и вижу какие-то кошмары наяву прошлая ночь не принесла мне никакого облегчения…
Обратите внимание на фразу о невыносимости любых звуков. Она объясняет начало стихотворения, которое по-английски начинается словами «I hid ту love» – в частности, строку о «мушином звоне». Это стихотворение, наверное, одно из лучших в любовной лирике Клэра:
Любовь так долго я таил, Что белый свет мне стал немил; Мушиный звон меня терзал И солнце жгло мильоном жал. Я ей в глаза взглянуть не мог; Но каждый под ногой цветок, Прекрасный, словно божий рай, Казалось, мне шептал: «Прощай». Мы снова встретились в лесу, Где колокольчик пил росу; В жемчужно-серый ранний час Я был обласкан синью глаз. Ее скрывала дебрей мгла, Ей пела песенку пчела, И луч, скользя в листве густой, Дарил цепочкой золотой. Любовь так долго я таил, Что ветерок меня валил; Я всюду слышал дальний зов, В жужжанье мух – рычанье львов; И даже тишина могла Меня пугать из-за угла; И жгла, как тайна бытия, Любовь сокрытая моя.XIII
В ноябре 1836 года в Нортборо неожиданно заявился Джон Тейлор. Он привез с собой доктора для освидетельствования здоровья Клэра. По словам самого Тейлора, Клэр выглядел как обычно, разумно отвечал на все вопросы, смеялся, вспоминая смешные происшествия в Лондоне. Лишь иногда что-то невнятно бормотал себе под нос. Если прислушаться, можно было расслышать нечто вроде: «боже спаси», «боже оборони докторов»… То ли «докторов», то ли «от докторов» – Тейлор не понял. Однако он сделал вывод, что разум Клэра пошатнулся. Приезжий врач был того же мнения и рекомендовал поместить Клэра в лечебницу. Тейлор сразу же нанес визит местному пастору Чарльзу Моссопу, который обещал переговорить с графом Уильямсом (чьим арендатором был Клэр) о больнице.
Что-то в этой истории остается для меня не совсем ясным. Прежде всего, по чьей инициативе возник вопрос о медицинском освидетельствовании? Не мог ли в этом с самого начала участвовать преподобный пастор Моссоп или, может быть, сама Пэтти Клэр? Последнее представляется вполне вероятным.
Ясно, что у Пэтти накопилось немало поводов для недовольства своим мужем. Работником он был никудышным, постоянно то болел, то хандрил, то чудил, то писал свои бесконечные вирши, от которых шло одно расстройство. Правда, он нежно любил детей (у них было три сына и четыре дочери), заботился об их образовании, выписывал и доставал для них самые лучшие и полезные книги. Согласно семейному преданию, он не мог видеть, как детей наказывали, и порой, когда Пэтти сгоряча пыталась вздуть кого-то из них, предлагал, чтобы взамен вздули его самого. И все-таки он, со всеми своими странностями и непонятными хворями, мог казаться обузой. Человек, занимающийся бесполезным и неприбыльным делом, в крестьянской среде всегда считался ненормальным. (Впрочем, не только в крестьянской и не только в те времена.) Пэтти никогда не понимала занятий мужа, зато она была сильной и энергичной женщиной. Она терпела его стихописание, пока оно не стало совсем гиблым делом. К тому же, в последнее время Клэр явно рехнулся, вообразив, что у него две жены: Мэри Джойс, которой он не видел уже двадцать лет, и она, Пэтти. Не всякая женщина такое выдержит.
Говорили еще о пьянстве Клэра. Но это, по-видимому, было злостной сплетней. Он мог выпить и даже немного пошуметь – но пьяницей не был тем более буйным. Ни в молодости, ни в зрелые годы, ни в старости. Это мы знаем точно, ведь более двадцати пяти лет Клэр провел в больницах, под наблюдением врачей, внимательно следивших за его поведением.
Итак, Тейлор условился с преподобным мистером Моссоном, что тот обратится с графу Уильямсу по поводу Клэра. Пока граф думал (а в те времена лорды думали неспешно), миновало несколько месяцев, и тем временем в голову Тейлора пришла удачная мысль. Незадолго до этого он напечатал книгу известного врача-психиатра Мэтью Алена «Опыт классификации душевнобольных». При очередной встрече он переговорил с ним. Под покровом глубокой секретности были сделаны все нужные приготовления. Наконец, в июне 1837 года посланец доктора Алена появился в Нортборо. При нем была записка Клэру от Джона Тейлора, в которой говорилось: «Податель сего привезет Вас в Лондон. Положитесь на него полностью… Вам будет оказана полная медицинская помощь неподалеку от города, которая вас совершенно исцелит».
Через несколько дней Клэр находился уже за восемьдесят миль от своего дома, в местечке Хай-Бич возле Эппинг-парка, к северу от Лондона, где располагалась частная психиатрическая лечебница доктора Алена.
XIV
Здесь я хотел бы поделиться с читателями некоторыми собственными соображениями, может быть, и неверными – ведь я не специалист. Я думаю, что большая часть так называемых душевных расстройств имеет не физиологический, а социальный характер – и в смысле причин, и в смысле симптомов. Бедняка, окруженного голодной семьей и погруженного при этом в мечты стихотворства, безусловно сочтут сумасшедшим. Поместите этого же человека в барский дом, снабдите деньгами и штатом слуг – никому и в голову не придет объявить его больным, любые его эксцентричности будут трактоваться как милые чудачества.
Да и откуда взяться депрессии при хорошей жизни? Другое дело, если человек посвящает себя неустанному поэтическому труду, одновременно борясь с собственным невежеством, с отчаянной нуждой и сопротивлением косной, равнодушной среды. Такое давление прогнет любую душу. Но вспомним, как быстро проходили многие скорби и болезни Клэра, едва его пригревало солнце удачи, дружества и счастливого рассеянья от забот.
В Хай-бич, после неизбежного первого шока, он должен был почувствовать облегчение: лечебница доктора Алена дала ему передышку. Отметим, что это было одно из самых передовых заведений такого рода в Англии. В стране, где еще недавно понятие «сумасшедший» ассоциировалось с цепями и плетьми Бедлама, Алену удалось создать нечто вроде семейного пансиона для душевнобольных, где врач со своими подопечными жили в одном большом доме как добрые соседи, где устраивались игры, танцы и всевозможные совместные развлечения. Клэр получил полную возможность свободно гулять по окрестным полям и лесам («красивее природы я не видывал в жизни», – писал он домой), сочинять стихи, сколько вздумается, и не беспокоиться о хлебе насущном.
Его физическое здоровье намного улучшилось, душевное настроение внешне успокоилось. Но именно здесь, в Хай-Бич, у Клэра развились некие странности, которые биографы называют «маниями». Здесь он стал писать «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана» размером Байрона, причем в записных книжках сохранились наброски объявлений такого типа:
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ НАПЕЧАТАНО –
Новый том стихотворений лорда Байрона
ДОНЫНЕ НЕ СОБРАННЫХ
ВКЛЮЧАЯ НОВЫЕ ГЛАВЫ ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА
песни, фрагменты etc.
Отметим, что если сатирические фрагменты «Дон Жуана» Клэра грубоваты и малоудачны, то «Чайльд-Гарольд», написанный спенсеровой строфой с многочисленными вставными стихотворениями и песнями, принадлежит к числу замечательных произведений Клэра. От Байрона в нем принцип построения и свободная манера лирического изложения, все же остальное – совершенно клэровское, оригинальное. Называть эти вещи доказательствами «мании» или «отождествления себя с Байроном», на мой взгляд, рискованно. Продолжения «Дон Жуана» писались многими (одно такое издание имелось в библиотеке Клэра), как писались продолжения и других знаменитых произведений мировой литературы. Как мы уже говорили, для романтической эпохи были весьма характерны всевозможные литературные «игры в прятки»; Клэр к тому времени уже испробовал свое перо на сочинении «неизвестных стихотворений» Эндрю Марвелла и других старинных поэтов. Разумеется, стилизация или подражание включает в себя элемент самоотождествления с иным автором, но говорить о «мании величия» здесь вряд ли стоит – иначе следует признать «маньяками», например, всех переводчиков.
Не стоит забывать, что кроме понятия «мания» есть еще понятие «маски». Николай Гумилев писал, что искусство творить поэтические маски есть часть искусства творить стихи вообще. При этом «число и разнообразие масок указывает на значительность поэта…»
Мне кажется, что дух игры, актерства был вообще развит в Клэре. Когда ему навязали определенную роль, он почувствовал искушение испытать эту роль, проверить, насколько далеко простираются привилегии безумца. Кроме того, попав в сумасшедший дом (а жизнь в таком месте не сахар, сколь бы передовым оно не было), он использовал маску не только для игры, но и для защиты своего внутреннего «я». Заметим, что такая линия поведения имеет длинную и почтенную традицию в английской литературе начиная с «Гамлета».
Те две-три постоянных мании, о которых пишут биографы, были скорее сознательными масками или ролями Клэра. Роль Байрона укрепляла в нем чувство свободы и поэтической раскрепощенности. Роль Боксера (он вспомнил виденные им в Лондоне бои) давала возможность сбросить излишек обиды, постепенно накапливавшейся в изоляции. Порой ему казалось, как затравленному барсуку, что на него накинулись все собаки мира. «Он вдвое меньше этих бестий злых / Но бьется насмерть, побеждая их!»[30]
В одной из записных книжек мы находим запись, которую можно рассматривать как свидетельство навязчивого бреда, а можно – как патетический монолог, сыгранный на воображаемой сцене.
ВЫЗОВ ДЖЕКА РЭНДЕЛЛА ВСЕМУ МИРУ
Джек Рэнделл Чемпион Призового Ринга
Имеет Честь Сообщить Всему Спортивному Миру
Что Он Готов Встретиться С Любым Противником
На Ринге Или На Сцене
И Биться Против Заклада В 500 или 1000 Фунтовs
С Каждой Стороны
Честный Прямой Полуминутный Бой – Победи Или Проиграй
Вес Цвет Или Страна Не Имеют Значения
Единственное Его Желание
Встретить Противника У Которого Хватит Духу
Выйти На Поединок
Как сказал бы Полоний: «Если это и безумие, в нем есть своя система». Мне она более чем понятна. Вспоминаю, как в аналогичных обстоятельствах, оказавшись на много месяцев отрезанным от дома и друзей, я по много раз в день крутил знаменитую песню «Боксер» Симона и Гофункеля: «In the clearing stands a boxer, and a fighter by his trade / And he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him / 'til he cried out in his anger and his shame / I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains…»[31]
XV
Доктор Аллен и сам полагал, что болезнь Клэра не носит органического характера и что если бы он мог вернуться к семье и дому, но без подтачивающих его здоровье ужасных условий прежних лет, полное выздоровление было бы почти гарантировано. В лондонских газетах был объявлен сбор благотворительных средств: если бы удалось собрать 500 фунтов, это подняло бы доход Клэра до 60 фунтов в год и избавило его семью от нищеты. Последовало несколько пожертвований, из которых самым щедрым было от королевы-матери (20 фунтов), но общая сумма оказалась слишком мала для обозначенной цели; по-видимому, она вся ушла на оплату пребывания Клэра в лечебнице.
Тем временем Клэр все больше и больше тосковал по дому. Примечательны два письма 1841 года к Пэтти Клэр и Мэри Джойс, первое – отправленное, второе – оставшееся в форме черновика, – две мольбы о помощи, путаные и противоречивые.
«…Я Жму Руку Злосчастью И Обнимаюсь С Грозой Весна Улыбается И Я Должен Улыбаться Но Не прежде Чем Я Покину Это Место ‹…› Я предпочту Сносить Невзгоды В Одиночку Чем Обременять Ими Других Я Вернусь В Нортборо Как Только Меня Сменят С Караула Эссекс Прекрасное Графство Но «Дома Лучше» Береги Детей И Пусть Они Водятся С Хорошими Товарищами Тогда Они Будут Не Только Здоровы Но И Счастливы Не Знаю Почему Меня Держат Здесь Я Вполне Здоров По Крайней Мере Уже Два Года Да И Никогда Не Был Слишком Болен Лишь Обременен Беспрестанными Заботами Но Меня Удерживают Здесь Год За Годом Должно Быть Я Обречен Такой Судьбе Лучше Бы Меня Бросили В Трюм Невольничьего Корабля И Отправили В Африку», – пишет он Пэтти[32].
А черновик письма Мэри Джойс начинается так:
Моя дорогая Жена Мэри
Я мог бы сказать моя первая жена и первая любовь и первое всё – но я никогда не забуду мою вторую жену и вторую любовь ибо когда-то я любил ее так же сильно как тебя – и до сих пор почти так же люблю – поэтому я решил вовек не покидать вас обеих – когда я пишу тебе я пишу и ей в то же самое время и в том же самом письме… А заканчивается обещанием скорого свидания с обеими женами:
…поцелуй своих милых детей и передай им привет от пропавшего отца а также детей Пэтти и скажи Пэтти что ее муж остался таким же, каким был в день свадьбы двадцать лет назад сердцем и душой – Благослови Бог вас обеих со всеми семействами будьте здоровы и счастливы потому что я скоро с помощью божьей снова буду дома со всеми вами – моя любовь к тебе милая Мэри не изменилась а лишь возросла в разлуке…
Тем же летом 1841 года Клэр бежал из Хай-Бича.
XVI
Сперва он рассчитывал на цыган, которые обещали ему спрятать его в своем лагере и показать дорогу на север, в Нортгемптоншир, но цыгане неожиданно исчезли. Промаявшись ожиданием два дня, он решился обойтись без их помощи и выступил в путь самостоятельно. При нем не было ни гроша, ни еды в дорогу, лишь трубка, табак в кисете и надежда дойти. Он ночует где придется – на чужом сеновале, на голой земле, в канаве, мерзнет и дрогнет, четыре дня и три ночи обходится без куска хлеба, ест траву, жует табак, когда кончаются спички, сбивает ноги, выбивается из последних сил, но добирается до цели.
По пути он ведет краткие записи, по которым в первые дни своего возвращения составляет подробный отчет о побеге и о восьмидесятимильном походе через четыре графства. Он и здесь играет в мальчишечьи игры: то руководит сам собой как полководец, то, как капитан, фиксирует в бортовом журнале новые острова и их обитателей.
Джон Клэр. Фрагмент портрета Томаса Гримшоу, 1844 г.
20 июля Сегодня разведал дорогу указанную мне Цыганом и нашел ее пригодной для передвижения своей армии из одного человека вооружился мужеством и двинулся в поход мои верные войска последовали за мной однако из-за небрежно проложенного маршрута я пропустил дорогу ведущую в Энфильд и маршировал по большаку пока не поравнялся с трактиром «Пустые хлопоты» здесь мне повстречался только что вышедший из трактира знакомый подсказавший верное направление ‹…›
21 июля Когда я проснулся было уже светло и боясь как бы мой гарнизон не был взят внезапным штурмом и захвачен в плен я оставил свое пристанище возблагодарив Бога предоставившего его мне (ибо в голодный год что-то лучше чем ничего и любое место дающее отдых усталому путнику благо) и отправился по дороге на север искусно лавируя между полей и деревушек…
На четвертый день пути он наконец добрался до Питерборо, где встретил знакомых крестьян из Хелпстона, возвращающихся домой. Они дали ему несколько пенсов, на которые он перекусил в ближайшем трактире. Они же, по-видимому, сообщили Пэтти новость – она встретила его за четыре мили от Нортборо на телеге с лошадью.
Сначала он ее не узнал и даже отказывался сесть в телегу. По этому поводу биограф Клэра глубокомысленно замечают, что «отношения с самыми близкими родственниками бывают труднее всего для душевнобольных».
А, может быть, дело обстоит проще и перед нами всего лишь была просто поэтическая драматизация момента возвращения, сымпровизированная Клэром? Прошло столько лет, что Пенелопа не узнает Одиссея (или Одиссей Пенелопу).
XVII
И вот после восьмидесятимильного голодного похода Клэр снова дома, так сказать, в кругу семьи. Три дня он пишет свои дорожные записки, ставит дату – 27 июля 1841 года – и в той же тетради начинает письмо к Мэри Джойс:
Моя дорогая Жена,
Я сочинил отчет о своем путешествии или точнее сказать бегстве из Эссекса ради того чтобы ты могла развлечься на досуге – Мне следовало раньше сообщить тебе что я еще в пятницу вечером вернулся в Нортборо но не видя тебя и ничего о тебе не слыша я скоро почувствовал себя бездомным в своем доме и безнадежно несчастным – хотя и не таким одиноким как в Эссексе потому что отсюда я все-таки вижу шпиль Глинтонской церкви и чувствую что моя Мэри близко… и хотя мой дом мне больше не дом но есть еще надежда пока память о Мэри живет рядом со мной…
Сохранился и черновик его письма к доктору Алену, в котором он объясняет свой побег: «…я могу сносно жить в любом положении и в любом месте хотя бы и в вашем доме возле леса если бы друзья порой вспоминали обо мне и навещали меня – но самое нестерпимое в таких местах как ваше это тупые служители и санитары которые порою так помыкали мною как будто я был их узником я смирялся с этим по своей нелюбви к ссорам но в конце концов слишком устал от всего и услышав голос свободы повиновался ему…»
Кончилось лето и настала осень 1841 года – последняя осень Клэра на свободе. Наши сведения об этих месяцах довольно скудны. Мы знаем только, что Клэр работал над окончанием «Чайльд-Гарольда» и, по-видимому, был весь углублен в стихи и чтение – в то время как за его спиной шли переговоры о его дальнейшей судьбе. Тейлор писал доктору Алену, что, по мнению доктора Дарлинга, Клэр мог бы оставаться дома. В ответном письме Ален сообщает, что Пэтти находит состояние мужа намного лучше и согласна оставить его на испытательный срок. Ален был готов, если Клэру станет хуже, снова принять его у себя в Хай-Биче.
Далее все неожиданно и необъяснимо катится под горку. В декабре 1841 года – неизвестно, по чьему вызову – в Нортборо прибывают двое местных врачей, Фенвик Скримшир из городской больницы Питерборо и Уильям Пейдж. Они составляют свидетельство о душевной болезни Клэра. В нем утверждалось, в частности, что болезнь носит наследственный характер (никаких подтверждений тому не найдено до сих пор!), что последнее «обострение» случилось четыре года назад, и особо подчеркивался факт его бегства из лечебницы доктора Алена. В то же время признавалось, что никакой агрессивности по отношению к окружающим или к себе Клэр не проявлял, что поведение его не обнаруживало «слабоумия, озлобления или неопрятности». На обязательный для таких свидетельств вопрос, «какие жестокие потрясения или длительные умственные напряжения» могли привести к умопомешательству, врачи ни словом не упомянули бедность, одиночество, обманутые надежды, острую душевную ранимость. Причиной болезни медики назвали «многолетнее пристрастие к стихописанию».
С таким веселым диагнозом Клэр был отправлен в Нортгем-птонскую общую лечебницу для душевнобольных. 29 декабря 1841 года за Клэром приехали санитары. На этот раз его волокли насильно, он громко протестовал и вырывался.
За пребывание в больнице (около десяти шиллингов в неделю – такса для неимущих) согласился платить местный землевладелец лорд Фицвильямс.
XVIII
Директором Нортгемптонской лечебницы в 1841–1854 годах был Томас Причард, человек по-своему передовых взглядов в психиатрии. Как и доктор Ален, он не применял примитивно жестоких методов, чтобы укрощать своих больных. У него были свои подходы.
Сей, по мнению некоторых современников, полубезумный эскулап настолько верил в превосходство своей воли над волей пациентов, что предпочитал воздействовать на них месмерически, даже на расстоянии. Те больные, которых он классифицировал как «неопасных», получали значительную свободу: они могли бродить без опеки в окрестностях больницы, а также ходить в Нортгемптон, до которого была всего миля пути.
Клэр сразу попал в «безвредные» и, несмотря на числящийся за ним «побег», получил разрешение свободно гулять и ходить в город когда вздумается. Там, под каменным портиком церкви Всех Святых, он, бывало, проводил целые часы. Горожане любили его и нередко подносили стаканчик пива или пару унций табака. По просьбе мецената он мог расплатиться стихами, которые на ходу сочинял. По городу ходило множество его шутейных, питейных, галантных и сатирических экспромтов; все они со временем затерялись и пропали.
Доктор Причард полагал, что, несмотря на укрепившееся физическое здоровье, в умственном плане Клэр постепенно деградирует и его безусловно ждет полное слабоумие. Доктор Причард ошибался. Редкие посетители, видевшие Клэра в 1840-х и 1850-х годах, отмечают его здравые разговоры о литературе, удивительную память и живое воображение: он умел рассказать о казни Карла I, о Битве у пирамид или о смерти Нельсона так, как будто он сам был очевидцем этих событий.
При этом он мог в разговоре с тем же посетителем процитировать стихи Байрона или Шекспира (или любого другого поэта) как свои, а на недоуменный вопрос собеседника ответить: «Да-да, я именно он и есть; просто меня порой называют Шекспиром, порой Байроном, порой Клэром». Ваша воля принимать эти слова буквально; на мой взгляд они не более безумны, чем многое другое, что говорят поэты или (например) во что верят последователи Будды.
Казалось бы, привычка писать легкие стихи для милосердных самаритян, угощавших его в трактире, а также для самаритянок, с которыми он входил в какие-то загадочные отношения (женские лица всегда волновали его, и Мэри Джойс, его «небесная» любовь, была не помехой для мадригалов земным красоткам), казалось бы, эта профанация своего поэтического дара должна была привести к его вырождению и угасанию. И однако именно тогда, в сумасшедшем доме, ему удалось выйти на новый уровень письма и создать несколько удивительных по своей пронзительности стихотворений.
Так иногда бывает у поэтов, потерявших друзей, потерявших читателей (вспомним хотя бы Павла Вяземского в старости), и, вне зависимости от обстоятельств, каждый раз – это пример верности музам и крепкой веры в поэтическое бессмертие.
Самое известное из этих поздних шедевров Клэра – стихотворение «Я есмь».
Я есмь – но что я есмь, не знаю; слово Забыто, какя сам для всех забыт; Я есмь самоуправец бестолковый И самоед – ловец своих обид В мучительных, туманных снах былого; И все-таки я есмь…Клэру было суждено провести в Нортгемптонской больнице целых двадцать три года. Я думаю, с годами ему становилось все страшнее и тяжелее, но он не позволял себе показывать это, чтобы окончательно не сойти с ума. Время от времени он писал детям и в ответ получал короткие ничего не значащие записки с приветами от родных и знакомых. Почти в каждом из его писем, ровных и спокойных, найдется одна неловко торчащая, ни к селу ни к городу вставленная фраза: «в гостях хорошо, а дома лучше».
Лишь иногда в письмах к Пэтти слышится безнадежное: возьми меня из этого ада, из этой земли Содомской.
– это английская Бастилия правительственная тюрьма где невинные люди томятся и мучатся пока не умрут – Английское жречество и английское рабство более свирепо чем рабство Египетское и Африканское когда сын страны в свои мужественные годы заперт и лживым обманом разлучен с лучшими мыслями своего детства – не смея обнаружить свою память о доме и любовь к близким – пребывая в мире как в темнице в отлучении от всех своих друзей – Я хочу, чтобы читатель на этом месте сделал вдох, чтобы читать дальше:
– и все-таки Правда лучший товарищ ибо она сносит все перегородки лжи и притворства – Правда входит ли она на Ринг или в Палаты Правосудия выдвигает простого Человека которого не испугать призраками громких слов полных ярости но ничего не значащих… – честный человек разоблачает мерзких жрецов этих лжецов и подлых трусов позорящих Христианство – я ненавижу и презираю этих трусов – В Откровениях они припечатаны заглавными буквами как «Блудница Вавилонская и матерь Блудниц» не значит ли это Жречество я думаю что именно так – это вздорное ханжество должно исчезнуть – как и всякое другое – Я начал письмо а кончил проповедью – да и бумага кончается тоже…
Это не настоящее письмо, а лишь сохранившийся черновик; можно предположить, что гневные строки против английского Жречества не были отправлены Пэтти – в черновиках Клэр всегда давал волю тем чувствам, которые он предпочитал сдерживать на людях; и все-таки сила его негодования поражает – вспоминается Блейк с его ненавистью к Английской церкви, вспоминается saeva Indignatio из эпитафии Свифта[33].
В своей собственной эпитафии, написанной за десять лет до смерти, он просил написать лишь несколько полных смирения слов. Вот эта запись из Нортгемптонского дневника:
Я бы хотел лежать там, где Утреннее и Вечернее солнце могло бы подольше светить на мою Могилу. Пусть моим надгробьем будет грубый неотесанный камень, вроде жернова, чтобы шаловливые мальчишки ненароком его не сломали, и пусть на нем будут только эти слова: «Здесь покоятся надежды и прах Джона Клэра». Не нужно никаких дат, ибо я хочу жить или умереть вместе со своими стихами и прочими писаниями, которые, если потомство найдет их достойными, заслужат сохранения, а если нет, то не заслужат.
Джон Клэр (1793–1864)
Поэт-крестьянин
Любил он в мае плеск ручьев, И ласточек полет, И выгон, пестрый от цветов, И в тучах небосвод. Когда он слышал грома гул, То был Господень гром, В вечерней мгле на берегу Стоял Пророк с жезлом. Любое в мире существо, Букашка и паук, Священным были для него Твореньем Божьих рук. От роду молчалив и тих, Задумчив с детских лет, Крестьянин в тяготах своих, В мечтаниях – поэт.Вечерняя звезда
О Геспер, гаснет небосвод, Густеет сумрак быстро; В тебе одном сейчас живет Земной надежды искра. О Геспер, на траву легло Тумана полотенце, Как будто млечное тепло, Дыхание младенца. О Геспер, ты своим лучом Ласкаешь мир влюбленно; Роса невидимым дождем Кропит земное лоно. О Геспер, отблеск твой дрожит, Как влага на реснице, И пилигриму говорит О том, что все простится.Сидел на иве ворон
Сидел на иве ворон И перьями сверкал, А пахарь шел за плугом И громко распевал: «Свежа, как розовый бутон, Молочница моя, Я по уши в нее влюблен, А девица – в меня!» Так пел крестьянин на ходу, Ведя по пашне борозду. «Не нужно мне палат златых, Богатства в сундуках, Люблю молочницу мою С румянцем на щеках. Когда она доить коров Шагает по росе, Она, как Феба, хороша В простой своей красе!» Так пахарь пел, и все вокруг Звенело песней – лес и луг. «Моя любовь резва, юна, Жизнь за нее отдам, В холщовом платьице она Не хуже модных дам. Нежна, как лилия в лугу, Как в гнездышке птенец…» Встряхнулся ворон на суку И каркнул: – Молодец! Так пахарь на ходу слагал Свой деревенский мадригал. Наш ворон тоже был влюблен И, чувствами объят, Старался тоже сверху он Прокаркать что-то в лад. А пахарь шел и глотку драл И нажимал на плуг, И громким эхом отвечал Ему весь мир вокруг: «Люблю молочницу мою И во всю мочь ее пою!»Видение
Я к небесам утратил пыл, От похотей земных устал, Я сон прекрасный возлюбил – И Ад против меня восстал. Ценой утраченных отрад Стяжал я вдохновенья дар И, радости бессмертной бард, Возжег в душе небесный жар. Любимую я потерял, В ней было все мое добро; Но я у солнца луч украл И превратил его в перо. Я жизнь и славу пережил, Преодолел земную глушь И дух свой вольный приобщил К бессмертному созвездью душ.Приглашение в вечность
Пойдешь ли, милая, со мной – о девушка, пойдешь ли ты в туман и холод ледяной, в ущелья мглы и темноты – туда, где не видать не зги, где в никуда ведут шаги и ни звезды во мгле ночной, – пойдешь ли, милая, со мной? Где вал восстанет выше скал, и в прах осядет горный кряж, и превратится пик в провал, и мир исчезнет, как мираж, – не испугаешься ли тьмы, где будем мы – уже не мы, где нет ни рук, ни губ, ни глаз, где братья не узнают нас? Пойдешь ли, милая, со мной в ту смерть, несходную с земной, где станем вместе ты и я жить без имен и бытия – жить вечно – и ничем не быть, лишь зыбкими тенями плыть в пустой бездонности небес – другим теням наперерез? Готова ли ты жить, скажи, в таком краю, где нет межи меж настоящим и былым, где мертвые равны живым? Тогда ступай вослед за мной глухой стезей в туман ночной. Не бойся пугал тишины – мы с вечностью обручены.Я есмь…
Я есмь – но что я есмь, не знаю; слово Забыто, как я сам для всех забыт; Я есмь самоуправец бестолковый И самоед – ловец своих обид В мучительных, туманных снах былого; И все-таки я есмь, я жив – болит Душа, но я живу – в забвенье, в горе, В ничтожестве, часы и годы для Под вечный шум не молкнущего моря, – Как на песке руина корабля. Я всем чужой (кому ж ярмо на шее Захочется) – чем ближе, тем чужее. Скорей бы мне уйти из сей пустыни В тот край, где нет ни плача, ни тревог, Чтоб с милым Богом пребывать отныне И спать, как в детстве, – спать, не чуя ног, На ласковом лугу, как на холстине: Внизу – трава, вверху – лишь купол синий.Часть II Викторианцы
«Я слышу голос, говорящий в ветре!» (Альфред Теннисон)
Он говорил: «Для меня несомненно, что есть некое всеведущее Верховное существо: не может быть, чтобы хоть одна жизнь на свете прошла неузнанной до конца или непонятой».
Из воспоминаний Одри ТеннисонНаверное, никто из английских поэтов не пользовался при жизни такой общенациональной славой, как Альфред Теннисон (1809–1892). Никто не испытал посмертно такой жестокой переоценки. Новые поколения, для которых само слово «виктори-анство» сделалось синонимом пошлости и ханжества, не пощадили главного поэта ушедшей эпохи. Джеймс Джойс придумал ему прозвище «Лаун-Теннисон». Уистан Оден в предисловии к «Избранным стихотворениям» (1944) назвал его «самым глупым» из английской поэтов. И добавил в издевательской сноске: «Т. С. Элиот заметил мне, что он мог бы припомнить двух-трех английских поэтов еще глупее, и я был вынужден с ним согласиться».
Томас Элиот, обладавший достаточно широким вкусом (он ценил и своего антипода Киплинга), называл Теннисона еще и «самым печальным из английских поэтов». «Он знал всё о меланхолии – и больше ни о чем», – соглашается с ним Оден. Оба поэта-критика признавали исключительную музыкальность стихов Теннисона, их техническое совершенство, и все-таки из такой оценки невольно возникает образ, достойный кунсткамеры: огромное чуткое ухо, полностью отделенное от мозгов.
Альфред Теннисон. Фото Джулии Маргарет Камерон, 1880-е гг.
«Посмеемся над насмешниками», – сказал Йейтс. Прошло еще несколько десятилетий, и перспектива вновь сместилась. Нам смешно читать комментарии Одена к «Улиссу», в которых он категорически осуждает Теннисона за отказ его героя «стать ответственной и полезной личностью», за «прославление героя-денди». Мотивировка кажется заимствованной из советских учебников. Остается только заклеймить как «лишнего человека» постаревшего Одиссея, отправляющегося в свое последнее плавание за Геркулесовы столпы.
Поколение после Первой мировой войны («потерянные» молодые люди и оксфордские леваки) по-своему уютно устроилось. «Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом» на целые десятилетия сделалась ходовым товаром.
Но настало поколение внуков. Викторианский мир видится издалека если не лучше, то беспристрастней. И пришла пора опять всмотреться в старые фотографии А. Теннисона (некоторые из них сделаны Льюисом Кэрроллом), вслушаться в хриплую аудиозапись на одном из первых восковых валиков (подарок Эдисона), а, главное, заново перечитать стихи поэта и попытаться понять его искусство и судьбу.
I. Curriculum vitae
Если судить по внешним вехам биографии, Теннисону с начала и до конца везло. Его не сгубила чахотка, как Китса, он не утонул в море, как Шелли, не испытал такой нужды, как Джон Клэр. Его отец, отлично образованный человек, служил настоятелем сельской церкви в Линкольншире – там прошло детство поэта. Юноша поступил в Колледж Святой Троицы в Кембридже, где его талант был сразу замечен. В 1827 году вышел сборник «Стихотворения двух братьев», куда (вопреки названию) вошли стихи не двух, а трех братьев Тен-нисонов – Альфреда, Чарльза и Фредерика. Через три года Альфред Теннисон публикует уже свой собственный том «Стихотворения, по преимуществу лирические» (1830). У него появляется много друзей и поклонников. В тридцать три года, издав свои «Стихотворения» в двух томах, он достигает значительной известности. В 1845 году ему назначена почетная государственная пенсия. В 1850-м он удостоен звания поэта-лауреата. На свои литературные доходы Теннисон приобретает дом на острове Уайт, впоследствии – второй дом и усадьбу в Сассексе. Его почитают простые читатели, государственные мужи и царственные особы. Его называют величайшим поэтом современности. Он дважды отвергает предложенный ему королевой дворянский титул и лишь на третий раз принимает его, став баронетом и лордом. Он умирает в 1892 году в возрасте восьмидесяти трех лет и удостаивается торжественных похорон в Вестминстерском аббатстве.
Но за этой внешней канвой скрывается совсем другая история – страхов и отчаянья, тоски и потерь, терпения и мужества. Эта тайная история преодоления самого себя и есть настоящая история поэта, которому принадлежат самые безысходные и самые мужественные стихи своего времени.
II. Тень друга
Студент, приехавший в Кембридж осенью 1827 года, был чудовищно неловок и неуверен в себе. С первого общего обеда в колледже он сбежал, не выдержав шума, ярких огней и незнакомых лиц. При этом выглядел он отнюдь не уродом. Правда, одевался неряшливо – эту привычку он сохранил на всю жизнь, – зато был высок, худощав, лицом смугл, как араб, и как-то сурово, «по-львиному», красив. Он привлекал внимание, но сам дичился людей.
«Я сижу здесь, – писал он своей тетушке Рассел, – один, как сова, в своей комнате (между мной и небом только слой черепицы). Снизу, подобно шуму моря, доносятся стук копыт, грохот колес, крики пьяных студентов и пьяных горожан… Не знаю, почему, но я чувствую себя среди этой толпы страшно одиноким. Местность – отвратительно плоская, развлечения однообразные, занятия в университете – скучные, прозаические. Только скучные и сухие, как палка, юные джентльмены могут находить в них удовлетворение».
Так обстояло дело до весны 1829 года, пока Теннисон не познакомился с «апостолами» – своего рода дискуссионным клубом студентов, на котором обсуждались всевозможные вопросы современности, науки и литературы; многие из «апостолов» писали стихи, обменивались стихотворными посланиями.
Счастье измеряется глубиной отчаянья, из которого оно вывело человека. Нужно представить себе долгие месяцы одиночества и депрессии, в которых пребывал Теннисон, чтобы понять, как благодарен он был своим новым друзьям – в особенности Артуру Хэллему, с которым он особенно сблизился и на котором сосредоточился весь пыл его дружеских чувств.
Разумеется, это были платонические чувства, основанные на восторженном переживании «всего Доброго, Прекрасного и Возвышенного». Тот священный культ пылкой дружбы, который цвел в Англии в елизаветинскую эпоху и отблески которого мерцают у Пушкина в стихах, обращенных к лицейским друзьям (да и у других поэтов пушкинской эпохи). Словесное выражение этих чувств порой неотличимо от обращения к возлюбленной:
О! молви слово мне! Пускай знакомый звук Еще мой жадный слух ласкает, Пускай рука моя, о незабвенный друг! Твою – с любовию сжимает… (К. Батюшков. «Тень друга»)В 1830 году Хэллем с Теннисоном приняли участие в рискованном политическом заговоре испанских революционеров, намеревавшихся свергнуть тиранию Фердинанда VIII. В их задачу входила доставка денег и инструкций для мятежников северной Испании. Они добрались до Пиренеев и встретились с главой местных заговорщиков, который, однако, настолько разочаровал их своей тупой злобностью, что навсегда отбил у Теннисона симпатию к революционным начинаниям. Вскоре основная часть инсургентов на юге Испании, в их числе несколько англичан, попала в руки правительства и была расстреляна без суда и следствия. (Сто лет спустя другие английские молодые люди, в их числе Оден, поедут в Испанию сражаться против генерала Франко – с тем же энтузиазмом и примерно с тем же успехом.)
Еще одно обстоятельство сблизило друзей: Артур познакомился с сестрой Альфреда Эмили и влюбился в нее. Несмотря на препятствия со стороны семьи жениха, молодые люди дали друг другу обещание.
Несчастье грянуло неожиданно, как гром среди ясного неба. В августе 1833 года Хэллем с семьей отправился на континент. В письме Альфреду и Эмили от шестого сентября он восторженно описывал богатства Венского музея. Пятнадцатого сентября, по возвращении в Вену из Будапешта, он скоропостижно скончался, как сообщалось, «от апоплексического удара».
Что произошло на самом деле, нам неизвестно. Люди в двадцать два года редко умирают от инсульта. Невольно возникает подозрение о самоубийстве, но какие для него основания? Артур Хэллем был талантливым и подающим большие надежды молодым человеком, сыном известного историка. Он закончил Итонскую школу вместе с Гладстоном, будущим премьер-министром, знал несколько языков, писал стихи, печатал критические статьи в журналах. Наконец, у него была невеста.
Ну, а если все-таки? Следует учесть, что самоубийство в Англии XIX века считалось тяжелым уголовным преступлением; неудавшихся самоубийц казнили. Поэтому факт самоубийства обычно скрывался родными. Письмо его дяди из Вены содержит подозрительные детали – например, дружное заключение собравшихся врачей (венских, то есть никогда прежде пациента не видевших), что скоропостижно скончавшийся молодой человек в любом случае был не жилец («it was the General Opinion that he could not have lived long»)[34].
Четырнадцать лет спустя, через несколько месяцев после выхода книги Теннисона «In Memoriam», опять-таки во время поездки с семьей на континент, но уже не в Вене, а в Сиене (Италия), умер младший брат Артура, Генри Фицморис Хэллем. Умер «при обстоятельствах столь же удручающих и в некоторых отношениях удивительно схожих», как пишет автор предисловия к посмертно изданным произведениям Артура Хэллема. Удивительна схоже и объяснение причины смерти Генри Хэллема, которому было только двадцать шесть лет: «Есть основания заключить по результатам медицинского обследования, что он не смог бы прожить очень долго, если бы даже с ним не случилась эта роковая болезнь» («…his life would not have been of very long duration, even had this unhappy illness not occurred»)[35].
С этой точки зрения по-другому видится и судьба переписки Теннисона и Хэллема. Письма Теннисона к другу были уничтожены отцом Хэллема. Письма Хэллема сожжены после смерти Теннисона его сыном. Почему? Обычно биографами высказывается предположение, что причиной уничтожения писем, вероятно, являлась их дружеская пылкость, которая могла быть ложно истолкована. На мой взгляд, предположение неубедительно: ведь той же пылкости сколько угодно в стихах, посвященных Хэллему, где Теннисон говорит о бракосочетании их душ и сравнивает себя с безутешной вдовой. Вполне достаточно для любых идиотских толкований!
Совсем другое дело, если переписка Хэллема с Теннисоном содержала обсуждение темы самоубийства и могла зародить сомнения в официальной версии смерти Артура, объявленной его семьей, – тогда их просто необходимо было уничтожить. А в том, что такая тема обсуждалась в письмах, я почти не сомневаюсь. Ведь она затрагивается и в переписке с другими «апостолами», с которыми Хэл-лем был заведомо менее откровенен, ибо настоящим другом считал только Теннисона. Например, в письмах Хэллема к Монктону Милнзу встречаются признания в посещающих его таких приступах отчаяния, когда «смотришь в лицо смерти и безумию», а также определение жизни как «неизлечимого вида сомнамбулизма».
Жизнь как сомнамбулизм, то есть хождение во сне, заставляет вспомнить фразу Шелли из поэмы «Адонаис» (1822), посвященной памяти Китса: «Не умер он, он только превозмог / Сон жизни…». Надо сказать, что среди кембриджских «апостолов» существовал настоящий культ Шелли и Китса, безвременно ушедших из жизни гениев, а поэму Шелли, воспевающую смерть поэта как высокую мистерию гибели и воскрешения, они переиздали вскладчину на свои собственные деньги. В этой поэме Шелли упоминаются юноша-поэт Томас Чаттертон, покончивший с собой в восемнадцать лет, и римский поэт Лукан, тоже самоубийца, и есть немало мест, которые можно трактовать как апологию ранней смерти:
Он воспарил над нашим наважденьем, В котором оставаться мы должны, Горячку называя наслажденьем В ночи, где ложь и злоба так сильны, И жизнью безнадежно мы больны; Он воспарил над миром, исцеленный, И не узнает ранней седины… («Адонаис», XL, перевод В. Микушевича)Напомним и строки самого Китса из «Оды Соловью»:
Вот здесь, впотьмах, о смерти я мечтал, С ней, безмятежной, я хотел уснуть, И звал, и нежные слова шептал, Ночным ознобом наполняя грудь.Знаменательно, что одним из первых произведений, созданных Теннисоном после смерти Артура, была поэма «Два голоса, или Мысли о самоубийстве» – длинное, почти в пятьсот строк, словопрение на тему «быть или не быть». Поэт олицетворяет мнение «за», а его оппонент (тихий голос из ниоткуда, рассуждающий о бессмысленности жизни и ничтожности человека) – «против». Отражают ли эти «два голоса» внутренние колебания Теннисона, потрясенного утратой, или он пытается завершить незаконченный спор с Хэллемом?
Мне скажут, что гипотеза о самоубийстве спотыкается об отсутствие видимых причин. Но молодость, согласно статистике, сама по себе причина. Показать, что ты не зависишь от того, кто дал тебе эту жизнь (от Отца), но обладаешь собственной свободной волей, своим «хочу!», – великое искушение для молодого, «протестно-го» сознания. К тому же, с античных времен существовало мнение (Эпикур, Плутарх и другие), что из жизни хорошо уходить, когда ты счастлив, на вершине жизненных благ и удач.
Так думали не только древние. Монтескье ввел термин «английской болезни»: «Англичане умерщвляют себя необъяснимо, нередко в разгар счастья». Карамзин в «Письмах русского путешественника» связывал это с английской меланхолией, а последнюю – с неправильной диетой. Однако то, что в XVIII веке представлялось труднообъяснимым, в эпоху романтизма сделалось вполне понятным для нового поколения эпикурейцев и фаталистов.
Между прочим, вот еще знаменательное (по крайней мере, для меня) совпадение. В том же самом 1833 году, когда Артур Хэллем неожиданно умирает в Вене, выходит полное издание «Евгения Онегина» Пушкина, до тех пор печатавшегося отдельными главами. Последние строки последней, восьмой главы гласят:
Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел ее романа И вдруг умел расстаться с ним, Какя с Онегиным своим[36].III. Тень друга (продолжение)
Дружба с Хэллемом была самым сильным переживанием в жизни Теннисона, его смерть – самым тяжелым ударом. Он посвятил памяти Артура книгу стихов «In Memoriam» (1850), которую писал шестнадцать лет. Образцом для нее послужили, по общему мнению, сонеты Шекспира, в центре которых образ не возлюбленной, а друга. Но и влияние «Сонетов на смерть мадонны Лауры» несомненно – в упрямой длительности скорби, в пристальности взгляда, пытающегося вглядеться вослед улетевшей душе. «In Memoriam» состоит, однако, не из сонетов, а из стихотворений разной длины, написанных однообразными катренами с опоясывающей рифмовкой. Сам Тен-нисон сравнивал эти строфы с «ласточкиными зигзагами» («short swallow-flights»); и это определение кажется мне гениально точным. Это именно метания мысли, томимой религиозными сомнениями, скорбью об ушедшем друге и укорами совести.
Не так ли я, сосуд скудельный, Дерзаю на запретный путь, Стихии чуяздой, запредельной, Стремясь хоть каплю зачерпнуть? (А Фет. – Ласточки»)Начиная с XVI века наука только тем и занималась, что проделывала дыры в религиозной картине мира, а богословие эти дыры и прорехи латала и заштопывала. Лишь в двадцатом веке эта гонка закончилась, христианин сошелся с агностиком в том, что «наука – особая статья, а религия – особая статья», и одно не исключает другого; а каким образом Бог сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи, есть тайна, которую нам не разгадать. В этой перспективе кажутся странными настойчивые попытки Теннисона представить себе состояние человека после смерти и понять, сразу ли начинается другая жизнь, или какое-то время умершие пребывают в «междужизненных потемках» («intervital gloom»)? Нам трудно следовать за Теннисоном, когда он впадает в философию, стараясь переварить новые открытия, пошатнувшие прежние представлении о происхождении человека и его месте во Вселенной: все-таки трудно заново пережить интеллектуальный шок, потрясший Европу полтора века назад. Но там где поэт, оттолкнувшись от рационального берега, отдается на волю своего горя и печали, он снова становится просто поэтом:
И кто я, в сущности, такой? Ребенок, плачущий впотьмах, Не зная, чем унять свой страх В кромешной темноте ночной.Существуют две точки зрения на поэму «In Memoriam». Первая – она была высказана уже современниками, в частности Фипдже-ралдом[37], – что автор слишком долго растравлял свое горе, сплетая себе терновый венок и рассматривая под микроскопом свою печаль. К такому же мнению склоняется и нынешний читатель, восхищающийся отдельными фрагментами поэмы, однако находящий ее, в целом, слишком растянутой и рассудочной.
Другая точка зрения – ее придерживался, например, Элиот – состоит в том, что нельзя выковыривать из этой книги изюм хрестоматийных строф, пренебрегая остальными; перед нами цельная вещь, связный лирический дневник, в котором важно каждое слово. В конечном счете, это вершинное достижение Теннисона, его патент на бессмертие.
Какое из этих мнений «правильнее»? «In Memoriam» впечатляет величием замысла, отдельными замечательными местами. И все-таки мне больше нравятся «Улисс» и «Тифон», написанные в первый год после смерти Хэллема и выражающие те же скорбные чувства, хотя и не впрямую. Может быть, как раз в этой окольности, «ненарочности» всё дело?
Теннисон писал об «Улиссе», что это стихи о нем самом: «всё в прошлом, и все-таки нужно жить и сражаться до конца». Впрочем, стихи не всегда вмещаются даже в толкования автора. Да, Улисс – это сам поэт, обреченный «сражаться до конца», но это – и Хэллем, отправляющийся в неизвестность на ладье мертвых: «Передо мной корабль. Трепещет парус. / Морская даль темна…» И это любой другой человек, решившийся «дерзать, искать, найти и не сдаваться». Если бы мы ничего не знали об обстоятельствах его написания, «Улисс» все равно остался бы великим стихотворением. Мужественным, суровым, лишенным всякой сентиментальности и многословия. Воистину автор «Улисса» мог бы сказать, как Йейтс веком спустя: «Гомера некрещёный дух – вот мой пример честной»[38].
Из греческой мифологии взят и сюжет «Тифона» – о возлюбленном богини зари Эос, получившем в подарок бессмертие, но не вечную молодость. Легко понять, чем мог привлечь этот миф Тен-нисона, видящего позади себя внезапно оборвавшуюся молодость, а впереди – долгие годы без единственного друга. Здесь опять – не прямая аллегория, а частичное наложение мотивов, которое высвобождает лирическую энергию мощнее, чем полное и буквальное совпадение. И уже не важно, к кому, к какой богине обращены последние строки стихотворения:
Освободи, верни меня земле; Всевидящая, с высоты своей Призри на тихую мою могилу, – Когда, истлев, навеки позабуду Твоих пустых чертогов высоту, Твою серебряную колесницу.III. Тень безумия
Память о друге не оставляет Теннисона ни на день, его поэма-реквием подспудно растет; но жизнь тем временем берет свое. В 1834–36 годах Альфред переживает любовь к красавице Розе Бэринг, семья которой была определенно против невыгодного жениха. Власть денег, тщеславие, браки по расчету – вот «социальная подкладка» нескольких довольно посредственных стихотворений и баллад Теннисона, написанных в это время – таких, как «Леди Клара Вир де Вир», «Леди Клэр» и «Дора», а также более сложной по замыслу – и значительно более поздней – монодрамы «Мод» (1854).
Вскоре Альфред и его братья получают скромное наследство от деда Джорджа Теннисона, и в 1837 году семья покидает Сомерсби. К этому времени отец их уже шесть лет как умер, многие братья выпорхнули из гнезда. Альфред с матерью и несколькими сестрами переезжают в деревню Хай-Бич, возле Эппинга.
Здесь, буквально напротив их дома, располагалась прогрессивная лечебница для душевнобольных доктора Аллена, где пациентов не держали взаперти, а пытались создать им «почти семейные» условия жизни. Здесь, в Хай-Бич, неожиданно скрещиваются биографии Альфреда Теннисона и Джона Клэра, талантливого поэта-крестьянина со злосчастной судьбой[39]. В том же самом 1837 году Клэр был помещен в заведение доктора Аллена (где и пробыл четыре года вплоть до своего побега). Теннисон подружился с живущим по соседству доктором и, очевидно, познакомился с его уникальным пациентом. Доброжелательное отношение Аллена к Клэру должно было особенно расположить Теннисона к гуманному медику. Однако их дружба парадоксальным образом едва не довела самого Альфреда до умопомешательства.
Дело в том, что Аллен оказался не только врачом, а одновременно и прожектером, увлекающимся и легкомысленным. Он уговорил Теннисона вложить деньги в его проект фабрики «пироглифов», иначе говоря, фабрики по производству художественной мебели машинным, индустриальным методом. Теннисон не только отдал почти все, что у него было, продав полученную в наследство землю, но и пытался вовлечь в это дело всех, кого только мог. Странное ослепление, скажем мы сейчас. Нет, вполне в духе того времени, когда люди верили в науку и инженерию, когда паровые машины с триумфом завоевывали море, сушу и умы людей. К тому же «пироглифы» звучали так похоже на «пироскафы»! Увы, в данном случае проект оказался блефом. Компаньон Аллена сбежал со всеми собранными деньгами, а Аллен вроде как спятил, продолжая агитировать и подбивать людей вкладывать деньги в уже обанкротившееся предприятие.
Конец 1830-х и начало 1840-х годов были самой трудной порой в жизни Теннисона. В клинике Аллена, между прочим, содержался не только Джон Клэр, но и младший брат Альфреда – Септимус. Другой брат Эдвард уже десять лет находился в лечебнице для душевнобольных в Йорке (где ему суждено было прожить до самой смерти). Третий брат Чарльз и четвертый, Артур, тоже подолгу лечились в подобных заведениях – один от пристрастия к опиуму, другой – к алкоголю. Семейная склонность к черной меланхолии («black blood of Tennysons») тяготела и над Альфредом. Бывали дни, когда у него не было сил написать короткое письмо. Периодически он и сам жил в заведении Аллена вместе с братом Септимусом и Клэром в качестве полугостя, полупациента.
Позднее, когда появился закон, запрещающий пребывание «неофициальных больных» в домах для сумасшедших, Теннисон, как и многие другие англичане с нервными расстройствами, сделался постоянным пациентом водолечебниц. Это были необыкновенно популярные тогда заведения[40], где лечили строгой диетой, ванными, мокрыми обертываниями и так далее. В общей сложности Теннисон провел в таких местах около года. «Из всех малоприятных образов жизни водолечение, несомненно, самый малоприятный, – писал он ДРУГУ, – ни почитать при свече, ни погреться у камина, ни чая, ни кофе, одни мокрые простыни, холодные ванны и контрастные процедуры; и все-таки я крепко верю в пользу всего этого».
В 1842 году вышли «Стихотворения» Теннисона в двух томах. В первый том он включил переработанные вещи из издания 1833 года, во второй том – стихи следующего восьмилетия, в числе которых, по мнению его друга Эдварда Фипджеральда и ряда других критиков – почти все высшие достижения поэта. (А дальше – «шампанское выдохлось», считал Фицджеральд.)
Двухтомник готовился Теннисоном в страшном нервном напряжении. Это напряжение не разрядилось и после выхода «Стихотворений». Теннисон скитался по домам друзей и родственников, в Лондоне и вдали от столицы; он так волновался, что просил друзей собирать и присылать ему лишь положительные рецензии. Теккерей как-то отозвался о нем: «Ворчун, но человек гениальный»[41]. Разорившись на афере Аллена, поэт клял судьбу, жаловался на тяжелое безденежье; впрочем, дотошные биографы установили, что даже в самые худшие годы у Теннисона был достаточный доход для приличной жизни. Тем не менее в течение нескольких лет он по временам впадал в такое отчаянье и депрессию, что друзья всерьез опасались за его жизнь. Лишь к 1845 году его дела поправились: благодаря хлопотам покровителей он получил личную пенсию от правительства, кроме того, сломленный несчастьями доктор Аллен умер, а так как он застраховал свою жизнь на Теннисона в виде обеспечения его вклада, то почти все потерянные деньги вернулись назад.
Но значительно больше, чем финансовое положение, Теннисона тревожили проблемы со здоровьем. Его преследовали какие-то мучительные «припадки», он боялся, что у него развивается наследственная эпилепсия, как у его дедушки и дяди. По-видимому, то были не судороги, а так называемые малые приступы – головокружения, резкие перепады настроения, а также предшествовавшие им необычные эйфорические просветления сознания, подобные «предвестникам» эпилептического припадка. Между прочим, эпилепсией страдал и Эдвард Лир, который стыдился своей болезни и скрывал ее, в дневниках именуя свои припадки «приходами демона».
Вот чего боялся Теннисон, вот отчего он пытался лечиться у Аллена, а потом – скитаясь по водолечебницам и врачам. Можно себе представить, какие страхи он испытал, какие заклинания твердил. «Не дай мне Бог сойти с ума…» Пушкин лишь представил себе эту перспективу, а Теннисон видел ее в страданиях и сломанных жизнях братьев – и не только видел со стороны, но носил с собой этот кошмар, глядел ему прямо в глаза.
Лишь в 1848 году он сумел преодолеть свои страхи – или, по крайней мере, притерпеться к ним. Один из врачей предположил, что «припадки» Теннисона могут быть связаны не с эпилепсией, а с наследственной подагрой, при которой иногда наблюдаются «предвестники», сходные с эпилептическими. Теннисон поверил ему (или заставил себя поверить). С этого момента он больше не ездил в водолечебницы. Он выстоял в единоборстве с «демоном»; силы мрака съежились и отступили. Уже в следующем году он снова стал подумывать о женитьбе на Эмили Селвуд.
IV. Тень отца
С Эмили он познакомился еще в 1836 году. С первого взгляда его очаровал вид этой хрупкой девушки, похожей на ангела и на сильфиду, потом, когда они подружились, – ее чуткий и добрый характер. Воспитанная в строгости теткой и отцом, которому она поклонялась, Эмили обладала всеми свойствами ума и души, которые Теннисон ценил более всего и в которых нуждался. Два года спустя они стали женихом и невестой, но в 1840 году Теннисон неожиданно расторг помолвку. Десять лет – беспримерно долго – продолжалась их странная разлука.
«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…»
Теннисон выставлял в качестве объяснения недостаток средств для женитьбы, заверяя Эмили в письмах, что его любовь ничуть не охладела. Эту же версию поддерживала впоследствии сама Эмили. В «Воспоминаниях для сыновей» (Narrative for My Sons) она писала, что помолвка расстроилась из-за того, что Альфред неожиданно потерял свое состояние. Неправда! Разрыв произошел за два года до разорения.
Их переписка этих десяти лет опять-таки уничтожена. Случайно сохранился фрагмент письма 1840-го года, сбивчивый и загадочный.
Как эта зависимость от тебя сочетается с моим бегством от тебя? Не спрашивай, поверь мне, что это так. Правда в том, что я бегу от тебя ради собственной пользы, может быть, и ради твоей – в любом случае, ради твоей пользы, если она неотделима от моей. Если бы ты знала, почему я бегу тебя, ты сама больше всего на свете желала бы, чтобы я тебя бежал. Ты спрашиваешь: «Неужели мы никогда больше не встретимся?» Я не знаю такого слова и не желаю его знать. Не знаю и не верю в него. Бессмертие человека отвергает это слово – бессмертие, по сравнению с которым мировые циклы и зоны мимолетны, как наши часы и дни[42].
Это жестокое по любым меркам письмо доказывает, что истинной причины разрыва Теннисон не открывал даже Эмили. И тем не менее она, фактически брошенная невеста, двадцатисемилетняя барышня, ждала его еще десять лет! Ждала без всякой надежды, верила ему и продолжала любить.
Так в чем же была истинная причина странной разлуки? Может быть, как предполагают, дело в эпилепсии, которую Теннисон подозревал в себе и боялся передать детям? Или в страхе перед иррациональной силой болезни, возможным сползанием к безумию? Может быть, это была инстинктивная тяга к свободе и душевной неустроенности, при которых только и пишутся великие стихи?
«Всего сильнее – тяга прочь, и манит страсть к разрывам», – сказал другой поэт.
Вероятно, имели место разные причины. Но главная отгадка, на мой взгляд, заключается в общем психологическом правиле, выведенном в XX веке Карлом Юнгом: «Как правило, жизнь, которую в силу сложившихся обстоятельств не сумели прожить родители, переходит по наследству к детям, т. е. последние вынуждены вступить на такой жизненный путь, который должен возместить то, что не исполнилось в жизни родителей»[43].
Чтобы понять решение Теннисона, нужно вспомнить судьбу его несчастного отца. Старший сын, обойденный наследством за свой неуравновешенный, непредсказуемый нрав, он был вынужден принять сан священника, к которому не имел никакого призвания. Тогда же он женился на девушке без приданого, зато необычайно красивой и наделенной легким, добрым характером. За первых четырнадцать лет брака Элизабет родила двенадцать детей, из которых один умер в младенчестве. Заботы об остальных одиннадцати детях легли, прежде всего, на мать семейства.
По воскресеньям Джордж Теннисон читал проповеди в церкви, весьма красноречивые, но совершенно непонятные темной крестьянской толпе, к которой он обращался. Представьте себе глухую деревушку Сомерсби, пасторский дом, все более и более наполнявшийся детьми, суету и постоянный шум, невыносимый для доктора Теннисона. И хотя он обладал разнообразными талантами, играл на арфе, увлекался стихами, имел огромную для сельского священника библиотеку в две с половиной тысячи томов, мог быть блестящим, увлекательным собеседником, все его задатки оказались погублены всуе. Обида на судьбу, отсутствие необходимого покоя и болезнь жены – истощенная родами, она к сорока годам стала полуинвалидом, проводящим свои дни лежа на кушетке, – усугубляли его природную унылость, склонность к вину и внезапные вспышки гнева. Все более тяжелые и сопровождающиеся дикими выходками припадки, перемежаемые периодами слабости и частичной амнезии, сделали его в конце концов почти невменяемым и привели к безвременной смерти в 1831 году.
Несмотря на детские обиды и стыд, Альфред всю жизнь чувствовал любовь и сострадание к отцу. Именно отцовской библиотеке и отцовским наставлениям в классической поэзии он обязан самой ценной частью своего образования. Отец был первым, который различил незаурядный дар в Альфреде. Он даже издал «собрание сочинений» своего десятилетнего отпрыска в единственном рукописном экземпляре, торжественно озаглавив его: «Поэзия Теннисона» (без имени!) и включив в него опыты Альфреда в латинском стихосложении: элегические стихи, сапфические и алкеевы строфы, и так далее.
Надо добавить, что и мать Теннисона была незаурядной женщиной, поощрявшей склонность к стихописанию во всех своих детях, – и не случайно, что еще один ее сын, Чарльз, стал известным поэтом. Образ матери подсознательно сказался на матримониальном выборе Альфреда: ангельский нрав Эмили – запечатленное отражение характера Элизабет.
Стихотворения Альфреда Теннисона в 2 т. Том 1. Титульный разворот, 1842 г.
Неудивительно, что весь детский опыт поэта внушал ему желание возместить то, что не исполнилось в жизни его отца, совершить свое предназначение в мире прежде, чем семейные узы отяготеют над ним. Он боялся погубить свой талант печали, слишком рано истощить жилу драгоценной поэтической руды – тоски, страдания, разлуки.
Вполне возможно, что в нем жил подсознательный страх «чадо-плодия». Одиннадцать детей в трех комнатах; суетящиеся няньки и прислуга; малыши, бросающиеся врассыпную при виде раздраженного отца; отец, затыкающий уши и не способный сосредоточиться ни на чем серьезном, – вот что с ранних лет врезалось ему в память. Когда он женился на Эмили, ей уже исполнилось тридцать семь лет и она могла родить ему только двух сыновей. К этому времени (1850 год) все его главные вещи, за исключением лишь «Королевских идиллий», были созданы.
Жизнь Теннисона – своего рода месть времени за судьбу своего отца. В том самом смысле, о котором писал А. Блок: «…род, испытавший на себе воздействие истории, среды, эпохи, начинает в свою очередь творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание…»[44]
Объективно врагами поэта выступают не только призрак безумия, но и женщина, ее соблазн и притягательность. Отсюда – не только знаменитый образ Вивьен, льстивой колдуньи, погубившей мудреца Мерлина (одно из alter ego Теннисона), но и главный мотив другой главы «Королевских идиллий» – «Женитьбы Герейнта»: любовь опасна, ибо она подтачивает силу героя, отвлекает его от подвигов. Мудрая жена Энида (читай: Эмили) понимает это и мучится угрызениями совести:
Смогу ли я в бою стоять с ним рядом, Достанет ли мне мужества смотреть, Когда мой муж, быть может, будет ранен, Или убит? Зачем? Чтобы никто Не смел сказать о нем с насмешкой: дескать, Герой на женщину растратил силы? О стыд! Боюсь, что я жена плохая!V. Сон о королевстве
Некоторые читатели, возможно, будут шокированы попытками проникнуть в мотивы поступков Теннисона, усмотрев в этом посягательство на священную тайну поэта. Несомненно, сам Теннисон был бы на их стороне. В свое время, возмущенный публикацией писем Китса к Фанни Брон, он написал стихотворение с эпиграфом: «Проклятие тому, кто потревожит мои кости» (эпитафия Шекспира). Завидна судьба того, кто избрал себе другой, не поэтический удел; «он избежит, в конце концов, позора тех, кто знаменит».
Ведь ныне, коль умрет поэт, Остыть бедняге не дадут, А уж вокруг и спор, и суд, Скандал и крик на целый свет. «Ломай замок! Врывайся в дверь! Священного нет ничего! Подай нам слабости его!» – Рычит многоголовый зверь[45].На самом деле, честный литературно-психологический анализ не имеет ничего общего с изображенной здесь вакханалией. Разумеется, плоские, во фрейдистском ключе, суждения о художнике, превращающие его жизнь в клинический пример, отвратительны. Грязное вынюхивание и высматривание под покровом научности может быть интересно обывателю, но оно не проясняет, а только залепляет грязью истинную картину.
И все-таки нельзя отрицать, что произведения поэта, в особенности романтического, неотделимы от его биографии. Путь, поиск и восхождение к идеалу совершаются не только в стихах, но и в его повседневной борьбе с судьбой. Образ Китса, например, нисколько не пострадал от усилий биографов; опубликованные письма к Фанни не ослабили, а усилили впечатление от его любовной лирики. Если не с подозрением, а с сочувствием и пониманием вглядеться в жизнь поэта, возникает завораживающая картина того, как (вновь процитирую Юнга) «художественное творчество, с одной стороны, переплетено с личной жизнью художника, а с другой – доминирует над этим переплетением»[46].
Лучшие произведения Теннисона, художника безусловно романтического, относятся к области снов – тех, по выражению Китса, «золотых королевств» («the realms of gold»)[47], по которым так любит скитаться воображение поэта. Одним из таких воображаемых краев стала для Теннисона страна, где правил легендарный британский король Артур. Еще мальчиком Теннисон зачитывался книгой Мэлори «Смерть Артура», которую он нашел в библиотеке отца. «Королевские идиллии», создававшиеся в течение почти четырех десятилетий, стали его поэтической интерпретацией легенд об Артуре и рыцарях Круглого Стола. Именно это произведение, повлияв на художников-прерафаэлитов и Уильяма Морриса, породило тот невероятной силы «артуровский бум» в искусстве XIX века, эхо которого не утихло до сей поры.
Поэма Теннисона выросла, как из зерна, из длинного стихотворения «Morte d'Arthur», написанного в 1834 году в месяцы первой, самой острой скорби по Артуру Хэллему. Так фатально книга детства переплелась с реальной утратой. Смерть друга навсегда поменяла для него прошлое с будущим, «повернула голову назад», и там, в тумане давно минувшего он увидел царство идеала, утраченного его современниками. По мудрому замечанию одного из критиков, Теннисон всю жизнь был «инстинктивным бунтарем» против того самого общества, в котором он сумел занять столь идеальную конформистскую нишу. Большинство его современников чувствовало это.
Не обошлось, конечно, и без критики. Когда вскоре после кончины Альберта, мужа королевы Виктории, вышло издание поэмы с посвящением принцу-консорту и элегическим вступлением, Ал-джернон Суинберн в своем отзыве не преминул вставить шпильку насчет поэмы, «которую можно было бы, наверное, назвать „Смерть Альберта“». Впрочем, его главная претензия была другая. По мнению Суинберна, сделав короля Артура непорочным образцом, удалив само упоминание о его главном грехе – инцесте, от которого рождается предатель Мордред, – Теннисон удалил из своей поэмы главную пружину трагедии.
Суинберн прав. Только в том-то и дело, что Теннисон писал не трагедию. Жанр его произведения указан в названии – идиллии, сцены из воображаемой жизни[48]. По существу, сны. Еще точнее, сны-пророчества.
Однако лишь в первой главе «Приход Артура» Теннисон изображает рыцарей Круглого Стола в идеальных тонах, как силу, торжествующую над дикостью и варварством. Уже начиная со второй главы мы чувствуем, что в королевстве Артура неладно, что там завелась какая-то гниль. Все обширное полотно поэмы изображает закат и падение древнего рыцарства.
Образ Камелота, каким он предстал юному Гарету и его слугам, принадлежит к лучшим местам «Королевских идиллий». Сначала они видят лишь серебряную дымку рассвета над царственной горой, возвышающейся между лесом и полем, и лишь потом – то возникающий из нее, то вновь скрывающийся град Артура.
Порою вспыхивали башни замка, Порой в тумане выступали шпили И башенки пониже, временами Огромные ворота озарялись, И снова город исчезал в тумане.Слуги Гарета пугаются, один из них говорит: «Ни шагу дальше, хозяин, это колдовской город, построенный эльфийскими королями, и сам его король – не настоящий король, а подмененный эльфами оборотень». Другой восклицает: «Такого города вообще нет нигде, это все – мираж, видение!»
Однако Гарет заставляет их идти дальше, и пред ними предстают ворота. Описание фантастически украшенных ворот Камелота, «подобных которым не было на свете», поражает (недаром впоследствии оно послужило камертоном для Толкиена и других авторов «фэнтези»). Наконец из города выходит длиннобородый старец, которого Теннисон называет «Seer», то есть «провидцем» или «знающим». Он подтверждает, что город построен эльфийскими королями и королевами, явившимися на заре из священного ущелья; в руках у них были арфы, и город возведен под звуки их музыки. Город этот зачарованный, кажущийся, лишь один король – настоящий; хотя иные говорят, что наоборот: город настоящий, а король – только призрак.
Опасайся заходить в этот город, продолжает старик, ибо сам ты попадешь под власть этих чар, и король свяжет тебя такой клятвой, которую позорно не дать, но невозможно сдержать. Так что лучше стой, где стоишь, – на этом поле, среди пасущихся коров.
Ведь музыка еще звучит – и, значит, Град еще строится; он вырастает Под музыку – и, значит, никогда Не может быть достроен до конца, Но будет вечно строиться.VI. Сон о королевстве (продолжение)
Поэма Теннисона состоит из вступления «Приход Артура», десяти глав, посвященных деяниям рыцарей Круглого Стола, и заключительной главы «Уход Артура». Современники видели в каждой части «Идиллий» какой-то моральный урок или аллегорию. Но поэма Теннисона не аллегорическая, а символическая. Артурова столица Камелот – земной сон, зыбкое отражение Небесного Града. Тьма, постепенно охватывающая его и навсегда скрывающая, – тьма греха, земная тень какого-то космического Зла.
«Тень и сон» (Tennyson), сознаюсь, довольно примитивный каламбур; хотя и не примитивнее того: «Donne is done» («Донн – умер»), которым не брезговал Джон Донн, блестящий поэт-метафизик XVII века.
Конечно, всякий «настоящий символ непостижим в своей последней глубине» (Вяч. Иванов). Если бы Камелот был только символом Божьего Града, а тьма, наползающая на королевство Артура – только тенью греха, мы бы снова имели обычную аллегорию. Но туман, заволакивающий поле последней битвы Артура, – это не только туман измены и греха, но и туман судьбы, «слепой туман, который сгустился над всеми земными путями», а также гибельный туман человеческого неведения и сомнения. Недаром в каждого воина, который его вдохнул, вползает необоримый страх, и даже на короля нападает смятение, ибо в этом тумане невозможно отличить врага от друга и удары наносятся вслепую. В одном коротком отрывке слово «туман» повторяется пять раз. И даже сраженные воины, обращая лицо к небесам, видят перед собой один лишь туман.
Невольно вспоминается сонет Китса «На вершине Бен-Невиса»:
…Вниз погляжу ли, в пропасть, – там в теснине Слепой туман клубится: столько мы Об аде знаем; обращаю взор Вверх – облачной текучей пеленою Закрыто небо; застит кругозор Туман – он подо мной и надо мною…Вот так Теннисон совпадает с агностиком и отчасти язычником (эллином) Китсом. Он тоже не дает «правильных ответов» – скорее, сам загадывает загадки. Что это за клятвы, требуемые королем, которые «позорно не дать, но невозможно сдержать»? И как это знание согласуется с презрением Теннисона к предателям, которые «отвратительнее язычников»?
Самая ценимая добродетель в мире «Королевских идиллий» – верность. «Слово человека есть Бог в его душе, – говорит король Артур присягнувшему ему молодому рыцарю. – Чтобы не случилось, верю тебе отныне и до смерти».
And Arthur said, Man's word is God in man: Let chance what will, I trust thee to the death[49].В имперскую эпоху верность своему слову – непререкаемое условие чести и достоинства человека. Я понимаю Теннисона, я тоже вырос в империи. Еще до школы мы прочли рассказ Пантелеева «Честное слово» – про мальчика, которому старшие ребята, игравшие в войну, велели стоять на посту и забыли про него, а он, дав слово, стоял до самой ночи и ни за что на свете не соглашался идти домой. Выросло целое поколение людей, считавших такое поведение единственно правильным (и я среди них), – хотя мы и не поняли бы восклицание короля Артура, потому что понятие «Бог» считалось тогда несерьезным, антинаучным: оно не стояло в одном ряду с честностью и долгом.
В «Королевских идиллиях» великое королевство Артура рушится, в сущности, из-за нарушенного слова. Из-за измены королевы Гвиневеры, из-за присяги, про которую забыл храбрый Ланселот.
Оказывается, целый мир может держаться на одном слове, на данном когда-то обещании. Так жизнь поэта держится на верности своим снам. «In dreams begins responsibility». «С мечты начинается ответственность» (Йейтс).
Что бы не говорили о слабостях поэмы, об отдельных вялых местах и длиннотах, ее достоинства с избытком их выкупают. Недаром влияние «Королевских идиллий» на английскую литературу оказалось столь длительным и непредсказуемым. В частности, сцена последней битвы Артура с полчищами Мордреда в непроглядном тумане на берегу зимнего моря отозвалась не только во многих сценах «Властелина колец», но и, например, у Элиота в «Бесплодной земле»:
Призрачный город, В буром тумане зимней зари, Толпы, текущие через Лондонский мост, как их много, Я и не думал, что смерть погубила столь многих… (1. Погребение мертвых)Или вновь о призрачном городе (хотя Камелот не назван):
Что там за город вверху над горами С треском разваливается в небе лиловом Башни рушатся Иерусалим Афины Александрия Вена Лондон Призрачный… (V. Что сказал гром))VI. Сон о славе
У Теннисона тоже было свое братство Круглого Стола. Вряд ли он смог бы выстоять и победить, если бы не поддержка его верных университетских друзей, членов оксфордского «Общества апостолов» (существующего, между прочим, до сих пор). Четыре рецензии на «Стихотворения» 1842 года были написаны именно «апостолами»: Милнзом, Спеллингом, Стерлингом и Франсисом Гарденом. Горячо одобряя стихи, они подчеркивали (вполне в духе того времени), что поэзия Теннисона не только чарует, но и наставляет.
В начале 1840-х годов слава Теннисона пересекла Атлантику. Эдгар По писал о нем, по крайней мере, трижды. В статье «Поэтический принцип» он называет Теннисона «благороднейшим поэтом из всех когда-либо существовавших». В отличие от «апостолов», По хвалит его не за моральные уроки, а за тончайшую музыкальность и дразнящую неопределенность поэтической мысли. Развейте эту таинственную атмосферу – и вы уничтожите дуновение волшебного. Поэзия станет насквозь понятной мыслью, «она, может быть, не потеряет способности вызывать симпатии читателя, но утратит то, что делает стихи стихами»[50].
В заметке о Шелли 1849 года Эдгар По делает попытку анализа поэзии Теннисона в ее развитии. Он находит, что его ранняя манера соединяла в себе все нелепые крайности эпигонской поэзии того времени, однако считает, что поэт сумел отбросить эту ошибочную манеру, предварительно отсеяв из ее лучших элементов новый, «чистейший из всех существующих» поэтический стиль. Но этот процесс, предупреждает По, еще не закончен, требуется сплав редчайших умственных и нравственных качеств, в соединении с мастерством и волей, чтобы мир увидел, может быть «самую лучшую поэму, которая возможна»[51].
Интересно, что бы сказал Эдгар По (умерший в том же 1849 году), прочитав «Королевские идиллии»?
И уж совсем трудно представить, как отреагировал бы американский поэт на монодраму Теннисона «Мод». Читателям того времени она показалась дикой и несвязной. Это рассказ от первого лица, разбитый на короткие монологи, о любви молодого человека, чей отец разорился и погиб, к дочери богача, по-видимому, сыгравшего главную роль в этих несчастьях. Девушке прочат в женихи сынка богатых родителей, но она неожиданно отвечает на любовь бедного и странного (полубезумного!) ухажера. Брат Мод застает их в саду, следует дуэль, на которой брат гибнет. Герой бежит; Мод умирает от потрясения. Вдалеке от родных мест, на Бретонском берегу, герой заново переживает прошлое и излечивается от своего эгоизма и вместе с тем от своей нервной болезни. Несомненно, «Мод» – самая «браунинговская» из поэм Теннисона, – некоторым образом, даже самая «Достоевская».
Новая вещь Теннисона была встречена английской публикой неоднозначно. Поэт Джерард Хопкинс, например, в частном письме назвал ее «перебранкой, недостойной джентльмена»[52]. Однако в наше время поэма вновь привлекла внимание исследователей своей новаторской формой и возможностью анализа под углом новейшей психопатологии.
Интересно, что именно «Мод» была любимым произведением Теннисона, он любил декламировать ее своим гостям, неизменно доводя слушателей и самого себя до слез. Два-три эпизода из поэмы традиционно вставляются в антологии, в их числе знаменитая сцена ночного разговора героя с цветами:
Белый ирис, уснув на закате дня, Не проснулся и в этот раз, И жасмин, душистую гроздь клоня, В сонных чарах своих погряз. Только лилии, обещанье храня, Стерегли наш заветный час; Только розы и лилии ради меня До зари не смыкали глаз. Роза алая у ворот Жарко вспыхивает, как в бреду; Вот она идет, моя Мод, Чтоб утишить мою беду; Роза белая слезы льет; Шпорник шепчет: «Она в саду!» Колокольчик сигнал дает, И жасмин отвечает: «Жду!»Именно эти стихи сделал Льюис Кэрролл объектом пародии в своей сказке «Алиса в Зазеркалье», выведя на сцену целый букет болтливых и придирчивых Роз, Лилий и Маргариток («Глава II. Сад говорящих цветов»):
«– Вот она идет! – закричал молоденький Шпорник – Я слышу ее шаги! Топ-топ! Только она так топает, когда идет по дорожке!»
Нельзя сказать, совпадение это или нет, но «Алиса в Зазеркалье» появилась в 1869 году, когда отношения Кэрролла с Теннисоном разладились. Знакомство их произошло десятью годами раньше, когда молодой Чарльз Доджсон, тогда еще никакой не «Кэрролл», а лишь преподаватель математики (и по совместительству фотограф-любитель, обожавший снимать детей и знаменитых людей), прикатил к Теннисонам на тележке, груженной штативами, реактивами и раскладным фотоаппаратом. Он очаровал Хэллема и Лионеля, сыновей Теннисонов, фотографировал всех вместе и порознь, гулял с самим Теннисоном и получил приглашение заезжать к ним в Фаррингфорд на остров Уайт. Вот первое впечатление Кэрролла от встречи с поэтом:
Я ждал в гостиной… Спустя некоторое время появился человек странного косматого вида: его волосы, усы и борода выглядели нечесаными и растрепанными, мешая рассмотреть черты лица. Он был одет в слишком широкую для него визитку, простецкие серые брюки из фланели и небрежно завязанный шелковый шейный платок. Волосы – черные, глаза, вероятно, тоже; взгляд острый, беспокойный, нос орлиный, лоб высокий и широкий; и лицо и голова красивые и мужественные. Обращение его с самого начала было любезным и дружеским, разговор отличался сдержанным чувством юмора[53].
Кэрролл навещал знаменитого поэта еще не раз; эти дни он неизменно отмечал в дневнике символическими «белыми камушками». К сожалению, в конце концов Кэрролл «пересуетился»: прислал из Оксфорда письмо: дескать, здесь гуляют некие неопубликованные стихотворения Теннисона, которые мне дали почитать; не разрешите ли вы показывать их моим друзьям? На это письмо он получил форменный афронт от Эмили: «Джентльмен должен понимать, что если поэт решил не доводить каких-то своих сочинений до публики, значит, на то у него были свои причины». Кэрролл обиделся, выразил свою обиду в письме, и на этом, к сожалению, все закончилось. Сохранились лишь фотографии Теннисона работы Кэрролла.
Другой гений английского нонсенса, Эдвард Лир (1812–1880), не умел фотографировать, но зато он был прекрасным рисовальщиком и сделал сотни иллюстраций к произведениям своего любимого поэта. Вдобавок он сочинил множество романсов и песен на его стихи (что, казалось бы, слабо вяжется с образом викторианского насмешника и эксцентрика!). Отношения Лира с Теннисоном тоже не были свободны от недоразумений и обид, и все-таки любовь Лира к другу оказалась сильнее. Известно, что в последние месяцы своей жизни, пока не заболел, Лир напряженно работал над большой картиной по поэме Теннисона «Енох Арден», мечтая подарить ее поэту.
Я привел эти два примера, потому что, как мне кажется, они дают нам некоторое представление о том поклонении, которое окружало Теннисона в годы его наивысшей славы. Сравнимым с ним по авторитету в английской поэзии был только Роберт Браунинг (1812–1889). Оба поэта поддерживали между собой подчеркнуто уважительные отношения (впрочем, до близкой дружбы не доходило). Любопытно, что идею своей самой амбициозной и длинной поэмы «Кольцо и книга» Браунинг сперва предложил Трол-лопу (как сюжет для романа), а потом Тенни-сону[54]. По счастью, Теннисона не увлекла эта история, – также, как Браунинга, слава богу, не привлекли артуровские легенды.
Леди Годива. Иллюстрация к стихотворению Теннисона. Уильям ХолманХант, 1856 г.
В 1870 году Теннисон построил себе второй дом на склоне высокой горы Блэкдаун, на самой границе графств Саррея и Сассекса. Внушительный особняк был расположен в довольно глухом месте, в трех милях от железнодорожной станции Хейзелмир. «Для живущих в доме – максимальные удобства, для желающих попасть в него – максимальные неудобства», – резюмировал лорд Хоутон после первого посещения Олдворта[55].
Теннисон с первого дня полюбил свой новый дом, здесь ему хорошо писалось, он мог в полном одиночестве гулять по окрестным лесам и холмам. Особенно ему нравилось одно место на склоне Блэкдауна, откуда открывалась потрясающая панорама Сассекса – вплоть до угадывающегося вдали моря. Это место, которое Теннисон назвал Храмом Всех Ветров, отмечено теперь каменной скамьей и «алтарем ветров».
Здесь, в Олдворте, Теннисон дописал «Королевские идиллии»; здесь он умер.
Уже впав в забытье, он прижимал ладонью том Шекспира, открытый на его любимой сцене из «Цимбелина», где Имогена говорит Постуму: «Зачем ты оттолкнул свою жену?/Представь, что мы с тобою на скале, / И вновь толкни меня». Постум отвечает: «Пока я жив, /Как плод на дереве, держись на мне»[56]. Слова, которые он никогда не мог читать без слез.
Семья сидела в комнате, ожидая конца. Была ночь полнолуния; камин чуть мерцал, но в комнате с большими окнами было светло от яркого месячного света, заливавшего пол, стены и кровать умирающего. Казалось, в комнате звучали собственные строки Теннисона, описывающие смерть Артура:
Весь день раскатывалось эхо битвы Над зимним побережьем в Лионессе, Пока не пали все бойцы Артура, Сражавшиеся рядом с королем. А сам король Артур, смертельно ранен, Был поднят храбрым сэром Бедивером И отнесен в часовню, что стояла, Убогая, с разбитым алтарем, На голой, темной полосе земли Меж длинным озером и океаном. Ночь белая была от полнолунья.VII. За волнолом
Уильям Йейтс в своих статьях и воспоминаниях неоднократно использует формулировку: «после смерти Теннисона». Викторианская эпоха в поэзии закончилась не с кончиной старой королевы, а, пожалуй, лет на десять раньше. Как водится, новое поколение, в которое входили молодые люди разных направлений – Йейтс со своими друзьями из Клуба Рифмачей, Киплинг, Хаусман – принялись выпалывать из поэзии то, что они считали издержками уходящей эпохи: рассуждения, морализаторство, не идущие к делу описания природы, политическую риторику, излишнее любопытство к патологическим явлениям психики и тому подобное.
И все же Йейтс, крупнейший поэт следующего пятидесятилетия, был многим обязан Теннисону (хотя и не признавал этого). Героическое начало его поэзии вобрало в себя мощный пафос «Улисса». Жажда борьбы и неустанного поиска, «судьбострастность» (amorfati) – идут оттуда. В стихотворении «Пилот-ирландец провидит свою гибель» очевидны прямые переклички с «Улиссом».
Ни долг, ни родины призыв, Ни исступленной черни рёв – Минутной вольности порыв Бросает в бой меж облаков. (Пер. А Сергеева).Герой оглядывается на то, что прожил, бросает взгляд вперед: и тут и там он видит лишь пустую «растрату дыханья» («a waste of breath»). Так Улисс негодует на бесцельно уходящий остаток лет: «как будто жизнь – дыханье, а не подвиг». Стихотворение Йейтса посвящено памяти майора Роберта Грегори, сына леди Грегори, погибшего в воздушном бою над Францией. Один из критиков верно заметил, что в содержании «Улисса» и «Летчика-ирландца» присутствует обратный параллелизм: Теннисон скрывает свою молодость за маской постаревшего героя, а Йейтс, наоборот, скрывает свою старость, произнося монолог от лица юноши[57].
Героический дух с годами лишь усиливается в поэзии Йейтса, и вместе с ним все громче звучит принятие жизни, «трагическая радость».
«Ну и что? Из склепа доносится голос, и он повторяет одно слово: „Радуйся!“», – пишет он в стихотворении «Круги».
What matter? Out of cavern comes a voice, And all it knows is that one word „Rejoice!“И это снова прямая реминисценция из Теннисона; так заканчивается его стихотворение 1834 года «Два голоса»: «Для чего же я вступил с беседу с этим унылым голосом, а не с другим, говорящим: „Радуйся!“»
And wherefore rather I made choice To commune with that barren voice, Than him that said, „Rejoice! Rejoyce!“Примеры можно умножать. В песне-прологе к пьесе «Последняя ревность Эмер» (1919) Йейтс сравнивает женскую красоту сначала с белой морской птицей, а потом – с раковиной:
Странная и бесполезная эта вещица – Хрупкая раковина, что бледно искрится За полосою прибоя, в ложбине сырой; Волны разбушевались пред самой зарей, На побережье ветер накинулся воя… Вот и лежит она – хрупкое чудо морское – Валом внезапным выброшенная перед зарей.Сравните с отрывком из «Мод» Теннисона:
Вот, на песке морском, Раковина, посмотри – Крохотная вещица, Не крупней ноготка, С тоненьким завитком, Розовая внутри, Как чудесно искрится, Радужна и хрупка! Мог бы назвать ученый Кличкой ее мудреной, С книжного взяв листа; Но и не нареченной Имя ей – красота[58].Теннисон обогатил английскую поэзию новым разнообразием ритмов, размеров, небывалых модуляций. Хореи, дактили, анапесты, дольники в различных сочетаниях, строки сверхдлинные и короткие, даже односложные стопы («Бей, бей, бей!»), различные способы рифмовки, в том числе внутренние и эхо-рифмы… Задолго до Верлена он явочным порядком ввел в поэзию принцип: «Be la musique avant tous choses» – «Музыка прежде всего!». Диапазон его поэзии необыкновенно широк: от мужественной героики до тончайшей, необъяснимой тоски и печали…
Таков Теннисон в своих лучших вещах. И этим велик. Но не все в его наследии равноценно. Прав был его биограф Мартин, сказавший: «Те стихи, в которых он более всего стремился быть современным, устарели в первую очередь»[59].
Увы, как многие другие поэты, Теннисон, доверяя своей интуиции, все-таки был чувствителен к чужому мнению. Тиранство дурного вкуса той эпохи – эпохи, по своему существу, антипоэтической – сказалось на многих его стихах, зараженных риторикой, назидательностью, «психологией». Это касается большинства его произведений на социально-моральные темы: таких, как «Королева мая», «Леди Клара Вир-де-Вир», «Дора» и другие.
Именно эти стихотворения и привлекли первых русских переводчиков Теннисона. Напомним, то было время (1860-е годы), когда от поэзии требовали, прежде всего, прямой пользы и облегчения народных страданий.
Особенно повезло в России «Леди Кларе Вир-Де-Вир», прекрасной и надменной аристократке, которой автор советует оставить в покое своих несчастных поклонников и отправиться «в народ» – учить детей грамоте, шитью и полезным ремеслам. Это стихотворение переводилось на русский язык трижды: кроме А. Плещеева, еще О. Михайловой и Д. Мином.
Лишь к концу века подуло иным ветром, и книги Теннисона открылись совсем на других страницах. Дело дошло наконец до стихов символических и пророческих. Характерен выбор Бальмонта: «Кракен», «Волшебница Шалот», «Вкушающие лотос», «Странствия Мальдуна». Вышли отдельным изданием «Королевские идиллии» в переводе О. Чюминой.
Но самым знаменитым в России стихотворением Теннисона стала «Годива». Баллада, основанная на старинном предании о доброй леди Годиве, которая, чтобы спасти земляков от непосильных поборов, согласилась проехать нагой по улицам своего города. В этом стихотворении счастливо сошлись туманный средневековый колорит и позитивное «народническое» содержание. «Годива» угодила всем: и некрасовскому «Современнику» 1859 года (перевод М. Михайлова), и эстетам Серебряного века (перевод И. Бунина, 1906). Недаром Осип Мандельштам через много лет вспоминал в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…»:
Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя под сурдинку: Леди Годива, прощай… Я не помню, Годива.VIII. «Все сбылось»
Биографию Теннисона можно обрамить двумя русскими виньетками.
Первая – это захватывающая история, которую Теннисон в детстве слышал от своего отца. В 1801 году Джордж Теннисон, только что окончивший Оксфорд и рукоположенный в священники, совершил путешествие в Россию на коронацию царя Александра вместе с представителем Англии, лордом Сент-Эленом. То, что Джордж действительно был в России, подтверждается документально, остальное известно с его слов. На большом обеде в Москве, данном Сент-Эленом, Теннисон неожиданно обратился к своему соседу по столу и громко произнес: «А ведь в Англии не секрет, кто убил императора Павла, это – граф Такой-то». За столом воцарилась мертвая тишина. После обеда граф Сент-Элен под благовидным предлогом вызвал Джорджа в соседнюю комнату и сказал: «Вы знаете, кто сидел рядом с вами? Это – граф Такой-то, которого вы публично обвинили в цареубийстве. Ваша жизнь находится под серьезной угрозой. Не медля ни минуты, уезжайте из города. Доберитесь до Одессы и ждите там моего курьера: он поможет вам покинуть Россию». Не заезжая домой, Теннисон сел на коня и поскакал по дороге к Одессе. Въехав в город и найдя ночлег в каком-то убогом предместье, он на следующий день слег с тяжелейшей горячкой и три месяца находился между жизнью и смертью. Два раза ему мерещилось сквозь забытье, что с улицы раздается звук знакомой английском мелодии: это проходил курьер лорда Сент-Элена, играя на рожке. На третий раз у Джорджа хватило сил выглянуть на улицу и окликнуть курьера, который привел его на английский корабль, и так ему удалось вернуться на родину.
Что в этом рассказе правда, а что миф, судите сами. По крайней мере, на детей преподобного доктора Теннисона он неизменно производил большое впечатление, хотя рассказывался каждый раз чуть-чуть по-другому. Но рожок, доносящийся сквозь сон, – рожок, которому лишь на третий раз удалось ответить, – присутствовал неизменно.
Вторая история – уж, точно, никакая не выдумка, хотя она тоже касается российской императорской фамилии. В 1883 году Альфред Теннисон был приглашен премьер-министром Гладстоном, своим давним приятелем, в круиз на корабле «Пембрук-Касл». По прибытию в Копенгаген они были званы на ужин к королю и королеве Дании. Теннисон, не любивший торжественные мероприятия, остался на корабле, но на следующий день большая компания знатных особ пожаловала на борт «Пембрук-Касла». Кроме датской королевской четы там были еще греческий король с королевой, российский царь с царицей и целое сборище принцев, герцогов, министров, адмиралов и генералов. После обеда Теннисона попросили почитать стихи в узком кругу. Они переместились в маленькую кают-компанию, где Теннисон был втиснут между принцессой Уэльской (дочерью датского короля и женой будущего английского монарха Эдуарда VII) и ее сестрой Дагмарой, вышедшей замуж за Александра III и ставшей таким образом русской императрицей Марией Федоровной. Теннисон по рассеянности принял ее за фрейлину и, водрузив на нос очки для чтения, продекламировал два стихотворения, отбивая ритм чуть ли не на колене у своей соседки. Когда он закончил, она вежливо похвалила стихи; поэт, не различая ее лица из-за очков, ласково похлопал царицу по спине и ответил: «Очень, очень тронут вашими словами, моя дорогая!». Очевидцы сообщают, что царица только улыбнулась, но царь Александр был шокирован.
Вероятно, Альфред Теннисон – единственный английский поэт, столь фамильярно обошедшийся с русской императрицей. Судьба порой вычерчивает странные круги; а что, если это было возмездие за смертный страх, пережитый отцом Теннисона в России?
После революции в «Стране большевиков» Теннисон за свои консервативные взгляды и «связь с британским империализмом», естественно, стал персоной поп grata. Но одна его строка, заключительная строка «Улисса», – без имени автора – сделалась широко известной благодаря В. Каверину и его роману «Два капитана». Одна только строка, но зато какая:
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Сын Теннисона, Хэллем, запомнил со слов отца, как тот мальчуганом, еще не умеющим читать, бывало, выбегал из дома в непогоду и, широко расставив руки, кричал в необъяснимом восторге: «Я слышу голос, говорящий в ветре!»
В конечном итоге, «все оправдалось и сбылось». Он прошел и медные трубы славы, и посмертное непонимание. Весы выровнялись, роли определились. Теперь ясно, что Йейтс принял эстафету романтизма не от прерафаэлитов и Уильяма Морриса, а непосредственно из рук Теннисона.
Великий поэт узнается по тому, сколь прочным звеном он входит в цепь родного языка и поэзии. Альфред Теннисон – прочное звено. Истинная предтеча символистов, сновидец, путешественник по золотым мирам прошлого, предвестник будущего.
Он поет о том, каким будет мир, Когда годы и время пройдут.Альфред Теннисон (1809–1892)
Песня поэта
Ливень схлынул, и вышел Поэт за порог, Миновал дома, городской предел, Ветерок подул от закатных туч, Над волнами ржи, как дрожь, пролетел. А Поэт нашел одинокий холм И так звонко, так сладко песню запел – Дикий лебедь заслушался в небесах, Наземь жаворонок слетел. Стриж забыл на лету догонять пчелу, Змейка юркнула в свой приют, Ястреб с пухом жертвы в клюве застыл, Он скорей растерян, чем лют; Соловей подумал: «Мне так не спеть, На земле так, увы, не поют – Он поет о том, каким будет мир, Когда годы и время пройдут».Кракен
Под толщей вод, в глубинах потаенных, Вдали от волн, ветров и сотрясений, Среди безмолвных сумерек зеленых Спит Кракен. Чащи губчатых растений И мхов его хранят; опутан сетью Зыбучих трав, подводный остров дремлет И кольца гибких щупалец колеблет Сквозь муть и мглу; прошли тысячелетья И вновь пройдут, дремоты не наруша, Давая корм ракушкам и полипам, – Пока не содрогнутся хлябь и суша И не прожжет пучин огонь небесный; Тогда впервые он всплывет из бездны Пред очи ангелов – и с тихим всхлипом Умрет его чудовищная туша.Сова на колокольне
Когда домой бегут коты, И свет еще не стал теплом, И ветер шевелит листы, И мельница скрипит крылом – И мельница скрипит крылом, Одна, в броне своих обид, Сова на колокольне спит. Когда звенит надой в ведре, И щелкает бичом пастух, И сеном пахнет на дворе, И в третий раз поет петух – И в третий раз поет петух, Одна, застыв, как нежива, На колокольне спит сова.На берегу
Грянь, грянь, грянь, В грани серые скал, Океан! Как найти мне слова для тоски, Что клубится в груди, как туман? Хорошо от восторга кричать Ребятне на прибрежных камнях, Хорошо рыбаку отвечать Смеху чаек на синих волнах. Возвращаются корабли К тихой гавани береговой, Но вовек не коснуться мне милой руки, Не услышать тот голос родной. Грянь, грянь, грянь, Влажной пылью разбейся у ног! Никогда не вернутся счастливые дни Когда петь и смеяться я мог.Улисс
Что пользы, если я, никчемный царь Бесплодных этих скал, под мирной кровлей Старея рядом с вянущей женой, Учу законам этот темный люд? – Он ест и спит и ничему не внемлет. Покой не для меня; я осушу До капли чашу странствий; я всегда Страдал и радовался полной мерой: С друзьями – иль один; на берегу – Иль там, где сквозь прорывы туч мерцали Над пеной волн дождливые Гиады. Бродяга ненасытный, повидал Я многое: чужие города, Края, обычаи, вождей премудрых, И сам меж ними пировал с почетом, И ведал упоенье в звоне битв На гулких, ветреных равнинах Трои. Я сам – лишь часть своих воспоминаний: Но все, что я увидел и объял, Лишь арка, за которой безграничный Простор – даль, что все время отступает Пред взором странника. К чему же медлить, Ржаветь и стынуть в ножнах боязливых? Как будто жизнь – дыханье, а не подвиг. Мне было б мало целой груды жизней, А предо мною – жалкие остатки Одной; но каждый миг, что вырываю У вечного безмолвья, принесет Мне новое. Позор и стыд – беречься, Жалеть себя и ждать за годом год, Когда душа изныла от желанья Умчать вслед за падучею звездой Туда, за грань изведанного мира! Вот Телемах, возлюбленный мой сын, Ему во власть я оставляю царство; Он терпелив и кроток; он сумеет С разумной осторожностью смягчить Бесплодье грубых душ и постепенно Взрастить в них семена добра и пользы. Незаменим средь будничных забот, Отзывчив сердцем, знает он, как должно Чтить без меня домашние святыни: Он выполнит свое, а я – свое. Передо мной – корабль. Трепещет парус. Морская даль темна. Мои матросы, Товарищи трудов, надежд и дум, Привыкшие встречать веселым взором Грозу и солнце, – вольные сердца! Вы постарели, как и я. Ну что ж; У старости есть собственная доблесть. Смерть обрывает все; но пред концом Еще возможно кое-что свершить, Достойное сражавшихся с богами. Вон замерцали огоньки по скалам; Смеркается; восходит месяц; бездна Вокруг шумит и стонет. О друзья, Еще не поздно открывать миры, – Вперед! Ударьте веслами с размаху По звучным волнам. Ибо цель моя – Плыть на закат, туда, где тонут звезды В пучине Запада. И мы, быть может, В пучину канем – или доплывем До Островов Блаженных и увидим Великого Ахилла (меж других Знакомцев наших). Нет, не все ушло. Пусть мы не те богатыри, что встарь Притягивали землю к небесам, Мы – это мы; пусть время и судьба Нас подточили, но закал все тот же, И тот же в сердце мужественный пыл – Дерзать, искать, найти и не сдаваться!Тифон
Леса гниют, гниют и облетают, И тучи, плача, ливнями исходят, Устав пахать, ложится в землю пахарь, Пресытясь небом, умирает лебедь. И лишь меня жестокое бессмертье Снедает: медленно я увядаю В твоих объятьях на краю вселенной, – Седая тень, бродящая в тумане Средь вечного безмолвия Востока, В жемчужных, тающих чертогах утра. Увы! седоголовый этот призрак Когда-то был мужчиной, полным силы. Избранник твой, он сам себе казался Богоподобным, гордым и счастливым. Он попросил тебя: «Дай мне бессмертье!» И ты дала просимое с улыбкой, Как богачи дают – легко, небрежно. Но не дремали мстительные Оры: Бессильные сгубить, они меня Обезобразили, к земле пригнули И, дряхлого, оставили томиться Близ юности бессмертной. Чем ты можешь, Любовь моя, теперь меня утешить В сей миг, когда рассветная звезда Мерцает и дрожит в твоих глазах, Наполненных слезами. Отпусти! – Возьми назад свой дар: к чему попытки Уйти от общей участи людской И преступить черту, где должен всякий Остановиться и принять судьбу, Дарованную небом человеку. Вдали, в просветах облачных забрезжил Тот темный мир, в котором я родился. И вновь зажглись таинственным свеченьем Твой чистый лоб и скаты нежных плеч, И грудь, где сердце бьется обновленно. Вновь разгораются румянцем щеки, И влажные твои глаза – так близко К моим! – сверкают ярче. Звезды гаснут Пред ними, и влюбленная упряжка Неистовых твоих коней хрипит, Вздымаясь на дыбы, и отрясает Ночь с грив своих – и пышет пылом утра. Любовь моя! вот так ты каждый раз Преображаешься – и ускользаешь, Оставив слезы на моей щеке. Зачем меня пугаешь ты слезами? – Не для того ль, чтоб я, дрожа, припомнил Слова, произнесенные однажды: «Своих даров не отменяют боги». Увы! увы! Не так я трепетал В былые дни, другими я очами Тогда смотрел – и я ли это был? – На разгорающийся ореол Вкруг тела твоего, на вспышки солнца В твоих кудрях – и сам преображался С тобой – и чувствовал, как в кровь мою Вливается тот отблеск розоватый, Которым ты так властно облекалась, И ощущал губами, лбом, глазами Касанье губ твоих – благоуханней Апрельских первых лепестков! – и слышал Твой шепот жаркий, сладостный и странный, Как Аполлона радостная песнь В тот день, когда воздвиглись башни Трои. О, отпусти меня! нельзя навеки С твоим восходом сочетать закат. Я мерзну в этих теплых волнах света, В твоих ласкающих лучах, я мерзну, Ногами зябкими ступив на твой Мерцающий порог в тот ранний час, Когда восходит к небу пар белесый С полей, где смертные живут свой век Или, отжив, спокойно отдыхают. Освободи, верни меня земле; Всевидящая, с высоты своей Призри на тихую мою могилу, – Когда, истлев, навеки позабуду Твоих пустых чертогов высоту, Твою серебряную колесницу…Смерть Артура
Весь день раскатывалось эхо битвы Над зимним побережьем в Лионессе, Пока не пали все бойцы Артура, Сражавшиеся рядом с королем. А сам король Артур, смертельно ранен, Был поднят храбрым сэром Бедивером И отнесен в часовню, что стояла, Убогая, с разбитым алтарем, На голой, темной полосе земли Меж длинным озером и океаном. Ночь белая была от полнолунья. И так промолвил сэру Бедиверу Король Артур: «Бой нынешний расторг Прекраснейшее рыцарское братство, Какое видел мир. Они уснули Навек – друзья любимые. Отныне Не тешиться им славною беседой О битвах и турнирах, не гулять По залам и аллеям Камелота, Как в прежни дни. Я сам их погубил, Увы, – и рядом с ними погибаю… Хоть Мерлин клялся, что я возвращусь И стану править вновь, – но будь что будет. Так глубоко мой шлем пробит клинком, Что, думаю, мне не дожить до утра. Возьми ж мой славный меч Эскалибур, Которым я гордился: ты ведь помнишь, Как в летний полдень некая рука, Покрытая парчой венецианской, Таинственно-волшебная, явилась Из глубины озерной, этот меч Держа, и как за ним поплыл я в лодке, И взял его, и с доблестью носил; Об этом и в грядущих временах, Меня воспоминая, не забудут. Не медли же: возьми Эскалибур И в озеро забрось как можно дальше; Вернувшись, расскажи о том, что видел». Ему ответил храбрый Бедивер: «Мой государь, хоть мне не подобает Вас оставлять с такой жестокой раной Без друга и подмоги, одного, Но ваш приказ исполню, не промедлив, И обо всем, что видел, расскажу». Так он сказал и вышел из часовни И в лунном свете пересек погост, Где кости древних воинов лежали В могилах, а над ними ветер пел, Хрипя, и клочья нес холодной пены, – И по извилистой тропе меж скал Сошел к озерным озаренным водам. Там он извлек Эскалибур из ножен, Поднял его, – и зимняя луна, Что серебрила край протяжной тучи, Промчалась по клинку до рукояти И вспыхнула огнем алмазных искр, Мерцающих топазов и гранатов Огранки дивной. Полуослепленный, Стоял он, замахнувшись для броска, Но с разделенной волей; наконец Подумалось ему, что лучше спрятать Эскалибур меж узловатых стеблей Прибрежных тростников, шуршащих глухо. Так сделав, он вернулся к королю. Спросил Артур у сэра Бедивера: «Исполнил ли ты в точности приказ? Поведай, что ты видел или слышал?» Ответил храбрый Бедивер Артуру: «Я слышал только шорох камыша И тихий плеск озерных волн о скалы». Тогда король Артур сказал, бледнея: «Ты изменил своей душе и чести, Ответив, не как благородный рыцарь, А как лукавый, низкий человек. Я знаю, озеро должно ответить Каким-то знаком, голосом, движеньем. Позорно лгать. Но ты мне мил и дорог. Ступай опять, исполни приказанье, Потом вернись и расскажи, что видел». И вновь отправился сэр Бедивер Тропой скалистой на озерный берег, Шаги в раздумье меря, – но едва Узрел он снова рукоять резную Тончайшей и диковинной работы, Как, сжав кулак, вскликнул: «Неужели Я должен выбросить такой бесценный, Такой чудесный меч, – чтоб никогда Его никто из смертных не увидел? Какое в этом послушанье благо? Какое зло от ослушанья, – кроме Сознания, что ослушанье – зло? Положим, так. Но если сам король Себе же самому вредит приказом? Он тяжко болен, ум его мутится. Что он оставит временам грядущим На память о себе, когда уйдет, Помимо темных слухов? Если ж эта Реликвия навечно сохранится В сокровищнице королей, – однажды На рыцарском пиру иль на турнире Ее достанет кто-нибудь и скажет: Вот он, Эскалибур, Артуров меч, Сработанный таинственною Девой На дне озерном: целых девять лет Она над ним трудилась в одиночку. – И все почтят его и подивятся. Лишить ли этой славы короля?» Такими мыслями себя смутив, Он снова спрятал меч Эскалибур И к раненому корою вернулся. Спросил его Артур, с трудом дыша: «Поведай, что ты видел или слышал?» Ответствовал ему сэр Бедивер: «Я слышал плеск озерных волн о скалы И заунывный шорох камыша». Тогда воскликнул в горечи и в гневе Король Артур: «Бессовестный предатель! Язык твой лжет! О горе, горе мне… Несчастен умирающий король: Взгляд, некогда без слов повелевавший, Утратил власть; но он не помутился. Что вижу я? Ты, мой последний рыцарь, Который должен был служить за всех, Прельстился драгоценной рукоятью И предал короля, как алчный вор Или девица – ради побрякушки. И все же можно дважды оступиться, А в третий раз – исполнить долг; ступай! Но если ты предашь и в этот раз, Я сам убью тебя своей рукою». Бегом пустился вниз сэр Бедивер, С размаху ринулся в тростник прибрежный, Схватил Эскалибур и, раскрутив, Швырнул что было сил. Блестящий меч, Вращаясь и сверкая в лунном свете, Взлетел, пуская веером по кругу Лучи – подобно тем ночным огням, Что светят над полярными морями В морозном тресканье плавучих льдов. Так взмыл – и вниз упал клинок Артура; Но прежде, чем коснулся он воды, Какая-то волшебная рука, Покрытая парчой венецианской, Вдруг поднялась из волн, схватила меч За рукоять и, трижды им взмахнув, Исчезла. Рыцарь поспешил обратно. Узрев его, сказал король Артур: «Теперь я знаю: ты исполнил долг. Скажи скорей, что видел ты и слышал?» Ответствовал ему сэр Бедивер: «Мой государь, я должен был сперва Глаза зажмурить, чтобы не ослепли: Ведь ничего чудесней тех камней, Искусней той резьбы на рукояти, Хоть проживи я трижды век людской, Мне никогда на свете не увидеть. Потом я размахнулся широко И в воду меч швырнул… Гляжу – рука, Покрытая парчой венецианской, Вдруг поднялась из волн, схватила меч За рукоять и, трижды им взмахнув, Исчезла вместе с ним в озерной глуби». И так сказал Артур, дыша с натугой: «Смерть близится; я чувствую ее. Скорее подними меня на плечи И отнеси на берег. Но боюсь, Что эта рана слишком остудилась». Сказал и приподнялся на локте, С усилием превозмогая боль И глядя синими, как сон, глазами Куда-то пред собой. Сэр Бедивер С великой жалостью смотрел сквозь слезы; Хотел промолвить что-то, но не смог. Лишь осторожно, преклонив колени, На плечи государя поднял он И медленно побрел с ним вдоль погоста. Король Артур дышал ему в затылок И судорожно вздрагивал, как спящий, Которому приснился страшный сон, И хрипло повторял: «Скорей! скорей! Смерть близится; боюсь, мы не успеем». А рыцарь между тем шагал вперед С уступа на уступ по скользким скалам, Окутанный в пар своего дыханья, Как некий призрак или великан. Он слышал, как шумело сзади море, Как птица ночи впереди кричала; Шагал, гоним вперед одною мыслью, И стук доспехов отзывался эхом В ущельях и на склонах ледяных Вокруг него, и лязг стальных шагов Гудел и множился среди утесов – И, наконец, пред ним открылся берег И озеро, облитое луной. Там, на волнах они узрели барку, Темневшую, как траурная шаль, Близ берега. На палубе рядами Стояли люди в черных длинных ризах И черных капюшонах – и меж ними Три королевы в золотых коронах; И с барки этой поднимался плач До самых звезд, – унылый, скорбный, слитный, Как завыванье ветра темной ночью В такой глуши, куда еще никто Не заходил от сотворенья мира. «Теперь, – король промолвил, – отнеси Меня на барку. С плачем и стенаньем Три королевы приняли Артура На палубе; а та, что остальных Превосходила красотой и статью, На грудь к себе его главу склонив, Сняла разбитый шлем и зарыдала, И, растирая руки короля, Горячими слезами окропила Его чело с запекшеюся кровью, И щеки бледные, как лик луны Перед зарей, и слипшиеся кудри, Что прежде озаряли трон Артура, Как сноп лучей, а ныне, потемнев От пота и от пыли, клочковато Висели, спутанные с бородой. Так он лежал обрушенной колонной; Ужели это тот Артур, что мчался Ристалищем, с копьем наперевес, Перед глазами восхищенных дам, Свет рыцарства – от шпор до перьев шлема? Тогда воскликнул храбрый Бедивер: «Ах, Государь, куда теперь пойду я? Где спрячу взор от страшных перемен? Прошли те дни, когда царила честь, И каждая заря звала на подвиг, И каждый подвиг рыцаря творил: Таких времен, клянусь, не видел свет, С тех пор, когда пришли волхвы с дарами. А ныне Круглый Стол, сей образ мира Могучего и славного, распался; Мне суждено остаться одному, Последнему, – а впереди лишь тьма, Чужие лица, странные заботы». И так ему король ответил с барки: «Уходит старое и уступает Путь новому; так Бог устроил мир, Чтоб в нем добро от ветхости не сгнило. Утешься, рыцарь; что тебе во мне? Я прожил жизнь свою, и да очистит Господь в Себе мои грехи! Но ты, Коль свидеться не суждено нам снова, Молись за душу короля. Молитва Сильней, чем думают о ней. Так пусть же Твой голос днем и ночью за меня Восходит к небу, как струя фонтана. Чем люди лучше козлищ и овец, Коль, зная милость Божью, не возносят Молитвы за себя и за друзей? Так у подножия Его плетется Златая сеть, объемлющая мир. Теперь – прощай. Я уплываю с ними, Кого ты видишь здесь (хотя душа По-прежнему не верит и страшится) На остров Авалон средь теплых вод, Где нет ни града, ни дождя, ни снега, Ни бурь; но лишь цветущие сады, Вечнозеленые луга – и гроты В тени ветвей над морем голубым; Там исцеляются любые раны». Так он сказал, и барка отплыла, Влекома веслами и парусами – Как белогрудый лебедь, спевший песню Предсмертную и, растопырив перья, Отдавшийся потоку. Долго вдаль Смотрел сэр Бедивер, воспоминая Столь многое! – пока корабль уплывший Не стал лишь точкой в заалевшем небе И дальний плач не смолкнул над водой.Слезы (Песни из поэмы «Принцесса»)
О слезы бесполезные, зачем Вы снова приливаете к глазам Со дна души, из тайных родников, Когда гляжу на тучные поля И вспоминаю канувшие дни? Отрадны, как заря на парусах, Везущих нам друзей издалека, Печальны, как далекие огни Навеки уходящих кораблей, Невозвратимые былые дни. Печальны и таинственны, как свист Каких-то птах, проснувшихся в саду Для умирающего, что глядит В светлеющее медленно окно, Непостижимые былые дни. Безумны, как загробный поцелуй, Как безнадежное желанье губ, Цветущих не про нас, – горьки как страсть, Обида, боль и первая любовь, – О смерть при жизни, канувшие дни!Колыбельная
Тихо и нежно издалека, Западный ветер, повей! И возврати издалека Милого к нам поскорей. Не разбудив урагана в пути, Над озаренной пучиной лети Лунного света быстрей! Видишь – в спаленке спит мой маленький, спит. Тихо и нежно спи-засыпай, Глазки покрепче закрой – Спи безмятежно, баюшки-бай: Матушка рядом с тобой. Дремлет луна в золотых небесах, Папин кораблик на всех парусах Мчится к сыночку домой. Спи, мой маленький, в тихой спаленке, спи.Из цикла «In memoriam»
V
Порой мне кажется: грешно Писаньем горе умножать – Как будто полуобнажать, Что прикровенным быть должно. И если сызнова пишу, То лишь затем, что я таким Занятьем истово тупым, Как опиумом, боль глушу. И, чтобы спрятать скорбь свою И холод жизни обмануть, В дерюгу слов укутав грудь, Я здесь, как чучело, стою.VII
Дом пуст. К чему мне тут стоять И у порога ждать теперь, Где, прежде чем ударить в дверь, Я сердце должен был унять? Укор вины, укол тоски; Взгляни – я не могу уснуть, Бреду в предутреннюю муть Вновь ощутить тепло руки, Которой нет… Тебя здесь нет! Но снова слышен скрип забот, И в мокрой, серой мгле ползет, Как привидение, рассвет.XI
Как тихо, Господи, вокруг! Такая тишь среди полян, Что, если падает каштан, Слой листьев поглощает звук. Тишь в поле. Зябкою росой Калины каждый лист омыт; И паутину золотит Зари осенней луч косой. Тишь в воздухе, ни ветерка; Недвижный лес день ото дня Пустей. И в сердце у меня Покой и мертвая тоска. Тишь, как туман, у ног течет, Равнина дышит тишиной И хочет слиться с пеленой Холодных мутно-серых вод. Над океаном – тихий бриз; И в той груди навек покой, Которую лишь вал морской Колышет мерно вверх и вниз.LIV
О да, когда-нибудь потом Все зло мирское, кровь и грязь, Каким-то чудом истребясь, Мы верим, кончится добром. У каждого – свой верный шанс; Ничто не канет в никуда, Как карта лишняя, когда Господь закончит свой пасьянс. Есть цель, невидимая нам: Самосожженье мотылька И корчи в глине червяка, Разрезанного пополам – Все не напрасно; – там, вдали, Где нет зимы и темноты, (Так мнится мне) для нас цветы Неведомые расцвели… Но кто я, в сущности, такой? Ребенок, плачущий впотьмах, Не зная, как унять свой страх В кромешной темноте ночной.CIV
Подходит к Рождеству зима. Ныряет в тучах лунный круг; В тумане колокола звук Доносится из-за холма. Удар глухой во мгле ночной! Но не пронзил он грудь насквозь, Лишь вяло в ней отозвалось: Здесь даже колокол другой. Здесь всё другое – лес, поля, Душе – ни вехи, ни следа… Пустыня, памяти чужда, Неосвященная земля.Отрывки из поэмы «Мод»
(2)
Выйди в сад поскорее, Мод! Уже ночь – летучая мышь – Улетела в свой черный грот; Поздно спать; неужели ты спишь? Роза мускусная цветет, И луна глядит из-за крыш. Видишь, стало в саду светать, И звезда любви в вышине Начинает меркнуть и угасать На заре, как свеча в окне, – И в объятиях солнечных исчезать, Тая в нежном его огне. До утра со скрипкой спорил гобой Хрипло жаловался фагот, И мелькали вместе и вразнобой Тени в окнах – ночь напролет; Тишина настала лишь пред зарей, С первой россыпью птичьих нот. И сказал я лилии: «Лишь с одним Она может быть весела; Гомон бала ей больше невыносим, Болтовня толпы тяжела». Наконец-то рассеялся шум и дым, В зале музыка замерла; Укатили гости один за другим, Эхо смокло, и ночь прошла. И сказал я розе: «Промчался бал В вихре танцев, красок, огней. Лорд влюбленный, как бы ты ни мечтал, Никогда ей не быть твоей. Навсегда, – я розе пообещал, – Она будет моей, лишь моей!» И пылание розы вошло мне в грудь, Затопляя душу мою, И я долго стоял, не смея вздохнуть И слушал, словно в раю, Плеск ручья, спешащего в дальний путь – Через луг твой – в рощу твою. Через луг, где следы твоих легких ног Так свежи в траве луговой, Что цепочку их мартовский ветерок Обратил в фиалки весной, – Через луг счастливый наискосок До опушки нашей лесной. Белый ирис, уснув на закате дня, Не проснулся и в этот раз, И жасмин, душистую гроздь клоня, В сонных чарах своих погряз. Только лилии, обещанье храня, Стерегли наш заветный час; Только розы и лилии ради меня До зари не смыкали глаз. О волшебница сада, явись на зов! Ночь окончилась – поспеши; В блеске шелка, в мерцании жемчугов По ступеням сойди в тиши, Солнцем стань, златокудрая, для цветов И томленье их разреши. Роза алая у ворот Жарко вспыхивает, как в бреду; Вот она идет, моя Мод, Чтоб утишить мою беду; Роза белая слезы льет; Шпорник шепчет: «Она в саду»; Колокольчик сигнал дает, И жасмин отвечает: «Жду!» Вот она идет сюда – ах! Слышу: платье шуршит вдали; Если даже я буду остывший прах В склепной сырости и в пыли, Мое сердце и там, впотьмах, Задрожит (пусть века прошли!) – И рванется в рдяных, алых цветах Ей навстречу из-под земли.(3)
Вот, на песке морском, Раковина, посмотри – Крохотная вещица, Не крупней ноготка, С тоненьким завитком, Розовая внутри, Как чудесно искрится, Радужна и хрупка! Мог бы назвать ученый Кличкой ее мудреной, С книжного взяв листа; Но и не нареченной Имя ей – красота. Тот, кто в ней обитал, Видно, покинул в тревоге Домик уютный свой; Долго ли он простоял Возле своих дверей, Рожками шевеля На жемчужном пороге, Прежде, чем с головой Кануть в простор морей? Тонкая – даже дитя Пяткой его сломает, Крохотная – но как чудно, Дивно сотворена! Хрупкая – но волна, Что поднимает шутя Трехмачтовое судно И о риф разбивает, – Сладить с ней не вольна.Строки
Я в детстве приходил на этот склон, Где колокольчики в траве цвели. Здесь высился мой древний Илион И греческие плыли корабли. Теперь тут сеть канав со всех сторон И лоскуты болотистой земли, Лишь дюны серые – да ветра стон, Дождь над водой – и груды туч вдали!Сонет
Певцы иных, несуетных веков: Старик Вергилий, что с утра в тенечке, Придумав три или четыре строчки, Их до заката править был готов; И ты, Гораций Флакк, что для стихов Девятилетней требовал отсрочки, И ты, Катулл, что в крохотном комочке Оплакал участь всех земных певцов, – О, если глядя вспять на дольний прах, Вы томики своих произведений Еще узрите в бережных руках, Ликуйте, о возвышенные тени! – Пока искусства натиск и размах Вас не завалит грудой дребедени.Frater ave atque vale
Выплыли из Дезенцано и до Сермия доплыли, Веслами не потревожив дремлющих озерных лилий. Над смеющейся волною здесь, о Sermio venustol Слышится мне голос ветра среди трав, растущих густо. Здесь нежнейший из поэтов повторял в своей печали: До свиданья, братец милый, frater ave atque valel Здесь, среди развалин римских, пурпуровые соцветья Так же пьяны, так же сладки через два тысячелетья. И шумит на бреге Гарды над сверканием залива Сладкозвучного Катулла серебристая олива!За волнолом
Закат вдали и первая звезда, И ясный дальний зов! И пусть теперь у скал замрет вода; К отплытью я готов. Пусть медленно, как сон, растет прилив, От полноты немой, Чтобы безбрежность, берег затопив, Отхлынула домой. Пусть колокол вечерний мерно бьет, И мирно дышит бриз, Когда пройду последний поворот, Миную темный мыс. Развеется за мной, как морок дня, Береговой туман, Когда мой Лоцман выведет меня В открытый океан.Роберт Браунинг: между Пушкиным и Достоевским
Очевидно, что в европейских литературах всегда существовали синхронные, параллельные явления и события. Особенно хорошо они видны в ретроспективе, когда мы из своего далека, как некие парящие орлы, можем обозревать литературную карту прошлого. Чего тогда не откроется любопытному взору? Иной раз увидишь, например, как два писателя, английский и русский, не знающие абсолютно ничего друг о друге, бродят где-то рядом, буквально по одним дорожкам, и создают произведения не просто сходные по духу, а порой буквально с той же самой драматической коллизией.
Интересно ли это? Да. Но существенно ли для истории литературы? На мой взгляд, очень существенно – ибо показывает, что сама эпоха была чревата этой мыслью и замыслом, что один и тот же ветер, веявший над Европой, разносил невидимые зерна, западавшие в души разноплеменных и разноязычных авторов, при условии особого сходства их душ и готовности к такому посеву.
С Робертом Браунингом и русской литературой такие скрещения произошли дважды с промежутком в тридцать пять лет. Первый эпизод связан с А. Пушкиным и его драматическими опытами.
Роберт Браунинг. Данте Г. Россетти, 1855 г.
Общепризнано, что именно в «маленьких трагедиях» (да еще, может быть, в «Борисе Годунове») Пушкин выступил в наибольшей степени «англичанином», проникнув в самое сердце английской драматической литературы. Одновременно он достиг и одной из своих высочайших творческих вершин. Его маленькие по объему болдинские пьесы выполняют те же функции, что и «большие» драмы, представляющие человеческий дух в момент его высшего напряжения. Как мог Пушкин написать эти поистине шекспировские по масштабу вещи, вдохновляясь произведениями явно не шекспировского масштаба (скажем, обрабатывая сцену из трагедии Джона Уилсона «Город чумы»)? Ответ на этот вопрос, может быть, содержится в следующих строках Бориса Пастернака:
Когда-то мнимо неоспоримое влияние Байрона на Пушкина я считал действием на Пушкина самой английской формы. Встречался ли я с гением Китса или блеском Суинберна, за любой английской индивидуальностью мне мерещился чудодейственный повторяющийся придаток, который казался главной и скрытой причиной их привлекательности, независимой от их различий. Это явление я относил к действию самой английской речи. Я ошибался. ‹…› Таинственный возбудитель, составляющий придаточную прелесть всякой английской строки, называется не ямб и не пятистопник, а Вильям Шекспир, и во всех присутствует и через все говорит[60].
Эта догадка особенно убедительна в отношении романтической поэзии, возродившей Шекспира и поставившей его во главу угла. И, конечно, это тень Барда (так, с большой буквы, принято называть Шекспира в Англии) сообщалась с Пушкиным посредством Корнуолла и Уилсона. То, что Тургенев называет «чисто английской манерой» в «Скупом рыцаре», а именно следующие строки:
Эта ведьма, От коей меркнет месяц и могилы Смущаются и мертвых высылают, –могут быть возведены к строке Корнуолла в пьесе «Людовико Сфорца»: «What, can the grave give up its habitant?»[61], а через него – к Шекспиру, а именно к песне Пака в «Сне в летнюю ночь»:
Все кладбища сей порой Из зияющих гробов В сумрак месяца сырой Высылают мертвецов[62].Этот взятый наудачу пример показывает, что влияние великого писателя может быть передано впрямую, или через посредника, или двумя этими путями одновременно. Известно, что «Драматические сцены» Барри Корнуолла (которые Пушкин читал в Болдино) были, в какой-то степени, вдохновлены успехом «Образцов английской драматической поэзии» Чарльза Лэма, в которой последний представил отрывки из Шекспира и других елизаветинских драматургов, впервые доказав тем самым, что и драматический фрагмент может производить цельное эстетическое впечатление. Таким образом, влияние Шекспира на Пушкина шло и напрямую, и через Корнуолла, который в свою очередь испытал двойное влияние Шекспира – напрямую и через Лэма. Таким образом мы приходим к следующей диаграмме.
Существует английский поэт, у которого мы можем проследить те же линии наследственности. Это упомянутый уже Роберт Браунинг, развивший жанр драматического стихотворения-монолога в поэзии XIX века. Жанр драматического монолога, обеспечивший Браунингу особое место в плеяде крупнейших английских поэтов, отличается от мини-пьесы Корнуолла и Пушкина тем, что он представляет собой монодраму: перед нами думает и говорит только один персонаж. Действия других персонажей, а также декорации, сценические ремарки и прочее – все это внимательный читатель находит в этом монологе протагониста или домысливает, основываясь на его словах.
Браунинг, несмотря на то, что был намного младше, дружил с Корнуоллом (старший поэт даже был издателем его сочинений!) и несомненно испытал влияние его «Драматических сцен». Таким образом мы приходим к следующей диаграмме, которую назовем диаграммой «вилка».
Любопытно, что у двух разошедшихся ветвей был уникальный шанс пересечься – в Петербурге весной 1833 года, во время трехмесячной поездки Браунинга в Россию.
Роберт Браунинг, которому в это время было только двадцать лет, был приглашен российским генеральным консулом в Лондоне, шевалье де Бенкхаузеном, сопровождать его в Санкт-Петербург в качестве личного секретаря. Эта поездка почти не оставила специфических «русских следов» в творчестве Браунинга, но навсегда сохранилась в его памяти. Полвека спустя, в Венеции, разговорившись о музыке с князем Гагариным, Браунинг спел ему целый ряд народных мелодий, которые он «уловил на слух» во время своего короткого пребывания в России[63].
Молодой поэт усердно осматривал достопримечательности северной столицы и присутствовал на многих официальных церемониях. Он прибыл в Петербург в марте и задержался достаточно, чтобы увидеть ледоход на Неве, а спустя несколько дней – специальный праздник, во время которого губернатор, под гром пушечных выстрелов, отплывал в шлюпке на середину Невы и набирал там кубок чистой воды, чтобы преподнести его царю. Весьма вероятно, что Пушкин тоже был там в это время: он только что получил чин камер-юнкера и должен был по службе присутствовать на всех такого рода церемониях. Можно себе представить, как был бы заинтригован Пушкин, скажи ему кто-нибудь, что в Петербурге гостит английский поэт, только что закончивший стихотворение, написанное под влиянием Барри Корнуолла и Джона Уилсона!
Стихотворение, о котором идет речь, – «Любовник Порфирии» – до сих пор остается в числе наиболее популярных произведений Браунинга. Это довольно жуткий монолог сумасшедшего, который убивает свою возлюбленную и просиживает остаток ночи, держа ее мертвую голову у себя на плече. Комментаторы указывают, что одним из источников «Любовника Порфирии» послужила поэма Корнуолла «Марциан Колонна» (которую Пушкин читал и даже пытался переводить[64]). Убив свою возлюбленную, Колонна пробыл возле нее целую ночь, «как сиделка», лишь для того, чтобы видеть и ощущать «нежную, прощающую улыбку». Другим источником стихотворения явились «Отрывки из дневника Госсена», опубликованные в журнале «Блэквуд мэгазин» в качестве перевода с рукописи, якобы написанной немецким священником, исповедовавшим приговоренного к смерти, – но на самом деле эти «Отрывки» были сочинены постоянным сотрудником журнала Джоном Уилсоном.
Слова убийцы в рассказе Уилсона: «Думаете, мне не было приятно убивать ее?» – приводят на ум ремарку Барона в «Скупом рыцаре»: «Есть люди, в убийстве находящие приятность». Мнение священника, что убийца «чудовищным образом сочетал в себе добро и зло», намечает психологический тип, всегда вызывавший повышенное внимание Браунинга-поэта.
Английский критик Джон Бейли называет «Моцарта и Сальери» «самым браунинговским» по своему замыслу произведением Пушкина. По-видимому, это относится не только к драматическому сюжету и форме, но и к самому интересу к «болезненным проявлениям человеческой души». Интересно сравнить логику сумасшедшего в стихах Браунинга, написанных в Петербурге, с монологом Сальери:
Be sure I looked up at her eyes Happy and proud; at last I knew Porphyria worshipped me; surprise Made my heart swell, and still it grew While I debated what to do. That moment she was mine, mine, fair, Perfectly pure and good: I found A thing to do, and all her hair In one long yellow string I wound Three times her little throat around And strangled her[65].[О, я глядел в глаза, гордый и счастливый; наконец-то я был уверен, что Порфирия любит меня; радость переполняла мою грудь, пока я размышлял, что же теперь делать. В эти мгновения она была моя, моя – прекрасная, беспорочно чистая и добрая: и я понял, что нужно делать, я взял длиннейшую золотую прядь ее волос, обмотал ее трижды вокруг горла и задушил ее.]
Этот ужасный выверт ума весьма напоминает аргументы Сальери:
Что пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько занес к нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше!Любовник Порфирии душит ее, потому что овладевший им восторг слишком силен для его хрупкой психики. «В эти мгновения она была моя, моя – прекрасная, беспорочно чистая и добрая…»
Оба они – сумасшедший Браунинга и Сальери – убивают источник величайшего для себя наслаждения, что дает нам основание заподозрить, что и Сальери, в сущности, безумен. Они не могут найти иного способа «остановить мгновенье». С точки зрения Пушкина, это само по себе безумие – желать задержать миг наслаждения, остановить течение времен. Чересчур заботиться о том, что будет, опасно; вспомним заботу Барона: «Я царствую! Но кто вослед за мной Приемлет власть?» – внушающую ему желание и по смерти восстать из гроба, чтобы в образе призрака денно и нощно сторожить от живых свое сокровище, – тем самым продлив навеки момент обладания.
В «Маленьких трагедиях» Пушкин продолжает спор с Гете, начатый в «Сценах из Фауста» (1828). Именно там он ввел в сцену любви мотив убийства как умственного выверта, «прихоти»:
На жертву прихоти моей Гляжу, упившись наслажденьем, С неодолимым отвращеньем: Так безрасчетный дуралей, Вотще решась на злое дело, Зарезав нищего в лесу, Бранит ободранное тело.В «Сценах из Фауста» любовник Маргариты лишь воображает то, что любовник Порфирии совершает на самом деле. Русский читатель не может не вспомнить здесь персонажей Достоевского: Рогожина, бодрствующего всю ночь над телом убитой им Настасьи Филипповны, и героя повести «Кроткая» – тоже полубезумного, тоже находящего «странную отраду» в присутствии своей мертвой возлюбленной: «Вот пока она здесь, – еще все хорошо…». Достоевский разделял интерес Браунинга к болезненным состояниям человеческой души. На сходство этих авторов обратил внимание Андре Жид еще в 1924 году, отметив их общую любовь к эффектам и мелодраме, а также глубокий интерес к психической патологии[66]. Еще «горячее» – в сферу сопоставления была вовлечена поэма «Кольцо и книга»; американский литературовед Роберт Белнап указал на сходство писательских приемов в этой вещи Браунинга и в «Братьях Карамазовых» Достоевского: история убийства, описываемая несколькими рассказчиками с разных точек зрения[67].
Можно добавить, что не одна повествовательная техника Браунинга, но и сам сюжет «Кольца и книги» соотносится с Достоевским – только не с «Братьями Карамазовыми», а с романом «Идиот». При сравнении этих двух произведений – английского и русского – обнаруживаются поразительные совпадения. Начнем с того, что обе книги писались практически одновременно (1867–1869) и даже почти в одном и том же месте: «Идиот» – в Австрии и в Италии, «Кольцо и книга» – в Италии. В сюжетной схеме обеих книг выделяется тройка главных героев: говоря условно, поруганной Девы, Злодея и Святого. Браунинг рассказывает историю Помпилии, в возрасте тринадцати лет выданной замуж за пятидесятилетнего грубого и жестокого графа Гвидо Франкечини и в семнадцать лет безжалостно убитой им и его подручными. Третий персонаж истории – молодой священник, Джузеппе Капонзаччи – пытается спасти Помпилию, помогает ей бежать от ее брутального мужа. Его отношение к Помпилии – святое и благоговейное – напоминает чувство князя Мыш-кина к Настасье Филипповне. Оба поклоняются не просто красоте, но запечатленному на ней страданию; оба противостоят грубому мужскому желанию обладать и властвовать, воплощенному в Рогожине и графе Гвидо. В обеих книгах – перед нами образ женщины, у которой отняли юность, сломали, сделали рабыней мужского произвола, а в конечном счете убили. В обеих книгах мы видим человека, влюбляющегося в «запятнанную» женщину чистой любовью и поклоняющегося ей как земному воплощению Мадонны:
…там, в черной раме Окна, с горящей лампою в руке, Помпилия стояла: так, скорбя, В церковном сумраке, в тени алтарной, Стоит, лучом луны освещена, Мадонна Всех Печалей[68].Неслучайность этого образа делается все явственней от главы к главе: даже смертельные ножевые раны Помпилии ассоциируются с традиционным образом Mater Dolorosa – Скорбящей Богоматери, пронзенной семью кинжалами. Беззаветно преданный своей чистой любви, Капонзаччи именуется одним из рассказчиков (Папой Александром) святым рыцарем («warrior-priest»). Верный и смелый рыцарь, преданный своей Даме, не таков ли князь Мышкин в глазах Аглаи, «применяющей» к нему стихи Пушкина о «бедном рыцаре»?
Жил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой.И священник Капонзаччи, и князь Мышкин – защитники страдающей красоты мира, которая в их глазах тем более прекрасна, чем более она оскорблена и унижена. Оба они – внешне слабы, их рыцарство заключается не в силе воли и не в силе оружия, а лишь в неколебимой любви и сострадании.
Образ «бедного рыцаря» возвращает нас к Пушкину и связи между романами Достоевского и «маленькими трагедиями». Как указывал еще Б. Томашевский, подлинным наследником пушкинской драмы является не русская драматургия, а русская проза – прежде всего Достоевский. Доказательств достаточно. Давно отмечено, например, что приезд Дмитрия Карамазова в монастырь к старцу Зосиме с жалобами на сына – прямая параллель к последней сцене «Скупого рыцаря», когда Барон приезжает к Герцогу с подобными жалобами. Соломон, угадывающий вражду Альберта к отцу и подстрекающий его к отцеубийству, напоминает о роли Смердякова в «Братьях Карамазовых».
Но главное сходство лежит на более глубоком уровне. Интерес Пушкина к сложным психологическим мотивам и эксцессам в кризисные для человека моменты жизни – это как раз то, что Достоевский ввел в русскую прозу. Многие «странные» желания и поступки героев «маленьких трагедий» ретроспективно объясняются в «Записках из подполья». Человеческая природа необузданна, противоречива, иррациональна. Человека неудержимо влечет к беззаконной, ничем не ограниченной свободе, а также к страданию. Мотивы его поведения не обязательно определяются корыстью. Он добровольно может выбрать ущерб вместо выгоды. С чего вы взяли, говорит герой из подполья, что человеку нужна воля, направленная к разуму и его пользе? Ему нужно, ему дорого лишь его собственное, свободное хотение, чего бы оно ему ни стоило и куда бы ни завело.
Сопоставление Пушкина с Достоевским некоторым образом дополняет проведенные выше сопоставления «Пушкин – Браунинг» и «Браунинг – Достоевский». Картина проясняется, если ее изобразить на диаграмме, представляющей собой развитие «диаграммы-вилки»; мы назовем ее диаграммой «воздушный змей»:
Я обозначил Браунинга отрезком прямой, в то время как других – кружочками, чтобы подчеркнуть длинную жизнь английского поэта, сделавшую его современником и Пушкина и Достоевского. Линии влияния идут слева направо; таким образом, параллели Браунинга с Пушкиным и Достоевским объясняются их общим наследием, восходящим – к драматической традиции английского Ренессанса. Если посмотреть на эту диаграмму как на «воздушного змея», то мы увидим, что именно Шекспир держит этого змея за ниточку.
Роберт Браунинг (1812–1889)
Моя последняя герцогиня Феррара
Взгляните, сударь: здесь, на полотне, Портрет моей последней герцогини. Неправда ль – как живая? Фра Пандольф – Художник, сотворивший это чудо. Желаете присесть полюбоваться? Я упомянул имя живописца Намеренно. Ни разу не бывало, Чтоб новый гость, вглядевшись в этот образ, В сияющую глубину зрачков, Не повернулся бы ко мне (лишь я Могу раздвинуть занавес картины), И не спросил бы – но не вслух, а молча: Что означает этот взгляд? Синьор, Спросите – вы не первый! Я скажу вам. Нет, не одно присутствие супруга Зажгло такой румянец оживленья На щечках герцогини. Может быть, Сказал художник: «Обнажим слегка Запястье» – или: «Эта кисть и краски Бессильны передать игру теней На шее госпожи». Подобный вздор (Обычная галантность) мог тотчас же Смутить ее до слез. Она была – Как бы сказать? – уж слишком благодарной, Чрезмерно впечатлительной: всегда И всем кругом готовой восхищаться. Чем – все равно. Обновкой от супруга – Красиво догорающим закатом – Вишневой веткой, сорванной в саду Каким-нибудь шутом и поднесенной С ужимкой глупой, – белоснежным мулом, Катающим ее вокруг террасы: Все вызывало в ней вздох удивленья И радости. Она так горячо Благодарила каждого, как будто (Как объяснить вам?) будто бы равняя То, что я дал ей: герб восьмивековый И титул мой – с любым ничтожным даром. Кто станет унижаться, упрекая За эти пустяки? Когда б я даже Нашел слова и объяснил: «Вот это Мне неприятно, в этом – упущенье, А в том – чрезмерность», – если бы она Со всем без пререканий согласилась И приняла урок, – и в этом был бы Оттенок униженья; а к такому Я не привык. Конечно же, синьор, Она мне улыбалась; но кому Она не улыбалась точно так же? Шло время; это стало нестерпимым. Я дал приказ; и все улыбки сразу Закончились. Она здесь как живая, Неправда ль? Но пора; нас ждут внизу. Я полагаю, благородство графа, Синьор посол, – ручательство того, Что справедливые мои условья Насчет приданого он не отвергнет, Хотя, как я сказал, вся цель моя – В его прекрасной дочери. Сойдемте К другим гостям. Лишь задержите взор На бронзовом Нептуне с колесницей Морских коней. Неправда ль, мощно? Клаус Из Инсбрука отлил мне это чудо.Любовник Порфирии
Под вечер дождь пошел сильней, И ветер стал свирепей дуть: Он злобно рвал листву с ветвей, Старался пруд рас колыхнуть; И страхом сдавливало грудь. Я вслушивался трепеща, Как вдруг – из тьмы – скользнула в дом Порфирия; не сняв плаща (Вода текла с нее ручьем), На корточках пред очагом Присела, угли вороша – И, лишь пошла струя тепла, Шаль развязала не спеша Перчатки, капор, плащ сняла. Глядел я молча из угла. Она шепнула: «Дорогой!» – И села рядом на скамью, И нежно обвила рукой Мне плечи: «Я тебя люблю!» – И бледную щеку мою Склонила на плечо к себе, Шатром льняных волос укрыв… О, не способная в борьбе Решиться с прошлым на разрыв, Ради меня весь мир забыв! Но и средь бала захлестнет Раскаянье – и страсть к тому, Кто ждет ее скорбя; и вот К возлюбленному своему Она пришла сквозь дождь и тьму. Не скрою, я торжествовал; Я ей в глаза глядел как Рок, Блаженно, молча… я решал, Как быть мне – и решить не мог. Прекрасный, бледный мой цветок, Порфирия!.. Восторг мог рос, Как вал морской. И я решил, Как быть; кольцом ее волос Я горло тонкое обвил Три раза – и рывком сдавил. Она, не мучась, умерла – Клянусь! Как розовый бутон, В котором прячется пчела, Я веки ей раскрыл. Сквозь сон Сиял в них синий небосклон. Тогда ослабил я кольцо Волос, сдавивших шею ей, И в мертвое ее лицо Вгляделся ближе и нежней: Порфирия была моей! Склонившись к другу на плечо, Она казалась весела И безмятежна, как еще Ни разу в жизни не была: Как будто счастье обрела. Вот так мы с ней сидим вдвоем Всю ночь – постылый мир забыт – Сидим и молча утра ждем. Но ни звезда не задрожит; И ночь идет, и Бог молчит.Разбор стихотворения Р. Браунинга «Любовник порфирии»: Форма – жанр – сюжет – интертекст
I
Начнем со строфики, необычной для Браунинга и довольно примечательной самой по себе. Стихотворение написано пятисти-шьями с рифмовкой ababb; каждая строфа начинается катреном abab, последняя рифма которого подхватывается (удваивается) в пятой строке. Заметим, что так же начинается «королевская строфа» Чосера (ababbcc) и «спенсерова строфа» (ababbcbcc). Схема, использованная Браунингом, – ababb – укороченный вариант этих знаменитых в английской поэзии (и использованных отнюдь не только Чосером и Спенсером) строф; оттого она звучит не совсем твердо и производит впечатление чего-то незаконченного и неуравновешенного.
Тем не менее принятая схема строго проведена по всему стихотворению, что графически подчеркивается отступами. Однако обычных пробелов между строфами нет. Стихотворение представляет собой как бы сплошную стену строк; его структура скрыта за неровной, обрывистой речью рассказчика, постоянно нарушающей границы пятистиший. Многие пятистишья связаны между собой анжамбеманами (2–3, 3–4, 4–5, 8–9, 10–11), так что конец строфы совпадает с концом предложения лишь в семи случаях из двенадцати, а именно в строфах 1, 5, 6, 7, 9, 11 и 12. Все время поддерживается некое неустойчивое равновесие между двумя противоположными принципами – строфическим и астрофическим.
Таким образом, можно заключить, что сама стихотворная форма, выбранная Браунингом, вносит свой вклад в создаваемую им тревожную и угрожающую атмосферу повествования. Борьба между строфикой и синтаксисом создает внутреннее напряжение, отражающее борьбу рационального с иррациональным началом в сознании героя стихотворения.
II
«Любовника Порфирии» часто называют первым драматическим монологом Браунинга, отсчитывая отсюда историю нового, «запатентованного» им жанра. Это утверждение нуждается, как минимум, в уточнении. Стихотворение начинается с описания холодного, дождливого вечера:
Под вечер дождь пошел сильней, И ветер стал свирепей дуть: Он злобно рвал листву с ветвей, Старался пруд расколыхнуть; И страхом сдавливало грудь.Эта экспозиция ненамного отличается по стилю, скажем, от начала поэмы Китса «Канун Святой Агнессы»:
Канун святой Агнессы… Холод злой! Иззябший заяц прячется, хромая; Взъерошил перья филин под ветлой, И овцы сбились в кучу, засыпая. Монашьи четки медлят, застывая, Не повинуясь ноющим рукам… и т. д.[69]Правда, повествование Браунинга с самого начала ведется в первом лице, но и это не новость в романтической поэзии, где главный герой нередко выступает в роли рассказчика. Например: «Взгляните на меня: я сед, / Но не от хилости и лет; / Не страх внезапный в ночь одну / До срока дал мне седину» («Шильонский узник» Байрона).
«Любовник Порфирии» начинается как повесть в стихах. Лишь в концовке нам открывается, что действие еще продолжается в момент рассказа:
Вот так мы с ней сидим вдвоем Всю ночь – постылый мир забыт – Сидим и молча утра ждем…Драматическое действие переносится в настоящее, и мы неожиданно становимся свидетелями происходящего – зрителями. Отсутствие предыстории, каких-либо связных объяснений более характерно для выхваченного из середины пьесы спонтанного монолога, чем для повести или рассказа. Единство времени, места и действия также напоминают нам о драме.
И все же «Любовника Порфирии» еще нельзя назвать настоящим «драматическим монологом» в том смысле и в той форме, какую этот жанр примет в дальнейшем у Браунинга, – то есть стихотворением, где протагонист произносит один нескончаемый монолог, обращаясь к невидимым нам собеседникам, о реакции и репликах которых мы можем догадываться исключительно по его словам. Скорее, перед нами смешанный жанр рассказа в стихах и драматической картины – точнее говоря, рассказ, на наших глазах превращающийся в драму.
III
Сюжет свершающейся на наших глазах драмы сознательно затемнен. О том, что было раньше, Браунинг упоминает скупыми намеками, оставляя читателю довообразить остальное. Рассказ начинается с того, что в ненастную ночь к человеку, одиноко сидящему в комнате с потухшим очагом, входит женщина. Она тихо проскальзывает в дверь, за которой бушуют ветер и дождь, раздувает огонь в очаге и, когда комната начинает согреваться, снимает мокрый плащ, развязывает капор, распускает свои длинные светлые волосы, садится рядом со своим возлюбленным, кладет его голову на свое плечо и шепчет ему слова любви.
Во все время этой сцены мужчина остается странно неподвижен и молчалив. Можно предположить, что он или совершенно обессилен долгим страданием или настолько взволнован появлением той, которую он давно и безнадежно любит, что буквально оцепенел. Мы можем предположить, что его страдания связаны с какими-то внешними обстоятельствами, препятствующими исполнению его страстных желаний: бедностью, разницей в общественном положении, сомнениями его возлюбленной, ее страхом пойти против условностей и воли родителей. Наверняка мы этого не знаем; но мы слышим внутренний монолог мужчины и его не произнесенный вслух упрек:
О, не способная в борьбе Решиться с прошлым на разрыв, Ради меня весь мир забыв!В том, что он достоин такой самозабвенной любви, возлюбленный Порфирии не сомневается. И когда девушка, хотя бы на один этот вечер, победила наконец свои «предрассудки» и пришла, чтобы отдаться ему полностью, его захлестывает гордость и восторг. Но он не отвечает на ее ласку, потому что напряженно думает, что же теперь делать:
Не скрою, я торжествовал; Я ей в глаза глядел как Рок, Блаженно, молча… я решал, Как быть мне – и решить не мог…О существе происходящей борьбы читатель может только гадать. Зловещее напряжение растет, ибо читатель ждет, что возлюбленный Порфирии выйдет из своего столбняка и начнет действовать. Когда он, наконец, решает, «как быть», его страшное решение нас почти не удивляет. В оригинале сильный анжебемант между восьмой и девятой строфой создает паузу, вдох в конце строфы, и продлевает жизнь Порфирии на короткое мгновение:
And all her hair In one long yellow string I wound Three times her little throat around…[70] (пауза)Но мы понимаем, что убийца не остановится –
And strangled her[71].Следует жуткая некрофильская сцена, в которой он осторожно раскрывает глаза своей мертвой жертвы – «как розовый бутон, в котором прячется пчела», целует ее в щеку и склоняет ее улыбающуюся посмертной улыбкой головку к себе на плечо: в таком «блаженном» отрешении от мира они проводят всю ночь до утра – можно сказать, «взаимно блаженном», потому что убийца уверен, что Пор-фирия тоже счастлива так, как еще «ни разу в жизни не была».
В этот момент мы уже отчетливо понимаем, что этот человек безумен. Первые читатели знали это заранее, так как в издании 1842 года[72] «Любовник Порфирии» был напечатан в паре с другим стихотворением под общим названием «Палаты помешанных»
(Madhouse Cells). Но если даже это безумие, в нем должна быть какая-то система. В чем внутренняя, пусть искаженная логика этого преступления? Браунинг подсказывает ответ: сознание влюбленного не выдерживает груза огромного богатства, внезапным обладателем которого он стал, не выдерживает своего «восторга». Он убивает, потому что боится, что его сокровище будет растрачено, разворовано жизнью. Таков единственно доступный ему метод продления «прекрасного мгновения», о котором грезил гётевский Фауст. Романтическое желание превратить временное в вечное, возвести монумент быстротечному мгновению компрометируется у Браунинга этим ге-ductio ad absurdum, доведением до края – и за край безумия.
IV
Упоение любви, колдовское наваждение женской красоты, перевернувшей сознание безумца и спровоцировавшей его разрушительные инстинкты, в стихотворении Браунинга (одном из его лучших стихотворений!) не просто постулируются, а раскрываются посредством ряда чувственных контрастов холода и тепла, влажности и сухости, закрытости и обнаженности и, конечно, ключевого образа волос Порфирии.
Тут следует иметь в виду, что одержимость женскими волосами была характерна для всего девятнадцатого столетия. Им следовало быть длинными и роскошными (вспомним, как шокировали общество конца века короткие стрижки курсисток и нигилисток), однако никогда обнажаемыми напоказ – но тщательно скрытыми под шляпой или капором или уложенными на голове каким-то сложным, неестественным образом. Свободно распущенные волосы считались, особенно в Викторианский период, чем-то необыкновенно эротичным или просто неприличным. Таким образом, когда Порфирия снимает капор и распускает свои длинные волосы, для той эпохи это почти эквивалентно ее раздеванию перед возлюбленным. После чего, сев рядом, она склоняет его голову к себе на плечо и укрывает его «шатром своих волос», как бы увлекая своего возлюбленного в укромное убежище их любви. Не случайно, что именно этот символ искушения и чувственной страсти становится инструментом убийства.
Примером эротической трактовки распущенных волос в XIX веке может служить, например, концовка стихотворения Уильяма Йе-йтса «Он просит у своей любимой покоя»[73]:
Любимая, закрой глаза, пусть сердце твое стучит Над моим, а волосы волной мне упадут на грудь, Чтоб хоть на час в них утонуть, их тишины вздохнуть – Вдали от тех косматых грив и грохота копыт!Интересно также сравнить «Любовника Порфирии» с другим стихотворением Йейтса из сборника «Ветер в камышах» (1899), «Он желает, чтобы его возлюбленная была мертва». Приводим оригинал и подстрочный перевод:
Were you but lying cold and dead, And lights were paling out in the West, And would come hither and bend your head, And I would lay my head on your breast; And you would murmur tender words, Forgiving me, because you were dead: Nor would you rise and hasten away Though you have the will of the wild birds, But know your hair was bound and wound About stars and moon and sun: О would, beloved, that you lay Under the dock-leaves in the ground, While lights were paling one by one. О, если бы ты лежала мертва и холодна, И звезды на западе меркли и бледнели, Если бы ты пришла сюда и склонила голову, И я бы положил свою голову тебе на грудь; И ты бы шептала нежные слова, Прощая меня, как прощают мертвые; Ты не поднялась бы и заспешила прочь, Хотя ты своевольна как дикие птицы; Знаешь ли, как волосы твои извиваются и обвиваются Вокруг звезд, вокруг солнца и луны: О, если бы ты, любимая, лежала В земле, поросшей диким щавелем, И звезды гасли одна за другой!Сходство деталей, особенно в строках 3–6, наводит на мысль о прямом влиянии Браунинга на это стихотворение Йейтса.
V
Я бы хотел предложить еще один интертекст для «Любовника Порфирии» – поэму Джона Китса «Канун святой Агнессы», начало которой я уже цитировал в этой статье. Прежде всего, конечно, обращает внимание сходство имен протагонистов: Порфиро у Китса и Порфирия у Браунинга (корнем их, между прочим, служит греческое слово, означающее пурпурный, то есть кроваво-красный, цвет).
Однако сходство можно усмотреть не только в именах, но во многих деталях тайных любовных свиданий, описанных в этих произведениях. Во втором из них имеет место некая зеркальность по отношению к первому – частичная инверсия ролей. Для наглядности сопоставим сходные элементы сюжета, расположив их друг против друга в две колонки.
Несмотря на параллельность развития действия (до известного предела), разница замыслов кардинальна. Счастливый конец поэмы Китса отражает его веру в человеческую природу, ее естественные добродетели. История Браунинга – опровержение этого идиллического взгляда, свидетельство глубокого интереса поэта к темным аспектам человеческой души, а также к социальной психологии своего века. Безумец Браунинга не просто умалишенный – он экстремальный случай того человеческого типа, который вскоре заявит о себе в европейской прозе (например, в романах Достоевского): эгоист в принципе, супермен, отрясающий с себя «сети добра и зла». Его финальная фраза: «и Бог молчит»[74] – вызов, так и остающийся в стихотворении без ответа, – предвосхищает знаменитую фразу Ницше: «Бог умер!» и позднейшие заигрывания декадентов и символистов с Дьяволом.
Элизабет Баррет Браунинг (1806–1861)
Злизабет Баррет родилась в состоятельной семье. Сказать, что она получила домашнее образование, будет не точно: она не получала знания, а сама их жадно брала. Греческих, латинских и итальянских авторов она читала исключительно в оригинале; в возрасте двенадцати лет написала огромную эпическую поэму. К сожалению, от матери Элизабет унаследовала слабое здоровье, которое ухудшилось после падения с лошади, а особенно – после смерти брата в 1839 году, утонувшего почти на ее глазах. Последующие шесть лет она вела жизнь затворницы и полуинвалида, практически не выходя из своей спальни.
Элизабет Баррет Браунинг. Рис. Филда Талфурда, 1859 г.
Выход третьего сборника «Стихотворения» (1844) сделал ее знаменитой. Поэт Роберт Браунинг познакомился с ней в 1845 году и сделал предложение. Несмотря на то, что жених был на шесть младше и отец категорически возражал, она вышла замуж, и брак оказался счастливым. Браунинг увез жену в Италию, где они вместе прожили шестнадцать лет. Их история сделалась легендой английской литературы и отражена, в частности, в повести Вирджинии Вульф «Флаш» (в которой все события увидены глазами любимого пса Элизабет). Но поэтесса сама оставила памятник своей любви в 44 прекрасных сонетах, опубликованных анонимно как «Сонеты, переведенные с португальского» в 1850 году.
Плач смертных
I
Глупцы кричат, что Бога нет, Но разве нет печали? Ведь под конец дороги свет Нужнее, чем вначале. Скрипит, изнемогает плоть У ближнего на тризне, И шепчет: «Смилуйся, Господь!» – Кто не молился в жизни. О, смилуйся, Господь!II
Все гуще облака вверху, Внизу все больше мрака, И жмется стадо к пастуху, К охотнику – собака. Удар! и вспыхивает мрак От яркого разлома, И мы дрожим, не зная, как Ответить гласу грома. О, смилуйся, Господь!III
Гремит над полем битвы гром, Серпы войны в работе, И – во имя чести – жнем Снопы из братней плоти. Одним сотворены Творцом, Его дурные дети, Мы рубимся к лицу лицом, В свое подобье метя. О, смилуйся, Господь!IV
Чума опустошает град, Дыша незримым ядом; С телеги мертвецы глядят Остекленелым взглядом. Водицы просит сын опять, Горя в недужном зное, И воплем страшным будит мать Свое дитя грудное. О, смилуйся, Господь!V
Страсть к золоту безумит нас, Как будто сквозь одежу Кентавра злая кровь, сочась, Въедается нам в кожу. Мы бредим выгодой одной, Несчастные торговцы, И сами биржевой ценой Помечены, как овцы. О, смилуйся, Господь!VI
Лишает хлеба земляков Проклятие наживы, И смотрят толпы бедняков, От голода чуть живы, Как тянут певчие псалом В раскрашенном соборе И, что ни день, суда с зерном Отчаливают в море. О, смилуйся, Господь!VII
Мы любим вечера встречать Средь праздничного гула, Старясь вновь не замечать Пустующего стула. Кричим и кубками стучим, Налитыми до края; Но плачет Божий серафим, На этот пир взирая. О, смилуйся, Господь!VIII
Вот мы сидим, глаза в глаза. «Ты не разлюбишь, милый?» И застилает взор слеза: «С тобою – до могилы!» «Покуда смерть не разлучит!» – Мы повторяем снова; И горьким эхом нам звучит Пророческое слово. О, смилуйся, Господь!IX
Мы наклоняемся в тоске Над дорогим усопшим; Скорбим, припав к его руке, И мучимся, и ропщем: Он здесь, он близко – но в руках Безвольных нет ответа, И отсвет на его щеках – Лишь блик дневного света! О, смилуйся, Господь!X
Нас спрашивают иногда Задумчивые дети, Как нам жилось детьми, когда Их не было на свете. Как рассказать? Мы видим вновь Ушедший мир бесценный, И светит матери любовь Улыбкой незабвенной. О, смилуйся, Господь!XI
Молиться мы приходим в храм В невыразимой муке И простираем к небесам Запятнанные руки. Под нами – темные гроба, За нами – путь наш грешный; Узка к спасению тропа Из этой тьмы кромешной. О, смилуйся, Господь!XII
Мы отвергаем суету, Желанья и томленья; Идут, сменяясь на ходу, Века и поколенья. Но мы все те ж! Как страшен бес, Так страшно нам и странно Себя узреть в стекле небес, В зерцале океана. О, смилуйся, Господь!XIII
С холма нам виден тот же вид, Что в детстве мы любили: С востока солнце золотит Сияющие шпили. Когда-то к шпилям золотым Стремился взор наш пылкий, А ныне дольше мы глядим На плиты да могилки. О, смилуйся, Господь!XIV
С последним хрипом из груди Умчится дух больного; Что ждет его? Надейся, жди; Ни стона, друг, ни слова. Верь – там, куда глядит игла, Куда, стеня, возносят Свой стройный звон колокола, Сын у Отца попросит: О, смилуйся, Господь!Безнадежность
Страданье настоящее бесстрастно; Лишь те, что скорби не достигли дна, Лишь недоучки горя – ропщут на Свою судьбу, стеная громогласно; Но тот, кто все утратил, безучастно Лежит, как разоренная страна, Чья нагота лишь господу видна И чья печаль, как смерть сама, безгласна. Она – как тот могильный монумент, Поставленный, чтоб до скончанья лет Усопший прах никто не потревожил (Хоть все крошится – камень и цемент). Коснись гранитных век – так влаги нет; Когда б он мог заплакать, он бы ожил.Из «Португальских сонетов»
I
Я вспоминала строки Феокрита О череде блаженных, щедрых лет, Что смертным в дар несли тепло и свет, И юных вёсен их венчала свита, – И, мыслями печальными повита, Сквозь слезы памяти глядела вслед Скользнувшей веренице тусклых лет, Чьи тени мрачным холодом Коцита Мне в душу веяли – и стыла кровь; Как вдруг незримая чужая Сила Меня, рванув, за волосы схватила И стала гнуть: «Смирись, не прекословь!» «Ты – Смерть?» – изнемогая, я спросила. Но Голос отвечал: «Не Смерть, – Любовь».IX
Так чем я отплатить тебе могу – Затворница печали? Чем любовней Слова мои, тем глуше и бес кровней. Слезами, что я в сердце берегу – Иль вздохами? Их на любом торгу Возы, и вороха – в любой часовне. Возлюбленный! Ты видишь, мы – не ровни, Как нищенка, я пред тобой в долгу. Я улыбнусь – но этого порыва Достанет лишь на миг. Мне не раздуть Угасший пепел. Мертвая олива Не принесет плода. Скорей же в путь! Удерживать тебя несправедливо. А то, что я люблю тебя, – забудь.XVII
Возьмешь ли локон мой? Я не дарила Доселе никому своих волос. Увы, благоуханья юных роз И блеска звезд в них не найти, мой милый. Когда-то (грустный трюк!) я их клонила, Чтоб на щеках скрывать следы от слез; И, думаю, впервые бы пришлось Их срезать на краю моей могилы. Так что же – время повернуло вспять – Иль молодость нагрянула вторая? На палец я наматываю прядь, Рассеянно, как девочка, играя… Прими их, мой возлюбленный. Здесь мать Меня поцеловала, умирая.XX
Вообрази, лишь год назад, как тень, я Бродила у заснеженной реки Одна – и, ясным знакам вопреки, Судьбы не чувствовала приближенья, Перебирая малодушно звенья Своей неволи и своей тоски, – Что ты бы мог движением руки Разбить. И впрямь достойно удивленья, Как я могла, доверясь чарам зим, Не ощутить в шуршанье снеговея Весны? Не угадать, благоговея, Что тишь чревата голосом твоим, Еще не прозвучавшим? Так афеи Не верят в Бога, что для них незрим.XXI
Скажи: люблю – и вымолви опять: Люблю. Пусть это выйдет повтореньем Или кукушки на опушке пеньем, Не бойся уши мне прокуковать – Ведь без кукушки маю не бывать С его теплом, голубизной, цветеньем… Любимый, слишком долго я сомненьем, В ночи подкапывающим, как тать, Была томима. Повтори мне снова: Люблю. Пускай, как звон колоколов, Гудит и не смолкает это слово: Люблю. Подманивай, как птицелов, Короткой, звонкой трелью птицелова. Но и душой люби меня. Без слов.XXIV
Пускай жестокий Мир, как нож складной, Защелкнется, не причинив урона, В ладони у Любви – и усмирено Затихнет ярый вопль и шум земной. Как хорошо, возлюбленный! С тобой Я чувствую себя заговоренной От всех клинков и стрел. Ты – оборона И крепь моя; за этою стеной Вдали от толп – незримо, потаенно – Из данных нам природою корней Мы вырастим два стебля, два бутона, Две лилии – жемчужней и светлей В лучах росы, чем царская корона! А сколько жить им, небесам видней.XXIX
Мечтаю о тебе. Ты, словно ствол, Весь думами моими и мечтами Увит, как виноградными листами И скрыт в том лесе, что тебя оплел. Но нет, фантазий буйный произвол И петли мыслей, вьющихся кругами, Тебя не стоят. Прошурши ветвями Могучими – как будто вихрь прошел – О пальма стройная! – и отряхни Ненужную завесу перед взглядом: Мечты – сравнятся ли с тобой они? Взирать, внимать твоим речам-усладам… Я новый воздух пью в твоей тени И ни о чем не думаю; ты – рядом.Принцесса Гондала (Эмили Бронте)
I
Из всех выдуманных стран от Утопии и Лилипутии до Хоббита-нии и Нарнии Гондал – одна из самых загадочных. Не сохранилось ни отчетов путешественников, побывших там, ни исторических хроник. Все, что осталось, это разрозненные стихи – героические баллады, прощальные послания и горестные элегии – осколки мозаики, по которым почти невозможно восстановить связную картину, хотя такие попытки и предпринимались. Известно только, что Гондал – остров где-то в северной части Тихого океана, а Гаальдин, который короли Гондала стараются завоевать – другой остров, лежащий далеко к югу.
Согласно одной из версий, история начинается с отплытия Александра Эльбе на Гаальдин во главе отряда «конквистадоров». Его жена Августа Альмеда («А. Дж. А.») влюбляется в его двоюродного брата Альфреда, одного из трех детей старого короля Гондала (двое других детей – Джеральд и Джералъдина). Подделав известие о гибели мужа, Августа выходит замуж за своего возлюбленного, но вскоре Эльбе возвращается. Она делает попытку отослать Альфреда из страны; но перед тем, как уплыть, тот предательски убивает своего соперника. Августа раскаивается, она покидает свой дом, скитается в пустынных горах, где у нее рождается дочь Александра. В отчаянье и помрачении рассудка она оставляет дочь на произвол судьбы под снежной метелью; однако малютка тайно спасена ее служанкой Бланш.
Эмили Бронте. С портрета Брануэлла Бронте, 1833
В это время Джулиус Брензейда, томившийся в гондальской тюрьме, бежит, похищает принцессу Джеральдину и увозит ее на Гаальдин; там он женится на ней и становится властителем Альмедора. Через три года он возвращается в Гондал и, получив поддержку от своих сторонников, заключает договор с принцем Джеральдом о совместном правлении (старый король к тому времени умер). Они коронуются вместе. Но Джулиус обманывает Джеральда и заключает его в тюрьму вместе юным принцем Артуром, а затем умерщвляет обоих. Спустя некоторое время он сам убит, и в королевстве начинается гражданская война. Победившая партия призывает Августу, которая находится за границей, как единственную прямую наследницу трона, потому что Альфред погиб в изгнании, а Джеральдина умерла от горя.
Августа, любимая народом, но томимая воспоминаниями и скрытой тоской, пытается заглушить их, меняя одного за другим молодых любовников; но ее любовь быстро сменяется ненавистью, опалой и изгнанием очередного фаворита. Через десять или более лет правления Августа убита в результате дворцовых интриг. Бланш открывает происхождение Александры, которая выходит замуж за сына Джулиуса и Джеральдины и становится королевой Гондала. В это время разражается новая гражданская война между сторонниками республики и монархии…[75]
II
В юго-западной части Йоркшира, неподалеку от Лидса, есть деревушка Ховарт. Здесь в двадцатых-тридцатых годах девятнадцатого века в пасторском доме на краю вересковых пустошей и волнообразных холмов жили сестры Шарлота, Эмили и Анна Бронте со своим братом Брануэллом. Их мать умерла, отец-священник не стал жениться во второй раз; так что порядок в доме поддерживала спокойная и снисходительная тетя Лиз, которой помогала старая служанка Тэбби. Дети были развиты не по годам, одарены воображением и литературными способностями. Впоследствии сестры вошли в историю английской литературы как писательницы, особенно прославились Шарлотта и Эмили, первая – романом «Джейн Эйр», вторая – романом «Грозовой перевал» и стихами.
Были еще две сестры (старшие), Мэри и Элизабет; в десять лет они были посланы в школу-пансионат; через полгода их, безнадежно больных, привезли домой умирать. После этого отец спешно забрал из школы Шарлотту и Эмили и решил, что дети будут учиться дома. Таким образом, дети оказались отделены от общества своих сверстников, «замкнуты на себя»; это их еще больше сблизило. Они гуляли по вересковым холмам, резвились, читали, играли во всякие игры. Особенно им полюбились солдатики, подаренные отцом Брануэллу: несколько лет они придумывали всевозможные приключения для этого «юного войска».
Из игры в солдатиков развились более сложные сюжеты; сперва возник Стеклянный город и страна Ангрия, потом появилось королевство Гондал и остров Гаальдин. Со временем литературная команда раскололась надвое: Шарлота и Брануэлл занялись историей Ангрии, Эмили и Анн углубились в события, происходящие в Гондале. Эмили было уже шестнадцать, а Анне четырнадцать, когда была сделала первая из сохранившихся записей об этой вымечтанной стране. Поразительно, что игра продолжалась еще целых десять лет с постоянно обновлявшимся интересом; Анна и Эмили писали обширные хроники Гондала, по-видимому, читая друг друга и координируя описываемые события. Из этой прозы не сохранилось практически ничего: лишь списки персонажей да две тетради Эмили, озаглавленные: «Гондаль-ские стихотворения».
В 1844 году работа над хрониками прервалась: целый год Эмили была занята своим романом «Грозовой перевал»; едва закончив его, она записывает: «Гондал процветает по-прежнему. Я работаю над описанием Первых Войн». Но Анна считает, что их игра начала увядать: «Исправится ли дело в будущем?»[76]
Увядала не только игра, но и жизнь. Эмили умерла от чахотки в декабре 1848 года, Анна – в мае следующего, 1849-го. Лишь Шарлота Бронте пережила обоих сестер. Еще в 1845 году, по ее инициативе был издан сборник стихов трех сестер (переряженных братьями) под названием: «Стихи Каррера, Эллиса и Актона Белла». В 1850 году, уже после смерти Эмили и Анны она издала книгу, где вместе с романами «Грозовой перевал» (Эмили Бронте) и «Агнесс Грей» (Анны Бронте) она поместила семь стихотворений Анны и семнадцать – Эмили. Практически все стихи при этом подверглись редактуре: Шарлотта сокращала длинные стихи, нередко дописывала от себя строфу-другую, ретушируя их в религиозно-нравственном духе. И, разумеется, любые ссылки на Гондал были тщательно вычищены.
Есть предположение, что Шарлота могла и уничтожить гондаль-ские хроники Анны и Эмили. С годами она делалась все набожней и строже. Ее отношение к поэтической фантазии, по-видимому, было двойственным. С одной стороны, она признавала Божью искру в творчестве, но допускала, что есть и другой род воображения, происходящий от Отца Всякой Лжи – Дьявола. Шарлотту смущало двоемирие Эмили, привязанность к сотворенным кумирам детства. Эти сомнительные вещи не вписывались в тот идеальный миф о сестрах Бронте, к которому она уже приложила руку.
Унылое, беспросветное детство, отец – эгоист и деспот, безрадостная юность без любви, полная лишений и черного труда, самоотверженная преданность беспутному брату, ранняя трагическая смерть сперва Эмили, потом – Анны, и при все при том – ее, Шарлотты, роль как «ангела в доме» и нравственного примера – вот основные элементы этого мифа. Он был окончательно сформулирован в книге Элизабет Гаскелл «Шарлота Бронте» (1860), написанной, в основном, по письмам и устным рассказам Шарлоты. Популярность этого мифа, подхваченного многочисленными компиляторами и составителями жизнеописаний замечательных женщин, сделалась такова, что затмила в глазах читателей сами произведения сестер Бронте.
III
Между тем далеко не все в этом мифе правда. Во-первых, Патрик Бронте вовсе не был «самым ничтожным, самолюбивым и претенциозным человеком, какого можно представить» (цитирую Мориса Ме-терлинка, писавшего, конечно, со слов биографов). Он был ирландец, рыжий ирландец из захолустья, выбившийся в люди благодаря своему таланту и упорству; в двадцать пять лет ему удалось поступить в Кембридж на благотворительную стипендию. Его настоящая фамилия была не то Пранти, не то Бранти, он подправил ее на французский лад (Bronte, со знаком ударения на последнем слоге). Можно думать, что своим буйным и необычным воображением сестры Бронте обязаны кельтским предкам – следственно, отцу. От него же, издавшего в свое время два сборника назидательных стихов, они унаследовали страсть к бумагомаранию. Мистер Бронте безусловно любил своих детей и уделял им столько внимания, сколько оставалось от его пасторских и общественных обязанностей.
Неправда, что жизнь детей Бронте была безрадостна и уныла. Конечно, ландшафт вересковых болот мог показаться постороннему диким и скучным, и никогда не стихавший ветер круглые сутки гудел, завывал и грохотал за стенами пасторского жилища. Но Эмили любила эти вересковые просторы и вечный ветер над ними. И атмосфера в доме была доброй, детей никто не притеснял, и они могли заниматься, кто чем хочет. Наоборот, их служанка Тэбби Эйкройд однажды была вынуждена искать убежища в доме своего племянника от чересчур расшалившейся оравы. Сохранилась ее записка: «Уильям!подойди к мистеру Бронте, эти дети кажись рехнулись, боюсь оставаться с ними в доме, приходи и забери меня отсюда». Но когда племянник дошел до пасторского дома, дети лишь весело расхохотались, радуясь, как здорово они подшутили над своей верной Тэбби[77].
Конечно, повзрослев и поумнев, они угомонились и сменили игры.
Вот свидетельство изнутри – памятная запись из «оловянной коробочки», такие записи Эмили и Анна делали регулярно каждые четыре года:
Понедельник вечером 26 июня 1837
Четыре часа с небольшим Шарлотта шьет в комнате у тети Брануэлл читает ей Юджина Арама мы с Анной пишем в гостиной Анна – стихотворение начинающееся Был вечер светел, ярок был закат – я жизнь Августы Альмеды первый том четвертую страницу от конца чудесный немного прохладный немного облачный но солнечный день Тетя шьет в своей маленькой комнате папы дома нет Тэбби на кухне – императоры и императрицы Гондала и Гааль-дина готовятся отплыть из Гаальдина в Гондал для подготовки к коронации которая состоится 12 июля Королева Виктория в этом месяце взошла на трон. Нортанджерленд на острове Монсис – Заморна в Эвершеме[78]. Все ладно и складно надеюсь также будет и через четыре года когда Шарлоте исполнится 25 лет и 2 месяца – Брануэллу ровно 24 это день его рождения – а мне 22 года и 10 месяцев с хвостиком Анне почти 21с половиной интересно где мы тогда будем и как и какая погода будем надеяться на лучшее.
Эмили Джейн Бронте – Анна Бронте[79]Мысли вразброд и пунктуация через пень-колоду. То ли охота ребячиться, немного странная для восемнадцатилетней (с хвостиком) девицы, то ли литературный эксперимент, игра в поток наивного сознания.
Ничто тут не предвещает мастера «Грозового перевала» (до его написания семь лет), но своеобразного эффекта – передачи легкого, дурашливого настроения, уюта, упоения двойной жизнью, где владыки Гондала существуют рядом с Тэбби, правящей на кухне, – автор достигает.
IV
Теперь Ховарт, конечно, не тот. Пасторский дом сохранился, новая церковь стоит на месте старой, но кладбище, протянувшееся между ними, давно не существует. Вместо него и раскинувшихся за домом вересковых болот – бесконечные парковочные площадки, маневрирующие по ним машины и автобусы. Число туристов в Ховарте превосходит миллион в год, весь городок забит сувенирными лавочками, где чего только не продают – от «полотенец Бронте» с картинкой пасторского дома до «ликера Бронте» и «мыла Бронте» («с еле уловимым запахом вереска»). Есть даже кафе с названием: «Бронтозавтрак»[80].
Природа «бронтомании», имеющей лишь косвенное отношение к литературе, загадочна. Может быть, она связана с психологическим законом умножения (три писательницы в одной семье!), в соответствии с которым зрительский эффект усиливается, если на сцене кабаре танцует не одна девица, а целый кордебалет.
Может быть, тут работает какая-то мифологема трех сестер, знакомая нам по сказкам. В связи с этим хочу обратить внимание на параллель с пьесой А. П. Чехова «Три сестры»; расклад персонажей в ней тот же самый: три неприкаянные, страдающие сироты-сестрицы, из которых старшая доминирует и наставляет; любимый, но безвольный брат, когда-то подавший большие надежды (но Андрея губит мещанка-жена, а Брануэлла – пьянство и опиум).
Разумеется, в мифе Бронте есть и феминистский компонент: история необыкновенно одаренных сестер, оцененных посмертно, может читаться как обвинительный акт против патриархального устройства общества, угнетающего и убивающего женщин: даже свои стихи они вынуждены были издавать под мужскими псевдонимами!
V
Но нас интересует поэзия, стихи – а, значит, прежде всего, Эмили.
В единственной рецензии на сборник «трех братьев» 1846 года критик «Атенеума» выделяет именно ее. Морис Метерлинк называет Эмили Бронте «несомненно гениальной женщиной». Его поражает лишенная внешних событий жизнь Эмили (по биографии Мэри Робинсон) – и тот внутренний огонь, которым пылает ее единственный роман «Грозовой перевал». Этот контраст подвигает автора «Сокровища смиренных» на несколько поистине вдохновенных страниц. В «Грозовом перевале», по его мнению, «больше страсти, приключений, огня и любви, чем это нужно было бы для того, чтобы оживить и умиротворить двадцать героических жизней, двадцать счастливых или несчастных судеб»[81].
«С ней как будто ничего не происходило, – пишет Метерлинк об Эмили, – но разве она не испытала всё более лично и более реально, чем обычные люди?.. У нее не было любви, она не разу не слышала по дороге сладостно звучащих шагов возлюбленного – и тем не менее она, умершая девственницей на двадцать девятом году жизни, знала любовь, говорила о любви и до того проникла во все ее неизреченные тайны, что те, кто больше всех любил, от нее узнают слова, рядом с которыми все кажется случайным и бледным… Казалась бы, нужно прожить тридцать лет в самых пламенных цепях самых пламенных объятий, чтобы осмелиться показать с такой правдивостью… все противоречивые движения нежности, которая стремится ранить, жестокости, которая хотела бы давать счастье, блаженства, которое жаждет смерти, отчаяния, которое цепляется за жизнь, отвращения, которое горит желанием, желания, пьяного от отвращения, любви, полной ненависти, и ненависти, падающей под бременем любви»[82].
Я вспоминаю свое ощущение от чтения «Грозового перевала». Темный колорит романа, жестокость одних персонажей и покорность других казались мне преувеличенными, почти непереносимыми.
Все осветилось, как вспышкой молнии, одной фразой Данте Габриеля Россетти: «Действие „Грозового перевала“ происходит в аду, английские имена и названия – чистая фикция». Эти слова открыли мне символический, сверхреальный план романа. Вслед за Эмили Бронте, как вслед за Данте в «Божественной комедии», мы проходим ад и чистилище, – чтобы ощутить силу все претерпевающей души, чтоб осознать бессилие лжи, самой искусной и бесстыдной, перед безмолвной истиной, бессилие злобы, самой яростной и необузданной, перед любовью и тем счастьем, что в ней заключено.
Стихи Эмили Бронте, в отличие от романа, писались для себя – самое большее, для близких, родственных глаз. Великими стихами их вряд ли кто-то назовет. Они просты, как дыхание, и пунктирны как дыхание – или как фразы, которыми обмениваются люди, понимающие друг друга с полуслова. Это – лирика, хотя и особого рода. Августа, Джеральдина и Джулиус – придуманные; но коноплянка в вереске, холодный упругий ветер и кузнечик, стрекочущий на могиле, – самые настоящие. И голос автора, оживляет ли он куклу на пальцах или прячет ее за спину, тот же самый – унылый, страстный, узывный.
Эмили Бронте (1818–1848)
Плач Лорда Элдреда по Джеральдине из «Гондальских стихотворений»
Шныряет суслик меж камней И толстый шмель жужжит, Где тело госпожи моей Под вереском лежит. Над ней вьюрки в гнезде галдят, И льется свет небес; Но тот любви печальный взгляд С лица земли исчез. А те, кого тот взгляд ласкал Сквозь мрак последних мук, – Их нет средь этих диких скал, Безлюдно все вокруг. О, как они клялись, шепча Над прахом дорогим, Что в жизни светлого луча Вовек не видеть им! Увы! мир снова их сманил Игрой своих сует, Но знайте: и жильцы могил Подвластны ходу лет. Ей, мертвой, ныне все равно, Кто плачет, кто скорбит; А кто забыл ее давно – Тот сам давно забыт. Шуми же, ветр вечеровой, И дождик, слезы лей – Пусть не нарушит звук иной Сон госпожи моей.Горный колокольчик Песня Джеральдины
Друг мой тайный, друг живой, Покачай мне головой! Мил ты мне среди полей, На горах еще милей. Помню, также он сиял Предо мной на утре лет; Помню, также он увял, Как увянет всякий цвет. Друг мой! Голову склоня, Чем-нибудь утешь меня. И цветок шепнул мне так: Страшен хлад и зимний мрак, Но средь летнего тепла Даже смерть не тяжела. Рад я мирно отцвести – Друг мой милый, не грусти. В краткой жизни горя нет, Вся печаль – наследье лет.Отрывок
– О, не задерживай, пусти! Мой конь измучился в пути. Но все же должен, должен он Преодолеть последний склон И грудью ринуться в поток, Что на его дороге лег; Издалека я слышу рёв Бурлящих пеной бурунов. Так всадник деве говорил; Но девушка, как смерть, бледна, Вцепилась в повод что есть сил И не пускала скакуна.Прощание с Александрой
В июле я гуляла здесь, Казался раем тихий дол: Он солнцем золотился весь И вереском лиловым цвел. Как серафимы в синеве, Скользили плавно облака, И колокольчики в траве Звенели мне издалека. И были звуки так нежны, Так неземны их голоса, Что слезы сладкие, как сны, Навертывались на глаза. Я здесь бродила бы весь день – Одна, не замечая, как Лучи заката никнут в тень, Прощальный подавая знак. Так вот когда бы я могла Малютку положить на мох С надеждою, что ночь тепла И что хранит младенца Бог! А ныне в небе – ни огня, Лишь мутная клубится мгла: Сугробы – колыбель твоя И нянька – хриплая пурга. Средь неоглядности болот Никто не слышит – не зови; И ангел Божий не спасет Тебя, дитя моей любви. В грудь спящую ползет озноб, Она уже под снегом вся, И медленно растет сугроб, Твою постельку занося. Метель от гор летит, свистя, Все злее, холоднее ночь… Прости, злосчастное дитя, Мне видеть смерть твою невмочь!Видение красоты: прерафаэлитская школа в английской поэзии
I
К обобщениям в литературе, в частности, к группировке художественных явлений по направлениям и школам следует подходить с величайшей осторожностью. Принципы, провозглашенные в групповых манифестах, отнюдь не всегда соответствуют практике. Поэт – на то он и поэт – выламывается из любых рамок. И если мы принимаем термин «прерафаэлитская школа», то лишь имея в виду, что это не какой-то закрытый кружок, а скорее поэтический стиль, возникший в викторианский период и сознательно культивировавшийся Данте Габриелем Россетти – одним из основателей союза молодых художников, названного Прерафаэлитским Братством. Поэтов-прерафаэлитов в собственном смысле слова двое – Д. Г. Россетти и Уильям Моррис. Но прерафаэлитский стиль с его таинственным колоритом, меланхоличностью и конкретно-чувственной образностью мы встречаем уже в стихах старших современников Россетти, которыми он восхищался: скажем, в поэме Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот» и в драматических монологах Роберта Браунинга на темы итальянского Средневековья и Возрождения – таких, как «Моя последняя герцогиня».
Многие критики первой чертой прерафаэлитской школы называют dreaminess – мечтательность, задумчивость, погруженность в грезы. Такой грезой видится знаменитое стихотворение «The Blessed Damozel» Россетти («Блаженная дева»), вдохновленное «Вороном» Эдгара По; призраками и снами заселена его книга сонетов «Дом Жизни».
Данте Габриэль Россегти. Авто-портрет 1847 г.
О чем эти грезы? В первую очередь, это грезы о Красоте. Отсюда следует вторая черта прерафаэлитского стиля – эстетизм. Прекрасное как идеал и цель стремлений. Даже любовь предстает у Россетти лишь как производное от красоты.
Но где же художник должен искать красоту? Может быть, в прошлом, в каком-то давно ушедшем золотом веке? Отсюда третья черта – пассеизм, тяга к мифам, преданиям и отдаленным эпохам. В частности, к Средневековью, в особенности английскому и итальянскому.
Из созерцания красоты вытекает еще одно свойство. В красоте есть некая влекущая сила, возбуждающая в нас стихийное волнение и желание. Вот почему четвертая черта прерафаэлитской поэзии – утонченный эротизм (или его противоположность – страх перед влечением пола, как у Кристины Россетти в «Рынке гоблинов»).
Прерафаэлитская школа, безусловно, тесно связана с романтизмом. Если спросить, какие английские поэты, кроме Теннисона и Браунинга, оказали влияние на Россетти, на складывание его поэтического стиля, то в первую очередь нужно назвать Уильяма Блей-ка, Джона Китса и Эдгара По.
Россетти принадлежит важная роль в воскрешении наследия Уильяма Блейка. Еще в конце 1840-х годов, работая в Британской библиотеке, он наткнулся на гравюры Блейка и был увлечен сначала его художественным, а потом и поэтическим наследием. Ему посчастливилось приобрести альбом с неопубликованными стихотворениями и рисунками этого к тому времени полузабытого художника и поэта, т. н. «манускрипт Россетти». Визионерские и символические стихи Блейка оказали безусловное влияние на творчество Россетти.
Среди произведений Китса, которые оказались в центре внимания художников-прерафаэлитов, были его «средневековые» поэмы «Изабелла, или Горшок с базиликом» и «Канун Святой Агнессы». Художников восхищало, как поэт умел, самозабвенно отдаваясь снам воображения, сохранять при этом художническую зоркость и подробность изображения («в отличие от Шелли, у которого нет глаз», заметил однажды Моррис).
Формулу Китса «Красота есть истина, а истина есть красота» можно считать аксиомой прерафаэлитов, – хотя их поэзия явно делала упор на первой части: «Красота есть истина». Искусство сонета, доведенное Китсом до небывалого с ренессансных времен совершенства, произвело на Россетти такое впечатление, что сонет стал его любимым преобладающим жанром. Книга «Дом Жизни»
Россетти – может быть, последнее великое достижение английской литературы в области сонетной формы.
II
Россетти мечтал осуществить синтез литературы и живописи. Вообще говоря, в соединении в одном лице поэта и художника нет ничего удивительного, однако обычно доминирует или то, или другое. Так многие художники Возрождения писали стихи, порой замечательные, как Микеланджело, но редко когда эти чаши весов уравновешивались. Разве что в Древнем Китае были такие художники-поэты – Ван Вэй, например, да Уильям Блейк – пример близкий и вдохновляющий. Россетти с одинаковым тщанием обрабатывал обе свои грядки: он писал и стихи к картинам (например два сонета, написанных на раме своей первой живописной работы «Отрочество Девы Марии»[83]), и картины к стихам.
Лессинг в своей книге «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» резко противопоставлял эти два вида искусства: поэзия живет во времени, а живопись – в пространстве. В сонетном жанре, который выбрал Россетти, ему удается преодолеть это противоречие. Вступительный сонет, опубликованный в издании «Дома Жизни» 1881 года, провозглашает: «A sonnet is a moment's monument» – «Сонет есть памятник мгновенью…». Вот в чем дело! Заворожив течение стиха, заставив время замереть на месте, художник превращает поэзию в живописание словом.
Россетти иллюстрирует свой сонет рисунком: крылатая Душа (похожая на увенчанного венком поэта) помещает летучее Мгновение (песочные часы с крылышками) внутрь Розового куста, символизирующего бессмертную Красоту. Это дает наводку переводчику. Monument в сонете – не столько «монумент», «памятник», сколько «приношение» – жертва на алтарь Красоты.
Сонет – бессмертью посвященный миг…Стихотворение, описывающее скульптуру или картину – жанр, известный с античности, он называется экфраза. Жанр экфразы процвел в поэзии Данте Габриеля Россетти.
Россетти, в классификации Кьеркегора, эстетический человек. Он доводит до крайних пределов гармонические интенции Китса; но Ките был способен и на сомнение, и на самокритику художника с позиций рационализма. Я имею в виду те строки в поэме «Падение Гипериона», где он устами богини Мнемозины осуждает самого себя за бесполезные грезы, противопоставляя мечтателей – поэтам, активно меняющим мир. Социалистические идеи Уильяма Морриса, его надежды с помощью искусства изменить труд и жизнь людей – не продолжение ли этих этических раздумий Китса, попытка ответить на вопрос Мнемозины: «Какая польза от таких, как ты, большому миру?».
Мы уже упоминали, что «Блаженная дева» Россетти была написана под влиянием «Ворона» По и представляет собой как бы отражение ситуации: там он, тоскующий об усопшей подруге, а здесь, на небесах, она, грустящая об оставленном на земле возлюбленном. Но не только стихи Эдгара По «рифмуются» с творчеством прерафаэлитов – не в меньшей мере и его рассказы. Они отличаются теми качествами, которые так ценили прерафаэлиты, – при общей сно-видческой или фантастической атмосфере – потрясающая правдоподобность и убедительность («как будто он сам это видел!»).
Я хочу обратить внимание на рассказ Э. По «Овальный портрет»: о прекрасной девушке, вышедшей замуж за фанатично увлеченного искусством художника. «Она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. ‹…› А он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него»[84].
Наконец живописец кладет на картину последний мазок и застывает завороженный, потрясенный совершенством портрета. «Да это сама Жизнь!» – восклицает он, но в следующее мгновение поворачивается к своей возлюбленной: «Она была мертва!»
Элизабет Сиддал. Рис. Данте Г. Россетти
Разумеется, перед нами аллегория: художник, который приносит свою жизнь и душу в жертву искусству. Но читая этот аллегорический рассказ, невозможно не думать о реальной натурщице прерафаэлитов Элизабет Сиддал – золотоволосой красавице Элизабет, которую Джон Милле рисовал для картины «Офелия» и неделями заставлял лежать в ванне, иногда остывавшей и делавшейся холодной как лед. Пока она не простудилась так жестоко, что последствия этой простуды, говорят, подкосили ее здоровье и привели к ранней смерти – через два года после того, как она официально стала женой Данте Габриеля Россетти.
Рассказ Россетти «Рука и душа», опубликованный в журнале «Начало» (Germ) в январе 1850 года и сильно впечатливший читателей (юный Уильям Моррис перечитывал его с утра до вечера), построен аналогично «Овальному портрету»: путешественник заинтересовывается старинным портретом – пытается проникнуть в его тайну – обнаруживает каталог, где упоминается эта картина. Далее следует повествование, рассказывающее о создании шедевра; разница лишь в том, что у Россетти рассказ путешественника не просто предваряет, но обрамляет историю портрета.
На картине была изображена женщина необыкновенной красоты. «При первом взгляде на нее я почувствовал трепет, как при виде оазиса в пустыне», – пишет Россетти. Сходное чувство испытывает и рассказчик Эдгара По. Но если в «Овальном портрете» художник не желает знать ничего, кроме своего искусства, и безотчетно губит свою душу то в рассказе Россетти он с благоговением выслушивает урок, который преподает ему явившаяся в прекрасном образе Душа: «Итак, Кьяро, послужи Богу: возьми кисть и напиши меня такою, как я есть, чтобы постичь меня; изобрази меня слабой женщиной, в обычной одежде твоего времени; при этом запечатлей в моих глазах жажду труда и веру, не заученную, но жаждущую молитвы. Сделай это, и душа твоя всегда будет перед тобой и не станет более смущать тебя»[85].
Дилемму красоты и пользы, мучавшую Китса, Душа решает просто: «Во всем, что ты делаешь, исходи из сердца своего, ибо сердце ближнего подобно твоему и, как твое, может быть мудрым и смиренным; и ближний твой поймет тебя»[86].
Таким образом, прерафаэлиты не возводили эстетизм в абсолют, но помещали его в определенную этическую и религиозную раму. Платоновский дуализм «Афродита земная и Афродита небесная» лежит в центре художественного и поэтического мира Россетти. Даже описывая проститутку – «lazy laughing languid Jenny, fond of a kiss and fond of a guinea» («томную Дженни с ленивым смехом, любящую поцелуи и золотые гинеи») – он умел преобразить ее в богиню:
Когда ты, Дженни, предо мной, Рассыпав волосы волной И выпроставшись из силков Ревнивых кружев и шелков, Стоишь, блистая красотой, В мерцанье лампы золотой, Ты кажешься чудесным сном Или таинственным письмом, Что в свете молнии сквозь тьму Явился взору моему![87]За это самое стихотворение Россетти пришлось извиняться перед своей тетушкой Шарлоттой Полидори; из-за него он не решался послать ей свою книгу «Дом Жизни», а когда по ее настоянию послал экземпляр, не преминул упомянуть в письме, смягчая возможный шок, что «моя матушка по некотором размышлении призналась, что считает его лучшим в книге»[88]. Это как раз понятно, потому что моральные размышления автора и его сочувствие к падшему созданию искупают шокирующую тему и вполне в викторианском духе.
Не то у Эрнеста Даусона в знаменитой «Кинаре». Его поколение – несомненно, наследовавшее прерафаэлитам – все-таки принадлежало эпохе fin de siecle, испытавшей воздействие французских разлагающих миазмов, влияние Бодлера и Верлена с их принципиальной новой поэтикой – «новым трепетом», по слову Виктора Гюго (ип frisson nouveau). Потому-то герой даусоновского стихотворения, пребывая в доме разврата, вспоминает свою прежнюю чистую любовь с двусмысленной и глумливой усмешкой, в которой неизвестно чего больше – трагизма или цинизма: «I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion». To есть: «Я был верен тебе, Кинара, – по-своему!». Переводчику пришлось попотеть, ища русский эквивалент рефрена:
Джейн Бёрден (в замужестве Моррис) в возрасте 18 лег. Рис. Данте Г. Россетти, 1858 г.
Пылая, я лежал в объятиях чужих, Грудь прижимал к груди – и поцелуи пил Продажных красных губ, ища отрады в них; Я так измучен был моей любовью старой; Проснулся я – день серый наступил: Но я не изменял твоей душе, Кинара.III
Прерафаэлитское движение было не революцией, но мягким и сильным поворотом в викторианском искусстве. Настоящим бунтарем в прерафаэлитском кругу и «маленьким дьяволом» (l'enfant terrible) был Алджернон Чарльз Суинберн. Его «Стихотворения и баллады», вышедшие в 1866 году, вызвали такой скандал, какого английская литература не знала с 1816 года, когда поведение лорда Байрона вызвало острый приступ нравственности в лондонском обществе. Читателей возмутили темы Суинберна: например, лесбийская любовь (в двух стихотворениях о Сапфо), бисексуализм (в «Гермафродите»), прославление языческого сна-небытия без воскрешения (в «Садах Прозерпины») и вообще дерзость и эротизм этой поэзии, по тем временам шокирующие. Напомним: нравы были таковы, что даже «Джейн Эйр» считалась чтением, неподходящим для женского пола. И вот они открывают книгу и читают, например, такое:
Звон свадебный и похоронный Ознобом гуляют в крови, И в спальнях лежат наши жены – Надгробия нашей любви. «Dolores»По сравнению с «Цветами зла» Бодлера (1857) книга Суинберна была, конечно, явлением не столь глубоким и радикальным. Она не вызвала судебного процесса, как в случае с Бодлером, лишь негодующие рецензии, да издатель на всякий случай открестился от книги. В то же время у автора нашлось много пылких почитателей. Оксфордские студенты толпами ходили по улицам, распевая стихи Суинберна. Да и сам поэт не сдавался. Он написал ответ критикам, отстаивая право поэта расширять границы своего творчества и быть свободным от запретов, – и еще глубже окунулся в богемную жизнь, полную всяких эксцессов, вплоть до посещения одиозного заведения в Сент-Джонс-Вудс, где клиентам по желанию предоставлялась порка.
Шум, поднятый его сборником, через год-два поутих; викторианское общество, отличавшееся не только строгими правилами, но и довольно высокой степенью толерантности, отнюдь не извергло Суинберна. Тем временем его бунтарская натура проявила себя в политической плоскости. Он подружился с Мадзини, соратником Гарибальди, нашедшим убежище в Англии. В 1872 году вышли «Песни перед рассветом», посвященные борьбе за объединение Италии. В сборник вошли стихи, направленные против тиранов Европы и гимны Свободе, звучные и зажигательные. Там была и ода Уолту Уитмену, чьи стихи Суинберн приветствовал одним из первых. Это не помешало ему впоследствии разносить того же Уитмена в клочья.
Алджернон Чарльз Суинберн. Фото 1860-х гг.
Вообще поздний Суинберн – это, так сказать, прирученный тигренок. Он жил в пригороде Лондона у своего друга, который спас поэта в самый критический для его здоровья момент и установил над ним жесткую опеку. В эти годы Суинберн больше занимался литературной критикой и биографиями писателей (в том числе написал книгу о Блейке). Он сильно изменился. Былого мятежника, который некогда всполошил все викторианские голубятни, теперь шокировала своей нескромностью шекспировская «Венера и Адонис»; того, кто пел самозабвенные гимны Свободе, возмущали ирландцы и буры, борющиеся за независимость.
В чем причина этой метаморфозы? Этот маленький и щуплый с виду, хотя и крепкий юноша с огромной копной рыжих волос, по-видимому, всю жизнь оставался мальчишкой. В нем было что-то от музыкального вундеркинда, яркого, но не оправдавшего всех ожиданий. Его ум и душа так и не созрели. Воспитание в Итонской школе, диковатые нравы мальчишеского коллектива и розги воспитателей определили его характер, его порывы и пороки – от эстетического бунтарства до эксцессов личной жизни. Это отражается и в его поэзии, увлекающейся, но неглубокой, порой эффектной, порой утомительно шумной.
И тем не менее ему удалось внести в английскую поэзию новые ритмы, новые звуки, окончательно утвердить в ней новые трехсложные размеры, раскрепостить просодию стиха. Музыкальность его стихов, богатая инструментовка, яркая образность когда-то поразили читателей – и до сих пор способны вызывать восхищение.
Как сказал английский критик, «поэзия Суинберна была складом, который снабжал стихотворцев нескольких поколений поэтическими формами вплоть до 20-х годов XX века»[89]. Борис Пастернак в 1916 году увлекался Суинберном: перевел первую часть его трилогии о Марии Стюарт (рукопись пропала в типографии в 1920 году) и даже начинал переводить третью часть, – хотя признавался в письме другу, что она «до крайности длинна и велеречива»[90].
IV
Девушка, изображенная на картине Данте Габриеля Россетти «Отрочество Девы Марии», – сестра художника, Кристина. Она позировала и для ряда других картин брата и его друзей. Как и Данте Габриель, Кристина писала стихи с детства. В кругу поэтов-прерафаэлитов она занимала видное место. Но, как это ни парадоксально, причислить ее к «прерафаэлитской школе» невозможно. Ее вообще невозможно причислить ни к какой школе, потому что это означало бы некие осознанные намерения в искусстве, следование каким-то принципам или образцам.
В том-то и было ее отличие от Д. Г. Россетти и его друзей. Они творили поэзию, а она сама была поэзией. Как писал о ней другой поэт: «Что можно сказать о чистой воде, утоляющей жажду? Чем мутнее, загрязненнее примесями автор, тем легче его разбирать и анализировать. А стихи Кристины не хочется разбирать – над ними хочется плакать».
Если главной субстанцией поэзии является печаль (с чем я, в общем, согласен), то Кристину Россетти надо признать самой печальной, а значит, лучшей английской поэтессой. Столь же печально сложилась ее жизнь. Воспитанная матерью – итальянкой по происхождению, но ревностной протестанткой по вере – Кристина с детства привыкла сдерживать свои желания и чувства. А ведь талантом и темпераментом она была наделена так же щедро, как ее брат; можно представить, каких сил стоило ей постоянное самоограничение.
Кристина Россетти. Рис. Данте Г. Россетти, 1866 г.
Кротость, набожность, боязнь совершить что-нибудь грешное смолоду вошли в привычку, сделались характером Кристины. «Как ты собираешься жить с такой тактичностью?» – воскликнул однажды ее брат Уильям. Она перестала играть в шахматы, потому что это разжигает желание взять верх над соперником, перестала ходить в театры, потому что актеры часто неподобающе себя ведут. Ее итальянская кровь была обречена кипеть без выхода: ее преследовало ощущение фальши и непрочности земной любви.
Я искала среди живых и искала среди мертвых, кого мне полюбить; я нашла немногих, и те уже истратили запас своей любви, а дружба слишком слаба, слишком холодна для меня. Но я никогда не раскрою своего сердца на потеху тем, кто будет слушать и улыбаться; я могу стерпеть и я стерплю: слез, быстро сохнущих на пылающих щеках, вы не дождетесь. И когда мой прах смешается с прахом других смертных, когда я наконец упокоюсь в земле и буду лежать безмятежно, истончаясь как воспоминание, – те, кого я любила, подумав про меня, не смогут сказать с уместной печалью: «Поплачем о бедной малышке, – а потом пойдем повеселимся».
В оригинале это был сонет, который я здесь перевел грубой прозой. Представьте себе безукоризненно написанный сонет – с четверными рифмами в катренах, с многочисленными анжамбеманами: всё как положено. Удивительно не то, что он сочинен восемнадцатилетней девушкой, а то, что предлогом для написания явилась игра в буриме. Рифмы были заданы: seek, few, through, weak, speak, who, do, cheek; dust, decay, thought, not, must, to-day. И пятнадцать минут на сочинение.
Два раза Кристина была на шаг от замужества. Первым ее избранником стал молодой художник-прерафаэлит Джеймс Коллин-сон. Это был флегматичный парень, друзья подшучивали над его феноменальной сонливостью: он мог заснуть, рисуя натурщицу, которой платили по шиллингу за час. Этот парень под влиянием кардинала Уайзмена перешел в католичество, потом под влиянием Кристины возвратился в англиканство. Они были помолвлены, но через некоторое время дремавшие в Коллинсоне сомнения проснулись и он опять вернулся в лоно римской церкви. Возмущенная Кристина разорвала помолвку.
Прошло десять лет прежде, чем она снова собралась замуж. На этот раз ее избранником стал ученый-филолог Чарльз Бэгот Кэйли, милый и чудаковатый, немного не от мира сего. Он переводил Гомера и Данте, а однажды даже перевел Новый Завет на ирокезский язык. Разумеется, этот чудак долго не замечал, что Кристина им заинтересовалась.
Мой филин слеп и неуклюж, Не ловит он мышей к тому ж, В упор не видит ничего, И перьев он лишен, – За исключением того, Которым пишет он. Мой крот слегка подслеповат, Он под землей не ищет клад, Ни черной шкурки, ни хвоста При нем в наличье нет, – За исключением, когда Он в черный фрак одет. Нескладный филин мой, прозрей, О крот, протри глаза скорей: Ужели ты совсем слепой? – Ну, погляди вокруг! «Что? Где?» – бормочет дурень мой, И в голосе испуг.Наконец прозревший Кэйли сделал предложение. И тут выяснилось (почему только теперь?), что в вопросах веры он агностик. Последовал разрыв. Впрочем, трудно сказать, насколько серьезными были намерения Кристины, чего ей больше хотелось – счастья или еще раз убедиться в его невозможности. Она была обречена печали, обручена с печалью…
В 1861 году вышел сборник Кристины Россетти «Рынок гоблинов и другие стихотворения»; он стал первым большим литературным успехом прерафаэлитов. В книгу вошло и стихотворение «В гору»:
Всё ли он в гору ведет, этот путь? Да, и дорога длинна. Значит, весь день не придётся вздохнуть? Весь, от зари дотемна… Ждёт ли ночлег на вершине холма? К ночи приют ты найдёшь. Как же найти, коль опустится тьма? Мимо него не пройдёшь[91].Замечательный английский критик Франк Лукас пишет: мистическая атмосфера этого стихотворения впечатляет сильнее, чем самые страшные стихотворения Эдгара По. Хотя здесь и нет никакого нарочного запугивания – «возле озера духов Обера, в заколдованных чащах Уира…». Потому что самое ужасное – не искусственные плоды фантазии, а привычные вещи, «когда они вдруг изменяются и становятся чужими и зловещими: так смерть от родной руки страшнее, чем от незнакомого убийцы»[92].
Диапазон тем Кристины Россетти не широк, но в точном соответствии с законами физики, что проигрывается в расстоянии, выигрывается в силе. Ее стихи так просты, что их виртуозное мастерство незаметно для читателя. Не верится, что эти стихи сочинялись в раздумьях, что морщился лоб, зачеркивались и исправлялись строки. Кажется, чувство просто вылилось из сердца поэта в мелодичных стихах – естественно, как вода изливается из родника.
Стихи женщин-поэтесс обычно эмоциональней и больше основаны на непосредственном опыте, чем стихи мужчин, которые любят странствовать в самых отдаленных областях воображения, забывая порой о доме и о самих себе. Впрочем, бывают и исключения: стихи Эмили Бронте, фрагменты драматических хроник придуманной страны, загадочного королевства Гондал…
Рядом с Кристиной Россетти можно поставить еще одну поэтессу, ее современницу, достигшую большой литературной известности. Поначалу жизнь Элизабет Баррет складывалась так же грустно, как у Кристины. Ее и без того хрупкое здоровье стало ухудшаться после падения с лошади, трагическая смерть утонувшего в море брата еще больше ее подкосила. Как и Кристина, Элизабет писала стихи с раннего детства. Первый свой сборник она опубликовала в двадцать лет. Ее стихи имели широкий резонанс. Стихотворение «Плач детей», направленное против детского труда, привело к принятию в Парламенте закона, ограничивающего рабочий день несовершеннолетних. Баллада «Поклонник леди Джеральдины» послужила, между прочим, ритмическим образцом для «Ворона» Эдгара По. Кроме того, «Джеральдина» привлекла внимание поэта Роберта Браунинга, решившего познакомиться с его автором. Знакомство переросло в любовь, которая поначалу испугала Элизабет: она была на шесть лет старше жениха, и отец был против ее замужества. Они обвенчались тайно, и Роберт Браунинг увез жену в Италию, где здоровье Элизабет поправилось и она прожила пятнадцать счастливых лет, родила сына, написала много стихов, литературная слава ее еще больше укрепилась. В 1850 году после смерти Вордсворта ее даже рассматривали как кандидата на звание поэта-лауреата наряду с Теннисоном.
Изданные анонимно «Сонеты, переведенные с португальского» – история любви Роберта и Элизабет или, если точнее – выражение благодарности мужу за дар любви и новой жизни. В первом сонете она описывает, как тяжелы были годы перед их встречей, как неумолимо клонилась к концу ее жизнь.
…Как вдруг незримая чужая Сила Меня, рванув, за волосы схватила И стала гнуть: «Смирись, не прекословь!» «Ты – Смерть?» – изнемогая, я спросила. Но Голос отвечал: «Не Смерть, – Любовь».Чета Браунингов – редкий пример столь гармонического союза двух поэтов. Их история стала легендой английской литературы, она отражена в книгах (например в повести Вирджинии Вульф «Флаш»), по ней был снят телесериал. Но не всем так неожиданно везет в жизни, как мисс Элизабет Баррет.
V
А вот судьба Уильяма Морриса кажется счастливой от начала и до конца. Он родился в богатой семье, с детства увлекался рыцарскими историями и балладами о Робин Гуде. Родители подарили ему игрушечные детские доспехи, в которых он разъезжал по лесу на своем пони, как настоящий рыцарь. Средневековое оружие, одежда и вообще жизнь той эпохи стали его увлечением, так что когда Д. Г. Россетти пригласил его в бригаду художников расписывать дискуссионный зал Оксфордского союза – а темой росписей Россетти взял легенды о рыцарях короля Артура, – то именно двадцатилетнему Моррису поручили наброски костюмов и подготовку реквизита. Он заказывал в местной кузнице кольчуги и мечи рыцарей по своим рисункам и следил за их исполнением.
Настоящим живописцем Моррис так и не стал (за всю жизнь написал лишь несколько картин), зато сделался превосходным дизайнером, иллюстратором, керамистом, витражистом и так далее, инициатором движения arts and crafts, ставившего своей задачей возродить старые ремесла, вернуть рабочим радость творческого труда и дать англичанам – вместо стандартной, конвейерной мебели и утвари – оригинальные вещи ручной работы. Таков был ответ Морриса машинной цивилизации, таков был на этом этапе его бунт против капитализма. (Тут можно уточнить, что его социалистические идеи шли не от Карла Маркса, чей «Капитал» тогда еще не был издан, а от Карлейля и Рёскина, и имели отчетливо романтический оттенок.)
Уильям Моррис. Фото 1880-х гг.
Всю жизнь Моррис занимался прикладными искусствами и ремеслами – от знаменитого «Красного дома», настоящего прорыва в гражданской архитектуре и дизайне, до основанного им издательства Келмскотт-пресс, чьи иллюстрированные книги стали шедеврами книжного искусства. Энергия Морриса, его разносторонняя деятельность, включая сюда его стихи, романы и статьи (двадцать четыре тома посмертного собрания сочинений) действительно впечатляют. Вот человек, на чьем надгробии можно было бы написать старинную эпитафию: «Отдохни, труженик, наконец-то отдохни».
Большая часть поэтической деятельности Морриса приходится на двадцатилетие с 1857 до 1877 года, от его первой поэмы «Защитник Гвиневры» на тему артуровских легенд до «Сигурда Вольсунга и падения Нибелунгов» по мотивам германского эпоса. Между прочим, советское литературоведение всегда благосклонно относилось к Уильяму Моррису как участнику социалистического движения; но ни одна из поэм Морриса, ни один из его романов, написанных в жанре, который сейчас называют фэнтези, так и не были напечатаны до конца советской эпохи. Почему при своем убеждении, что искусство не может быть прихотью эстета, но должно служить человечеству, Моррис писал только о прошлом, не эскапизм ли это?
Ответ можно найти в «Лекциях об искусстве» Джона Рёскина, точнее во второй лекции, озаглавленной «Отношение искусства к религии»: «Высшее, что может сделать искусство, – это представить истинный образ благородного человеческого существа. Оно никогда не делало больше этого; оно не должно делать меньше этого»[93].
В четвертой лекции «Отношение искусства к пользе» Рёскин повторяет эту мысль и продолжает: вот почему лучшими произведениями великих художнических школ были портреты, в которых отображается возвышенная человеческая душа.
Эти благородство и возвышенность Моррис видел в героях своих любимых легенд, он был уверен, что созерцание таких качеств в чистом, очищенном от повседневной шелухи виде должно стать примером и лекалом для читательской души.
Уильям Йейтс, «последний прерафаэлит», многому научившийся у Морриса, в пьесе «На королевском пороге» излагает, по существу, те же мысли устами ирландского поэта Шонахана. С пренебрежения поэзией начинается перерождение, порча мира, наставляет Шонахан своих учеников и заставляет их припомнить свои уроки.
– Почему поэзия так чтима?
– Потому что поэты вывешивают над детской кроваткой мира образы той жизни, какая была в раю, чтобы, глядя на эти картины, дети мира росли счастливыми и радостными.
– А если искусство исчезнет?
– А если оно исчезнет, – отвечает Старший Ученик, –
Мир без искусства станет словно мать, Что глядя на уродливого зайца, Родит ребенка с заячьей губой.Сравним со словами Джона Рёскина в той же четвертой лекции: «искусство Греции погибло не потому, что оно достигло формальной точности в изображении формы, а потому, что низость проникла в его сердце».
VI
Только читая Россетти и Морриса, понимаешь, насколько обязана им поэзия Уильяма Йейтса. Т. С. Элиот был прав, говоря о раннем Йейтсе, что тот «блуждал в кельтских сумерках, а скорее в сумерках прерафаэлитства, используя кельтский фольклор почти так же, как Уильям Моррис использовал фольклор скандинавский. В этой прерафаэлитской фазе Йейтс был далеко не последним из прерафаэлитов»[94].
Эстетические пристрастия молодого Йейтса не случайны. Его отец художник Джон Батлер Йейтс был в молодости близок к прерафаэлитам, но отошел от них, стараясь обрести свой особый индивидуальный стиль. В детстве Уильям жил в Бедфорд-Парке в Лондоне, особой «артистической деревне», где с 1875 года селились художники и литераторы. Это место не было похоже ни на какой другой район Лондона. Каждый дом строился по особому проекту, каждая вещь в доме была индивидуальной, даже улицы шли не прямо, а, как вспоминал потом Йейтс, непринужденно изгибались, если нужно было обойти какое-то растущее на пути дерево.
Неудивительно, что Йейтс увлекся прерафаэлитами еще в юности. Между прочим, он и возлюбленную себе выбрал по этому канону. Глядя на портреты Мод Гонн, нельзя не заметить, что его идеал как будто сошел с картины Россетти, который любил писать один и тот же женский тип: «длинные и сильные, почти мужские шеи, тяжеловатые нижние части лица и роскошные, неправдоподобно пышные волосы»[95].
Король Артур и сэр Ланселот. Витраж. Уильям Моррис, 1862 г.
Ричард Элман, биограф Йейтса, Джойса и Уайльда, пишет: «Йейтс долгое время следовал эстетическим принципам Россетти и Уильяма Морриса. Их сложные ритмы подходили к тем необычным темам, которые его увлекали, и герметически изолировали стихи от так называемой действительности. Прерафаэлитизм вскоре соединился в его сознании с магией, и украшенный стиль стал частью некоего таинственного ритуала»[96].
VII
Если мы посмотрим в более широкой перспективе, то убедимся, что творчество прерафаэлитов не было каким-то сугубо островным и изолированным явлением: оно шло в русле развития европейской литературы – хотя и своим, особым рукавом.
В 1852 году, почти одновременно с возникновением Прерафаэлитского братства, в Париже вышел сборник «Эмали и камеи» Тео-филя Готье. Уже название книги строит мостик от словесного искусства к пластическим. В программном стихотворении «Искусство» он пишет их через запятую:
Чем злей упорство ваше, Слог, мрамор и эмаль, Тем краше Стих, статуя, медаль.«Отношение к языку как к палитре, к листу бумаги как к холсту и к прилагательному как к мазку» было исконно присуще этому, по выражению Бодлера, «безупречному чародею французской словесности»[97].
Да и сам Шарль Бодлер не зря много лет работал художественным критиком – искусство живописи было для него прекраснейшим из искусств. В стихотворении «Маяки», своего рода каталоге любимых художников, он каждому из них посвятил по четверостишию, найдя потрясающий словесный эквивалент не одной картине, но творчеству художника в целом. Например:
Леонардо да Винчи, в бескрайности зыбкой Морок тусклых зеркал, где, сквозь дымку видны, Серафимы загадочной манят улыбкой В царство сосен, во льды небывалой страны. Рембрандт, скорбная, полная стонов больница, Черный крест, почернелые стены и свод, И внезапным лучом освещенные лица Тех, кто молится Небу среди нечистот[98].Выход в 1866 году альманаха «Современный Парнас» ознаменовал возникновение «Парнасской школы»: Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль и другие. Но самым талантливым в группе парнасцев был в то время еще двадцатичетырехлетний Жозе Мариа де Эредиа, уроженец Кубы, потомок испанского конкистадора, прибывшего в Америку вместе с Колумбом.
Его любимым жанром, как и у Россетти, были сонеты. «С 1866 года Эредиа стал участником мировой славы и останется им на века», – писал позже Верлен. Но беспримерная строгость к себе заставляла поэта работать с предельной тщательностью, а выпускать готовые сонеты в печать редко и скупо. Лишь в 1893 году его знаменитые «Трофеи» выйдут наконец отдельной книгой. Образ отрешенного от мира художника-ювелира он даст в своем сонете «Ponte\ecchio»:
Там мастер ювелир работой долгих бдений, По фону золота вправляя тонко сталь, Концом своих кистей, омоченных в эмаль, Выращивал цветы латинских изречений. Там пели по утрам с церквей колокола, Мелькали средь толпы епископ, воин, инок; И солнце в небесах из синего стекла Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок. Там юный ученик, томимый грезой страстной, Не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной, Замкнуть позабывал ревнивое кольцо. А между тем иглой, отточенной как жало, Челлини молодой, склонив свое лицо, Чеканил рукоять тяжелого кинжала[99].Разница между прерафаэлитами и парнасцами существенна: субъективность прерафаэлитской мечты и парнасское стремление к объективности, даже прохладности стиха. Но сходных черт больше, главное – это культ красоты и уход от низкого практицизма века. Пусть прерафаэлитов скитания уводят в глубины мифа и сказки, а парнасцев – в экзотические страны (де Лиль) и прошедшие эпохи (Эредиа), но сам дух странничества их роднит. Николай Гумилев, как известно, переводил Теофиля Готье и считал его одним из четырех краеугольных камней акмеизма. Но Россетти его тоже привлекал: еще в 1906 году в цикле «Беатриче» (по-видимому, посвященном Анне Горенко) он упоминает его имя как мастера-ювелира и пилигрима Любви:
Жил беспокойный художник. В мире лукавых обличий – Грешник, развратник, безбожник, Но он любил Беатриче. Тайные думы поэта В сердце его прихотливом Стали потоками света, Стали шумящим приливом. Музы, в сонете-брильянте Странную тайну отметьте, Спойте мне песню о Данте И Габриеле Россетти.VIII
После Первой мировой войны в мире все круто изменилось. «Обветшалые кумиры» в искусстве были решительно свергнуты (или сброшены с парохода современности). Не избежала подобной участи и поэзия прерафаэлитов. Само прилагательное «викторианский» приобрело тогда негативный смысл, – что зафиксировано словарями английского языка. Едва ли это справедливо: лицемерие, ханжество и эгоизм существовали в обществе и до и после викторианского периода, который в этом отношении вряд ли особенно выделялся.
Как пишет К. Рикс, было особое обстоятельство, вызвавшее столь сокрушительную атаку на викторианскую поэзию, помимо естественной смены поколений. Подъем новой литературы в первый послевоенный период совпал с утверждением литературной критики как научной дисциплины. Апостолы модернизма соединились с академическими учеными в беспрецедентный союз, и ущербность викторианской поэзии была, так сказать, «доказана». Главную скрипку в этом ансамбле играл влиятельный критик Ф. Р. Ливис, а истинным вдохновителем был Томас Элиот, чего Ливис не скрывал: «Именно мистер Элиот наиболее полно объяснил нам всю слабость этой традиции»[100].
Потребовалась смена не одного, а двух поколений, чтобы читатели и критики избавились от трепета перед почти безраздельно господствовавшим авторитетом. Викторианский период в искусстве реабилитирован и привлекает к себе все большее внимание. Теперь мы можем по достоинству оценить и достижения викторианской поэзии: драматические монологи Браунинга, уникальную поэзию нонсенса и, конечно, творчество прерафаэлитской школы. Как писал Мандельштам в 1914 году:
И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет…С прерафаэлитами так в точности и получилось.
Данте Габриель Россетти (1828–1882)
Сонет о сонете
Сонет – бессмертью посвященный миг, Алтарь неведомого ритуала Души, что в бренном мире воссоздала Осколок Вечности; ночной ли блик В нем отражен иль солнца жгучий лик, Свет мрамора иль черный блеск сандала, – От шпиля гордого до пьедестала Он должен быть слепительно велик. Сонет – монета, у него две грани, На лицевой свой профиль начекань, Поэт; но посвяти другую грань Любви и Жизни, требующим дани; Иль на холодной пристани речной Харону заплати оброк ночной.Sibylla palmifera
Под аркой Жизни, где Любовь и Страх, Где Смерть и Тайна бодрствуют в дозоре, Там, на престоле, в царственном уборе И с пальмовую ветвию в руках Узрел я Красоту: в ее глазах Мне просияли небеса и море – Тем светом, что влечет нас в женском взоре И, как рабов, пред ним бросает в прах. Вот образ Красоты благословенной, Той, что я звал своею Госпожой, – Хоть знал лишь по внезапным перебивам В груди, по ускользающим извивам Одежд, – за кем стремился всей душой, Кого искал на всех путях вселенной!Без нее
Что без нее мой дом? Шалаш кривой, Где зябнущий укрылся сирота. Что платье? Скомканная пустота, Клок облака, покинутый луной. Что зеркало? Погасший рай земной, Где ныне беспросветность разлита. Кровать? Ночей бессонных маята И разговор с холодною стеной. Что сердце без нее? Пустых небес Беззвездная, бессолнечная мгла, Дороги одинокой кабала, Когда и месяц за горой исчез И туча длинная далекий лес Двойною темнотою облегла.Бесплодная весна
Кружится быстро колесо времен; И словно девочка на карусели, Вся устремясь к какой-то дивной цели, Летит, смеясь, – и ветер ей вдогон! – Весна мне мчит навстречу; но, смущен, Молчу в ответ; томят мой дух метели Прошедших зим, и мне не до веселий – Остыла кровь среди замерзших крон. Взгляни: пророчит ландыш о снегах, Цвет яблоневый, нежно оробелый, – О Змие, что погубит плод созрелый. Не радуйся же лилиям в лугах, Не жди, когда рассыплется во прах Вкруг сердца золотого венчик белый.Сестрица Елена
«Зачем ты из воска фигурку слепила, сестрица Елена? Зачем в третий раз ты ее растопила?» «Так тянется время докучно, уныло, мой маленький братец». (О матерь Мария! Три дня миновало уже между адом и раем!) «Работу свою ты свершила сегодня, сестрица Елена? Теперь я могу порезвиться свободней?» «Потише играй, если можешь, сегодня, мой маленький братец». (О матерь Мария! На третью, последнюю ночь между адом и раем!) «Какой человечек был крепкий и гордый, сестрица Елена, Теперь, как мертвец, он лежит распростертый!» «Увы, что ты знаешь о мертвых, мой маленький братец?» (О матерь Мария! О мертвых, чьи души блуждают меж: адом и раем!) «Гляди, там под слоем растопленным воска, сестрица Елена, Воткнута горящая кровью занозка!» «О нет, то закатная рдеет полоска, мой маленький братец!» (О матерь Мария! Как страшно она побледнела меж: адом и раем!) «Устала? Приляг на циновку скорее, сестрица Елена, Я буду играть на большой галерее». «Иди, может быть, отдохнуть я сумею, мой маленький братец». (О матерь Мария! Какой может отдых быть ныне меж: адом и раем?) «Такая луна здесь большая, что чудо, сестрица Елена! От леса вечерняя веет остуда». «Скажи, что ты видишь оттуда, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Что можно увидеть сегодня меж адом и раем?) Я вижу отсюда лесные вершины, сестрица Елена, И звезды, мерцающие над долиной». «Постой-ка! ты слышишь галоп лошадиный, мой маленький братец?». (О матерь Мария! Что это за топот гремит между адом и раем?) «Я слышу галоп лошадиный и вижу, сестрица Елена, Трех всадников – все они ближе и ближе…» «Откуда три всадника скачут, скажи же, мой маленький братец». (О матерь Мария! Откуда три всадника этих между адом и раем?) «От берега Война они прискакали, сестрица Елена, Один – уже близко, а двое отстали». «Взгляни хорошенько, его ты узнал ли, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Кто это так бешено скачет меж: адом и раем?) «То Кейт из Истхольма, исполненный пыла, сестрица Елена, Его белогривую знаю кобылу». «Приблизился час и пора наступила, мой маленький братец». (О матерь Мария! Приблизился час неизбежный меж адом и раем!) «Он машет руками внизу, где ограда, сестрица Елена, Кричит, мол, с тобой говорить ему надо». «Скажи, что вредна мне ночная прохлада, мой маленький братец». (О матерь Мария! Чему она так усмехнулась меж адом и раем?) «Я слышу, хоть ветер слова заглушает, сестрица Елена, Что Кейт из Иверна сейчас умирает». «Такое со всяким живущим бывает, мой маленький братец». (О матерь Мария! С тобой и со мной это будет меж адом и раем!) «Три дня он с постели подняться не может, сестрица Елена, О смерти он молит, так боль его гложет». «Пусть молит – молитва поможет, мой маленький братец». (О матерь Мария! Когда бы мы чаще молились меж: адом и раем!) «Всю ночь он сегодня молил до рассвета, сестрица Елена, Чтоб ты с него сняла заклятие это». «Я тоже молилась – и не без ответа, мой маленький братец». (О матерь Мария! Услышит ли Бог его вопли меж: адом и раем?) «Твердит он: пока ты заклятье не снимешь, сестрица Елена, Не может душа его с телом проститься». «Легко ль на такое решиться, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Свести человека в могилу меж: адом и раем!) «Тебя он, тоскуя, весь день призывает, сестрица Елена, Кричит, что как воск перед свечкой, сгорает». «А как это было со мной, он не знает, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Как ради него я сгорала меж адом и раем!) «Вот Кейт из Вестхольма несется, сестрица Елена, По ветру перо его белое вьется». «Увидим, чего он добьется, мой маленький братец». (О матерь Мария! Угрюмая радость моя между адом и раем!) «Коня осадил он и речь произносит, сестрица Елена, Но ветром слова его в сторону сносит». «Прислушайся: может, о чем-то он просит, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Как ветром уносит слова между адом и раем!) «Кейт Ивернский шлет половинку монеты, сестрица Елена, И молит припомнить над Бойном рассветы». «Вернет ли он все, возвращая обеты, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Все то, что порушено им между адом и раем!) «Еще он колечко тебе возвращает сестрица Елена, И в муке сердечной простить умоляет». «Он помнит ли то, что кольцо обещает, мой маленький братец?» (О матерь Мария! Того не вернуть никогда между адом и раем!) «К тебе он взывает, стеная и плача, сестрица Елена, Во имя любви незабытой, горячей». «Любовью рожденная злоба глуха и незряча, мой маленький братец». (О матерь Мария! Жестокое чадо Любви между адом и раем!) «А это кто скачет, не Кейт-ли из Кейта, сестрица Елена? Седые власы его вьются по ветру». «Еще до рассвета закончится это, мой маленький братец!» (О матерь Мария! Последний приблизился срок между адом и раем!) «Он смотрит сюда и сказать что-то хочет, сестрица Елена, Но в старческом голосе нет больше мочи». «Послушаем, что нам Барон пробормочет, мой маленький братец». (О матерь Мария! Когда это все прекратится, между адом и раем?) «Уже его сын на пороге могилы, сестрица Елена, Прости же, – чтоб Небо его пощадило». «Пусть Пламя простит меня, как я простила, мой маленький братец!» (О матерь Мария! Вот так я простила его между адом и раем!) «Он просит тебя, этот старец почтенный, сестрица Елена, Спасти его сына от черной Геенны». «Душа не погибнет мгновенно, мой маленький братец». (О матерь Мария! Ей маяться долго еще между адом и раем!) «Он встал на колени – как пыльна дорога, сестрица Елена! – Он молит поехать за ним ради Бога!» «Скажи, путь далек до чужого порога, мой маленький братец». (О матерь Мария! Далек и уныл этот путь между адом и раем!) «Ты слышала звон с колоколенки дальней, сестрица Елена? Он громче, чем свадебный звон, и печальней». «Не благовест это, а звон погребальный, мой маленький братец». (О матерь Мария! То звон погребальный гремит между адом и раем!) «С земли или с неба сейчас громыхнули, сестрица Елена? Дрожит все вокруг в этом громе и гуле». «Должно быть, они лошадей повернули, мой маленький братец?» (О матерь Мария! А что было делать еще между адом и раем?) «С колен старика они подняли молча, сестрица Елена, И быстро умчались в безмолвии ночи». «Бывает еще расставанье короче, мой маленький братец». (О матерь Мария! Души расставанье с землей между адом и раем!) «Ах, ветер пронзает безжалостней стали, сестрица Елена, Продрогшие всадники на перевале!» «Мы больше продрогли и больше устали, мой маленький братец». (О матерь Мария! Мы с ним еще больше продрогли между адом и раем!) «Смотри, этот воск так стремительно тает, сестрица Елена, Огонь языкастый его пожирает!» «Но этот огонь – он не вечно пылает, мой маленький братец». (О матерь Мария! Есть неугасимей огонь между адом и раем!) «Что там промелькнуло над нашим порогом, сестрица Елена, Умчалось, стеня, по небесным дорогам?» «Должно быть, душа, осужденная Богом, мой маленький братец». (О матерь Мария! Погибшая мчится между адом и раем!)Анджернон Чарльз Суинберн (1837–1909)
Родился в Лондоне, в семье адмирала, окончил Оксфордский университет. Первую свою трагедию «Аталанта в Калидоне» опубликовал в 1865 году. Сблизился с Россетти и прерафаэлитами. Путешествовал по Италии и воспел ее борьбу за независимость (сборник «Песня об Италии» и др.). Лучшие стихи Суинберна собраны в трех выпусках его «Стихов и баллад» (1866; 1878; 1889), они отличаются ритмическим богатством, смелой чувственностью образов и своеобразным поэтическим «шаманизмом». Он также автор ряда стихотворных драм, среди которых – трилогия о Марии Стюарт: «Шателяр» (1866), «Ботуэлл» (1874) и «Мария Стюарт» (1881).
Алджернон Чарльз Суинберн. Фото 1860-х гг.
Расставание
Уйдем, печаль моя; она не слышит, Какое горе в этих песнях дышит; Уйдем, не стоит повторять впустую! Пусть все, что с нами было, время спишет; К чему слова? Ее, мою родную, И ангельское пенье не всколышет, Она не слышит. Уйдем скорей; она не понимает, Зачем угрюмый смерч валы вздымает, Швыряясь в небеса песком и солью; Поверь: скорее полюса растают, Чем тронется она чужою болью; Стерпи, печаль; пойми, что так бывает: Она не понимает. Уйдем; она слезинки не уронит. Пускай любовь ненужная утонет В бурлящих волнах, в ледяной пучине – В ее душе ответа все равно нет; Пойми же и жалуйся отныне: Она спокойно прошлое схоронит – Слезинки не уронит. Уйдем отсюда прочь, она не любит: Ей все равно, что с этим садом будет, Который мы в мечтах своих растили, – Мороз ли ветви юные погубит, Пока они еще цвести не в силе, Или отчаянье его порубит – Она не любит. Уйдем же навсегда; что ей за дело! Ее тоскою нашей не задело; Пусть все созвездья в золотом узоре Над ней сольются, пусть, как лотос белый, Луна трепещущая канет в море, – Как лик любви, от горя помертвелый – Что ей за дело! Уйдем, печаль моя; она не видит, В грудь гордую сочувствие не внидет. Иль нет! споем в последний раз: быть может, Ее наш стих смиренный не обидит И не любовь – так память растревожит… Нет, прочь отсюда! ничего не выйдет – Она не видит.Джордж Мередит (1828–1909)
Родился в Портсмуте в семье поставщика королевского флота. Заканчивал образование в моравской школе в Германии. Работал юристом в Лондоне, но вскоре разочаровался в юриспруденции и встал на шаткий путь профессионального литератора. В 1849 году Мередит женился на молодой вдове Эллис Николе, но брак оказался неудачным: в 1859 году Эллис с их общим сыном ушла от мужа к художнику Генри Уоллису В 1861 году он вторично женился и поселился в маленькой деревушке в Сассексе. Мередит известен, в первую очередь, как популярный романист: «Эгоист» (1879), «Диана на распутье» (1885) и др. Он также автор нескольких книг стихов. Вторая из них, «Современная любовь» (1862), представляет собой цикл из пятидесяти нерегулярных (шестнадцатистрочных) «сонетов».
Джордж Мередит. С гравюры Фредерика Холиера, 1886 г.
Из цикла «Современная любовь»
«Он догадался, что она не спит…»
Он догадался, что она не спит, Когда ее волос рукой коснулся, – И странным звуком сумрак содрогнулся: Еще немного, и она б навзрыд Заплакала, – но тут же придушила Рыданья, словно ядовитых змей, И вся окаменела, будто в ней Громада ночи сжалась и застыла. Опившись опиумом тишины, Уснула Память и во сне дышала Болезненно, натужно и устало… Они лежали так, погружены В свою печаль и скорбь, как изваянья Над общею надгробною плитой, Укрыты равнодушной темнотой, Разделены мечом непониманья.«Но где исток разлада и измены?…»
Но где исток разлада и измены? Кто мне докажет, что вина моя? Ужели в одиночку должен я Убитую любовь тащить со сцены? Я спал, и я очнулся ото сна; Влюбленные, не ошибитесь вы хоть! – В любви законов нет, одна лишь прихоть. Я верил в верность; вот моя вина. В чащобах темной ревности блуждая, Я заблудился между трех стволов; Марионетка в балагане снов, Я думал, что вселенной обладаю. О, если б только пошлой суеты Не видеть, – я бы шествовал с отвагой, Качая шляпой и махая шпагой, – Прекрасный, гордый принц ее мечты!«Взгляни, как ветер мечет копья мглы…»
Взгляни, как ветер мечет копья мглы, На спинах волн рисуя тень скелета: Не сыщешь места лучшего, чем это, Чтоб схоронить любовь, – там, где валы С шипением облизывают дюны, Где океан шумит, хриплоголос, И плещут, разбиваясь об утес, Седые, беспокойные буруны. Нет средства лучше, чтоб убить любовь, Чем поцелуи поздние, которым Не обмануть рассудка жалким вздором! Вернулся день; но не вернется вновь То, что утрачено. Как ни печально, Злодеев нет, и виноватых нет: Страстями так закручен был сюжет; Предательство живет в нас изначально.«Итак, он обречен был изнутри…»
Итак, он обречен был изнутри – Союз души с душою несовместной. Два сокола в одной ловушке тесной Должны метаться, как нетопыри. Была пора: не ведая печали, Безгрешные, они брели вдвоем Среди цветов; но в спорах о былом Сегодняшнюю радость растеряли. Решая, кто был прав и кто неправ, Не пощадили и того, что свято, Но жалкого добились результата, Сомненьями друг друга истерзав. О скорбь! Не так ли море грозовое Всю ночь лавиной бешеных коней Штурмует берег, – чтобы меж камней Оставить утром бедный сор прибоя?Ковентри Патмор (1823–1896)
Ковентри Патмор родился в семье писателя, от которого унаследовал склонность к литературе. С 1846 года работал библиотекарем в Британском музее, посвящая свободное время поэзии. Был близок с Данте Габриэлем Россетти и прерафаэлитами, опубликовал свою поэму «Времена года» на страницах прерафаэлитского журнала «Начало» (The Germ). Самое известное произведение Патмора – поэма в четырех частях «Домашний ан-гел», в которой он воплотил идеальный образ викторианской женщины – жены, подруги и возлюбленной. Этот безупречный образ вызывал раздражение у новых поколений эман-сипированных женщин. Так, Виржиния Вульф писала, что задача каждой современной писательницы – «убить Домашнего Ангела». Собрание стихотворений Патмора вышло в 1886 году. Ему также принадлежат две книги критических эссе: «Принцип в искусстве» и «Religio poetae».
Ковентри Ихсмор. Джон Сингер Сарджент, 1896 г.
Игрушки
Сынишка мой, – Он грустным взглядом в мать И вовсе не шалун, Но тут опять В который раз нарушил мой запрет. Его я шлепнул и отправил спать На сон грядущий не поцеловав. Я был суров, я был неправ; Но я не мать, А матери давно уж нет! Немного погодя, Встревожась, я поднялся убедиться, Уснул он или нет. Он спал – И глубоко дышал во сне, Но были влажны длинные ресницы. Я влагу их губами осушил – И сам не прослезился еле: На столике, придвинутом к постели, Малыш мой перед сном расположил Все, что могло его утешить в горе: Узорный камень, Найденный у моря, Шесть раковин, Кусок стекла, Обкатанный волной, Коробку фишек, Подснежник в склянке, Пару шишек, – Устроив так, чтобы рука могла Ласкать сокровища свои… – О Боже! – Воскликнул я, – Когда мы все заснем И больше раздражать тебя не сможем, Тогда припомни, Что служило нам Игрушками, Какой бесценный хлам Нас утешал на этом свете, – И гнев на неразумных удержи, И улыбнись, И как отец скажи: Я их прощу, Они ведь только дети.«Брат Хопкинс»
Я есмь – конечно, есть и ты!
Г. Державин. «Бог»I
В 1864 году, когда отмечался трехсотлетний юбилей Шекспира, двадцатилетний Хопкинс начал набрасывать сонет; до нас дошли лишь первые восемь строк:
Шекспир
В жилищах душ людских он приобрел Свой прочный угол. Бог, что отодвинул От смерти день Суда, – пока не минул Урочный час и срок не подошел, Таит от нас верховный произвол; Кто из поэтов спасся или сгинул – Неведомо; тот редкий жребий вынул, Кто сразу получил свой ореол…Обратим внимание на смелое сравнение, сходное с «концептами» Джона Донна: мировой порядок, установленный Богом – не судить душу человеческую сразу после ее смерти, – оказывается образцом для суда литературного: окончательное решение откладывается на неопределенное время.
Тут интересны сразу две вещи: во-первых, «метафизичность» мышления Хопкинса, во-вторых, предсказание собственной судьбы. Провидение отодвинуло суд и приговор поэту, вынесла их далеко за скобки его жизни. Разумеется, случай не единичный: так было с Блейком и с Китсом; но, в отличие от них, Хопкинс вообще не публиковал своих стихов; ближайшая параллель – Эмили Дикинсон.
Джерард Мэнли Хопкинс. Фото 1880-х гг.
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) или, как принято было говорить в Обществе Иисуса, «брат Хопкинс» умер от тифозной горячки в Дублине, где он преподавал древние языки в Университетском колледже. Один из собратьев-иезуитов, ухаживавший за ним перед кончиной, большую часть бумаг усопшего сжег, а часть, включая письма поэта Роберта Бриджеса, отослал назад отправителю.
Бриджес и опубликовал первый сборник стихотворений Хоп-кинса. Правда, он сделал это почти через тридцать лет после смерти своего друга, в 1918 году. Не знаю, был ли тут сознательный расчет, но это оттяжка сыграла на руку стихам. В начале 1920-х в моду стали входить поэты-метафизики: в этом контексте стихи Хопкинса «прозвучали» (в конце XIX века их бы просто никто не понял). Потребовалось еще двадцать или тридцать лет, чтобы Хопкинс были оценен по достоинству и введен в поэтический канон.
Напомним, что посмертно были изданы и стихи преподобного Джона Донна, и его верного последователя поэта-священника Джорджа Герберта, который на смертном одре предоставил другу решать, публиковать ли его стихи или предать огню – в зависимости от того, «смогут ли они быть полезны хоть одной христианской душе или нет». Друг решил, что смогут, и книга стихотворений Герберта «Храм» была издана.
Хопкинс поступил еще радикальнее: он вручил судьбу своих стихов непосредственно Богу; 8 сентября 1883 года он записал в дневник: «Во время сегодняшней медитации я горячо просил Господа нашего приглядеть за моими сочинениями… и распорядиться ими по своему усмотрению, как они того заслуживают».
II
Из прожитых Хопкинсом сорока четырех лет первую половину он принадлежал англиканской церкви, вторую половину – католической. В 1868 году он вступил в Общество Иисуса, и вся его дальнейшая жизнь прошла под диктовку ордена, который двигал им как пешкой – вернее, как шахматным конем по доске: из Лондона в Стоунхерст, из Оксфорда в Уэллс, из Ливерпуля в Глазго – то учить теологию в иезуитской академии, то преподавать самому, то служить приходским священником… Перед каждым новым сроком послушничества он проходил очередные испытания, «дабы обновить рвение, которое могло остыть в занятиях и общении с миром». Испытания эти проходили в строгой изоляции: даже выйти погулять в сад Хопкинс мог, лишь испросив на то особое разрешение.
Испытуемых могли поднять с постелей в полночь и отправить слушать внеочередную мессу По средам их строили парами, как детей, и отправляли на прогулку во главе с «братом наставником», по пятницам и воскресеньям им разрешалось выбирать себе пару самому Все это казалось странным его друзьям-поэтам, с которыми он состоял в переписке: Роберту Бриджесу и канонику Р. У. Диксону, которые порой деликатно намекали на чрезмерную тяжесть возложенных им на себя вериг.
Однако Хопкинсу для чего-то были нужны эти вериги. Вступив в Общество, он сжег свои стихи и не писал восемь лет; хотя в этом было его призвание и наслаждение. Тонкий наблюдатель природы, умевший видеть вещи ярко и подробно, как сквозь увеличительное стекло, он многие месяцы ходил с глазами, опущенными долу, ибо любование материальным миром представлялось ему греховным. Невероятным облегчением для Хопкинса стало знакомство с трудами средневекового схоласта Дунса Скотта, теоретически обосновавшего совместимость любви к природе с любовью к Богу; наконец-то он мог поднять глаза и без угрызений совести смотреть на мир.
Многое в характере и в судьбе Хопкинса было, очевидно, заложено в детстве. Его отец, по профессии морской страховой агент и человек широких интересов, писал стихи, рецензии и очерки для газет; мать увлекалась музыкой и поэзией. Джерард унаследовал от отца свое «среднее» имя Мэнли – «мужественный», которое ему мало подходило: с детства он рос нервным и тихим ребенком. Как вспоминают родные, бесстрашие его проявлялось только в лазанье по деревьям: он мог часами просидеть на каком-нибудь высоком вязе, наслаждаясь перспективой, которую он позже воспоет в своем знаменитом стихотворении «Пестрая красота»: «луг, рябой от цветов; поле черно-зеленое, сшитое из лоскутов…»
Джерард Мэнли Хопкинс в юности. Неизвестный художник, 1866 г.
Учился Джерард в школе-интернате в пригороде Лондона Хайгейте. Учился он хорошо, вдобавок обладал талантом художника и порой забавлял товарищей смешными картинками и стихами; но друзей у него не было, мешали странности: внезапно нападавшая задумчивость, стремление уединиться с книгой в руках. В старших классах ему должны были претить сквернословие и подростковые пороки, процветавшие в те годы во всех английских школах-интернатах. Здесь, может быть, одна из главных причин взятых им впоследствии обетов. Увиденное в детстве зрелище зарезанной курицы оставит равнодушным тысячу мальчиков, а одного, тысячного, сделает вегетарианцем. Так и зрелище школьного разврата способно – хотя, конечно, не каждого – заразить на всю жизнь стыдом и отвращением; а в том, что Хопкинс был повышенно впечатлителен, можно не сомневаться. Спустя годы, когда он работал священником в трущобах Ливерпуля, его сострадание к беднякам и стремление им помочь было самым искренним, но он признавался, что виденное им ложилось на душу почти невыносимым бременем. Да и что такое свобода? Предоставив другим определять внешние условия своего существования, отказавшись от денег и амбиций, он фактически раскрепостил свою волю для главного: созерцания мира и Бога.
III
С 1868 по 1875 год Хопкинс не писал стихов, от этого времени сохранились лишь часть его писем и дневников. Вот в этих-то дневниках, абсолютно лишенных «самокопания», куда он записывал лишь то, что привлекло его интерес в окружающем мире, будь то закат, ручей, эволюция распускающегося цветка или форма градинок, появились и начали мелькать изобретенные Хопкинсом слова «инскейп» (inscape) и «инстресс» (instress). Условно их можно перевести как «внутренний пейзаж» и «внутренний посыл» объекта наблюдения. Критики сходятся на том, что однозначного определения этим понятиям дать нельзя, и у самого Хопкинса они употребляются в разных местах по-разному. В целом, «инскейп» подразумевает особое видение, проникновение в суть явления, «инстресс» – то, что данный объект «стремится сообщить» наблюдателю, его художественная доминанта. Во многих случаях, «инскейпы» дневников Хопкинса представляют как бы заготовки стихов, они полны точных деталей и оригинальных метафор.
Но встречаются в его дневниках и записи совершенно простодушные, которые не отнесешь ни к какому жанру.
«Дек. 17–18 ночью. Спас котенка с подоконника полукруглого окна возле раковины над газовой горелкой. Он залез туда, а спрыгнуть вниз не решался. Долго слушал его жалобное мяуканье, потом не выдержал и снял его оттуда. Записываю это из-за его удивительной благодарности: все время, пока я вел его вниз по ступенькам на кухню, он не только доверчиво следовал за мной, но на поворотах лестницы отбегал назад, просовывал голову сквозь стойки перил и пробовал лизнуть меня с верхнего пролета».
Долгий поэтический «пост» Хопкинса был прерван трагическим событием, о котором сообщали газеты. В декабре 1875 году возле устья Темзы во время сильной бури наткнулся на мель немецкий пароход «Deutschland». Сигналы о помощи из-за непогоды не были замечены; к утру прилив накрыл гибнущее судно чуть не до верхушек мачт. В конце концов помощь подоспела, но за ночь погибло около четверти пассажиров, в том числе пять изгнанных из Германии доминиканских монахинь. Хопкинса поразил этот случай и он обмолвился об этом ректору академии, который ответил: мол, вот тема для стихотворения. Этого намека было достаточно. Хоп-кинс немедленно приступил к делу и сочинил самое длинное из своих стихотворных произведений «Крушение „Германии“»; оно содержало 35 гремучих, торжественных строф:
Ты, мой Господин, Давший дыханье мне, Владыка бурь и пучин, Во гневе Бог и в огне! Ты коснулся меня, и трепещу я опять, Чуя длань твою на себе, дрожь бежит по спине; Ты кости и жилы мои связал: или хочешь сломать То, что сам ты, как башню, слепил из камней и глин?Конечно, русский перевод лишь приблизительно передает тот новый ритм, который давно уже мерещился Хопкинсу, звучал в его ушах: он назвал его «скачущим размером» (Sprung Rhythm) в отличие от «плавного» (Running Rhythm). Впрочем, слово «sprung» можно перевести и как «шатучий», «треснувший» и даже «подвыпивший». Речь идет, по существу, об тоническом стихе, основанном на счете ударных слогов при нефиксированном числе разделяющих их безударных. «Я не утверждаю, – писал Хопкинс в письме Диксону, – что эта идея абсолютно новая; есть намеки на нее в детских песенках и считалках, в народных стихах, встречается она и у поэтов; об этой возможности, я знаю, говорили и критики… Но никто, насколько мне известно, не употреблял этот принцип профессионально и последовательно. Мне же он кажется, должен признаться, лучшим и более естественным, чем обычная система, намного более гибким и способным на более сильные эффекты»[101].
Хопкинс признавал, что кроме старой саксонской поэзии (от «Беовульфа» до «Поэмы о Петре Пахаре») на него также повлияла и метрика валлийского стиха. В годы своего пребывания в иезуитской академии Сент-Бьюно в Уэллсе он увлекся валлийским языком и за несколько месяцев научился читать простые тексты, а также разбирать валлийские стихи. Одно стихотворение он даже сам написал по-валлийски. Впрочем, иезуитское начальство «не благословило» этих занятий – и вскоре перебросило Хопкинса в другое место.
Имеется ряд разъяснений Хопкинса о том, как надо читать его стихи, из которых самое последовательное и подробное – «Предисловие автора» к рукописному сборнику, составленному Робертом Бриджесом из стихотворений, присланных ему другом. В этом предисловии Хопкинс, между прочим, применяет музыкальный термин контрапункт. Это прием ритмической вариации – более сильный, чем простая синкопа, когда одна строфа ямба заменяется на хорей. Поясню на русском примере. Мандельштам мог бы начать один из своих переводов сонета Петрарки строкой:
Река, разбухшая от слез соленых…Вместо этого он заменяет первый ямбический слог на хорей, создавая синкопу:
Речка, разбухшая от слез соленых…Здесь уже возникает некая шаткость – намек на силлабическую природу оригинала, но это все-таки еще ямб, поскольку нетронута вторая стопа (по Хопкинсу, особо чувствительная); ударение на четвертом слоге «разбухшая» возвращает нас к ямбу. Но представим себе, что и вторая стопа заменена на хорей. Например:
Речка наша, разбухшая от жалоб…Это и есть то, что Хопкинс называет «контрапунктом»: мелодия хорея («речка наша») наплывает на ямб: «разбухшая от жалоб».
IV
Именно сонет вскоре стал главной и любимой формой Хопкинса. В некоторых сонетах он использует обычную силлаботонику, в других – тонику, а еще в иных – смесь того и другого. Для тонического («скачущего») стиха основное значение, по Хопкинсу, имеют паузы (rests), а также «висячие слоги» или «выезды» (hangers or outrides). Речь идет не о лишних слогах, удлиняющих строку, а о лишних слогах внутри строки, которые как бы не считаются при скандировании стиха. Хопкинсу пришлось разработать целую систему подстрочных и надстрочных знаков вроде нотных, чтобы доводить до читателя свой замысел! В обычных изданиях Хопкинса эти знаки не воспроизводятся, так что каждый читает его стихи так, как ему подсказывает интуиция.
Можно вообразить, какие невероятные трудности представляют такие стихи для переводчика. Буквальное копирование ритма в данном случае будет медвежьей услугой и автору, и читателю. Сошлюсь на авторитетное мнение Бориса Пастернака:
«Снятие копий возможно только с фигур, прочно сидящих в своей графической сетке. Переводу с языка на язык поддаются лишь правильные размеры и тексты с обычным словоупотреблением… Чужой художественный беспорядок трудно изобразить без того, чтобы в беспорядочности не заподозрили самого изображения. За редкими исключениями вольные размеры в переводе производят впечатление хромоты и ритмической неряшливости»[102].
Случай с Хопкинсом – совсем исключительный. Даже если бы можно было в точности повторить чередование безударных и ударных гласных в его стихах, мы все равно бы не достигли эффекта, предусмотренного автором, который, вводя свои музыкальные знаки, требовал, по существу, чтобы каждая строка репетировалась отдельно, как этюд Гедике: здесь легато, здесь стаккато, а там триоль. Но ведь и английские читатели не делают этого!
Таким образом, остается единственная возможность добиться похожего впечатления, имея в виду цели Хопкинса: отход от монотонной плавности, музыкальные «спецэффекты», передающие взволнованность речи: паузы, синкопы, акценты и тому подобное. Но все это – в умеренной, щадящей степени, с учетом русской просодии, чтобы не допустить впечатления хаоса звуков, чтобы «в беспорядочности не заподозрили самого изображения». Тут все зависит от мастерства и вкуса переводчика.
Дело осложняется тем, что не только ритм, но и смысл представляет проблему для читателей Хопкинса: его необычный словарь, полный неологизмов и составных слов, его сложный синтаксис, игнорирующий стандартный порядок слов, и общая темнота текста, часто нарочитая. Интересно и уникально, что первоначальные варианты многих строк Хопкинса были значительно яснее и проще; он сознательно менял их на более трудные. По его собственному признанию, он «не ставил себе цели, чтобы смысл целого был слишком ясен, безошибочно ясен» («Iwas not overdesirous that the meaning of all should be quite clear, at least unmistakable»)[103].
Даже его ближайший друг Роберт Бриджес встал тупик перед «Крушением „Германии“». Хопкинс просил его прочесть стихотворение во второй раз, чтобы лучше в нем разобраться. «Ни за какие деньги!» – отвечал Бриджес. В их переписке нередки случаи, когда Хопкинсу приходится пересказывать свои стихотворения прозой, чтобы объяснить их смысл. А сонет о своем любимом композиторе Генри Перселле он объясняет дважды: сперва в письме от 31 мая 1879 года, а потом – 5 января 1883 года. Видно, за четыре года Бриджес забыл, в чем там суть, и опять запросил помощи!
Передавать темноту, неоднозначность – труднее всего. Ведь перевод, по своей сути, интерпретация. Даже перевод одного отдельного слова есть выбор между несколькими словарными значениями. (Как перевести, например, «house»? Это и «дом», и «жилище», и «здание», и «хозяйство», и еще многое другое.) То, что в оригинале звучит аккордом, приходится расщеплять на звуки и переводить одной нотой – даже не нотой, а, учитывая многозначность русских слов, совсем другим аккордом.
К счастью, в сонетах Хопкинса главный смысл просматривается довольно ясно: ведь Хопкинс, по сути своей, «смысловик»: он заранее знает, о чем собирается писать. Поняв этот смысл – «выведав сенс» (по выражению Петра Первого из его знаменитого наставления переводчикам), – нужно лишь постараться так же, как Хопкинс, упаковать его в несколько заверток, чтобы читатель не ленился их разворачивать. То есть делать то же самое, что Хопкинс при доработке своих стихотворений.
V
Джерард Хопкинс, пожалуй, самый радикальный реформатор стиха в английской поэзии XIX века. В американской поэзии таковым считается Уолт Уитмен. Трудно, наверное, найти двух более полярных поэтов. Один – неукротимый оратор и зазывала, не стеснявшийся сам на себя писать восторженные рецензии; другой – смиренный иезуит, беспокоящийся, не осудит ли его Господь за праздноделание, за «оглядывания назад с рукой на плуге», за растрату сил на сочинение стихов и тщеславные мысли, порождаемые этим занятием. «Безвестная участь лучше известности, лишь в ней мир и святость», – писал он другу[104].
Тем интереснее, что когда Роберт Бриджес обратил внимание на сходные черты их поэзии и заподозрил влияние Уитмена на Хоп-кинса, последний (уточнив, что читал всего лишь несколько стихотворений Уитмена да еще критическую статью о нем в журнале «Атенеум») неожиданно признается:
«Я всегда в глубине сердца знал, что ум Уолта Уитмена походит на мой более всех других современных умов. Поскольку он – большой негодяй, это не очень-то приятное признание. Оно также утверждает меня в желании прочесть больше его стихов и ни в коем случае не стать на него похожим».
Однако сходство стилей, по мнению Хопкинса, в данном случае, чисто внешнее. Конечно, и тут, и там бросаются в глаза длинные строки, нерегулярный стих. Но на этом общие черты кончаются. Стихи Уитмена, по существу, ритмическая проза, в то время как у него самого они основаны на древней традиции стиха, идущей, по крайней мере, от Пиндара.
«Вышеприведенные соображения не ставят целью принизить Уитмена, – заключает Хопкинс. – Его „дикарский“ стиль имеет свои достоинства; он выбрал этот стиль и стоит на нем. Но нельзя и съесть пирог и сохранить его[105]: он съедает свой пирог сразу, я же сохраняю его. В этом вся разница»[106].
Много чего можно было бы сказать по поводу этого загадочного «сходства умов» (которое Хопкинс не объясняет) «большого негодяя» и «не съеденного пирога». У меня есть некоторые версии, на которых, впрочем, я не настаиваю.
Сходство, на мой взгляд, заключается в центробежном темпераменте обоих поэтов, в восприятии мира как захватывающего разнообразия, в их поэтической жадности и всеядности – в случае Уитмена, ничем не ограниченных, в случае Хопкинса, сознательно введенных в определенные рамки (к чему служит и форма сонета).
«Негодяйство» Уитмена состоит, по-видимому, в отсутствии каких-либо сдерживающих начал, аморальности и язычестве; в рецензии Джорджа Сентсбери на «Листья травы», которую Хопкинс прочел, есть также намеки на сексуальную распущенность в греческом, «сократовском» стиле – намеки, по условиям викторианского времени, очень завуалированные, но все же прочитываемые[107].
Надгробная плита общей могилы братьев-иезуитов, в которой похоронен Дж. М. Хопкинс Гласневинское кладбище, Дублин
Что касается «пирога», то речь, как я понимаю, идет о поэтической тайне, о не сказанном – той подводной части айсберга, которая удерживает на плаву истинно великую поэзию. У Уолта Уитмена нет тайны, он все выбалтывает сразу, съедает свой пирог на ходу; воображению читателя не остается ни крошки.
VI
Вспоминается эпизод, рассказанный Ковентри Патмором, поэтом, близким к прерафаэлитам, с которым Хопкинс познакомился в 1883 году и с тех пор состоял в переписке. В 1885 году по приглашению Патмора он провел у него в гостях несколько дней, и хозяин показал ему рукопись своей прозаической книги «Sponsa Dei» («Невеста Божья») – о связи божественной и плотской любви. Хопкинс просмотрел книгу и сказал серьезно и неодобрительно: «Она разбалтывает тайны». Моральный авторитет гостя был так силен, что автор тут же приговорил свою рукопись к сожжению[108].
Суждения Хопкинса о современной поэзии бескомпромиссны и во многом, как кажется, предвосхищают вкусы символистов. Еще в молодые годы он понял и записал в дневник:
«В поэзии нет царской дороги. Миру следовало бы знать, что единственный способ достичь Парнаса – это взлететь к нему. Тем не менее люди вновь и вновь стараются вскарабкаться на эту гору и либо гибнут в пропасти, размахивая флагами, на которых начертано „Excelsior! – либо спускаются вниз с толстыми томами и изнуренными лицами. Старое заблуждение неколебимо»[109].
Здесь, конечно, камень в огород Генри Лонгфелло. О другом кумире времени, Роберте Браунинге, Хопкинс писал: и автор, и его персонажи похожи на трактирных типов, вскакивающих из-за стола и орущих с набитыми едой ртами, что они этого не потерпят. В другом письме Бриджесу Хопкинс признавал, что в стихах Браунинга попадаются замечательные частности, но в целом они производят на него оскорбительное и отвратительное впечатление[110].
Что касается Альфреда Теннисона, то его портрет висел в студенческой комнате Хопкинса в Оксфорде рядом с портретами Шекспира и Китса. Хопкинс с благодарностью вспоминал, как в юности его околдовала и покорила «Волшебница Шэллот» и многие другие стихотворения Теннисона. Но затем произошло ужасное: он начал «сомневаться» в любимом поэте. В зрелые годы он писал о нем Роберту Бриджесу: «Я иногда поражаюсь этому парадоксу в Теннисоне: его талант выражения – чистейшее золото, но вчитайтесь и вы обнаружите, что мысли, которые он выражает, банальны и им не хватает благородства (звучит жестоко, но вы, я надеюсь, понимаете, что я имею в виду)»[111]. Нечто близкое говорили впоследствии Элиот и Оден, но слова «благородство» они не употребляли. Другие замечания Хопкинса позволяют думать, что речь идет о романтическом эгоизме в духе Байрона: «У Теннисона встречаются раздражающие байроновские нотки в „Леди Кларе Вир Де Вир“, „Локсли-Холле“ – и не только» (письмо Р. Диксону 1 декабря 1881 года).
Есть городок Хейзелмир на границе графств Сарри и Сассекс; в нескольких милях от него в усадьбе Олдворт жил и умер Альфред Теннисон. Недавно я совершил паломничество в те края. В местной церкви мне показали два больших витража, посвященных поэту-лауреату и воспетому им рыцарю Галааду, искавшему Святой Грааль. Рядом, на третьем витражном окне, изображен Джерард Мэнли Хопкинс. Почему, с какой стати? Оказывается, в последние пять лет жизни Хопкинс несколько раз заезжал в Хейзелмир навестить переселившихся сюда родителей. Местная жительница, прихожанка храма, гордо подчеркнула: «Это – единственное на всю Англию изображение иезуитского священника в протестантской церкви».
Если бы я был верующим, я бы сказал: воистину не люди, но Бог человеческими руками устраивает какую-то ведомую только ему справедливость.
VII
Литературная канонизация Хопкинса проходила отнюдь не гладко и не единодушно. Влиятельный кембриджский критик Фрэнк Ливис в 1932 году назвал его «лучшим поэтом викторианской эпохи, далеко превосходящим всех других в силе и утонченности». Но было немало других голосов, указывавших на искусственность стиля Хопкинса, узость его тем, скудость наследия.
Кто прав? Если говорить о Хопкинсе как о новаторе стиха, оказавшем важное влияние на поэзию XX века, я бы не стал преувеличивать значение этих заслуг. В конце концов, реформа произошла бы так или иначе – она назревала. Усталость от ямбов, стремление расковать английскую просодию привели бы к тем же результатам, даже если бы все стихи Хопкинса сгорели в дублинском камине. Скажу, для примера, еще одну вещь (которая иным покажется ересью): если бы Казимир Малевич не нарисовал свой черный квадрат в 1912 году, его нарисовал бы кто-то другой, и очень скоро. Я в этом уверен. Потому что квадрат этот буквально носился в воздухе.
Ценность поэзии Хопкинса определяется не формой, а ее внутренним напряжением и «красотой». Я заключил это слово в кавычки как одно из ключевых понятий самого автора. Хопкинс считал, что в человеке всё – душа; красота души может проявляться в красоте тела – или в красоте ума – или в красоте сердца. Последнее свойство иногда называют благородством.
Хопкинс писал сонеты, но эти сонеты по своему тону близки к оде – то есть возвышенной, хвалебной песне. Мы знаем оды Пин-дара, оды Ломоносова и Державина, оды Китса. Пафос требует простора. Вмещая его в жесткие рамки, сдавливая, словно поршнем, в четырнадцать строк, поэт поступает так же, как природа, спрессовывающая уголь в алмаз.
Необычные, яркие метафоры Хопкинса напоминают о Донне и Герберте. Но с барочными чертами смешаны в нем традиции вор-дсвортианской школы. Чувствилища его поэзии оголенней, уязвимей, чем у поэтов-метафизиков. Присутствие Божье для Хопкинса – почти нестерпимый жар и свет, разлитые в природе. «Земля заряжена величьем Божьим; встряхни – и полыхнет, как лист фольги…» Эти разряды страсти происходят непрестанно. «Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя…» Восторг поэта – язык того же пламени:
…И огонь, что ветра поддувалом В груди воспламенен, – жги, о мой командор!Но в природе и в душе – не один свет; есть и мрак. Вкрадчивый, всепроникающий, во всех своих оттенках и градациях от смутной печали до черноты отчаяния, он тоже каким-то образом входит в замысел Вселенной. «Пестрая красота» Божьего мира – не только его бесконечное, рябящее в глазах разнообразие, но и перемешанность света с тьмой, отсюда любимый эпитет Хопкинса «dappled» – «крапчатый», «пятнистый».
Импрессионизм Хопкинса проявляется и тогда, когда его поэзия не ослепляет своей яркостью и пестротой, а лишь мерцает сквозь сумрак, как в сонетах «Фонарь на дороге» и «Свеча в окне». В первом из них Хопкинс пишет о разлуке с друзьями, уносящими неповторимый свет, уходящими один за другим в ночь все дальше и дальше – «пока их смерть и мрак не поглотят». Тут полезно помнить, что иезуитов нарочно перемещали с места на место, чтобы они не успевали обрасти привязанностями: не дай Бог, любовь к друзьям отнимет кусочек любви к Богу.
То, что влечет меня к Хопкинсу – вопреки колоссальной разнице в жизненном и духовном опыте, вопреки расхожим предубеждениям, – некое свечение, исходящее от его стихов, напечатленный на них облик поэта. Снова вспоминается тот сонет о Перселле, который он дважды растолковывал Бриджесу:
«Пусть душа, которую я так люблю и которая дышит и проступает повсюду в его сочинениях, будет пощажена Господом вопреки его вере, причтенной к ереси. Ибо не его сладкозвучные ноты, ни любовь, ни пыл, ни священный страх влекут меня, мучат и врезаются в слух, но неповторимый оттиск характера – узнаваемого, как репетиция меня самого. Так птица взлетает, раздвигая веером хвост, и хотя у нее нет намерения поразить нас своей красотой, но лишь желанье достичь своей цели, мы застываем, пораженные, как чудом, узором ее перьев»[112].
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889)
Пестрая красота
Славен Господь, сотворивший столько пестрых вещей: Небо синее в пежинах белых; форелей в ручье С розоватыми родинками вдоль спины; лошадиные масти, Россыпь конских каштанов в траве; луг, рябой от цветов; Поле черно-зеленое, сшитое из лоскутов; Для работ и охот всевозможных орудья и снасти. Все такое причудное, разное, странное, Боже ты мой! – Все веснущато-крапчатое вперемешку и одновременно – Плавно-быстрое, сладко-соленое, с блеском и тьмой, – Что рождает бессменно тот, чья красота неизменна: Славен, славен Господь.Сокол Господу моему Иисусу Христу
Сегодня утром я приметил в вышине Любимца утра, принца в пышно-розово-рябом камзоле Он, трепеща, на нитях солнечных над полем Царил – он реял, крылья развернув, на воздуха тугой волне, Ликуя и кружа, как конькобежец, в не – оглядности небес! И вдруг душа моя, дотоле Робевшая, как мышь, очнулась поневоле И страх перед тобой превозмогла вполне. О гордость, красота, паренье, хищный взор, Сплотитесь! И огонь, что ветра поддувалом В груди воспламенен, – жги, о мой командор! Плуг в трудной целине так вспыхивает яростным металлом. Угль, гаснущий в золе, хладеющий костер – Нахлыньте, вспыхните и золотым и алым!Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя
Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя; В ущелье – камня раздается крик; Колокола хотят, чтоб за язык Тянули их, – зовя колоколами; Всяк просит имени и роли в драме, Красуясь напоказ и напрямик, И, как разносчик или зеленщик, Кричит: вот я! вот мой товар пред вами! Но тот, на ком особый знак Творца, Молчит; ему не нужно очевидца, Чтоб быть собой; он ясен до конца: Христос играет в нем и веселится. И проступают вдруг черты Отца Сквозь дни земные и людские лица.Фонарь на дороге
Бывает, ночью привлечет наш взгляд Фонарь, проплывший по дороге мимо, И думаешь: какого пилигрима Обет иль долг в такую тьму манят? Так проплывают люди – целый ряд Волшебных лиц – безмолвной пантомимой, Расплескивая свет неповторимый, Пока их смерть и даль не поглотят. Смерть или даль их поглощают. Тщетно Я вглядываюсь в мглу и ветер. С глаз Долой, из сердца вон. Роптать – запретно. Христос о них печется каждый час, Как страж, вослед ступает незаметно – Их друг, их выкуп, милосердный Спас.Свеча в окне
Я вижу, проходя, свечу в окне, Как путник – свет костра в безлюдной чаще; И спиц кружащихся узор дрожащий Плывет в глазах, и думается мне: Кто и какой заботой в тишине Так долго занят, допоздна не спящий? Он трудится, конечно, к славе вящей Всевышнего, с благими наравне. Вернись к себе. Раздуй огонь усталый. Свечу затепли в сердце. Холодна Ночь за окном. Теперь начнем, пожалуй. Кого учить? Кругом твоя вина. Ужель не сохранишь ты горстки малой Той ярой соли, что тебе дана?Море и жаворонок
Вторгаются в уши два шума с обеих сторон, Два голоса – справа, где лава морская кипит, То с ревом штурмуя утесов прибрежных гранит, То тихо качая луны убывающей сон, – И слева, где с неба несется ликующий звон: Там жаворонок, как на лебедке, взлетает в зенит И, петлями песни с себя отрясая, гремит – Пока, размотавшись, о землю не грянется он. Два шума, два вечных… О пошлый, пустой городок У края залива! Погрязнув в никчемных делах Как можно не слышать ни волн окликанья, ни птах! Венцы мирозданья! Над вами еще потолок Не каплет? Сливайся, о слизь мировая, в поток, Несущий в начальную бездну расхлябанный прах.Весна и осень
Маленькой девочке Маргрит, оттого ль грустна ты, Что пустеют рощ палаты? Что ложится, облетая, Наземь – крона золотая? Ах, с годами заскорузнет Сердце – в нем ничто не хрустнет, Если все леса на свете На клочки развеет ветер: Лишь заплачут очи эти. И тогда тебе, малютка, Станет вдруг не жалко – жутко. Скорбный разум угадает, Что за червь его снедает; И заплачешь ты сильнее, Маргрит, девочку, жалея.Проснусь, и вижу ту же темноту
Проснусь, и вижу ту же темноту. О, что за ночь! Какие испытанья Ты, сердце, выдержало – и скитанья: Когда ж рассвет? Уже невмоготу Ждать – снова отступившую черту. Вся жизнь – часы, дни, годы ожиданья; Как мертвые листки, мои стенанья, Как письма, посланные в пустоту. На языке и в горле горечь. Боже! Сей тленный, потный ком костей и кожи – Сам – жёлчь своя, и язва, и огонь. Скисает тесто, если кислы дрожжи; Проклятие отверженцев все то же: Знать лишь себя – и собственную вонь.Падаль
Я не буду, Отчаянье, падаль, кормиться тобой, Не расшатывать – сам – скреп своих, ни уныло тянуть И стонать: Все, сдаюсь, не могу. Как-нибудь, Да смогу; жизнь моя родилась не рабой. Для чего ж ты меня тяжкой каменной давишь стопой Без пощады? и львиную лапу мне ставишь на грудь? И взираешь зрачком плотоядным, где жидкая муть, И взметаешь, как прах, и кружишь в буреверти слепой? Для чего? Чтоб отвеять мякину мою от зерна, чтоб, смирясь, Целовал я карающий бич, пред которым дрожим, Чтоб, смеясь, пел хвалу раб ликующий, вдавленный в грязь. Чью хвалу? Сам не вем. Победил ли меня херувим? Или я? или оба? – всю ночь, извиваясь, как язь, Я, бессильный, боролся впотьмах (Бог мой!) с Богом моим.Роберт Стивенсон (1850–1894)
Роберт Стивенсон, сын строителя маяков, родился в Шотландии. С детства он был слабого здоровья; несмотря на это, много путешествовал, ища подходящий для себя климат. Первое же большое произведение, «Остров сокровищ» (1883) принесло ему славу, которая окрепла после опубликования повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Под конец жизни, Стивенсон поселился на одном из островов Самоа, где получил от местных жителей прозвище «Тузитала» – рассказчик; там он и похоронен. Стивенсон – автор написанных в простой лирической манере стихотворений, баллад и песен, а также знаменитого сборника «Детский цветник цветов».
Роберт Луис Стивенсон. Фото 1880-х гг.
Подруга
Упрямую, смуглую, смелую, быструю, С глазами, что светятся тьмой золотистою, Прямую и резкую, словно кинжал, – Такую подругу Создатель мне дал. Гнев, мудрость и душу горячую, цельную, Любовь неустанную и беспредельную, Что смерти и злу не дано побороть, – Такое приданое Дал ей Господь. Наставницу, нежную и безрассудную, Надежного друга на жизнь многотрудную С душою крылатой, исполненной сил, Отец всемогущий, Ты мне подарил.Моей жене Фанни Отрывок
Еще не скоро вновь увидишь ты Живые изгороди и кусты Колючей ежевики у опушки, По сторонам – поля и деревушки, Костер цыганской кочевой семьи, Их ослика, что пьет из колеи, – И, углубившись за тележным следом В лес, попадешь в какой-то край неведом, Где темнота и лиственная тишь, Лишь пенье струй порою различишь, Да в самой чаще, за сырой ложбиной, Вдруг поразишься трели соловьиной, Пронзающей от головы до ног, И медом пахнет золотистый дрок… А на закате, возвращаясь к дому, Неся в себе блаженную истому, Увидишь солнца диск среди ветвей, Запутавшийся, как бумажный змей. А здесь бесплодное светило встанет Из бездны, взором яростным оглянет Гладь океана, очи обожжет И вновь закатится в пучину вод. Шквал, как разбойник, налетит нежданно, Срывая парус. Ночь средь океана – В бессвязном бормотанье ветровом, Под лампой, скачущей, как метроном, В кишащей инсектами душной клетке – Не то, что сон в жасминовой беседке… Шхуна «Экватор»Спойте мне песню
Спойте мне песню о том пареньке – Кто это был, угадай? – Тот, что когда-то уплыл налегке В лодочке с парусом в Скай. Справа по борту виднелся Эйгг, Слева по борту – Рэм, Юная радость кипела в душе: Где это радость и с кем? Спойте мне песню о том пареньке – Кто это был, угадай? – Тот, что когда-то уплыл налегке В лодочке с парусом в Скай. Дайте мне снова разбег и простор Этого раннего дня, Прежнюю душу и прежний задор, Дайте мне снова меня! Спойте мне песню о том пареньке – Кто это был, угадай? – Тот, что когда-то уплыл налегке В лодочке с парусом в Скай. Ветры и волны, моря, острова, Все, что цвело и влекло, Россыпи солнца, лавины дождя – Вместе со мною прошло.Дует над пустошью ветер, сметая тучи
Дует над пустошью ветер, сметая тучи, Дует средь вереска день и ночь напролет, Где над могилами мучеников и лучников Плачет кулик болот. Серые плиты, разбросанные средь бурьяна, Бурые плиты, стоящие среди мхов, Овцы на склонах воинского кургана, Гулкого ветра зов. Дайте же мне, умирая, увидеть снова Эти родные холмы и простор болот, Где над камнями старых могил сурово Ветер ночной поет.Завещание
Под небесами живого огня Здесь, на горе, схороните меня. Рад я, что дожил до этого дня, И отдохнуть готов. В память мою напишите вы так: Есть на земле угомон для бродяг; С моря домой возвратился рыбак, И охотник вернулся с холмов.«Старый чеширский сыр» и с чем его едят (Поэты 1890-х годов)
I
«Старый чеширский сыр» – трактир, или, по-английски, паб, в переулке возле Флитстрит, называемом Двор Винных Пошлин, потому что там некогда располагалось учреждение, выдававшее лицензии на торговлю спиртным в Лондоне. На трактирной вывеске гордо значится: «Заново открыт в 1667 году». Подразумевается, что таверна на этом месте была еще в XVI веке (и в нее захаживал сам Бен Джонсон с друзьями), а после великого пожара 1666 года ее отстроили заново. Ответ на вопрос: с чем едят «Старый чеширский сыр»? – очевиден: со стихами; ведь у каждого паба своя история, а у этого – однозначно литературная. Доктор Сэмюэл Джонсон, влиятельнейший писатель XVIII века, под старость заседал здесь каждый вечер. Кого здесь только не было, если верить книжке-проспекту – да отчего же ей не верить? – от Оливера Гол-дсмита до сэра Артура Конан-Дойля.
Как возникла литературная аура «Чеширского сыра»? Здесь мы вступаем в область мистики и произвольных догадок. Вот моя гипотеза. В самой фразе «CHESHIRE CHEESE» ровно 14 букв (8 плюс 6), и тем самым она идеально подходит для сонетов-акростихов, посвященных таверне: два катрена на CHESHIRE и два терцета на CHEESE. И такие акростихи действительно писались!
У меня есть книжка 1924 года о таверне «Чеширский сыр», купленная на воскресном благотворительном базаре в Бронксе. Сколько роскошных старых книг купил на этом еженедельном развале в местной церкви! И вдруг – эта полуразвалившаяся и скотчем заклеенная книга в бумажной обложке. Не просто потрепанная, а явно обгрызенная. Может быть, именно своей обгрызенностью она меня и привлекла. Ведь где мыши, там и коты. И, конечно, заставило вздрогнуть название: «Старый Чеширский сыр». Тут уже раздалось не только попискивание, но и внятное мяуканье: Чеширский! И коты в книжке действительно обнаружились. Но об этом позже.
«Старый чеширский сыр». Рекламная книга таверны. 9-е изд. Лондон, 1926.
Автор книги не обозначен. Но это вполне мог быть астральный дух Льюиса Кэрролла – или его земной двойник. Стиль названия наводит на эту мысль. Он напоминает об одном из самых знаменитых парадоксов «Алисы в Зазеркалье» – о песне, которую собирается спеть Белый Рыцарь. Той самой, чье заглавие – «С горем пополам», но называется это заглавие «Пуговки для сюртуков», а сама песня называется «Древний старичок»[113]. Так вот, с нашей книгой ситуация очень похожая.
Название книги – «Чеширский сыр».
А называется это название (на обложке): «Старый чеширский сыр города Лондона. Приют литераторов за 300 лет».
Сама же книга называется (на титульном листе): «Книга о сыре. Рассказы и истории о „Старом Чеширском сыре“, Двор Винных Пошлин, Флит стрит, Лондон». Ну, чем не Льюис Кэрролл?
Но не только отзвучьями любимой «Алисы» заманила меня эта книга. Дело в том, что в знаменитой таверне «Старый чеширский сыр» в комнате на втором этаже несколько лет подряд собирались члены Клуба рифмачей, основанного Уильямом Йейтсом, друзья его молодости: Артур Симоне, Эрнст Доусон, Лайонел Джонсон и другие – английские поэты-декаденты 1890-х годов, которых Йейтс назвал в своих стихах «последними романтиками», а в своих воспоминаниях – «трагическим поколением».
II
Что же это была за компания, которая собиралась раз в неделю или две, чтобы читать и обсуждать стихи за кружкой эля, скромно попыхивая дешевыми глиняными трубочками?
Декаденты? Несомненно, хоть английское строгое воспитание и давало о себе знать, но многим удалось вполне успешно разложиться и даже перещеголять французов по части алкоголизма и ранних смертей.
Ниспровергатели? Конечно, хотя поэзия Теннисона, Суинбер-на и прерафаэлитов оставила отпечаток на их стихах; и все-таки это было первое поколение чистых лириков, отвергнувших тяжеловесные викторианские поэмы, социальные мотивы, риторику и вообще всё, что можно изложить в прозе.
Эстеты? Пожалуй, хотя зеленых гвоздик в петлице, как Оскар Уайльд, они не носили и безупречных сонетов, как Эредиа, не чеканили; но они поклонялись Искусству и, сжигая себя на его алтаре, верили, что это божество достойно человеческих жертвоприношений.
Через двадцать лет, когда многих из них уже не будет в живых, Йейтс напишет о своих собратьях по «Клубу рифмачей»: «От вас я научился своему ремеслу». И еще так:
Соблазн беду на вас навлек, И рано смолкли ваши песни, Но за тяжелый кошелек Вы не писали легковесней. Молвой крикливых площадей И славой вы не дорожили: Вас ждет забвение людей. Вы это право заслужили[114].III
Дерек Стэнфорд в своей статье о поэтах 1890-х годов[115] приводит впечатляющий мартиролог поэтов – членов Клуба рифмачей и их друзей. Эрнст Доусон, спившийся и умерший в 1900 году в возрасте 32 лет. Его ровесник Лайонел Джонсон, протянувший на два года дольше. Обри Бердслей, иллюстрировавший альманахи «Желтая книга» и «Савой», где активно печатались «рифмачи»: он скончался от чахотки в неполные двадцать шесть. Оскар Уайльд, опозоренный и отсидевший в тюрьме: умер в возрасте сорока шести лет. Джон Дэвидсон, покончивший самоубийством в пятьдесят три. Даже самый удачливый из «рифмачей» Артур Симоне не избежал психического заболевания в 1908 году, от которого до конца жизни так вполне и не оправился.
Одному лишь Йейтсу хватило духу, не истощив своего творческого потенциала, дожить до семидесяти четырех лет; но и у него, как однажды заметила Дороти Уэллсли, был такой вид, будто он вел постоянную борьбу с нездоровьем.
Вопреки духу меланхолии и обреченности, пронизывающего всю поэзию 1890-х, воспоминания современников о той поре полны всевозможных анекдотов, пикантных и смешных подробностей, мифов и легенд, которые всегда сопровождают быт богемы. Мы не будем углубляться в этот чересчур соблазнительный материал – на то есть другие авторы и книги[116]. Но несколько главных фигур из числа «рифмачей» мы попытаемся вкратце обрисовать.
IV
Первым идет Лайонел Джонсон (1867–1902). По словам Йейтса, «его мнения доминировали в Клубе рифмачей и определяли лицо и направление этого сообщества».[117] В той же статье дается портрет: ростом почти карлик, но идеально сложен, черты лица словно вырезаны из слоновой кости; решительный, надменный, в речах немногословный и безапелляционный. Вот примеры его высказываний: «все важное уже открыто; науку следует оставить для кухни или мастерской; лишь философия и религия способны разгадывать великие тайны, но они уже давно сказали свое слово; джентльмен – это человек, знающий древнегреческий»[118].
Джонсон вел ночной образ жизни: он спал до семи часов вечера, после чего принимал друзей и работал до утра в своем кабинете, заставленном до потолка книжными полками. Он хвалился, что ему незачем выходить из дому: все, что нужно, под рукой. Джонсон был самым образованным из «рифмачей» – и сознавал свое интеллектуальное превосходство. Он говорил: «Мне нужно бы двадцать лет провести в пустыне, а вам, Йейтс, двадцать лет в библиотеке».
Родился Джонсон в Англии, но корни у него были кельтские, и с годами он все больше чувствовал связь с Ирландией. Йейтс дважды брал его с собой в Дублин и Голуэй, привозил к своей родне в Слайго.
В 1891 году Джонсон перешел в католичество; он рассказывал, что кардинал Мэннинг говорил: «Поэты составляют третий чин священства». Жизнь Джонсон вел почти монашескую – ну, скажем так, наполовину монашескую. Женщин он избегал. Йейтс сформулировал это так: «Джонсон и Доусон, друзья моей юности: один – пьяница, другой – пьяница и бабник»[119].
Лайонел Джонсон. Фото 1890-х гг.
Пьянство Джонсона с годами превратилось в неизлечимый алкоголизм. И это не противоречило его глубокому увлечению религией: ведь пьянство всегда можно рассматривать как попытку приблизиться к иному миру, стряхнуть с себя «сон жизни».
В нем жил парадокс: он сознавал свою обреченность и сам шел навстречу гибели – и в то же время был оппонентом всякого ноющего декадентства в духе II pleure dans топ coeur[120], высмеивая его устами своего мудрого доктора: «Нет, сэр, не верю я его слезам… Он врет, собака, врет и знает сам!».
Классическая закваска и преданность европейской традиции лежала в основе его мировоззрения. «Я остаюсь верен тому, что полюбил не вчера, – писал он незадолго перед смертью. – Новые повести, новые рассказы и стихи не составят мне компанию на Рождество. „Меж мертвецов проходят дни мои“, сказал Саути. Какая жестокая ложь! Я бываю средь мертвецов лишь когда меня окружают мои мертворожденные и безжизненные современники, а не в те ясные дни и сияющие ночи, когда со мной говорят мощные голоса древних – голоса славы. Удовольствие от классики неистощимо; отсюда ее сан и титул: классика».[121]
Йейтс прислушивался к своему другу и во многом разделял его устремления. Сравним, например, «Сон о былых временах» Джонсона, в котором он оплакивает «смерть прелести земной и гибель красоты», со стихотворением Йейтса, где забытая красота (forgotten loveliness) окружена тем же средневековым антуражем, что у Джонсона; мир гибнет, а она, неуязвимая, отлетает в свое надзвездное убежище, в тронный чертог, –
Где стражи тайн ее сидят, В железном облаченье лат, На меч склонившись головой, В задумчивости вековой[122].Думаю, что Йейтс видел в Джонсоне одного из таких стражей. Может быть, и весь кружок поэтов, собиравшихся в «Чеширском сыре», представлялся ему неким рыцарским братством вроде Арту-рова Круглого Стола?
V
Вторым идет Эрнст Даусон (1867–1900). Впрочем, по количеству сплетен и легенд он, вероятно, первый. Нельзя сказать, что молва возникла на пустом месте; но она явно ориентировалась на расхожий стереотип: «английский Верлен», пьяница, на клочке салфетки в кафе набрасывающий обрывки стихов; опустившийся тип, под парами абсента не брезгающий проститутками самого низкого разбора.
Типичный анекдот – о том, как в 1896 году он привел Оскара Уайльда (недавно выпущенного из тюрьмы) в публичный дом в Дьеппе, настоятельно рекомендуя ему испытать сей вид досуга. «Ну, как?» – спросил он через час, подождав мэтра у выхода. «Холодная баранина, – поморщился Уайльд. – Но вы все-таки расскажите об этом в Англии: это должно поправить мою репутацию».
В 1891 году Даусон влюбился – трогательно и безнадежно – в двенадцатилетнюю девочку Аделаиду, дочь поляка-трактирщика из Сохо, но через два года она вышла замуж за официанта. Это, да еще самоубийство разорившихся родителей, говорят, окончательно выбило почву у него из-под ног. С 1895 года Даусон жил, в основном, во Франции, часто впроголодь; но умирать он приехал в Лондон, где и угас в доме сострадательных знакомых, ненадолго обременив их лишними заботами.
Эрнст Даусон. Фото 1890-х гг.
Воспоминания рисуют его симпатичным и мягким в обращении, но безвольным и рано состарившимся человеком. Так же, как Джонсон, он еще в молодости перешел в католичество. Между прочим, Обри Бердслей тоже принял католичество за год до своей ранней смерти. По-видимому, мистическая пища была необходима людям этого поколения; Йейтс получал ее в форме теософии, позже – розенкрейцерства:
Танцуй, плясунья! не смолкай, флейтист! Пусть будет каждый лоб венком увит И каждый взор от нежности лучист, Отец наш Розенкрейц в могиле спит.Если вынести Йейтса за скобки, то именно Эрнста Доусона следует назвать самым талантливым поэтом английского декаданса. Трепет жизни, ее мимолетность и неудержимость, опьянение, безумие («Тому, кто в Бедламе») – все эти вечные поэтические темы выражены у него сильней и гармоничней, чем у кого-либо другого из «рифмачей». К сожалению, Доусона мало знают даже в Англии; лишь его «Кинара» неизменно публикуется в антологиях. Но и это стихотворение обычно трактуется слишком плоско. Между тем главное в нем – не циническая усмешка, не безнадежная устремленность к гибели, а какое-то почти религиозное чувство, которое можно определить как «оправдание верой»:
Я громче всех кричал, я требовал вина, Когда же свет погас и я упал, как труп, Явилась тень твоя, печальна и грозна; Я так измучен был моей любовью старой; Всю ночь я жаждал этих бледных губ: Но я не изменял твоей душе, Кинара[123].VI
Если уж Йейтс назвал Джонсона «пьяницей», а Доусона – «пьяницей и бабником», то для симметрии Симонса он должен был назвать просто «бабником». В начале 1890-х, по свидетельству самого Йейтса, Симоне вел жизнь завсегдатая мюзикхоллов и искателя любовных приключений[124].
Их знакомство перешло в дружбу не сразу, мешала разница поэтических принципов: Симоне ценил в поэзии непосредственность и остроту впечатления, Йейтс – страсть и глубину. Лишь позднее они сблизились и даже снимали вместе квартиру в Лондоне. Симоне был знатоком современной французской литературы (и не только французской), автором книги «Символистское движение в литературе» (1899). «Все, что я узнал о современной континентальной литературе, – признается Йейтс, – я узнал от него»[125].
Артур Симоне. Гравюра на деревеРоберта Брайдена, 1898–1899 гг.
Они были ровесники. Артур Симоне (1865–1945) родился в Уэльсе от девонширских родителей. Приехав в Лондон, он вскоре сделался влиятельным журналистом и критиком. Причем он разбирался не только в литературе, но в современной живописи, отлично знал театр английского Возрождения. В 1896 году, после закрытия «Желтой книги», Симоне возглавил новый альманах того же направления, «Савой», в которой часто печатался Йейтс (добавляя изданию немного особого кельтского колорита). Стихи самого Симонса явно подражательны – зависимы от Вердена и французских символистов, но декорации их оригинальны. В сборниках «Дни и ночи» (1889), «Силуэты» (1892) и других – много импрессионистских зарисовок Лондона, его домов и набережных, ночных улиц и газовых фонарей, смутных теней, мелькающих сквозь занавес сумрака и дождя.
Интересно, как сходно бывает мышление поэтов, разделенных, казалось бы, непереходимой бездной. Изысканное декадентское стихотворение «Ночной гелиотроп» Артура Симонса на русский язык, насколько я знаю, никогда не переводилось, и вряд ли «поэт фронтовой обоймы» Евгений Винокуров мог его где-либо прочесть. И тем не менее сравним: «Ее когда-то звали – Мнемозина / И поклонялись ей. На мой же взгляд, / Она – ведь просто вроде магазина / Комиссионного – или, вернее, склад, / Где весело навалены на полки / События за многие года. / И кажется, того гляди, подпорки / Не выдержат и рухнут – и тогда / Как я в поднявшейся неразберихе, / В том хаосе ночном, как в том аду / Облупленный твой домик на Плющихе, / В нем – комнату, а в ней – тебя найду? / Тьма беспросветна вечности. Найду ли, / Хлебнув забвенья из ночной реки, / Испуг во сне, и лифчик твой на стуле, / И две ко мне протянутых руки?»[126]
Ситуация практически та же: спящая женщина, случайная комната, разбросанная одежда – и ненадежная память, которая грозит или рухнуть и все погрести под собой – или прихлынуть внезапной волной из прошлого. Смотря по тому, какой водой сбрызнуть – мертвой, как у Винокурова («хлебнув забвенья из ночной реки»), или живой, как у Симонса (запах «тех самых» духов):
Все это память впопыхах Обрушит разом, как потоп, Едва вдохну – в толпе, в гостях – Духи «Ночной гелиотроп».VII
В моей погрызенной книжице лишь пара страниц посвящена «Клубу рифмачей». Однако здесь упоминается их первая антология 1892 года (на самом деле, вышла и вторая – в 1894 году), и перечисляются участники собраний: Эрнст Доусон, Эдвин Эллис, Дж Грин, Лайонел Джонсон, Ричард Ле Гальен, Виктор Плар, Эрнст Рад форд, Эрнст Рис, Т. У. Ролстон, Артур Симоне, Джон Тодхантер, Уильям Йейтс.
«Когда столь сладостные певцы встречаются, – умиляется анонимный автор, – можно быть уверенным, что вечер будет восхитителен, мир с его заботами исчезнет и поэтические турниры „Сыра“ и „Русалки“ вновь оживут, как о том дивно писал мистер Эрнст Рис:
Где презкде „племя Бена“ Шумело на Флит-стрит, И стол гремел, как сцена, И стих бурлил, как пена, И казкдый был пиит, – Там мы за чашей винной Рифмуем, выгнав вон Науку в шкуре львиной, Прикрывшей зад ослиный Бессовестных времен»[127].Так возвышается родословная «Чеширского сыра» присоединением к легендарной «Русалке», где и после смерти Шекспира его друг Бен Джонсон продолжал председательствовать в обществе своих учеников и питомцев (т. н. «племени Бена»). Выпад против науки напоминает о признании Йейтса, что в молодости он возненавидел науку «обезьяньей ненавистью». Очевидно, это чувство он разделял и с другими «рифмачами».
Среди иллюстраций, украшающих страницы книги, выделяются три, и первая – это фронтиспис меню «Чеширского сыра» работы блестящего Джорджа Крукшэнка, которую можно долго рассматривать. Вверху – луна, плывущая в смутных темных небесах; пониже – крыша и стены таверны; еще ниже – обеденная комната в разрезе, где четверо застольцев смотрят на блюдо, вносимое официантом; справа в раме, напоминающей формой дверную, название таверны и год основания; внизу на особых скрижалях надписи, одна – неизвестно чья: «Пройдемся по Флитстрит, мой дорогой!», и другая из Шекспира: «Что ж мне не отдохнуть в своей таверне?»
В промежуток между обеденной комнатой, рамкой с названием таверны и скрижалями художник вкомпоновал еще круглую картинку, на которой мы видим изгибающуюся лестницу, ведущую на второй этаж. У подножья ее – толстый фолиант, на нем тарелка с цилиндрической головкой сыра, из которого аппетитно вырезан кусок. Круглую рамку приобнимает Коса Времени с удобной поперечной ручкой-хваталкой, и тут же, рядом с надписью «A. D. 1667», песочные часы.
И еще две полосные иллюстрации привлекли мое внимание. На одной (стр. 45) – та самая лестница, освещенная лучами только-только начавшего садиться солнца. Вдалеке у двери лакей ожидает гостей. Гладкий кот сидит на третьей ступеньке снизу и смотрит вверх – туда, куда вскоре проследуют посетители. Вся картина наполнена предвкушением чего-то радостного, необыкновенного: и яркие лучи на полу, и ступеньки лестницы, похожие на строки стихов, и лоснящаяся спина кота. Называется картинка: „THE WAY IN“ («ВХОД»).
На второй картинке – ночь; передняя уже в другом ракурсе; лестница теперь справа от нас, ее ступеньки-строчки не видны. С потолка свешивается какая-то огромная странная лампа (может быть, газовая?), бросающая неровные пятна света на пол и на потолок. Общее настроение, как в вангоговских ночных кафе – с расплывающимся светом ламп и последними полубезумными посетителями. Но людей в коридоре нет. Лишь на переднем плане мы видим прежнего кота; он отвернулся от лестницы и смотрит куда-то вбок: может быть, учуял мышь? В его черном контуре (с крошечной лысинкой света на голове) что-то инфернальное. Картинка называется: „THE WAY OUT“ («ВЫХОД»)
«Клуб рифмачей» в «Старом чеширском сыре» регулярно собирался, кажется, не более четырех лет. Темы были исчерпаны, рутина собраний приелась. Процесс и приговор Оскара Уайльда стали поворотной вехой. Вскоре Доусон уедет во Францию; Йейтс окажется на грани физического и нервного срыва; Бердслей умрет от чахотки. 1890-е годы и с ними то, что можно назвать недолгим английским декадансом, – все быстрее катились под уклон.
Артур Симоне (1865–1945)
Апрельская ночь
Ты плясунья, а я безумец: Мы с тобою Бродим путаницей голубою Опустевших лондонских улиц. Заблудившиеся, как дети, Бродим вместе, Обдуваемы свежим ветром, В марсианском газовом свете. Ветер дует, как опахало, Остужая – После блеска и жара зала, Где на сцене ты танцевала. Хорошо по такой прохладе В ночь апреля Загуляться в полночном граде, Друг на друга почти не глядя. Ты красотка, я пустомеля – Вот так пара! Нам по лондонскому тротуару Так блаженно брести без цели.Повесть
Маячит тень передо мной, Туманный беглый силуэт; За ней иду сквозь бред ночной – Из света в мрак, из мрака в свет. На фоне желтого окна Или луной облитых вод – Опять она, всегда она! – Неузнанная тень скользнет. Она ведет сквозь ночь и мглу Туда, где в волнах брезжит день; И на пустынном берегу Бесследно исчезает тень.Ночной гелиотроп
Рассвет и белая постель, Роман отброшенный в углу, В бокалах – красный мускатель, И ворох юбок на полу; Трюмо, туманное с утра, Под ним – пуховки, пудра, грим: Там где-то, в глубине стекла, Живешь ты – гордая, как Рим; А здесь твой полусонный взгляд И полуголое плечо Меня тревожат и томят, Пока я сам дремлю еще; – Все это память впопыхах Обрушит разом, как потоп, Едва вдохну – в толпе, в гостях – Духи «Ночной Гелиотроп».Эрнст Даусон (1867–1900)
Non sum qualis eram bonae, sub regno cynarae[128]
Вчерашней ночью тень вошла в порочный круг Недорогой любви, и дрогнувший бокал Едва не выскользнул из ослабевших рук; Я так измучен был моей любовью старой; Да, я был одинок, я тосковал: Но я не изменял твоей душе, Кинара. Пылая, я лежал в объятиях чужих, Грудь прижимал к груди – и поцелуи пил Продажных красных губ, ища отрады в них; Я так измучен был моей любовью старой; Проснулся я – день серый наступил: Но я не изменял твоей душе, Кинара. Я многое забыл. Как будто вихрь унес Веселье, буйство, смех, лиловый блеск чулок, И танцы до утра, и мусор смятых роз; Я так измучен был моей любовью старой; Из памяти я гнал немой упрек: Но я не изменял твоей душе, Кинара. Я громче всех кричал, я требовал вина, Когда же свет погас и я упал, как труп, Явилась тень твоя, печальна и грозна; Я так измучен был моей любовью старой; Всю ночь я жаждал этих бледных губ: Но я не изменял твоей душе, Кинара.Dum nos fata sinunt, oculos satimus amore – propertius[129]
Здесь, в тишине, под бледною луной, Сама – ее изменчивый двойник, О дорогая, помолчи со мной… Как быстро мчится миг! Не надо слов! Лишь спрячь меня, укрой В своих волос блистающую мглу! Мне страшно; общей участи земной Забыть я не могу. О, если б этот миг продлился век! Ужели мы с тобой обречены На холод памяти, на мертвый снег Проклятой седины? И ты увянешь? И погаснет взор? И станет плоть безжизненно суха, Как обратившийся в золу костер Безумья и греха? О померанец чувственного рта! В нем смерти горький аромат. Позволь Вкусить его, чтоб жизни пустота Впитала эту боль; Позволь прильнуть к тебе в последний раз И умереть, упав к тебе на грудь! – Но прежде – в омут этих темных глаз Вглядеться – и уснуть. Но если так нельзя – молчи! Представь, Что мы в твоем саду под шелест крон Лежим, переплетясь: и это – явь, И это – вечный сон. Любимая! Ты слышишь, как шумит, Прощаясь, бедный сад? Уйдем с тобой От времени, его измен, обид – И смерти роковой.Любовь прошла
Любовь прошла. За ней на путь попятный Вступить поодиночке нам пора. О время самой грустной в мире жатвы! Любовь прошла. О милая моя, еще вчера… Но стрелки злы, мгновенья невозвратны; Как губы холодны твои с утра, Как взгляд уклончив! Слезы, ласки, клятвы – Все в прошлом. Славная была пора, Но наступило время горькой правды: Любовь прошла.Тому, кто в бедламе
На рваном тюфяке, там, за решеткой ржавой, Он в нервных пальцах мнет шуршащие пучки Соломы высохшей – и вьет, и рвет венки – И тешит зрителей невиданной забавой. О жалкие глупцы! Как вашей мысли здравой Понять то, что таят горящие зрачки, И как вино ночей, затворам вопреки, Их слезы и восторг венчает яркой славой? Несчастный брат! И мне, коль можно, удели Полцарства твоего безумного – вдали От этих, сеющих и жнущих только ветер. Дороже тленных роз, и здравья, и любви Унылый твой венок, расцветший в звездном свете, И одиночества высокие твои.Даме, которая задавала глупые вопросы
Зачем я печален, Хлоя? Затем, что луна высоко, И не утоляет жажды разлитое молоко. Затем ли, что ты прекрасна? Но повод чрезмерно мал, Ведь кто залучил чечетку, тот журавля не поймал. Быть может, затем я печален, что холоден этот свет И мне не найти парома в тот город, где меня нет. Затем ли, что ал твой ротик, а грудь, как айва в цвету? (Но сумрачен и бесцветен тот край, куда я иду.) Затем, что увянут, Хлоя, и губки твои, и грудь? Иду, куда ветер дует, и не печалюсь ничуть.Лайонел Джонсон (1867–1902)
Заповедь молчания
Я знаю их – часы скорбей: Мученья, упованья, страх, Шипы обид, тиски страстей, Цветы, рассыпанные в прах; Бездонный ад над головой, Пучины стон, недуг зари И ветра одичалый вой – Они со мной, они внутри. Иной бы это разбренчал На целый мир, как скоморох; Но я о них всегда молчал: Их знаешь ты, их знает Бог.Сон о былых временах
Кристоферу Уоллу О сколько ярких глаз и благородных лиц – Век, предстающий нам в виденьях и мечтах! Лучи на кудрях дев, на латах и клинках – Как свет, сияющий с Платоновых страниц. Усердие святых, в мольбе простертых ниц, Учтивость рыцарей, неистовых в боях. Увы, наследье их мы расточили в прах И тщетно жаждем тех, исчезнувших зарниц. Разбит златой алтарь, сожжен резной амвон, Не проплывет аккорд органа с высоты По волнам ладана. Лишь похоронный звон Звучит среди руин. О сердце! знаешь ты, Чью горестную смерть оплакивает он? Смерть прелести земной и гибель красоты.Мудрый доктор
Д-ру Бербеку Хиллу Нет, сэр! Не верю я его слезам; Пускай с утроенным вздыхает пылом, Ища свое отрадное в унылом: Он врет, собака! Врет и знает сам. Хандра? Пусть пьет желудочный бальзам; Прогулка, думаю, ему по силам. А нет – пускай натрет веревку мылом И отправляется ко всем чертям. Довольно, сэр! Ваш друг – большой шутник, Но мы умеем посмеяться сами; Пусть он болтает, как завзятый виг – Ему не обмануть людей с мозгами. Довольно портить аппетит стихами: Нас в «Митре» ждет обед. Фрэнк, мой парик!Часть III Поэзия нонсенса
Пляшущие, плавающие и плачущие человечки
Мое детское представление об Англии сложилось по рассказам о Шерлоке Холмсе. В эту дверь я вошел, оглянулся и вдруг увидел – вокзалы, кэбы, фонари в тумане… Первое впечатление – самое сильное. И тогда же стала приоткрываться мне суть английского характера: здравый смысл, точность (поезда и письма в рассказах Дойля ходят как по морскому хронометру), четкая логика. Зло иррационально, в этом его слабое место. Является Шерлок Холмс со своим дедуктивным методом – и разбивает злодейство в пух и прах.
Итак, логика, здравый смысл – и вместе с тем эксцентричность: тот же самый Холмс чудит, переодевается оборванцем, курит опиум, играет на скрипке. А сам Артур Конан Дойль, создатель Холмса, чем он занимался в свои зрелые годы? Вызывал духов, общался с потусторонним миром. Вот вам и логика. И главное, никак нельзя разделить эти составляющие англичанина – рациональность и эксцентричность. Как в химии: каждая молекула воды состоит из кислорода и водорода. В каждой, сколь угодно малой части англичанина есть и логика, и эксцентрика.
Вспомним, как строится типичный рассказ о Шерлоке Холмсе. Начинается все с какой-то чепухи, с нелепицы. Ну, украли у сэра Баскервиля в гостинице один ботинок. Вздор! Кому может быть нужен один ботинок? Злоумышленник похищает бюсты Наполеона, чтобы тут же расколошматить их в мелкие кусочки. Зачем? Вопиющая бессмыслица! Союз Рыжих нанимает людей, у которых волосы определенного цвета, переписывать Британскую энциклопедию. Нонсенс? Конечно. Кто-то рисует пляшущих человечков на подоконнике. Дурость, проказа, нелепица. Но вот является Холмс – и расшифровывает смысл, скрытый в этих пляшущих человечках. Смысл вырисовывается серьезный, даже страшный.
Итак, если идти в глубь нелепого, можно дойти до смысла. И наоборот (в этом открытие англичан, которые просто подумали на один ход дальше): если идти честно в глубь смысла, обязательно дойдешь до бессмыслицы, хаоса. Эти вещи зеркальны.
«Вот они, передо мною – эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии, – объясняет Холмс под занавес рассказа „Пляшущие человечки“. – Цель изобретателя этой системы заключалась, очевидно, в том, чтобы скрыть, что эти значки являются письменами, и выдать их за детские рисунки».
То же самое у классиков нонсенса. Пляшущие человечки Эдварда Лира, персонажи его веселых рисунков – оказывается, за ними стоит не одна лишь игра и неистощимая веселость, но и одиночество, усталость и скрываемый от всех тяжкий недуг – эпилепсия. И в то же самое время это – преодоление одиночества и судьбы. Помните, в сказке о Золушке, когда злая мачеха со своими дочками уже, кажется, берут верх, на вопрос огорченного короля, что же делать, королевский танцмейстер отвечает: «Танцевать, ваше величество!»
Танец – сакрален, он неотделим от магии и волшебства. Согласно теории, идущей от Ницше и весьма популярной у символистов, человек приобщается к глубочайшим истокам бытия лишь через экстаз, через дионисийское буйство, главным элементом которого является – танец.
А плавающие человечки Кэрролла, персонажи его поэмы «Охота на Снарка»? Этот странный ковчег, заселенный такой разношерстной командой – что ищет он, если можно так выразиться, „в стране далекой“? Почему энтузиазм команды так легко сменяется паническим страхом?
Плавание – древнейшая мифологема человечества, символ загробного странствия в обитель Смерти. У всех древних народов – египтян, кельтов, скандинавов – обитель эта лежала за морем и плыть туда надо было на корабле. Вот и клали в могилу фараонам корабль бога Ра, без которого не доплывешь до Страны мертвых, вот и сжигали викинги своих вождей в боевой ладье: пусть будет как солнце на закате – умрет и воскреснет.
Зачем же лодке доверяем Мы тяжесть урны гробовой И праздник черных роз свершаем Над аметистовой водой? (О. Мандельштам. «Меганом»)В Эдварде Лире, в целом, больше пляшущего начала, а в Льюисе Кэрролле – плавающего. Хотя, на самом деле, в каждом из них есть и то, и другое. Например, в стихах Лира – Йонги-Бонги-Бой, уплывающий на черепахе. У Кэрролла – омаровая кадриль:
Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь, Ты не хочешь, скажи, поплясать? Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь, Ты ведь хочешь, скажи, поплясать? (Перевод В. Набокова)Бывает смех отчаяния: когда человек доходит до края, заглядывает за него – и убеждается, что там ничего нет. Но бывает и смех надежды: когда и в самом глухом тупике человек непоколебимо уверен, что это понарошку, что он под защитой высших сил и все будет хорошо. Тогда и ничтожная былинка или жучок – проявление благодати, а о любимом коте и говорить нечего – это воплощение Премудрости Божьей. Но будь это смех радости или отчаяния – он всегда проявление сильного, напряженного чувства, знак свершающегося в душе поединка. Смех противостоит не серьезности, а безволию и скуке.
Эдвард Лир и Льюис Кэрролл – два главных классика нонсенса. Оба они принадлежат XIX веку, великой и неповторимой викторианской эпохе. Кстати, отдадим должное английской королеве Виктории – она сумела вовремя оценить и того, и другого писателя. Вот вам и ханжеский век, вот вам и период стагнации – эпоха, породившая Диккенса и Эдварда Лира, Роберта Браунинга и Альфреда Тен-нисона, прерафаэлитов и Оскара Уайлда, Стивенсона и Киплинга!
Впрочем, у английского нонсенса кроме его звездного викторианского часа была своя – и не короткая – предыстория, были свои предтечи и продолжатели. Тут неизбежно возникает вопрос о чистоте жанра. Легко ли отделить «нонсенс» (то есть абсурд и нелепицу) от других видов комического – например, от юмора, от пародии? Есть, конечно, «пограничные явления» – к ним, в частности, относится Честертон и Беллок – два писателя, друживших друг с другом, дебютировавших как поэты нонсенса в самые последние годы XIX века. Их даже соединяли в одного условного «Честербеллока» и рассматривали как особую страницу английского нонсенса. Были и другие последователи, вплоть до Спайка Миллигана, неплохо известного в России.
Английский юмор по-прежнему «цветет и пахнет»!
Под парусом бессмыслицы: одиссея Эдварда Лира
Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна.
Александр ВведенскийГлавное свойство шута можно, наверное, обозначить так – ветер в голове. Ветер, который начисто выдувает здравомыслие, срывает вещи с мест и перепутывает их как попало, перемешивает мудрость с глупостью, переворачивает все вверх ногами и переиначивает скучную рутину обыденности. Без такого вечного сквозняка невозможно искусство дуракаваляния и веселого шарлатанства. Такой ветер гулял и в голове Эдварда Лира – великого Короля Нонсенса, несравненного Гения Нелепости и Верховного Вздорослага-теля Англии (таковы лишь некоторые из заслуженных им громких титулов). Безусловно, он происходил по прямой линии от Джона Скельтона и Уильяма Соммерса, шута Генриха VIII, от знаменитых дураков Шекспира – зубоскалов и пересмешников, неистощимых на выдумки и каламбуры, но способных и неожиданно тронуть сердце пронзительно грустной песенкой под аккомпанемент лютни. Лир тоже сочинял и пел песни – и трогательные, и забавные. По сути, он и был шутом, – если забыть о лирической стороне его таланта, о нешуточном трудолюбии и упорстве, о трагической подоплеке его судьбы.
Эдвард Лир в молодости. Рис. Вильгельма Марстранда, 1840 г.
На одном из своих рисунков он изобразил себя в виде «перекатиполя», свернутого колесом и катящегося куда-то напропалую. Так примерно его и носило всю жизнь по свету – от Англии до Египта, от Греции до Индии. Как при этом он умудрялся всюду таскать с собой свои карандаши и краски, холсты и альбомы, да не растерять их по дороге, – загадка. На других рисунках (их множество) он изображает себя почти в шарообразном виде – сходном то ли с пузырьком любимого им шампанского, то ли с воздушным шаром. Летучесть, легкость его дара. Наверное, и о его смерти можно сказать, как о воздушном шаре: улетел.
Эдвард Лир, поэт и художник, знаменит, прежде всего, своими «книгами нонсенса». Когда первая из них (The Book of Nonsense, 1846) была опубликована под псевдонимом «Дерри из Дерри», публика не сразу ее распробовала. Но, распробовав, захотела еще и еще. Пошли переиздания. Книгу затрепывали в клочья – и затрепали: кажется, даже Британская библиотека не располагает самым первым изданием.
Откуда же взялся этот эксцентричный «дядюшка Дерри», ведущий за собой хоровод приплясывающих ребятишек? Все началось в 1830-х годах в имении графа Дерби, где молодой Лир жил в качестве художника-анималиста. Как-то само собой обнаружилось, что Эдвард замечательно умеет смешить малышей, рисуя картинки и делая к ним подписи в стихах. Вскоре он стал общим любимцем семьи. Однажды кто-то из гостей графа Дерби, зная пристрастия художника, подарил ему старую и довольно редкую книжицу «Приключения пятнадцати джентльменов». Оттуда Лир и почерпнул форму своих знаменитых лимериков – то есть он не сам их изобрел, а лишь усовершенствовал и пустил в оборот. Кстати, Лир никогда не звал лимерики лимериками, а лишь нонсенсами, – нынешнее название установилось лишь в конце XIX века и происходит оно от Лимерика – города в Ирландии, где такого рода стишки, как говорят, издавна складывались за чаркой вина. Каковы же были эти протолимерики? Скажем, такие (в буквальном переводе без рифмы и размера): «Жил один больной человек из Тобаго, / Питавшийся исключительно рисом и саго; / Пока – о счастье! – / Его врач не сказал: / „Можете переходить к жареной бараньей ноге“».
Что тут смешного? Во-первых, нестыковка эпического начала: «Жил один больной человек из Тобаго» – и скоропалительного финала. Во-вторых, энергичный ритм с «приплясом» в укороченных строках. В-третьих, каламбурная рифма: «Тобэйго, сэйго, ю-мэй-го («можете переходить»). Наконец, если вдуматься, само содержание лимерика тоже довольно познавательно. Это вам не какое-то:
Расскажу вам про гуся. Вот и сказка вся.В лимерике найдена золотая середина между растянутостью романа и чрезмерной краткостью пословицы. Конструкция такова. В первой строке появляется герой (или героиня), с непременным указанием на место жительства, во второй – даются его (ее) свойства или что он(а) свершил(а). Причем второе определяется первым! Если наш герой из Тобаго, то он должен есть саго. Если, скажем, из Кельна – огурец малосольный. Дама из Салоников не может обойтись без поклонников, а леди из Атлантики просто обязана носить бантики. И прочее в таком духе. Герой лимерика, как он ни свободен совершать любые глупости, все-таки чем-то связан – но не пошлой логикой жизни, а рифмой.
Далее, в третьей и четвертой строке лимерика совершается то, что Аристотель называет перипетиями. Герой совершает некие поступки, зачастую опрометчивые, и обыкновенно успевает пожать плоды этих поступков. Здесь-то и появляются «они», «другие». Ол-дос Хаксли в своем блестящем эссе о Лире впервые исследовал этих странных персонажей. Впрочем, ничего особенно странного в них нет. Это законопослушные, хотя и недалекие люди, свидетели удивительных деяний героя. Порой они просто изумлены, порой задают всякие неуместные вопросы. Но бывает, что ведут себя и похуже: злорадствуют, изгоняют из родного города, а то могут и побить любым рифмующимся предметом. «В большинстве своем лимерики, – пишет Хаксли, – не что иное, как эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между гением и его ближними».
Почему же чопорные (как мы их представляем) викторианцы так полюбили «книги нонсенса»? А потому, что и сам эксцентричнейший мистер Лир был викторианцем до мозга костей. Он, между прочим, давал уроки рисования самой королеве Виктории! Он настолько любил поэта-лауреата Альфреда Теннисона, что писал романсы на его стихи и вдохновенно исполнял их в обществе, аккомпанируя себе на фортепьяно.
Лучшие стихи Лира – органическая часть большой романтической традиции английской литературы. Неповторимый причудливый колорит, который создан в «Джамблях» и других великих балладах Эдварда Лира, никак не отменяет того, что эти стихи, по сути своей, совсем не пародийны. В них слышен пафос предприимчивости и стойкого мужества, что вкупе с учтивостью и чувством юмора составляет почти полный набор викторианских добродетелей. Неизбывная романтическая грусть и – вопреки всему – вера в победу духа над косными обстоятельствами жизни.
Возьмите знаменитые стихи о «джамблях», переведенные на русский язык С. Маршаком. Сюжет, если попробовать изложить его в прозе, таков.
В один из погожих дней 18** года из гавани N отчалило небольшое одномачтовое судно. Водоизмещение его, к сожалению, точно неизвестно: длина корпуса… достоверно можно сказать лишь то, что длина равнялась ширине, по причине его абсолютной округ-лости; парусное оснащение, если мне не изменяет память, – «зеленый платок носовой на курительной пенковой трубке».
В решете они в море ушли, в решете, В решете по седым волнам. С берегов им кричали: – Вернитесь, друзья! – Но вперед они мчались – в чужие края – В решете по крутым волнам.Целью плавания была Страна джамблей. Туда по бурным волнам океана стремилась неунывающая и неустрашимая команда матросов на своем необычном судне. Имя капитана не сообщается, но доподлинно известно, что снарядил корабль и отправил его в плавание некий мистер Эдвард Лир.
Где-то, где-то вдали От знакомой земли, На неведомом горном хребте Синерукие джамбли над морем живут, С головами зелеными джамбли живут. И неслись они вдаль в решете.Надо сказать, что это было не первое и не последнее плавание такого рода в английской литературе. К безусловным предшественникам наших смелых моряков следует отнести фольклорных «трех мудрецов их Готема»:
Три мудреца в одном тазу Пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, Длиннее был бы наш рассказ.Из последователей – прежде всего вспомним участников «Охоты на Снарка» Льюиса Кэрролла: Балабона и его решительную команду снарколовов – Банкира, Булочника, Бильярдиста и других.
«Вот где водится Снарк, – возгласил Балабон, Его логово тут, среди гор!» И матросов на берег вытаскивал он За ушко, а кого – за вихор.Все три экспедиции по-своему замечательные, но совершенно разные. Мудрецы из Готема поступают нелепо ради абсолютно разумной морали. Негодные средства мореплавания приводят у них, естественно, к роковому финалу. «Не будьте дураками!» – как бы кричат мудрецы, накрывшись перевернувшимся тазом, и дружно идут ко дну в качестве наглядного примера.
У Плывущих На Решете – совсем другая судьба. Вопреки еще более ужасной конструкции своего судна, вопреки злорадным предсказаниям («Суждено вам пропасть ни за что ни про что!») и опасностям («Но проникла вода в решето, в решето…»), они не только не гибнут, но благополучно приплывают в тот желанный зеленый край в Западном Море, где обретают все, что угодно для души.
И приплыли они В решете, в решете В край неведомых гор и лесов, И купили на рынке гороху мешок, И ореховый торт, и зеленых сорок, И живых дрессированных сов, И живую свинью, и капусты кочан, И живых шоколадных морских обезьян, И четырнадцать бочек вина ринг-бо-ри, И различного сыра – рокфора и бри, – И двенадцать котов без усов.В замечательном переводе С. Маршака есть кое-какие потери (что совершенно ему не в упрек!), и к таковым относится прежде всего направление плавания – на запад, туда, куда уходит солнце. «Земля, покрытая деревьями» в Западном Море, безусловно, напоминает блаженный остров Авалон кельтских мифов – Страну Вечной Молодости, которую искал за волнами ирландский герой Ойсин, – далекий край, где под сенью невянущих крон любовь не ведает ни горечи, ни пресыщения.
И они не только приплывают в тот волшебный край, но и возвращаются обратно (в решете!), и устраивают пир, на котором друзья и родные чествуют их – и завидуют, и мечтают: «Если мы доживем, все мы тоже туда в решете поплывем!»
Необыкновенна мелодия этой баллады, ее радостный мажор, облагороженный мягкими обертонами печали. Основная тема – детское, дерзкое счастье авантюр, обретений, открытий; но за ним слышится еле различимое журчание – воды, секунд, жизни утекающей, просачивающейся сквозь бесчисленные дыры решета… Впрочем, все возможные неприятности небрежно объявляются «чепухой» и исправляются самым радикальным образом: «Обернули кругом – от колен до ступни – промокашкою розовой ноги они, чтоб от гриппа себя уберечь».
Так неужели «Джамбли» – просто нелепый стишок? О нет! – одна из лучших романтических баллад викторианской эпохи: хотя ее героический дух и скрыт под оболочкой нонсенса. Рядом с «Джам-блями» я мог бы поставить разве «Улисса» Альфреда Теннисона. Его герой – постаревший Одиссей, истомившийся скучным покоем рядом с верной Пенелопой, – тоже отправляется на поиск Блаженных Островов.
Вперед! Ударьте веслами с размаху По звучным волнам. Ибо цель моя – Плыть на закат, туда, где тонут звезды В пучине Запада. И мы, быть может, В пучину канем – или доплывем До Островов Блаженных и увидим Великого Ахилла (меж других Знакомцев наших). Нет, не все ушло. Пусть мы не те богатыри, что встарь Притягивали землю к небесам, Мы – это мы: пусть время и судьба Нас подточили, но закал все тот же, И тот же в сердце мужественный пыл – Дерзать, искать, найти и не сдаваться!Знаменитая последняя строка «Улисса» стала девизом эпохи. Недаром она была вырезана на деревянном знаке Роберта Скотта, дошедшего до Южного полюса и погибшего на обратном пути. Вилла «Теннисон» – так назывался дом, где провел свои последние годы Эдвард Лир.
Несмотря на свое, прямо скажем, шаткое здоровье, он объездил изрядную часть Средиземноморья – пешком, верхом и как придется, – побывал в Египте, в Палестине и даже в Индии, ни на день не расставаясь с карандашом, тушью и бумагой, выполняя сотни и сотни новых рисунков и акварелей; иные из них он продавал, иные впоследствии литографировал для своих книг, а некоторые ложились в основу больших живописных картин, над которыми он с огромным усердием работал месяцами.
А его дневники, а бесчисленные письма друзьям, полные прелестных автошаржей, абсурдных стихов и юмористического ворчания! Его раздирали противоречивые наклонности. С одной стороны, он сочинял песни и мог музицировать часами, был типичным «детским праздником», профессиональным рисовальщиком птиц, обожателем котов; а с другой стороны, более всего его раздражал неуместный шум детей, котов, птиц и музыки!
Жил мальчик вблизи Фермопил, Который так громко вопил, Что глохли все тетки И дохли селедки, И сыпалась пыль со стропил!Он явно любил уют и уединение; и в то же время некое смутное беспокойство, «охота к перемене мест» толкали его в новые и новые путешествия.
Внутри него жил какой-то вечный неугомонный припляс. Приглядитесь к его рисункам, украшающим «Книги нонсенса»; все его персонажи стоят на пуантах, размахивают руками и ногами, они как бы танцуют.
Жил-был старичок из Гонконга, Танцевавший под музыку гонга, Но ему заявили: «Прекрати это – или Убирайся совсем из Гонконга».«Человек – не картошка, чтобы сидеть на одном месте», – говорил Лир. Но и он порою тяготился скитальческой жизнью, связанной с бессемейностью и одиночеством.
Я все более и более убеждаюсь, что если у вас есть жена – или подруга – или вы влюблены, – (это фазы одного и того же самораздвоения, единственно подлинного и подобающего состояния человека в этом мире)… вы можете жить в любом месте и в любых обстоятельствах: сочувствие избавляет вас от непрестанных раздумий о проклятых тяготах бедности и суеты; но если вы абсолютно одиноки на свете – и надежды на иное не видно, – тогда скитайтесь и никогда не задерживайтесь на одном месте.
Был ли Лир женоненавистником? Возможно, он предъявлял слишком высокие требования к женщинам; но ведь находились же особы, вызывавшие его искреннее уважение и даже восхищение! Так, он дружил с Эмили Теннисон, женой своего любимого поэта, и писал о ней:
Я полагаю, что если, по точному расчету, смешать вместе 15 ангелов, несколько сотен обыкновенных женщин, множество философов, целую уйму добрых и мудрых матерей, кучу врачей и педагогов, да в придачу трех или четырех малых пророков, и все это хорошенько прокипятить, – то их совокупной смеси будет далеко до того, чем в действительности является Эмили Теннисон.
В 1857 году на острове Корфу он познакомился с Еленой Кор-таччи, очень милой и поэтичной девушкой, полуитальянкой-полуангличанкой, которая не только знала наизусть множество стихов Теннисона, но вдобавок переводила их на латинский язык и даже сочиняла к ним музыку. Лир был очарован, почти влюблен… но он колебался. Во-первых, он не имел средств, во-вторых, был на двадцать лет старше и весьма критического мнения о своей внешности (очки, солидный нос, наклонность к «шарообразности»), в-третьих, страшили неизвестные рифы и мели семейного моря. Вероятно, он не мог изжить своих горьких детских воспоминаний, той полученной им психологической травмы, когда мать совершенно охладела к четырехлетнему Эдварду и оставила все заботы о нем; он инстинктивно не доверял женщинам, боялся нового охлаждения и заброшенности.
Но дело было не только в этом. С семилетнего возраста Лир страдал эпилепсией и тщательно это скрывал. По характерным признакам («предвестникам») он умел определять приближение припадка и вовремя уединялся. Лишь дневники рассказывают, сколь неотвязны и часты были пришествия «Демона» (так он называл свою болезнь). Более того, эпилепсией страдала и одна из сестер Лира, так что у него было достаточно оснований считать свой недуг наследственным, способным перейти и к его потомкам. Остается лишь удивляться, как мужественно он нес свой крест, не перелагая ни на кого даже часть этой ноши. Вообще, многие из «нонсенсов» Лира становятся намного яснее, когда знаешь, откуда взошли ростки этой «чепухи». Биографические факты неожиданно освещают даже такие, казалось бы, случайности, как обилие птиц, досаждающих Старику из лимериков.
Жил Старик с сединой в бороде, Восклицавший весь день: «Быть беде! Две вороны и чиж, Цапля, утка и стриж Свили гнезда в моей бороде!» Жил в Афинах один Стариканос, Попугай укусил его за нос. Он воскликнул: «Ах так? Сам ты попка-дурак!» – Вот сердитый какой Стариканос!Рядом с этими беспечными глупостями эффектно выглядит список книг, для которых Лир делал рисунки птиц. Если учесть, что только, скажем, для нескольких томов, посвященных попугаям, ему приходилось сперва делать измерения птиц с помощью служителей зоосада, кучу набросков, а затем окончательные рисунки тушью, проработанные «до перышка», и, наконец, переводить все рисунки вручную на литографский камень, то некоторая засиженность лиров-ского Старика птицами становится, по-моему, вполне понятной.
Эдвард Лир в старости. Фото 1880-х гг.
В лимериках кипит непрерывная упорная борьба – одного против всех. Еще Олдос Хаксли заметил, что их главный конфликт – между незаурядной, гениальной личностью (Старик) и не понимающими его ближними («Они»). Впрочем, иногда «Они» проявляли себя и с лучшей стороны (обыкновенные люди, как говорил Воланд, и милосердие порой стучится в их сердца). Так, они пожалели Старичка у Причала.
Жил-был Старичок у Причала, Которого жизнь удручала. Ему дали салату И сыграли сонату – И немного ему полегчало.Не то чтобы Лир был противником здравого смысла. Скорее, наоборот: он видел, что закоснелый порядок порой начинает противоречить разуму и тогда необходима некоторая встряска, чтобы привести все в норму. Он, например, считал современную ему Церковь зашоренной и ханжеской. «Когда же наконец Господь Бог удосужится треснуть Религию по башке и заменить ее милосердием, любовью и здравым смыслом?» – спрашивал он. Такова была святая троица его веры.
В 1871 году он поселяется в Сан-Ремо, и в том же году выходит его вторая книга нонсенса: «Нелепые песни, истории, ботаники и азбуки», в которую вошли «Джамбли». В 1872 году – третья: «Новые нелепые стихи, рисунки и ботаники». К этому времени его абсурдная поэзия сделалась популярной, хотя и воспринималась неоднозначно: она даже стала приносить ему некоторый доход (переиздания «Книги нонсенса»). Он построил дом, завел кота. Теперь у него был постоянный приют, своя последняя гавань.
Именно здесь, в Сан-Ремо, и были написаны его лучшие романтические баллады. Он уже был очень слаб и болен, когда в феврале 1886 года в лондонском журнале «Пэл-Мэл» появилась статья Джона Рёскина. Знаменитый критик и философ, законодатель вкуса эпохи писал: «Поистине я не могу назвать никакого другого автора, которому моя праздная душа была бы наполовину так благодарна, как Эдварду Лиру. Я ставлю его первым в ряду ста моих любимых авторов».
Растроганный Лир послал Рёскину только что написанное стихотворение (которому суждено было стать последним) «Дядя Арли» – в сущности, свою автоэпитафию и погребальную элегию.
В этих стихах Дар, или Искусство, воплотилось еще в более парадоксальном образе – Сверчка, сидящего опять-таки на Носу (видимо, для Лира – это самая сущностная часть тела). Но чудаковатый Дядя Арли так же стойко и обреченно несет свою ношу, как нес ее Донг: «Песенке Сверчка внимая, / Дядя шел не уставая, / Даже как-то забывая, / Что ему ботинки жмут».
И дошел он в самом деле До Скалистой Цитадели, Там, под дубом вековым, Он скончал свой подвиг тайный: И его билет трамвайный, И Сверчок необычайный Только там расстались с ним. Там он умер, дядя Арли С голубым сачком из марли, Где обрыв над бездной крут: Там его и закопали, И на камне написали, Что ему ботинки жали, Но теперь уже не жмут.Признаюсь, я несколько усилил в переводе пафос и превратил «древнее жилище предков» на холмах, куда наконец приходит Дядя Арли, в «Скалистую Цитадель», ибо в ушах у меня звенело другое патетическое завещание – стихи У. Б. Йейтса, написанные за неделю до смерти. Там на защитников последней цитадели – «Черной Башни» – наступает какая-то новая наглая сила, неведомая тирания. Подвиг обороняющих Башню бессмыслен, ведь король, которому они служили, давно мертв, но решимость выполнить свой долг до конца у них та же, что у героя Лира.
Характерна шутовская фигура повара, ловящего сетью птиц на крыше башни. Этот повар, которого забота о харче для осажденных подняла на ноги рано на рассвете, когда остальные еще спали, клянется, что слышал звуки королевского горна – то есть спешащей подмоги. «Конечно, врет, старый пес!» – говорит поэт, который и сам, в сущности, врет во спасение.
Есть сквозные мотивы, совпадающие у Лира и Йейтса, – танец, плавание, маски.
Всю ночь танцуют Донг со своей синерукой и зеленоволосой джамблийской девой на морском берегу, танцуют при свете луны Кот с Совой – «рука в руке на прибрежном песке», пляшут Король и Королева Пеликанов у Нила, приплясывают и персонажи лимериков.
Плавание – второй совпадающий мотив… Уплывают на какой-то счастливый остров джамбли; и грустный Комар Долгоног с коротконогой Мухой отправляются далеко-далеко в своей утлой лодочке; уплывает на Черепахе малютка Йонги-Бонги-Бой; лишь покинутый Донг обречен ждать у моря погоды.
Маска – еще один неотъемлемый элемент поэтики Йейтса. Всю жизнь он только и делал, что примерял личины различных персонажей (легендарных и вымышленных), вводя в лирику типичные приемы драмы. По сравнению с этим Йонги-Бонги-Бой, Донг и Дядя Арли – лишь простые alter ego автора. И все же…
Случайны ли эти параллели? Ведь и Эдвард Лир, и У. Б. Йейтс, несмотря на несовпадение во времени (один завершал свой путь, когда другой только начинал) – представители позднего романтизма (можно сказать, ретро-романтизма), оба стремились к обновлению традиции. Один – на путях абсурда и сказки, другой – через сказку и миф.
И пути их сближались. Это подтверждается, в частности, важнейшей для позднего Йейтса концепцией «веселости», которая стала его ответом «злобе дня». Обращаясь к героям и шутам Шекспира, к образам древнего искусства, Йейтс твердо формулирует свое кредо:
Все гибнет – творенье и мастерство, Но мастер весел, пока творит.В сущности, это метафизическое утешение того же типа, что и лозунг известного Джентльмена из Девоншира:
Жил один Джентльмен в Девоншире, Он распахивал окна пошире И кричал: «Господа! Трумбаду, трумбада!» – Ободряя народ в Девоншире.В своей собственной поэтической мифологии, в теории перевоплощений, основанной на фазах Луны, Йейтс утверждал, что последние три стадии универсального круга превращений – Горбун, Святой и Дурак. В книге «Видение» он дает такое определение Дурака: «Он лишь соломинка, носимая ветром, и лишь ветер у него в голове, и лишь одно желание – кружиться безымянно и невесомо. Божье Дитя – называют его порой».
Сравните с восклицанием Донга:
И последние выдуло крохи ума Из несчастной моей головы.Но смысл этого «дурачества» двойствен. «В худшем случае, – пишет Йейтс, – его руки и ноги, его глаза, его воля и желания подчиняются лишь смутным подсознательным фантазиям. Но в лучшие минуты ему доступна вся мудрость…»
То, к чему путем многих раздумий приходит Йейтс, интуитивно найдено Лиром намного раньше. Но и он не сразу понял, что за жемчужное зерно попало к нему в руки. В его наследии много сора, соломинок, кружащихся на ветру. Но поздние баллады Эдварда Лира заслуживают названия великих не меньше, чем, например, знаменитые оды Джона Китса 1819 года. И влияние их на литературу XX века (Джойс, Элиот, Хармс) еще недостаточно оценено и изучено.
Всякое писательство есть пример духовного сопротивления. У Лира оно наглядно до смешного:
Жил-был Старичок между ульями, От пчел отбивавшийся стульями; Но он не учел Числа этих пчел И пал смертью храбрых меж ульями.Есть что-то донкихотовское в этом образе; битва Старичка между ульями здесь не менее героическая, чем бой с ветряными мельницами. А возьмите парную к «Джамблям» балладу «Донг С Фонарем На Носу». Можно ли одним образом, одним гениально начертанным иероглифом точнее выразить идею художнического Дара, пронесенного Лиром через всю его жизнь? Этот Светозарный Нос, торчащий на лице, как горизонтальный Маяк, которому суждено, когда время угоризонталит его носителя, перейти в вертикальное положение и стать надгробным монументом поэту. И с какой технологической точностью описан этот Фонарь,
Освещающий мир Через множество дыр, Проделанных в этом огромном Носу, Защищенный корой, Чтобы ветер сырой Его не задул в злоповедном лесу.Разве это абстрактная фантазия или нелепица? Это мощный символ, к которому как нельзя более подходят слова Пастернака: «Метафоризм – естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм – стенография большой личности, скоропись духа».
Эдвард Лир (1812–1888)
Лимерики
Говорил бородатый старик: «Я совсем от покоя отвык – Шебуршат, как в гнезде, У меня в бороде Две совы, утка, дрозд и кулик!» Пожилой господин на Таити Говорил: «Если вы говорите, Что мой нос длинноват, В том не я виноват, А избыток дождей на Таити». Жил один старичок из Гонконга, Танцевавший под музыку гонга. Но ему объявили: «Прекрати это – или Убирайся совсем из Гонконга!» Полноватый старик из Британии Был порою несдержан в питании. На совет есть пореже Он кричал: «Вы невежи!» – Толстопузый старик из Британии Задремавший один старичок Думал: дверь заперта на крючок. Но один толстый крыс Его шляпу изгрыз, А другой – съел его сюртучок. Злополучную даму в Байраме Много раз прищемляло дверями. «А может быть, впредь В дверях не сидеть?» – Подумала дама в Байраме Жил один старичок из Непала, Всё глотавший, что в рот ни попало. Но, съев десять кроликов, Он умер от коликов – Неуёмный старик из Непала. Жил-был старичок между ульями, От пчел отбивавшийся стульями. Но он не учел Числа этих пчел И пал смертью храбрых меж ульями. Одна гувернантка в Кувейте Так мило играла на флейте, Что хрюкать ей в лад Был счастлив и рад Любой поросенок в Кувейте. Жила-была дева в Галиции, Чей нос перерос все кондиции. Пришлось вызывать Несчастную мать – Носить этот нос по Галиции. Жил один старичок с кочергой, Говоривший: «В душе я другой». На вопрос: «А какой?» Он лишь дрыгал ногой И лупил всех подряд кочергой. Одному господину в Версале Так внезапно глаза отказали, Что он видеть не мог Даже собственных ног – И просил, чтоб ему показали. Жил один старичок из Венеции, Давший дочери имя Лукреции. Но она очень скоро Вышла замуж за вора, Огорчив старичка из Венеции. Жил старик у подножья Везувия, Изучавший работы Витрувия. Но сгорел его том, И он взялся за ром, Романтичный старик у Везувия! Бедный дедушка в Иокогаме С детства был обделен пирогами. «Ах, какой скверный сон!» – Приговаривал он И обиженно дрыгал ногами. Одна старушонка из Триста Уселась на куст остролиста. Весь день там сидела И громко кряхтела, Но слезть не могла с остролиста. Жил великий мыслитель в Италии, Его мучил вопрос: что же далее? Он не ведал покою И, махая рукою, Бегал взад и вперед по Италии. Жил один долгожитель в Пергаме, Он Гомера читал вверх ногами. До того дочитался, Что ослаб, зашатался И свалился с утеса в Пергаме. Одному старику на верхушке Досаждали дрозды и кукушки. «Хватит, – он прорыдал, – Я довольно страдал, Лучше слезу я с этой верхушки». Жил на свете разумный супруг, Запиравший супругу в сундук. На ее возражения Мягко, без раздражения Говорил он: «Пожалте в сундук!» Пожилой джентльмен из Айовы Думал, пятясь от страшной коровы: «Может, если стараться Веселей улыбаться, Я спасусь от сердитой коровы?» Жил в одном городке под Вероной Старичок, танцевавший с вороной. Но прохожие в крик: «Ты безумный старик! Убирайся отсюда с вороной». Жил да был в славном городе Трире Старичок – самый маленький в мире. Век бы жил старичок, Да щенок-дурачок Проглотил его в городе Трире. Жил один старичок из Нигера, Ему в жены попалась мегера. Целый день она ныла: «Ты черней, чем чернила», – Изводя старика из Нигера. Говорил старичок у куста: «Эта птичка поет неспроста». Но, узрев, что за птаха, Он затрясся от страха: «Она вчетверо больше куста!» Незлобивый старик из Китая Пса имел – толстяка и лентяя. Пес обычно молчал, А визжал и рычал Добродушный старик из Китая. Жил премудрый политик в Сеуле. Но когда его перевернули И стали крутить, «Прошу прекратить», – Заявил он коллегам в Сеуле. Старичок, проживавший в Рангуне, Погулять как-то вышел в июне. Возвращаясь назад, Нес он двух поросят, Арестованных лично в Рангуне. Старичок, позвонивший в звонок, Говорил: «Я совсем изнемог. Я вишу здесь три дня На крылечке, звоня, – Может, кто-то услышит звонок?» Любопытный философ из Гретны Прыгнул в кратер дымящейся Этны. Напоследок еще Крикнул: «Здесь горячо-о-о!» – И исчез в дымном пламени Этны. У старушки одной в Эритрее Был девиз: «Дальше, выше, быстрее!» Если нужно, на спор Перепрыгнуть забор Старушонка могла в Эритрее. Удалой старичок из Салоников Очень прыгать любил с подоконников. На вопрос: «Не опасно?» Говорил он: «Прекрасно! – В этом прелесть прыжков с подоконников». Осмотрительный старец из Кёльна Отвечал на расспросы окольно. На вопрос: «Вы здоровы?» Говорил он: «А кто вы?» – Подозрительный старец из Кёльна. Пожилой господин в Касабланке Был поклонником жидкой овсянки. Чтобы было вкусней, В чашку пару мышей Добавлял господин в Касабланке. Жила-была в городе Бледе Одна очень тихая леди. На вопрос: «Вы заснули?» Шевелилась на стуле И вздыхала загадочно леди. Жил один старичок из Тамбова, У него потерялась корова. Старцу – горе да слезы, А корова с березы Наблюдает, жива и здорова. Жил-был старичок у причала, Которого жизнь удручала. Ему дали салату И сыграли сонату, И немного ему полегчало. Жил старик бесшабашный на Крите Танцевавший на ветхой раките. Крикнул сын старика: «Ветка слишком тонка – Осторожней, отец, не чихните!» Жил отважный старик в Браззавиле, Всюду ездивший на крокодиле. «Смотри – они к ночи Покушать охочи», – Знакомые предупредили. Невезучий старик из Уэллса У перрона на рельсах уселся. Погруженный в мечту, «Сэр, ваш поезд ту-ту!» – Не услышал старик из Уэллса. Старичок, проживавший в Реусе, В море синее вышел на гусе. Но средь бездны морской Оглянулся с тоской: «Эх, побить бы чайку у бабуси!» Жил сомнительный дядя из Дадли, Отвечавший на все только: «Вряд ли». Ему дали пинков, А потом тумаков – И навеки прогнали из Дадли. Жил старик в славном городе Бремене, Не терявший там попусту времени: Просыпался, зевал, Вверх ногами вставал И стоял до обеда на темени. Старушенция из Саламанки Век жила, не вылазя из банки, Никогда не грустила, Улыбалася мило И дарила детишкам баранки. Жил старик в некой местности дикой, Преисполненный верой великой: Он сидел на тележке И без лени и спешки Кушал вилкой пирог с ежевикой. Жила-была дама приятная, На вид совершенно квадратная. Кто бы с ней ни встречался, От души восхищался: «До чего эта дама приятная!» Жил старик на развесистой ветке, У него были волосы редки. Но галчата напали И совсем общипали Старика на развесистой ветке. Некий отрок, бродя по овражку, Подобрал небольшую дворняжку. Лишь немного спустя, Осознал он, грустя, Что большую он сделал промашку. Сухопарый старик из Болгарии Был других стариков сухопарее. Его прямо на стуле Рулоном свернули – И хранили в чулане в Болгарии. Жил в Афинах один Стариканос, Попугай укусил его за нос. Он воскликнул: «Ах, так? Сам ты попка-дурак!» – Вот сердитый какой Стариканос! Старичок, проживавший в Анапе, Был мудрее царя Хаммурапи: Ловко с кошкой плясал, Ложкой спину чесал И ромашку заваривал в шляпе. Жил один старичок в Девоншире, Он распахивал окна пошире И кричал: «Господа! Трумбаду, трумбада!» – Ободряя народ в Девоншире.Мистер Йонги-Бонги-Бой
В том краю Караманджаро, Где о берег бьет прибой, Жил меж грядок с кабачками Мистер Йонги-Бонги-Бой. Старый зонт и стульев пара Да разбитая гитара – Вот и все, чем был богат, Проживая между гряд С тыквами и кабачками, Этот Йонги-Бонги-Бой, Честный Йонги-Бонги-Бой. Как-то раз, бредя устало Незнакомою тропой, На поляну незабудок Вышел Йонги-Бонги-Бой. Там средь курочек гуляла Леди, чье лицо сияло. «Это леди Джингли Джоттт Белых курочек пасет На поляне незабудок», – Молвил Йонги-Бонги-Бой, Мудрый Йонги-Бонги-Бой. Обратясь к прекрасной даме В скромной шляпке голубой, «Леди, будьте мне женою, – Молвил Йонги-Бонги-Бой. Я мечтал о вас ночами Между грядок с овощами; Я годами вас искал Между пропастей и скал; Леди, будьте мне женою!» – Молвил Йонги-Бонги-Бой, Пылкий Йонги-Бонги-Бой. «Здесь, в краю Караманджаро, Где о берег бьет прибой, Много устриц и омаров (Молвил Йонги-Бонги-Бой). Старый зонт и стульев пара Да разбитая гитара Будут вашими, мадам! Я на завтрак вам подам Свежих устриц и омаров», – Молвил Йонги-Бонги-Бой, Щедрый Йонги-Бонги-Бой. Леди вздрогнула, и слезы Закипели, как прибой: «Вы немножко опоздали, Мистер Йонги-Бонги-Бой! Ни к чему мечты и грезы, В мире много грустной прозы: Я любить вас не вольна, Я другому отдана, Вы немножко опоздали, Мистер Йонги-Бонги-Бой, Милый Йонги-Бонги-Бой! Мистер Джотт живет в столице, Я с ним связана судьбой. Ах, останемся друзьями, Мистер Йонги-Бонги-Бой! Мой супруг торгует птицей В Англии и за границей, Всем известный Джингли Джотт; Он и вам гуся пришлет. Ах, останемся друзьями, Мистер Йонги-Бонги-Бой, Славный Йонги-Бонги-Бой! Вы такой малютка милый С головой такой большой! Вы мне очень симпатичны, Мистер Йонги-Бонги-Бой! Если б только можно было, Я б решенье изменила, Но, увы, нельзя никак; Верьте мне: я вам не враг, Вы мне очень симпатичны, Мистер Йонги-Бонги-Бой, Милый Йонги-Бонги-Бой!» Там, где волны бьют с размаху, Где у скал кипит прибой, Он побрел по краю моря, Бедный Йонги-Бонги-Бой. И у бухты Киви-Мяху Вдруг увидел Черепаху: «Будь галерою моей, Увези меня скорей В ту страну, где нету горя!» – Молвил Йонги-Бонги-Бой, Грустный Йонги-Бонги-Бой. И под шум волны невнятный, По дороге голубой Он поплыл на Черепахе, Храбрый Йонги-Бонги-Бой; По дороге невозвратной В край далекий, в край закатный. «До свиданья, леди Джотт», – Тихо-тихо он поет, Вдаль плывя на Черепахе, Этот Йонги-Бонги-Бой, Верный Йонги-Бонги-Бой. А у скал Караманджаро, Где о берег бьет прибой, Плачет леди, восклицая: «Милый Йонги-Бонги-Бой!» В той же самой шляпке старой Над разбитою гитарой Дни и ночи напролет Плачет леди Джингли Джотт И рыдает, восклицая: «Милый Йонги-Бонги-Бой! Где ты, Йонги-Бонги-Бой?»Дядя Арли
Помню, помню дядю Арли С голубым сачком из марли: Образ долговяз и худ, На носу сверчок зеленый, Взгляд печально-отрешенный – Словно знак определенный, Что ему ботинки жмут. С пылкой юности, бывало, По холмам Тинискурала Он бродил в закатный час, Воздевая руки страстно, Распевая громогласно: «Солнце, солнце, ты прекрасно! Не скрывайся прочь от нас!» Точно древний персианин, Он скитался, дик и странен, Изнывая от тоски: Грохоча и завывая, Знания распространяя И – попутно – продавая От мигрени порошки. Как-то, на тропе случайной, Он нашел билет трамвайный, Подобрать его хотел: Вдруг из зарослей бурьяна Словно месяц из тумана, Выскочил Сверчок нежданно И на нос к нему взлетел! Укрепился – и ни с места, Только свиристит с насеста Днем и ночью: я, мол, тут! Песенке Сверчка внимая, Дядя шел не уставая, Даже как бы забывая, Что ему ботинки жмут. И дошел он, в самом деле, До Скалистой Цитадели, Там, под дубом вековым, Он скончал свой подвиг тайный: И его билет трамвайный, И Сверчок необычайный Только там расстались с ним. Так он умер, дядя Арли, С голубым сачком из марли, Где обрыв над бездной крут; Там его и закопали И на камне написали, Что ему ботинки жали, Но теперь уже не жмут.Рассказ по картинке (о лимериках лира и то чном переводе)
1. Трудность первая: топоним. Точность А
Лимерики Эдварда Лира – или «нелепицы» (nonsense rhymes), как он сам их называл, – представляют интереснейшую проблему для переводчика.
Случай этот не канонический, потому что не чисто текстовой; каждый лимерик Лира сопровождается особым авторским рисунком (nonsense picture), что приводит к необходимости соотнести перевод не только со смыслом, но и с тем, как он «отрисован» Лиром.
На практике оказывается, что разные лимерики с разной легкостью (или трудом) поддаются переводу. Можно даже установить градации заковыристости текста. Заодно можно ввести и градации точности перевода.
Обратимся к примеру. «Жил один Старичок с Ямайки, который вдруг женился на Квакерше. Но она закричала: „Увы! Я вышла замуж за черного!“ – что очень огорчило того Старичка с Ямайки».
There was an Old Man of Jamaica, Who suddenly married a Quaker; But she cried out, Alack! I have married a black! Which distressed that Old Man of Jamaica.Начнем с первой строки. Лимерики Лира обычно начинаются с формулы «There was am Old Man (Old Person, Old Lady, etc.)…» Далее следует уточнение, в девяноста процентах случаев сводящееся к топониму. Например: «There was an Old Man of Calcutta…» Понятно, что вторая строка подрифмовывается к этому топониму – названию страны или города.
Иными словами, в оригинале название места определяет содержание лимерика. Легко понять, что в переводе все наоборот – топоним подрифмовывается к содержанию. Место или город, указанные в оригинале, переводчик обычно игнорирует, ища новое, которое определяется, как правило, второй строкой. Хвост вертит собакой! В нашем случае процесс перевода шел немного по-другому. С самого начала захотелось выбрать если не Ямайку, то какое-нибудь другое место, которое ассоциировалось бы с чернотой героя. И вот после недолгих поисков выговорилось:
Жил один старичок из Нигера…Следующая строка явилась моментально:
Ему в жены попалась мегера.В оригинале сказано «квакерша». Но и мегера тут на месте; она даже уместнее квакерши, потому что там русскому читателю надо еще соображать, что такое квакерша и почему это плохо, а с мегерой все ясно. Итак, хотя слово поменялось, но функция его, в целом, сохранена, даже усилена. Дальнейшее – дело техники:
Целый день она ныла: «Ты черней, чем чернила», – Изводя старика из Нигера.В целом, все содержание лимерика на месте, не добавлено и не убавлено никакого важного мотива или колоритной детали (замену «квакерши» на «мегеру» можно признать эквивалентной). Перевод этого лимерика отнесем к первой категории точности (назовем ее А).
2. Трудность с диалогом. Точность В
Предыдущий пример относительно прост еще и потому, что хотя в нем есть прямая речь, но говорит только один персонаж. В ряде лимериков говорят два персонажа, то есть возникает мини-диалог, обычно занимающий третью и четвертую строчку лимерика (назовем это место «перешейком»). Вот пример: «Жил один пожилой человек из Бертона, ответы которого были довольно неопределенны. Когда ему сказали: „Здравствуйте (как поживаете?)“, он ответил: „Кто вы?“ Этот невозможный пожилой человек из Бертона!»
There was an Old Person of Burton, Whose answers were rather uncertain; When they said, „How d'ye do?“ He replied, Who are you? That distressing Old Person of Burton.Уместить четыре реплики (включая вопрос и ответ) на узком «перешейке» не очень просто. Самым естественным эквивалентом английской формулы „When they said… he replied…“ является русская формула «На вопрос… отвечал он…».
Возможен такой перевод данного лимерика:
Осмотрительный старец из Кёльна Отвечал на расспросы окольно. На вопрос: «Вы здоровы?» Говорил он: «А кто вы?» – Подозрительный старец из Кёльна.Как видим, здесь в точности удалось сохранить вторую реплику (ответ). Первая по необходимости поменялась. Возможен и другой вариант, в котором сохраняется первая реплика (вопрос), но по необходимости меняется ответ:
Молодой человек из Руана Выражался довольно туманно. На вопрос: «Как живете?» Отвечал он: «У тети», – Что звучало немножечко странно.Замена пожилого человека на молодого – часть необходимого прилаживания лимерика под центральный диалог: если бы у тети жил старец, это было бы уже не «немножечко», а весьма странно. Изменена также последняя строка – но уже не по необходимости, а из соображения, как лучше, интереснее. Можно было бы закончить, например, фразой: «Непростой человек из Руана!» Но русский текст подсказал иную концовку.
Бывают случаи, когда мини-диалог передается по-русски не универсальной формулой «На вопрос… Отвечал он», а как-то иначе.
Например, первая реплика может заменяться косвенной речью, как в лимерике про «шарообразного» старика. В оригинале мини-диалог с двумя репликами: «Когда ему сказали: „Вы толстеете“, – он ответил: „Какое это имеет значение?“». В переводе:
На совет есть пореже Он вскричал: «Вы невежи!»Нередко бывает, что прямая речь в переводе возникает там, где в оригинале ее не было. Скажем, в лимерике про старушку, которая «подбородком играла на флейте». По-английски сказано только, что она заострила его, купила арфу и играла разные мелодии. По-русски получилось:
Старушенция, жившая в Гарфе, Подбородком играла на арфе. «В моем подбородке Особые нотки», – Говорила друзьям она в Гарфе.Общее во всех этих случаях, что трудная проблема передачи мини-диалога, как правило, приводит к значительным отклонениям в конструкции лимерика. Все рассмотренные выше случаи перевода мы отнесем ко второй категории точности (В).
3. Трудность с рифмующимися деталями.
Чем меньше конкретных деталей нарисовано Лиром, тем переводчику легче. Хуже всего, когда обилие точных деталей в лимерике осложняется их рифменной связью. Это не то, что наш первый случай, когда рифмуется предмет и топоним, как это обычно бывает в начале. Там можно заменить топоним, подрифмовав его к предмету.
А что делать, если рифмуется два разнородных предмета, причем оба изображены на рисунке?
Скажем, одна старушка в сером кормит попугаев морковкой. Русский читатель может удивиться – что за странная причуда? А разгадка проста. Попугай по-английски – parrot, а морковка – carrot. Вот и всё.
Или возьмем того старичка на границе, который танцевал с кошкой и заваривал чай в шляпе. Нелепо? Может быть. Но главное, что в рифму: cat – hat.
Или, скажем, юная леди из Уэллинга, которой все восхищались, играла на арфе и одновременно ловила карпов, а почему? Потому что по-английски «карп» и «арфа» рифмуются: carp – harp. Но что прикажете делать переводчику? Заменить арфу или карпов на что-нибудь другое? Но это невозможно, потому что – вот они здесь на картинке! Можно попробовать убрать с рифмы один предмет или другой или оба сразу. Например, так:
Жила одна леди в Кашмире – Совершеннее не было в мире; Она карпов удила И по арфе водила Милой ручкой, изящнейшей в мире.Здесь можно лишь сочувственно вздохнуть. В том-то ведь и прелесть лимерика, что все определяет случайная рифма. Рифмующиеся слова должны гордо сидеть на концах строк, – а не так, как в этом переводе, внутри, где их можно легко заменить на другие, скажем, «арфу» на «лютню». В качестве подписи к рисунку такой вариант годится и, может быть, даже заслуживает первой категории точности. Хотя, по большому счету, это провал – у лимерика выдернуто его «жало».
Но можно ли сделать так, чтобы сохранить и нелепые детали, и их ударное положение на рифме? Один способ разрешения этой задачи: вынести одно из двух слов – или даже оба слова – за пределы «перешейка». Допустим, в третьей и четвертой строке сказано: «он сидел на ступенях и ел груши», причем ступени (stairs) и груши (pears) рифмуются между собой. Переносим и ступени, и груши во вторую строку и добавляем подходящий топоним:
Суеверный мужчина в Пномпене Кушал груши, присев на ступени.Другой способ. Возьмем лимерик про задремавшего старика, который полагал, что его дверь «частично заперта». Далее говорится: «Но несколько больших крыс (Rats) съели его пальто (плащи, сюртуки, и т. д.) и шляпы (hats)». Так это и нарисовано Лиром: одна крыса грызет шляпу, другая ест одежду на вешалке. В русском переводе мы переносим печальную участь сюртука в пятую строку – и картинка полностью соблюдена:
Задремавший один старичок Думал: дверь заперта на крючок Но один толстый крыс Его шляпу изгрыз, А другой – съел его сюртучок.Похожий случай произошел со стариком из Бангора, который в гневе «срывал сапоги (boots) и питался корнеплодами (roots)». В переводе пришлось корнеплоды перенести в пятую строку:
Пожилой господин из Хунрепа В гневе выглядел очень свирепо: Он швырял сапоги, Отвергал пироги И питался морковью и репой.Как подпись к картинке такой перевод, очевидно, подходит: действительно, на блюде, которое подносят разгневанному старику, Лир изображает что-то весьма похожее на морковь и репку. Но, к сожалению, из-за того, что корнеплоды не уместились на «перешейке», они вытеснили из пятой строки заключительное восклицание Лира: «Этот скучноворчливый старик из Бангора!». В оригинале придуманное Лиром borascible, представляющее собой контаминацию двух английских слов: boring (скучный) и irascible (раздраженный). Такого рода «морали» с мудреными или придуманными автором прилагательными характерны для лимериков Лира, и всякий раз, когда перевод их не сохраняет, он уже не может претендовать на первую категорию точности и автоматически попадает в категорию В.
3. Трудности игнорируются. Точность С
К третьей, самой низшей, категории точности (С) мы отнесем такие переводы, которые не сохраняют деталей лимерика, изображенных на картинке. В них многое, порой до неузнаваемости, изменено. Лишь какая-то едва заметная пуповина связывает такой «перевод» – правильнее было бы сказать, переложение – с оригиналом. Так в одном из лимериков на старика из Дувра, бежавшего по полю клевера, нападают пчелы, которые искусывают ему нос и колени («колени» оттого, что по-английски они рифмуются с «пчелами»), и ему приходится возвратиться в Дувр. Печальная история. Тридцать лет назад, отталкиваясь от этого лимерика, я сочинил такой стишок:
Жил-был старичок между ульями, От пчел отбивавшийся стульями. Но он не учел Числа этих пчел И пал смертью храбрых меж ульями.Ни ульев, ни стульев на рисунке Лира нет. Но если разделять понятия точности и верности (адекватности), то данный перевод можно признать верным, хотя и не точным. Ибо он верен – чему? – самому принципу сюжетообразования в лимерике через рифму, через случайную, звуковую связь слов.
Тогда же у меня появился еще один вариант того же сюжета, только пчелу я заменил на осу. Тут же сразу, конечно, появилась коса, и безнадежная борьба старика с природой приняла несколько иной характер:
Один старикашка с косою Гонялся полдня за осою. Но в четвертом часу Потерял он косу И был крепко укушен осою.Тогда, при первом моем знакомстве с лимериками, мое внимание, между прочим, привлекла проблема мини-диалогов и возможности их адекватного перевода на русский. Есть у Лира стишок про старика из Гретны, просившегося в кратер Этны. Далее происходит такой обмен репликами: «Когда его спросили: „Там горячо?“ („Is it hot?“), он ответил: „Нет, нисколько!“ („No, it's not!“)». Я оттолкнулся от этого обмена и у меня получился такой стишок:
Одного молодца из Ньюкасла Черти бросили жариться в масло. На вопрос: «Горячо?» Он сказал: «Нет, ничо». Вот какой молодец из Ньюкасла!Признаюсь, мне этот вариант нравится больше сделанного значительно позднее перевода, где уже нет никаких чертей и все точно соответствует картинке.
Конечно, бывает, что и точный перевод приносит полное удовлетворение. Но для этого нужно редкое совпадение множества факторов. Например:
Жил старику подножья Везувия, Изучавший работы Витрувия, Но сгорел его том, И он взялся за ром, Романтичный старику Везувия.Здесь эпитет «романтичный» можно прочесть как «ром-античный», что вполне соответствует знаменитым лировским «словам-бумажникам», раскладывающимся надвое. Но это уже явный бонус от великого бога Случая.
В некотором смысле, мой опыт с лиме-риками уникален. Обычно у переводчика что-то долго не получается, не выходит – и лишь с годами (иногда через много лет) отыскивается правильное решение проблемы.
У меня наоборот. При первом знакомстве с лимериками, «заразившись» ими, я избрал путь подражания, то есть верности принципу, а не деталям. И лишь спустя много лет поставил задачу перевести лимерики «точно», то есть как рассказ по картинке. Увлекшись этой задачей, я не сразу заметил – что-то пропало. Что же именно пропало? Та свобода, без которой лимерик чахнет. Даже не просто свобода, а полная анархия, которая и составляет самую душу лировских нелепиц. Каждая деталь рисунка – еще одна веревочка, связывающая Гулливера воображения.
Так, может быть, только подражание, вдохновленное оригиналом, и есть верный перевод? И чем случайней, тем вернее?
Чарльз Стюарт Калверли (1831–1884)
Калверли работал адвокатом в Лондоне, когда его успешная карьера была прервана самым неожиданным и драматическим образом: в 1865 году в результате несчастного случая на катке он остался инвалидом на всю жизнь. Но чувство юмора не изменило Калверли и в несчастье. Он прославился как автор блестящих пародий на популярных поэтов и писателей викторианской эпохи (сборник «Летучие листки», 1872).
Чарльз С. Калверли. Гравюра XIX в.
Баллада
Часть I
Старуха вязала чулок у огня (Масло, сыр и фунт ветчины), Чулок этот делался день ото дня Все большей и большей величины. Дудел пастушок на зеленом холме (Масло, сыр и фунт ветчины), Овечка печально проблеяла «ме-е-е», Слетела ворона с высокой сосны. Крестьянин кругами ходил по двору (Масло, сыр и фунт ветчины), Он малость вчера перебрал на пиру – Такие детали в балладе важны. Крестьянская дочка глядела в окно (Масло, сыр и фунт ветчины), Глаза ее были пьяней, чем вино, Она починяла папаше штаны. Глаза ее были бездонней, чем пруд (Масло, сыр и фунт ветчины), Приблизься – презреньем тебя обольют, Как коршуны, дики, как лед, холодны.Часть II
На щечках девы румянец горел (Масло, сыр и фунт ветчины), Рожок на холме все дудел и дудел, Дудел и дудел, а она хоть бы хны. На щечках девы румянец сиял (Масло, сыр и фунт ветчины), Рожок на холме все играл и играл, Ушам навевая чудесные сны. Вечерний закат запылал над холмом (Масло, сыр и фунт ветчины), И дева ушла за своим пастушком Туда, где в тумане хрустят кочаны. Овечка, вздохнув, поскакала за ней (Масло, сыр и фунт ветчины). Другие баллады бывают длинней, А эта – умеренной величины.Вокруг Льюиса Кэрролла
Дерево Алисы
В детстве мне не довелось прочесть «Алисы в Стране Чудес». Ее просто не было у нашего поколения, как не было Винни-Пуха, Питера Пэна и других классических английских сказок. Обделили? Может быть. Зато судьба с лихвой возместила ущерб, приведя меня в гости к Алисе таким чудесным образом, что мне и померещиться не могло.
Это было в 1991 году. Мои английские друзья, придумав что-то вроде выступления или беседы, вытащили меня из Москвы в Оксфорд – это была чуть не первая моя поездка в запретную прежде Европу. Средневековые колледжи, старинные улочки, пабы, Бодли-анская библиотека с бесценными книжными чудами, река Айзис (она же Темза), приречные луга и шпили готических соборов – все это обрушилось на меня лавиной, которую лишь заботливость моих хозяев кое-как вводила в умопостигаемое русло. Для знакомства с колледжем Крайст-Чёрч, где преподавал Льюис Кэрролл, мне выбрали специального провожатого, бывшего однокашника моего друга и в то время аспиранта этого самого колледжа Роберта, писавшего диссертацию по английскому Возрождению (сейчас он профессор Эдинбургского университета).
В том году как раз вышел мой перевод поэмы Кэрролла «Охота на Снарка». Первым делом Роберт привел меня в Кэрролловскую мемориальную библиотеку, и глядите-ка! моя книга уже каким-то образом попала туда. Она лежала на одном из столов в стеклянном гробу, как спящая красавица, и аккуратная табличка на английском языке гласила: «Перевела на русский язык Григория Кружкова» («Translated into Russian by Grigoriia Kruzhkova»). Вот так шутник Кэрролл меня превратил из джентльмена в даму!
Потом вышли в просторный двор колледжа Том-Скуод, окруженный каре старинных зданий. Как известно, прямо через лужайку имеют право ходить лишь преподаватели. Традиция эта строго соблюдается. Мы с Робертом обошли по сторонам квадрата и оказались в углу, где у двери висела скромная табличка «The Deanery» – «Дом декана». Здесь в 1856 году доктор Чарльз Дод-жсон впервые увидел четырехлетнюю Алису Лидделл. Нынешний декан с семьей и любимой собакой был по случаю летних каникул в отъезде; но Роберт достал из кармана ключ, открыл дверь, и мы вошли. Каким-то удивительным образом Роберт оказался квартирантом декана, которому тот на время своей отлучки доверил весь дом.
Помню, экскурсия наша началась с крыши. Именно там, прямо на угловой башенке, похожей на капитанский мостик, Роберт утвердил свое главное летнее убежище: повесил гамак, привязав его одним концом к зубцу стены, а другим к каминной трубе, и проводил там часы, качаясь на солнышке и почитывая стихи и прозу своего любимого писателя Джона Лили, учившегося здесь же, в Крайст-Чёрч, каких-нибудь четыреста лет назад.
Потом мы прошлись по всему дому декана снизу доверху. Дубовая лестница была великолепна, резные львы на столбах перил стояли как цирковые звери на тумбах. А вот в этой спальне на третьем этаже, рассказывал Роберт, однажды – не то в пятнадцатом, не то в шестнадцатом веке – ночевала королева (не помню какая), на столике возле кровати доныне лежит молитвенник, который она читала на ночь. Молитвенник королевы произвел на меня такое впечатление, что я забыл о главной причине, которая привела меня в дом декана, и был застигнут врасплох, когда Роберт, проведя меня через кухню, вывел во внутренний огороженный высокой стеной дворик и сказал: «В этом дворике играла Алиса».
Мы подошли к старому дереву с мощной веткой, отходящей от ствола далеко в сторону. Под деревом лежал резиновый мяч. Роберт поднял его и предложил поиграть. Я вообще-то обожаю такие игры, дрожу при виде всякого мяча, но здесь, под деревом Алисы, ни малейшего спортивного азарта я не ощутил. Мы несколько раз перекинули мяч через ветку; это была, конечно, не игра, а обряд – священнодействие в чистом виде.
«Дул я в звонкую свирель…»
Льюис Кэрролл и ангелы
В предисловии к факсимильному изданию «Алисы» 1886 года (с рукописного, украшенного собственными рисунками автора первоначального варианта сказки) Кэрролл писал:
Те, для кого душа ребенка – закрытая книга, кто не видит в его улыбке божественного света, ничего не поймут в моих словах, а для того, кто когда-то любил хоть одно реальное дитя, никакие слова не нужны. Ему ведомо то чувство благоговения, которое испытываешь в присутствии души, только-только вышедшей из рук Бога, на которую еще не пала никакая тень зла, а лишь самый краешек тени печали…
Эта тень печали, которая своим краешком падает на новорожденную душу ребенка, удивительно запечатлена в «Предисловии» к «Песням невинности» Уильяма Блейка:
Дул я в звонкую свирель. Вдруг на тучке в вышине Я увидел колыбель, И дитя сказало мне: – Милый путник, не спеши. Можешь песню мне сыграть? – Я сыграл от всей души, А потом сыграл опять. – Кинь счастливый свой тростник. Ту же песню сам пропой! – Молвил мальчик и поник Светлокудрой головой. (Перевод С. Маршака)О влиянии Блейка на Кэрролла сказано много. Но, кажется, никто еще не отметил, что и «Алиса», и «Песни невинности» сходны в том, что оба произведения написаны по специальному заказу ребенка.
– Запиши для всех, певец, То, что пел ты для меня! – Крикнул мальчик наконец И растаял в блеске дня. Я перо из тростника В то же утро смастерил, Взял воды из родника И землею замутил. И, раскрыв свою тетрадь, Сел писать я для того, Чтобы детям передать Радость сердца своего.Нечто похожее случилось на речной прогулке 4 июля 1862 года. То, что Кэрролл рассказывал в этот день, было так необыкновенно и чудесно, что Алиса сразу же стала умолять его записать эту сказку для нее и не отставала до тех пор, пока он не взял «перо из тростника» и не принялся за работу «– Запиши для всех, певец, // То, что пел ты для меня!»
Оксфордский дон, математик и логик Льюис Кэрролл был прежде всего сказочником, то есть принадлежал к числу тех писателей, которые всю жизнь занимаются наукой человеческого счастья.
Таких авторов немного. Большинство считает, что писательское дело – вскрывать общественные язвы, обличать пороки, проповедовать трагизм жизни или внушать людям необходимую им мораль. Однако отсутствие счастья, как заметил Морис Метерлинк, есть самый главный недуг человечества. Мир похож на больного, беспрерывно ворочающегося в постели и не находящего себе покоя. Необходимо говорить людям о счастье, чтобы они научились его искать. Граница между грустью и радостью тонка и зависит от умения видеть широко и зорко. «Счастье отделено от отчаянья лишь одной возвышенной, неутомимой, человечной и бесстрашной мыслью»[130]. Эти слова можно поставить эпиграфом к жизни Кэрролла.
Сказка об Алисе, как мы знаем, родилась из желания запечатлеть счастливый летний день, проведенный на реке с маленькими сестрами Лидделл, тот «июльский полдень золотой», который Кэрролл воспел в своем вступительном стихотворении. Он и решился напечатать свою книгу лишь для того, чтобы отблеск этого дня коснулся и других юных читателей.
Но материя счастья подчиняется общим законам сохранения («Из ничего не выйдет ничего», – говаривал король Лир); значит, чтобы заряжать радостью других, Кэрролл должен был заряжаться ею сам. Откуда он брал счастье, из какого резервуара? Да оттуда же, из мира детства. Привычка к роли заводилы возникла в нем еще в родительском доме, где Чарльз был старшим ребенком. С неистощимой изобретательностью устраивал он для своих братьев и сестер всевозможные игры, шарады, кукольные представления, писал и разрисовывал домашние журналы. Он даже устроил в саду «железную дорогу», и хотя поездом служила простая садовая тачка с водруженной на нее бочкой, дорога была почти как настоящая – с буфетом на каждой станции, билетами и строгими правилами для пассажиров. Одно из правил гласило, что если пассажир ведет себя плохо или выпрыгивает на ходу, начальник станции может поместить его в тюрьму; зато всякий, кого три раза подряд переедет поезд, вправе обратиться за медицинской помощью.
То, что смолоду было проявлением братской опеки и любви (пронесенных через всю жизнь), в зрелые годы преобразилось в нечто большее. В детях ему явилось откровение – сродни тому, что запечатлели религиозные поэты семнадцатого века Томас Траэрн и Генри Воэн, а веком позже с такой яркостью выразил Уильям Блейк в «Песнях невинности». Но если для Траэрна его детские воспоминания были неиссякаемым родником восторга перед миром, если для Воэна путь человека представлялся возвращением в детство, а для Блейка невинное состояние ребенка было отправной точкой его «пророческих поэм», обличающих рабство человеческого духа, то для Кэрролла общение с детьми сделалось условием самого его существования.
Евангельскую заповедь «будьте, как дети» он воспринимал буквально. И подлинно жил, лишь когда любовался детьми, играл с ними, писал им письма, придумывал для них игры, загадки и занимательные истории.
Тех, кто улавливает послания нездешнего мира, видит скрытое от других, называют духовидцами. Кэрролл и был подлинным духовидцем. Он видел в детях ангелов – естественно, что разговоры с ними были для него несравненно интересней общения с иными обитателями нашего мира, содержали в себе больше мудрости и истины.
Стихи Кэрролла (его так называемые «серьезные стихи») обнаруживают сильнейшее влияние Блейка, но также Вордсворта и Кольриджа. Для этих романтических авторов дитя – мистическое существо, несущее в своем реальном, видимом облике символическое послание невидимого мира.
Уильям Блейк занимал особое место в сознании Кэрролла. Достаточно сказать, что он без зазрения совести пародировал всех своих любимых поэтов, включая Вордсворта и Теннисона, – но только не Блейка: тот был для него свят и неприкосновенен. Вот почему имеет смысл пойти «вверх по течению мысли» и обратиться напрямую к Эммануэлю Сведенборгу, шведскому религиозному писателю, оказавшему основополагающее влияние на Блейка, – и к его учению об ангелах.
Высшим свойством ангелов (и людей) Сведенборг почитал невинность. Он ставил ее выше мудрости, выше даже любви, ибо любовь бывает небесная и адская – да, да, любовь есть и у духов Ада! Невинность же – постоянная готовность слышать Бога и быть ведомым Его волей. Символ невинности – агнец. У Блейка ребенок всегда невинен и этим равен ягненку и Христу.
Ты – ягненок, я – дитя, Он такой, как ты и я.Однако высказывания самого Сведенборга о детях не однозначны. «Невинность детства, – пишет он, – не есть настоящая невинность, потому что она у них только во внешнем образе, а не во внутреннем; тем не менее даже из этого мы можем узнать, какова она, потому что она просвечивает в их лице, в их движениях, в их первоначальной речи…» Она «принадлежит только телу, а не духу, который у них еще не образовался, ибо дух должен состоять из воли и разума и происходящих от них начал любви и мышления…» (277)[131]. Однако дети все же подобны ангелам, потому что они не пекутся ни о сегодняшнем дне, ни о будущем, не обладают «самостью»[132], которая всегда мешает раствориться в любви к Богу и миру.
Сведенборг считает, что невинность мудрого старца выше, чем невинность ребенка настолько, насколько «внутреннее небо» ангелов выше «внешнего неба», что человек в старости снова «становится как бы ребенком, но ребенком мудрым, т. е. ангелом, ибо ангел в высшем смысле есть мудрое дитя» (278).
Здесь (я знаю) многие бы поспорили с великим духовидцем. Увы, далеко не каждый человек в старости становится «мудрым ребенком», в то время как буквально каждое человеческое дитя сохраняет на себе отпечаток и теплоту божественных рук и то «наитие невинности», без которого невозможны ни истинная любовь, ни истинное благо.
Дитя – ангел, брошенный в грязный омут земной жизни. Взрослый мир выступает чаще всего в роли развратителя или угнетателя детства, которое, само по себе, светоносно и душеспасительно. Такой взгляд преобладает в литературе XIX века. У англичан сошлюсь хотя бы на Диккенса, в русской литературе – на Достоевского.
Князь Мышкин объясняет матери и сестрам Епанчиным:
Я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, – я это давно заметил, – не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры со мной ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям.
Вот так, я думаю, тянуло к детям и Кэрролла. И неважно, что герой Достоевского вел с малышами серьезные беседы, а оксфордский чудак развлекал их всевозможными играми и фантазиями. Главное, что в основе их тяги к детям лежал естественный душевный магнетизм, то благоговение и умиление, которое у религиозных людей связывается с созерцанием ангелов.
И сколько бы осторожных и замысловатых писем ни писал Кэрролл родителям своих маленьких друзей и подружек, приглашая их к себе на сеанс фотографии, на обед или на прогулку и стараясь рассеять всевозможные сомнения старших, смысл всех этих стараний невинен и сводится к евангельской фразе: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им» (Лк 18: 16).
Что такое снарк и с чем его едят
Предисловие к изданию 1991 года
Все знают, как создавалась книга о Стране Чудес. Но о поэме «Охота на Снарка» знают уже куда меньше, а ведь ее судьба довольна необычна. Есть много книг («Гулливер», «Робинзон Крузо» и так далее), которые писались для взрослых, а потом стали любимым детским чтением. Тут же получилось почти наоборот.
Кэрролл свою поэму сочинил для маленькой девочки, – но не для Алисы Лидделл, а другой – Гертруды Чатауэй, с которой он познакомился на каникулах. Вообще Кэрролл дружил и переписывался со многими девочками. И, между прочим, правильно делал, потому что разговаривать с ними куда интересней, чем с профессорами. Итак, написал-то он поэму для детей, да взрослые оттягали ее себе: дескать, глубина в ней необыкновенная, не дай бог ребеночек наступит и провалится. Якобы только мудрецы и поседелые философы способны понять, где там собака зарыта. И пошли толковать так и сяк, в чем смысл «Охоты на Снарка».
Главное ведь что? Искали, стремились, великие силы на это положили… Доходили, правда, до них слухи, люди-то добрые предупреждали, что Снарк может и Буджумом оказаться, да все как-то надеялись, что обойдется, что не может того быть. Тем более, когда такой предводитель с колокольчиком!
Не обошлось. Ситуация обыкновенная, очень понятная. Тут можно представить себе и предприятие обанкротившееся, и девушку, разочаровавшуюся в своем «принце», и… Стоит ли продолжать? Все, что начинается за здравие, а кончается за упокой, уложится в эту схему. В 40-х годах появилась теория, что Снарк – это атомная энергия (и вообще научный прогресс), а Буджум – ужасная атомная бомба (и вообще все, чем мы за прогресс расплачиваемся). Можно думать, что Снарк – это некая социальная утопия, а Буджум – чудовище тоталитаризма, в объятья которого попадают те, кто к ней (к утопии) стремится. Вариантов много.
Льюис Кэрролл. Охота на Снарка. Генри Холидей, 1876
А может быть, дело как раз в том, что перед нами творение математика, то есть математическая модель человеческой жизни и поведения, допускающая множество разнообразных подстановок. Недаром один оксфордский студент утверждал, что в его жизни не было ни единого случая, чтобы ему не вспомнилась строка или строфа из «Снарка», идеально подходящая именно к этой конкретной ситуации.
Страшно и подступиться к такой вещи переводчику. Вот ведь вам задача – блоху подковать! Как ни исхитряйся, как ни тюкай молоточком, хотя и дотюкаешься до конца и вроде бы сладишь дело, – не пляшет аглицкая блошка, не пляшет заморская нимфозория!
А нужно ли вообще браться за такую задачу – вот вопрос. Ведь и сам Снарк – зверюга абсурдная, а тут его еще надо переснарковать, да перепереснарковать, да перевыснарковать. Суета в квадрате получается и дурная бесконечность.
Но в конце концов сомнения были отброшены и к делу присту-плено. Принцип перевода выбран компромиссный. Снарк остался Снарком и Буджум Буджумом ввиду их широкой международной известности, но других персонажей пришлось малость перекрестить.
Предводитель Bellman получил имя Балабона (за свой председательский колокольчик и речистость), другие члены его команды выровнялись под букву «б»: так у Кэрролла, и сохранить это было непросто.
Мясник (Butcher), весьма брутальный тип, благополучно превратился в брутального же Браконьера. Оценщик описанного имущества (Broker) – в Барахольщика. Гостиничный мальчишка на побегушках (Boots), не играющий никакой роли в сюжете, – в Билетера (а почему бы нет?). Адвокат (Barrister) претерпел самую интересную метаморфозу – он сделался отставной козы Барабанщиком и при этом Бывшим судьей. Значит, так ему на роду написано. Ничего, пусть поддержит ударную группу (колокольчик и барабан) этого обобщенного человеческого оркестра, где каждый трубит, как в трубу, в свою букву «Б» – быть, быть, быть!
На этой оптимистической (то есть отчасти и мистической) ноте, пожалуй, мы закончим и плавно выпятимся за кулису.
Льюис Кэрролл как проявитель и закрепитель
Искусство пародии основывается на даре, а лучше сказать, на инстинкте имитации, которым наделены все люди. Аристотель считал, что любое искусство есть подражание природе. Если так, то передразнивание искусства (так сказать, подражание подражанию) – это и есть пародия.
Пародировать можно все, но некоторые вещи особенно щекочут перо пародиста-пересмешника. В поэзии это – те формы, которые кажутся легко воспроизводимыми. Например белый пятистопный ямб, которым так красноречиво говорят и король Лир, и Васисуалий Лоханкин: «Волчица ты, тебя я презираю…».
Но и белый хорей тоже оказался очень соблазнительным. Едва Генри Лонгфелло написал свою «Песнь о Гайавате», пародии посыпались как горох. «Да таким размером можно писать часами и километрами без остановки!» – такова была реакция многих, в том числе Льюиса Кэрролла; впрочем, в 1857 году, когда он опубликовал своего «Гайавату-фотографа» в журнале «Поезд», никакого Кэрролла еще не было в природе, а был в Оксфорде только молодой преподаватель математики Чарльз Доджсон.
Стоит отметить, что для русского уха размер «Гайаваты» – двойной раздражитель. За его «индейским» звучанием:
Если спросите, откуда Эти сказки и легенды С их лесным благоуханьем, Влажной свежестью долины, Голубым дымком вигвамов, –чудится напев испанских баллад (романсеро), которые именно так, белым четырехстопным хореем, было принято переводить в XIX веке:
Девять лет Дон Педро Гомец По прозванию Лев Кастильи, Осаждает замок Памбу Молоком одним питаясь…Кэрролл достиг комического эффекта, сочетав мудрого индейца Гайавату с последним достижением белых людей – фотографией. Между прочим, лишь год назад, 18 марта 1856 года, он купил себе в Лондоне камеру, линзы, штатив и прочее, что к тому полагалось, и фотография стала его сильнейшим увлечением на четверть века.
Иллюстрация к стихотворению «Гайаватта-фотограф». Артур Б. Фрост, 1878 г.
Это искусство только что делало свои первые шаги – неуклюже, на трех деревянных ногах, то и дело застывая на месте и спотыкаясь о бесконечные ванночки, лохани, бутыли, химические весы и другие бесчисленные приспособления. Для того чтобы сделать фотографию, нужно было усадить модель, уговорить ее сохранять полную неподвижность в течение неопределенного времени, ястребом метнуться в темную комнату, которая должна быть под рукой (годилась и походная фотографическая палатка), достать заранее отполированную стеклянную пластину, ровно облить ее коллоидным быстросохнущим раствором, а затем раствором бромистого серебра, поместить полупросохшую пластину в деревянную кассету, помчаться к фотокамере, вставить кассету на место, нырнуть под черную занавеску, вынуть заслонку из кассеты, открыть объектив, сосчитать до сорока или пятидесяти (к примеру), закрыть объектив, вынуть кассету, метнуться снова в темную комнату, вынуть экспонированную пластину, поместить ее в ванночку с проявителем, дождаться изображения, промыть водой, поместить на определенное время в ванночку с закрепителем, вынуть, дать обсохнуть, а потом еще покрыть специальным защитным составом. И не дай вам боже по пути задеть пластинку рукавом или дать сесть на нее нескольким пылинкам – все пойдет насмарку. Так получался негатив; чтобы получить позитив, требовалось еще немало дополнительных усилий.
У себя в Крайст-Чёрч, с разрешения университетского начальства, Кэрролл оборудовал стеклянную комнату для съемок прямо на крыше колледжа; но чтобы фотографировать своих родственников, друзей и знакомых в других местах, ему приходилось отправляться в экспедиции, аккуратно уложив весь свой непростой багаж и пользуясь, кроме поезда, обязательной конной силой для доставки его на место съемки.
Но ничто не могло остановить энтузиаста, среди достижений которого были снимки знаменитостей того времени – таких, как поэты Альфред Теннисон и Данте Габриель Россетти, удивительные автопортреты и потрясающие фотографии детей. Если бы Кэрролл не написал ни одной книги, его имя все равно стояло бы на почетном месте среди лучших мастеров английской фотографии XIX века.
Но, конечно, самыми драгоценными жемчужинами его искусства остаются для нас фотографии Алисы Лидделл, ставшей героиней его бессмертных сказок.
Фотографии Кэрролла ныне украшают многочисленные книги; они – достояние наше и истории; оборотная же сторона, изнанка этих триумфов запечатлена в «Гайавате-фотографе» – стихотворении оттого и смешном, что правдивом. Не помню, кто сказал: по-настоящему смешно только то, что правдиво.
В зазеркалье алисиных глаз
О некоторых лейтмотивах сказок Кэрролла
– Теперь, когда мы увидели друг друга, – сказал Единорог, – мы можем договориться: если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя.
– Согласна, – отвечала Алиса.
Сказка об Алисе, наверное, самая причудливая, самая запутанная сказка на свете. Разумеется, Кэрролл написал ее, чтобы развлечь и позабавить, как пишутся все сказки. Но случилось то, чего следовало ожидать. Из-за того, что за дело взялся прирожденный шифровальщик, гениальный игрок в прятки и загадки, оказалось, что детская книга стала для автора идеальной шкатулкой с секретом, в которую он спрятал другую книгу – взрослую, нагрузив причудливые эпизоды «Алисы» иносказательным и символическим смыслом.
Причем, как это бывает в стихах, многое сказалось у него ненароком, само собой. «Подумай о чем угодно, только не плачь! – Разве, когда думаешь, не плачешь? – Конечно, нет! Ведь невозможно делать две вещи сразу!»
Это совет, конечно, не вздорной Королевы, а того самого человека, кто сочинил и издал «Полуночные задачи, придуманные в часы бессонницы».
Или возьмем наивную уверенность Шалтая-Болтая, что он никогда не упадет со своей стены, что это «совершенно исключается». (Взрослый вариант: «Неужели я настоящий, // И действительно смерть придет?» – О. Мандельштам.) Или его еще более наивную уверенность в том, что если бы он все-таки упал («если» и «упал» подчеркиваются голосом, как чисто теоретические допущения), то Король лично обещал ему непременно и немедленно прислать всю свою королевскую конницу и всю свою королевскую рать, чтобы Шалтая-Болтая собрать.
«Да-да!.. Они меня живо соберут, можешь не сомневаться!»
Тут, пожалуй, Кэрролл замахивается на догмат о воскрешении плоти – не больше и не меньше.
А реверанс, который Алиса пробует сделать на лету, стремглав падая в бездонную пропасть? Этот жест в своей простоте и невинности затмит, пожалуй, и Камю, и всех других великих стоиков XX века.
Толковать Алису и выискивать в ней разные смыслы – занятие соблазнительное. Я тоже попробовал – не глядя в другие толкования, ab ovo. (Тут вышел невольный каламбур. В сущности, Шалтай-Болтай – это и есть яйцо (ovo), и его тема – тема бренности – не последняя в книге Кэрролла.)
Между прочим, Оден однажды заметил, что интерпретаций литературного произведения может быть сколько угодно, но хотя они не все равноценны, их можно выстроить по степени релевантности.
Назвать один, самый важный, смысл книги Кэрролла невозможно. Вернее было бы сравнить ее с симфонией, в которой несколько основных лейтмотивов. Попробуем разобраться с этой партитурой.
I. Время (Труба и метроном)
Один лейтмотив появляется у Кэрролла в самой увертюре сказки – отчетливо и громко, как голос трубы в оркестре. Помните: едва лишь Алиса задремала над книгой, как мимо нее прошмыгнул Белый Кролик, и первой фразой, которая донеслась до Алисы в ее необычном сне, было бормотание Кролика: «Батюшки-светы! Опаздываю, совсем опоздал!»
Это тема Времени, тема человеческой суеты. На какое такое свидание спешит Кролик – с Герцогиней ли, с Королевой – не так важно, потому что туда, куда мы все движемся, опоздать невозможно. Спешить и волноваться не стоит. Даже в колодце, во время ее неудержимого падения в бездну, у Алисы «достаточно времени, чтобы оглядеться вокруг и подумать, что случится дальше». Время относительно, утверждал Кэрролл задолго до Бергсона и Эйнштейна. Так же, как и движение.
They also serve who only stand and wait[133].Но Кролик бежит, то и дело сверяясь с часами в своем жилетном кармане. Вот что больше всего смешит Алису – часы Кролика. Впрочем, разве не смешон любой смертный, пытающийся управлять временем или свить себе гнездо в тени колышка на солнечном циферблате? Бег времени – вот что мучит художника, как и обычного человека; но у художника к страху смерти добавляется другое: «Мне уже тридцать лет, а еще ничего не сделано для бессмертия!» Дневники Кэрролла выдают, что и он часто думал, как Белый Кролик: «Oh dear! Oh dear! I shall be too late!»
II. Пространство (аккордеон)
Вслед за трубной темой Времени естественно вступает гармо-шечная тема Пространства, его растяжимости и относительности. Человек с самого начала стремится определить свое положение в мире. Единственная данная ему очевидность в том, что именно он – пуп Вселенной (заблуждение, которое рассеивается очень медленно).
После того как Everyman определился с центром и началом координат, следующее, что ему важно знать: мал он или велик? По отношению к космосу он согласен быть малым («микрокосмом»), но по отношению к другим людям – тут возникает проблема. Человек ищет свой настоящий масштаб; порой он съеживается в собственных глазах до полной незаметности и мизерности, порой, наоборот, вырастает до исполинских размеров. Особенно это относится к взрослению ребенка; но не только. Приступы самовозвеличения регулярно сменяются приступами самоуничижения: «Я царь, я раб, я червь, я Бог!».
Все это, на мой взгляд, символически отражено в «муках роста» Алисы (роста, так сказать, «вперед» и «назад»). Вторая глава кончается тем, что девочка, вытянувшись во всю свою непомерно выросшую длину, приникает одним глазом к дверце в прекрасный, но уже заповедный для нее сад. Эту картинку – по старинному, «эмблему» – соблазнительно истолковать как притчу об уходящем детстве, куда повзрослевшая Алиса никогда больше не сможет войти.
Впрочем, возможно и другое истолкование. Прекрасный сад – это Рай, Царствие Небесное, в которое взрослому человеку, обремененному накопленными грехами, войти труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Нужно быть совсем маленьким, чтобы туда проникнуть – «умалиться, как дитя», по слову Христа.
III. Поиск (струнные)
Дорогу в рай, дорогу к спасению из подземелья Алиса ищет добрую половину первой книги. Она все время напоминает себе о маленькой дверце в чудесный сад.
Но вот цель достигнута – почти случайно, чудом, и что же? Что находит Алиса там, за дверцей?
В общем, то же самое, к чему она уже привыкла во время своих скитаний – скорее Бедлам, чем Парадиз. Да и персонажи старые – Кролик, Герцогиня… Всех их пригласили для игры в крокет у Королевы. В этой заманчивой перспективе для них честь, долг и высшее удовлетворение.
Резонно предположить, что игра в крокет с Королевой – аллегория земного успеха. Или, может быть, наоборот? – модель загробной страны, где избранных ожидают какие-то невообразимые наслаждения. (Какие? Невообразимые! Вот почему вместо крокетного шара у них ежик, а вместо молотка – фламинго.)
Владыки этой загробной страны отнюдь не мудры и не всеведущи. Зато скоры на суд и расправу. Логики в их действиях мало. И свита у них соответствующая – покорная и безмозглая. В общем, второй Бедлам оказывается естественным продолжением первого.
Впрочем, читатель ничего другого и не ожидает. Как только Алиса устремилась в погоню за Белым Кроликом, она вступила на тропу, ведущую в дебри безумия.
«А почему ты думаешь, что я ненормальная?» – спрашивает Алиса Чеширского Кота.
«Потому что ты здесь. Иначе бы ты сюда не попала».
IV. Чудища (Деревянные духовые)
Стало традицией интерпретировать мир нонсенса, куда попадает Алиса, как альтернативу скучной и строгой викторианской рутине, как своего рода «праздник непослушания». И это, безусловно, так. Но по мере того, как однозначно негативное отношение к викторианской эпохе устаревает, становится видна и другая сторона медали. В необузданном «празднике непослушания» все явственнее слышны диссонансные, тревожные звуки; за калейдоскопом парадоксов и причуд мелькают темные, бесовские тени.
Чеширский Кот ошибался, записывая Алису в ненормальные. Она попала в Страну Чудес со стороны, как сказочный герой в царство мертвых, но сама она не принадлежит ему. Она единственная нормальная в этом мире безумцев, единственная константа (несмотря на свой переменный рост) в области умственных миражей и зыбучих трясин схоластики.
Персонажи, которых встречает Алиса под землей, – странные, непредсказуемые и скорее забавные, чем страшные. Многие из них вышли из успокоительно знакомых каждому англичанину детских стишков и считалок. И все-таки в определенном смысле они – чудовища. Ибо чудовищно самоуверенны, самонадеянны и своенравны.
У них гипертрофирована та самая «самость» (proprium), о которой Сведенборг говорит, что она несовместима с небесной любовью и, следовательно, враждебна всякой невинности. По сути своей, эти существа – те же «подпольные человеки» Достоевского, выше всего на свете ставящие свое «самостоятельное хотение», «свой каприз».
Вообще, поучительно было бы сопоставить «Алису в Подземелье» с «Записками из подполья». Тут не одно поверхностное сходство названий. Читая, например, про Мышь, встреченную Алисой в море слез, недаром вспоминаешь подпольного философа, который сам себя объявляет «мышью, а не человеком», причем мышью несчастной и на весь мир разобиженной. Своей раздражительностью и готовностью к скандалу многие персонажи Кэрролла напоминают героев Достоевского. Их логические парадоксы легко переходят в моральный релятивизм – по крайней мере, рыхлят для него почву.
Кэрролл уравновесил их Алисой, чтобы безудержное «хотение» не перешло в вакханалию вседозволенности. Говоря по-русски, чтобы ум не зашел за разум.
Только Алисе каким-то чудом удается высветлить тот кусок Подземелья ли, Зазеркалья, в котором она находится, усмирить чудовищ, которые там разрезвились, – если даже в решающий момент ей приходится прикрикнуть на них и замахать руками (как в конце первой части) или схватить за шиворот и встряхнуть как котенка (как она поступила с Черной Королевой).
V. Учение-мучение
Еще в самом начале Алиса замечает: «Что толку в книге, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?» Чего другого, а разговоров в сказках Кэрролла предостаточно. На страницах книги идет бесконечное словопрение.
Словопрение, сиречь диалог, – литературный жанр, с незапамятных времен использовавшийся для поучения и научения. Он сродни игре в загадки. Вот пример из средневековой литературы. Знаменитый педагог Каролингского возрождения Алкуин – своему высокородному ученику Пипину (будущему королю Франции Пи-пину Короткому):
Пипин Что такое буква? Алкуин Страж истории. Пипин Что такое слово? Алкуин Изменник души. Пипин Что розкдает слово? Алкуин Язык. Пипин Что такое язык? Алкуин Бич воздуха.Вот этот самый «бич воздуха» беспрерывно щелкает в книге Кэрролла. То повеет диалогами Платона, то перебранкой кукольных персонажей… У меня нет под рукой текстов Панча и Джуди, зато есть театр Петрушки, ведь они однотипны.
Доктор Эй, больной, вставай!
Петрушка Не могу.
Доктор Где в тебе болит?
Петрушка Голова.
Доктор Обрить догола, череп снять, кипятком ошпарить, поленом дров ударить, и будет голова здорова…. Позвольте за визит. Петрушка Что такое висит? Ничего не висит.
Доктор Я говорю – за визит, а не висит.
Петрушка Сколько?
Доктор Два рубля.
Петрушка Какие вам деньги – круглые, длинные или березовые?
Доктор Разве есть березовые деньги?
Петрушка Есть в лесу – сейчас принесу. (Уходит, приносит палку и бьет доктора.)
Итак, Кэрролл позаботился, чтобы его повествование было построено на «разговорах». Однако легко увидеть, что диалоги сказки резко ассиметричны. Большинство персонажей, которых Алиса встречает в Стране Чудес, принимают по отношению к ней высокомерно-снисходительный или придирчивый тон.
Синяя Гусеница: «Что ты выдумываешь? Да ты в своем уме?» Герцогиня: «Ты многого не видала. Это уж точно!» Мартовский заяц: «Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку?» Грифон: «Что такое читать, надеюсь, ты знаешь?» И так далее.
Все воспринимают Алису как ребенка. А с ребенком известно что надо делать – воспитывать его! Образней всего эту вечную мысль выразил Коллоди в «Пиноккио»: ребенок – полено, из которого надо вырубить человека (сколько бы он ни пищал и ни сопротивлялся).
Крайняя карикатура на воспитание – сцена с Герцогиней и ее младенцем. Кухарка, которая швыряет в ребенка «всем, что ни попало под руку», – это, конечно, аллегория школьного преподавания. Герцогиня, которая полагает, что так и нужно, – родительское отношение к такому образованию. Ему соответствуют и методы домашнего воспитания, идущие еще от царя Соломона. Их суть отлично выражена в колыбельной Герцогини: «Прижму поближе к сердцу, задам покруче перцу!» или, по-другому сказать: «Люблю его как душу, трясу его как грушу».
VI. Лейтмотив (флейта и треугольник)
Несмотря на все причудливые скерцо и шумные выходки отдельных инструментов, главный лейтмотив «Алисы» пронзительно печален. Это книга-прощание. Контраст возникает оттого, что Алиса вступает во взрослый мир греха, где все повинны смерти или казни бесконечного и бессмысленного повторения (безумное чаепитие), где сам язык (божественный Логос) подвергается порче и разложению.
Главный лейтмотив книги – прощание Алисы с детством – и прощание Кэрролла с Алисой – в их роковой взаимосвязи и неизбежности.
Последняя страница рукописи 1864 года с наклеенной Кэрроллом фотографией Алисы в овальной рамке, разделившей стоящие чуть выше слова «счастливые летние… деньки» – прощание.
Глава с Белым Рыцарем в «Зазеркалье», поминутно падающим со своего конька – не для того ли, чтобы еще больше разжалобить читателя? – душераздирающее прощание от первого до последнего слова.
– Конечно, я подожду, – сказала Алиса. Спасибо вам, что проводили… И за песню… Мне она очень понравилась.
– Надеюсь, – проговорил Рыцарь с сомнением. – Только ты почему-то не очень рыдала…
Может быть, и действительно Алиса не очень рыдала, находясь в нескольких шагах от восьмой линии, где она должна была превратиться в королеву, то есть во взрослую. Но так ли уж это будет великолепно, как она надеялась?
Мы смотрим на овальную фотографию Алисы в рукописи Кэрролла и не можем оторвать глаз; словно сама любовь глядит нам в душу – соединение силы и беззащитности, упрямства и нежности.
Такой же взгляд – и на другом знаменитом портрете Алисы в костюме нищенки. Все сказки об обиженных детях, о принцессах, выгнанных из дома злой мачехой, о стойких сердцах и исполненных клятвах вспоминаются при взгляде на этот постановочный портрет.
Не таковы фотографии взрослой Алисы: ни та, что снята самим Кэрроллом в 1970 году (в кресле, с книжкой на коленях), ни камероновские портреты на фоне деревьев с распущенными волосами. Как будто что-то навсегда погасло в этом лице. Fare thee well, and if for ever…
Но и Алиса навек запечатлела, «сфотографировала» своего создателя… отпечаток – вот он, в той же восьмой главе «Зазеркалья».
Из всех чудес, которые видела Алиса в своих странствиях по Зазеркалью, яснее всего она запомнила это. Многие годы спустя сцена эта так и стояла перед ней, словно это случилось только вчера: кроткие голубые глаза и мягкая улыбка Рыцаря, заходящее солнце, запутавшееся у него в волосах, ослепительный блеск доспехов. Конь, мирно щиплющий траву у ее ног, свесившиеся на шею Коня поводья и черная тень леса позади – она запомнила все до мельчайших подробностей…
Алиса Лидделл, одетая нищенкой. Фото Л. Кэрролла, 1859 г.
Давайте и мы запомним Льюиса Кэрролла таким же Белым Рыцарем в сияющих доспехах, провожающим Алису через лес, – хотя его нелепые идеи и кувырки с коня напоминают скорее о Дон-Кихоте, чем о каком-либо другом из известных нам героев. Ну что же, такой родословной можно не стыдиться. И как здорово, что в Алисиных глазах он навсегда остался не просто смешным чудаком, а настоящим рыцарем из легенды[134].
VII. Secunda (речитатив)
В стихотворном предисловии к Алисе («Июльский полдень золотой») Кэрролл называет трех сестер, которым он рассказывал сказку в лодке, по старшинству – Уной, Секундой и Терцией. То есть Первой, Второй и Третьей. Секундой он называл Алису. По латыни «secunda» – вторая, но также «благоприятная», «благожелательная», «счастливая»…
Алиса Лидделл. Фото Л. Кэрролла, 1858 г.
В музыке «секундой» называют интервал в два полутона, как между до и ре или ре и ми. В астрономии – краткий промежуток времени, одну восемь тысяч шестьсот сороковую часть суток.
Булочник и так далее, или как я переснарковал Снарка
Первым английским стихотворением, на котором я попробовал свои юные зубки переводчика – много-много лет назад, – было «Twinkle, twinkle little star, How I wonder what you are…» из школьного учебника для пятого класса. То самое пресловутое «твинкл-твинкл», которое Кэрролл переиначил в своей «Алисе»: «Twinkle, twinkle, little bat! How I wonder what you're at!» – «Мерцай, мерцай, летучий мышонок! Хотел бы я знать, что ты задумал».
Впрочем, имени Кэрролла мы тогда и не слыхивали. Об Алисе и Стране чудес я узнал только лет через двадцать, когда появился перевод Н. Я. Демуровой. По ее же антологии «Мир вверх тормашками», изданной у нас на английском языке, я познакомился со многими иными перлами британского юмора. Время от времени перечитывал ее и что-то для себя «выковыривал», – как в детском стишке:
Джеки-дружок Взял пирожок, Сунул в него свой пальчик, Изюминку съел И громко пропел: «Какой я хороший мальчик!»Прощание белого рыцаря с Алисой
Секунда, ты еще не перешла ручей… Остановись, замри в сиянии полудня – В ромашковом венке, в короне из лучей… Чем дальше от тебя, тем глуше и безлюдней. Не я ль тебя учил, как мертвая, стоять И, что там ни случись, терпеть, не шевелиться. Что вечности дала промчавшаяся рать? Разводы на стекле и смазанные лица. Чем дальше от тебя, тем злей и холодней. Не знаю, отчего. У Смерти много дней, У Времени – веков, у Зла – тысячелетий. А ты моей душе была родной сестрой, Моей зеркальною, послушливой мечтой, Второй из половин. Не первой и не третьей.Сначала я выковырял лимерики; было у меня одно такое запойное лето, когда я за пару недель сочинил несколько десятков лиме-риков. Были там и довольно точные переводы из Эдварда Лира, но со склонением на русский лад. Например известный лимерик «There was an Old Man on the rocks…» перевелся у меня так:
Жил на свете разумный супруг, Запиравший супругу в сундук На ее возражения Мягко, без раздражения Говорил он: «Пожалте в сундук».Другие лимерики возникали сами, когда я стал перебирать имена городов с корыстной целью их зарифмовать. Например:
Жил общественный деятель в Триполи, У которого волосы выпали. Он велел аккуратно Все их вставить обратно, Озадачив общественность Триполи.Сейчас лимерики сочиняют у нас даже малые дети, а тогда, в начале 1970-х, я был, представьте себе, первопроходцем и практически «первопечатником» (несколько лимериков удалось опубликовать в альманахе «Поэзия»). Игра в лимерики ужасно заразная – как семечки щелкать. Но вскоре некоторое однообразие этого занятия приелось. «Стоп! – сказал я себе. – Хорошенького понемножку». И закрыл тему. Рецидивы, правда, потом случались, но не опасные…
В той же книге «Мир вверх тормашками» я нашел еще кое-что для себя интересное, и еще… и через какое-то время остановился в задумчивости перед «Охотой на Снарка». В общем, попался на крючок, как и многие другие читатели, особенно с математическим креном. Мне показалось, что эта вещь – самая моя. Тем более, что когда-то я серьезно занимался теоретической физикой, а в ней математики не меньше, чем физики. И Льюис Кэрролл тоже был математиком. Кроме того, мне была близка его страсть ко всяким изобретениям – в детстве прочел всего Жюля Верна. В общем, я почувствовал в нем родственную душу.
Но как все-таки жаль, что наше знакомство произошло так поздно! В пятидесятые годы, когда я рос, никаких таких деликатесов просто не существовало: ни Винни Пуха, ни Карлсона, ни всего остального, что есть у нынешних ребят. Сказки Кэрролла я прочел, наверное, где-то ближе к тридцати годам. Потом не раз возвращался к нему – но все как-то отрывками и зигзагами… Детские книги надо читать в детстве, а взрослый торопится, спешит и через многое «перескакивает», – точь-в-точь, как Булочник в «Снарке»:
«Сорок лет уже прыгаю, боже ты мой!» – Всхлипнул Булочник, вынув платок.В детстве память – как губка; пусть даже особенной глубины детское понимание не достигает, это ничего, новые измерения потом добавятся, а покамест в голову прочно укладывается и фабула, и последовательность эпизодов, и кто что сказал… Но в детстве мне «Алисы» не досталось. И я смотрю на нее уже другими глазами. Как тот миллионер из бедняцкой семьи, у которого в детстве совсем не было игрушек и он завидовал детям, у которых они были; а потом он вырос, разбогател и заказал в магазине игрушек целую машину всякой всячины. Сидит в огромной комнате, окруженный всеми этими ребячьими сокровищами, и тихо грустит…
Но это все присказка. А рассказ мой будет про то, как я переводил «Охоту на Снарка». С чего всё началось? Шел семьдесят шестой или семьдесят седьмой год. Я жил тогда в Орехово-Борисово, и моим соседом был замечательный поэт и журналист, работавший в «Московском Комсомольце», Александр Аронов. Его не печатали, хотя в московских литературных кругах он был хорошо известен – и талантлив, между прочим, никак не меньше, чем иные гремевшие в то время поэты. Мы жили в соседних домах и виделись почти каждый день. И вот однажды, из-за какой-то лености или склонности к компанейству я обратился к нему с предложением перевести «Охоту на Снарка» вместе. Дескать, давай попробуем, вещь знаменитая! Он ответил: «Давай. В чем там дело?». Я ему объяснил и поставил первую задачу… А надо сказать, что английского языка Саша не знал – ну, ни вот столько. Зато он был умница и, между прочим, тоже математик по образованию. У него даже стихотворение есть про влюбленного математика. Не юмористическое – вроде того, что «люблю тебя, как катет гипотенузу», а просто хорошее. Начинается так:
Безобидный идиот Колет числа на простые. Ночь пройдет, звезда простынет, Все наличное пройдет…Это о разложении чисел на простые множители, если кто не догадался.
В общем, мы с Ароновым сели, и я поставил ему первую задачу: назвать по-русски главного персонажа, Белмана. Но обязательно на букву «б». Он сказал: «В чем проблема?» Не сходя с места, протянул руку, достал словарь Ожегова и стал читать вслух все слова подряд на букву «Б», поглядывая на меня. Так в кино у человека, который не может говорить, стараются узнать, кто преступник, перебирая буквы… И я слушал, как такой пострадавший свидетель на больничной койке, ожидающий нужной буквы, чтобы хлопнуть ресницами. Наконец, Саша дошел до слова: «Балабон». Тут я хлопнул ресницами и воскликнул: «Вот оно! То, что нам подходит. Пусть он будет Бала боном». Тут есть и звук колокольчика: дон-дин-дон! – и весь образ этого красноречивого предводителя.
Пару вечеров мы с Ароновым провели за придумыванием и обкаткой начальных строф, но, увы, Саше это довольно скоро надоело, так что доканчивал я главу в одиночку. Потом пошел дальше, перевел вторую главу… И сделал паузу. Знаете, не был уверен, что все идет должным образом. Задумался, как быть дальше, а главное, стал дожидаться нового прилива веселой энергии. Так получилось, что пауза составила около четырех лет.
Наконец в какой-то момент я почувствовал, что пора; сел и доперевел. Нужно было найти издательство. Это сделал Миша Петрунин, сын моего старого друга, энтузиаст и книжник. Сперва у него ничего не получалось, варианты срывались… и вдруг он мне говорит, что вот есть такое рижское издательство «Рукитис». Большие любители Снарка. Они и выпустили книгу. В выходных данных стоял тираж 400 тысяч экземпляров; первый завод был 100 тысяч. Не думаю, чтобы он потом допечатывался. Тем более время было такое – 1991 год; все мелькало, как в калейдоскопе, предприятия возникали и лопались каждый день. Но и сто тысяч экземпляров, полностью распроданных, – огромный тираж!
Тут надо сказать о художнике. Это был Леонид Тишков, муж писательницы Марины Москвиной; мы дружили семьями. Правда, на тот момент я знал лишь одну книжную работу Лени: изящный томик Козьмы Пруткова в издательстве «Книга». В сущности, Козьма Прутков – это и есть русский нонсенс. Алексей Константинович Толстой, я считаю, обладал комическим гением не меньшим, чем его английские современники; и кое в чем они двигались параллельно. Не верите? Возьмите, например, «Церемониал погребения тела в Бозе усопшего поручика…»:
Идет майорская Василиса, Несет тарелку, полную риса. Идет, повеся голову, Корш, Рыдает и фыркает, как Морж. Идет мокрая от слез курица, Не то смеется, не то хмурится.И так далее. Это главный прием лимериков Эдварда Лира: действия персонажей определяются рифмой: «Жил один старичок из Гонконга, // Танцевавший под музыку гонга», и так далее. Значит, вполне естественно, что у меня возникла мысль обратился к иллюстратору Козьмы Пруткова. Результат, правда, оказался неожиданным. Он нарисовал этакого авангардистского Снарка, пропустив его через свое тогдашнее увлечение «даблоидами» – ногообразными человекоподобными. Осовременил, одним словом.
Эффект был противоречивый. Одних он восхитил, других шокировал. К числу последних можно отнести и Иосифа Бродского, которому я подарил книгу во время нашей встречи в 1992 году. Вслух он ничего, так сказать, не выразил, но брови поднял выразительно. Отношение Бродского к авангардному искусству известно, оно выражено в его двустишии:
I went to a museum, saw art ad nauseam.Андрей Олеар энергично перевел эту эпиграмму, так что не решусь тут цитировать ее по-русски, – разве что внизу страницы мелким шрифтом[135]. Хотя нужно признать, что в своем роде рисунки Леонида Тишкова замечательны! И очень хороша точная и лаконичная работа дизайнера Сергея Стулова, который из этих рисунков сотворил макет книги. Что делает художник в своих иллюстрациях? Он снимает с персонажей их викторианскую одежду, – тем самым лишая их привязки к определенному месту и времени. Он как бы разъясняет читателю: действие в поэме происходит везде и всегда…
В тот самый момент, когда я заканчивал «Охоту на Снарка», в журнале «Иностранная литература» появился отрывок из перевода Владимира Орла. Там «Снарк» был намного сильнее русифицирован. Это проявилось уже в именах персонажей, склоненных на российский лад, и в самом названии вещи: «Охота на Ворчуна». Это меня, как ни странно, утешило: разница в подходах уменьшала степень конкуренции между двумя переводами. Они скорее дополняли друг друга.
Как известно, есть два метода перевода: «доместикация» и «фо-ринизация». Безусловно, мне хотелось воспроизвести викторианский колорит, английский стиль и юмор оригинала. Но в том-то и дело, что никакая английскость не зазвучит у нас хорошо без русской подмоги. Это доказывает опыт Маршака, Чуковского и всех поэтов, которые переводили поэзию нонсенса. Поэтому идея с самого начала была такая: держаться за оригинал, нарочно ничего не русифицировать; но если в рамках буквальности не получается достаточно остро, то прибегать к русскому ресурсу – и «усмешнять». Только очень осторожно – взвесив все «за» и «против».
Самое важное для меня было сохранить силу оригинала. Его афористическую и, я бы сказал, «щекотательную» силу. Задача обоюдоострая. Нужна свободная игра – но не уводящая от стиля Кэрролла. Нужно сохранить все ключевые, цитатные формулы – но так, чтобы они звучали естественно.
Вообще, вся суть перевода – в балансировке. Шаг вправо, шаг влево. Оборваться можно в любой момент. Правильно сформулировал Аркадий Гаврилов, переводчик Эмили Дикинсон, в своих посмертно опубликованных заметках: «Хороший перевод – всегда компромисс. Бескомпромиссные переводы – всегда плохие переводы».
В оригинале у Кэрролла каждая строфа просто отлетает от зубов, она закончена, как афоризм, отточена, как бритва! Конечно, по-русски так получалось отнюдь не всегда. Но когда получалось, это вознаграждало все тыканья и мыканья переводчика. Скажем, зачин третьей песни:
И катали его, щекотали его, Растирали виски винегретом, Тормошили, будили, в себя приводили Повидлом и добрым советом.Или вот это:
Ты с умом и со свечкой к нему подступай, С упованьем и с крепкой дубиной, Понижением акций ему угрожай И пленяй процветанья картиной,Впрочем, удачами могут похвалиться и другие переводчики «Снарка». Много лет назад, когда я только приступал, я думал, что один перевожу эту вещь, но оказалось, что это не совсем так. Сначала пришлось смириться, что есть два перевода поэмы: мой и В. Орла. Постепенно я привык к тому, что переводов на самом деле больше, что все новые и новые энтузиасты в разных концах России и за ее пределами обращаются к этой задаче. (Самый веселый из тех, что я читал, самый раскованный – перевод Сергея Шоргина.) Вообще, пора уже, кажется, писать поэму «Битва Снарков».
У всякого переводчика своя интерпретация поэмы. И у всякого читателя тоже. Как только не трактовали этот шедевр Кэрролла! Мартин Гарднер в комментариях к Снарку приводит многие, в том числе совсем неожиданные, версии. Разумеется, в основе любого хорошего стихотворения – не один мотив, а комбинация нескольких различных мотивов. На мой взгляд, «Охота на Снарка» почти исключение, потому что тут главный мотив забивает все остальные. Это мысль Экклезиаста: все в мире суета и ловля ветра. Переведите на язык нонсенса – получите «Охоту на Снарка». Можно еще добавить русскую пословицу: за что боролись, на то и напоролись.
Конечно, эта простая мысль расцвечена всевозможными арабесками ума. Играми – например, в букву «Б». Гамлетизм математика: он умножает «2b or not 2b» на восемь персонажей, начинающихся с этой буквы и на восемь глав, и у него получается:
(The Hunting of the Snark) = 2b-8-8.
Такая вот формула Снарка.
Не забыть бы сказать о Булочнике. Это самый близкий к автору персонаж – как Белый Рыцарь в «Алисе». Хотя и в другом роде. Булочник – это такой рассеянный «интеллигент» в решительной и целеустремленной ораве «снарколовов». Так я его и трактовал. На этом колесике, в сущности, и покатился мой перевод – на сходстве между эксцентричным английским персонажем – и советским, российским чудаком, не попадающим в ногу с общим маршем.
Вспомним Старичка из лимериков Эдварда Лира («There was an Old Man of…»), которого все гонят и лупят. У Хаксли есть замечательное эссе о вечном конфликте между этим персонажем и окружающими его здравомыслящими обывателями. Это те самые «они», которые преследуют «старичка из Гонконга»:
Но ему заявили: «Прекрати это – или Убирайся совсем из Гонконга!»Булочника, допустим, не лупят, но на него смотрят как на недотепу, все время покрикивают, а он пугается и старается как-то сгладить, пойти на мировую… В общем, это персонаж, явно окрашенный авторским лиризмом. Этот лиризм и дорог мне в «Охоте на Снарка», а отнюдь не один только абсурд и логические парадоксы.
Я долго думал, как передать подзаголовок поэмы An Agony in Eight Fits! Агония в восьми… – чего? «Fit» означает одновременно и «припадок, приступ», и «песня». «Агония в восьми приступах» звучит вроде бы неплохо, тут есть оба смысла – и медицинский, и литературный (автор восемь раз приступает к повествованию), но меня это не удовлетворило: слишком на поверхности лежит – значит, не то. Я искал слово, которое, с одной стороны, звучало бы торжественно, как «The Fit» в английских поэмах – «Песнь такая-то», а с другой стороны, чтобы оно сочеталось с «агонией», «болезнью» и «бредом». В конце концов я остановился, сам не знаю почему, на «воплях» – в них ведь тоже и мука, и вдохновение: «Агония в восьми воплях».
Книга была издана. И лишь после этого в статье В. Ходасевича «Поэзия Игната Лебядкина» я прочел: «лакей Видоплясов, идиот, кончающий сумасшедшим домом, норовит излить свою темную душу в каких-то поэтических упражнениях, которые он сам именует „воплями“».
Это из «Села Степанчикова», которое я когда-то читал, но очень давно. Видоплясова в памяти точно не осталось. А все-таки подсознание сработало. Статья Ходасевича, между прочим, и посвящена русской традиции абсурда. Чуть подальше он замечает, что «несоответствие формы и содержания в поэзии Лебядкина по существу трагично, хотя по внешности и пародийно». Таков и есть настоящий абсурд.
Кроме того, «Воплями», как известно, зовут почтеннейший наш журнал «Вопросы литературы». Не догадался я в свое время опубликовать «Снарка» в восьми «Воплях» – по главе в номере!
В первом русском издании «Охоты на Снарка» стояли два эпиграфа «Так что не спрашивай, любезный читатель, по ком звонит колокольчик Балабона (М. Гарднер)» и «Охота пуще неволи (Русская пословица)». Первый из них я взял из аннотированного «Снарка» Мартина Гарднера. Второй показался мне подходящим и к самой поэме, и к ее русскому переводу. Тут было, так сказать, упреждение возможной критики в приличествующем переводчику скромном тоне: мол, простите, люди добрые, за то, что поднял руку, но охота пуще неволи!
Разумеется, эта формула впрямую относится и к самой «Охоте на Снарка», к сути затеянного Балабоном предприятия. И к «неволе», между прочим, тоже. Тут стоит сказать, что подвигнул меня на перевод «Снарка» отчасти и вполне современный сатирический заряд поэмы. Настолько наши вожди были похожи на Балабона – тем же типом демагогии, той же бессмысленной картой, по которой они указывали нам, куда плыть:
На обыденных картах – слова, острова, Все сплелось, перепуталось – жуть! А на нашей, как в море, одна синева, Вот так карта – приятно взглянуть!Интересно, что я начал переводить поэму в брежневские времена, и мне казалось, что описание Балабона в начале второй главы один к одному подходит нашему генсеку:
Балабона судьба им послала сама: По осанке, по грации – лев; Вы бы в нем заподозрили бездну ума, В первый раз на него поглядев.Но пока я переводил, начальство поменялось, и оказалось, что следующий вождь опять как две капли воды похож на Балабона. И так далее, и так далее. Ситуации, описанные Кэрроллом, как выясняется, идеально подходят к любым временам, в том числе к сегодняшним. Он все предсказал. Чем дальше, тем «страныпе и страныпе». И все быстрее надо бежать, чтобы оставаться на месте.
Взять хотя бы сцену суда в «Вопле шестом»:
Ему снился таинственный сумрачный Суд И внушительный Снарк в парике И с моноклем в глазу, защищавший козу, Осквернившую воду в реке. Первым вышел Свидетель, и он подтвердил, Что артерия осквернена. И по просьбе Судьи зачитали статьи, По которым вменялась вина. Снарк (защитник) в конце выступления взмок, Говорил он четыре часа; Но никто из собравшихся так и не смог Догадаться, при чем тут коза. Обвиненье в измене легко доказать, Подстрекательство к бунту – труднее, Но уж в злостном банкротстве козу обвинять, Извините, совсем ахинея. Я согласен, что за оскверненье реки Кто-то должен быть призван к ответу, Но ведь надо учесть то, что алиби есть, А улик убедительных нету. Но Судья никогда не суммировал дел – Снарк был должен прийти на подмогу; Он так ловко суммировать дело сумел, Что и сам ужаснулся итогу.Это вам ничего не напоминает?
Вообще, мне кажется, что Англия в последнее время как бы сглаживается, а Россия, наоборот, становится все более английской, парадоксальной и эксцентричной. Этим, возможно, объясняется тот факт, что в Англии «Снарка» уже подзабывают, а у нас его популярность только растет.
В доказательство приведу такой эпизод. Некоторое время назад в «Литературном приложении к „Таймз“» я совершенно случайно наткнулся на статью, мимоходом упоминающую Белмана, который якобы «без слуху и без духу» исчезает в конце поэмы. Я тогда написал в редакцию заметку примерно такого содержания: «Уважаемый редактор, в статье критика такого-то было напечатано, что в конце поэмы „Охота на Снарка“ бесследно исчезает Белман, хотя на самом деле исчезает Булочник». И закончил патетическим восклицанием: «Увы, прошли те времена, когда литературные люди знали „Снарка“ наизусть!» И это мое письмо было опубликовано. С подписью: «Такой-то. Москва». Мне потом приходили письма от любителей Кэрролла, выражающие солидарность и благодарность…
Честно сказать, я до сих пор горжусь этой своей мини-публикацией. Это надо же, русский переводчик напомнил английскому критику, что на самом деле происходит в «Охоте на Снарка».
Льюис Кэрролл (1832–1898)
Гайавата-фотограф
Гайавата изловчился, Снял с плеча волшебный ящик Из дощечек дикой сливы – Гладких, струганых дощечек, Полированных искусно; Разложил, раскрыл, раздвинул Петли и соединенья, И составилась фигура Из квадратов и трапеций, Как чертеж для теоремы Из учебника Эвклида. Этот ящик непонятный Водрузил он на треногу, И семья, благоговейно Жаждавшая фотографий, На мгновение застыла Перед мудрым Гайаватой. Первым делом Гайавата Брал стеклянную пластинку И, коллодием покрывши, Погружал ее в лоханку С серебром азотнокислым На одну иль две минуты. Во-вторых, для проявленья Фотографий растворял он Пирогал, смешав искусно С уксусного кислотою И известной долей спирта. В третьих, брал для закрепленья Он раствор гипосульфита (Эти дикие названья Нелегко в строку ложатся, Но легли, в конечном счете). Вся семья поочередно Пред фотографом садилась, Каждый предлагал подсказки, Превосходные идеи И бесценные советы. Первым сел отец семейства, Предложил он сделать фоном Бархатную драпировку, Чтоб с классической колонны Складками на стол стекала, – Сам бы он сидел на стуле И сжимал одной рукою Некий свиток или карту, А другую бы небрежно На манер Наполеона Заложил за край жилета, Глядя вдаль упорным взором – Как поэт, проснувшись в полдень, В грезах смутных и виденьях Ждущий завтрака в постели, Или над волнами утка, Гибнущая в урагане. Замысел был грандиозен, Но увы, он шевельнулся: Нос, как видно, зачесался – Мудрый план пошел насмарку. Следующей смело вышла Мать почтенная семейства, Разодетая так дивно, Что не описать словами, В алый шелк, атлас и жемчуг – В точности императрица. Грациозно села боком И осклабилась жеманно, Сжав в руке букетик белый – Пышный, как кочан капустный. И пока ее снимали, Дама рта не закрывала: «Точно ли сижу я в профиль? Не поднять ли бутоньерку? Входит ли она в картину? Может быть, мне повернуться?» Непрерывно, как мартышка, Лопотала – и, конечно, Фотография пропала. Следующим сел сниматься Сын их, кембриджский студентус, Предложил он, чтоб в портрете Было больше плавных линий, Направляющих все взоры К средоточию картины – К золотой булавке, – эту Мысль у Раскина нашел он (Автора «Камней Венецьи», «Трех столпов архитектуры», «Современных живописцев» И других великих книжиц), Но, быть может, не вполне он Понял критика идею – В общем, так или иначе, Все окончилось прискорбно: Фотография не вышла. Старшей дочери желанье Было очень, очень скромным: Ей отобразить хотелось Образ «красоты в страданье»: Для того она старалась Левый глаз сильней прищурить, Правый закатить повыше – И придать губам и носу Жертвенное выраженье. Гайавата поначалу Хладнокровно не заметил Устремлений юной девы, Но к мольбам ее повторным Снизошел он, усмехнувшись, Закусив губу, промолвил: «Все равно!» – и не ошибся, Ибо снимок был испорчен. Так же или в том же роде Повезло и младшим дочкам: Снимки их равно не вышли, Хоть причины различались: Толстенькая, Гринни-хаха, Пред открытым объективом Тихо, немо хохотала, Просто корчилось от смеха; Тоненькая, Динни-вава, Беспричинно и беззвучно Сотрясалась от рыданий, – Снимки их не получились. Наконец, пред аппаратом Появился младший отрок; Мальчик прозывался Джоном, Но его шальные сестры «Маминым сынком» дразнили, Обзывали «мелкотою»; Был он так всклокочен дико, Лопоух, вертляв, нескладен, Непоседлив и испачкан, Что в сравнении с ужасной Фотографией мальчишки Остальные снимки были В чем-то даже и удачны. Наконец мой Гайавата Все семейство сгрудил в кучу (Молвить «в группу» было б мало), И последний общий снимок Удался каким-то чудом – Получились все похожи. Но, едва узрели фото, Принялись они браниться, И браниться, и ругаться: Дескать, хуже и гнуснее Фотографий не бывало, Что за лица – глупы, чванны, Злы, жеманны и надуты! Право, тот, кто нас не знает, Нас чудовищами счел бы! (С чем бы спорил Гайавата, Но, наверное, не с этим.) Голоса звенели разом, Громко, вразнобой, сердито – Словно вой собак бродячих – Или плач котов драчливых. Тут терпенье Гайаваты, Долгое его терпенье Неожиданно иссякло, И герой пустился в бегство. Я хотел бы вам поведать, Что ушел он тихо, чинно, В поэтическом раздумье, Как художник светотени. Но признаюсь откровенно: Отбыл он в ужасной спешке, Бормоча: «Будь я койотом, Если тут на миг останусь!» Быстро он упаковался, Быстро погрузил носильщик Груз дорожный на тележку, Быстро приобрел билет он, Моментально сел на поезд – Так отчалил Гайавата.Монолог Шалтая-Болтая
Я написал посланье львам: «О львы! повелеваю вам…» Но дерзко отвечали львы: «А вот и нет! А сами Вы…» Я снова им послал приказ, Я пригрозил им: «Вот я вас!» Я честно их предупредил: «Я вас могу, как крокодил…» Но львы не вняли мне опять: Они легли спокойно спать! Я в раж вошел! Я вышел из… Я карандаш от злости сгрыз! Я чайник полный вскипятил, Я штопор со стола схватил: «Ну, я вас разбужу теперь!» – И бросился с размаху в дверь… Но кто-то дверь заколдовал. Я тряс ее, лягал, толкал, Я тер ее разрыв-травой, Царапал, бился головой, Я дергал ключ, крутил замок… Я рвался к львам – но я не мог…Песня безумного садовника
Он думал – перед ним Жираф, Играющий в лото; Протер глаза, а перед ним – На Вешалке Пальто. «Нигде на свете, – он вздохнул, – Не ждет меня никто!» Он думал – на сковороде Готовая Треска; Протер глаза, а перед ним – Еловая Доска. «Тоска, – шепнул он, зарыдав, – Куда ни глянь, тоска!» Он думал, что на потолке Сидит Большой Паук; Протер глаза, а перед ним – Разгадка Всех Наук; «Учение, – подумал он, – Не стоит этих мук!» Он думал, что над ним кружит Могучий Альбатрос; Протер глаза, а это был Финансовый Вопрос. «Поклюй горошку, – он сказал, – Мне жаль тебя до слез!» Он думал, что его ждала Карета у Дверей; Протер глаза, а перед ним – Шесть Карт без козырей. «Как странно, – удивился он, – Что я не царь зверей!» Он думал – на него идет Свирепый Носорог; Протер глаза, а перед ним – С Микстурой Пузырек. «Куда вкусней, – подумал он, – Был бабушкин пирог!» Он думал – прыгает Студент В автобус на ходу; Протер глаза, а это был Хохлатый Какаду. «Поосторожней! – крикнул он, – Не попади в беду!» Он думал – перед ним Осел Играет на трубе; Протер глаза, а перед ним – Афиша на Столбе. «Пора домой, – подумал он, – Погодка так себе!» Он думал – перед ним Венок Величья и побед; Протер глаза, а это был Без ножки Табурет. «Все кончено! – воскликнул он. – Надежды больше нет!»Три барсука
Сидели на горе три барсука И грезили, витая в облаках, Внимая гулу бурь издалека И в ближней роще – щебетанью птах. Они могли бы так сидеть века В мечтах, в мечтах, в мечтах. Гуляли три Селедки под горой (Уж так оно нечаянно сошлось) И, заняты то песней, то игрой, На Барсуков поглядывали вкось: Авось, они заметят – под горой… Авось, авось, авось! Селедка-мать рыдала на заре На камне, слезы горькие лия; Барсук-отец стонал в своей норе И повторял: – Вернитесь, сыновья! Вам пирога с черникою отре – – жуя, – жуя, – жуя! И тетушке Селедке говорил: – Теперь нам с вами тосковать все дни, Век доживая из последних сил Без деток, без семьи и без родни; Остались мы – так, видно, Рок судил! – Одни, одни, одни! А дочери Селедкины втроем Плясали на лужайке краковяк И распевали песенки о том, Что жизнь – такой пленительный пустяк: – Давай, подруженька, еще споем – Пустяк, пустяк, пустяк! Был хор Селедок так громкоголос, Что Барсуков отвлек от их мечты. – А знает ли их Мать – вот в чем вопрос! – Где бродят дочери до темноты? Давно пора им накрутить всерьез Хвосты, хвосты, хвосты. А были эти трое Барсуков Неопытны, наивны, не хитры, Они не ели жирных Судаков, Не пробовали никогда икры; Они не знали даже, вкус каков – Селедочной икры! Но вера их в добро была крепка, И на ветвях затихло пенье птах, Когда к волнам сошли три Барсука, Неся беглянок бережно в зубах, Туда, где Мать Селедка их ждала В слезах, в слезах, в слезах!Охота на снарка Агония в восьми воплях (Отрывки)
Вопль первый
Высадка на берег
«Вот где водится Снарк! – возгласил Балабон, – Его логово тут, среди гор!» И матросов на берег высаживал он За ушко, а кого – за вихор. «Вот где водится Снарк! Не боясь, повторю: Пусть вам духу придаст эта весть! Вот где водится Снарк! В третий раз говорю. То, что трижды сказал, то и есть». Был отряд на подбор! Первым шел Билетер, Вслед за ним – с полотенцами Банщик, Барахольщик с багром, чтоб следить за добром, И Козы Отставной Барабанщик. Биллиардный Маэстро – отменный игрок – Мог любого обчистить до нитки; Но Банкир всю наличность убрал под замок, Чтобы как-то уменьшить убытки. Был меж ними Бобер, на уловки хитер, По канве вышивал он прекрасно И, по слухам, не раз их от гибели спас, Но вот как – совершенно неясно. Был там некто, забывший на суше свой зонт, Сухари и отборный изюм, Плащ, который был загодя отдан в ремонт, И практически новый костюм. Тридцать восемь тюков он на пристань привез, И на каждом – свой номер и вес; Но потом как-то выпустил этот вопрос И уплыл в путешествие без. Можно было б смириться с потерей плаща, Уповая на семь сюртуков И три пары штиблет; но, пропажу ища, Он забыл даже, кто он таков. Его звали: «Эй-там» или «Как-тебя-бишь»; Отзываться он сразу привык И на «Вот-тебе-на», и на «Вот-тебе-шиш», И на всякий внушительный крик. Ну а тем, кто любил выражаться точней, Он под кличкой иной был знаком, В кругу самом близком он звался «огрызком», В широких кругах – «дохляком». «И умом не Сократ, и лицом не Парис, – Отзывался о нем Балабон. – Но зато не боится он Снарков и крыс, Крепок волей и духом силен!» Он с гиенами шутки себе позволял, Взглядом пробуя их укорить, И однажды под лапу с медведем гулял, Чтобы как-то его подбодрить. Он как Булочник, в сущности, взят был на борт, Но позднее признаньем потряс, Что умеет он печь только Базельский торт, Но запаса к нему не запас. Их последний матрос, хоть и выглядел пнем, Это был интересный пенек: Он свихнулся на Снарке, и только на нем, Чем вниманье к себе и привлек. Это был Браконьер, но особых манер: Убивать он умел лишь бобров, Что и всплыло поздней, через несколько дней, Вдалеке от родных берегов. И вскричал Балабон, поражен, раздражен: «Но Бобер здесь один, а не пять! И притом это мой, совершенно ручной, Мне б его не хотелось терять». И, услышав известье, смутился Бобер, Как-то съежился сразу и скис, И обеими лапками слезы утер, И сказал: «Неприятный сюрприз!» Кто-то выдвинул робко отчаянный план: Рассадить их по двум кораблям. Но решительно не пожелал капитан Экипаж свой делить пополам. «И одним кораблем управлять нелегко, Целый день в колокольчик звеня, А с двумя (он сказал) не уплыть далеко, Нет уж, братцы, увольте меня!» Билетер предложил, чтобы панцирь грудной Раздобыл непременно Бобер И немедленно застраховался в одной Из надежных банкирских контор. А Банкир, положение дел оценя, Предложил то, что именно надо: Договор страхованья квартир от огня И на случай ущерба от града. И с того злополучного часа Бобер, Если он с Браконьером встречался, Беспричинно грустнел, отворачивал взор И, как девушка, скромно держался.Вопль второй
Речь капитана
Балабона судьба им послала сама: По осанке, по грации – лев! Вы бы в нем заподозрили бездну ума, В первый раз на него поглядев. Он с собою взял в плаванье Карту Морей, На которой земли – ни следа; И команда, с восторгом склонившись над ней, Дружным хором воскликнула: «Да!» Для чего, в самом деле, полюса, параллели, Зоны, тропики и зодиаки? И команда в ответ: «В жизни этого нет, Это – чисто условные знаки. На обыденных картах – слова, острова, Все сплелось, перепуталось – жуть! А на нашей, как в море, одна синева, Вот так карта – приятно взглянуть!» Да, приятно… Но вскоре после выхода в море Стало ясно, что их капитан Из моряцких наук знал единственный трюк – Балабонить на весь океан. И когда иногда, вдохновеньем бурля, Он кричал: «Заворачивай носом! Носом влево, а корпусом – право руля!» – Что прикажете делать матросам? Доводилось им плыть и кормою вперед, Что, по мненью бывалых людей, Характерно в условиях жарких широт Для снаркирующих кораблей. И притом Балабон (говорим не в упрек) Полагал, и уверен был даже, Что раз надо, к примеру, ему на восток, То и ветру, конечно, туда же. Наконец с корабля закричали: «Земля!» – И открылся им брег неизвестный. Но взглянув на пейзаж, приуныл экипаж: Всюду скалы, провалы и бездны. И, заметя броженье умов, Балабон Произнес утешительным тоном Каламбурчик, хранимый до черных времен: Экипаж отвечал только стоном. Он им рому налил своей щедрой рукой, Рассадил и призвал их к вниманью, И торжественно (дергая левой щекой) Обратился с докладом к собранью: «Цель близка, о сограждане! Очень близка!» (Все поежились, как от морозу. Впрочем, он заслужил два-три жидких хлопка, Разливая повторную дозу) «Много месяцев плыли мы, много недель, Нам бывало и мокро, и жарко, Но нигде не видали – ни разу досель! – Ни малейшего проблеска Снарка. Плыли много недель, много дней и ночей, Нам встречались и рифы, и мели; Но желанного Снарка, отрады очей, Созерцать не пришлось нам доселе. Так внемлите, друзья! Вам поведаю я Пять бесспорных и точных примет, По которым поймете – если только найдете, – Кто попался вам: Снарк или нет. Разберем по порядку. На вкус он не сладкий, Жестковат, но приятно хрустит, Словно новый сюртук, если в талии туг, – И слегка привиденьем разит. Он встает очень поздно. Так поздно встает (Важно помнить об этой примете), Что свой утренний чай на закате он пьет, А обедает он на рассвете. В-третьих, с юмором плохо. Ну, как вам сказать? Если шутку он где-то услышит, Как жучок, цепенеет, боится понять И четыре минуты не дышит. Он, в-четвертых, любитель купальных кабин И с собою их возит повсюду, Видя в них украшение гор и долин. (Я бы мог возразить, но не буду) В-пятых, гордость! А далее сделаем так: Разобьем их на несколько кучек И рассмотрим отдельно – Лохматых Кусак И отдельно – Усатых Колючек. Снарки, в общем, безвредны. Но есть среди них… (Тут оратор немного смутился) Есть и БУДЖУМЫ…» Булочник тихо поник И без чувств на траву повалился.Вопль шестой
Сон барабанщика
И со свечкой искали они, и с умом, С упованьем и крепкой дубиной, Понижением акций грозили притом И пленяли улыбкой невинной. И тогда Барабанщик (и Бывший Судья) Вздумал сном освежить свои силы, И возник перед ним из глубин забытья Давний образ, душе его милый. Ему снился таинственный сумрачный Суд И внушительный Снарк в парике И с моноклем в глазу, защищавший козу, Осквернившую воду в реке. Первым вышел Свидетель, и он подтвердил, Что артерия осквернена. И по просьбе Судьи зачитали статьи, По которым вменялась вина. Снарк (защитник) в конце выступления взмок, Говорил он четыре часа; Но никто из собравшихся так и не смог Догадаться, при чем тут коза. Впрочем, мненья присяжных сложились давно, Всяк отстаивал собственный взгляд, И решительно было ему все равно, Что коллеги его говорят. – Что за галиматья! – возмутился Судья. Снарк прервал его: – Суть не в названьях, Тут важнее, друзья, сто восьмая статья Уложения о наказаньях. Обвиненье в измене легко доказать, Подстрекательство к бунту – труднее, Но уж в злостном банкротстве козу обвинять, Извините, совсем ахинея. Я согласен, что за оскверненье реки Кто-то должен быть призван к ответу, Но ведь надо учесть то, что алиби есть, А улик убедительных нету. Господа! – тут он взглядом присяжных обвел. – Честь моей подзащитной всецело В вашей власти. Прошу обобщить протокол И на этом суммировать дело. Но Судья никогда не суммировал дел – Снарк был должен прийти на подмогу; Он так ловко суммировать дело сумел, Что и сам ужаснулся итогу. Нужно было вердикт огласить, но опять Оказалось Жюри в затрудненье: Слово было такое, что трудно понять, Где поставить на нем ударенье. Снарк был вынужден взять на себя этот труд, Но когда произнес он: ВИНОВЕН! – Стон пронесся по залу, и многие тут Повалились бесчувственней бревен. Приговор зачитал тоже Снарк – у Судьи Не хватило для этого духу Зал почти не дышал, не скрипели скамьи, Слышно было летящую муху. Приговор был: «Пожизненный каторжный срок, По отбытьи же оного – штраф». – Гип-ура! – раза три прокричало Жюри, И Судья отозвался: Пиф-паф! Но тюремщик, роняя слезу на паркет, Поуменыпил восторженность их, Сообщив, что козы уже несколько лет, К сожалению, нету в живых. Оскорбленный Судья, посмотрев на часы, Заседанье поспешно закрыл. Только Снарк, верный долгу защиты козы, Бушевал, и звенел, и грозил. Все сильней, все неистовей делался звон – Барабанщик очнулся в тоске: Над его головой бушевал Балабон Со звонком капитанским в руке. ‹…›Вопль восьмой
Исчезновение
И со свечкой искали они, и с умом, С упованьем и крепкой дубиной, Понижением акций грозили притом И пленяли улыбкой невинной. Из ущелий уже поползла темнота, Надо было спешить следотопам, И Бобер, опираясь на кончик хвоста, Поскакал кенгуриным галопом. – Тише! Кто-то кричит! – закричал Балабон. Кто-то машет нам шляпой своей. Это – Как Его Бишь, я клянусь, это он, Он до Снарка добрался, ей-ей! И они увидали: вдали, над горой, Он стоял средь клубящейся мглы, Беззаветный Дохляк – Неизвестный Герой На уступе отвесной скалы. Он стоял, горд и прям, словно Гиппопотам, Неподвижный на фоне небес, И внезапно (никто не поверил глазам) Прыгнул в пропасть, мелькнул и исчез. «Это Снарк!» – долетел к ним ликующий клик, Смелый зов, искушавший судьбу, Крик удачи и хохот… и вдруг, через миг, Ужасающий вопль: «Это – Бууу!..» И – молчанье! Иным показалось еще, Будто отзвук, похожий на «джум», Прошуршал и затих. Но, по мненью других, Это ветра послышался шум. Они долго искали вблизи и вдали, Проверяли все спуски и списки, Но от храброго Булочника не нашли Ни следа, ни платка, ни записки. Недопев до конца лебединый финал, Недовыпекши миру подарка, Он без слуху и духу внезапно пропал – Видно, Буджум ошибистей Снарка!Кит, который был Честертоном
Гилберт Кит Честертон (1874–1936) – один из лучших английских писателей XX века, автор романов и детективных рассказов, неподражаемый эссеист и отличный поэт. Честертон был человеком консервативных, порой утопических взглядов, он сильно сомневался в прогрессе человеческого рода, с ностальгией оглядываясь на баснословные времена «доброй старой Англии». Поэзия нонсенса была для него – так же, как и для Хилэра Беллока, с которым они много лет дружили, – жанром, в котором писатель дебютировал. Сборник «Шутки седобородых» (1895), вопреки своему названию, написан двадцатилетним автором и посвящен другу юности Эдмунду Клерихью Бентли, чье «среднее имя», между прочим, стало термином для обозначения особого жанра абсурдной поэзии «клерихью», который Бентли с Честертоном изобрели и в котором немало преуспели.
Многие из самых знаменитых стихов Честертона содержатся в тексте его романа «Перелетный кабак», откуда нами взята «Песня Квудля» (напомним, что Квудль – имя собаки). Юмористические стихотворения Честертона разнообразны по жанру – комические баллады, пародии, шутки, сатира, романтическая ирония, но уклон к безудержной фантазии, к нонсенсу для него весьма характерен. Недаром У. Х. Оден, впервые прочтя «Шутки седобородых», заметил, что они относятся к «лучшим, чистейшим образцам английской поэзии нонсенса», а несколько далее высказался еще сильнее: «Я не могу назвать ни одного комического стихотворения Честертона, которое не было бы своего рода шедевром» («triumphant success»).
Гилберт Кит Честертон. Фото Е. Х. Миллса, 1909 г.
Драгоценное свойство Честертона в том, что все в нем органично, серьезное является естественным продолжением смешного, и наоборот; поэтому у него могут быть стихи, начинающиеся как чистый нонсенс, а кончающиеся как нормальные романтические стихи. Ему не нужно надевать маску – он сам стал неким цельным, неразложимым характером: облик слился с сутью.
С годами фигура Честертона приобрела некоторую солидность, даже монументальность. Не изменились лишь его моментальная реакция, юмор, неистощимость экспромтов, стихотворных шуток. Он был также прекрасным рисовальщиком, иллюстрировавшим не только собственные стихи, но и некоторые книги своих друзей (например Беллока).
Кроме стихов в подборку Честертона включен и его научный» опус под названием «Помидор в прозе и в поэзии» – нонсенс в стихах и прозе, пародирующий и ученых критиков, и якобы цитируемых в сочинении авторов.
Гилберт Кит Честертон (1874–1936)
Посвящение к «шуткам седобородых» Э. К. Б.
Мы были не разлей вода, Два друга – я и он, Одну сигару мы вдвоем Курили с двух сторон. Одну лелеяли мечту, В два размышляя лба; Все было общее у нас – И шляпа, и судьба. Я помню жар его речей, Высокой страсти взлет, Когда сбивался галстук вбок, А фалды наперед, Я помню яростный порыв К свободе и к добру, Когда он от избытка чувств Катался по ковру. Но бури юности прошли Давно – увы и ах! – И вновь младенческий пушок У нас на головах. И вновь, хоть мы прочли с тобой Немало умных книг, Нам междометья в трудный час Приходят на язык. Что нам до куколок пустых! Не выжать из дурех Ни мысли путной, сколько им Не нажимай под вздох. Мы постарели, наконец, Пора и в детство впасть. Пускай запишут нас в шуты – Давай пошутим всласть! И если мир, как говорят, Раскрашенный фантом, Прельстимся яркостью даров И краску их лизнем! Давным-давно минули дни Унынья и тоски, Те прежние года, когда Мы были старики. Пусть ныне шустрый вундеркинд Вникает с головой В статистику и в мистику И в хаос биржевой. Анаши мысли, старина, Ребячески просты; Для счастья нужен мне пустяк – Вселенная и ты. Взгляни, как этот старый мир Необычайно прост, – Где солнца пышный каравай И хороводы звезд. Смелей же в пляс – и пусть из нас Посыплется песок, – В песочек славно поиграть В последний свой часок! Что, если завтра я умру? – Подумаешь, урон! Я слышу зов из облаков: «Малыш на свет рожден».Единение философа с природой
Люблю я в небе крошек-звезд Веселую возню; Равно и Солнце, и Луну Я высоко ценю. Ко мне являются на чай Деревья и Закат; И Ниагарский у меня Ночует водопад. Лев подтвердить со мною рад Исконное родство И разрешает Лёвой звать По-дружески его. Гиппопотам спешит в слезах Припасть ко мне на грудь. «Крепись, дружище, – я твержу, – Былого не вернуть!» Порой, гуляя между скал, Встречаю я Свинью – С улыбкой грустной и смешной, Похожей на мою. Гусь на меня косит зрачком, Точь-в-точь как я глазаст. Слон позаимствовал мой нос И вряд ли уж отдаст. Я знаю тайный сон Земли, Преданье Червяка; И дальний Зов, и первый Грех – Легенды и века. Мне мил не меньше, чем Жираф, Проныра Кашалот, Нет для меня дурных зверей И нет плохих погод. Люблю я в поле загорать; А если дождь и гром, Неплохо и на Бейкер-стрит Сидеть под фонарем. Зову я снег! – но если вдруг Увесистый снежок, С какого неба он упал, Ребятам невдомек. Зову я морось и туман: Меня не огорчит, Что кончик носа моего В дали туманной скрыт. Скорей сюда, огонь и гром, И дождь, и снег, и мрак: Сфотографируемся все В обнимочку – вот так!Песня Квудля[136]
О люди-чело веки, Несчастный, жалкий род! У вас носы – калеки, Они глухи навеки, Вам даже вонь аптеки Носов не прошибет. Вас выперли из рая, И, видно, потому Вам не понять, гуляя, Как пахнет ночь сырая, Когда из-за сарая Ты внюхаешься в тьму Прохладный запах влаги, Грозы летучей знак, Следы чужой дворняги И косточки, в овраге Зарытой, – вам, бедняги, Не различить никак. Дыханье зимней чащи, Любви укромный вздох, И запах зла грозящий, И утра дух пьянящий, – Все это, к славе вящей, Лишь нам дарует Бог. На том кончает Квудль Перечисленье благ. О люди, вам не худо ль? На что вам ваша удаль – На что вам ваша удаль Безносых бедолаг?Баллада журналистская
Средь вечных льдов, где царствует Борей, И в сумерках саванн, под вой шакала, На островах тропических морей Среди скучающего персонала, Куда б нога британца не ступала, В хибаре сельской и во храме муз, Под сводами таверны и вокзала Читают «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».[137] Так с незапамятных ведется дней: Еще Бенгалия не восставала, Еще не вышел в Ротшильды еврей И Патти на театре не блистала, А уж почтенный предок наш, бывало, Закурит трубку да закрутит ус И, погружаясь в новости Непала, Читает «Иллюстрейтед Лондон Ньюс». Так что же я сижу как дуралей И жду, ворочая мозгами вяло? Ведь мне необходимо поскорей Еще одну заметку для журнала Придумать. За задержку матерьяла Меня уволят – вот какой конфуз! А там найдут другого зубоскала Писать для «Иллюстрейтед Лондон Ньюс». Посылка Принц! Если вдруг хандра на вас напала, Бегите в кресло от пустых обуз, И запалив «гавану» для начала, Читайте «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».Вступление к роману Честертона «Человек, который был четвергом»
Другу[138] Клубились тучи, ветер выл, и мир дышал распадом В те дни, когда мы вышли в путь с неомраченным взглядом. Наука славила свой нуль, искусством правил бред; Лишь мы смеялись, как могли, по молодости лет. Уродливый пророков бал нас окружал тогда – Распутство без веселья и трусость без стыда. Казался проблеском во тьме лишь Уистлера вихор, Мужчины, как берет с пером, носили свой позор. Как осень, чахла жизнь, а смерть жужжала, как комар; Воистину был этот мир непоправимо стар. Они сумели исказить и самый скромный грех, Честь оказалась не в чести, – но, к счастью, не для всех. Пусть были мы глупы, слабы перед напором тьмы – Но черному Ваалу не поклонились мы, Ребячеством увлечены, мы строили с тобой Валы и башни из песка, чтоб задержать прибой. Мы скоморошили вовсю и, видно, неспроста: Когда молчат колокола, звенит колпак шута. Но мы сражались не одни, подняв на башне флаг, Гиганты брезжили меж туч и разгоняли мрак. Я вновь беру заветный том, я слышу дальний зов, Летящий с Поманока бурливых берегов; «Зеленая гвоздика» увяла вмиг, увы! – Когда пронесся ураган над листьями травы; И благодатно, и свежо, как в дождь синичья трель, Песнь Тузиталы разнеслась за тридевять земель. Так в сумерках синичья трель звенит издалека, В которой правда и мечта, отрада и тоска. Мы были юны, и Господь еще сподобил нас Узреть Республики триумф и обновленья час, И обретенный Град Души, в котором рабства нет, – Блаженны те, что в темноте уверовали в свет. То повесть миновавших дней, лишь ты поймешь один, Какой зиял пред нами ад, таивший яд и сплин, Каких он идолов рождал, давно разбитых в прах, Какие дьяволы на нас нагнать хотели страх. Кто это знает, как не ты, кто так меня поймет? Горяч был наших споров пыл, тяжел сомнений гнет, Сомненья гнали нас во тьму по улицам ночным; И лишь с рассветом в головах рассеивался дым. Мы, слава Богу, наконец пришли к простым вещам, Пустили корни – и стареть уже не страшно нам. Есть вера в жизни, есть семья, привычные труды; Нам есть о чем потолковать, но спорить нет нужды.Бестиарий для плохих детей
Хилэр Беллок (1870–1953) – сын француза и англичанки, родился во Франции, учился в Бирмингеме и Оксфорде. Он написал около ста пятидесяти книг – исторических, географических, биографических, беллетристических, но остался в английской литературе, прежде всего, как поэт, точнее, как автор нескольких сборников абсурдных стихов, написанных в стиле черного юмора и вредных советов. «В жилу» он попал уже в самом первом из них, называемом «Книга зверей для несносных детей» (1896). Вместе с продолжением, изданным четырьмя годами позже, «Еще одной книгой зверей для совсем никудышных детей», она стала классикой английской поэзии нонсенса.
Успех этих книг объясняется, главным образом, удачным сочетанием жанров. Описания животных с древних времен были весьма популярным, завлекательным чтением. Иллюминированные средневековые бестиарии привлекали и удивительными картинками, и чудесными описаниями, и нравоучительным, аллегорическим разъяснением описываемых чудес. Беллок соединил фантастичность с научным и деловым подходом, аллегоричность – с типично английским черным юмором. Скажем, чтобы проверить тезис о выборочной ядовитости аспидов, он советует купить в лавочке (желательно, со скидкой) „двух аспидов умеренной длины“ и дать им себя ужалить. По предположению автора, первый укус окажется безвредным, второй приведет к летальному исходу. Таким образом, результатом эксперимента окажется пятидесятипроцентная ядовитость аспидов, что и требовалось доказать. Или возьмем совет отваривать замороженных мамонтов непременно „в мундире“ – у него тоже имеется вполне логический резон. И так далее.
Среди стихотворений, русский перевод которых более или менее аккуратно следует за оригиналом, есть одно (про Микроба), в котором я позволил себе графически развить мысль Беллока о многохвосто-сти микробов. Стихи с тремя разными концовками – вещь довольно экстравагантная. В оправдание скажу, что так получилось без всякого моего сознательного умысла: стихотворение само этого захотело.
Хилэр Беллок (1870–1953)
Кит
Что делать с пойманным Китом? – В уху его не кинешь; А если кинешь, то потом Котел с плиты не сдвинешь. Но есть в Ките немалый плюс: Научно обработан, Он нам дает китовый ус И рыбий жир дает он. Конечно, больно наблюдать, Когда невинной крошке Противный этот жир глотать Велят по чайной ложке. Но, видно, так устроен мир (Ив том вина не наша), Что должно пить нам рыбий жир, Когда велит мамаша.Бегемот
Прохожий! Молча поклонись Печальному надгробью: ОН БЕГЕМОТА ЗАСТРЕЛИТЬ ХОТЕЛ УТИ – НОЙ ДРО – БЬЮГриф
Гриф за здоровьем не следит, Он ест когда попало, Вот у него и мрачный вид, И шея исхудала. Он и плешив, и мутноглаз – Несчастное созданье; Какой пример для всех для нас Блюсти режим питанья.Лев
Живущий в пустыне взлохмаченный лев Становится хмурым, три дня не поев. Пески оглашает он рыком дурным: Приличные дети не водятся с ним.Аспид
Наука о животных говорит: Отнюдь не каждый аспид ядовит – Смотря какой вам попадется вид. Не верите? Пожалуйста, проверьте: Купите где-нибудь за полцены Двух аспидов умеренной длины. Один из них укусит – хоть бы хны! И лишь второй ужалит вас до смерти.Скорпион
На вид Скорпион далеко не пригож И любит кусаться некстати. Обидно, когда его ночью найдешь В своей холостяцкой кровати!Лягушка
Всегда отменно вежлив будь С лягушечкою кроткой, Не называй ее отнюдь «Уродкой – бегемоткой», Ни «плюхом-брюхом-в-глухомань», Ни «квинтер-финтер-жабой»; Насмешкой чувств ее не рань, Души не окорябай. Но пониманием согрей, Раскрой ей сердце шире – Ведь для того, кто верен ей, Нет друга преданней, нежней И благодарней в мире!Замороженный мамонт
Их доныне находят в тайге иногда, Вмерзших в глыбы прозрачные вечного льда На пространствах Восточной Сибири. Как известно кочующим там дикарям, Замороженных мамонтов можно «ням-ням», Лишь котел надо выбрать пошире. Важно, чтобы никто из туземцев тайком Не прельстился еще не готовым куском – Потому-то в котел их кладут целиком И отваривают в мундире.Микроб[139]
Не будь он так вертляв и мал, я бы для вас его поймал. И вы бы увидали сами микробью мордочку с усами, узор пятнистый вдоль хребта, шесть быстрых ног и три хвоста:Часть IV На рубеже веков
«Парень из Шропшира» и его тихие песни
Старался студент, но зачета не сдал, Искусств бакалавром, увы, он не стал. Аой! Служил регистратор в патентном бюро, Служил, но порою чесалось перо. Аой! Сидел в кабинете ученый сухарь, Он душу отдал за латинский словарь. Аой!I
В этих эпических строках – главные вехи творческой карьеры А. Е. Хаусмана (1859–1936). Честолюбивый и способный студент, он, действительно, умудрился провалиться на заключительном экзамене и должен был пойти на службу Но по вечерам после своих патентных трудов Хаусман отправлялся в Британский музей и упорно работал над латинскими текстами и комментариями. Его публикации вызывали такое уважение в ученом мире, что в 1891 году он был, несмотря на отсутствие степеней и званий, выбран заведующим латинской кафедрой Лондонского университета, а еще через десять лет, в 1901 году, приглашен возглавить кафедру в Кембридже.
Альфред Хаусман. Фрэнсис Додд, 1926 г.
Ровно посередине между этими событиями, в 1896 году, вышел первый сборник стихов Хаусмана «Парень из Шропшира». Лирический герой этих стихов – абсолютная противоположность тому ученому латинисту – джентльмену в цилиндре, сюртуке, полосатых брюках и с зонтиком, которого мы знаем из описаний современников. Это – простой деревенский парень, который гуляет с друзьями, сидит в таверне за кружкой эля, горюет об улетающих годах и сетует на суровые законы жизни, печально умиляясь ее недолговечной прелести. Иногда, для разнообразия, его вешают или забирают в солдаты.
Одну из первых рецензий на книгу Хаусмана опубликовала Эдит Несбит – та самая знаменитая сказочница, чьими книгами до сих пор зачитываются дети в Англии (впрочем, тогда они еще не были написаны). Несбит горячо приветствовала явление нового, необычного таланта.
«Он умеет производить максимальный эффект минимальными средствами – черта великой поэзии… Лучшие его строки поражают точностью, «неизбежностью» выражения. Это не та поэзия, которая берет сердца читателей приступом, как поэзия Суинберна, вряд ли ее станут цитировать политики или возникнут общества толкователей Хаусмана. Рассчитывать на мгновенное и бурное признание этим стихам не стоит. Но они пробьются – медленно и верно».
Проницательные слова, сбывшиеся почти полностью, за исключением пророчества об обществах Хаусмана. Такие общества все-таки возникли – и в Англии, и в Америке.
II
Хочется вспомнить еще одну рецензию. Опубликованная анонимно в еженедельнике «Новое время» (The New Age), она подчеркивала самобытное направление автора – поперек эпигонским тенденциям времени.
«Этот голос, может быть, не слишком вдохновляет. Он не увлекает нас в будущее, не будит славу минувшего и не воспевает настоящее. Но он говорит с такой искренней, задушевной силой, какая встречается из современных поэтов, может быть, у одного только Гейне»[140].
Видимая простота и близость к народным песенным формам (в данном случае, к английской балладе), действительно сближает Хаусмана с Гейне. Роднит их также неожиданный простодушный юмор и скептическое отношение к небесным авторитетам. Так, в стихотворении о холодной весне герой Хаусмана возмущается: «Что за негодяй / Нам вместо жизни подложил свинью?»
Там, наверху – разбойник или тать? Бесстыдство, кто бы ни был он таков, Последнего веселья нас лишать, Отправленных за смертью дураков.Атеизм Хаусмана сочетается с суровым стоицизмом древних. «Помни, только лишь день погаснет краткий, / Бесконечную ночь нам спать придется», – эти слова Катулла, кажется, навсегда отпечатаны в сердце «парня из Шропшира». Оттого-то ему приходится смирить и свою гордость, и непомерные желания:
Пей, брат, и небо подпирай плечом.
Искать причину хаусмановской меланхолии в его подавленной гомосексуальности, как это делает, например, Оден и другие, по-моему, также малопродуктивно, как объяснять сходными причинами мировоззрение самого автора «Щита Ахилла» и «Музея изящных искусств». Или – если взять русского современника Хаусмана – так же бессмысленно, как сводить поэтическую тоску Иннокентия Аннен-ского к какому-нибудь стандартному набору фрейдистских причин.
Параллель «Хаусман – Анненский» представляется мне, кстати говоря, довольно интересной. Оба сочетали в себе поэта и ученого, оба были однолюбами в своем увлечении античностью, всю жизнь углубленно занимаясь: Анненский – Еврипидом, Хаусман – римским поэтом Манилием. Оба скупо печатались при жизни. У Хаусмана вторая книга «Последние стихотворения» (1922) вышла через двадцать шесть лет после «Парня из Шропшира», а третья – «Еще стихи» – через несколько месяцев после его смерти. Анненский издал свои «Тихие песни» (1904) позже, чем Хаусман, и также немного не дожил до выхода подготовленного им последнего сборника «Кипарисовый ларец» (1910).
И Хаусман, и Анненский были одиночками в литературе, не смыкаясь ни с какими группами, якобы отставая от своего времени (как говорили о Хаусмане) либо забегая вперед (как порой говорят об Анненском). Оба с трудом укладываются в прокрустово ложе критики, оставаясь до сих пор неполно или неверно понятыми.
Конечно, всякое сравнение хромает, но истинно хорошее сравнение подобно сороконожке, которой хромота даже на две-три ноги – не слишком вредит.
III
Вот еще одна хромающая нога сравнения. Анненский был переводчиком Еврипида, а Хаусман – лишь текстологом. О самом Манилии, авторе длинной дидактической поэмы «Астрономия», он однажды обмолвился, что тот пишет об астрономии и астрологии, не понимая ни того, ни другого. Но как увлекателен может быть Ха-усман, говоря о таком, кажется, сухом предмете, как текстология! Конечно, это говорит поэт:
«Текстолог – не Ньютон, исследующий движение планет, он скорее – собака, ищущая блох. Если бы собака искала блох согласно математическим принципам, основываясь на статистических данных о территориях и населении, она никогда не поймала бы ни одной блохи, разве что по случайности. Блохи требуют к себе индивидуального подхода; каждая проблема, возникающая перед текстологом, должна рассматриваться как единственная в своем роде.
Таким образом, текстология не имеет отношения ни к мистике, ни к математике; ее нельзя выучить, как катехизис или таблицу умножения. Эта наука – или это искусство – требуют от изучающего больше, чем одной способности к учению. Точнее сказать, им вовсе нельзя научиться: criticus nascitur, поп fit»[141].
Тут, разумеется, переделано известное латинское изречение о поэте. Текстологами тоже «не становятся, а рождаются».
Как мы видим, Хаусман был человеком острого и парадоксального ума. Почему же он отвергал метафизическую поэзию, когда в 1920-х годах она, с легкой руки Т. С. Элиота, вошла в моду? Да потому и отвергал, что метафизический метод, как показали бесчисленные подражатели Донна в XVII и в XX веке, легко кодируется и, как следствие, имитируется. Это опять способ, как «выучиться на поэта». Но поэтами не становятся – poetae nascuntur.
Кто бы подумал, что стихи Хаусмана окажутся и в антологиях английского нонсенса! Например такое:
Глубокие мысли на берегу моря
О грозная громада! Ты – омовенье взгляда. Узрев тебя однажды, Сказал я: «Волны влажны!» Сказал – и удивился, Потрогал – убедился. Кто скажет: ты сухое, Тот лжец, и все такое. О Море! Слякоть мира! – Что в нем еще так сыро? Кому достанет духа Хлябь вычерпать досуха? О влажная стихия! Другие все – сухие, Лишь ты одна – сырая, Тебя кричу «ура!» я. «Ура!» – кричу протяжно. Прощай же, море влажно!Эта пародия весьма поучительна для переводчика; она еще раз напоминает, что поэзия Хаусмана держится на тончайших вещах: не заметив их, тотчас угрязнешь в бессмыслице (что часто и происходит). Хаусман бывает прост, но никогда не банален. Банальность – бесформенная масса, которую можно перебрасывать вилами туда-сюда; но каждое стихотворение Хаусмана – виртуозная конструкция, которая при неловком прикосновении рассыпается как карточный домик. Есть вещи, которые, по собственной оценке автора, «держатся на самой грани абсурда; чуть заступи – и всё рухнет»[142].
Иногда смысл стихотворения зависит – как жизнь Кащея от крохотной иголки – от одного-единственного слова. В стихотворении о разлуке с юностью: «Into ту heart an air that kills…» – это ветер-убийца в первой строке. Откуда он залетел, Бог весть – не из стихов ли Эдгара По: «Из-за тучи холодный ветер подул и убил мою Аннабел Ли»? Но именно это необъяснимое «an air that kills» в условно-традиционном сюжете застревает, как заноза, в уме читателя.
IV
В своей знаменитой лекции «Об имени и природе поэзии» Хаусман проводит резкое разделение между риторикой и поэзией. Все, что нарочито и обдумано, логично и изящно, он оставляет за скобками своего ощущения поэзии. Так, в XVIII веке, на его взгляд, были лишь четыре истинных поэта: Коллинз, Кристофер Смарт, Купер и Блейк – все четверо, как он подчеркивает, «не в своем уме» («mad»). И подкрепляет свой вывод авторитетом Платона: напрасно тот, в чьей душе нет «мусикийского безумия», кто рассчитывает лишь на умение, будет стучаться в дверь поэзии.
Хаусман говорит: для меня это вещь скорее физическая, чем интеллектуальная; я не более способен дать определение поэзии, чем терьер – определение крысы, но покажите терьеру крысу – и, будьте уверены, он не ошибется. Так и я узнаю поэзию по своим особым признакам. Один из них описан в Книге Иова: «И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне». «Опыт научил меня, – продолжает Хаусман, – когда я бреюсь по утрам, не отвлекаться и, пуще всего, не вспоминать никаких стихов, ибо, стоит какой-нибудь поэтической строке прозвучать в моей памяти, как волосы у меня на лице встают твердой щетиной и бритва перестает их брать».
Другие признаки, упоминаемые Хаусманом, – озноб, пробегающий по спине, комок в горле, слезы, навертывающиеся на глаза, и прочее. Почти так, как описан аффект любви у Сафо: жар, холод, мрак, застилающий зренье.
По-русски Хаусмана «ухватить» дьявольски трудно: главные его приемы тонки и трудноуловимы. Требуется, прежде всего, перевести непереводимое. А это значит еще дальше уходить от буквальности в пространство интуиции. Может быть, как в той буддистской притче, черный конь по пути превратится в белую кобылу. Но лишь такой перевод способен «поднять волоса» читателя. И только эта кобыла обскачет всех лошадей в Поднебесной.
Первые переводы Хаусмана на русский язык появились, сколько мне известно, в 1937 году в «Антологии новой английской поэзии». Из одиннадцати стихотворений признать удачными нельзя ни одного. В томе «Европейской поэзии XIX века» серии «БВЛ» (1977) Хаусман дан в версиях Бориса Слуцкого; тут переводчик местами нащупывает какие-то замечательные вещи. Например:
Отмыла куст и облака Проточная вода, Земли заманчивей река – Мне хочется туда. Но там, где речка ток струит, В лазоревой волне Печальный дурачок стоит: Он просится ко мне.Альфред Хаусман просится к русскому читателю, но настоящая встреча с ним еще не произошла. Может быть, это и хорошо. Мало есть английских поэтов, которых так легко начисто погубить в переводе, как Хаусмана. Ничего, он ждал своего часа сто лет и еще подождет. Зато сохранней будет.
Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936)
«Из тьмы ночей, из дали…»
Из тьмы ночей, из дали О четырех ветрах Примчало и слепило Мой ждавший жизни прах. Вот вновь они подуют И в небо пыль взметут… Держи же эту руку, Когда еще я тут. Скажи мне, что с тобою И в чем твоя печаль, – Пока, развеян ветром, Я не унесся вдаль.«Нет, я не первый здесь пострел…»
Нет, я не первый здесь пострел, Кто жаждал пылко, да не смел, Горел и трясся до утра, – История, как мир, стара. Не я один дрожал дрожмя, Из пламени да в полымя Бросаясь головой вперед – Из боли в страх, из жара в лед. Другие были… Ну и пусть. И я, как все они, пробьюсь К своей постели земляной, Где не страшны ни хлад, ни зной. Пока же ветерок могил Мой лоб еще не остудил, То жар, то хлад знобят мне грудь, И душной ночью не уснуть.День битвы
Я слышу, как поют рожки, Они зовут: «Вперед! В штыки!» А пушки басом говорят: «Спасай башку! Беги, солдат!» Я б деру дал, рожкам назло, Когда бы это впрямь спасло: От пули пасть или штыка – Потеха, брат, невелика. Да только далеко не сбечь – Так или этак в землю лечь, И неохота, чтоб родня, Как труса, помнила меня. Выходит, выбор не велик: Шагай и бейся штык на штык Иль пулю получи в башку. Так мне и надо, дураку.«Каштан роняет свечи, и цветы…»
Каштан роняет свечи, и цветы Боярышника по ветру летят… То дождь хлестнет в окно из темноты, То хлопнет дверь; придвинь мне кружку, брат. Не так уж много вёсен нам дано, Чтоб этот май теперь у нас отнять; Год минет, и весна вернется, но – Увы, уже нам будет двадцать пять. Нет, мы не первые, как ни считай, Сидим и пьем, кляня судьбу свою, И дождь, и холод… Что за негодяй Нам вместо жизни подложил свинью! Там, наверху – разбойник или тать? Бесстыдство, кто бы ни был он таков, Последних утешений нас лишать, Отправленных за смертью дураков. Бесстыдство… но подвинь еще одну Мне кружку, брат; ведь мы не короли, А требуем – достаньте нам луну, И каждый думает – он пуп земли. Сейчас нас гром в дугу грозит согнуть, И кажется – невзгод не о бороть; Но завтра боль войдет в другую грудь, В другую душу и в другую плоть. Мы вечностью на скорбь осуждены, А вечности все в мире нипочем. Терпите, праха гордые сыны. Пей, брат, и небо подпирай плечом.«Снова ветер подул из далекой страны…»
Снова ветер подул из далекой страны, Словно грудь мне стрелой просквозили; Что за горы знакомые в дымке видны, Хутора и высокие шпили? Это счастья былого утраченный дол, Та страна, из которой когда-то Я по залитой золотом тропке ушел И куда больше нет мне возврата.«В темноту и в туман отплывает паром…»
В темноту и в туман отплывает паром, Хрипло птицы вдогон прокричали… Кто, ты думаешь, встретит тебя на другом Берегу, на летейском причале? Был да сплыл жалкий раб, твой покорный лакей, Не рассчитывай, деспот мой милый, Вновь найти его в граде свободных людей, В справедливой стране за могилой.Томас Гарди (1840–1928)
Родился в графстве Дорсет (на юго-западе Англии) в семье каменщика. Шестнадцати лет поступил работать помощником архитектора и несколько лет усиленно изучал архитектуру. В 1862 году начинается его литературная деятельность. На протяжении почти полувека Гарди один за другим печатает свои романы, среди которых – такие знаменитые, как «Мэр Кэстербриджа» (1886) и «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891). Свои стихи Гарди начал публиковать лишь на склоне лет. Острая ностальгия по прошлому, смиряемая разумом, – доминанта лучших его стихотворений. Интересно английское эссе Бродского, посвященное Томасу Гарди, в переводе оно называется несколько неловко: «С любовью к неодушевленному».
Томас Гарди. Фото начала XX в.
Дрозд в сумерках
Томился за калиткой лес От холода и тьмы, Был отуманен взор небес Опивками зимы. Как порванные струны лир, Дрожали прутья крон. В дома забился целый мир. Ушел в тепло и сон. Я видел Века мертвый лик В чертах земли нагой, Я слышал ветра скорбный крик И плач за упокой. Казалось, мир устал, как я, И пыл его потух, И выдохся из бытия Животворящий дух. Но вдруг безлиственный провал Шальную песнь исторг, Стон ликованья в ней звучал, Немыслимый восторг: То дряхлый дрозд, напыжив грудь, Взъерошившись, как в бой, Решился вызов свой швырнуть Растущей мгле ночной. Так мало было в этот час, Когда земля мертва, Резонов, чтоб впадать в экстаз, Причин для торжества, – Что я подумал: все же есть В той песне о весне Какая-то Надежды весть, Неведомая мне.Возле Ланивета. 1872 год
Указательный столб там стоял на пригорке крутом – Неказист, невысок. Где мы с ней задержались немного, осилив подъем, На распутье вечерних дорог. Прислонившись к столбу, она локти назад отвела, Чтоб поглубже вздохнуть, И на стрелки столба оперла их – и так замерла, Уронив подбородок на грудь. Силуэт ее белый казался с распятием схож В сизых сумерках дня. «О, не надо!» – вскричал я, почуяв, как странная дрожь До костей пробирает меня. Через силу очнулась, как будто от страшного сна, Огляделась кругом: «Что за блажь на меня накатила, – сказала она. – Ну довольно, пойдем!» И пошли мы безмолвно в закатной густеющей тьме – Все вперед и вперед. И, оглядываясь, различали тот столб на холме Среди голых болот. Но в ее учащенном дыханье таился испуг, Искушавший судьбу: «Я увидела тень на земле, и почудилось вдруг, Что меня пригвоздили к столбу». «Чепуха! – я воскликнул. – К чему озираться назад? Не про нас эта честь». «Может быть, – она молвила, – телом никто не распят, Но душою распятые – есть». И опять побрели мы сквозь сумерки и времена, Прозревая за тьмой Муку крестную, что на себя примеряла она – Так давно… Боже мой!После меня
Когда Время за гостем несмелым запрет ворота И порывистый май, как птенец, молодою листвою заплещет, Шелковистой и свежей, – вздохнут ли соседи тогда, Вспомнив: «Он, как никто, замечал и ценил эти вещи»? Если в сумерках это случится, когда над горой Припозднивший ястреб, как тень, пролетит невесомо, Может, кто-то подумает, глядючи в сумрак сырой: «Это зрелище было ушедшему тоже знакомо». Если это случится в мотыльковую, теплую ночь, Когда ежик бредет своей лунной опасной дорогой, Может, кто-нибудь скажет: «Он жалел и желал бы помочь Каждой крохотной жизни на свете; но мог он не много». Если слух долетит до друзей, когда будут они На декабрьские звезды с веранды своей любоваться, Пусть припомнят, на эти бессчетные глядя огни: «Вот кто вправду умел на земле чудесам удивляться». И когда колокольчика отзвук, прощально звеня, Смолкнет, ветром оборван, и снова вдали затрепещет, Словно это другой колокольчик, – скажет ли кто про меня: «Он любил и умел замечать подобные вещи»?От Бэрваша до Баттла: (тропой киплинга по волшебным холмам)
Была у меня такая авантюрная мысль: прежде чем начать переводить книгу о Паке с Волшебных холмов, побывать в тех краях, которые описывает Киплинг. Это окрестности деревушки Бэрваш в графстве Сассекс. Там сейчас дом-музей, и хотя времена изменились, но места по-прежнему захолустные, глухие, и кто знает: вдруг и мне повезет встретиться с этим старым английским лешим, шутником и проказником Паком? Почему бы и нет! Разве мы не сроднились с ним, хотя бы отчасти, еще пятнадцать лет назад, когда я перевел балладу про Робина Весельчака, – а это и есть одно из прозвищ Пака. В стихах он говорит от первого лица, похваляясь своей ловкостью и важным положением в волшебном мире духов:
Князь Оберон – хозяин мой, Страны чудес верховный маг. В дозор ночной, в полет шальной Я послан, Робин-весельчак. Ну, кутерьму Я подыму! Потеха выйдет неплоха! Куда хочу, Туда лечу, И хохочу я: – Ха-ха-ха!Книга Киплинга начинается с того, что Дан и Уна дают спектакль по шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь», причем Дан играет Пака. И настоящий Пак не выдерживает, является к ним, чтобы показать, как надо исполнять его роль. Может быть, если я продекламирую балладу о Робине там же, у склона Волшебного холма, он снова вылезет, чтобы меня поправить? Как знать! Один полководец говорил: сперва ввяжемся в бой, а там посмотрим.
Конечно, я все заранее изучил по карте: где какие холмы и горы, в какой стороне море и древний замок Пэвенси, и как далеко от Бэрваша до поля битвы при Гастингсе, откуда нормандский воин сэр Ричард с саксонцем Хью вместе добирались до его поместья, причем раненый Хью шел пешком, а сэр Ричард ехал верхом. Они шли полдня через холмы и долины, днем и в лесной темноте, и лишь к полуночи добрались до цели. Приложив линейку к карте и учтя масштаб, я определил, что это не больше 15 миль, следовательно, если я буду проходить в час, скажем, по три мили, то я могу одолеть это расстояние за 5 часов. Мне казалось, что я обязан оттопать собственными ногами путь Ричарда и Хью, – лишь тогда мне по-настоящему откроется дух этой книги, дух славной истории Англии.
Бейтманс-Хаус, дом Киплинга в графстве Сассекс.
Итак, я наметил себе – после киплин-говского музея, как бы «на закуску» – пешеходную прогулочку до Баттла. Это имя, собственно, и означает «битва»; ведь нормандские войска под предводительством герцога Вильгельма только высадились с кораблей при Гастингсе, а само сражение с Гарольдом Смелым и его саксонским войском произошло намного севернее, где сейчас город Баттл и древнее Баттлское аббатство.
Кстати, о названии самого дома Киплинга. Он зовется Бейтманс-Хаус, что, вероятно, происходит от древнеанглийского слова «батман» – моряк. Так и будем его величать: Батман, или Дом Моряка.
Я поделился своими планами с Хилари и Полом – друзьями, у которых я гостил в Лондоне. Дескать, субботу и воскресенье собираюсь посвятить паломничеству по киплинговским местам. И примерно описал свой будущий маршрут.
– К чему так сложно – метро, вокзал, поезд, автобус? – сказал Пол. – В субботу я еду с друзьями по цветочки в Западный Сассекс. Выедем пораньше, заброшу тебя по дороге в Бэрваш.
Тут мне хочется объяснить, что значит для Пола поехать «по цветочки». Если вы думаете, что речь идет о каких-нибудь букетах, венках из одуванчиков и прочих сентиментальных вещах, то это, конечно, вздор! Пол – любитель-ботаник, его цель – найти редкое растение. Не сорвать, упаси боже, а просто увидеть, может быть, сфотографировать, записать в блокнот. Вот уж кто неутомимый ходок! Чем дальше приходится идти «за цветочками», тем ценнее. Лучше всего по горам. Поэтому в отпуск Пол уезжает туда, где местность подичее и покруче – в Уэльс, в Анды, в Гималаи. С фотокамерой и определителем растений.
«Я дружбой был, как выстрелом, разбужен», – сказал кто-то из поэтов. Вот именно, что как выстрелом. Это при моей-то привычке поспать подольше! Еще и жаворонки не пели (а поют ли они вообще в Ричмонде – вот вопрос), как мне пришлось вскакивать на ноги и, наскоро проглотив чашку кофе, залезать в машину. И мы помчались!
Ехать с Полом – это запоминается на всю жизнь. Дело в том, что мой друг Пол – человек совсем особенный: он все делает в два раза быстрее, чем другие люди. Одевается ли он, готовит завтрак, звонит по телефону, читает карту или газету, ходит, умывается, ремонтирует калитку – все у него происходит в другом темпе, чем у простых смертных. Кажется, что и часы у него на руке тикают в два раза быстрее. Однако пока дело касается таких простых вещей, это ничего и даже мило. Но вот вы садитесь с ним в машину и вдруг осознаете, что и машину он водит в два раза быстрее, чем другие люди! А это уже не шутка.
Один наш общий друг после совместной экскурсии с Полом (в течение которой он как-то судорожно острил на заднем сиденье, крест-накрест пристегнувшись ремнями безопасности), признался мне потом по секрету, что всю дорогу вспоминал, какие он дела успел доделать, а какие так и останутся навек недоделанными…
А я думал совсем о другом. В то раннее утро, пока мы с Полом летели по узким английским проселкам, я перенесся мыслями на сто лет назад, в октябрь 1899 года, когда мистер Хармсворт, основатель газеты «Дейли Мейл» и друг Киплинга, впервые подкатил к его дверям на одном из первых в Англии авто. В ту пору семейство Киплингов было озабочено подыскиванием дома в деревне, чтобы поселиться там всерьез и надолго. Автомобиль показался им идеальным средством поисков.
Локомобиль. Рекламная фотография, 1911 г.
«Это была двадцатиминутная прогулка. Вернулись мы белые от дорожной пыли, оглушенные шумом двигателя. Но с того часа отрава начала действовать. Вскоре с помощью какого-то Брайтонского агентства мы наняли одноцилиндровый, ременно-приводной, с каретными рессорами и откидным верхом «эмбрио», который мог развивать скорость до восьми миль в час. Это стоило (включая оплату водителя) три с половиной гинеи в неделю. Наша дорогая тетушка, не боявшаяся ничего на свете, воскликнула: «А как же я!» Так что в наши поисковые экспедиции мы стали ездить втроем… Вместе с горсткой других отчаянных первопроходцев, нам пришлось принять на себя первый взрыв общественного негодования. Графы, привставая в своих изящных ландо, бросали нам вслед ужасные проклятия. Цыгане, дамы в двуколках, пивовары на тяжелых фургонах – казалось, весь мир (за исключением несчастных терпеливых лошадей) громогласно возглашал нам анафему…
Спустя некоторое время я купил машину с паровым двигателем, называвшуюся «локомобиль»… Она довела нас до грани полного изнеможения и истерии… Именно на этом злосчастном «локомобиле» мы и подъехали впервые к «Дому Моряка».
(Редъярд Киплинг. Кое-что о себе. 1936)Когда мы подъехали к Бейтманс-Хаус на своем серебристом пикапе, было еще довольно рано. Абориген в резиновых сапогах и с палкой в руке объяснил нам, что музей откроется в десять. За идеально подстриженной зеленой изгородью виднелся огромный дом постройки шестнадцатого века. Напротив, через дорогу, рос высоченный дуб, ровесник дома, а рядом на зеленом выгоне паслись два симпатичных белых ослика. Это были «киплинговские» ослики; они не возили телег, а просто жили здесь по традиции, как живые экспонаты. Мы не замедлили сфотографироваться вместе с ними.
Наши четвероногие спутницы Полли и ее дочка Нелл, выскочив из машины, с ликованием носились вокруг. Их древняя кровь – они принадлежали к редкой спаниельской породе с чудным названием «кавалеры короля Карла» – почуяла родную обстановку: тут пахло веком Якова Стюарта и Карла Первого.
Мы подошли к мостику и заглянули вниз – густая зелень деревьев скрывала ручей. Тот самый, по которому плавали Дан и Уна!.. И я вновь обернулся, чтобы полюбоваться Домом.
С первого момента, едва Киплинг со своей абордажной командой увидели этот дом, решение было принято. «Это он! Он! Единственный и неповторимый!» – шепнула им Судьба.
«Мы вошли и сразу почувствовали, что его дух – фэнь-шу – благоприятен. Мы прошлись по всем комнатам и нигде не обнаружили ни тени застарелой тоски или притаившихся бед, никакое зло не витало над этим домом, хотя его «новой» части было уже триста лет».
К сожалению, хозяин дома сказал им, что он только накануне сдал усадьбу на двенадцать месяцев. Они продолжали поиски, или делали вид, что продолжали, но через год, едва дом освободился, поехали и моментально его купили.
«Когда сделка совершилась, продавец сказал: „А теперь позвольте вас спросить. Как вы собираетесь добираться на станцию и обратно? Это около четырех миль, и чтобы взобраться в гору, мне приходилось пристегивать вторую пару лошадей“. – „Ярассчитываю вот на это хитроумное изобретение“, – отвечаля с сиденья своего „ланчестера“. – „Да ну, это несерьезно“, – хмыкнул хитрец. Лишь годы спустя, когда мы встретились вновь, он признался, что если бы знал то, что я уже тогда предвидел, то запросил бы с меня вдвое дороже. Через три года мы и вспоминать перестали о железнодорожной станции. А через семь лет мой шофер в ответ на сетованья какого-то гостя, приехавшего в маломощной „жестянке“, сделал большие глаза: „Холмы? Да нет на Лондонской дороге никаких холмов“».
Между прочим, я потом видел последнюю машину Киплинга в его гараже – «роллс-ройс» тридцатых годов, огромный, как броневик. Лауреат Нобелевской премии, он мог себе позволить такую роскошь.
Музей, как и обещали, открылся в десять. К тому времени Пол и его лохматые подруги, попрощавшись со мной, укатили на встречу с друзьями-ботаниками, а я, осмотрев дом – действительно добрый и совсем не мрачный, несмотря на старинную тяжелую мебель, – поднялся в кабинет директора, чтобы попросить его показать карту усадьбы и ее окрестностей. Если таковая найдется.
Таковая нашлась. Я наспех перечертил к себе в блокнот основные ориентиры: Мельничный ручей, саму Мельницу, Волшебный холм, Омут Выдры и так далее. Это все реальные места вблизи ки-плинговского дома, перекочевавшие потом на страницы его книг.
«О деревушке в один ряд домов, что на холме, мы знали только, что ее жители происходили от контрабандистов и овцекрадов, более или менее остепенившихся за последние три поколения…
Среди местных старожилов был один, лет семидесяти, браконьер по наследству и по призванию… вскоре он стал нашим важным советчиком и опорой. В поздние свои годы – а дожил он до восьмидесяти пяти лет – старик любил вспоминать прошлое (вроде как я сейчас), и рассказов его хватило бы на много томов. Он говорил о любви, драках, кознях, об анонимных доносах неких „грамотеев“ и о мстительных заговорах, осуществленных с восточным коварством. О браконьерстве он знал все… Его саги были украшены картинами Природы, описаниями ночей и рассветов, таинственных возвращений и гениальных алиби, придуманных нагишом у очага, пока сушится одежда, и о новых вылазках под покровом сумерек. Его жена, привыкнув к нам за десять лет, могла порассказать многое о своем прошлом, включая волшбу, колдовство и приворотные зелья, пользовавшиеся спросом в округе вплоть до шестидесятых годов… Она умерла в возрасте девяноста лет и до конца сохранила такт, манеры и даже, несмотря на свой маленький рост, осанку настоящей герцогини».
Таковы были прототипы сторожа Хобдена и его жены. Что касается замысла всей книги, то он рос постепенно, по мере того как писатель осознавал, сколько пластов истории, сколько загадок и сюжетов таит в себе земля, на которой он поселился. Началось с пустяков. Однажды рыли колодец, и на глубине семи метров нашли курительную трубку времен короля Якова и латунную ложку кром-велевского солдата, а еще ниже – бронзовый нащечник от римской конной узды. Во время очистки пруда вытащили две елизаветинских пивных кружки и – из гущи придонного ила – топор каменного века «лишь с одной щербинкой на по-прежнему грозной полированной кромке».
Вот почему Киплинг ничуть не удивился, когда его кузен Ам-броуз Пойнтер предложил ему написать повесть о римском владычестве в Англии. «Пусть там будет старый центурион, рассказывающий детям о том, что ему довелось пережить».
«А как его звали?» – немедленно спросил я, любя во всем конкретность. «Парнезий», – ответил кузен, и это имя застряло у меня в голове…
У самого края нашей земли, в маленькой долине, ведущей из ниоткуда в никуда, лежала большая груда заросшего бурьяном шлака – развалины древней кузницы, бывшей в деле, вероятно, со времен финикийцев и римлян вплоть до середины восемнадцатого века. Дрок и папоротник все еще скрывали разбросанные железные чушки, и если снять несколько дюймов обгрызенного кроликами дерна, можно было увидеть прорыжелый, прокаленный насквозь грунт и две узкие колеи от плавильной печи, построенной еще в елизаветинские времена. Дорога-призрак, которая начиналась тут, в этой мертвой ложбине и, выбравшись наверх, пересекала наши поля, была известна в округе как „Пушечный волок“ и обычно связывалась с памятью о Великой Армаде. Казалось, каждый уголок этой земли кишел призраками и тенями. Вскоре нашим детям вздумалось исполнить для нас отрывок из „Сна в летнюю ночь“ – прямо под открытым небом. А потом один наш друг подарил им лодку из березовой коры, с осадкой в воде около трех дюймов, и они занялись исследованием ручья. А на ближайшем к нам заливном лугу лежали загадочные Ведьмины кольца.
Видите, как терпеливо перетасовывались карты и как они сами ложились мне в руки: „Старые духи нашей Долины вмешивались так или этак во все наши дела. Земля, Вода, Воздух и Люди как будто сговорились (теперь-то я видку), чтобы дать мне вдесятеро больше материала, чем я мог использовать, если бы даже я писал полную историю Англии – в той мере, в какой она коснулась наших мест».
Обе киплинговские книги о Паке (как раньше его же «Книга джунглей») имели триумфальный успех. Уже при жизни писателя они были переведены на двадцать семь языков! А начиналось все здесь, в этой маленькой долине, у подножия этого холма, на берегах Мельничного ручья, вдоль которого ведет экскурсионная тропинка с калиткой и указателем: «Продолжение осмотра». А вот и Малая Мельница – «самое распрекрасное место» для игр в дождливый день. Она отреставрирована умельцами из окрестных мест – тщательно и совершенно бескорыстно. Картины и схемы на стенах рассказывают о мукомольных колесах и жерновах. Все в порядке, все как должно быть; и только никто больше не огласит чердак кровожадным пиратским кличем и никто не высунется из маленького «Утиного окошка» посмотреть, перестало ли моросить на улице или нет. Есть туристы, приходящие сюда «вразброд и парами», есть лавочка сувениров внизу, неподалеку от входа, есть даже я, невесть каким ветром занесенный сюда гость из России. И только нет девочки Элси и мальчика Джона – тех самых Уны и Дана, встречавшихся здесь с Паком, с Гэлом-чертежником и с Хобденом…
Они были погодки, Элси и Джон, она родилась в 1896 году, а он в 1897-м. Значит, сколько ему было, когда он погиб во Фландрии, в бою при Лоосе 27 сентября 1915 года? Восемнадцать лет.
Я выхожу и смотрю – сперва на солнце, потом на часы. Уже около двух, пора в путь. С легкой сумкой на плече и с картой в руке я иду сперва по тропе, а потом по асфальтовой узкой дороге через холмы – чем дальше, тем пустыннее кругом.
Сельская глубинка – холмы и леса, и очень редкие следы жилья. Я запыхался скорей, чем думал. Тут вот в чем секрет: когда развертываешь карту на столе и на коленях, дорога кажется короткой, как мизинчик, и плоской. А когда начинаешь шагать, она вдруг забирает вверх – да так круто, как нос фрегата, идущего против ветра в шторм! – а потом скатывается вниз – и снова вверх – и снова вниз… В общем, выходит совсем не то, что идти по равнине. И хотя с холмистых вершин открывается захватывающий вид на центральный гористо-лесистый Сассекс (Вильд – старинное название этого края), но через три часа я понял, что все-таки необходимо схитрить.
В конце концов (подумал я) пройдено уже больше половины пути, и если я сейчас «проголосую» и доеду до Баттла на попутке, кому какое дело? Можно будет рассказывать, что проделал весь путь пешком, и я имею на это моральное право, потому что, во-первых, уж больно горки крутые, и во-вторых, остались какие-то миль шесть – мелочь, которая принципиального значения не имеет.
Приняв такое решение, я стал оглядываться на ходу и делать всякие приветливые знаки обгонявшим меня машинам. Машин шло мало: три-четыре за час, не больше. Очень скоро стало ясно, что занятие это бесперспективное, никто не станет останавливаться на пустынной дороге: идешь себе и иди, раз тебе надо. Логично. Вскоре я отчаялся «голосовать» – и сразу взбодрился. Я шагал с какими-то новыми силами в душе и в ногах, горланя разные стихи и песни. В том числе и балладу о Паке:
С тех пор, как Мерлин-чародей На свет был ведьмою рожден, Известен я среди людей Как весельчак и ветрогон. Но кончен час Моих проказ, И с первым криком петуха Меня уж нет, Простыл и след, Ищите ветра: – Ха-ха-ха!И тут очередная машина (я сошел на обочину, чтобы пропустить ее) неожиданно остановилась.
– Вас подвезти?
Я не заставил себя упрашивать и, поблагодарив, сел рядом с водителем – весьма пожилым джентльменом с рыжей бородкой и ручьисто-голубыми глазами. Разговорились, как водится. Я назвал свое имя, а он свое.
– Даллингтон? – с удивлением переспросил я. Так называлось поместье, которое Хью получил от Де Акилы.
– Дик Даллингтон, именно так. Я ведь из этих мест. Оказывается, он заприметил меня еще раньше, у киплинговского дома, куда приезжал навестить внука, работающего в музее. Мистер Даллингтон и сам проработал в нем много лет, а теперь на пенсии.
Он удивился, узнав, что я из Москвы. Из такого далека! Откуда же вы знаете здешние места? Ах, да, карта. И компас. Чудеса!
– Ая живу в Баттле, – поведал он. – Битва при Гастингсе, слыхали? Там есть экскурсии в Баттлском аббатстве. Показывают место битвы. Вы можете успеть, они закрываются позже.
Через какие-нибудь десять-пятнадцать минут мы были в Баттле, и мой чудный старик подкатил прямо к кассе музея. Я спросил его, не хочет ли он составить мне компанию.
– Да нет… я там бывал – давно… – загадочно ответил он и уехал.
Два часа спустя я сидел в поезде, идущем в Лондон. Я рассматривал свои сувениры: шелковую закладку с вышитой на ней «Песней контрабандистов» и книги о Киплинге. В одной из них лежало несколько сорванных возле Дома Моряка листьев – дуб и тёрн. Листья ясеня я срывать не стал, чтобы ненароком не натворить колдовства и не позабыть всего, что я увидел в этой поездке. Правда, с Паком мне не удалось повстречаться. Но я почему-то думаю, что он все-таки сопровождал меня в этой день – неслышно и незримо.
Редьярд Киплинг (1886–1932)
За цыганской звездой
Мохнатый шмель – на душистый хмель, Мотылек – на цветок луговой, А цыган идет, куда воля ведет, За своей цыганской звездой! А цыган идет, куда воля ведет, Куда очи его глядят, За звездой вослед он пройдет весь свет – И к подруге придет назад. От палаток таборных позади К неизвестности впереди (Восход нас ждет на краю земли) – Уходи, цыган, уходи! Полосатый змей – в расщелину скал, Жеребец – на простор степей. А цыганская дочь – за любимым в ночь, По закону крови своей. Дикий вепрь – в глушь торфяных болот, Цапля серая – в камыши. А цыганская дочь – за любимым в ночь, По родству бродяжьей души. И вдвоем по тропе, навстречу судьбе, Не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, Хоть на край земли, хоть за край! Так вперед! – за цыганской звездой кочевой – К синим айсбергам стылых морей, Где искрятся суда от намерзшего льда Под сияньем полярных огней. Так вперед – за цыганской звездой кочевой – На закат, где дрожат паруса, И глаза глядят с бесприютной тоской В багровеющие небеса. Так вперед – за цыганской звездой кочевой До ревущих южных широт, Где свирепая буря, как божья метла, Океанскую пыль метет. Так вперед – за цыганской звездой кочевой – На свиданье с зарей, на восток, Где, тиха и нежна, розовеет волна, На рассветный вползая песок. Дикий сокол взмывает за облака, В дебри леса уходит лось. А мужчина должен подругу искать – Исстари так повелось. Мужчина должен подругу найти – Летите, стрелы дорог! Восход нас ждет на краю земли, И земля – вся у наших ног!Если
Если ты в обезумевшей, буйной толпе Можешь выстоять, неколебим, Не поддаться смятенью – и верить себе, И простить малодушье другим; Если вытерпеть можешь глухую вражду, Как сраженью, терпенью учась, Пощадить наглеца и забыть клевету, Благородством своим не кичась, – Если веришь мечте, но не станешь рабом Даже самой прекрасной мечты; Если примешь спокойно Триумф и Разгром, Ибо цену им ведаешь ты; Если зная, что плут извратил твою цель, Правда стала добычей враля И разрушено всё, что ты строил досель, Ты готов снова строить с нуля, – Если, бровью не дрогнув, ты можешь опять Достояньем добытым рискнуть, Всё поставить на карту и всё проиграть, Не жалея об этом ничуть; Если даже уставший, разбитый в бою, Вновь собрать ты умеешь в кулак Силы, нервы, и сердце, и волю свою И велеть им держаться – «Вот так!» – Если прямо, без лести умеешь вести Разговор с королем и с толпой, Если дружбу и злобу встречая в пути, Ты всегда остаешься собой; Если правишь судьбою своей ты один, Каждый миг проживая как век, Значит, ты – настоящий мужчина, мой сын, Даже больше того – Человек!Заклинание
Возьми в ладонь земли родной, Английский честный перегной, И тихо помолись за тех, Кто в землю лег, – не только тех, Кто память долгую сердец Стяжал как вождь или мудрец, – За всех, кто умер и забыт И вместе с пращурами спит: Прижми их прах к своей груди, Жар лихорадки остуди! Пусть эта горсть земли родной Утешит скорбь души больной, Пусть от нее навек пройдет Горячка мыслей и забот И стихнет тщетная борьба С судьбою смертного раба, – Чтоб ты постигнул наконец, Как добр и милостив Творец. Проснись весною до зари И первоцветов собери, Не позабудь в июньский день О розах, прячущихся в тень. Левкой осенний на дворе, Вьюнок в холодном декабре, Они – орудья волшебства От Пасхи и до Рождества, Твоя подмога в трудный час, Лекарство лучшее для глаз. Доверься им и успокой Взгляд, затуманенный тоской, И ты сокровище найдешь В родных долинах – и поймешь, Забыв про грустный календарь, Что каждый из живущих – Царь!Сотый
Бывает друг, сказал Соломон, Который больше, чем брат. Но прежде, чем встретится в жизни он, Ты ошибешься стократ. Девяносто девять в твоей душе Узрят лишь собственный грех. И только сотый рядом с тобой Встанет – один против всех. Ни обольщением, ни мольбой Друга не приобрести; Девяносто девять пойдут за тобой, Покуда им по пути, Пока им светит слава твоя, Твоя удача влечет. И только сотый тебя спасти Бросится в водоворот. И будут для друга настежь всегда Твой кошелек и дом, И можно ему сказать без стыда, О чем говорят с трудом. Девяносто девять станут темнить, Гадая о барыше. И только сотый скажет, как есть, Что у него на душе. Вы оба знаете, как порой Слепая верность нужна; И друг встает за тебя горой, Не спрашивая, чья вина. Девяносто девять, заслыша гром, В кусты убечь норовят. И только сотый пойдет за тобой На виселицу – и в ад!Песня варяжских жен
Разве удержит жена молодая Близ очага и родимого края, Если поманит Колдунья седая? Это – старуха с холодною кровью, Лед она стелит гостям в изголовье В крае, где айсбергов белых гнездовье. Нежной она не обнимет рукою – Только оближет знобящей волною, Выкатив тело на кромку прибоя. Но, лишь повеет весной с небосвода, Вздуются почки и вскроются воды, Вам уже снятся сраженья, походы. К морю вы сходите нетерпеливо, Бродите молча по краю залива – Там, где ладья ожидает прилива. В пире и в мире уж нету вам сласти, Мыслями всеми у ведьмы во власти, Днище смолите и чините снасти. И на заре ваш корабль уплывает Вдаль, где багровая туча пылает, Шум ваших весел стихает, стихает… Разве удержит жена молодая Близ очага и родимого края, Если поманит Колдунья седая?Евлалия (Песня римского солдата)
Когда покидал я Италию С орлами и звонкой трубой, Клялась мне моя Евлалия, Божилась моя Евлалия: Мол, сердце мое с тобой. И я прошагал всю Галлию, Британию и так далее И вышел на голый брег, Где белый, как грудь Евлалии, Холодный, как кровь Евлалии, Ложился на землю снег. Пусть я потерял всю Галлию, Британию и так и далее И Рима мне не видать, Но горше, чем всю Италию, Печальней всего – Евлалию Навеки мне потерять!Я в Бразилию не плавал
Я в Бразилию не плавал, Амазонки не видал, В теплом Рио-де-Жанейро Апельсинов не едал. Вот куплю билет и сяду На трехтрубный пароход – И поеду я в Бразилию Разноцветную Бразилию, Расчудесную Бразилию, Где бананы – круглый год! Я не гладил Ягуара, Крокодилов не встречал, Но всю жизнь по крокодилам Почему-то я скучал. Неужели же взаправду Я до Рио доплыву – И далекую Бразилию, Разноцветную Бразилию, Расчудесную Бразилию Увижу наяву?!Тэффи, дочь тегумая
Где Тэффи и ее народ Когда-то жили в старину, Там над холмами зной плывет, Кукушка будит тишину Но время птицею кружит И обращает годы вспять, И та же девочка бежит На теплый луг весну встречать. Как небо, взор ее лучист, Шаги стремительнее крыл; И папоротниковый лист, Как лентой, лоб ее обвил. Она летит, не чуя ног, По рощам и холмам родным – И разжигает костерок, Чтобы отец заметил дым. Но нет дорог в далекий дол, В тот изобильный дичью край, Куда от дочери ушел, Где заблудился Тегумай.Острова юности, или происхождение поэта
I
У Шеймаса Хини, выдающегося ирландского поэта и не менее замечательного критика, есть эссе, озаглавленное «The Place of Writing» – название, которое нелегко перевести на русский язык. Место писания? Дом поэта? Но речь идет не только о доме, но и вообще о месте, где живет поэт или писатель, со всей аурой, которая его окружает, – землей, водой и небом. Может быть, «родина вдохновения»? Оставим это выражение, за неумением подобрать ничего лучшего.
В своем эссе Хини напоминает историю Джона Миллингтона Синга, автора классических ирландских пьес «Повеса с Запада» и «Дейрдре». До встречи с Йейтсом в Париже он был литературным обозревателем, писавшим для дублинских газет. Йейтс убедил его вернуться в Ирландию и «пойти в народ». Синг последовал совету: он поселился на Аранских островах на Западе Ирландии (можно сравнить с нашими Соловецкими островами, только без монастырей и монахов); там, среди рыбаков и крестьян, он нашел свою тему и стал драматургом.
У. Б. Йейтс в детстве. Рис. Джона Батлера Йейтса, 1974 г.
«Когда я думаю об знаменитых словах Архимеда: дайте мне место установить свой рычаг, и я переверну мир, – мне кажется, что оно имеет глубокую связь с проблемой писательства и вдохновляющей его почвы. Разве тут нет аналогии с тем, что произошло с Сингом на Аранских островах? Утвердившись там, он сумел привести в действие рычаг своего воображения…»[143]
Нет этой точки опоры – воображение не сможет заработать во всю отпущенную ему силу. И пусть экскурсоводы назовут это «памятными местами, связанными с жизнью и творчеством»; для самого писателя это – земля, волшебно настроенная в резонанс с его душой, многократно усиливая его восприимчивость, энергию и творческую волю.
Незабываемым стал для меня тот августовский день 2005 года, когда Шеймас Хини (с которым я подружился почти двадцать лет назад) показал мне место, где родился Уильям Батлер Йейтс. Неожиданно, когда мы уже готовы были покинуть дом Мэри и Шеймаса в Сэндимаунте, пригороде Дублина, Хини спросил: «У вас есть еще полчаса? Тогда садитесь в машину, будет сюрприз». Мы с женой послушно уселись в машину, и Хини, недолго пропетляв по пригородным улицам, привез нас к небольшому скверу, в котором стоял бюст Уильяма Йейтса. Мы помедлили, глядя сквозь прутья ограды, потом проехали еще чуть-чуть и остановились напротив ряда уютных кирпичных домов с зелеными палисадниками. «Надеюсь, вы захватили фотоаппарат? – спросил наш гид, заговорщицки улыбаясь. – Это дом, в котором родился Йейтс».
Дом был ровно такой, какой описан в «Родине вдохновения»: разделяющий общую стену с соседним домом (semi-detached), сред-невикторианского типа, с эркерами, крыльцом и полуподвальным этажом, – слишком обыкновенное жилище среднего буржуа, чтобы Йейтс его когда-нибудь вспоминал или, тем более, романтизировал.
Знаковые места его для его стихов другие. Самое знаменитое из них, конечно, Тур Баллили, старинная норманнская башня, которую Йейтс приобрел в 1917 году. Если же говорить о ранних годах, то самыми важными, «сюжетообразующими», я бы назвал три места: город Слайго на западе Ирландии, район Бедфорд-парк в Лондоне и полуостров Гоут возле Дублина. По-крайней мере, я выбрал эти три географические точки и буду здесь говорить именно о них.
II
Поэт строится постепенно, как башня, – камень ложится на камень. Зодчими выступают Судьба и Воля (в разных пропорциях). Если мы примем эту метафору, то Слайго окажется самым нижним, самым прочным камнем – основанием всей постройки. Таким основанием для Йейтса стали его детские годы в портовом городе на Западе Ирландии, откуда родом были его отец и мать. Свои «Размышления о детстве и юности» он начинает с воспоминаний о Слайго – о деде и бабушке, родичах и знакомых, обо всем, что он видел, слышал и запомнил.
Монархом этой волшебной страны был, безусловно, дед Йейт-са, Уильям Поллексфен, – моряк и судовладелец. Это был сильный и бесстрашный человек, одновременно гордый и простодушный. Он плавал по всему свету, попадал в разные переделки, на руке у него был большой шрам от гарпуна. Его близким другом был капитан Уэбб, который первым переплыл Ла-Манш, а позднее погиб, пытаясь спуститься в лодке с Ниагарского водопада. Дед читал только две книги, «Библию» и «Кораблекрушение» Фалконера; ему и самому приходилось переживать кораблекрушения. Один раз он спас команду и пассажиров парохода вблизи Слайго, когда судно несло на скалы и капитан потерял голову от страха. Деда так почитали, пишет Йейтс, что, когда он возвращался из долгой отлучки в Слайго, «его служащие зажигали костры вдоль железной дороги на много миль», – в то время как его партнеру Уильяму Миддлтону не устраивали ни проводов, ни встреч.
Между прочим, этот самый Миддлтон, приходившийся Йейтсу двоюродным дедом, задолго до его рождения сконструировал и построил пароход, называвшийся «Дженнет». «Я давно уже стал взрослым, – вспоминает поэт, – а шум его допотопного мотора, хрипевшего, как астматик, все еще доносился с Канала, его было слышно на много миль вокруг. Пароход строили на озере, а потом волокли через город, для чего понадобилось множество лошадей, и он застрял у школы, где тогда училась моя мать, заслонив от света окна и погрузив всю школу во мрак на пять дней, так что пришлось заниматься при свечах; в последующие годы его без конца чинили, продлевая ему жизнь, – считалось, он приносил удачу»[144].
«Канал» длинною в пять миль, соединявший Слайго с морем (на самом деле, не канал, а протока, сделанная приливом), заканчивался вблизи деревушки Россес-Пойнт, где у Поллексфенов была мельница и где жила другая бабушка маленького Уилли, а также Миддлтоны, с внуком которых он дружил. «Мы ходили на веслах вдоль реки или нас брали покататься под парусом на большой корабельной шлюпке, переделанной в яхту». Кроме того, в доме бабушки Микки – Мэри Йейтс – мальчик мог рассматривать старые реликвии рода: утварь XVI века, старинный герб Батлеров – и слушать семейные истории. Многие из них касались прадеда Уилли, преподобного Джона Йейтса, у которого был приход в Драмклиффе. Говорили, например, что он «всегда гремел ключами, идя на кухню, чтобы не застать врасплох слуг за каким-нибудь неподобающим занятием».
Рядом с этим самым прадедом-священником, в деревушке Драмклиффе, возле церкви, ныне покоится и его потомок-поэт. Он сам выбрал это место и прославил его в своем стихотворном завещании «В тени Бен-Балбена».
Пока же мальчику Йейтсу в доме деда жилось вольготно и интересно. У него был свой пони, на котором он научился недурно ездить. Он ловил рыбу, играл в разные игры, строил корабли из дерева, бегал в саду и на улице со своими двумя собаками, белой и черной, плавал на лодках и баркасах, обмирая, смотрел на океанские пароходы в гавани, бородатых капитанов, чужеземных матросов с серьгой в ухе, слушал сплетни родни и чудные рассказы служанок о духах, призраках и нечистой силе и время от времени попадал в разные истории. Вот такую, например:
«Я не знаю, сколько мне было лет… Мы плавали на яхте с дядей и кузенами, и началось сильное волнение. Я лежал на палубе между мачтой и бушпритом, меня окатило огромной зеленой волной. Когда мы вернулись в Россес, мне пришлось переодеться в сухую одежду, которая была сильно велика, и один лоцман дал мне немного неразбавленного виски. По дороге домой я сидел на империале конки и был так доволен своим странным состоянием, что, несмотря на все старания дяди меня утихомирить, кричал прохожим, что я пьян, и продолжал кричать до самого дома, утихомирившись только когда бабушка уложила меня в постель и дала мне какое-то черносмородиновое питье, от которого я заснул»[145].
III
У брата Уильяма, знаменитого в Ирландии художника Джека Б. Йейтса, есть картина под названием «Гавань памяти». На ней изображены Маяк в море, Канал, гавань Слайго и деревня Россес Пойнт – «сдвинутые в кучу» без соблюдения масштаба, как на старинных картах. Там виден даже «железный человек» – статуя из металла, стоящая прямо посреди Канала, указывая рукой кораблям путь к гавани.
Я был на этом месте во время отлива, видел «железного человека» (в жизни он выглядит мельче, чем на картине, и нечетко виден с берега) – и даже стоял на том самом мысе, где у Джека Йейтса нарисованы гроб, череп с костями и кусок хлеба, потому что есть предание, что там похоронили какого-то моряка, по поводу которого товарищи были не совсем уверены, что он умер; но нужно было торопиться, чтобы не пропустить отлив, вот его и похоронили с куском хлеба на случай, если оживет.
Нужно было увидеть Слайго, оказаться там физически, чтобы почувствовать чары этого места. Я не настаиваю на слове «чары», пусть будет любое другое, например, «волшебность», «заколдован-ность», – но место и впрямь необычное, пронизанное какими-то магическими лучами.
Нетрудно догадаться, откуда идут эти лучи. Слайго находится между двумя священным горами Ирландии. В десяти милях к юго-востоку от города – Нок-на-Рей, на которой находится могила великой королевы Мэйв; не нужно обладать особенным зрением, чтобы издалека различить бугорок – как бы бородавку на темени горы: это и есть кромлех – усыпальница Мэйв, засыпанная курганом камней. Мне рассказывал Алек Крайтон, с детства живший у подножья Нок-на-Рей, что существует обычай: каждый, кто поднимается на Королевскую гору, должен захватить с собой камень и положить на могилу Мэйв; так делал и он, когда в молодости поднимался с другом на вершину. Воистину это место окружено благоговением. Подумайте, – египетские пирамиды разграблены тысячи лет назад, но могила королевы Мэйв, почти столь же древняя, остается неприкосновенной и лишь растет с течением лет и поколений.
В десяти милях к северу от Слайго возвышается гора Бен-Балбен, где охотились и пировали Финн Мак-Кумал со своей дружиной фениев, где завершилась трагическая сага Диармида, возлюбленного Гранин, павшего в схватке с кабаном-оборотнем. Так же, как и Нок-на-Рей, эту гору видно из многих частей города, где она не заслонена домами; особенно эффектен ее мреющий вдали профиль в перспективе какой-нибудь запруженной машинами улицы в центре.
И Нок-на-Рей, и Бен-Балбен – обиталище сидов, древних духов Ирландии. В современном ирландском это слово произносится как бы свистящим шепотов: «ши». В ирландском фольклоре представление о сидах связано с ветром, поднимающим пыль вдоль дорог. У Йейтса эти духи часто связаны с лошадьми и буйной скачкой. Например, в «Воинстве сидов» (1895):
Всадники скачут от Нок-на-Рей, Мчат над вершиною Клот-на-Бар, Кайлте пылает словно пожар, И Ниав кличет: Скорей, скорей![146]Гора Бен-Балбен тоже ассоциируется у Йейтса с лошадьми и таинственными всадниками. Не говоря уже о его эпитафии на кладбище под Бен-Балбеном:
Хладно взгляни На жизни и на смерть. Всадник, скачи!Есть еще одно стихотворение, в котором Йейтс вспоминает прекрасную девушку Еву Гор-Бут, жившую с сестрой в поместье Лиссадел к западу от Бен-Балбена, – красавицу и умницу, ставшую известной революционеркой (по мужу – графиней Маркевич) и приговоренную к смерти за участие в восстании 1916 года против англичан:
А я ее запомнил в дымке дня – Там, где Бен-Балбен тень свою простер, – Навстречу ветру гнавшую коня: Как делался пейзаж и дик, и юн! Она казалась птицей среди гор, Свободной чайкой с океанских дюн[147].IV
Там, под горой Бен-Балбен, завершилась и сага Йейтса. После Второй мировой войны тело поэта, умершего на юге Франции, было доставлено в Ирландию на военном корабле и с почестями похоронено в Драмклиффе, на старом кладбище при церкви. Место торжественное и достаточно безмолвное, за исключением подъезжающих иногда туристских автобусов. Неподалеку от ворот кладбища – творение современного скульптора, к счастью, достаточно скромное, хотя я не уверен, что необходимое в этом месте: сидящий на корточках молодой «индус», а перед ним – серое каменное покрывало с выгравированными строками стихотворения:
Владей небесной я парчой Из золота и серебра, Рассветной и ночной парчой Из дымки, мглы и серебра, Перед тобой бы расстелил, – Но у меня одни мечты. Свои мечты я расстелил; Не растопчи мои мечты.Другой «стихоносный» монумент воздвигнут в самом Слайго, на перекрестке возле набережной реки: эфемерно-худой поэт с плоской грудью-страницей, на которой можно прочитать другое стихотворение Йейтса:
Я сшил из песен плащ, Узорами украсил Из древних саг и басен От плеч до пят. Но дураки украли И красоваться стали На зависть остальным. Оставь им эти песни, О Муза! интересней Ходить нагим.Я сфотографировал памятник, обратив внимание друга, с которым мы гуляли, на рассеянный взгляд Йейтса, смотрящего куда-то поверх домов и прохожих: «На перекрестке зевать нельзя!» Шутка оказалась неудачной; на следующий день мы не нашли памятника на прежнем месте: его сбил грузовик. Городу, который в складчину, по подписке собирал деньги на установку монумента, теперь придется наскрести денег на его восстановление. Думаю, средства найдутся, ведь город буквально живет на культурную ренту, созданную поэтом, и процветает под брендом «Страна Йейтса». А говорят, что от стихов нет проку.
Одно плохо – избыток машин на улицах, особенно, в предвечерние часы.
Думаю, это не понравилось бы Йейтсу, с детства ценившему уединение и тишину. В ранней юности, живя в Гоуте, близ Дублина, он любил забираться в заросли рододендрона, покрывавшие склоны Гоутской горы. Нет, он не был принципиальным нелюдимом; он знал, что одиночество рождает монстров. Размышляя над ночным духом ирландского фольклора Пукой, (близким родичем английского Пака, описанного Шекспиром – и Киплингом в повести «Пак с волшебных холмов»), он писал, что, может быть, именно одинокая жизнь среди сумрачных гор и заброшенных руин, превратили его в чудище. Пука мог являться то в образе лошади, то быка, то козла, то хищной птицы.
Стремлением Йейтса было – уходить и возвращаться. Гоутские дебри подсказали ему, какой должна быть романтическая поэма: «Она казалась мне областью, куда можно укрыться от забот жизни. Персонажи поэмы должны быть не более реальны, чем тени, населявшие Гоутские заросли. Их роль – уменьшить чувство одиночества, не нарушив при этом его покоя и безопасности».
В детстве идеалом уединения для него было озеро Лох-Гилл, лежащее в трех милях от Слайго. С этим местом связано самое хрестоматийное из стихотворений Йейтса «Остров Иннишфри». В своем раннем и не опубликованном романе «Джон Шерман» он так в третьем лице описывал происхождение этих стихов, связывая с тоской по Слайго, которой он томился в Лондоне:
«В толкучке Стрэнда, остановившись на секунду, он вдруг услышал журчанье воды; оно доносилось от витрины магазина, внутри которой маленький фонтанчик поддерживал на своей вершине деревянный шарик. Звук напомнил ему водопад с длинным кельтским названием, который плескал, всхлипывая, у Ворот ветров в Баллахе…
Однажды утром он случайно подошел к Темзе… и увидел у берега островок, покрытый лозняком: это на весь день погрузило его в воспоминания. Река, протекавшая через сад у него на родине, начиналась в озере, окруженном лесом, куда он часто ходил собирать ежевику. В дальнем конце этого озера был маленький остров, называвшийся Иннишфри. Его скалистая середина, поросшая кустами, возвышалась почти на сорок футов над водой. Порой, когда жизнь и ее тяготы казались ему непосильным уроком для старших учеников, заданным ему по ошибке, он мечтал уйти на этот остров, построить себе деревянный домик и прожить там несколько лет, днем – катаясь на лодке, удя рыбу или просто валяясь в траве, ночью – слушая плеск воды и шорох кустов, где копошилась какая-то таинственная жизнь, а утром – разглядывая на берегу свежие отпечатки птичьих лапок»[148].
Именно это – настоящая жизнь, а все остальное, в частности, Лондон, – ошибка, сон, наваждение. Ностальгические чары стихотворения оказались столь сильными, что даже Роберт Стивенсон со своего далекого Самоа отозвался письмом Йейтсу (июнь 1894 года), в котором он ставит «Остров Иннишфри» в число трех наиболее поразивших его произведений современной поэзии[149].
Так сложилось, что детство Йейтса было разделено между Слайго и Лондоном, где проводили большую часть года его родители. У дедушки с бабушкой он обычно гостил летом, часто – прихватывая осень, иногда до самого Рождества, а два года (между его семью и девятью годами) они провели в Слайго без перерыва. Но и позднее, когда Уильям поступил в школу в Лондоне, он всегда приезжал на каникулы в Ирландию. Разница была грандиозная – между пыльными улицами, куцыми палисадниками, игрушечными корабликами в Кенсингтонском саду – и привольной жизнью в Слайго с его лесами, озерами, морем, рыбалкой, верховой ездой, плаваньем на настоящих яхтах. Потом, когда начались занятия в школе и, одновременно, проблемы со сверстниками, придиравшимися к щуплому на вид, смуглому, как араб, «ирландцу», стало еще хуже. Не зря тетка, Агнес Поллексфен, предупреждала: «Здесь вы кто-то, там вы будете никто». Одним словом, и для Уильяма, и для Джека, и для их сестер Лондон был наказанием, которое нужно перетерпеть, а Слайго – синонимом счастья.
Я стряхну этот сон – ибо в сердце моем навсегда, Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот, Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода, Чую: будит меня и зовет.V
Дотошные биографы называют все адреса, по которым Йейтсы жили в Лондоне, и даты переезда из одного места в другое. В воспоминаниях Уильяма Йейтса этих деталей нет, лишь вскользь, в нескольких фразах упоминается дом в Норт-Энде и грушевое дерево рядом с домом; но, увы, груши на нем оказались сплошь червивыми. Единственным «романтически-волнующим местом» в Лондоне был для него Бедфорд-Парк, в лондонском районе Хэммерсмит, куда они с семьей переехали в 1876 году.
Эта была особая «деревня в городе», построенная для артистической элиты Лондона. Главным проектировщиком был Норманн Шоу, а первыми жителями были художники, либо близкие к прерафаэлитам, либо испытавшие их влияние в молодости – я не знаю, можно ли сказать «постпрерафаэлиты». Сам замысел «художественной деревни» был частью движения «arts-and-crafts» («искусства и ремесла»), ставившего своей целью бороться со стандартизацией жизни и уродливым вкусом эпохи посредством возрождения старинных ремесел и продвижения в быт сделанных вручную красивых вещей.
Уильям Йейтс запомнил, как отец сказал: «Она будет обнесена стеной, и туда не будут допускаться газеты»[150]. Правда, когда они впервые приехали в Бедфорд-Парк, ни стены, ни ворот там не оказалось (это была метафора), но впечатление все равно было огромное.
«Мы увидели изразцы Де Моргана, двери сияющего синего цвета, гранатовые и тюльпановые орнаменты Морриса и поняли, что нам были всегда противны двери, выкрашенные под древесину, обои с розочками и плитки с геометрическими узорами, словно вытряхнутыми из какого-то мутного калейдоскопа. Мы стали жить в таком доме, какой видели только на картинках, и даже встречали людей, одетых как персонажи сказок. Улицы были не прямыми и скучными, как в Норд-Энде, но изгибались, если на пути было, например, большое дерево – или просто из удовольствия изогнуться…
Архитекторы-ремесленники еще не начали штамповать свои вульгарные копии, и, кроме того, мы знали только самые красивые дома, дома художников. Я, две мои сестры и брат брали уроки танцев в невысоком доме из красного кирпича, крытом черепицей, который был так хорош, что я отказался от своей давней мечты – когда-нибудь поселиться в доме, где комнаты выглядели бы точно как каюты»[151].
Это признание дорогого стоит. Обиталище художника затмило корабельную каюту, романтика моря и приключений уступили чарам искусства. Допустим, победа была временной и неполной – но очень важной, этапной. На нижнюю, основную плиту – простовато-реальной и причудливо-сказочной Ирландии его ранних лет – легла вторая плита, эстетическая и утонченная. Иначе и быть не могло. Все-таки Йейтс был сыном художника – не в меньшей степени, чем он был внуком моряков и купцов.
Его отец Джон Батлер Йейтс оказал во многом определяющее влияние на сына. Любовь к поэзии, к драме, вкусы и предпочтения в искусстве, основы мировоззрения – все это он получил от отца и в общении с ним. Их переписка, интенсивная и всегда важная для Уильяма, продолжалась и после того, как старший Йейтс переехал в Америку (где умер в 1922 году). И совсем не просто так сорокачетырехлетний поэт признавался в письме отцу: «Я поразился, осознав, как полно, за исключением некоторых деталей и точки приложения, моя философия жизни унаследована от тебя»[152].
Что касается таких деталей, как успех, то здесь Джону Йейтсу не слишком везло. Может быть, он занялся живописью слишком поздно – после того, как закончил юридический факультет в Дублине. Усиленным трудом он возместил многое, но, видимо, какого-то чуть-чуть не хватило. По крайней мере, на его собственный взгляд. Того, что рисовалось ему в воображении, он никогда не достигал: отсюда – бесконечные переделки, дошедшие до почти патологической неспособности поставить последний мазок на полотне. Это при том, что его ранние работы хвалили Россетти и другие авторитетные ценители. Автопортрет Джона Йейтса в Дублинской национальной галерее, портреты сыновей и дочерей свидетельствуют об оригинальном и тонком таланте; но, должно быть, художник применял к себе иную, более высокую мерку.
Его письма к сыну содержат многое, на чем зиждется поэзия Йейтса: вера в индивидуальность (основанная на чувстве рода и нации!), превосходство интуиции над разумом (доказываемое рационально!), необходимость свободы художника (зависимого лишь от своего вдохновения). Склонность мыслить антиномиями у Йейтса тоже от отца. И общее понимание поэтического призвания, лучше всего выраженное в этих словах Джона Йейтса: «Поэзия – это Голос Одинокого Духа, проза – язык социально-озабоченного ума». А также: «Поэты должны жить в отшельнической келье своей души»[153].
VI
В конце 1880 года финансовое положение семьи Йейтсов настолько ухудшилось, что они были вынуждены оставить Лондон и переехать жить в Дублин. Они поселились в Гоуте, живописном месте в окрестностях города, почти на острове – точнее говоря, это был гористый полуостров, соединенный с большой землей узким перешейком.
«Из Бедфорд-Парка мы переехали в длинный, крытый соломой дом в Гоуте, графство Дублин», – пишет Йейтс в своих воспоминаниях. Этот дом сейчас покрыт, разумеется не соломой, а современной, в шашечку, крышей, но первое впечатление, которое он производит с дороги, именно – такое: длинный. Еще – белый и скучный, как ангар или склад. С другой стороны, обращенной к морю, конечно, другое дело: дом стоял на скале, «так что в штормовую погоду брызги залетали в окно и ночью моя постель промокала, поскольку я открывал окна настежь» (Йейтс)[154].
В Гоуте общение с отцом сделалось еще более тесным. Каждое утро, вспоминает Йейтс, они ездили на поезде в Дублин и завтракали у отца в студии. «Он снял для нее большую комнату с красивым камином в многоквартирном доме на Йорк-стрит; за завтраком он читал мне отрывки из стихотворных пьес и поэм…»[155] В прежние времена в ход шли повествовательные поэмы, вроде «Песен Древнего Рима» Маколея, способные увлечь мальчика; теперь – Шекспир, Шелли, Россетти, Блейк… Особенно отец любил декламировать Шекспира, например, гордый монолог Кориолана, осужденного римской чернью на изгнание:
Вы – стая подлых сук! Дыханье ваше Противней мне, чем вонь гнилых болот! Любовью вашей дорожу не больше, Чем смрадными, раскиданными в поле Остатками врагов непогребенных! Я – изгоняю – вас: живите здесь С безумием и малодушьем вашим!..[156]Он учил сына, что драматическая поэзия – высший род литературы, самый насыщенный жизнью и страстью. Когда в школе Йейтсу задали сочинение на тему «Восходит к небу человек по лестнице изжитых Я» (из Теннисона)[157], отец был возмущен: в мальчиках воспитывают недоверие самим себе. Он ходил взад и вперед по комнате, возмущенно ораторствуя, а потом велел сыну ничего такого не писать, а взять темой слова Шекспира:
Всего превыше: верен будь себе. Тогда, как утро следует за ночью, Последует за этим верность всем[158].Жизнь в Гоуте стала для Йейтса эпохой обретения самого себя. Скалистые тропки, обрывы и заросли полуострова были идеальным местом для одиноких прогулок и смутных грез, в которых витал задумчивый отрок. Нельзя сказать, что он совсем не возвращался на грешную землю. Иногда с другом или знакомым рыбаком он предпринимал прогулки под парусом по заливу; он увлекался теориями Дарвина и Гексли, коллекционировал растения и бабочек. Но увлечение естественными науками было недолгим. Мечтательность преобладала. В шестнадцать лет он обнаружил пещеру в откосе горы на высоте примерно двухсот футов над морем. По ночам он пробирался туда по узкому уступу, захватив с собой немного еды, разводил костер, смотрел на небо и спал в этой пещере, завернувшись в одеяло. Там он мог воображать себя мудрецом, волшебником или поэтом, гордым Манфредом в своем чертоге среди ледяных гор, или Аластором, Духом одиночества из одноименной поэмы Шелли. К этому времени относятся первые стихотворные опыты Йейтса. Он начал писать эпическую поэму о Роланде (между прочим, спенсеровой строфой); Ричард Эллманн цитирует из нее отрывок, в котором юный поэт отвергает тему войн и ожесточенных страстей ради более изящного груза, который должны нести украшенные строфы его поэтического корабля:
У. Б. Йейтс в молодости. Джон Батлер Йейтс, 1900 г.
Роскошным вечером в июле знойном Мне представлялось, что таким стихом Я поведу сказанье не о войнах И распрях буйно-яростных, как гром, Нет, песня моя будет кораблем С резными башенками и бортами, Которым капитанствуют вдвоем – Грусть и любовь с оленьими глазами, В которых скрыто все, что не сказать словами[159].В этом наивном отрывке слышен уже голос Йейтса, его меланхолический тембр. Как много все-таки значит верность себе! Через десять лет он приедет бродить по крутым тропинкам Гоута вместе с Мод Гонн и напишет стихотворение «Белые птицы»:
Зачем мы не белые птицы над пенной зыбью морской! Еще метеор не погас, а уже мы томимся тоской; И пламень звезды голубой, озарившей пустой небоскат, Любовь моя, вещей печалью в глазах твоих вечных распят.VII
Поезд, идущий в Гоут, пересекает северные пролетарские районы города, расположенные за рекой Лиффи. Когда-то здесь были трущобы, описанные Джойсом в «Улиссе». Эти кварталы до сих пор разительно контрастируют с торжественным георгианским Дублином вблизи Большого Канала, веселым центром и буржуазными южными пригородами. Даже когда смотришь на эти места из окна электрички, – уродливые старые дома и саженные объявления дешевых гостиниц на кирпичных стенах.
В поезде мы невзначай разговорись с пенсионером, седым и с палочкой, который тоже ехал в Гоут погулять. Заговорили о стихах, о песнях. Я ему спел песню о Сэме Холле висельнике из репертуара «Дублинцев», которую он не знал, он мне в ответ затянул что-то никогда не слышанное мной. Первый привет от Йейтса. Он с юности испытывал жгучий интерес к старым людям, узнавал у них то, чего не узнаешь от молодых, примеривал на себя еще далекий возраст. «Размышления старого рыбака», «Песня старухи», «Жалобы старика»… «Я укрываюсь от дождя / Под сломанной ветлой, / А был я всюду званый гость / И парень удалой, / Пока пожар моих кудрей / Не сделался золой».
– Где вы работали? – спросил я.
– Всю жизнь проработал на заводе Гиннеса.
– Кем же?
– Купером.
Я не сразу сообразил (cooper по-английски – бондарь), профессия ведь не ходовая. Сколько Бондаревых да Бочаровых в России, а спроси первого встречного, кто такой бондарь, не всякий ответит.
– Да, да, бондарем. Чинил и поправлял бочки для пива. Второй привет от Йейтса. В «Размышлениях о детстве и юности» он вспоминает «геолога-любителя, который работал на пивоваренном заводе Гиннеса, а свободное время брал молоток и искал окаменелости в Гоутских скалах».
Когда Хини, к которому мы приехали к вечеру того же дня, услышал, что мы познакомились в поезде с бондарем, работавшем у Гиннеса, он оживился: «Вам повезло! К вам явился сам дух старой Ирландии!»
Но я-то знаю: когда приближаешься к месту, «нагретому» памятью и мечтами, магнитная стрелка всегда начинает дрожать и происходят какие-то не совсем обыкновенные вещи.
…С самого высокого места берегового хребта открывался великолепный вид на море, Дублинскую бухту справа, Гоутскую гавань и лежащий прямо перед ней остров, а еще дальше, мористей, совсем маленький, голый островок, называющийся Глаз Ирландии. Почему – не знаю, может быть, дозорные с него первыми могли видеть приближающихся к Дублину врагов. Этот вынесенный далеко в море глаз – причудливый символ превратной ирландской истории. Но другой, главный глаз Ирландии обращен внутрь себя. В загадочную глубину кельтской души.
Гоут – один из трех первых камней (чуть не сказал китов), на которых стоит поэтическая башня Йейтса. Слайго – это глубинная, коренная Ирландия. Она одарила его чувством родины, приобщила к ее легендарному прошлому и таинственной стихии народной жизни. Бедфорд-Парк – это квинтэссенция английского искусства в самом передовом, рафинированном варианте. Он дал ему ощущение вкуса и стиля. Скалы Гоута – место, где Йейтс научился различать Голос Одинокого Духа, где он стал поэтом.
Инициация поэта – самая таинственная и великая вещь на свете. Она происходит скрытно от чьих-либо глаз, в отшельнической пещере его сердца. «Из распри с другими людьми происходит риторика, из распри с собой – поэзия. В отличие от витии, черпающего уверенность в образе толпы, которую он должен воодушевить, мы не знаем, для кого пишем. Даже в присутствии высшей красоты стих содрогается, уязвленный внезапным одиночеством»[160].
Там, в Гоуте, состоялась встреча Йейтса с его Даймоном – тем самым Голосом, который приходит из ниоткуда, вторым «Я» поэта, точнее, его анти-Я, ибо, по словам Йейтса, «человек и Даймон утоляют свой голод друг в друге»[161].
Даймон побуждает человека найти и присвоить себе чужую маску, ибо без маски человек способен лишь подчиняться внешним законам и условиям; обретя же маску, он повинуется лишь сам себе и закону своей судьбы.
Эта теория, изложенная Йейтсом – нарочито затемнено и пунктирно – в его программном эссе «Per Arnica Silentia Lunae» («При благосклонном молчании луны», 1917), в целом объясняет его метод и путь.
Удивительно, до какой степени Йейтс оставался верен себе. Весело и жутко подумать, что игра в Башню, тешившая стареющего поэта в Тур Баллили, – лишь продолжение игр того юноши, который по ночам ускользал из дома, пробирался при свете луны по опасному карнизу скалы и зажигал свечу в пещере над морем.
Уильям Батлер Йейтс (1865–1939)
Розе, распятой на кресте времен
Печальный, гордый, алый мой цветок! Приблизься, чтоб, вдохнув, воспеть я мог Кухулина в бою с морской волной – И вещего друида под сосной, Что Фергуса в лохмотья снов облек, – И скорбь твою, таинственный цветок, О коей звезды, осыпаясь в прах, Поют в незабываемых ночах. Приблизься, чтобы я, прозрев, обрел Здесь, на земле, среди любвей и зол И мелких пузырей людской тщеты, Высокий путь бессмертной красоты. Приблизься – и останься так со мной, Чтоб, задохнувшись розовой волной, Забыть о скучных жителях земли: О червяке, возящемся в пыли, О мыши, пробегающей в траве, О мыслях в глупой, смертной голове, – Чтобы вдали от троп людских, в глуши, Найти глагол, который Бог вложил В сердца навеки смолкнувших певцов. Приблизься, чтоб и я, в конце концов, Пропеть о славе древней Эрин смог: Печальный, гордый, алый мой цветок!Песня сидов, спетая над Диармидом и Гранией, уснувшими сном любви под древним кромлехом
Мы, что старей царств и царей, Тех, что прошли, – Тысячи лет нам, полузапретным Духам земли, – Дарим мы этим найденным детям Мир и покой, Час этой росный, чащу и звездный Полог ночной. Дарим мы этим найденным детям Отдых от зла, Чтобы забыть им в тихом укрытье Мира дела. Мы, что старей царств и царей, Тех, что прошли! Тысячи лет нам, полузапретным Духам земли.Озерный остров Иннишфри
Я стряхну этот сон – и уйду в свой озерный приют, Где за тихой волною лежит островок Иннишфри; Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют, И сверчки гомонят до зари. Там из веток и глины я выстрою маленький кров, Девять грядок бобов посажу на делянке своей; Там закат – мельтешение крыльев и крики вьюрков, Ночь – головокруженье огней. Я стряхну этот сон – ибо в сердцем моем навсегда, Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот, Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода, Чую: будит меня и зовет.Плащ, корабль и башмачки
«Кому такой красивый плащ?» «Я сшил его Печали. Чтоб был он виден издали И восхищаться все могли Одеждами Печали». «А парус ладишь для чего?» «Для корабля Печали. Чтоб, крыльев чаячьих белей, Скитался он среди морей Под парусом Печали». «А войлочные башмачки?» «Они для ног Печали. Чтоб были тихи и легки Неуловимые шаги Подкравшейся Печали».Жалобы старика
Я укрываюсь от дождя Под сломанной ветлой, А был я всюду званый гость И парень удалой, Пока пожар моих кудрей Не сделался золой. Я вижу – снова молодежь Готова в бой и в дым За всяким, кто кричит «долой» Тиранам мировым, А мне лишь Время – супостат, Враждую только с ним. Не привлекает никого Трухлявая ветла. Каких красавиц я любил! Но жизнь прошла дотла. Я времени плюю в лицо За все его дела.Воинство сидов
Всадники скачут от Нок-на-Рей, Мчат над могилою Клот-на-Бар, Килчи пылает, словно пожар, И Ниав кличет: Скорей, скорей! Выкинь из сердца смертные сны, Кружатся листья, кони летят, Волосы ветром относит назад, Огненны очи, лица бледны. Призрачной скачки неистов пыл, Кто нас увидел, навек пропал: Он позабудет, о чем мечтал, Все позабудет, чем прежде жил. Скачут и кличут во тьме ночей, И нет страшней и прекрасней чар; Килчи пылает, словно пожар, И Ниав громко зовет: Скорей!Песня скитальца Энгуса
Я вышел в мглистый лес ночной, Чтоб лоб горящий остудить, Орешниковый срезал прут, Содрал кору, приладил нить. И в час, когда светлела мгла И гасли звезды-мотыльки, Я серебристую форель Поймал на быстрине реки. Я положил ее в траву И стал раскладывать костер, Как вдруг услышал чей-то смех, Невнятный тихий разговор. Предстала дева предо мной, Светясь, как яблоневый цвет, Окликнула – и скрылась прочь, В прозрачный канула рассвет. Пускай я стар, пускай устал От косогоров и холмов, Но чтоб ее поцеловать, Я снова мир пройти готов, И травы мять, и с неба рвать, Плоды земные разлюбив, Серебряный налив луны И солнца золотой налив.Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце
Всё, что на свете грустно, убого и безобразно: Ребенка плач у дороги, телеги скрип за мостом, Шаги усталого пахаря и всхлипы осени грязной – Туманит и искажает твой образ в сердце моем. Как много зла и печали! Я заново все перестрою – И на холме одиноко прилягу весенним днем, Чтоб стали земля и небо шкатулкою золотою Для грез о прекрасной розе, цветущей в сердце моем.Он вспоминает забытую красоту
Обняв тебя, любовь моя, Всю красоту объемлю я, Что канула во тьму времен: Жар ослепительных корон, Схороненных на дне озер; И томных вымыслов узор, Что девы по канве вели, – Для пированья гнусной тли; И нежный, тленный запах роз Средь волн уложенных волос; И лилии – у алтарей, Во мраке длинных галерей, Где так настоен фимиам, Что слезы – на глазах у дам. Как ты бледна и как хрупка! О, ты пришла издалека, Из прежних, призрачных эпох! За каждым поцелуем – вздох… Как будто красота скорбит, Что все погибнет, все сгорит, Лишь в бездне бездн, в огне огней Чертог останется за ней, Где стражи тайн ее сидят В железном облаченье лат, На меч склонившись головой, В задумчивости вековой.Проклятие Адама
В тот вечер мы втроем сидели в зале И о стихах негромко рассуждали, Следя, как дотлевал последний луч. «Строку, – заметил я, – хоть месяц мучь, Но если нет в ней вспышки озаренья, Бессмысленны корпенье и терпенье. Уж лучше на коленях пол скоблить На кухне иль кайлом каменья бить В палящий зной, чем сладостные звуки Мирить и сочетать. Нет худшей муки, Чем этот труд, что баловством слывет На фоне плоте ко-умственных забот Толпы – или, как говорят аскеты, В миру». – И замолчал. В ответ на это Твоя подруга (многих сокрушит Ее лица наивно-кроткий вид И голос вкрадчивый) мне отвечала: «Нам, женщинам, известно изначала, Хоть это в школе не преподают, – Что красота есть каждодневный труд». «Да, – согласился я, – клянусь Адамом, Прекрасное нам не дается даром; Как ни вздыхай усердный ученик, Не вчитывайся в строки пыльных книг, Выкапывая в них любви примеры – Былых веков высокие химеры, Но если сам влюблен – какой в них толк?». Любви коснувшись, разговор умолк. День умирал, как угольки в камине; Лишь в небесах, в зеленоватой сини, Дрожала утомленная луна, Как раковина хрупкая, бледна, Источенная времени волнами. И я подумал (это между нами), Что я тебя любил, и ты была Еще прекрасней, чем моя хвала; Но годы протекли – и что осталось? Луны ущербной бледная усталость.Нет другой Трои
За что корить мне ту, что дни мои Отчаяньем поила вдосталь, – ту, Что в гуще толп готовила бои, Мутя доверчивую бедноту И раздувая в ярость их испуг? Могла ли умиротворить она Мощь красоты, натянутой, как лук, Жар благородства, в наши времена Немыслимый, – и, обручась с тоской, Недуг отверженности исцелить? Что было делать ей, родясь такой? Какую Трою новую спалить?Часть V После первой мировой
Возвращение в Тур Баллили. Йейтс в 1922 году
I
Цикл Уильяма Йейтса «Размышления во время гражданской войны» входит в книгу стихов Йейтса «Башня» (1928). Она начинается со знаменитого «Плавания в Византию». За ним идет «Башня» (по которой и назван сборник). Далее следуют «Размышления…» и «Тысяча девятьсот девятнадцатый». Эти первые четыре вещи не просто задают тон книге – они составляют ее главную ударную силу. Можно сказать, что вся книга «Башня», как ракета, движется по инерции, заданной мощным первоначальным разгоном.
«That is no country for old man» («Эта страна не для старых») – фраза, с которой начинается «Плавание в Византию». И здесь, и в следующем стихотворении старость описывается как нелепость, нечто внешнее и чуждое сознанию поэта: он не понимает, почему его сердце, томящееся желаниями, прикреплено «к умирающему животному», он говорит о своем немощном возрасте, привязанном к нему, как жестянка к собачьему хвосту.
Тема личной бренности здесь на первом месте. Вторая, историческая причина горечи, разлитой в этих стихах, – «порча времени» – пока еще в намеке. Прошлое здесь смутно и варварски грубо. Современность только брезжит; пророчествовать поэт даже не покушается. Лишь в «Размышлениях во время гражданской войны» мотивы старости и ухода сольются со злобой дня и безрадостным взглядом в будущее.
II
Сообщая в письме о только что законченном цикле стихов, Йейтс подчеркивал, что стихи эти – «не философские, а простые и страстные». Слова поэта, конечно же, следует воспринимать с поправкой на его метод, который можно назвать «метафизическим» почти в том же смысле, что и метод Донна. Писать совсем просто – с натуры, из сердца и так далее – Йейтс уже не мог, если бы даже захотел. Он привык к опоре на некую систему идей и символов, без которых чувствовал бы себя «потерянным в лесу смутных впечатлений и чувствований».
Цикл из семи стихотворений имеет свою отнюдь не простую и не случайную, а тщательно продуманную композицию. Она ведет от «Усадеб предков» (часть I), символа традиции и стабильности, через картины гражданского хаоса и раздора (части V и VI) к пророчеству о грядущем равнодушии толпы – равнодушии, которое еще хуже ярости одержимых демонов мести (часть VII).
Башня Тур Баллили. Рис. Роберта Грегори, ок. 1912 г.
Эта тематическая линия, однако, усложнена диалектическими противовесами и антитезами. Если учесть их хотя бы в первом приближении, то композиционная схема будет читаться так: от символов традиции и стабильности (поколебленных догадкой о вырождении всякой традиции, теряющей изначальную «горечь» и «ярость») – через картины гражданского хаоса и раздора (смягченных надеждой, этим неискоренимым пороком человеческого сердца) – к пророчеству о грядущем равнодушии толпы (не способному смутить стоической позиции поэта, его преданности юношеской мечте и вере).
Уточнять можно до бесконечности. Стихотворение Йейтса – не уравнение, в котором левая часть (символ) равно правому (смыслу), не двухмерная картина и даже не последовательность таких картин-образов, которые, как писал Джон Ките, «должны подниматься, двигаться и заходить естественно, как солнце, торжественно и величаво озарять и угасать, оставляя читателя в роскошном сумраке». Стихи Йейтса более походят на другой воспетый Китсом предмет – расписную вазу, вращающуюся перед мысленным взором автора («Ода праздности»). Ощущение цельности и объемности вещи совмещается с пластикой движения. Одни образы уступают место другим – «Как будто вазы плавный поворот / Увел изображение от глаз», – но не исчезают, а лишь временно уходят с переднего плана, чтобы через какое-то время неожиданно вернуться.
III
Так в смене ракурсов «плавного поворота» уходят и возвращаются «ярость» и «горечь» в первом стихотворении цикла «Усадьбы предков». Кто такой этот «угрюмый, яростный старик» в «Усадьбах», столь похожий на alter ego самого поэта? С первой же строки Йе-йтс отделяет себя от наследственной знати: «Я думал, что в усадьбах богачей…» Аристократизм Йейтса – в первом колене, это аристократизм творческого духа. Поэт подозревает, что с утратой горечи и ярости теряется и величие, «что раз за разом цветенье все ущербней, все бледней» (это уже из четвертого стихотворения «Наследство», тематически связанного с первым) – и «пошлая зелень», в конце концов, заглушает с таким трудом взращенный цветок красоты.
Рядом с оппозицией «цветок» – «пошлая зелень» можно поставить другую: «фонтан» – «раковина», с которой начинаются «Размышления…». Неистощимая струя фонтана – это Гомер, эпос. Раковина, в которой слышится эхо гомеровского моря, – искусство наших дней.
Нетрудно вытроить пропорцию: Гомер так относится к искусству новой Европы, как «цветок» символизма – к «пошлой зелени» завтрашнего дня. Все мельчает, исчезает даже эхо величия.
Здесь переводчик должен покаяться. То, что в последних строках двух последних строф передано окольно, через глаголы «укрощать» и «утешать»: «Нас, укротив, лишают высоты» и «… теша глаз, / Не дарят, а обкрадывают нас», – у Йейтса выражено в двух великолепных формулах:
But take our greatness with our violence (Забрав нашу ярость, забирают и величие) But take our greatness with our bitterness (Забрав нашу горечь, забирают и величие)Здесь violence можно перевести не только как «ярость», но и как «бешенство» или «страстность». Bitterness, соответственно, – «горечь», «ожесточенность», «угрюмство» и прочее в таком духе. Из этих двух важнейших слов-символов следует особо остановится на первом.
IV
Ярость, неистовство, буйство, безумство, страсть – rage, violence, wildness, madness, passion… Постепенно из всех синонимов выделяется слово rage, рифмующиеся с age (так и по-русски: ярость – старость). В 1930-х годах к нему прибавляется еще lust (похоть). Критики сразу окрестили этот слой поэзии Йейтса как «poems on lust and rage» («поэзия похоти и ярости») – основываясь, прежде всего, на стихотворении «Шпора» (1936):
Вы в ужасе, что похоть, гнев и ярость Меня явились искушать под старость? Я смолоду не знал подобных кар; Но чем еще пришпорить певчий дар?С этим все понятно. Парадоксально другое. В «Размышлениях во время гражданской войны» violence выступает со знаком плюс, как необходимый импульс творчества и созидания, а в соседнем (и почти одновременном) «Тысяча девятьсот девятнадцатом» – со знаком минус, материализуясь в образе демонов мятежа и разрушения: «Буйство мчит по дорогам, буйство правит конями…»
Как быть с обоюдоострым символом Йейтса? Ярость и буйство, которые творят красоту в «Усадьбах предков», в «Тысяча девятьсот девятнадцатом» проносятся вихрем по дорогам войны, сея ненависть и гибель. Мы вряд ли разгадаем это противоречие, если не обратимся к поэту, которого Йейтс штудировал и комментировал в молодости, одному из его главных учителей, к Уильяму Блейку.
В «Бракосочетании Рая и Ада» Блейка сказано: неверно, что «энергия, именуемая также Злом, происходит единственно от Тела, а Разум, именуемый также Добром, единственно от Души». Но верно, что «у человека нет Тела, отдельного от Души, и что только Энергия есть жизнь, а Разум есть внешняя граница или окружность Энергии».
Если принять это за аксиому (как на том настаивает поэт), станет понятно, что за «яростью» и «буйством» Йейтса скрывается та самая блейковская «энергия», творящая разом и добро, и зло, его «тигры гнева», которые «мудрее, чем клячи наставления».
V
Горечь и ярость поздней поэзии Йейтса оставили неизгладимый след в английской поэзии. Даже его антагонист Томас Стерн Элиот, долгое время глядевший на Йейтса как на какого-то запоздавшего прерафаэлита, в конце концов оценил его главные достижения, сочувственно цитировал «Шпору» в посмертной речи, а спустя несколько лет вновь обратился к его памяти уже в стихах – в своей, может быть, лучшей поэме «Литтл Гиддинг» (из «Четырех квартетов»). Даже сам сверхъестественный колорит этого фрагмента как будто заимствован из стихов Йейтса.
Танцующая девушка
How can we know the dancer from the dance?
W.B. Yeats Трещит цивилизации уклад, Куда ни глянешь – трещины и щели; Меж строчек новостей клубится ад, И сами буквы будто озверели. А ты танцуешь, убегая в сад, Под музыку невидимой свирели. Дракон, чтоб укусить себя за хвост, Взметает пыль нелепыми прыжками; Герои выбегают на помост, Кривляются и дрыгают ногами. А ты, как этот купол, полный звезд, Кружишься – и колеблешься, как пламя. Я помню ночь… Не ты ль меня во тьму Вела плясать на берег, в полнолунье? Не ты ль меня, к восторгу моему, Безумила, жестокая плясунья? Твоих даров тяжелую суму Снесет ли память, старая горбунья? О скорбь моя таинственная! Столь Беспечная и ветреная с виду! Какую затанцовываешь боль? Какую ты беду или обиду Туками хочешь развести? Позволь, К тебе на помощь я уже не выйду. Ты и сама управишься. Пляши, Как пляшет семечко ольхи в полете! Я буду лишь смотреть, как хороши Движенья бедер в быстром развороте. Что зренье? – Осязание души. А осязанье – это зренье плоти, Подслеповатой к старости. Пока Ты пляшешь, – как плясала без покрова Перед очами дряхлого царька Дщерь Иудеи, – я утешен снова: Ведь танец твой, по мненью Дурака, С лихвою стоит головы Святого.Во время войны, на исходе одной из бомбардировочных ночей – «в колеблющийся час перед рассветом» – поэт встречает на пустой улице Лондона призрак «кого-то из великих», кого он «знал, забыл и полупомнил». Он окликает видение и вступает с ним в разговор. Возникает ситуация Данте и Вергилия. В ответ на вопрос: «Что я забыл, чего не понял?» – призрак утешает больную совесть живущего и наставляет его на пороге неизбежной старости. Имя Йейтса не названо, но узнается безошибочно:
И вот какими в старости дарами Венчается наш ежедневный труд. Во-первых, холод вянущего чувства, Разочарованность и беспросветность, Оскомина от мнимого плода Пред отпадением души от тела. Затем бессильное негодованье При виде человеческих пороков И безнадежная ненужность смеха. (Перевод А Сергеева)Дилан Томас, поэт следующего поколения, умерший молодым, в обращении к умирающему отцу («Do Not Go Gently into that Good Night», 1951) переводит императив Йейтса во второе лицо:
Не уходи покорно в мрак ночной, Пусть ярой будет старость под закат; Гневись, гневись, что гаснет свет земной.И когда наш современный поэт Дерек Уолкотт заканчивает свое стихотворение «Поправка к завещанию» словами: «Равнодушье и ярость – не все ли равно?»[162], он, по видимости споря с Йейтсом, по сути развивает тот же мотив. Тут можно вспомнить афоризм М. Пруста: «Сильная мысль сообщает часть своей силы тому, кто ее опровергает».
VI
Второе и третье стихотворения цикла «Моя крепость» и «Мой стол» фиксируют место действия. Они приводят нас в Тур Баллили, норманнскую башню неподалеку от имения друга и покровительницы Йейтса леди Грегори. Эту внушительную, хотя и обветшавшую за века недвижимость поэт выкупил у графства, отремонтировал и сделал своей летней резиденцией («дачей»), а заодно – символом своего искусства.
Здесь теперь музей поэта. Пейзаж не изменился: те же заросли цветущего белого боярышника и желтого утесника на дороге, ведущей к башне, те же черные болотные курочки в запруженном ручье (на редкость изящные создания, в России я таких не видел), те же коровы в примыкающей к пруду низине.
Сначала идет пейзаж, потом – интерьер башни, к тому времени еще не полностью отремонтированной. Строители восстановили разрушенные перекрытия, делившие башню на несколько этажей. Соединяла их крутая и узкая винтовая лестница, пробитая в толстой стене. Столовая была на первом этаже, спальня – на втором и кабинет Йейтса – на третьем. Каменные полы, покрытые циновками, стены, постоянно сочащиеся влагой и потому не украшенные ни картинами, ни фотографиями, простая и скудная мебель – все это создавало суровую, почти средневековую обстановку (таков и был замысел). Последняя строка «Моей крепости», возможно, нуждается в пояснении. В картах Таро – которым Йейтс придавал большое значение – шестнадцатый аркан называется Башня; разрушаемая ударом молнии, она означает гордость, превратность судьбы и тому подобные вещи.
Джордж Йейтс (ур. Хайд-Лиз), жена поэта.
Следующее стихотворение, «Мой стол», переносит нас в кабинет поэта. На столе – свеча, бумага, перо и завернутый в цветную ткань японский меч – с ним связана особая история.
Этот старинный самурайский меч подарил Йейтсу во время его лекционной поездки по США в 1920 году Юндзо Сато, молодой японец, учившийся тогда в Америке. Йейтс долго отказывался от этого дара, но в конце концов принял его с тем условием, чтобы после смерти поэта фамильная реликвия была возвращена прежнему владельцу. Этот пункт был записан в завещании Йейтса и неукоснительно исполнен: меч вернулся в семью Сато.
В стихотворении Йейтса благородный древний меч служит напоминанием о тех обществах и временах, когда совершенное искусство рождалось естественно, передаваясь из поколение в поколение, как семейное ремесло. Но в эпоху, когда гармония разрушена, только героическая верность идеалу, только страдающее сердце (an aching heart) может творить угодное небу искусство. An aching heart, похоже, отсылает к Джону Китсу, к началу его романтической «Оды к Соловью»: «My heart aches…» («Сердце щемит…»)
Однако самые загадочные строки стихотворения – последние:
That he, although a country talk For silken clothes and stately walk, Had waking wits; it seemed Juno's peacock screamed.Буквально: «Что он, несмотря на деревенские сплетни о шелковой одежде и гордой поступи, был полон неусыпной думой; казалось, что вскричал павлин Юноны».
Павлиний крик – отдельная большая тема[163]. Говоря конспективно: павлин в поэтической мифологии Йейтса – предвестник окончания старой и начала новой эпохи, как алхимический термин это – стадия, предшествующая превращению исходного вещества в золото. Крик павлина, таким образом, пророчит гибель и бессмертие; но достигнуть бессмертия можно лишь бодрствуя умом, не давая ему впадать в спячку. Таково одно из возможных толкований этого действительно темного места у Йейтса.
VII
Но и это еще не все. «У шкатулки двойное дно», как сказано у Анны Ахматовой. Расскажу о том, чего до сих пор не заметил ни один англоязычный комментатор Йейтса – по крайней мере, я не встречал этого ни у Джефферса[164], ни у Атерекера[165], ни у какого-либо другого автора.
Есть такая вещь, как семантический ореол поэтического размера. Возьмем простейший пример из той же Ахматовой, ее знаменитое военное стихотворение:
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет…Русский читатель неизбежно слышит за этими стихами торжественный ритм и гул пушкинской «Песни о вещем Олеге»:
Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хозарам, Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожарам…Вот этот-то гул и называется семантическим ореолом. За строками Ахматовой будто бы слышится голос древнего певца и шум воинской дружины – стиховое эхо, многократно умножающее вескость и силу сказанного.
Размер и форма строфы, которыми написано стихотворение Йейтса «Мой стол», тоже имеют сильнейший семантический ореол. Чередование двустиший четырехстопного и трехстопного ямба по схеме 44–33 – форма для английской поэзии куда более экзотическая, чем амфибрахии «Вещего Олега». Мне известно лишь одно оригинальное стихотворение, где применяется этот размер: «Горациан-ская ода на возвращение Кромвеля из Ирландии» Эндрю Марвелла[166].
Йейтс хорошо знал эту оду, она отразилось в его стихотворении «Проклятие Кромвеля» и в переписке, где он называет Кромвеля, прошедшего карательным походом по Ирландии, «Лениным своего времени». Кроме того, он взял из «Горацианской оды» впечатляющий образ, с которого начинается «Второе пришествие». У Марвелла генерал Кромвель сравнивается с соколом Парламента, который по приказу сокольника бросается сверху на добычу, убивает ее и садится рядом на дерево, ожидая, когда сокольник снова его кликнет. У Йейтса сокол выходит из-под контроля.
Все шире – круг за кругом – ходит сокол, Не слыша, как его сокольник кличет; Все рушится, основа расшаталась, Мир захлестнули волны беззаконья…Патрик Кин отмечает этот момент в своей книге о Йейтсе и английской поэтической традиции[167], но он не слышит, что размер «Горацианской оды» Марвелла (посвященной вождю английской гражданской войны XVII века и кровавому усмирителю Ирландии) в точности воспроизводится в «Размышлениях во время гражданской войны» Йейтса – и воспроизводится, конечно, не случайно.
Как объяснить вопиющую глухоту Кина и остальных критиков? Думаю, лишь общим упадком английской поэтической культуры во второй половине XX века, отвычкой от классических размеров, классической декламации, вообще от музыкального звучания стиха. «Горацианская ода» Марвелла начинается с обращения к юноше-поэту, прозябающему среди своих стихов, с призывом отправиться на войну:
The forward youth that would appear Must now forsake his muses dear, Nor in the shadows sing His numbers languishing. Tis time to leave the books in dust, And oil the unused armour's rust: Removing from the wall The corslet of the hall.В русском переводе:
Расстанься, юность наших дней, С домашней музою своей – Теперь не время юным Внимать унылым струнам! Забудь стихи, начисти свой Доспех и панцирь боевой, Чтобы они без цели На стенах не ржавели! (Перевод М. Фрейдкина)Йейтс отвечает в том же самом «горацианском» размере и ритме:
Столешницы дубовый щит, Меч древний, что на нем лежит,
Бумага и перо –
Вот все мое добро, Оружье против злобы дня…
На фоне строк Марвелла это – вежливый отказ. Йейтс лишь слегка замаскировал свое ироническое возражение Марвеллу убрав характерные отступы в трехстопных строках… и оказалось, что он замаскировал слишком хорошо. Ключ от шкатулки сразу и надолго потерялся. С поклоном возвращаем его автору.
VIII
Опасность гражданской войны в Ирландии возникла сразу же после подписания Договора с Англией в январе 1922 года. Раскол между теми, кто согласился на статус Ирландии как «свободного государства» на правах доминиона (их стали звать «фристейтерами») и крайними республиканцами, рос день ото дня. Ирландия уже пережила смуту в 1919 году, когда схватки шли, в основном, между ирландской республиканской армией и британскими войсками, «черно-коричневыми», но под шумок грабили и своих.
Теперь британцев в стране не было, но республиканская армия разделилась на тех, кто остался верным фристейтерскому правительству, возглавляемому Гриффитом, и на «ополченцев» (Irregulars), которые вели партизанскую борьбу, нападая на правительственные отряды, возводя баррикады на дорогах, поджигая усадьбы и дома «врагов». Борьба разгорелась летом, и Йейтс с семьей, приехавшие из Англии в марте с расчетом провести конец весны и лето в Тур Баллили, неожиданно оказались в центре братоубийственной смуты. В этой борьбе «остроконечников» с «тупоконечниками» не столь важно было, кому ты сам симпатизируешь; по ночам в округе действовали какие-то банды в масках, убить или поджечь могли неизвестно за что.
Трагикомическая история произошла, когда ополченцы решили взорвать мост у башни; была у них такая навязчивая идея – перерезать коммуникации. Свое намерение они исполнили 19 августа 1922 года. Сохранилось описание этой операции в письме жены Йейтса к леди Оттолин Моррелл. Сперва партизаны пришли предупредить о своем намерении. Состоялась дискуссия между Джордж (миссис Йейтс) и солдатами: нельзя ли взорвать маленький мостик дальше по дороге, а этот, у самой башни, не трогать? Нельзя. Хозяевам дали полтора часа на подготовку, посоветовали, куда лучше увести детей. Заложили взрывчатку, поставили запалы и бросились бежать подальше. Лишь главный подрывник задержался на мгновение, чтобы сообщить хозяевам: «Через пару минут рванет два раза подряд. Всего хорошего, большое спасибо» (!)
Рвануло так, что было слышно на пятнадцать миль в округе. Несколько камней перелетело через верхушку почти сорокаметровой башни и упало на крышу крестьянского домика с другой стороны. Как ни странно, никакого ущерба цитадели Йейтсов нанесено не было. Даже стекла в окнах, предварительно открытых, остались целы, хотя башня стояла в каком-нибудь десятке метров от моста.
Да и сам мост уцелел – вот что забавно; снесло только один его каменный парапет, и, хотя все вокруг засыпало обломками, по нему по-прежнему можно было ездить.
Вот я и думаю: не от этого ли взрыва скворцы покинули свое гнездо в стене башни (шестое стихотворение цикла, «Гнездо скворца под моим окном»)? Или, быть может, они улетели еще раньше, предчувствуя стрельбу и взрывы? Или ветшающая стена показалась ненадежной? Или просто вырастили птенцов и улетели? В любом случае, улетели они из расщелины или выемки в каменной кладке стены, а не из «скворечника», как написано в одном русском переводе; никаких скворечников под окном Йейтса не было и быть не могло. Сам поэт, комментируя свое стихотворение, говорит о дырке в стене («a hole beside my window»).
Башня. Суперобложка. СтёрджМур, 1928 г.
Впрочем, суть стихотворения, конечно, не в этом. И не в наступлении дурных времен, и не в стихии буйства, овладевшей ослепленными враждой людьми. А в том, что «стена ветшает» и что трещина, как всегда, проходит через сердце поэта. Ибо он – одновременно – и эта старая стена, и улетевший скворец, и опустевшее гнездо; и его молитва, четырехкратно повторенная, – о хотя бы одной капле меда, которая могла бы подсластить эту горечь.
Стена ветшает… Пчелы-медуницы, Постройте дом в пустом гнезде скворца!На исходе лета Йейтсу повсюду стал мерещиться запах меда – там, где заведомо не было никакого меда – на ветреном повороте дороги, в глухом конце каменного перехода. Конечно, расстарались его вездесущие духи. Они всегда являлись, чтобы дать ему новые образы для стихов. В данном случае, образ, конечно, старый, многозначный.
Мед поэзии, о котором говорится в кельтских сагах, – мед Золотого века, капающий с деревьев у Гесиода, – мед зачатий, о котором Йейтс выведал из книги Порфирия о пещере нимф, – медовый запах детских волос. Тем летом у Йейтса было уже двое детей: трехлетняя Энн и Майкл, которому в августе исполнился год.
IX
Последнее стихотворение цикла озаглавлено, в особенности по контрасту с предыдущими простыми названиями, длинно и вычурно: «Передо мной проходят образы ненависти, сердечной полноты и грядущего опустошения». Такие длинные названия, пахнущие старинной антологией, Йейтс любил употреблять время от времени. Но еще больше, чем английский ренессанс, такой заголовок напоминает о древнекитайской лирике, например: «Пишу, поднявшись на башенку в доме господина Пэй Ди» (Ван Вэй). Эти западно-восточные ассоциации как бы стирают границы горизонта, придают стихотворению универсальный характер.
С покупкой башни Йейтс (не забудем, что он был основателем и режиссером дублинского Театра Аббатства) получил в свое распоряжение идеальную декорацию: в этих стенах он мог воображать себя средневековым рыцарем, ученым затворником или алхимиком; поднявшись на верхнюю площадку – астрологом или вавилонским магом. Строка: «Никакие пророчества вавилонских календарей…» – цитата из Горация, его знаменитых стихов (Оды I, 11): «Не спрашивай, не должно знать о том, когда боги пошлют нам конец, Левконоя, и не пытай вавилонских таблиц…»; имеются в виду астрологические таблицы, составлявшиеся халдейскими жрецами.
Итак, в первой строфе Йейтс, как древний восточный поэт или астролог, восходит на башню и, всматриваясь в туманную пелену туч, провидит за ними «странные грезы», «страшные образы». Трех-частная структура заглавия неожиданно возвращает нас к концовке «Плавания в Византию» – о Золотой птице, назначение которой было будить сонного императора (снова вспомним waking witsl) –
И с древа золотого петь живущим О прошлом, настоящем и грядущем.Последующие три строфы седьмой части «Размышлений…» – три грезы, столь несхожие между собой, – можно воспринимать как три песни Золотой птицы. Но лишь последняя из них – определенно и однозначно о будущем (строфа о «грядущем опустошении»). В первых же двух прошлое и настоящее смешивается. В строфе о мстителях – смешивается самым зловещим образом. В комментарии Йейтса об этом говорится:
Во второй строфе седьмого стихотворения встречаются слова: «Отмщенье убийцам Жака Моле!» Призыв к мщению за убитого Великого Магистра тамплиеров кажется мне подходящим символом для тех, чье рвение исходит из ненависти и почти всегда бесплодно. Говорят, что эта идея была воспринята некоторыми масонскими ложами восемнадцатого века и в дальнейшем питала классовую ненависть.
Конная скачка мстителей, которую рисует Йейтс, во многом, вплоть до деталей, похожа на уже описанную им скачку демонов в «Тысяча девятьсот девятнадцатом». Это то же самое неуправляемое и заразительное, опьяняющее буйство.
Здесь можно снова вспомнить Максимилиана Волошина, чьи мысли в годы русской смуты шли во многом параллельно мыслям Йейтса. В замечательной статье «Пророки и мстители», написанной еще в 1906 году, по следам первой русской революции, он посвящает несколько страниц легенде о мести тамплиеров. Приведем отрывки из этой работы. Он заканчивает статью пророческим монологом «Ангел Мщенья» – апокалипсическим видением того, что буквально совершится в России через двенадцать лет.
Кто раз испил хмельной отравы гнева, Тот станет палачом иль жертвой палача.X
Как и в «Тысяча девятьсот девятнадцатом», Йейтс выстраивает композицию по принципу контраста ужасного и прекрасного. Вслед за «демонской» строфой идет строфа «райская»: сад, где «белые единороги катают прекрасных дам», находится вне времени и пространства – на том блаженном острове, который поэт искал всю жизнь, начиная с юношеской поэмы «Плавание Ойсина».
За строфой о единорогах следует другая: о равнодушной толпе, которой чужды и любовь, и ненависть – любые стремления, кроме рациональных и практических. Любопытно, что к «бронзовым ястребам» Йейтс делает примечание: «…я вставил в четвертую строфу ястребов, потому что у меня есть перстень с ястребом и бабочкой, которые символизируют прямолинейность логики и причудливый путь интуиции: «Но мудрость бабочке сродни, а не угрюмой хищной птице».
Таково авторское объяснение. Но после опыта Второй мировой войны перспектива сдвинулась, и образ «крыльев бесчисленных, заслонивших луну», вызывает у нас другие ассоциации. Такой, наверное, была туча самолетов «люфтваффе» шириной в восемь километров, глубиной в шесть, летевшая бомбить Англию в 1940 году.
«Равнодушие толпы» и «бронзовые ястребы» у Йейтса идут через запятую, как однородные члены – или как две стороны одного и того же. То и другое питается пустотой, приходящей на смену «сердечной полноте» – грезам, восторгам, негодованию, печали по прошлому. Таков приговор поэта наступающим временам.
В стихотворении используется и принцип закольцовывания. «Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены…» – «Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз…» (пробуждение и отрезвление).
Здесь нельзя не увидеть сходства с «Одой к Соловью» Китса, которая тоже начинается с поэтического опьянения, с песни соловья, уносящего поэта в мир грез.
«Прощай! Фантазия, в конце концов, / Навечно нас не может обмануть», – восклицает в последней строфе поэт, возвратившись к самому себе, к своей тоске и одиночеству.
«О честолюбивое сердце мое, ответь», – вопрошает Йейтс, – не лучше ли нам было заняться чем-то более понятным для людей? Это прямой диалог с одой Китса – после уже обозначенных в цикле подсказок: «aching heart» и «waking wits». Напомним, «Ода к Соловью» кончается вопросом: «Do I wake or sleep?»
Но Йейтс не останавливается на этой зыбкой точке. Стихотворение кончается признанием в верности «демонским снам» с их «полупонятной мудростью» и восторгом. В оригинале сказано (буквально), что они «довлеют старику, как некогда довлели юноше»:
…Suffice the aging man as once the growing boy.И неожиданно для нас проступает второй смысл заключительной строки. «The aging man» и «the growing boy» – не только два возраста одного поэта, это еще и два разных поэта, одному из которых довелось дожить до старости (сам Йейтс), а другой навеки остался юношей, как Джон Ките. Так, абстрагируясь от смуты настоящего и темных угроз будущего, Йейтс принимает старое романтическое наследство и втайне присягает ему.
У. Б. Йейтс (1865–1939)
Мраморный тритон
Мечтаньями истомлен, Стою я – немолодой Мраморный мудрый тритон Над текучей водой. Каждый день я гляжу На даму души своей, И с каждым днем нахожу Ее милей и милей. Я рад, что сберег глаза И слух отменный сберег И мудрым от времени стал, Ведь годы мужчине впрок. И все-таки иногда Мечтаю, старый ворчун: О, если б встретиться нам, Когда я был пылок и юн! И вместе с этой мечтой Старясь, впадаю в сон, Мраморный мудрый тритон Над текучей водой.Политической узнице
Нетерпеливая с пелен, она В тюрьме терпенья столько набралась, Что чайка за решеткою окна К ней подлетает, сделав быстрый круг, И, пальцев исхудалых не боясь, Берет еду у пленницы из рук. Коснувшись нелюдимого крыла, Припомнила ль она себя другой – Не той, чью душу ненависть сожгла, Когда, химерою воспламенясь, Слепая, во главе толпы слепой, Она упала, захлебнувшись, в грязь? А я ее запомнил в дымке дня – Там, где Бен-Балбен тень свою простер, – Навстречу ветру гнавшую коня: Как делался пейзаж и дик, и юн! Она казалась птицей среди гор, Свободной чайкой с океанских дюн. Свободной и рожденной для того, Чтоб, из гнезда ступив на край скалы, Почувствовать впервые торжество Огромной жизни в натиске ветров – И услыхать из океанской мглы Родных глубин неутоленный зов.Второе пришествие
Все шире – круг за кругом – ходит сокол, Не слыша, как его сокольник кличет; Все рушится, основа расшаталась, Мир захлестнули волны беззаконья; Кровавый ширится прилив и топит Стыдливости священные обряды; У добрых сила правоты иссякла, А злые будто бы остервенились. Должно быть, вновь готово откровенье И близится Пришествие Второе. Пришествие Второе! С этим словом Из Мировой Души, Spiritus Mundi, Всплывает образ: средь песков пустыни Зверь с телом львиным, с ликом человечьим И взором гневным и пустым, как солнце, Влачится медленно, скребя когтями, Под возмущенный крик песчаных соек. Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю, Каким кошмарным скрипом колыбели Разбужен мертвый сон тысячелетий, И что за чудище, дождавшись часа, Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме.Размышления во время гражданской войны
IV
Наследство
Приняв в наследство от родни моей Неукрощенный дух, я днесь обязан Взлелеять сны и вырастить детей, Вобравших волю пращуров и разум, Хоть и сдается мне, что раз за разом Цветенье все ущербней, все бледней, По лепестку его развеет лето, И, глядь – все пошлой зеленью одето. Сумеют ли потомки, взяв права, Сберечь свое наследье вековое, Не заглушит ли сорная трава Цветок, с таким трудом взращенный мною? Пусть эта башня с лестницей крутою Тогда руиной станет – и сова Гнездясь в какой-нибудь угрюмой нише, Кричит во мраке с разоренной крыши. Тот Перводвигатель, что колесом Пустил кружиться этот мир подлунный, Мне указал грядущее в былом – И, возвращений чувствуя кануны, Я ради старой дружбы выбрал дом И перестроил для хозяйки юной; Пусть и руиной об одной стене Он служит памятником им – и мне.V
Дорога у моей двери
Похожий на Фальстафа ополченец Мне о войне лихие пули льет – Пузатый, краснощекий, как младенец, – И похохатывает подбоченясь, Как будто смерть – веселый анекдот. Какой-то юный лейтенант с отрядом Пятиминутный делая привал, Окидывает местность цепким взглядом; А я твержу, что луг побило градом, Что ветер ночью яблоню сломал. И я считаю черных, точно уголь, Цыплят болотной курочки в пруду, Внезапно цепенея от испуга; И, полоненный снов холодной вьюгой, Вверх по ступеням каменным бреду.VI
Гнездо скворца под моим окном
Мелькают пчелы и хлопочут птицы У моего окна. На крик птенца С букашкой в клювике мамаша мчится. Стена ветшает… Пчелы-медуницы, Постройте дом в пустом гнезде скворца! Мы, как на острове; нас отключили От новостей, а слухам нет конца: Там человек убит, там дом спалили – Но выдумки не отличить от были… Постройте дом в пустом гнезде скворца! Возводят баррикады; брат на брата Встает, и внятен лишь язык свинца. Сегодня по дороге два солдата Труп юноши проволокли куда-то… Постройте дом в пустом гнезде скворца! Мы сами сочиняли небылицы И соблазняли слабые сердца. Но как мы так могли ожесточиться, Начав с любви? О пчелы-медуницы, Постройте дом в пустом гнезде скворца!Леда и лебедь
Внезапный гром: сверкающие крылья Сбивают деву с ног – прижата грудь К груди пернатой – тщетны все усилья От лона птичьи лапы оттолкнуть. Как бедрам ослабевшим не поддаться Крылатой буре, их настигшей вдруг? Как телу в тростнике не отозваться На сердца бьющегося гулкий стук? В миг содроганья страстного зачаты Пожар на стогнах, башен сокрушенье И смерть Ахилла. Дивным гостем в плен Захвачена, ужель не поняла ты Дарованного в Мощи Откровенья, – Когда он соскользнул с твоих колен?Безумная Джейн говорит с епископом
Епископ толковал со мной, Внушал и так и сяк: «Твой взор потух, обвисла грудь, В крови огонь иссяк; Брось, говорит, свой грязный хлев, Ищи небесных благ». «А грязь и высь – они родня, Без грязи выси нет! Спроси могилу и постель – У них один ответ: Из плоти может выйти смрад, Из сердца – только свет. Бывает женщина в любви И гордой и блажной, Но храм любви стоит, увы, На яме выгребной; О том и речь, что не сберечь Души – другой ценой».Водомерка
Чтоб цивилизацию не одолел Варвар – заклятый враг, Подальше на ночь коня привяжи, Угомони собак. Великий Цезарь в своем шатре Скулу кулаком подпер, Блуждает по карте наискосок Его невидящий взор. И как водомерка над глубиной, Скользит его мысль в молчании. Чтобы Троянским башням пылать, Нетленный высветив лик, Хоть в стену врасти, но не смути Шорохом – этот миг. Скорее девочка, чем жена, – Пока никто не войдет, Она шлифует, юбкой шурша, Походку и поворот. И как водомерка над глубиной, Скользит ее мысль в молчании. Чтобы явился первый Адам В купол девичьих снов, Выставь из папской часовни детей, Дверь запри на засов. Там Микеланджело под потолком Небо свое прядет, Кисть его, тише тени ночной, Движется взад-вперед. И как водомерка над глубиной, Скользит его мысль в молчании.Джон Кинселла пьет за упокой миссис Мэри Мор
Горячка, нож или петля, Пиковый интерес, Но смерть всегда хватает то, Что людям позарез. Могла бы взять сестру, куму, И кончен разговор, Но стерве надо не того – Подай ей Мери Мор. Кто мог так ублажить мужчин, Поднять и плоть и дух? Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх! Пока не сговоришься с ней, Торгуется как жид, Зато потом – заботы прочь, Напоит, рассмешит. Такие байки завернет, Что все забудешь враз, Любое слово у нее Сверкало, как алмаз. Казалось, что невзгоды – прах, А бремя жизни – пух. Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх! Когда бы не Адамов грех, Попы нам говорят, То был бы уготован всем При жизни райский сад, Там нет ни горя, ни забот, Ни ссор из-за гроша, На ветках – сочные плоды, Погода хороша. Там девы не стареют ввек, Скворцы не ловят мух. Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх!Томас Стернс Элиот (1888–1964)
Родился в Сент-Луисе (штат Миссури, США), учился в Гарварде, Оксфорде и Сорбонне. В 1914 году поселился в Англии, принял британское гражданство. Сборник «Пруфрок и другие наблюдения» (1917), поэмы «Бесплодная земля» (1922) и «Полые люди» (1925), а также критические статьи Элиота и издаваемый им журнал «Критерий» (1922–1939), составили ему репутацию лидера и главного «гуру» английского модернизма. Со временем католические убеждения поэта крепнут, и его стихи становятся более медитативными, «метафизическими». Не случайно Элиот был одним из самых влиятельных пропагандистов поэзии Джона Донна. Сборник поэм «Четыре квартета» (1943), в особенности последняя из них, «Литтл Гиддинг», относятся к высшим достижениям Элиота.
Animula
Вот она, прямо из Божьих рук, простая душа, Является в этот шумный и яркий, яростный мир, Теплый, холодный, ветреный, влажный или сухой. Вот она, заблудившись в ножках стула или стола, Падает, ушибается – и в испуге бежит К маминым ограждающим коленям и рукам. Вот она, жадная до игрушек и ласк, С восхищеньем глядитТомас Стернс Элиот. Фото 1940-х гг.
На море, на рождественскую елку в огнях, Вдыхает праздничный запах хвои и соли морской, Изучает узоры солнечные на полу, Пляшет вокруг коробки с серебряною тесьмой, Смешивает сон с явью, и правду с мечтой, Радуется карточным дамам и королям, Впитывает рассказы о феях и сплетни слуг. Ноша взросления отягощает ее, Отягощает и мучает день ото дня, Месяц за месяцем все больше мучает и тяготит – Все эти бесконечные «можно» и «нельзя», Эти «вряд ли, как на голову холодный душ. Мука существования и соблазны мечты Нудят детскую душу скрыться от всех – На подоконник, где, коленки поджав, Томом Британники она отгораживается от мира людей. Вот она, питомица времени, ребячья душа, Самолюбивая, робкая и невезучая, Не способная ни ополчиться решительно, ни отступить; Она пугается всего, не отличая блага от зла, Страшится кляксу поставить в тетрадь, Боится призраков и собственной тени своей, Оставляет после себя разор и груду пыльных бумаг, Лишь в смертный час обретая желанный покой. Молись за нас, Дева Пречистая, за всех нас – За Гуитьерреса, одержимого скоростью и высотой, За Будэна, разорванного бомбой в клочки, За того, кто успел не спеша сколотить капитал, И за того, кто просто жил, как умел, За Флорет, растерзанную псом в кипарисовой роще; Молись за нас, грешных и новорождённых.Пепел (Из поэмы «Литтл Гиддинг»)
Серый след на руке старика – Пепел роз, поглощенных огнем. Пыль, что горло щекочет, горька, – Пыль от жизни, пошедшей на слом. Там, где памяти дым и зола, Дом стоял, мышь под полом жила. Видишь эти проломы и бреши? Это – воздух сгоревший. Эта сушь, эта морось в глазах, Пепел дней, что дотла сожжены; Влага мертвая, умерший прах Все никак не поделят вины. Смотрит выпотрошенная земля, Горькой шуткой себя веселя, На безумье великого дела. Это жизнь догорела. Не дождешься плода от труда, Не удержит добычи ладонь: Все захватит огонь и вода, Все поделят вода и огонь. Тщетны жертвы и тщетны труды, Догниют и дотлеют следы Алтарей и колонн и палат. И вода и огонь догорят.Белая богиня и черный кентавр (Поэтические мифы Р. Грейвза и У. Б. Йейтса)
Влюбленные, безумцы и поэты Сотворены из собственных фантазий: Безумец видит демонов повсюду; Влюбленный в ослеплении своем Красу Елены зрит в цыганке смуглой; Поэта взор, блуждая, переходит С небес на землю и опять на небо. «Сон в летнюю ночы, V, 1.I
Среди английских поэтов XX века было два великих мифотворца – Уильям Йейтс и Роберт Грейвз. Между прочим, оба – ирландцы, и кельтский элемент играет существенную роль в их творчестве. Он обнаруживает себя в причудливости фантазии, в поэтическом темпераменте, «одержимости» в платоновском смысле этого слова. «Безумная Ирландия втравила тебя в поэзию», – говорил Оден о Йейтсе. Наверное, только ирландцы могли сотворить такое – возвысить свой личный поэтический принцип до масштаба универсального мифа.
Мифопоэтическая система Йейтса, в основном, изложена в его прозаических книгах «Per Arnica Silentia Lunae» (1917) и «Видение» (1925); система Грейвза – в книге «Белая Богиня» (1946).
Главные понятия Йейтса – маска, Даймон и фазы лунных превращений, причем в первой книге 1917 года лунных фаз еще нет (они появляются только в «Видении»). Зато луна присутствует в самом названии этой книги: «Per Arnica Silentia Lunae» – «При благосклонном молчании луны» (из Вергилия). В «Per Arnica» высказывается выношенное Йейтсом убеждение, что истинный поэт должен довериться своему Даймону (анти-Я) и создать маску, во всем противоположную себе самому. Суть «Видения» – книги, якобы наговоренной духами жене поэта во время сеансов автоматического письма, – в учении о лунных фазах души, движущейся по кругу от пассивной объективности к полной субъективности, достигая состояния Единства Бытия в фазе полнолуния. При этом нужно учесть, что поэтическая мифология Йейтса не исчерпывается этими двумя важнейшими книгами, но включает в себя представление о символической Розе, распятой на Кресте Времен (от розенкрейцерской доктрины, разделяемой Йейтсом), и учение об трансмутации души (следствие его алхимических увлечений). Эти представления наиболее ярко представлены в его сборнике рассказов «Сокровенная Роза» (The Secret Rose, 1895) и в лирике.
Концепция Грейвза, в основе своей, чрезвычайно проста. Он утверждает, что вся истинная поэзия есть не что иное, как обряд поклонения тройственной богине Луны (которую Грейвз называет Белой Богиней), правящей в небе, на земле и под землей.
Представление о Луне как о тройственной богине восходит к античности (Феокрит, комментария Сервия к «Энеиде» и пр.). Поэты Возрождения подхватили эту идею. Грейвз ссылается на Джона Скельтона (1464?–1529), придворного поэта Генриха VIII, который в поэме «Лавровый венок» пишет:
Схема лунных фаз, по Йейтсу.
Диана в зелени листвы, Луна, что светит ярко, И Персефона Ада (154).Если бы Грейвз знал сонет французского поэта Этьена Жоделя (1532–1573) «К Диане», он, вероятно, процитировал бы и его, потому что вряд ли в мировой поэзии существует более красноречивое восхваление Тройственной богини в единстве ее трех ипостасей – светлой (Силены или Цинтии), грозной (Артемиды или Дианы) и зловещей (Персефоны или Гекаты).
К Диане
Царица светлых сфер, и рощ, и Ахерона, Диана, в трех мирах твоя звезда горит: Со свитой гончих псов, и туч, и Эвменид Ты гонишь, ты грозишь, ты блещешь с небосклона. Так красота твоя пугающе бездонна, Так власть ее слепит, преследует, мертвит, Что молнии она Юпитера затмит, И стрелы Фебовы, и ужасы Плутона. Твои лучи, силки, в тебе сквозящий ад Влюбляют и пленят, ввергают в тьму и хлад, Но только ни на гран не делают свободней, Покоя не сулят, – о Цинтия ночей, Диана на земле, Геката в преисподней, Свет, мука и печаль богов, людей, теней!Здесь атрибуты Цинтии – лучи и тучи, Дианы – силки и гончие псы, Гекаты – Ад и Эвмениды; им соответствуют глаголы: слепить, влюблять (для Цинтии); преследовать, пленять (для Дианы); мертвить, ввергать во тьму и хлад (для Гекаты). И, наконец, этот замечательный сонет (любовный сонет, конечно, – какой же еще!) разрешается последней строкой, «замком», в котором оказываются намертво сплавлены бессмертные черты Тройственной богини:
Свет, мука и печаль богов, людей, теней!II
Хорхе Луис Борхес характеризовал Роберта Грейвза как «замечательного во всех своих разнородных проявлениях поэта, исследователя поэзии, восприимчивого и просвещенного гуманитария, романиста, рассказчика, мифолога» и, в целом, как «одного из самых оригинальных писателей нашего века». Имелся в виду век двадцатый. Грейвз прожил долгую жизнь: он родился в Лондоне в 1895-м и умер в 1985 году на острове Мальорка, ставшим его постоянным домом с середины 1940-х годов. Здесь он закончил «Белую богиню» (1948) – книгу, которую критики обычно называют «спорной», но, тем не менее, это summa summarum его поэтики, выражение его кредо.
Роберт Грейвз не скрывает своих романтических убеждений. Он ополчается на поэзию рациональную, мелочную, бескрылую. «Подлинные поэты согласятся с тем, что поэзия – это духовное откровение, которое поэт сообщает равным, а не искусное умение поразить слушателей-простолюдинов или оживить подвыпивших гостей на званом ужине» (166), – пишет он. И еще: «Поэзия становится академической и переживает упадок до тех пор, пока Муза не проявляет свою силу во времена так называемых романтических возрождений» (169).
Верность романтизму – якобы вышедшему из моды в XX веке – сближает «последнего романтика» Грейвза с «последним романтиком» Йейтсом. Совершенно естественно, что и книга Йейтса «Видение», и «Белая Богиня» Грейвза были встречены холодом или насмешками критики. Один из друзей Йейтса даже грозился написать книгу под названием: «Семь связок хвороста для сожжения великого еретика Йейтса». Грейвз в предисловии ко второму изданию «Белой Богини» сетовал, что ни один специалист-кельтолог так и не высказался ни за, ни против его доводов, видимо, ученые мужи просто не приняли их всерьез.
Тем не менее обе эти «сомнительные» книги выдержали испытание временем: их переиздают, их читают, их переводят на другие языки мира. Тысячи поклонников Йейтса и Грейвза с их помощью проникают в глубину творчества своих кумиров, в тайное тайных их воображения.
Между поэтическими кредо двух великих романтиков XX века существует отчетливая связь. Белая Богиня состоит в родстве, и даже не очень отдаленном, с Сокровенной Розой. Вся лирика Йейтса расходится концентрическим кругами из единого центра, и этот центр – объект мистического поклонения, сродни Белой Богине. Поэтический язык Йейтса – тот самый магический язык, который, по словам Грейвза, «по сей день остается языком истинной поэзии» (9)[168].
III
Прельщать и губить – две неотъемлемые функции таинственной богини. Так и в балладе Джона Китса «La Belle Dame Sans Merci» («Прекрасная Дама Без Пощады»), на которой Грейвз останавливается с особой подробностью. Баллада начинается описанием рыцаря, потерявшего свою возлюбленную и вместе с ней свою душу.
Зачем, о рыцарь, бродишь ты Печален, бледен, одинок? Поник тростник, не слышно птиц, И поздний лист поблек?[169]Рыцарь рассказывает о встреченной им прекрасной деве с цветами в волосах и диким взором, которая обольстила его своей любовью, ввела в волшебный грот, четырежды поцеловала и усыпила. Во сне ему являются такие же, как он, жертвы девы, открывающие ему страшную правду: всякий, кто увидит La Belle Dame Sans Merci, обречен гибели. Рыцарь просыпается на холодной скале, бледный, печальный, навеки потерявший себя.
Древнеримская Геката Трех Дорог, Капитолий. Прорисовка рельефа
Грейвз проецирует балладу на биографию Китса: его любовь к прелестной и кокетливой Фанни Брон, их тайное обещание друг другу, открывшуюся у Китса чахотку и расторжение обетов. «Вот почему лицо Belle Dame прекрасно своей бледностью и тонкостью, как лицо Фанни, – но при этом зловеще и насмешливо: это лицо жизни, которую он любил и лицо смерти, которой он боялся» (252). Недаром в балладе сказано о рыцаре:
Смотри: как лилия в росе, Твой влажен лоб, ты занемог, В твоих глазах застывший страх, Увяли розы щек.«Belle Dame, – заключает Грейвз, – это одновременно Любовь, Смерть от Чахотки и Поэзия, и это подтверждается изучением тех источников, которые использовал Ките, когда писал стихотворение» (253). Поучительно обратиться к еще одному стихотворению Китса, написанному в том же 1819 году, «Оде Праздности»:
Однажды утром предо мной прошли Три тени, низко головы склоняя, В сандалиях и ризах до земли…Таинственные тени скользнули перед ним и исчезли, как будто их унес с собой плавный поворот вазы, и вновь возникли, когда полный оборот совершился. И в этот миг поэт узнает их:
Вожатой шла прекрасная Любовь; Вслед – Честолюбье, жадное похвал, Измучено бессонницей ночной; А третьей – Дева, для кого всю кровь Я отдал бы, кого и клял и звал, – Поэзия, мой демон роковой.Как мы видим, триада теней, явившаяся Китсу, близка к той, которую олицетворяет (согласно Грейвзу) La Belle Dame Sans Merci. Первой шествует Любовь, последней Поэзия, в середине вместо Чахотки идет Честолюбие, измученное бессонницей, – но так ли велика разница? И то, и другое – воплощение муки, снедавшей поэта в его последний творческий год.
«Свет, мука и печаль…» Само собой разумеется, что свет – это Любовь, а печаль – квинтэссенция Поэзии. Выходит, что не кто иной, как сама Великая богиня в трех своих обличьях, прошла перед поэтом в тот ранний час между сном и пробуждением.
Обратим еще внимание, что Джон Ките называет Поэзию демоном (в оригинале: „ту demon Poesy“). «Роковой» добавлено переводчиком; но ведь «мой демон» иным и не бывает, он неотделим от Рока, от судьбы. Йейтс тоже фактически отождествлял свою музу с Демоном (Даймоном).
IV
Вспомним теперь образ возлюбленной и музы в поэзии У. Б. Йейтса, являющуюся ему с юности во множестве узнаваемых обличий. В поэме «Странствия Ойсина» это была нимфа Ниав, увлекшая поэта на три острова, лежащих вне этого мира. В «Песне скитальца Энгуса» – волшебная лосось, обернувшаяся девой и тотчас исчезнувшая, в «Печали любви» – Дева с «алыми скорбными губами». Йейтс увидел в ней скитальческую душу (pilgrim soul) и тайный дар сострадания. Он назвал ее Сокровенной Розой. В жизни ее звали Мод Гонн; Йейтс был безнадежно влюблен в нее долгие, долгие годы.
В сущности, нет ничего удивительного в том, что музы Йейтса и Грейвза во многом схожи. И Сокровенная Роза, и Белая Богиня – изводы той «Вечной женственности», приход которой напророчил Гете в заключительной строке «Фауста»: «Вечное женственное влечет нас ввысь» –
Das ewig weibliche ziht uns hinan.Впрочем, романтическое возрождение не открыло, а лишь с новой силой пережило то, что было издавна укоренено в европейской традиции: средневековый культ Богоматери, Дант с его Беатриче, поклонение прекрасной даме. Спасительницей душ, медиатором между человеком и Богом, Душой Мира – вот чем была die Ewige Weiblichkeit в христианской Европе – вплоть до В. Соловьева и Блока. Грейвз разглядел в ней нечто другое – архаические черты неумолимой богини, оборотничество, гибельность ее чар.
Но ведь и муза Йейтса, по сути, тройственна. Еще в молодости, в первом стихотворении сборника «Ветер в камышах» (1899) он интуитивно расщепил натрое ее свойства: «Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days!» (Красная Роза, гордая Роза, печальная Роза всей жизни моей!)
«Свет, мука и печаль…»Мод Гон. Фото 1890-х гг.
Если посмотреть на творчество Йейтса в целом, то его Муза с течением лет предстанет перед нами в трех последовательных образах: хрупкая и пассивная красота, неистовая плясунья и немощная старуха (цикл Безумной Джейн).
Ему довелось увидеть Мод Гонн стареющей, как луна на ущербе, как раковина, «источенная волнами времени». В стихотворении «Среди школьников» (1926) он рисует ее одновременно в трех лунных фазах – девочкой, похожей на глупого утенка, прекрасным лебедем молодости и уставшей, измученной женщиной:
О, как с тех пор она переменилась! Как впали щеки – словно много лун Она пила лишь ветер и кормилась Похлебкою теней!«Похлебка теней» – это политические страсти, которым Мод Гонн отдала без остатка всю жизнь, которым и сам Йейтс был когда-то не чужд; теперь, с высоты лет, они представляются ему пустым и бессмысленным делом.
Но в самых последних стихах Йейтса, в которых запечатлелся образ Мод Гонн, в позднем его воспоминании она все-таки предстает богиней: «Pallas Athene in that straight back and arrogant head». – «Величавая стать / И взор Афины Паллады, устремленный вперед».
V
Мы видим, что поэзия Йейтса как таковая вполне укладывается в схему Грейвза; другое дело – его поэтический миф, как он выражен в «Per Arnica Silentia Lunae» и «Видении». Как может сочетаться теория маски Йейтса и его Даймон с верой в Белую Богиню? Можно ли примирить эти две системы?
Попробуем. На первый взгляд, кажется, что у Грейвза все просто: поэт попадает во власть Белой Богини, на него находит вдохновение и диктует ему стихи. У Йейтса, безусловно, тоже есть своя владычица, Муза (как бы он ее не называл), но вдохновение не сходит на поэта просто так, оно завоевывается в жестокой борьбе, в распре с самим собой. Победа достается лишь тому, кто перевоплощается в нечто иное, противоположное, кто находит героическую маску, находит своего Даймона и подчиняется ему. Здесь первая сложность. В чем разница между Даймоном и Музой? Почему именно Даймон говорит поэту: ego dominus tuus?[170] Почему, чтобы овладеть Музой, нужно надеть маску, предложенную Даймоном? (Так Утер Пен-драгон принял вид герцога Тентажильского, чтобы соединиться с Игрейной, – в предании о рождении Артура. Так Зевес принимал чужие обличья, чтобы зачать Геракла и других героев.)
Магической цели можно добиться лишь магическим путем. Речь идет о своего рода инициации поэта. Маска, изменение обличья – неотъемлемый элемент инициации. Наивно думать, что человек, не пересоздав себя, может запросто творить поэзию. Это момент, полностью упущенный Грейвзом. Даймон, который подсказывает маску, – жрец Богини или, может быть, Дух Предков. В маске, которую одевает поэт, воплощается героический протагонист Темы. Отныне поэт должен пройти ее путем до самого конца.
Вот что важно – поэт не только выбирает для своих стихов тот или иной эпизод Темы, он сам воплощает в себе Тему (основной миф). Грейвз это понимает. Он пишет: «Вкратце, Тема – это древняя история в тринадцати главах с эпилогом, история о рождении, жизни, смерти и возрождении бога Прибывающего года. В центральных главах повествуется о том, как этот бог терпит поражение в битве с богом Убывающего года за любовь капризной и всесильной Тройственной богини, выступающей в трех ипостасях – их матери, невесты и погубительницы. Поэт отождествляет себя с Богом Прибывающего года, а свою Музу – с богиней (Курсив мой. – Т. К.); соперником оказывается его единокровный брат, второе «я», рок. Всякое подлинное поэтическое произведение воспевает какой-либо эпизод или сцену из этой древней истории» (38).
Отсюда следует, в частности, что поклонение Богине носит у поэта не пассивный характер, но активный и мужественный: это любовь, которая требует завершения, консуммации. В мифе это влечет за собой гибель героя.
Стихотворение Грейвза «Белая богиня» рассказывает тот же сюжет на языке сказки или романтического «квеста»:
Проходим мы там, где вулканы и льды, И там, где ее исчезают следы, Мы грезим, придя к неприступной скале, О белом ее, прокаженном челе, Глазах голубых и вишневых губах, Медовых – до бедер – ее волосах. Броженье весны в неокрепшем ростке Она завершит, словно Мать, в лепестке. Ей птицы поют о весенней поре, Но даже в суровом седом декабре Мы жаждем увидеть среди темноты Живое свеченье ее наготы. Жестокость забыта, коварство не в счет… Не знаем, где молния жизнь пресечет[171].VI
Итак, выбор маски – часть инициации поэта, а Даймон – образец для подражания или Дух Предка («живущий может сделать своим Даймоном какого-нибудь великого мертвеца» – PASL, 1, VII), но также и судьба, которую поэт выбирает. «Когда я думаю о борьбе с Даймоном, подвигающей нас на самое трудное дело из всех возможных, я понимаю, откуда эта вражда между человеком и судьбой и откуда эта беззаветная любовь человека к своей судьбе» (PASL, 1, VIII). Запомним на будущее: вражда – и беззаветная любовь.
Мы можем проверить концепцию Йейтса, если попробуем разобрать одно из его самых темных символических стихотворений «Черный кентавр». Несомненно, впечатляющее, но сбивающее с толку критиков, пытающихся его интерпретировать („powerful if confusing“ – Харолд Блум). Конечно, можно было бы взять стихотворение попроще, но ведь сам Йейтс советует выбирать «самое трудное дело из всех возможных». Итак, вот это стихотворение; оно входит в сборник «Башня» (1928), хотя написано восемью годами раньше.
Черный кентавр (по картине Эдмунда Дюлака)
Ты все мои труды в сырой песок втоптал У кромки черных чащ, где, ветку оседлав, Горланит попугай зеленый. Я устал От жеребячьих игр, убийственных забав. Лишь солнце нам растит здоровый, чистый хлеб; А я, прельщен пером зеленым, сумасброд, Залез в абстрактный мрак, забрался в затхлый склеп И там собрал зерно, оставшееся от Дней фараоновых, – смолол, разжег огонь И выпек свой пирог, запив его вином Из древних погребов, где семь Эфесских сонь Который век подряд спят молодецким сном. Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон, Без пробуждения; ведь я тебя любил, Кто что ни говори, – и сберегу твой сон От сатанинских чар и попугайных крыл. 1920VII
О трудности этого стихотворения можно судить хотя бы по тому, что оно ввело в заблуждение самого Ричарда Эллмана, начинающего его разбор следующими словами: «Это гномическое стихотворение отражает удовлетворение Йейтса развитием своего поэтического таланта и откровениями, полученными его женой в процессе автоматического письма»[172].
Поразительная глухота одного из лучших знатоков и интерпретаторов Йейтса. Какое уж там «удовлетворение»! Наоборот, тотальное разочарование и горечь – та самая, о которой Йейтс писал в письме Оливии Шекспир: «Перечитывая „Башню“, я был удивлен ее горечью».
«Удовлетворения» нет ни в начале стихотворения («ты все мои труды в сырой песок втоптал»), ни в конце, где говорится о «сатур-новом сне». Тут снова заблуждение, причем всех комментаторов поголовно. Стандартное примечание гласит: «Царство Сатурна (позднее отождествленное с греческим богом Кроном) рассматривалось как Золотой Век человечества». Так во всех изданиях Йейтса и монографиях, вплоть до «Нового комментария к стихотворениям Йейтса» Джефферса[173]. Получается, что заклинание кентавра спать «сатурновым сном» есть убаюкивание в радостный и безмятежный «золотой сон». На самом деле наоборот! Строка:
Stretch out your lips and sleep a long Saturnian sleep –аллюзия на знаменитую поэму Джона Китса «Гиперион», которая начинается описанием спящего Сатурна. Война богов окончена поражением возглавляемого им рода титанов; Сатурн, простертый на песке сумрачной долины, не хочет просыпаться. Его сестра Тея, придя к поверженному богу, сперва пытается пробудить его, а затем в отчаянье отступается от него со словами:
Saturn, sleep on – О thoughtless, why did I Thus violate thy slumberous solitude? Why should I ope thy melancholy eyes? Saturn, sleep on! while at thy feet I weep! Так спи, Сатурн, без пробужденья спи! Жестоко нарушать твою дремоту, Она блаженней яви. Спи, Сатурн! – Пока у ног твоих я плачу горько.Вот с чем резонируют слова Йейтса: «Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон, / Без пробуждения…» Перед нами не великий и счастливый владыка Золотого Века, а Сатурн после войны богов – разгромленный и бессильный.
VIII
Что же такое Черный кентавр? – вот главный вопрос. Все комментаторы, пытавшиеся на него ответить, отталкивались, в первую очередь, от второй строки последней строфы: «Я любил (и люблю) тебя больше, чем свою душу, что бы я там ни говорил» (I have loved you better than my soul for all my words). Оговорка, по-видимому, относится к утверждению, что Черный кентавр втоптал в землю все его труды. Вопреки этому, поэт любил и любит его.
Кого же (или что же) Йейтс любил больше, чем собственную душу? Перечислим возможные ответы: Мод Гонн, Красоту, Музу, Ирландию, своего Даймона (последняя версия исходит из его поэтического кредо «Per Arnica Silentia Lunae».
Ричард Эллман выбирает Музу, ссылаясь на близость кентавра к Пегасу, а также на цитату из автобиографии Йейтса: «Я думал, что любое искусство должно быть кентавром, обретающем в фольклоре свою спину и сильные ноги»[174].
Джон Антереккер называет Ирландию[175]. Чем он доказывает, что Ирландия втоптала в землю труды поэта? Тем, что в 1920 году, когда было написано стихотворение, Йейтс был более популярен в Англии и Америке, чем в Ирландии. (На мой взгляд, довод довольно шаткий.)
Хэролд Блум отвергает версии Эллмана и Антерекера, предлагая взамен свою интерпретацию: Черный кентавр – это Даймон, который, по словам Йейтса, «завлекает и обманывает нас», чьи отношения с человеком сочетают вражду и беззаветную любовь.
У версии Блума есть весомые доказательства, например, астрологическое. Целящийся в небо кентавр – знак созвездия Стрельца, Йейтс же родился под знаком Близнецов, противоположным Стрельцу в зодиакальном круге; глядя на кентавра, он смотрел на своего «антипода» – на Даймона, чью маску он себе присвоил.
Этим не исчерпываются возможности выбора. Если Черного кентавра можно отождествить с Музой или Ирландией, почему нельзя его отождествить с Мод Гонн? Разве не с ней связаны самые горькие переживания в его жизни? С этой навсегда отрезанной частью своей жизни Йейтс еще долго прощался после своей женитьбы в 1917 году, чему свидетельством многие стихи этого периода. Может быть, он хотел сказать своей давней и долгой любви: усни же, наконец, игра окончена?
Вспоминаются ранние стихи:
Владей небесной я парчой Из золота и серебра, Рассветной и ночной парчой Из дымки, мглы и серебра, Перед тобой бы расстелил, – Но у меня одни мечты. Свои мечты я расстелил; Не растопчи мои мечты.Строка из «Черного кентавра»: «Ты все мои труды в сырой песок втоптал» – не напоминание ли это о мечтах, которые влюбленный поэт когда-то расстилал перед своей любимой?
IX
Существует весьма сильный аргумент, связывающий стихотворение с Мод Гонн. Ее день рождения приходился на 21 декабря, что соответствует знаку Стрельца – последнему дню этого знака. Зодиакальное созвездие Стрельца (Sagittarius) с древности изображалось в виде кентавра, стреляющего из лука. Мог ли Йейтс при его многолетнем увлечении астрологией (и Мод Гонн) не ассоциировать свою возлюбленную с этим символом?
Вспомним, кроме того, что именно на 21 декабря приходится зимнее солнцестояние, самый короткий день и самая длинная ночь, – «полночь года», по выражению Джона Донна. Рожденный не просто под знаком Кентавра (Стрельца), но в самый темный из его дней, воистину обречен быть «Черным кентавром».
Удивительно, что этот факт до сих пор остался без внимания йейтсоведов. Даже Харолд Блум, подошедший, как мы видели, вплотную к разгадке, заметив, что созвездие Йейтса, Близнецы, в зодиакальном круге противоположно Стрельцу (Кентавру), не полюбопытствовал насчет гороскопа Мод Гонн.
Если наша догадка верна, если именно здесь ключ к стихотворению 1928 года, зададим себе вопрос: единственная ли эта репрезентация Мод Гонн как Стрельца в творчестве Йейтса? И здесь мы должны обратиться к сборнику «В Семи Лесах» (1903), вышедшему вскоре после замужества Мод Гонн – события, ставшего тяжелым и неожиданным ударом для поэта.
Символ созвездия Стрельца
Рассмотрим первое стихотворение сборника. На первый взгляд, оно кажется всего лишь идиллическим описанием поместья леди Грегори, где Йейтс часто и подолгу гостил, галантной данью Йейтса своей хозяйке и покровительнице. Но таковой данью было стихотворение 1900 года «Есть в Куле заповедных семь лесов…», опубликованное впоследствии как пролог к драме «Туманные воды» (1905); а в 1902 году Йейтс коренным образом перерабатывает стихи, вводя в них фигуру Лучника, чья тень, нависая над зачарованным миром, грозит в единый миг разрушить его безмятежную тишину.
В семи лесах
Я слушал голубей в Семи Лесах С их воркованьем, словно слабый гром За горизонтом, и гуденье пчел В цветущих липах – и почти забыл Бесплодные мольбы и горечь дум, Что иссушают сердце, позабыл Разрытые святыни Тары, пошлость На троне и ликующих зевак На улицах, развесивших флажки, – Уж если кто и счастлив, так они. Я не ропщу; я знаю: Тишина, Смирив обиды жгучие, смеется, Бродя меж птиц и пчел, и грозный Лучник, Готовый выстрелить, уже повесил Свой облачный колчан над Парк-на-ли.Кто сей Лучник? Не имеется ли в виду созвездие Стрельца (Sagittarius), астрологический символ его возлюбленной и музы? Содержание сборника подтверждает это предположение. Следующее стихотворение «Стрела» («The Arrow») подхватывает и разъясняет тему Лучника. В нем поэт говорит о «высокой и благородной» красоте любимой, застрявшей, как стрела, в его груди. Несомненно, это стрела из того самого колчана, о котором говорится в предыдущем стихотворении. А высокая красота – та самая, о которой через несколько лет он скажет в знаменитом стихотворении «Нет другой Трои» («No Second Troy», 1908):
Могла ли умиротворить она Мощь красоты, натянутой каклук?Особенно следует обратить внимание на третье стихотворение сборника «Ложь утешений» («The Folly of Being Comforted») – о безумии надежд поэта исцелиться от своей любви. «Неизменно добрый друг» (по-видимому, леди Грегори) утешает его тем, что любимая стареет и седеет, – так что кажущееся сейчас невозможным станет возможным потом, надо лишь запастись терпением. Нет, восклицает поэт, ореол божественной красоты, вспыхивающий при каждом ее движении, с годами лишь становится ярче! Стоит ей повернуть голову, и ты, мое сердце, поймешь, как безумны надежды обрести покой.
В первом стихотворении цикла – та же мысль, лишь выраженная с помощью астрологического шифра. Идиллическая тишина Семи Лесов предлагает поэту смирить «жгучие обиды»; но грозный небесный Лучник – напоминает о тщетности и непрочности этого утешения.
Четвертое стихотворение сборника «Память» («Old Memory») также посвящено Мод Гонн, ее мощи, «возвышенной и яростной», и снова говорится о «долгих годах юности», потраченных напрасно: «Кто бы мог подумать, что это всё, и более, чем всё, окажется впустую?» (would come to naught?)
Пятое стихотворение «Не отдавай любви всего себя» («Never Give All the Heart») – о том же. Это урок, который произносит поэт, который «все отдал любви и проиграл».
Наконец, шестое стихотворение «Увядание ветвей» представляет собой меланхолический плач по своим мечтам – горестным мечтам, от которых увядают ветви и засыхают деревья. Образ лебедей, соединенных золотой цепочкой, и одиноких криков кулика отсылают к поэме «Байле и Айлинн» – истории неутоленной любви, в которой прототипом опять служит она, роковая любовь и муза Йейтса.
За «Увяданием ветвей» идет «Проклятие Адама», стихотворение, основанное на воспоминании о реальном вечере, проведенном Йейтсом с Мод и ее сестрой Кэтлин и о разговоре, который они вели. Рассказ заканчивается образом дрожащей, утомленной луны, источенной, как раковина, волнами времени, что вполне созвучно «увядшим ветвям» предыдущего стихотворения:
И я подумал (это мезкду нами), Что я любил тебя, и ты была Еще прекрасней, чем моя хвала. Но годы протекли, и что осталось? Луны ущербной бледная усталость.Таким образом, Мод Гонн посвящены не три стихотворения в книге 1903 года, как пишет Рой Фостер в свой биографии Йейтса[176], и даже не пять, как получается у Джефферса, который справедливо причисляет к ним «Память» и «Не отдавай любви всего себя», а, по меньшей мере, семь, включая «Увядание ветвей» и начальное стихотворение сборника «В Семи Лесах». Они связаны переходящими мотивами и настроениями так тесно, что образуют настоящий цикл со своим внутренним сюжетом. В первых двух стихотворениях этого цикла присутствует связанный с Мод Гонн мотив Sagittarius'a (колчан, Лучник, стрела), в первыхчетырех – идея яростной и губительной силы, заключенной в красоте; в следующих трех стихотворениях доминирует печаль и усталость.
На самом деле, в цикле даже не семь стихотворений, а больше. Восьмое стихотворение «Кэтлин, дочь Хулиэна», также посвящено Мод Гонн, сыгравшей заглавную роль в одноименной – символической и патриотической – пьесе Йейтса. Это новый поворот в цикле: обращающий нас к героической стороне образа Мод Гонн. И это одновременно – высочайшая нота книги, после которой следует неминуемый спад; остальные стихотворения представляют собой поэтические вариации на те же темы, но в другом ключе. Например, «О не люби слишком долго» – вариация на тему «Не отдавай любви всего себя», а «Счастливый вертоград» («The Happy Townland») вновь трактует мотив гибельности мечты:
Страна, куда ты скачешь, Отрава для сердец!Таким образом, вся книга «В Семи Лесах» является практически единым циклом – книгой прощания, проникнутой свежей горечью уже непоправимо растоптанной любви. Книга, вышедшая в год замужества Мод Гонн, и не могла быть другой.
X
Следует еще добавить, что образ Лучника (Archer) в первом стихотворении «Семи Лесов» многомерен. Кроме Стрельца-кентавра, астрологически репрезентирующего Мод Гонн, в нем, безусловно, присутствует и лучник Амур, и другой лучник – из Апокалипсиса: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр. 6:1–2). Эти ассоциации не случайны; новость о замужестве Мод Гонн имела в тот момент для Йейтса характер почти апокалипсической катастрофы. Отметим символизм цвета в этом цикле Йейтса. «Конь блед» как компонента образа Лучника в первом стихотворении, яблоневый цвет (apple-blossom) кожи богини во втором стихотворении «Стрела»; этой белизне суждено через четверть века превратится в черноту Лучника-Кентавра.
Отметим еще важный образ Лучницы в «Per Arnica Silentia Lu-nae», поэтическом credo Йейтса, в котором он пишет о таинственной связи между Даймоном и своей любимой. В главе одиннадцатой читаем: «Много лет назад, в минуту между сном и пробуждением, мне пригрезилась женщина несказанной красоты, пускающая в небо стрелу из лука, и с тех пор как я впервые попытался отгадать ее цель, я много размышлял о разнице между извилистыми путями Природы и прямой линией, которая в „Серафите“ Бальзака названа „меткой человека“, но вернее было бы назвать ее меткой святого или мудреца». Несомненно, здесь образно говорится о Мод Гонн, о ее непостижимой для Йейтса прямолинейности пламенной агитаторши и революционерки. Этой прямолинейности Йейтс противопоставляет извилистый путь Природы и воображения, свой собственный путь. Образ, выбранный Йейтсом для своей возлюбленной (выделенный выше курсивом), тот же самый: Лучница, стреляющая в небо, – Sagittarius с лицом прекрасной женщины.
XI
Вернемся к сборнику «Башня». Здесь следует обратить внимание на порядок стихотворений, который, как всегда у Йейтса, отличается большой продуманностью. Стихи следуют в такой последовательности: сонет «Леда и лебедь»; «Черный кентавр»; «Среди школьников». Последнее из этих стихотворений непосредственно говорит о Мод Гонн; с первым – сонетом «Леда и Лебедь» – оно связывается посредством образа «Ledaean Body», примененного к Мод в молодости (в переводе ему соответствует: «Мне грезится – лебяжья белизна / Склоненной шеи в отблесках камина…»). Прекрасная Леда, жертва божественного Лебедя, и Прекрасная Елена, которая должна родиться от этого соития, отражают один и тот же реальный образ; критики знают, что всегда, когда у Йейтса речь идет о Елене, следует читать: Мод Гонн.
Таким образом, оба стихотворения, окружающие «Черного кентавра» в книге, связаны с воспоминанием о его любви к Мод. Вместе с «Черный кентавром» мы получаем три стихотворения, идущих подряд, мини-цикл, объединенный одной внутренней темой, – что вполне соответствует композиционным принципам Йейтса.
XII
Остаются еще две загадки стихотворения: фараоново зерно (в оригинале «пшеница мумий», mummy wheat) и зеленый попугай. Обратим внимание, что эти загадки связаны – ведь именно прельстившись зеленым пером, поэт отправляется добывать зерно фараона из затхлого склепа.
В контексте творчества Йейтса вторая загадка (о фараоновом зерне) не представляет особых затруднений. Речь идет об оккультных знаниях, о той древней мудрости, уходящей корнями к египетским жрецам, которой поэт всю жизнь пытался овладеть, чтобы напитать ею свою поэзию. Кроме того, здесь намек на сенсационные сообщения – впоследствии опровергнутые – о пшенице, выращенной из зерен, найденных в фиванских гробницах.
Что касается загадки о зеленом попугае, тут дело сложнее. Прямых подсказок в творчестве и в биографии Йейтса почти нет (если не считать, что у Йейтса дома тоже жил зеленый попугай – как раз в тот период, когда было написано стихотворение). Есть, впрочем, раннее стихотворение «Индус к своей возлюбленной», в котором упоминается попугай на ветке, «злящийся на собственное отражение в зеркальной глади моря». Он противопоставлен голубке, стонущей и вздыхающей от любви. По-видимому, попугай здесь – символ разума, пытающегося постичь самого себя (в «Per Arnica» Йейтс говорит о бесплодной муке самопознания), а голубка – символ естественной души, не отягченной никакой рефлексией. Если считать, что в «Черном кентавре» попугай означает то же самое, связь между первым и вторым образом прочитывается следующим образом: «А я, погнавшись за непостижимой мудростью (за попугайным пером), спустился в глубь веков, в затхлый склеп, чтобы собрать там по зернышку тайное знание (фараоново зерно, «пшеницу мумий») и сделать из него поэзию (выпечь свой пирог). По крайней мере, в этом есть какая-то логика. «Гибельные обольщения другого мира» (версия Эллмана) и «демонические силы», угрожающие семье Йейтса и мешающие его работе (объяснение Антерекера) кажутся мне совсем уж смутными и произвольными допущениями.
И все-таки, все-таки… Зеленое крыло попугая как символ мудрости? Нет, это объяснение тоже никуда не годится. Оно лежит слишком далеко, оно уводит в сторону, оно просто-напросто искусственное.
XIII
Чтобы уточнить связь между попугайным крылом и оккультной мудростью, обратимся непосредственно к оригиналу. В стихотворении сказано: but I, being driven half insane / Because of some green wing… To есть: «Но я, наполовину свихнувшись из-за какого-то зеленого крыла», собрал фараоново зерно и т. д.
Из-за чего же «свихнулся» Йейтс, когда погрузился в мистику? Да из-за Мод Гонн и свихнулся. Оккультные занятия, в которые он втянул и Мод, были отчаянной попыткой приворожить любимую. «Эти два наваждения [Мод Гонн и оккультизм] сделались для него неразрывно связанными и такими остались навсегда», – пишет биограф Йейтса[177]. Кроме того, как впоследствии писал поэт, в момент их встречи «Мод была уже опытной (completed), а я нет». Имеется в виду и сексуальный, и жизненный опыт. Поэтому он и вовлек ее в оккультизм, где он мог «отыграться» и сделаться учителем, ведущим. Надеясь на «ту близость, которая возможна лишь между любовниками или соратниками-мистиками» (из неопубликованной прозы Йейтса). Притом, как оказалось, «оккультная деятельность могла некоторым образом смешиваться с националистической, и это особенно привлекало Мод Гонн».
Не забудем, что зеленый цвет – символ Ирландии. Поэт был одержим любимой, но она-то была одержима политикой. Зеленое перо – это её флажок. Главным талантом Мод был ораторский дар, которым она, революционерка, легко увлекала огромные толпы. То есть в каком-то смысле образ Мод Гонн в стихотворении раздваивается. Она – Кентавр (роковая возлюбленная), но и Попугай (народная агитаторша) – тоже она. И, конечно, Мод Гонн легко могла ассоциироваться у Йейтса с попугайным пером. В своей автобиографии он вспоминал всюду сопровождавшие ее в поездках многочисленные «клетки, полные птиц, всевозможных канареек, зябликов, одного попугая – и даже взрослого ястреба, присланного ей из Донегала»[178]. Она обладала значительным состоянием и постоянно курсировала между Парижем и Дублином.
Любимая, которая дразнила его и томила; Даймон, с которым он пребывал в состоянии «вражды и беззаветной любви»; Муза, одарившая его многими бесконечно печальными стихами. И все это – Мод Гонн, его Кентавр, его Амор, который некогда сказал ему: «Я есмь твой владыка», но в конце концов растоптал мечты поэта.
При сопоставлении стихотворения Йейтса с «La Belle Dame Sans Merci» Китса и балладой «Дорога в Вальсингам» выявляется их общая композиция. Они начинаются с разгрома, разлуки, когда все безвозвратно утрачено: «Зачем, о рыцарь, бродишь ты, печален, бледен, одинок?» – «Ты не встречал ли по пути любимую мою?» – «Ты все мои труды в сырой песок втоптал…» Продолжаются ретроспективным рассказом о превратности судьбы и тщетности усилий. И заканчиваются печалью (Ките) или присягой в верности утраченной любви: «Ведь я тебя любил» (Йейтс) – «Но настоящая любовь – неугасимый свет» (анонимная баллада).
Возлюбленная, Даймон, Муза – разные стороны одного и того же, как Селена, Диана и Геката – ипостаси одной богини. В них неразрывно соединены отрада, мука и печаль. Черный кентавр, может быть, лишь еще одно воплощение Белой Богини, ее парадоксальное отражение в зрачке измученного ею поэта – так фигуры, снятые против яркого света, получаются на фотографиях черными.
Роберт Грейвз (1895–1985)
Происходил из литературной семьи: его отец, Альфред Персиваль Грейвз, был известным ирландским поэтом. Во время войны участвовал в военных действиях во Франции (в 1916 году в «Таймзе» даже появилось известие о его смерти). После войны переехал в Оксфорд, где работал над диссертацией о поэзии и сновидениях. Некоторое время преподавал в Ггипте, после чего поселился на острове Майорка, где предался исключительно писательству. Грейвз – автор исторических романов («Я, Клавдий» и др.), переводов, книг по мифологии. В «Белой богине» (1948; испр. изд. 1952) обосновывает и развивает парадоксальный тезис о том, что единственной темой европейской поэзии является Луна – «белая богиня». Глубокая меланхолия стихов Грейвза уравновешивается присущим ему чувством юмора и безукоризненным чувством формы.
Роберт Грейвз за рабочим столом. Фото 1950-х гг.
Уцелевший
Умереть в безнадежном бою, но воспрянуть опять От возни мародеров – избегнуть их гнусных когтей И вновь стоять на широком парадном плацу Изукрашенному шрамами и орденами, с оружьем в руках, Правофланговым в строю необстрелянных молодцов – В том ли счастье? Остаться случайно в живых, Когда остальные погибли? Ноздрями вдыхать Аромат утренней розы, расцветшей в саду? Слушать трели щегла на заборе, поющего так, Словно он сам только что изобрел этот мир? В том ли счастье – после самоубийства двоих (Сердце, разбившееся о сердце) вернуться назад Как ни в чем не бывало, пригладить прическу, смыть кровь И невинную, юную увести в теплый мрак, Шепчущую впотьмах: «твоя, навеки твоя»?Плащ
В изгнанье взял он несколько рубах, Горсть золотых и нужные бумаги. Но ветер над Ламаншем дул навстречу И раз за разом отгонял корабль В Дил, Ярмут или Рай. И лорд, страдая От качки, заперся в каюте. Вскоре Его находим мы, допустим, в Дьеппе, Где, только лишь баул распаковав И свой ночной колпак на гвоздь повесив, Он днями напролет играет в карты, Фехтует ради упражненья или Любезничает с горничными. Ночью Он что-то пишет. Все идет отлично; Французский для него почти родной, И местное вино совсем недурно, Хотя и резковато. Поутру Слуга приносит свежую газету И чистит шляпу. Джентльмен повсюду Как дома, объясняет камердинер, Заботы об усадьбе отвлекли бы Их милость от теперешних трудов. Отъезд на несколько ближайших лет Он думает, окажется полезным. Ходатайство? Заступничество друга? В том нет нужды. Изгнанье не страшит Того, чье правило – быть патриотом Лишь своего плаща. Должно быть, это Разгневало высокую персону.Как снег
То, что случилось с ней, случилось тайно, Как снег, упавший ночью. Мир проснулся И сразу же зажмурился от света, Невольно бормоча: «Ослепнуть можно», – И потянулся, чтоб задвинуть штору. Она была, как снег, согревший землю, Теплей на ощупь, чем ждала рука, Как снег, укрывший все, что было ночью, Пока не собирающийся таять.Любовь, дерзи и яблоко грызи
Любовь, дерзи и яблоко грызи, Высоко, гордо голову неси, Купайся в солнечных лучах беспечно; Не вслушивайся, как во внешней мгле Хрипит и мечется, грозя земле, Слепая, злая, бешеная нечисть. Не бойся – смейся, пой и веселись, В одежды праздничные облекись, Пока горячка крови не остыла; Спокойно шествуй между тьмой и тьмой Сверкающей, как брачный пир, стезей – В просвете этом узком, как могила.Портрет
Она всегда естественна со всеми, Включая незнакомцев. А другие Жеманятся и лицемерят даже С мужьями собственными и детьми. Она проходит в полдень незаметно По площади открытой. А другие Фосфоресцируют – всей толщей бедер – В любом неосвещенном переулке. Она обречена, кого полюбит, Любить безудержно и беззаветно. А эти называют ее шлюхой И оскорбленно морщатся при встрече. Таков ее портрет – упрямый, юный; Прядь вьется, взор сияет вопрошая: «А ты, мой милый? Так же ль непохож Ты на других мужчин, как я на женщин?»Трофеи
Когда все кончено и бой утих, Военные трофеи пригодятся: Оружье, шлемы, флаги, барабаны Украсить могут холл и кабинет, А мелкую добычу мародера – Монеты, кольца, золотые зубы И прочее – их можно сбыть втихую. С трофеями любви – другой дело. Когда все кончено и плач утих, Портреты, прядь волос и эти письма Не выставишь публично, не продашь, Сжечь, возвратить – рука не повернется. И в сейф я не советую их класть – Чтоб не прожгли пятивершковой стали.Очень аккуратно
Когда я прибыл к ней, Трава лоснилась гладко, Чуть веял ветерок, И шутки были к месту, Картинки на стене Висели как по нитке, Все было аккуратно. Она как раз в гроссбухе Вычеркивала цифры, Заканчивая счет, Кудряшки на висках И лак на черных туфлях – Все было аккуратно. Стояла тишина, Ни музыки, ни шума, Струился мягкий свет И тикали часы: Все было аккуратно. «В конце концов, логично, – Я повторял себе, – Настал и мой черед. Все очень аккуратно». Смерть, углубившись в счет, Меня не замечала, Ей важен был итог – Чтоб было аккуратно. «Неправда ли, – раздался Невидимый вопрос, – Все очень аккуратно?» Застывший, я стоял, Не в силах молвить слова, Ни засмеяться вслух, Ни засвистеть, ни тронуть Ее за локоток, Чтобы привлечь вниманье. Все шло обычным ходом, И я могу сказать: Все было аккуратно.Воскрешение
Чтоб мертвых воскрешать, Не надо быть великим чародеем; Нет в мире безнадежных мертвецов: Подуй на угли отгоревшей жизни – И пламя вспыхнет вновь. Верни его забытую печаль, Его увядшую надежду, И почерк перейми, – Чтоб стало для руки твоей привычным Подписываться именем чужим. Хромай, как он хромал, Божись божбой, которой он божился, Он черное носил – и ты носи, Он мучился подагрой – Мучься тоже. Найди служившие ему предметы: Перо, печатку, плащ – И на основе их построй жилище, Чтоб, возвратясь, придирчивый хозяин Узнал свой дом. Но, воскрешая, помни: Могила, давшая ему приют, Не терпит пустоты; Отныне в саване его истлевшем Сам ляжешь ты.Дону Хуану в день зимнего солнцеворота
Есть лишь один сюжет, достойный песни, Достойный уст певца И слуха детворы завороженной; Одна строка случайно забредет В простой рассказ – И он, как молнией, вдруг озарится! О чем там речь? Об именах деревьев – Или о кликах птиц, Вещающих о Тройственной богине? О тайнах Зодиака, что кружит Под Северной Короной, Вращая судьбы тронов и владык? Все повторится – и ковчег, и волны, И женщина в волнах; И жертва новая опять пройдет По кругу неизбежному судьбы: Двенадцать звездных стражей – Свидетели восхода и паденья. О чем та повесть вещая – о Деве С серебряным хвостом Чешуйчатым? В одной ее руке – Айва, другой она призывно манит. Как устоять Царю? Он за ее любовь заплатит жизнью. Или о Змее, вставшем из пучины, Исчадье адских сил, В чью пасть он прыгнет, обнажая меч, И будет биться три дня и три ночи, Покуда океан Не изблюет его на берег плоский? Снег валится на землю, ветер воет, Сыч ухает во мгле, Страх заглушает в сердце зов любви, Печали искрами взлетают в небо. И стонет пень в огне: Есть лишь один сюжет, достойный песни. Взгляни: ее улыбка благосклонна; Забудь о кабане, Втоптавшем в прах цветок полурасцветший. Ее глаза синей морской волны, Белее пены лоб, И все обещанное совершится.Клайв С. Льюис (1898–1963)
Филологическая карьера Льюиса была прервана лишь призывом в армию во время войны. Он преподавал в Оксфорде, а затем в Кембридже, опубликовал монографию «Английская литература XVI века» (1954). С христианскими убеждениями писателя связана большая часть его других книг, в их числе «Письма Баламута» (1942), написанные в известном жанре переписки чертей, и фантастический роман «Мерзейшая мощь» (1945). К жанру «фэнте-зи» относится цикл популярных детских повестей «Хроники Нарнии». Льюис дружил с Толкиеном, с которым они часто обсуждали свои сказки в задней комнате оксфордского кафе «Орел и дитя».
Клайв Стейплз Льюис. Фото 1940-х гг
Говорит дракон (Из книги «Другой путь паломника»)
Из треснувшей змеиной скорлупы Я вылез в мир. На чешуе моей Дрожали блики дня; роса искрилась На листьях леса и траве пахучей. Клайв Стейплз Льюис. Фото 1940-х гг. Подругу я обрел. Мы с ней играли И пили млеко из сосцов овечьих. Теперь в глухой пещере между скал Я стерегу сокровище, разлегшись На груде злата; зимними ночами Оно мне брюхо леденит сквозь панцирь; Хлам исковерканных корон и перстней – Жестка и холодна постель дракона. Жаль, что я съел свою жену-змеиху (Змей должен змея съесть, чтоб стать драконом); Когда бы я не съел ее – вдвоем Нам было злато сторожить сподручней. Я мог бы иногда, расслабив кольца, Вздремнуть; она б за кладом приглядела. Намедни ночью тявканье лисицы Меня врасплох застало: я, должно быть, Уснул. Порою крик совы в лесу Пугает слух мой: значит, я невольно Забылся. А ведь в это время люди Могли подкрасться и похитить злато. О, подлые людишки! В городах Все шепчутся они и строят планы, Как завладеть моим богатством. Мало Им теплых жен, и песен, и застолья! А я зимой лишь раз к ручью напиться От клада отлучусь – и дважды летом. Нет, им не жалко старого дракона! Господь, создатель мой, пошли мне мир; Но только так, чтоб злата не отдать, Не умереть и клада не покинуть. Убей, Господь, людей и прочих змеев; Тогда я буду спать и пить спокойно.Просперо и Ариэль. Заметки об Одене
I
Одно из самых хрестоматийных стихотворений Уистана Оде-на – «Музей изобразительных искусств». Оно написано в идущем из античности жанре экфразы, то есть словесного описания произведения живописи или скульптуры. В первой части стихотворения автор будто переводит взгляд с одной картины на другую, обнаруживая в них общую черту – двуплановость мира, соседство трагедии с обыденностью. Есть такой художнический жест: в момент наивысшего напряжения чувств отвести глаза и посмотреть на простую будничную жизнь, идущую рядом. Этому-то в стихотворении Одена и учат Старые Мастера. Они знают:
…страшные муки идут своим чередом В каком-нибудь закоулке, а рядом Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом, И лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом[179].Здесь возникает неожиданная параллель со стихотворением «Страсти Егория» Владимира Леоновича, увидевшего сходный мотив у русского иконописца:
Коник святого стоял и не ржал, Левый лишь глаз его перебежал На правую щеку. Коник святого все муки следил, Рядом стоял или возле ходил Неподалеку.И там, и тут – святой, его истязатели и лошадь, переминающаяся неподалеку. На этой невинной животине, спокойно ждущей и не понимающей, что происходит, и сосредотачивается внимание зрителя. Любопытное совпадение двух абсолютно разных поэтов, английского и русского. Притом, насколько мне известно, стихи Ле-оновича написаны раньше, чем Павел Груш-ко перевел «Музей» Одена.
Уистен Хью Оден. Фото начала 1940-х гг.
Если первая часть стихотворения представляет из себя калейдоскоп зрительных впечатлений от разных полотен (при этом дети, катающиеся на коньках, намекают на голландскую школу живописи – скажем, «Охотников на снегу» или «Перепись в Вифлееме»), то во второй части Оден уже прямо называет описываемую картину: «Икар» Питера Брейгеля. Точнее, картина называется: «Пейзаж с падением Икара». Оден начинает с центральной фигуры пахаря, идущего за сохой, добавляя то, что зритель картины не может слышать: «всплеск и отчаянный крик». Нелепо дрыгающие над водой ноги тонущего Икара – крошечную деталь, которую не сразу и заметишь в пейзаже, он ретроспективно подкрепляет отсутствующей на холсте драмой падения:
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно Воды, а изящный корабль, с которого не могли Не видеть, как мальчик падает с небосклона, Был занят плаваньем, все дальше уплывал от земли.Переход от первой части к второй – переход от общего к частному; в начале стихотворения преобладает множественное число: «старые мастера», «старцы», «дети», «собаки», в конце всё дается уже в единственном числе: и сам тонущий Икар, и безучастный пахарь, и уплывающий «изящный корабль». Там – просто жизнь в смеси простодушных будней и надежд на чудо, страшных злодеяний и покорной привычки. Тут – тщетность индивидуального героического деяния, тонущего в море равнодушия – людей и природы.
II
«Я подозреваю, что без некоторых обертонов комического серьезная поэзия в наши дни невозможна», – писал Оден. Лошадь палача, которая чешется о дерево своим «невинным задом» (scratches its innocent behind on a tree), – типичная для такой установки смешная деталь в несмешном стихотворении. Отметим, что этот снижающий прием – не свидетельство антиромантической установки поэта, наоборот, ирония была допущена в рамки «высокого жанра» именно романтиками.
Уильям Йейтс, которого иногда называют антиподом Одена, тотально ироничен в своих поздних стихах; это не мешало ему оставаться до конца романтиком. Здесь нужно отметить, что ни один поэт не оказал на Одена большего влияния, чем Йейтс, и ни с одним поэтом он так упорно не полемизировал. Этот парадокс подробно разбирается в книге Ричарда Эллмана «Экспроприация»[180], где суть расхождения Йейтса и Одена отражена в ярком, хотя и воображаемом, диалоге.
ЙЕЙТС. Я верю в то, что поэт пробуждает свободные силы, которые, обретая форму в его сознании, изменяют мир. Говоря метафорически, поэзия есть магия.
ОДЕН. Поэзия противоположна магии. Если у нее и есть внешняя цель, то она состоит в том, чтобы, высказывая правду, отрезвлять людей и избавлять их от иллюзий.
ЙЕЙТС. Правда есть драматическое выражение возвышенной души, души поэта-героя.
ОДЕН. Поэт уже давно не герой. Он исследователь возможного.
ЙЕЙТС. Вернее сказать, невозможного.
ОДЕН. Все это, славу Богу, ушло вместе с романтической эпохой. Стихли громкие вопли, настала пора холодного душа.
ЙЕЙТС. Киты вымерли, лишь мелкая рыбешка еще трепещется на песке.
ОДЕН. Художник больше не странствующий изгой, он строит ирригационные каналы, как Гёте в старости, он голосует на выборах.
ЙЕЙТС. У художника больше общего с наводнением, чем с ирригацией. Он прорывает любые социальные дамбы, любые политические ограждения.
ОДЕН. Вы принадлежите к школе Малларме: считаете себя богом, который творит субъективную вселенную из ничего.
ЙЕЙТС. Вы принадлежите к школе Локка: разрезаете мир на куски и поклоняетесь острому лезвию. ОДЕН. Ваш мир – химера. ЙЕЙТС. Ваш мир – муниципальный район для бедных[181].
Эллман пытается примирить этот спор, рассуждая таким образом: «Йейтс склонен преувеличивать, Оден – преуменьшать. Йейтс относит себя к романтикам – то есть к школе, которую Оден на словах отрицает; тем не менее закоренелый романтизм Йейтса уживается в его стихах с современными влияниями… В то же время Оден представляет себя классицистом; но этот термин подразумевает большую сдержанность, чем мы наблюдаем в его манере. Точнее было бы назвать его антиромантиком в пределах романтической традиции»[182].
Мне кажется, Эллман нашел удачную формулу (ту, что я выделил курсивом). Оден антиномичен; недаром в его стихах и критической прозе так часто возникает оппозиция Просперо – Ариэль; в статье о Роберте Фросте он утверждает, что «любое стихотворение основано на соперничестве Просперо и Ариэля» – то есть разума и чувства, правды и красоты, мудрости и музыки.
III
„The Child is father of the Man“, сказал Вордсворт. Это тем более справедливо по отношению к поэту; особенности поэтического характера, безусловно, закладываются в детстве. Оден родился в «достаточно счастливой» (по его собственному выражению) семье; его отец был ученым медиком, профессором Бирмингемского университета, мать также получила университетское образование (что было редкостью для того времени), она любила литературу и музыку и передала эту любовь сыну. Но и влияние отца было не менее важным. «Мне повезло, – говорил впоследствии Оден, – я рос в доме, заполненном книгами, как научными, так и художественными, поэтому я с детства знал, что наука и искусство – вещи взаимодополняющие и в равной степени необходимые человеку»[183].
Главная детская страсть Одена связана как раз с естественными науками, точнее, с горнорудным делом. С малых лет его влекли заброшенные шахты и рудники, а также естественные пещеры, которых было много в Северной Англии. До двенадцати лет он видел их только на картинках; но это не мешало мальчику воображать себя владельцем подземного мира, усовершенствовать его, прокладывать новые штольни, оснащать новейшим горным оборудованием. Родители и их друзья относились с пониманием к этому увлечению: они снабжали его книгами по геологии, географии и горнорудному делу, каталогами и фотографиями, а когда представлялась возможность, устраивали ему экскурсии в действующие и заброшенные шахты.
Впоследствии Оден вспоминал, как его зачаровывали схемы подземных выработок в разрезе, похожие на изображения человеческого тела в анатомических книгах. Конечно, тут открываются горизонты для разных символических и фрейдистских толкований. Связь подземного мира со Смертью и в то же время с Эросом. С богом Любви, о котором еще Джон Донн писал:
Подземный бог, с Плутоном наравне, В золотоносной жаркой глубине Царит он. Оттого ему мужчины Приносят жертвы в ямки и ложбины.Но всего важнее для юного Одена был опыт «двойной жизни», опыт обладания «тайной священной страной», где он был полновластным властелином. «Самое главное, что я знаю о писании стихов, по крайней мере, важных для меня стихов, – пишет Оден, – я узнал задолго до того, как впервые задумался о карьере поэта». Тогда-то, конструируя свой параллельный мир, он пришел к важнейшему для себя принципу: хотя игра подразумевает свободный выбор, но не может быть игры без правил: по game can be played without rules[184].
Отсюда один шаг до привязанности Одена к традиционным поэтическим формам, к регулярному стиху и разнообразным формам строфики, при общем прохладном отношении к верлибру, хотя он и мог употребить его в подходящем месте, как, например, в первой части элегии на смерть Йейтса, где безразмерные строки свободного стиха соответствуют описанию хаоса смерти и физического распада. Но в целом свое отношение к верлибру он выразил так: «Поэт, пишущий „свободным“ стихом, подобен Робинзону Крузо на необитаемом острове, он должен делать все сам: стряпать, стирать и штопать. В исключительных случаях эта холостяцкая независимость дает нечто оригинальное и впечатляющее, но чаще результаты бывает убогие – грязные простыни, неметеный пол и валяющиеся всюду пустые бутылки»[185].
По характерному замечанию Одена, «поэзию можно определить как ясное выражение смутных чувств»[186]. Оденовский классицизм есть продукт его глубоко укоренного рационального начала – хочется даже сказать, рационального инстинкта. Недаром любимыми поэтами позднего Одена были Гёте и Гораций. Гёте – не только поэт, но и ученый, автор трактата о цветах, исследователь растений и минералов, что для Одена немаловажно. В своей рецензии на избранное Эдгара По он выделяет как лучшее произведение этого автора не стихи («Ворон» и «Улялюм» его не впечатляют), а натурфилософскую поэму в прозе «Эврика», в которой По, идя по следам Лукреция, рассуждает об устройстве космоса и высказывает гениальные догадки, оправдавшиеся лишь спустя век: например о Большом Взрыве и разбегающихся галактиках.
Знакомый математик, академик с крупным именем (не чуждый при этом поэзии) написал мне, что недавно набрел на стихотворение Одена «После прочтения энциклопедии современной физики для детей» и поразился, как верно Оден усвоил суть квантовой механики. В этих стихах поэт благодарит Бога за то, что создал человека в среднем масштабе – не слишком большим и не слишком малым: мол, приятно, созерцая себя в зеркале, сознавать, что ты обладаешь достаточной массой, чтобы находиться там, где находишься, а не быть размазанным, как каша, по пространству. «Вот это самое „sufficient mass То be altogether there“ – „достаточной массой, чтобы быть всецело там“ (пишет математик) меня потрясло, я еще не встречал поэта, который бы так точно понял Гейзенберга».
На самом деле, у Одена не одно, а много стихотворений «с научным уклоном»; он всегда подчеркивал, что между наукой и искусством нет противоречия. Здесь Оден сходится с Нильсом Бором, еще одним отцом квантовой механики (наряду с Гейзенбергом и Шредингером), сформулировавшим свой «обобщенный принцип дополнительности» как общефилософский вывод: рациональный и интуитивный подход дополняют друг друга.
IV
В 1973 году, незадолго до смерти, оглядываясь на свой путь в поэзии, Оден написал стихотворение «Благодарность»:
Отроком я ощущал святость лугов и лесов; люди их лишь оскверняли. Немудрено, что в стихах я подражал поначалу Томасу[187], Гарди и Фросту. Всё изменила любовь, стал я писать для неё: Йейтс помогал мне и Грейвз. Вдруг зашатался уклад, кризис[188] на мир налетел: стал я учиться у Брехта. Гитлеровский кошмар и кошмар сталинизма к Богу меня повернули. Бешеный Къеркегор, Уильяме[189] и Льюис[190] – к вере мне указали дорогу. Ныне, на склоне пути, в здешнем краю благодатном вновь меня манит Природа. Кто мне наставником стал? Первый – тибурский певец, пасечник мудрый Гораций. Гёте – второй; камнелюб, опровергавший Ньютона – кто из них прав, не сужу. Всем вам хвалу приношу; Что бы я смог написать, Что бы я делал без вас?У нас нет оснований подвергать сомнению искренность этого итогового высказывания, этого пунктира, которым Оден обозначил важнейшие этапы своего пути. Однако здесь есть на что обратить внимание. Например, в списке отсутствуют Маркс и Фрейд, которые могли бы стоять рядом с Брехтом. Но Оден называет поэта, повлиявшего на его стиль 1930-х годов; идейных же своих кумиров того времени он оставил за скобками; из марксизма и из фрейдизма он вырос уже на рубеже 1940-х, оба пути оказались для него тупиковыми. Вообще Оден был склонен увлекаться различными системами, ценя их за структурность и логику. Но относился к ним скорее как математик, понимающий условность всякого аксиоматического построения. «Отсюда, – замечает Гарет Ривз, – некоторая ощутимая в его стихах условность всех этих вер, которые он сменил: марксизма, фрейдизма, либерального гуманизма и наконец христианства, – которое оказалось наиболее устойчивой системой, ибо давало ему наибольшую свободу маневра»[191]. В конце концов, по выражению Йейтса, поэт, как захворавший кот, инстинктивно ищет и находит ту травку, которая в данный момент ему всего нужнее. Йейтс нашел свою травку в грандиозной системе своего «Видения», якобы надиктованного некими духами («коммуникаторами»). В одном из сообщений духи так прямо и написали ему: «Мы явились, чтобы дать метафоры для твоей поэзии». Можно думать, что и для Одена истинная ценность любой системы верований измерялась тем же самым: насколько богатый материал для поэзии она могла дать. Поэзия оставалась для него самой серьезной игрой homo ludens.
Далее можно заметить, что в этом перечне нет Томаса Элиота, не только главного авторитета для поколения Одена, но и первого публикатора его стихов и пьес (сначала в журнале «Крайтерион», потом в издательстве «Фейбер энд Фейбер»). Не нужно думать, что Оден неблагодарно это забыл; в своей мемориальной элиотовской лекции он шутливо замечает, что одной из ипостасей Элиота была «заботливая еврейская мама»[192]. (Почти то же самое повторит Бродский о самом Одене: «Он занимался моими делами с усердием хорошей наседки».) Но в списке, где Оден перечисляет важнейшие имена, повлиявшие на его поэзию, вождя английского модернизма нет. Зато есть Уильям Йейтс и Роберт Грейвз – певец Башни и певец Белой Богини, два последних в английской литературе защитника древних прав и героического призвания поэта.
Романтическая закваска оденовского творчества, может быть, нигде не проявилась так отчетливо, как в его лекции 1971 года «Фантазия и реальность в поэзии». В центре ее – вордсвордтианская концепция детства как основы творческого развития поэта и своеобразно преломленная романтическая теория воображения. Вслед за Кольриджем Оден различает Первичное Воображение и Вторичное Воображение; но при этом он как бы «наводит на резкость» несколько расплывчатые определения Кольриджа[193] и формулирует их следующим образом: Первичное Воображение есть способность улавливать сакральное в мире и отличать его от профанного. Вторичное Воображение есть способность различать прекрасное и уродливое; оно также включает в себя чувство юмора и склонность к игре. В поэзии их функции различны: Первичное Воображение творит символы, Вторичное Воображение – метафоры[194].
Притом сам Оден был склонен считать себя классицистом. Тут нет противоречия. Как и Иоганн Вольфганг Гёте, кумир его поздних лет, он сочетал и то, и другое. Его романтическая ирония не мешала трансцендентным интуициям, рациональность прекрасно сочеталась с воображением поэта. Работал принцип дополнительности.
V
Исайя Берлин делил писателей на два типа: ежей и лис: ёж знает только одну уловку, а у лисы их много. Оден, безусловно, лиса. Он верит в сакральность мира, верит в откровение, но любая попытка патетики у него немедленно нейтрализуется шуткой или гротеском. Не только потому, что «ирония восстанавливает то, что разрушил пафос» (Ежи Лец), не только по естественной стыдливости души (Кьеркегор говорил, что юмор для религиозного человека – щит, которым он ограждает самое сокровенное), но и потому, что игра и юмор органически входят в представление Одена о воображении художника.
«Я верю, – писал он в частном письме, – что единственный метод говорить серьезно о серьезном, по крайней мере, в наше время, это комический метод. Альтернатива ему – молчание. Я всегда восхищался традицией еврейского юмора. Больше, чем какой-либо иной народ, они находили в серьезных вещах – таких, как страдание, противоречия нашего бытия, отношения между человеком и Богом, – повод для юмористического высказывания. Например: Если бы богатые нанимали бедных умирать за них, бедным таки неплохо бы жилось…»[195]
Смех – доблесть проигравших. По Йейтсу три последние маски человеческой жизни – Горбун, Святой и Дурак. Накануне Второй мировой войны, перед лицом небывалых мировых бедствий, войны и смерти старый поэт призывал к смеху как к высшей мудрости: «Гамлет и Лир – веселые люди» – и повторял вечную заповедь мастеров:
Всё гибнет, и всё создается вновь, Но мастер весел, пока творит. («Ляпис-лазурь»)Этим же стоическим духом пронизана «Великолепная пятерка», оденовская ода Носу, Ушам, Рукам, Глазам и Языку – пятирице человеческих чувств (five senses), хвалебная песнь, сочетающая глубочайшее разочарование современностью с метафизической надеждой. Вот как звучит первая строфа оды:
Мужайся, мудрый нос! Служа, как старый пес, Заботам современным, Не сравнивай, дружок, Их кислый запашок С тем запахом блаженным Священных древних рощ, Где ты, являя мощь, Стоял, оракул грозный, Торжественно-серьезный! Но это все в былом; Теперь ты – мостик между Устами и челом. Внушай же нам надежду, Врубаясь, как топор, В космический простор И прибавляя лоска Всему, что слишком плоско; Указывай нам путь Сквозь тернии – к вершине, Куда тебе отныне, Увы, не досягнуть!В этой символической картине, несомненно, чувствуется влияние английской поэзии абсурда, любимой Оденом с детства. Вспоминается замечательный Донг С Фонарем На Носу, блуждающий в «злоповедном» лесу, вспоминаются другие носатые герои Эдварда Лира – вплоть до того Старичка у канала, что «часто в канал свой нос окунал, и это его доконало».
Однако использованная Оденом традиция уходит еще глубже, к средневековому жанру диалогов, или «прений» – например, Души и Тела или Поэта и его Кошелька – с присущей данному жанру амбивалентностью сакрального и комического. Это наследие всегда оставалось для Одена живым и актуальным[196].
VI
В 1939 году в возрасте тридцати двух лет Оден переехал в США. В 1972 году в таком же тридцатидвухлетнем возрасте (хотя и по совершенно другим причинам) перебрался в Новый Свет Иосиф Бродский. Вряд ли он мог не заметить, не отметить про себя этой «календарной рифмы»: поэты суеверны.
В новой стране – новые песни. Первым стихотворением, написанным в Америке Оденом, была неоднозначная в своих оценках элегия «На смерть У. Б. Йейтса». Однако концовка элегии написана не только в ритме, но и в духе стихотворения-завещания Йейтса «В тени Бен Балбена».
Верьте в ваше ремесло, Барды Эрина! – назло Этим новым горлохватам, В подлой похоти зачатым, С их беспамятным умом, Языком их – помелом. Славьте пахаря за плугом, Девушек, что пляшут кругом, Взгляд монаха в клобуке, Гогот пьяниц в кабаке; Пойте о беспечных, гордых Дамах прошлых лет и лордах, Живших в снах и вбитых в прах, Пойте щедрость и размах, – Чтоб навеки, как талант свой, Сохранить в душе ирландство! (У. Б. Йейтс) Пой, поэт, с тобой, поэт, В бездну ночи сходит свет, Голос дерзко возвышай, Утверзкдай и утешай… (У. Х. Оден[197])С этого момента, как бы вопреки собственной воле, Оден все больше попадает под влияние интонации Йейтса[198]. Это особенно заметно уже в стихотворении «1 сентября 1939 года». Волны злобы и страха, плывущие над землей; Европа, сходящая с ума; люди как заблудившиеся дети, боящиеся темноты; воинственная чепуха политиков; мир, погрязший в глупости и в темноте – все это отзвуки и вариации «Второго пришествия» Йейтса:
Все шире – круг за кругом – ходит сокол, Не слыша, как его сокольник кличет; Все рушится, основа расшаталась, Мир захлестнули волны беззаконья; Кровавый ширится прилив и топит Стыдливости священные обряды; У добрых сила правоты иссякла, А злые будто бы остервенились, –Между прочим, Бродский в своей лекции о стихотворении «1 сентября 1939 года» замечает его ритмическую зависимость от Йейтса: «Возможно, в данном случае перо Одена привела в движение „Пасха 1916 года“ У. Б. Йейтса, особенно из-за сходства тем»[199]. Стоило бы обратить внимание и на цикл Йейтса «Тысяча девятьсот девятнадцатый год» (Nineteen Hundred and Nineteen). Там тема еще ближе: трагическая вина разума и его бессилие перед лицом сорвавшегося с привязи зла. Тотальная ирония стихов Одена, возможно, «приведена в движение» именно этими стихами Йейтса – с их горькой насмешкой над «гениями», «мудрецами», «добрыми людьми» и в конце концов над самими насмешниками, к которым автор причисляет и себя: «Посмеемся же теперь над насмешниками, которые пальцем не двинули, чтобы помочь великим, мудрым и добрым остановить свирепую бурю, ибо наша профессия – шутовство».
Может быть, именно эта ощущаемая Оденом зависимость интонации, а не пресловутая дилемма or/and в строке „we must love each other or die“, и была причиной того, что Оден исключил это стихотворение из своего Collected Poems[200].
VII
Отъезд в Америку стал решительным шагом для Одена. Он уехал из страны («трусливо бежал», кричали многие), где не мог больше носить навязанную ему капитанскую повязку лидера левых поэтов. Он сменил идеологические вехи, сменил пейзаж и окружение, даже до какой-то степени обновил язык (уже в первом его стихотворении появились «ранчо»!).
Перемена дала новый мощный толчок его творчеству. Как он поздней признавался, «главная свобода, которую дарит Америка, не столько демократия, сколько свобода экспериментировать»[201]. Продуктивность Одена в США удвоилась. Он не только читал лекции, сочинял рецензии и предисловия к самым разным книгам, выпускал книги стихов, но и работал над крупными поэтическими вещами. Первой была написана поэма «Новогоднее письмо» (1940). Затем – рождественская оратория «Тем временем» (1942), затем – «Море и зеркало» (1944), комментарий к шекспировской «Буре», написанный в форме драматических монологов действующих лиц пьесы, а три года спустя – «Время тревоги. Барочная эклога» (1947), за которую он был награжден Пулицеровской премией. Последние три вещи объединяет использование драматической формы и еще одна знаменательная черта: они так или иначе связаны с темой побега, переезда, эмиграции. Рождественская оратория, например, кончается бегством в Египет. Ее последний хор легко применить к самому автору:
Он – твой Свет путеводный. Следуй за Ним в Незнакомую Землю. Там узришь ты новых зверей, неведомое испытаешь. Он – твоя Правда. Ищи Его в Царстве Тревоги. Ты придешь в град великий, давно тебя ждущий.VIII
Просперо, герой шекспировской «Бури» – также своего рода «перемещенное лицо»: чудом спасшегося от братней злобы, буря выносит его вместе с дочерью на необитаемый остров, где Просперо предстоит превзойти мудрость своих тайных книг и сделаться великим волшебником. Это первый автобиографический момент.
Второй момент связан с Честером Кальманом. Оден познакомился с этим восемнадцатилетним красавчиком-студентом вскоре после своего приезда в Нью-Йорк. Их любовная связь недолго была безоблачной. Уже через несколько месяцев обнаружилось, что милый мальчик беззастенчиво изменяет своему старшему другу. После нескольких острых кризисов в 1941 году они расстались (впоследствии выяснилось, что не навсегда).
Уистен Хью Оден. Фото 1950-х гг.
«Просперо – Ариэлю», первый монолог «Моря и зеркала», писался в годы разлуки, и это сделало его еще более многослойным. Здесь не только маг Просперо прощается со своим волшебным жезлом и магическими книгами, не только Шекспир символически прощается с театром и с тем послушливым духом Воображения, который служил ему двадцать лет; здесь и сам Оден в минуту уныния прощается с Поэзией, и вдобавок ко всему: здесь он вновь переживает расставание с Кальманом, – который, как Ариэль у Шекспира, с самого начала рвался на волю:
Побудь со мной, Ариэль, напоследок, помоги скоротать Час расставанья, внимая моим сокрушенным речам, Как прежде – блажным приказаньям; а дальше, мой храбрый летун, Тебе – песня да вольная воля, а мне – Сперва Милан, а потом – гроб и земля.Длинные свободные строки этого исповедального монолога контрастно чередуются с рифмованными куплетами, по стилю напоминающими песенки для кабаре. Тут продолжается разговор с неверным другом, тут стыд и ревность ведут свои арьергардные бои:
О милом ангеле пропой, Влюбленном в подлеца, О принце крови, что бежит В коровник из дворца; Ведь тот, кто слаб, готов лизать Любому сапоги, А получивший в зад пинка Сам раздает пинки.Эти куплеты здесь играют ту же роль, что в электротехнике – заземление; они отводят лишнее электричество, искупают пафос иронией. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!»
Переключение регистров – то, что постоянно происходит в драмах Шекспира. Комические сцены нисколько не мешают движению главного сюжета. То же самое в оденовском монологе Просперо. Его элегические строки сочетают живую разговорную интонацию с достоинством человеческой печали. Речь идет о жизни и смерти, об их реальной невыдуманности. Искусство, поэзия, любовь до поры до времени экранируют человека от смерти (по формуле А. Введенского, с ними не страшно). В тексте Одена оба вида творческой деятельности человека – искусство и любовь – перетекают друг в друга, двоятся; их сущностное тождество выражено в амбивалентном образе Ариэля. Ариэль улетает – человек остается лицом к лицу со смертью.
Образ уходящего со сцены Просперо – образ одиночества и старости. И то, и другое отрезвляет, награждает смирением. Взамен отвергнутых иллюзий Ариэль предлагает ему свое зеркало искусства, освобождающее от самолюбия и стыда, дарующее ощущение реальности, чувство пробуждения из долгого смутного сна в реальный мир:
Итак, мы расходимся навсегда – какое странное чувство, Как будто всю жизнь я был пьян и только сейчас Впервые очнулся и окончательно протрезвел – Среди этой груды грязных нагромоздившихся дней И несбывшихся упований; словно мне снился сон О каком-то грандиозном путешествии, где я по пути Зарисовывал пригрезившиеся мне пейзажи, людей, города, Башни, ущелья, базары, орущие рты, Записывал в дневник обрывки нелепиц и новостей, Подслушанных в театрах, трактирах, сортирах и поездах, И вот, состарившись, проснулся и наконец осознал, Что это действительно путешествие, которое я должен пройти – В одиночку, пешком, шаг за шагом, без гроша за душой – Через эту ширь времени, через весь этот мир; И ни сказочный волк, ни орел мне уже не помогут.Между прочим, сходный мотив пробуждения в явь проходит через всю поэзию Мандельштама, от раннего: «Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?» – до позднего: «Народу нужен стих таинственно-родной, / Чтоб от него он вечно просыпался…» Да и «сказочный волк» Одена явно сродни тем «игрушечным волкам», которые «глазами страшными глядят» из стихов Мандельштама. Инфантильность? Да. То самое вечное детство, без которого трудно представить большого поэта.
IX
Творчество Одена, если рассматривать его в хронологической последовательности, можно разделить на три периода: английский (до 1939 года), американский (с 1939-го примерно до начала 1950-х годов) и южно-европейский (пятидесятые годы, шестидесятые и начало семидесятых). Дело в том, что с 1949 года Оден стал проводить весенние и летние месяцы на итальянском острове Искья вблизи Неаполя, и его поэзия стала все больше и больше переходить на европейские рельсы. Последним его большим американским произведением осталась «барочная эклога» под названием «Век тревоги» (1948), действие которой происходит в одном из нью-йоркских баров.
А в 1958 году на деньги от итальянской литературной премии Оден купил скромный фермерский дом в австрийском городке Кирхштеттен неподалеку от Вены. Этот дом и стал его последним обиталищем, – которое он делил с Честером Кальманом, жившим там наездами (перестав быть любовниками, они сохранили дружеские отношения и даже стали соавторами нескольких оперных либретто).
В Кирхштеттене находится могила Одена. Он умер в 1973 году в номере венской гостиницы от сердечного приступа, вероятно, во сне. Причиной его подкосившегося здоровья называли беспрерывное курение (chain-smoking), злоупотребление крепким мартини, а также то, что на протяжении двадцати лет, с самого начала нью-йоркского периода, он привык подстегивать себя бензедрином, стимулирующим препаратом, относящимся к группе амфетаминов[202]. Однако близкие люди, в том числе Кальман, полагали, что дополнительной причиной был шок, пережитый от неожиданных претензий австрийской налоговой службы, которая насчитала за Оденом огромную задолженность. Выполнение требований должно было полностью ликвидировать его банковские сбережения, а вместе с тем и надежды спокойно доживать свой век на эти деньги. Впереди маячила перспектива снова сунуть голову в хомут поденного литературного труда и постоянного поиска приработков.
Почему же австрийские налоговики предъявили такой огромный счет Одену, несмотря на то, что все его произведения печатались только в Англии и в США, а в Австрии он не зарабатывал ни гроша, а лишь тратил деньги? А потому, объясняли налоговики, что он «ведет в Австрии свой бизнес»: смотрит на австрийские пейзажи, описывает их в стихах, а потом продает стихи за границу![203]
X
Какой период в творчестве Одена лучший? Шеймас Хини, например, отдает предпочтение первому. Его завораживает напряженная и неясная атмосфера оденовской поэзии начала 1930-х годов, ее странные иррациональные образы, «отражающие опыт мировых потрясений XX века». Он восхищается огромной внутренней энергией молодого поэта. «В поздние годы, – замечает Хини, – Оден писал совсем другие стихи, педантично-уютные, стремящиеся скорее опутать вас, как шерстяная нить, чем тряхануть, как оголенный провод»[204].
Если посмотреть, на какое время приходятся большинство хрестоматийно известных и любимых читателями стихотворений – «Однажды вечером», «Похоронный блюз», «Осенняя песня», «Блюз Римской стены», «Музей изящных искусств», «Памяти У. Б. Йейтса», «Падение Рима», «Хвала известняку», «Визит флота», «Более любящий», «Великолепная пятерка», «Щит Ахилла» и другие – получится все-таки средний период Одена: 1937–1957 годы.
Но и у позднего Одена есть вещи, способные если не «тряхануть», то поразить до замирания сердца. Например, «Колыбельная», в которой одинокий старик свертывается, как устрица, в постели, сам себя лелея и жалея, – Мадонна и Дитя в единственном лице: «Спи, старый, баю-бай!»
Вспоминается английский детский стишок в переводе Маршака:
Шел я сам по себе, Говорил я себе, Говорил я себе самому: – Ты следи за собой Да гляди за собой, Не нужны мы с тобой никому.Иосиф Бродский в статье об Одене подчеркивает, что «поэтов – особенно тех, что жили долго – следует читать полностью, а не в избранном». Он даже допускает, что «стареющий поэт имеет право писать хуже – если он действительно пишет хуже»[205].
Конечно, здесь есть и самозащита: это писалось в годы, когда распространилось мнение, что поздний Бродский выдохся, сделался скучен. Нет, возражает он и тем, и этим, это не «усталость металла», а осознанное стремление освободить свой стих от всяких риторических блесток, – даже рискуя вызвать отчуждение части старых читателей и собратьев по перу, «ибо в каждом из нас сидит прыщавый юнец, жаждущий бессвязного пафоса».
XI
Боготворивший Одена Бродский писал, что можно было бы основать церковь, главной заповедью которой были бы строки Одена: «If equal affection cannot be, / Let the more loving one be me» («Если равная любовь невозможна, пусть более любящим буду я»). Мне кажется, есть другая, не менее замечательная, заповедь Одена:
You shall love your crooked neighbor With your crooked heart. («As I Walked Out One Evening»)Здесь опять аллюзия на английскую поэзию нонсенса: «There was a crooked man». В переводе К. Чуковского: «Жил на свете человек, / Скрюченные ножки, / И гулял он целый век / По скрюченной дорожке…». Crooked по-английски может означать: «искривленный», «кривой», «нечестный» и даже «битый», «многое испытавший». Так что однозначно перевести строки Одена нелегко. «Своим крученным-перекрученным сердцем полюби своего крученного-перекрученного ближнего»… «Своим лживым сердцем полюби своего лживого соседа»… Или «коварным сердцем»? Или «корявым сердцем»? Учитывая, из какого стишка это взято, может быть, даже так:
Нелепым сердцем полюби Нелепый этот люд.В этом призыве к пониманию и прощению ближнего Оден (в 1937 году, когда было написано «As I Walked Out One Evening», скорее либеральный гуманист, чем христианин) и скептик Джойс, сотворивший своего хитроумного, но по-человечески трогательного Блума-Улисса, сходятся.
Вспоминается и Гоголь: «Ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» (из второй главы второго тома «Мертвых душ»).
XII
Для меня существует большая четверка англоязычных поэтов XX века: Фрост, Стивене, Йейтс и Оден. Элиот и Паунд, на мой взгляд, были скорее культуртрегерами, чье поэтическое влияние, в свое время достигавшее непомерных масштабов, ныне практически исчерпано[206].
Йейтса и Одена часто изображают идейными полюсами, чуть ли не противниками. Нужно признаться, что Оден сам дал к тому повод в своей элегии на смерть Йейтса и двух статьях того же времени. По сути же, противопоставление Йейтса, жреца и мага, и Одена, частного человека и социального ориентированного писателя, чрезвычайно поверхностно. Оба с самого начала заключали в себе тот самый конфликт или внутренний раздор, который является движущей силой поэтической эволюции. В обоих поэтах уживались вместе и Просперо – умудренный разум, и Ариэль – дух красоты и музыки. Between extremities man runs his course, писал Йейтс. «Путь человека – между двух дорог».
К тому же стоит учесть, что молодой Йейтс, певец кельтских сумерек, и пожилой Йейтс, сенатор и лауреат, в некотором смысле, два разных поэта. Ранний Оден-бунтарь и тот поэт-горацианец, которым он стал в старости, никак не менее контрастны. Этой способностью к трансформации Йейтс и Оден скорее сходствуют, чем разнятся, и векторы их развития направлены если не параллельно, то все же в общую сторону.
Комментируя переворот в английской поэзии, который совершил Оден в конце 1920-х и в начале 1930-х годов, и его дальнейшую эволюцию, Хини пишет: «Его позднее творчество доказывает то, о чем он интуитивно догадывался в начале: необходим разрыв с привычкой, бегство от заданного, но эти акты эмансипации нужны лишь для того, чтобы, в конечном счете, выявить иллюзорность их обещаний. В соответствии с этим, его поэтический путь демонстрирует поворот на сто восемьдесят градусов от первоначального отторжения своей среды и традиции до последующего успешного вписывания в то и другое»[207].
А что касается романтической традиции, то Ричард Эллман к месту приводит слова Марселя Пруста: «Сильная идея сообщает часть своей силы тому, кто ее опровергает». Если бы Йейтс не восхвалил поэзию как образ рая, который должен висеть над детской кроваткой мира, чтобы дети росли красивыми и счастливыми, Оден, возможно, не заявил бы, что стихотворение всего лишь «словесное изделие или игрушка». Но эти точки зрения не являются взаимно исключающими, скорее, они отражают разные стороны предмета и горячность живого спора. «Йейтс со своим пафосом преувеличения и Оден со своим пафосом преуменьшения, – заключает Эллман, – движутся навстречу друг другу по сложной орбите, как две кометы в одной галактике»[208].
Между Брехтом и Горацием
Коментарии к стихам Уистена Одена
Поэму «Море и зеркало», построенную на ряде противопоставлений, главным из которых является оппозиция Просперо – Ариэль, можно рассматривать как середину творчества Уистена Одена, главное произведение его американского периода. Из приводимых выше стихотворений половина принадлежат к доамериканскому периоду, а остальные – к послеамериканскому, когда поэт стал проводить большую часть года в Европе, а затем (получив должность профессора поэзии в Оксфорде и купив дом в южной Австрии) окончательно переселился на эту сторону Атлантики.
«Похоронный блюз» и «Блюз римской стены» были впоследствии включены автором в цикл «Двенадцать песен» (IX. Stop all the clocks, cut of the telephone и XI. Roman Wall Blues). «Похоронный блюз» – одно из самых известных произведений Одена. В оригинале пол говорящего не конкретизирован (особенность английской грамматики), из-за чего для переводчика возникает та же проблема, что и в сонетах Шекспира: надо определиться с типом любви – традиционной или гомосексуальной. Иосиф Бродский в своем переводе выбирает второй вариант, у него о смерти мужчины говорит мужчина, – на что, впрочем, указывает только окончание глагола в конце третьей строфы:
Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток, Мой шестидневный труд, мой выходной восторг, Слова и их мотив, местоимений сплав. Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.Бродский, несомненно, ориентировался, помимо биографических обстоятельств Одена, и на культовый английский фильм «Четыре свадьбы и похороны», в котором эти стихи произносит один из героев над гробом своего любовника.
Мой перевод, наоборот, сделан от лица женщины. Дело в том, что законченное стихотворение и было предназначено для женского голоса. Оно исполнялось певицей Хэдли Андерсон (ставшей вскоре женой друга Одена поэта Луиса Макниса) на музыку, сочиненную Бенджаменом Бриттеном, и вошло в цикл «Четыре песни кабаре для мисс Хэдли Андерсон». В таком виде оно и печаталось из книги в книгу Одена вплоть до шестидесятых годов. На стихотворении, безусловно, лежит печать жанра, а именно, немецкого кабаре начала 1930-х годов, как мы его себе представляем по знаменитому фильму с Лайзой Миннелли в главной роли: гротеск, бравада, смех сквозь слезы. Кстати, и сам этот фильм восходит – через более ранний бродвейский мюзикл – к роману друга Одена Кристофера Ишерву-да «Прощай, Берлин», в котором отразились их общие берлинские впечатления 1931 года.
«Блюз Римской Стены», по-видимому, вдохновлен книгой Киплинга «Пак с Волшебных холмов», точнее, входящими в нее рассказами о защитниках Адрианового вала. Построенный во II в. н. э. для отражения набегов пиктов, этот вал длиною в 72 мили перегораживал всю Северную Англию на уровне Ньюкасла-на-Тайне. У Киплинга о буднях римских солдат, защищающих Адрианов вал, рассказывает центурион Парнезий. В книге он распевает такую солдатскую песню:
Когда покидал я Италию С орлом и звонкой трубой, Клялась мне моя Евлалия, Божилась моя Евлалия: Мол, сердце мое с тобой. И я прошагал всю Галлию, Британию и так далее И вышел на голый брег, Где белый, как грудь Евлалии, Холодный, как кровь Евлалии, Ложился на землю снег…Впрочем, как мы узнаем из рассказа Киплинга, Стену защищал разноплеменный сброд – солдаты всех рас и народов, какие жили тогда в Римской империи. Да и командиры были им под стать – «ни одного, кто бы не попал сюда за какую-нибудь провинность или глупость. Один совершил убийство, другой – кражу, третий оскорбил магистрата или богохульствовал и был сослан на границу подальше, как говорится, от греха…» Оден написал своего рода зонг римского солдата, соединив вместе Киплинга и Брехта.
«Композитор» (The Composer) – один из примерно тридцати написанных в 1938 году сонетов Одена. Примечательна высказанная в нем мысль – хотя она, разумеется, не нова, – что любой вид искусства можно рассматривать как перевод (исключение делается для музыки, что тоже можно оспорить). Тем самым Оден, косвенно, снимает с поэтического перевода подозрение в неполноценности. Сравним с высказыванием Б. Пастернака: «Художнику безразлично, писать ли десятиверстную панораму на воздухе или копировать десятиверстную перспективу Тинторетто или Веронезе в музее».
Стихотворение «Испытание» (The Proof), вошедшее в сборник «Щит Ахилла» (1955), как и ряд других, подверглось циклизации в «Полном собрании стихотворений» 1966 года. Оден снял название стихотворения и включил его в цикл «Пять песен». «Испытание» написано по мотивам оперы «Волшебная флейта». Принц Тамино и Памина, дочь Царицы ночи, – ее главные персонажи: чтобы соединиться в финале, они должны пройти испытание огнем и водой. В этом усматривали отражение обрядов посвящения масонских лож и даже называли оперу Моцарта «масонской».
«Озера» (Lakes) входят в цикл «Буколики» (наряду с «Ветрами», «Лесами», «Горами», «Островами», «Долинами» и «Потоками»). «Буколики» Одена – жанр пасторальный, хотя и по-оденовски модернизированный. В них нет романтического образа Природы, безмолвно говорящей о присутствии божественного начала в мире. Наоборот, природа у Одена ежеминутно напоминает нам о человеке: о его расчетах и заботах, надеждах и иллюзиях. Даже масштаб озер определяется человеческой мерой: «чтобы могла мамаша докричаться /До заигравшихся с той стороны детей». Разумеется, озерная вода охлаждает страсти, но сама по себе, без высшего вмешательства: «Озерный люд спокоен и приветлив; / Пусть буйные романтики бранятся / И сгоряча зовут к барьеру друга; / Прожив у этих вод хотя бы месяц, / Былые дуэлянты позабудут / Браниться в рифму, теша Вельзевула». Этот антиромантической укол, похоже, направлен прямиком в «Евгения Онегина» (популярного в Европе благодаря опере Чайковского).
Наконец, последнее стихотворение, «Ода Термину» (Ode to Terminus), характерный пример поздней, «горацианской», манеры Одена. Этот гимн древнеримскому богу межей и границ, в честь которого справляли праздник терминалий (22 февраля). Стихотворение Одена, написанное полвека назад, и сегодня звучит вполне современно. Автор видит беду нашей цивилизации в разрушении всяческих границ и рамок (без которых культура на может существовать), в утрате чувства меры и самоограничения и, осуждая Венеру и Марса, богов любострастия и вражды, за потворство человеческой блажи и жадности, он взывает к помощи Термина, славя дарованные им людям «игры, лады и размеры».
Стихотворение написано без рифм, «алкеевой строфой». Античными размерами, в подражание одам Горация, написаны большинство стихотворений Одена этого периода. В переводе алкееву строфу, разумеется, необходимо воспроизвести, ведь смысл оды – в утверждении данных человеку священных правил. Оден обращается к Термину, «богу границ, оград и смирения», прося его поставить пределы людским прихотям и жажде новизны. Неверно будет сказать, что Оден ополчается здесь на науку – нет, он, как всегда, относится к ней с живым интересом и замечательным для гуманитария пониманием, – он просто предлагает ей быть поскромней, осознать свое подчиненное место в человеческой доме. Он выступает за сохранение порядка в экосфере, лада в искусстве, чувства меры во всех помыслах и делах человеческих. Здесь он действительно ученик Горация, певца «золотой середины».
У Термина, бога межей, если посмотреть на него не вчуже, как на поставленный человеку предел, а изнутри, как на некое пограничное состояние, пограничное стояние между двумя полями, обнаружится еще смысл: посредничество, сочетание и примирение разделенного. У Шеймаса Хини, выросшего на границе двух миров, католического и протестантского, воспитанного двумя культурами, ирландской и английской, есть стихотворение «Terminus», в котором римский бог выступает учителем равновесия:
А все-таки, если иначе взглянуть, Два ведра легче нести, чем одно. Я вырос, привыкнув изгибом спины Уравновешивать ношу свою.Термин может считаться и богом-покровителем переводчиков. Я заметил это много лет назад, написав «Песню межевого камня»:
На меже лежит камень, на неудобье, Между двух полей лежит, наподобье Переводчика – или его надгробья.Оден в своей оде утверждает, что величайшей милостью жизни является чудо взаимопонимания, то самое «чудо Пятидесятницы», когда на человека как будто сходит Святой Дух, и «каждый вдруг понимает язык другого». Тем же заканчивается и моя переводческая ода:
…Тихо в поле. В глазницах кремнёвых сухо. Зачинается песнь от Святого духа. Это камень поет – приложите ухо.Это совпадение, замеченное мной не сразу, – значит, не случайно я выбрал у Одена это стихотворение! – лишний раз доказывает, что связь между подлинником и переводом – корневая, что настоящая работа начинается задолго до того, как произойдет реальная встреча текста и глаз; только поэтому перевод и оказывается возможным.
Что касается стихотворений «Я вышел в город погулять» и «Колыбельная», то они стали предметом отдельного интертекстуального разбора, предлагаемого ниже.
У. Х. Оден (1907–1973)
Похоронный блюз
Замолкните, часы; разбейся, телефон; Швырните мопсу кость – пускай уймется он. Сурдиною трубе заткните глотку, чтоб Нежней играл Шопен; теперь несите гроб. Пускай аэроплан кружится в небесах, Вычерчивая там слова: Увы и Ах. Пусть шейки голубей украсит черный креп, Пусть им на площадях рассыплют черный хлеб. Он был моей рекой, и морем, и скалой, Шаландою моей, и ночью, и луной, Был солнцем из-за туч, рассветом из-за штор; Я думала, любовь бессмертна. Это – вздор. Тушите все огни – не нужно больше звёзд, Снимайте солнца шар, срывайте неба холст, И океан в лохань сливайте, господа; – Ведь больше ничего не будет никогда.Блюз римской стены
Над вереском ветер студеный гудит, Заеден я вшами, соплями умыт. С небес прохудившихся льет и течет, Я воин Стены, ее страж и оплот. Крадется туман между серых камней, Один я кукую без милки моей. Чего я тут за морем жду-стерегу? Девчонка моя на другом берегу. Вокруг нее вьется носатый Фабулл, Схватил бы урода и в лужу макнул. Пизон – христианин, при нем не сбрехни, Он молится рыбе, а девкам – ни-ни. Колечко подружки я в кости спустил, Без девок и денег служить нету сил. Скорей дослужить бы да лямку долой, Хотя бы без глаза – вернуться домой.Композитор
Все прочие лишь переводят: художник Прелестный вид умыкнуть норовит, Поэт смекает, как в десятисложник Впихнуть свой опыт бед и обид. Кусочки жизни они переносят В искусство и прячут ревниво в футляр; Лишь звуки твои подсказки не просят, Лишь музыка – сверхъестественный дар. Излей же на нас безоглядное чудо Своих водопадов, пускай с высоты Свергается песнь, прорывая запруды Унынья, сомнения и немоты. Хлещи же по спинам, плечам и коленям; Как сладким вином, напои нас прощеньем.Испытание
«Когда ломают времена Обычаи и ритмы, И лезет воровской жаргон Из публики элитной, И носят с шиком дураки Чужих пороков пятна, Кто будет веровать в Любовь, Ее слова и клятвы?» – Так, вспыхнув, проревел Огонь; Но Тамино и Памина С закрытыми глазами, Бесстрашно руку в руку вдев, В блаженстве сладком замерев, (Невинные? О да! Наивные? О нет!) Прошли сквозь дым и пламя. «Когда с петель сорвется мир, Ад вырвется из плена И обернется чиж совой И ведьмою – Елена, Когда фиалка зарычит И мак возжаждет крови, Какое вылупится зло Из треснувшей Любови?» – Так прошипела им Вода; Но Тамино и Памина, Наперекор совету, В ладони храбро сжав ладонь, Сквозь Воду, как и сквозь Огонь, (Испуганные? Нет! Счастливые? О да!) Прошли и вышли к свету.Озера
Исайе Берлину Что нужно озеру? Чтобы папаша Мог обойти его после обеда, Чтобы могла мамаша докричаться До заигравшихся с той стороны детей; Всё, что крупней, Байкал иль Мичиган – Для нас уже «враждебная пучина». Озерный люд спокоен и приветлив; Пусть грубые романтики бранятся И сгоряча зовут к барьеру друга; Прожив у этих вод хотя бы месяц, Былые дуэлянты позабудут Браниться в рифму, теша Вельзевула. Неудивительно, что христианство Смогло по-настоящему начаться, Когда аскеты из пещер и тюрем На Асканийском озере собрались, Где аисты гнездятся, – и избрали Трех рыб как символ триединства Бога. Министры иностранных дел обычно У озера устраивают встречи; И ходят вкруг него, плечом к плечу, Как ослики, качающие воду. Сей общий труд, увы, братанья армий Не гарантирует, – но он полезен. Лишь редкостный гордец, идя ко дну В Атлантике, подумает всерьез, Что лично на него Нептун взъярился; Но тонущему в озере приятно Воображать, что он добычей стал Влюбившейся в него Озерной Девы. Хоть бдительные горожане пьют Из охраняемых резервуаров, Случаются скандальные примеры: Так Кардинал у Вебстера заметил В пруду чертенка с вилами в руках, – Я знаю в Сассексе подобный прудик. У заколдованных озер есть свойство Лечить горячку нашей эпидермы Прохладной, бледной немотой зеркал; Им нипочем щекотка водомерок, Порой под лаской весел дрогнет гладь, Но не вздохнет и денег в долг не спросит. Природолюбцы-озеровладельцы Мечтают об овчарках и капканах, Чтоб свой Эдем озерный оградить От чужаков. Отдать народу? Шиш! С чего бы вдруг? За то, что всякий Джек Плескался встарь в околоплодных водах? Навряд ли я когда построю башню И заведу там белых лебедей; Но помечтать не вредно: ну, а если б – Какое озеро я взял бы – торфяное, Карст, кратер, старицу или лагуну?… Перечислять – и то уже блаженство.Ода термину
Жрецы с телескопами и циклотронами, вещайте дальше вести чудесные о том, чего постичь не можно, столь оно мелко или огромно, о тех открытьях, что в ваших формулах, в значках изящных алгебраических невинно выглядят, но если перевести их на человечий язык, навряд ли сильно обрадуют село и город: если галактики врозь разбегаются, как зайцы, если мезоны мечутся в страхе, как тут не вспомнить вести политики, все эти стачки и демонстрации, погромы, мятежи, теракты – всё, что за завтраком в нас пихают. Как мелки, впрочем, наши волнения в сравненье с тем, что эта Громадина – вот ведь немыслимое чудо! – кочку одну отличив из прочих, дала ей средства, срок и условия взлелеять Жизнь, что эта небесная причуда, царственная прихоть, наше волшебное Средиземье, где Солнце, сверкая, медленно движется по небосводу с востока к западу, где свет – отеческая милость, а не фотонная бомбардировка, где зреть мы можем формы и линии и отличать покой от движения и узнавать по очертаньям наших любимых милые лица, где всем созданьям, кроме болтающих, назначен удел и корм, подобающий по роду их, – наш мир блаженный. Что бы биологи ни твердили, лишь он спасает нас от безумия; мы знаем, как знаньем перенасыщенный блуждает ум во тьме кромешной и в одиночестве беспредельном, как он без формы, ритма, метафоры в бессвязном тонет унылом бормоте, не понимая даже шуток, не отличая пенис от пенса. Марс и Венера слишком потворствуют нелепой нашей блажи и жадности, лишь Ты один, великий Термин, можешь исправить нас, шалопаев. О бог дверей, оград и смирения, да будет проклят змей технократии; но будь блажен тот град, что славит игры твои, лады и размеры. Чьей милостью в компании дружеской вершится чудо Пятидесятницы, когда нисходит Дух и каждый вдруг понимает язык другого. В мире, безмерною нашей наглостью ограбленном и отравленном, может быть, еще спасешь ты нас, понявших, что все ученые эти шишки должны скромней нам басни рассказывать, что Небу мерзостны самозваные поэты, ради пустозвонства ложью нас пичкающие бесстыдно.Я вышел в город погулять
Я вышел в город погулять Однажды вечерком, Народ на улицах шумел, Как рожь под ветерком. Река катила волны вдаль, Сиял закатный свет, А за мостом влюбленный пел: «Любви скончанья нет! Я твой, я твой, любовь моя, Не разлюблю, клянусь, Пока не свистнет Рак с горы, Не закудахчет Гусь, Пока огромный Океан, В рулончик не свернут, Пока Лосось не запоет, Луна не спрыгнет в пруд. Что мне годов мышиный бег, Когда передо мной – Жемчужина Вселенной, Венец любви земной?» Но захрипели тут часы И хором стали бить: «Ты Времени не победишь, Не стоит с ним шутить. Прислушайся во тьме ночной: Ты различишь, дружок, В ответ на каждый поцелуй Его сухой смешок. Уходит жизнь, уходит жизнь, Мелея день за днем, И Время всё в конце концов Поставит на своем. Оно на яркий летний луг Обрушит снег и лед, Расцепит руки плясунов И краску с губ сотрет. О, погрузи свою ладонь В холодный ток реки; Смотри, смотри, как в нем дрожат Лучи и пузырьки. Тайфун гремит в твоем шкафу, В постели спит война, И в чашке треснувшей сквозит Загробная страна; Там нищий разодет как царь, Там волк с овечкой мил, Там дружно кувырком летят Под горку Джек и Джил. Вглядись, вглядись в ужасный мир, Забудь несчастный бред; Жизнь обольстительна, как встарь, – Да верить мочи нет. Пускай тоска тебя грызет И слезы очи жгут – Нелепым сердцем полюби Нелепый этот люд». Умолк тяжелый бой часов, Был поздний, поздний час; Река катила волны вдаль, Закат над ней погас.Великолепная пятерка
Мужайся, мудрый нос! Служа, как старый пес, Заботам современным, Не сравнивай, дружок, Их кислый запашок С тем запахом блаженным Священных древних рощ, Где ты, являя мощь, Стоял, оракул грозный, Торжественно – серьезный! Но это все в былом; Теперь ты – мостик между Устами и челом. Внушай же нам надежду, Врубаясь, как топор, В космический простор И прибавляя лоска Всему, что слишком плоско; Указывай нам путь Сквозь тернии – к вершине, Куда тебе отныне, Увы, не досягнуть! Остепенитесь, уши! Оставьте кабаре, Где выжатые души И где мозги-пюре Внимают мелодраме С кривляньем и прыжками. Воображеньем хил, Наш век окно закрыл Для вымыслов прекрасных, Он требует от нас Лишь сплетен ежечасных, Скандалов напоказ. Бегом – из мюзик-холла! Вас ждет иная школа, Где вы, трудясь за двух, Так изощрите слух, Что в шепотках астральных Расслышите ответ: На свете звуков нет Ни странных, ни банальных. Всему – свой день и час: Танцуйте, страх отринув, Изящней херувимов Свой новый па-де-грас! Остерегитесь, руки! Учтите, что дела, Свершенные от скуки, Во гневе иль со зла, И низкие интрижки – Прочтутся, как по книжке, По письменам руки. Мы помним кулаки Могучих предков наших, Что превращали в кашу Врагов – и на скале Навечно вырезали Глубокие скрижали; Но кости их – в земле. И стыдно, если чья-то, Вся в жилах узловатых, Отжившая клешня Из нынешнего дня Толкает нас к возврату В ту варварскую дату А я желаю вам Жить, благо создавая И в дар передавая Неведомым рукам. Глаза, учитесь прямо Смотреть во все глаза, – Не видя в этом срама, Но узнавая за Их наготой открытой Зрачки с иной орбитой. Сравните блеск пустой Сквозь прорезь узких щелок Размытых суетой Безжизненных гляделок – И дерзкий, добрый взор Живого человека, В котором отражен Очей и сердца спор, Конфликт ума и века. Чем разрешится он – Смутится ль разум жалкий? Иль страсти, может быть, Придется уступить В их жаркой перепалке? Кто зрит, как узок взор, Лишь тот на свете зрячий; Смотрите же без шор На видящих иначе! Воспой, язык, воспой Земную Музу! – ибо Мотив и лад любой Ты можешь взять на выбор. Ей лестно все. Восславь Причуды и манеры Той, что способна в явь Преобразить химеры. Пред старым Колесом Алчбы и утоленья Дрожа голодным псом В минуты вожделенья, Как твой невежда-брат, Живущий ниже чресел, Что вечно виноват И вечно нос повесил, – Воспой хвалу своей Наставнице великой! Не бойся, что заикой Покажешься… Скорей, О путаник матерый, Праматери открой Ту правду, до которой Ей не дойти самой. Прелестная пятерка, Пока я жив, живи, Дурея от восторга, Шалея от любви – Иль от еще чего там, Но вопреки подсчетам! – Я мог бы без труда Найти причины, чтобы Завыть, как пес, от злобы, От боли и стыда, Задравши морду к небу!.. Но у небес не требуй Сочувствия в ответ: Когда оно дождется, Что голос пресечется И вой сойдет на нет, То провещает внятно, Хотя и непонятно, – Такой бесстрастный тон, Как будто в микрофон Бубнит загробный кореш: «Блажен рожденный в свет!» И с этим не поспоришь, Да и резону нет.Колыбельная
Умолкнул шум труда, склонился день к закату и пала тьма на землю. О мир! блаженный мир! Сотри с лица заботу; закончен круг дневной, вся эта канитель – отвеченные письма, оплаченные счета и вынесенный мусор – закончены. Ты можешь раздеться и свернуться как устрица, в постели, где счастье и уют и самый лучший климат. Спи, старый, баю-бай! Грек перепутал все: Нарцисс был старым дедом, годами укрощенным, освобожденным от любви к чужому телу; когда-то ты мечтал быть грубым, волосатым и мужественным типом, теперь не то – ты любишь вот эту бабью плоть, ее лелеешь, гладишь, невинно-одинокий, Мадонна и Дитя. Спи, старый, баю-бай! Пора, пора уснуть; пусть переходит власть к животному рассудку, что дремлет где-то в чреве, в пределах материнских богинь, что сторожат Священные Врата, – без чьих немых внушений все наше словоблудье бессильно и презренно. Не бойся снов, их чар и страхов – это шутки сомнительного вкуса; не доверяйся им. Спи, старый, баю-бай!«Some good and fine device»
У. Х. Оден и наследие английского ренессанса
I
Поэты XX века охотно обращались к наследию елизаветинцев, причем каждый выбирал свое. Йейтс стилизовал свои названия под Томаса Уайетта, Джойс в «Камерной музыке» подражал Томасу Кэм-пиону, Бродский – Джону Донну.
Однажды (в книге «Лекарство от Фортуны»[209]) я уже отмечал параллель между последним, напечатанным посмертно стихотворением У. Х. Одена «Колыбельная» (1972) и двумя стихотворениями Джорджа Гаскойна: «Колыбельной Гаскойна» и «Охотой Гаскойна». В стихотворении Одена старый поэт укладывает сам себя, как ребенка, в постель, уговаривает уютно свернуться и уснуть:
Умолкнул шум труда, склонился день к закату и пала тьма на землю. О мир! блаженный мир! Сотри с лица заботу; закончен круг земной, вся эта канитель – оплаченные счета, отвеченные письма и вынесенный мусор – окончена. Ты можешь раздеться и свернуться какустрица, в постели, где ждет тебя уют и лучший в мире климат: Спи, старый, баю-бай!Так он убаюкивает сам себя, – вместе «Мадонна и Дитя», – утомленный закончившимся днем, законченными трудами. Он мечтает «свернуться, как устрица», он хочет, чтобы власть, наконец, перешла «к животному рассудку, что дремлет где-то в чреве, в пределах материнских богинь, что сторожат Священные Врата»… Русскому читателю неизбежно приходят на память строки позднего Ходасевича:
Пора не быть, а пребывать, Пора не бодрствовать, а спать, Как спит зародыш крутолобый, И мягкой вечностью опять Обволокнутся, как утробой.Но тема «колыбельной для самого себя» и сами эти куплеты с рефреном «баю-бай» у английского поэта, конечно, не от Ходасевича. Их первоисточник – стихотворение одного из самых замечательных поэтов-елизаветинцев Джорджа Гаскойна (1534?–1577):
Колыбельная Гаскойна
Как матери своих детей Кладут на мягкую кровать И тихой песенкой своей Им помогают засыпать, Я тоже деток уложу И покачаю, и скажу: Усните, баюшки-баю! – Под колыбельную мою. ‹…› Усните же, мои глаза, Мечты и молодость, – пора; Оттягивать уже нельзя: Под одеяла, детвора! Пусть ходит Бука, страшный сон – Укройтесь, и не тронет он; Усните, баюшки-баю! – Под колыбельную мою.Тема Гаскойна – поэт в разгроме, поэт, проигравший партию с Судьбой и Временем. Он убаюкивает себя – в сон или в смерть – здесь это почти неразличимо. Рефрен Одена: „Sing, Big Baby, sing lullay“ – явный отзвук гаскойновского зачина: „Sing lullaby, as women do.“
В своих «Заметках и наставлениях, касающихся до сложения виршей, или стихов английских, написанных по просьбе мистера Эдуар-до Донати» – первом в истории английской литературы стиховедческом трактате – Джордж Гаскойн подчеркивает, что главное в стихах не эпитеты и не цветистость речи, а качество «изобретения», то есть лирического хода, в котором обязательно должна быть aliquid salis, то есть некая соль, изюминка. «Под этим aliquid salis, – пишет он, – я разумею какой-нибудь подходящий и изящный ход [some good and fine device], показывающий живость и глубокий ум автора; и когда я говорю подходящий и изящный ход, я разумею, что он должен быть и подходящим, и изящным. Ибо ход может быть весьма изящным, но подходящим лишь с большой натяжкой. И опять-таки он может быть подходящим, но употребленным без должного изящества».
Что сделал Оден в своей «Колыбельной»? Он, по сути, позаимствовал у Гаскойна тот самый fine device – «изящный ход», сделав свою вариацию на его тему.
Речь может идти даже не об одном, а о двух стихотворениях Гаскойна, стоящих за броским рефреном Одена, – не только о «Колыбельной Гаскойна», но и о другом замечательном стихотворении «Охота Гаскойна», в котором поэт глядит на себя, старого младенца, глазами умирающей лани:
Methinks, it says, Old babe, now learn to suck…то есть: «Она как будто говорит: учись сначала, старый сосунок». «Old babe» Гаскойна и «Big Babe» Одена – практически одно и то же; по-видимому, Оден сознательно цитирует свои любимые стихи.
II
Второе стихотворение, которое я бы хотел сейчас вспомнить, это популярная (любимая составителями антологий) баллада Одена «As I Walked Out One Evening». Я сознаю, что мой перевод этого изумительного в оригинале стихотворения, далек от совершенства. Но поскольку для нас сейчас важны лирический ход (device) и композиция, это не сыграет большой роли.
У стихотворения Одена четкая композиционная схема. Оно начинается с характерного балладного зачина «As I walked out one evening». Первая строфа – пролог:
Я вышел в город погулять Однажды вечерком, Народ на улицах шумел, Как рожь под ветерком.Во второй половине второй строфы начинается речь Влюбленного, продолжающаяся до конца пятой строфы:
«Что мне годов мышиный бег, Когда передо мной – Жемчужина Вселенной, Венец любви земной?»После чего вступают Часы, которые вещают о всемогуществе Времени, опровергая речь Влюбленного:
Но захрипели тут часы И хором стали бить: «Ты Времени не победишь, Не стоит с ним шутить. Прислушайся во тьме ночной: Ты различишь, дружок, В ответ на каждый поцелуй Его сухой смешок.И так далее. Наконец, пятнадцатая строфа – эпилог и заколь-цовывание баллады. Лирический ход, «изюминка» стихотворения – в контрасте речей Влюбленного и Часов, в неожиданной силе и беспощадности, с которой опровергаются клятвы любви и утверждается господство Хроноса над Эросом.
Этот поэтический ход живо напомнил мне стихотворение другого выдающегося елизаветинца Уолтера Рэли (1552–1616) «Nature That Washed Her Hands in Milk».
Природа, вымыв руки молоком…
Природа, вымыв руки молоком, Не стала их обсушивать, но сразу Смешала шелк и снег в блестящий ком, Чтоб вылепить Амуру по заказу Красавицу, какую только смел В мечтах своих вообразить пострел. Он попросил, чтобы ее глаза Всегда лучистый день в себе таили, Уста из меда сделать наказал, Плоть нежную – из пуха, роз и лилий; К сим прелестям вдобавок пожелав Лишь резвый ум и шаловливый нрав. И, план Амура в точности храня, Природа расстаралась – но, к несчастью, Вложила в грудь ей сердце из кремня; Так что Амур, воспламененный страстью К холодной красоте, не знал, как быть – Торжествовать ему или грустить. Но время, этот беспощадный Страж, Природе отвечает лязгом стали; Оно сметает Упований блажь И подтверждает правоту Печали. Тяжелый ржавый серп в его руках И шелк, и снег – все обращает в прах. Прекрасной плотью, этой пищей нег, Игривой, нежной и благоуханной, Оно питает Смерть из века в век – И не насытит прорвы окаянной. Да, Время ничего не пощадит – Ни, уст, ни глаз, ни персей, ни ланит. О, Время! Мы тебе сдаем в заклад Все, что для нас любезно и любимо, А получаем скорбь взамен отрад. Ты сводишь нас во прах неумолимо И там, во тьме, в обители червей Захлопываешь повесть наших дней.В первых трех строфах стихотворения развивается обычная куртуазная тема (идущая еще от античности): Амур просит природу сотворить ему идеальную возлюбленную; Природа исполняет просьбу Амура, но нечаянно вкладывает в грудь красавицы каменное сердце. Эта тема, естественно, требует продолжения; мы ждем рассказа о мольбах Амура, о холодности и жестокости красавицы, и прочее в том же духе.
Но ничего подобного не происходит. Тема вдруг обрывается. В стихотворение резко и как будто без всякой связи вступает тема Времени. Звучание пятистопного ямба преображается; куртуазные интонации исчезают бесследно, в стихе слышится скрежет и лязг металла.
Конечно, нет ничего редкого или необычного в поэтической теме жизни и смерти, их столкновения и спора. Так маячит старик с косой за плечами влюбленных в средневековых рисунках, на гравюрах Гольбейна Младшего. Прение Любви и Смерти (или Времени) – старый сюжет; но обычно он обставляется со всей старинной обстоятельностью, заявляется с самого начала. Других примеров, чтобы куртуазное стихотворение (Рэли) или псевдонародная баллада (Оден) так внезапно «сбились с курса» и вывернулись наизнанку, превратившись в апофеоз неумолимого Времени, что-то не припоминается. Отсюда мое предположение о возможном влиянии Рэли на Одена.
III
Я не знаю поэта более переимчивого, чем Оден. В особенности очевиден его интерес к старой поэзии, средневековой и ренессанс-ной. Он издал стихи Томаса Кэмпиона, Джорджа Герберта, сборник елизаветинских песен, а также – в составе пятитомной антологии «Поэты английского языка» – том средневековой и ренессансной поэзии (от Лэнгланда до Спенсера) и том елизаветинской и якови-анской поэзии (от Марло до Марвелла). В его собственных стихах мотивы, темы, жанры и формы английского «золотого века английской поэзии» и более ранние, средневековые, представлены в изобилии. Лишь один, взятый наудачу, пример: «Великолепная пятерка (Precious Five) – разговор Поэта с его Носом, Ушами, Глазами, Рукой и Языком. Эта симпатия к старине имеет не одну лишь эстетическую причину.
Оден считал, что почти до последнего десятилетия XVI века в английской поэзии преобладала средневековая парадигма. Он высоко ценил христианский гуманизм, развившийся в Европе, начиная с эпохи Папской революции (XI–XII вв.) и считал его наследие актуальным. Он писал: «Никогда еще с тех самых отдаленных времен литература средних веков не могла в такой степени привлечь читателя, как сейчас, когда дуализм, инициированный Лютером, Макиавелли и Декартом, подвел нас к пределу нашей размотавшейся привязи и мы почувствовали, что либо нужно законопатить щели, которые отделяют личность от общества, чувство от разума и совесть от них обоих, либо мы обречены погибнуть от духовного отчаяния и физического самоуничтожения».
И далее: «Интерес современных поэтов к мифу и символу как средству превратить свой личный индивидуальный опыт в нечто всеобщее и типическое, тенденция современных писателей взять в качестве своего героя не исключительную личность, но обыкновенного „Любого человека“ (Everyman) – трактирщика Ирвикера или господина К[210], – свидетельствуют о поисках некоторого единства, сходного с тем, которое искал и думал, что обрел, христианский мир. И все-таки мы не должны тосковать о прошлом. Лютер и Декарт, к какому бы опасному краю они нас невольно ни подтолкнули, стоят, как ангелы с огненными мечами, преграждая нам возвратный путь от трудно постижимого дуализма к простой и однозначной правде. В той стороне лежит не Рай земной, а тоталитарный ад»[211].
Шестнадцатый век привлекал Одена как время сосуществования и борения двух важнейших парадигм европейского человека. Борение тех же начал в душе и разуме поэта составляют главную драму поэзии Одена.
Джон Бетджемен (1906–1984)
Бетджемен был сыном лондонского фабриканта. Вопреки желанию отца, мечтающего передать ему свое дело, избрал своей профессией литературу. С первых сборников «Гора Сион» (1933), «Вечная роса» (1937) и «Старые нетопыри на новых колокольнях» (1940) он показал себя как упрямый последователь давно вышедших из моды викторианских поэтов, склонный к гротескному юмору и чувствительный к тонким и своеобразным нюансам английского социального уклада. После войны Бетджемен сделался известен как ревностный защитник архитектурных памятников, спасший от сноса немало старых железнодорожных зданий по всей стране. Рифмованные и «тривиальные» стихи Бетджемена (он широко использовал редкие в английской поэзии хореи, а также женские рифмы) были бельмом на глазу у всех верли-бристов и модернистов.
Джон Бетджемен. Фото Говарда Костера, 1953
Senex
О где мне взять терпения Природу побороть, Сбежать от вожделения И более иль менее Смирить рассудком плоть? Чтоб я не тениссисточку, Чей локоть загорел, На рыжую туристочку Иль велосипедисточку Бесчувственно смотрел; Спокойней, чем отшельники, Смотрел бы, льдом объят, Как в придорожном ельнике Лежат вповалку велики Иль парами стоят… Прочь, псы! Зачем терзаете, Вы, адские щенки? Подтяжки разрываете И в ляжки мне вонзаете Свирепые клыки! Господь, скорее отгони Хохочущих гиен, Мне выю жесткую согни И вразуми, и объясни, Что лен кудряшек – тлен!В госпитальном саду
В городке захолустном, в саду госпитальном пустом, Где в углу, у стены, шелковица росла, как в опале, Я лежал и смотрел сквозь резной изумрудный проем, Как пурпурные ягоды ярко на ветках сияли, Ветки яблонь и слив наслаждались июльским теплом, День звенел мошкарой, и на улицах дети играли. От слепящего солнца в больничную тень, в холодок, Муха (musca domestica) передохнуть залетела – Прямо туда, где паук паутину стерег; Быстро жертву свою он сетью опутал умело, Вниз метнулись мохнатые лапы и отравленный страшный клинок, И никто не заметил агонию мушьего тела. О, в какой захолустной больнице, где, шаркая на ходу, Сестры в шашки со смертью играют на пыльном паркете, Буду так я лежать – и стонать, и метаться в бреду – Средь измятых простынь, в ослепительно брызжущем свете? Или, молча с удушьем борясь, провалюсь в темноту, в тошноту – Когда воздух звенит и играют на улицах дети?Каприччио для женского голоса и пишущей машинки (Стиви Смит)
Стихи Стиви Смит прихотливы и капризны – но в высшем, артистическом смысле слова; это каприччио для одного неповторимого женского голоса.
Прошло сорок пять лет со дня смерти Флоренс Маргарет Смит (таково настоящее имя англичанки, заменившей свое кудрявое имя на прозвище популярного жокея) – и теперь уже несомненно, что она обрела статус классика. Ее стихи – во всех антологиях, ее романы переиздаются. Появилась даже пьеса Хью Уайтмора «Стиви», основанная на ее биографии, а потом и кинофильм по мотивам этой пьесы.
Жизнь поэтессы не была усыпана розами. С юности и почти до пенсии она зарабатывала на хлеб, служа секретаршей в одном из лондонских издательств, долгие годы одиноко ухаживала за своей престарелой тетей, которую сама не надолго пережила. Первый сборник стихов Стиви Смит «Хорошо повеселились» вышел в 1937 году, за ним последовали другие; в 1962 году были изданы «Избранные стихи». К концу жизни к ней пришла популярность: премии за поэзию, горячий отклик аудиторий – она о успехом читала свои стихи, а некоторые из них пела на мелодии собственного изобретения.
Стиви Смит. Фото 1950 гг.
Стиви Смит иногда сближают с Эмили Диккинсон – не по стилю, а по самому архетипу поэтической личности. Впрочем, английская поэтесса прозаичней и задиристей. Один литературовед заметил, что Стиви Смит разговаривает с богом, как домохозяйка, упрекающая зеленщика за плохое качество капусты. Чего стоит, скажем, одно только неожиданное начало стихотворения «Был ли он женат?»:
Был ли он женат, приходилось ему Обеспечивать жену и семью, Когда от любви ничего не осталось? Нет. Такого несчастья с ним не случалось. Знал ли он, что такое надлом, тоска, Ощущение безвыходного тупика? Нет, он был настойчивым с колыбели, Он знал свою цель и шел к своей целя.Речь, разумеется, идет о Всевышнем. Ее отношение к религии характерно для образованного англичанина, привыкшего скепсисом ограждать свою душу от всякой авторитарности, от догмы и ханжества. Дух анархии, непризнания авторитетов царят в ее стихах – и тема одиночества:
Я вам кричал, а вы не понимали: Я не махал рукою, а тонул.Но это одиночество, которое не взывает к жалости. Тем более, что Стиви Смит может быть отнюдь не беззащитна в своих выпадах против своих современников и соотечественников. Неотразимое очарование умной немолодой женщины исходит от ее зрелых стихотворений.
Так юность силою берет любовь, Так зрелость – словом, ей не прекословь. (Донн, «Осенняя элегия», пер. А. Сергеева).Бывает веселое отчаянье и задиристая меланхолия. Таков характер Стиви Смит. Несомненно, что английская литература XX веха не выдвинула более сильной и оригинальной поэтессы.
Стиви Смит (1902–1971)
Несчастный случай
Его могила не угомонила, Лежал, чудила, и свое тянул: Я вам кричал, а вы не понимали – Я не махал рукою, а тонул. Он розыгрыши обожал смертельно – И доигрался. Был общий вывод: переохладился, Перекупался. Неправда, этот холод был и прежде! (Лежал, бедняга, и свое тянул) – Всю жизнь я лишь пытался докричаться И не махал рукою, а тонул.Сохранить ребенка
Сохранить ребенка в душе Хорошо ли? Да как вам сказать… Это значит – тяжелой обузой себя Добровольно связать. Не годится ребенок для взрослой борьбы, Слишком умной и тонкой; И поэтому взрослый в себе Презирает ребенка. Но и тот презирает больших – Слишком тертых и взрослых, Ибо правда ребенка – в слезах, А большие умны, но бесслезны. Видит в радуге он То, что взрослому кажется тусклым, Ибо взрослый рассудком живет, А ребенок живет только чувством. Чувством буйным, не знающим меры – Шутить с ним не стоит; Если вы не поймете его, Он такое устроит! Говорят: взрослый должен уметь Пересилить ребенка. Ха-ха-ха! Он легко вас придушит Одною ручонкой. О, поверьте, совсем незавидный удел – Сохранить в себе детство; Будет бунт и мятеж – Куда тогда взрослому деться? И что делать ребенку, Который из выросшей тетки Смотрит, как анархист Из-за тюремной решетки?Ослик
Это был такой милый ослик, Чутко двигавший ушек парой, Он так резво скакал по полю, Хоть и был уже ослик старый. Пенсионного возраста ослик – Много лет он тянул свою лямку Между двух громоздких оглобель, А теперь отпущен на травку. У него в глазах – словно искра, Словно отблеск шального сиянья, Но не юного блеска и риска, А какого-то позднего знанья И какой-то веселости поздней. Он глядит, словно бы понимая, Что пред ним – ни дорог, ни заборов, А пьянящая степь без края. Да, пьянящая степь без края Сумасшедшей какой-то свободы. Мой бесценный ослик, я знаю: Мы пойдем на слом, сумасброды. Не боюсь, не жалею – желаю Той последней пьянящей свободы.Сноски
1
Перевод Э. Шустера
(обратно)2
Дословный перевод. См. «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…».
(обратно)3
Здесь и далее, где переводчик не обозначен, перевод принадлежит автору статьи.
(обратно)4
В 1930-х годах эти вопросы снова прорезались в трагической поэзии обэриу-тов: «Страшно жить на этом свете, / В нем отсутствует уют, / – Ветер воет на рассвете, / Волки зайчика грызут». – Н. Олейников.
(обратно)5
Перевод А. Н. Горбунова (с небольшой редактурой. – Г. К.).
(обратно)6
Напомним цитату полностью: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии – поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого)». А. С. Пушкин -В. А. Жуковскому, 20-е числа апреля 1825 г.
(обратно)7
Перевод Игн. Ивановского.
(обратно)8
В сатире «Питер Белл Третий» (1819; опуб. 1839).
(обратно)9
Перевод О. Седаковой.
(обратно)10
Дословный перевод двух последних строк стихотворения.
(обратно)11
Сонет «Житейские темы».
(обратно)12
Сонет «Глядя на островок цветущих подснежников в бурю».
(обратно)13
Джон Ките. «К Одиночеству». Дословный перевод.
(обратно)14
«Человек – только прах» (дословно: «трава»; англ.).
(обратно)15
«It was a poet's house who keeps the keys / Of Pleasure's temple».
(обратно)16
Можно найти и еще одно вполне логичное (естественно-научное) объяснение связи любви и сна. Среди ряда фундаментальных потребностей человека наряду с половым инстинктом и потребностью в воде и пище есть еще и потребность в сне, столь же необходимом для жизни, как пища. Во сне мы проводим значительную часть суток. И вот что существенно: во время сна человек не способен к обороне, беззащитен перед любым врагом. Выходит, что в число наших основных потребностей входит и безопасность во время сна. Человек, ночевавший в лесу, забирался на дерево или разводил костер, чтобы не попасть в лапы хищников. Воспоминание этих первобытных страхов глубоко укоренилось в подсознании и часто всплывает в наших кошмарных снах. Может быть, и любовь – лишь стремление найти такого человека, которому можно было бы доверить себя спящего – беспомощного и беззащитного.
(обратно)17
Полное название стихотворения Вордсворта звучит так: «Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour, July 13, 1798» («Строки, сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства, при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года»).
(обратно)18
Курсив мой. – Г. К.
(обратно)19
«Зеленый цвет – бальзам души скорбящей…» Из сонета Джона Клэра «Одиночество».
(обратно)20
Эти свойства могли быть наследственными, если верить легенде, переданной первым биографом Клэра Мартином об его отце, якобы родившемся от ирландского бродячего певца, который забрел в Хелпстон и какое-то время учительствовал в местной школе.
(обратно)21
Томас Гуд (1799–1845) известен в России, прежде всего, своей «Песней о рубашке», описывающей каторжный труд швеи («Работай! Работай! Работай!» и т. д.) Это стихотворение любили все защитники рабочего класса, в том числе Карл Маркс, говоривший о Томасе Гуде: «Подобно всем юмористам, человек с очень чуткой душой…»
(обратно)22
Фамилия Чарльза Лэма по-английски означает «ягненок».
(обратно)23
Барри Корнуолл (Брайан Уоллер Проктер).
(обратно)24
Джон Герберт Рейнольде.
(обратно)25
Уильям Хэзлит. Двухтомник его эссе, печатавшихся в «Лондон мэгэзин», вышел в 1822 году под названием «Table Talk».
(обратно)26
Отрывки из стихотворения Элтона даются в подстрочном переводе.
(обратно)27
Цитируя прозу Клэра, я везде сохраняю его пунктуацию (или отсутствие таковой).
(обратно)28
Имеется в виду «Полное руководство по ужению рыбы» Исаака Уолтона (1593–1683), друга и биографа Джона Донна. Классическая английская книга о рыбной ловле, нашпигованная множеством очаровательно наивных стихотворений.
(обратно)29
Пунктуация дана по книге Дж. Л. Черри «Биография и неопубликованные материалы Джона Клэра».
(обратно)30
Из стихотворения «Барсук» (около 1836 г.).
(обратно)31
Перевод: «На открытом месте стоит боксер, привычный к ударам, на нем – отметины всех перчаток, которые сбивали его с ног или рассекали лицо; и настает момент, когда он восклицает с яростью и со стыдом: „Довольно, я ухожу!“ Но боксер остается…»
(обратно)32
В этом письме, как и в некоторых других текстах этого периода, Клэр пишет каждое слово с заглавной буквы.
(обратно)33
«Hie depositum est Corpus IONATHAN SWIFT… Ubi saeva Indignatio Ulteris Cor lacerare nequit…» («Здесь покоится тело Джонатана Свифта… где яростное негодование уже не сможет терзать его сердце…» (лат.)
(обратно)34
Hallam, Arthur. Remains, in Verse and Prose. L, 1869.
(обратно)35
Ibid.
(обратно)36
В этой строфе читатель слышит вздох по Ленскому, погибшему на поединке с другом. Вспомним, что и молодой Пушкин не раз дрался на дуэли из-за сущих пустяков, как бы доказывая, что не слишком дорожит жизнью и всегда готов уйти, «не дочитав ее романа». Дуэльная мания в России XIX века не есть ли брутальный вариант суицидной мании?
(обратно)37
Эдвард Фицджеральд (1809–1883) – английский поэт, автор популярных переводов из Омара Хайяма, друг Теннисона.
(обратно)38
«Выбор» («Vacillation»), VIII.
(обратно)39
Стихи Джона Клэра и статью о нем см. в «Иностранной литературе» (2005, № 4).
(обратно)40
В числе пациентов водолечебниц были Диккенс, Теккерей, Карлейль, Дарвин, Бульвер-Литтон и другие литературные знаменитости. Martin, R. В. Tennyson: The Unquiet Heat. Oxford; London, 1980. P. 277.
(обратно)41
Henderson, Philip. Tennyson: Poet and Prophet. L, 1978. P. 46.
(обратно)42
Martin, cit. op. P. 247.
(обратно)43
Юнг КГ. Психологическая проблематика брака // Юнг КГ. Дух в человеке, искусстве и литературе. Минск, 2003. С. 276.
(обратно)44
Блок А. Предисловие к поэме «Возмездие» // А. Блок. Полное собрание стихотворений в 2 т. 1946 (Библиотека поэта). С. 531.
(обратно)45
«К ***, после прочтения „Жизни и писем“».
(обратно)46
Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке // cit. op. С. 70.
(обратно)47
Цитата из сонета Дж. Китса «On First Looking Into Chapman's Homer» («Long have I traveled in the realms of gold»).
(обратно)48
Название Теннисона, кроме того, содержит романтическое снижение, почти парадоксальное: идиллии обычно описывают жизнь крестьян и пастухов, так вот же вам – «идиллии короля» (The Idylls of the King).
(обратно)49
The Coming of Arthur, № 11. 132-3.
(обратно)50
Эстетика американского романтизма. М., 1977.С. 155–157.
(обратно)51
Там же. С. 170.
(обратно)52
По-английски: «an ungentlemanly row». Cit. Tennyson: Critical Heritage. Pp. 334–5-«Но несмотря на это, – добавлял Хопкинс, – он великий поэт, чьи вещи сделаны из золота и слоновой кости».
(обратно)53
Cohen., Morton N. Lewis Carroll: A Biography. New York, 1995. P. 159.
(обратно)54
Martin, R.В. Tennyson: The Unquiet Heat. P. 477.
(обратно)55
Ibid, Р. 475.
(обратно)56
Перевод П. Мелковой.
(обратно)57
Kean, Patrick J. Yeats's Interactions with Traditions. Columbia, Missurri, 1987. P. 263.
(обратно)58
«Мод», Часть вторая, строки 50–60.
(обратно)59
Martin, R. В. Tennyson: The Unquiet Heat. P. 264–265.
(обратно)60
Антология английской поэзии (отзыв) // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. С. 700.
(обратно)61
«Как – разве могилы выпускают своих жильцов?» (англ.)
(обратно)62
Перевод Ф. Тютчева (1830). Печатается в сборниках стихотворений Тютчева под названием «Песня: „Заревел голодный лев“»
(обратно)63
Irvine W. and Honan P. The Book, the Ring, and the Poet. New York, 1974. P. 44.
(обратно)64
См.: Рукою Пушкина. M, 1935. С. 94–96.
(обратно)65
«Porphiria's Lover». LI. 31–41.
(обратно)66
Gide, Andri. Dostoevsky. Paris, 1923, P. 188.
(обратно)67
Belknap R. L. The Structure of «The Brothers Karamazov». Evanston, 1989– P. 94-
(обратно)68
Browning R. The Ring and the Book. New Haven, 1971. P. 284, 11. 701-9.
(обратно)69
Перевод С. Сухарева.
(обратно)70
«Я собрал ее длинные золотистые волосы в одну прядь, три раза обмотал их вокруг ее горла…»
(обратно)71
«И задушил ее».
(обратно)72
Dramatic Lyrics, Bells and Pomegranates (1842).
(обратно)73
«Не Bids His Beloved Be at Peace».
(обратно)74
В оригинале: «And yet God has not said a word!»
(обратно)75
Изложено по реконструкции У. Д. Пейдена (Paden, W.D. An Investigation of Gondal. N.Y, 1958).
(обратно)76
Запись Эмили и Анны 30 июля 1845 г.
(обратно)77
BarkerJuliet.TheBrontes.N.Y., 1996. Р. 151.
(обратно)78
Нортанджерленд и Заморна – персонажи хроник Ангрии, сочиняемых Шарлоттой и Брэнуэллом.
(обратно)79
Barker, Juliet. TheBrontes. P. 271. В переводе сохранена пунктуация оригинала.
(обратно)80
Miller,Lucasta.TheBronteMyth. N.Y. 2001. Р. 118–9.
(обратно)81
Метерлинк, М. Мудрость и судьба / Метерлинк М. Разум цветов. М, 1995– С. 456. Перевод Н. М. Минского.
(обратно)82
Там же. С. 457, 458.
(обратно)83
На первоначальной раме был написан один сонет, а другой напечатан в каталоге выставки.
(обратно)84
Перевод В. Рогова.
(обратно)85
Россетти Д. Г.. Дом Жизни: поэзия, проза. СПб, 2005– С. 375– Перевод Вланеса.
(обратно)86
Там же. С. 374-
(обратно)87
Здесь и далее, где не указан переводчик, перевод мой. – ГК
(обратно)88
Россетти. Д.Г. Письма. С. 324.
(обратно)89
Цит. по: Суинберн Л. Ч. Сад Прозерпины. Стихи. Перевод и предисловие Г. Бена. СПб, 2003. С. 13.
(обратно)90
ПастернакБЛ. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 313–314.
(обратно)91
Перевод О. Полей.
(обратно)92
Lucas F. L. The Victorian Poems. Cambridge, 1940. P. 126.
(обратно)93
Рёскин Джон. Лекции об искусстве. М, 2006. С. 80. Перевод П. Когана. Выделено самим Дж. Рёскиным.
(обратно)94
Элиот Т. С. Назначение поэзии. Москва; Киев, 1997. С. 294–295.
(обратно)95
Россетти. Д.Г. Письма. С. 37.
(обратно)96
EttmannRichard. The Man and his Masks. N.Y.; London, 1979. P. 139.
(обратно)97
Поэзия Франции. ВекXIX. Сост. и вступ. статья С. Великовского. М, 1985– С. 15.
(обратно)98
Перевод В. Левика.
(обратно)99
Перевод М. Волошина.
(обратно)100
Цит. по: The New Oxford Book ofVictorian Verse. Ed. by Christopher Ricks. Oxford, 2002.xxviii.
(обратно)101
Hopkins, GM. The Major Works. Oxford, 2002. P. 334–335.
(обратно)102
Пастернак Б. Об искусстве М, 1990. С. 284.
(обратно)103
Hopkins, GM. The Major Works. P. XXV – XXVI.
(обратно)104
Ibid. Р. 249.
(обратно)105
Английская пословица: «You cannot eat your cake and have it».
(обратно)106
Hopkins, GM. The Major Works. P. 256.
(обратно)107
См. Ма-rtinRB. Manley Gerard Hopkins: A Very Private Life. London, 1991. Pp. 350-1.
(обратно)108
Ibid P. 358.
(обратно)109
Ibid. Р. 67.
(обратно)110
Ibid. Р. 338–9
(обратно)111
Hopkins, GM. The Major Works. P. 240.
(обратно)112
Пересказ сонета Хопкинса «Генри Перселл», частично основанный на собственных объяснениях Хопкинса. См. Hopkins, GM. The Major Works. P. 143, 258.
(обратно)113
См. КэрроллЛ. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Пер. Н. М. Демуровой. М, 1978 (Литературные памятники). С. 201.
(обратно)114
Йейтс У. Б. Серая скала (1914). Перевод Р. Дубровкина.
(обратно)115
Stanford, Derek. Poets of the 90s. A biographical Anthology. L, 1965. P. 19.
(обратно)116
Например, Бейкер Фил. Абсент. М, 2002.
(обратно)117
Yeats, WB. Modern Poetry // Essays and Introductions. L, 1961. P. 491.
(обратно)118
Ibid.
(обратно)119
Yeats, WB. Per Arnica Silentia Lunae // Mythologies. N. Y, 1969.R331.
(обратно)120
Стихотворение П. Верлена. В переводе И. Эренбурга: «Тихо плачет сердце…»
(обратно)121
The Academy, December 8, 1900. Cit. Derek Stanford. Poets of the 90s. P. 149.
(обратно)122
У. Б. Йейтс. «Он вспоминает забытую красоту». Впервые – в журнале «Савой» (июль 1896 г.) под названием «О'Салливан Руа – Мэри Лавелл».
(обратно)123
Доусон Эрнст. «Non Sum Qualis Eram Bonae, Sub Regno Cynarae»
(обратно)124
Yeats, W. B. Memoirs. N. Y, 1988. P. 36.
(обратно)125
Ibid, P. 36.
(обратно)126
Е. Винокуров. «Память». Цитирую по памяти.
(обратно)127
The Book of the Cheese, Being Traits and Stories of „Ye Olde Cheshire Cheese,“ Wine Office Court, Fleet Street, London. Ninth Edition. L, 1926. P. 47.
(обратно)128
Уже я не тот, что был в царствие доброй Кинары (лат.). Гороций, оды, IV?
(обратно)129
Пока судьба позволяет, очи насытим любовью. – Проперций, Злегии, II, 15.
(обратно)130
Метерлинк М. Мудрость и судьба // Разум цветов. М, 1995– С. 346.
(обратно)131
Цитаты из книги «Мудрость ангельская. О Божественной любви и Божественной мудрости» даются в переводе А. Н. Аксакова (1832–1903) – В скобках – номер параграфа.
(обратно)132
Мы позволили себе заменить термин переводчика «собь» на более привычную «самость».
(обратно)133
«Но служит также тот, кто лишь стоит в готовности и ждет» (англ.) – Дж. Мильтон. «О моей слепоте».
(обратно)134
Что же касается критиков, которые «гоняются за мифами с сачком, чтоб поскорей булавкой их проткнуть» (К. Честертон), то я не собираюсь с ними спорить. На мой взгляд, их теории – проекции современного испорченного воображения на вещи, ему уже недоступные. Помните зеркало троллей?
(обратно)135
Музей с халявной водкой схож: смотрел ли, пил – одно: блюешь.
(обратно)136
Из романа «Перелетный кабак».
(обратно)137
«Иллюстрированные лондонские новости» – журнал, в котором Честертон // тридцать лет вел рубрику «Блокнот».
(обратно)138
Посвящено Эдмунду К. Бентли.
(обратно)139
Это чудище получилось у меня так. Стал я переводить стихи про микроба. Начало вышло неплохо, середка тоже. А концовка, то есть самый хвост стихотворения, не получается. Отбросил я этот хвост, стал думать снова. Придумал второй хвост – опять не то. Отбросил его тоже, придумал третий – и тут как-то обидно мне стало. Что же это, подумал я, хвостами-то бросаться! Пусть все идет в дело. Взял и присобачил все три хвоста сразу. Тем более что и микроб треххвостый. Пусть и стихотворение будет треххвостым.
(обратно)140
Richards, Grant. Housman. L, 1941– P. 10.
(обратно)141
The Application of Thought to Textual Criticism' // Housman, A. E. The Name and Nature of Poetry and Other Selected Prose. New York, 1989. Pp. 132-3.
(обратно)142
Сказано о балладе «Адские врата». Цит. по: „A Worcestershire Lad“ // Anden, WH. Forewords and Afterwords. N. Y, 1974. P. 328.
(обратно)143
Heaney S. The Place of Writing. Atlanta, Georgia, 1989. P. 19–20
(обратно)144
Йейтс У. Роза и башня. СПб, 1999-С. 317. Перевод В. Ряполовой.
(обратно)145
Там же. С. 319-
(обратно)146
Клот-на-Бар, Старуха из Бери – колдунья, по преданию утопившаяся в бездонном озере на вершине горы. Ниав и Кайлте – персонажи волшебной саги о странствиях Ойсина.
(обратно)147
Из стихотворения «Политической заключенной» (1919).
(обратно)148
Kiely Benedict. Yeats' Ireland. L, 1889. P. 14–15.
(обратно)149
Grey W. Robert Louis Stevenson: A Literary Life. Palgrave Macmillan, 2004– P. 17. Критики полагают также, что одно из лучших (и последних) стихотворений Стивенсона «Дует над пустошью ветер, сметая тучи…», в котором выразилась его тоска по Шотландии, написано не без влияния «Острова Иннишфри» Йейтса.
(обратно)150
Йейтс У. Роза и башня. С. 339-
(обратно)151
Там же. С. 339–340.
(обратно)152
EllmannR. Yeats: The Man and the Masks. N. Y; L, 1978. P. 14.
(обратно)153
YeatsJ.B. Early Memories. Dublin, 1923. P. 20, 23.
(обратно)154
Йейтс У. Роза и башня. С. 354-
(обратно)155
Там же. С. 358.
(обратно)156
Шекспир В. Кориолан. Акт III, сцена 2. Перевод А. Дружинина.
(обратно)157
Из первого стихотворения цикла А. Теннисона «In Memoriam А. Н. Н.»
(обратно)158
Шекспир В. Гамлет. Акт I, сцена 3– Перевод Б. Пастернака.
(обратно)159
EllmannR Yeats: The Man and the Masks. P. 30.
(обратно)160
Йейтс УБ. Избранное. М, 2001. С. 361.
(обратно)161
Там же. С. 365-
(обратно)162
«All its indifference is a different rage». From «Codicil» by Derek Walcott.
(обратно)163
См. Кружков Г. Крик павлина и конец эстетической эпохи / Иностранная литература, 2001, № 1.
(обратно)164
Jeffares, A. Norman. A New Commentary on the Poems of W. B.Yeats. Stanford, 1984
(обратно)165
Untereckerjohn. A Reader's Guide to William Butler Yeats. New York, 1983.
(обратно)166
Эта строфа также использована в переводах из Горация современником Марвелла сэром Ричардом Фаншо (1608–1664).
(обратно)167
Keane, Patrick J. Yeats's Interactions with Tradition. Columbia, Missouri: 1987. P. 75n, 251n.
(обратно)168
Цитаты из Грейвза (за исключением поэтических) даются по изданию: Грейвс Р. Белая богиня: Избранные главы. – СПб, 2000). Перевод с англ. И. Егорова. Номер страницы указывается в скобках.
(обратно)169
Перевод В. Левика.
(обратно)170
Я твой бог (лат.). Слова Амора, явившегося Данту во сне («Новая жизнь»).
(обратно)171
Перевод И. Озеровой.
(обратно)172
Ellmann,R. The Identity of Yeats. N.Y, 1964. P. 264.
(обратно)173
Jeffares, Л N. A New Commentary on The Poems of W.B. «feats. Stanford University Press», 1984. R 250.
(обратно)174
Ellmann, R. The Identity of Yeats. P. 264.
(обратно)175
UntereckerJ. A Reader's Guide to William Butler Yeats. N. Y, 1959.P. 189–191.
(обратно)176
Foster, R.F. W.B.Yeats: A Life. Oxford University Press, 1998. V. 1.P.301.
(обратно)177
FosterRF. Ibid. P. 101.
(обратно)178
WB. Yeats. Autobiographies. L: Macmillan, 1989. P. 123.
(обратно)179
Перевод П. Грушко.
(обратно)180
Ettmann R. Eminent Domain: Yeats among Wilde, Joyce, Pound, Eliot, and Auden. Oxford University Press: New York, 1967. Английское название книги двусмысленно: с одной стороны, eminent domain – юридический термин, означающий «суверенное право государства на принудительное отчуждение частной собственности», а если перевести дословно, получится «замечательное владение».
(обратно)181
EllmannR. Eminent Domain… P. 123–4.
(обратно)182
Ibid. P. 124. Курсив мой. – ГК
(обратно)183
Auden WH. In Solitude, for Company": Auden After 1940. Unpublished Prose and Recent Criticism. Clarendon Press: Newark, 1995– P. 183-
(обратно)184
Ibid. Р. 188.
(обратно)185
Auden WH. The Dyer's Hand, and Other Essays. New York, 1962. P. 22.
(обратно)186
The Cambridge Companion to W.H. Auden. Ed. by Stan Smith. Cambridge University Press, 2004. P. 3
(обратно)187
Эдвард Томас (1878–1917), британский писатель и поэт, друг Роберта Фроста, погибший в сражении при Аррасе во Франции. К стихам он обратился лишь в последние три года жизни.
(обратно)188
Имеется в виду мировой экономический кризис 1929–1933 гг.
(обратно)189
Чарльз Уильяме (1886–1945), британский писатель и теолог. Оден много раз перечитывал его замечательную и в высшей степени необычную историю христианской церкви «Схождение Голубя» (Descent of the Dove, 1939).
(обратно)190
Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) – писатель и литературовед, автор «Хроник Нарнии» и ряда книг на христианско-нравственные темы. Как и Уильяме, принадлежал к оксфордскому дискуссионному кружку «инклингов», куда входил и Дж. P.P. Толкин.
(обратно)191
Reeves, Gareth. Auden and Religion // The Cambridge Companion to WH.Auden. P. 188.
(обратно)192
Auden WH. In Solitude, for Company…' P. 213.
(обратно)193
См. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Москва: Изд-во Московского университета, 1980. С. 279.
(обратно)194
Auden WH. In Solitude, for Company…'P. 187–189.
(обратно)195
Ibid. Р. 213.
(обратно)196
Кружков Г. Some good and fine device: УХ. Оден и наследие английского Ренессанса // Новая Юность, 2009, № 3 (90).
(обратно)197
Перевод А. Эппеля.
(обратно)198
См. также: BloomR. "The Humanization of Auden's Early Style/' PMLA 83 (May 1968): 443–454.
(обратно)199
БродскийИ. Об Одене. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 57. ПереводЕ.Касаткиной.
(обратно)200
См. тамже. С. 119–121.
(обратно)201
The Cambridge Companion to WH.Auden. P. 42.
(обратно)202
Бензедрин считался лекарством и продавался в аптеках США без рецептов до 1959 года. В настоящее время запрещен к употреблению.
(обратно)203
См. письмо Одена в Австрийскую Таможенную службу. WH. Auden. \п Solitude, for Company…'Р. 231–233.
(обратно)204
Heaney, Seamus. The Government of the Tongue. Faber and Faber: London, 1988. P. 124-
(обратно)205
БродскийИ. Об Одене. С. 190–191. Перевод Е. Касаткиной.
(обратно)206
Сошлюсь также на мнение Харолда Блума: Bloom, Harold. Genius. Warner Books: New York, 2002. P. 371.
(обратно)207
Heaney, Seamus. The Government of the Tongue. P. 110.
(обратно)208
EllmannR. Eminent Domain. P. 126.
(обратно)209
Кружков Г. М. Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова. М, 2002. С. 121–122.
(обратно)210
Ирвикер (Earwicker) – персонаж «Поминок по Финнегану» Джойса, господин К – герой «Процесса» Кафки.
(обратно)211
Introduction to: Medieval and Renaissance Poets. Ed. W. H. Auden and N. H. Pearson. Penguin Books, 1978. P. xxx.
(обратно)



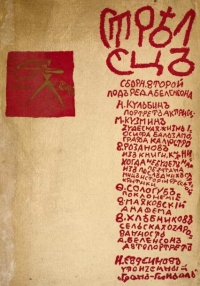



Комментарии к книге «Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2», Григорий Михайлович Кружков
Всего 0 комментариев