Александр Иванович Полежаев СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
«Бесприютный странник в мире». Вступительная статья В. С. Киселева-Сергенина
…И вот еще одна встреча с Полежаевым, современником Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Боратынского, Языкова, Тютчева и, разумеется, Пушкина, именами которых обозначен беспримерный расцвет поэзии и эпоха ее самодержавия в литературе.
При всей масштабности своего дарования, при обилии творческих перекличек с крупнейшими поэтами-современниками и предшественниками, Полежаев выглядит фигурой явно обособленной на фоне поэтической культуры 1820—1830-х годов, представленной и стихами таких видных мастеров, как Денис Давыдов, Вяземский, Дельвиг, Рылеев, Веневитинов, И. Козлов и другие.
Два великих художественных стремления, возникшие почти одновременно, во многом предопределили бессмертные завоевания поэтического искусства той поры — его все более тесное сближение с действительностью и почти столь же активное отрешение от нее, погружение в мир мечты, легендарного прошлого, в тайны мироздания и человеческого сердца.
Если первое стремление породило гармонический реализм пушкинской поэзии и близкие ему тенденции в творчестве Грибоедова, Боратынского, Вяземского, Языкова, то второе — романтизм Жуковского, Козлова, Рылеева, Тютчева, позднее — Лермонтова.
Почти параллельное развитие реалистических и романтических тенденций являет сложную картину их поляризации, сближения, взаимообогащения и творческой полемики.
Существеннейшее дополнение в эту картину внесла поэзия Полежаева. Она в равной степени пронизана обоими противоположными стремлениями, которые нашли в ней самое крайнее и резкое выражение. Сближение с действительностью вызвало в творчестве поэта сильную струю натурализма, а отлет воображения от конкретной жизненной реальности — романтизм, проникнутый громадным напряжением созидающего духа.
Изначально образовавшееся «двоемирие» творчества Полежаева, сохранившееся до конца литературного пути поэта, — любопытнейший художественный феномен, находящий свое объяснение в своеобразном складе авторской индивидуальности, в закономерностях русской жизни и литературного движения.
1
Романтизм ранних стихотворений Полежаева, среди которых преобладают переводы,[1] сказывается прежде всего в безграничном одухотворении, а в конечном счете и мифологизации живой и неживой природы. Все сущее в этих стихах предстает как воплощение невидимой верховной воли. Она персонифицирована то в традиционном образе творца вселенной, то в виде гения-небожителя, наделяющего избранных чад земли своими божественными способностями (ода «Гений»), то в виде теней умерших, непостижимо воздействующих на судьбы живых («Оскар Альвский» — перевод из Байрона, «Морни и тень Кормала» — подражание Оссиану). Все важные события среди людей совершаются как бы по указке свыше — такова мысль, пронизывающая и оду «Гений», и переводы из Ламартина. Само вдохновение — это неистовое воспламенение души поэта, охватывающее ее по воле зиждителя («Восторг — дух божий», перевод из Ламартина).
В количественном отношении главное место в ранней лирике Полежаева занимают переводы из Ламартина: «Человек», «Провидение человеку» и «Отрывок из поэмы „Смерть Сократа“». Внимательный читатель не может не заметить, что все эти произведения отвечают на один и тот же вопрос, который, как видно, немало беспокоил Полежаева: если жизнь полна несчастий, страдания и зла, то не ставит ли это под сомнение благость и справедливость творца, а следовательно, и само его существование?
Произведения Ламартина объединяет тема восстания разочарованной личности против несправедливого миропорядка и развенчание этого протеста. Убеждая отчаявшихся и сомневающихся, Ламартин — поэт, конгениальный Жуковскому, который еще раньше и независимо от него поднимал те же вопросы, — размышляет в своих стихах об ограниченности человеческого разума, в необъятной гордыне своей дерзнувшего опереться лишь на самого себя. Второе, о чем пространно говорит Ламартин, — вера в бессмертие человеческой души. Если оно несомненно, как в этом убежден Сократ, герой одноименной поэмы, то все беды и горести земной жизни не могут служить доводом для обвинений бога в попустительстве злу. Истинное же предназначение человека — быть достойным своей небесной родины.
Самое любопытное заключается в том, что в своей скандально нашумевшей и написанной почти одновременно с переводами из Ламартина стихотворной повести «Сашка» (1825–1826), отнюдь не рассчитанной на публикацию, Полежаев уходит в диаметрально противоположный мир творчества. Для героя «Сашки» нет ничего важнее чувственных наслаждений. Он не верит ни в бога, ни в бессмертие, а в суждениях о чем бы то ни было сполна полагается на собственный ум. Складывается впечатление, что, переключаясь в иное русло творчества, поэт меняет и свое мировоззрение, как бы становится другим человеком — не духовным, а земным, увлеченным лишь телесными потребностями.
Замысел повести был подсказан Полежаеву первой главой «Евгения Онегина», опубликованной в 1825 году. Вводная часть пушкинского романа, как известно, была посвящена преимущественно картинам светского быта, до такой степени опоэтизированного, что он поднимался до уровня бытия. Знакомство с началом «Евгения Онегина» внушило Полежаеву озорной и дерзкий замысел — написать нечто вроде «Анти-Онегина», передразнивающего сочинение Пушкина. Подобное передразнивание имело своей целью последовательное противопоставление пушкинскому герою вместе с окружающей его великосветской средой — героя грубого, антиэстетического, бесконечно далекого от салонов и аристократических верхов. Использованная в качестве контрастного фона первая глава «Онегина» должна была, по замыслу Полежаева, внести в его бурлескную повесть комический эффект.
Следует подчеркнуть, что повесть писалась с отчетливым осознанием ее нелитературности и адресовалась она читателям определенной категории, а именно студентам Московского университета и вообще молодежи, поглощенной освоением своей мужской природы с присущей этому возрасту брутальностью.
Нелитературность «Сашки» заключалась, во-первых, в ошеломляющей откровенности изображения таких цинических, исподних сторон быта, которые в «изящной словесности» были нетерпимы; во-вторых, в отречении от поэтических условностей и фантазии, ибо большинство эпизодов и подробностей, описанных в «Сашке», было взято из жизни самого автора. Принципиальный, эпатирующий антиэстетизм произведения дополнялся небрежной, болтливой манерой повествования, имитировавшей безыскусственность разговорной речи, густо начиненной вульгарной, нецензурной и жаргонной лексикой.
В «Сашке» подвергаются отрицанию чуть ли не все устои современного общества: церковь, христианская мораль, светская власть, включая полицию и даже университетскую администрацию. «Трусливая подчиненность» кому бы то ни было упоминается с безграничным презрением.
Опасный политический смысл этого бунтарства был более чем очевиден, хотя «буйственная свобода», пропагандируемая в «Сашке», переходила в отрицание и тех общественных связей и норм, которые не имели прямого отношения к социальному угнетению. Институт семьи, культурные нормы публичного быта тоже третировались как досадные стеснения свободы.
Какова же цель этого бунтарства? Ответ совершенно ясен: эмансипация плоти, беспрепятственное удовлетворение инстинктов, в особенности эротических влечений. Но, как уже ясно из сказанного, эмансипация плоти перерастала в эмансипацию духа.
Проблема «естественного» человека — одна из ключевых в русской литературе того времени — сужается в «Сашке» до апологии природных инстинктов. Натуралистический характер произведения тем самым полностью отвечал его идейному пафосу.
Следует иметь в виду, что культ «буйственной свободы» получил широкое распространение именно в среде студентов Московского университета, особенно в демократических по происхождению кругах этой молодежи. Социально не определившаяся молодежь чутко реагировала на различные проявления гнета и несправедливости. Зачитывавшаяся запрещенными стихами Пушкина и Рылеева, склонная к атеистическим настроениям, она в то же время наивно торопилась продемонстрировать свое раскрепощение в бравадах и чувственных излишествах.
Полежаев жил этими настроениями. Он домогался не только авторской славы небывалого по своей дерзости и откровенности произведения, но и самоутверждения в реальной жизни (с соответственной репутацией). Этим в значительной мере обусловлен автобиографический характер повести. Сашка — не кто иной, как студент Александр Полежаев, рассказывающий в стихах о своих собственных подвигах, которые должны были принести ему славу величайшего буяна в среде «своих» и вызвать негодование и ужас в среде благонамеренной публики.
Автобиографический материал ни в какой степени не сковывал Полежаева в резко контрастной (по отношению к «Онегину») характеристике главного героя. Имитируя композицию Пушкина, Полежаев также начинает свой рассказ с поездки к дядюшке молодого повесы, предающегося в пути раздумьям об ожидающей его скуке в семье петербургского родственника. После этого Полежаев, как и Пушкин, знакомит читателя с биографией своего героя, фамильярно — в противовес Пушкину — называя его Сашкой. Далее следуют выразительные параллели. Если Онегин родился «на брегах Невы», то Сашка — в провинциальном захолустье; если наставником первого был французский эмигрант, то пестуном второго был «лакей из дворни». Онегин был изолирован от неприглядного простонародного быта. Сашка, напротив, резвился в обществе кучеров, где быстро преуспевал в «похабствах, в бабках, свайке». Если Онегин стал блестящим представителем столичного beau monde’a[2], в совершенстве постигшим салонный этикет, если он предавался утонченным наслаждениям, флирту, скучал на балах и в театре, то его антипод проводит время в трактирах, за шумными «возлияниями» Бахусу, азартно упивается цыганскими хорами, дикой пляской. Любовь у Сашки и его приятелей низведена до уровня элементарного физического влечения, удовлетворяемого в домах терпимости и случайными связями.
Дистанция между автором и героем у Полежаева несравненно меньше, чем у Пушкина. Автор «Сашки» во многом дублирует своего героя, местами прямо-таки отождествляется с ним, рекомендуя себя в качестве участника Сашкиных похождений. Но есть и существенное различие. Автор — идеолог поэмы. Все самые смелые тирады против церкви, «презренных палачей», все вольнолюбивые мысли принадлежат ему. И это отчасти спасало положение: критика социального гнета могла восприниматься независимо от эмансипации плоти, отчего серьезность мятежных мотивов возрастала. Что касается героя, то, хотя все взрывчатые идеи излагаются в качестве его характеристики, он все же фигура сугубо практическая, демонстрирующая свое «буйство» лишь в пределах низкого быта. И тут-то выясняется, что подобное «буйство» дискредитирует апологию вольности, ибо оно оборачивается насилием над ни в чем не повинными людьми. С компанией приятелей Сашка, например, без всякого повода скандалит на улице, задевая прохожих, устраивает погром в притоне с избиением его обитательниц, нисколько не смущаясь жалким положением «жриц любви», вынужденных торговать своим телом. Короче говоря, получилось, что вольность — привилегия известного сорта молодежи, не останавливающейся и перед эгоистическим произволом. Далее: герой, будучи воплощенным олицетворением свободы, неизменно выглядит рабом своих чувственных вожделений. От начала и до конца произведения Сашка весь во власти своего пола. И наконец еще один существенный момент. Во второй главе выясняется, что он очень зависим от окружающей среды. В сущности, роль лидера компании студентов-дебоширов — иллюзия, возникающая ввиду того, что этот герой всегда почти подается крупным планом, между тем его буйные выходки и оргийный темперамент обнаруживаются лишь в кругу таких же или еще более бесшабашных гуляк.
Появление в доме респектабельного петербургского дяди превращает смелого вольнодумца в оробевшего нашкодившего мальчишку. Автор подтрунивает над унижением своего героя. Петербургскому житью-бытью Сашки посвящена бо́льшая часть второй главы повести, где контрастных перекличек с текстом Пушкина совсем немного (важнейшая из них — эпизод посещения героем театра). Дело в том, что в Петербурге с Сашкой происходит разительная метаморфоза, в известной мере сблизившая его внешний облик с Онегиным. Вчерашний хулитель bon ton’а отныне сам его ревностный приверженец. Одетый на средства дяди по последней моде, Сашка корчит из себя видавшего виды холеного франта. Он догадывается, что ему не след поддаваться восторженным реакциям театральной публики, ибо в таком случае в нем могут заподозрить провинциального простака. И, под стать Онегину, зевавшему на спектаклях, Сашка «роль полусонного играл». Только его всегдашний эротизм и пристрастие к крепким напиткам, теперь уже проявляющиеся исподтишка, напоминают в нем московского Сашку.
Его внутренняя перестройка и ассимиляция в доме дяди зашли столь далеко, что он, забыв о своем атеизме, начинает полулицемерно-полуискренне доказывать «премудрость бога». И лишь вернувшись в Москву, попав в окружение приятелей-собутыльников, Сашка восстанавливает свой прежний облик «безбожного сорванца».
Полежаев, несомненно, отдавал себе отчет в известной несостоятельности своего героя, как и в нереальности его вольнолюбивой «программы». Недаром в стихах поэта читатель ощущает смену интонаций — от апологетически-восторженной до лукаво-ироничной и слегка насмешливой, впрочем никогда не переходящей в осудительную. Следует поставить в заслугу поэту то, что он не побоялся показать разные, в том числе и «слабые», стороны своего героя, придав ему тем самым черты противоречивости и жизненной достоверности. В результате автопортретная тенденция «Сашки» обрела большую полноту выражения, что, судя по всему, забавляло поэта и удержало его от нагромождения однообразных фривольных эпизодов.
После того как сочинение Полежаева было закончено, оно тотчас пошло по рукам в многочисленных копиях и стало одним из самых популярных произведений рукописной литературы.
2
Именно в это время в стране произошли события, которые привели к режиму правительственного террора. После разгрома декабристского восстания царь и правящая клика усердно занялись искоренением революционной «заразы» всюду, где для этого был хотя бы малейший повод. Испуганному воображению нового императора размеры идеологической диверсии представлялись в крайне преувеличенном виде. Такой обстановкой воспользовались «тьмы разных гадин», которые «поднялись… тогда со своими клеветами и наветами».[3] Жертвой доносчика стал и Полежаев.
Проживавшему в Москве жандармскому полковнику И. П. Бибикову, дальнему родственнику любимца царя А. X. Бенкендорфа, представился случай выказать свою бдительность и усердие по службе. Попавшийся ему в руки список «Сашки» был более чем удачной поживой. Между тем, повесив декабристов, царь 24 июля 1826 года прибыл в Москву. Не теряя времени, Бибиков сфабриковал донос на Полежаева и на Московский университет. В доносе говорилось, что воспитанники университета «не уважают законов, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти».[4] В качестве иллюстрации приводились наиболее резкие инвективы Полежаева в адрес церкви и духовенства (строфы 9, 18, 20–21). Бенкендорф поделился находкой с царем, и дело завертелось. Обвинить Полежаева в преступлении было совсем нетрудно: ни один из поэтов еще не обличал таким открытым текстом духовенство и не заявлял столь беспардонно о своем атеизме.
Не подозревавший беды Полежаев, лишь недавно сдавший выпускные экзамены в университете, в ночь на 28 июля был увезен в Кремль, а утром препровожден в кабинет императора. Царь решил учинить суд над Полежаевым в присутствии министра народного просвещения А. С. Шишкова и попечителя Московского учебного округа А. А. Писарева, которые накануне были вызваны для этого специальной запиской самодержца.[5]
О том, что именно произошло в кабинете императора, известно немногое, и этим немногим мы обязаны главным образом А. И. Герцену, узнавшему о происшествии из уст самого Полежаева только в 1833 году, когда он познакомился с поэтом. В мастерском очерке Герцена, в лоск зацитированном биографами поэта, есть подробности бесспорные, но есть и маловероятные. Это понятно: сам Герцен восстановил в памяти рассказ Полежаева спустя много лет.
Царь, сообщает Герцен, первым делом показал Полежаеву тщательно переписанный текст «Сашки» и спросил, он ли автор сочинения. Услышав утвердительный ответ, царь, обратившись к министру, сказал: «…вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, — прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.
Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать». Но грубый окрик императора вынудил его приняться за чтение. «Сначала, — пишет Герцен, — ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца».[6] Такой ход событий едва ли правдоподобен. Прежде всего нелегко представить себе Николая I терпеливым слушателем довольно длинного сочинения, насчитывавшего более восьмисот строк. Да и Полежаев в его положении вряд ли мог испытывать «воодушевление». Скорее всего, ему велено было прочесть специально отмеченные места, произнести которые вслух было особенно тяжко. По данным еще одного, довольно надежного мемуариста, Полежаев «неудобные для чтения места экспромтом заменял другими стихами».[7]Догадавшись об этом, царь вырвал у поэта тетрадь и уличил в обмане. По уверению мемуариста, Полежаев этому обстоятельству приписывал потом упорную, не проходившую с годами монаршую неприязнь к себе.
Выслушав Полежаева, Николай I заявил, что он положит «предел этому разврату», то есть мятежным идеям, спровоцировавшим 14 декабря. Затем император будто бы осведомился у А. С. Шишкова о поведении Полежаева, хотя министр не обязан был знать студентов персонально. Видимо, вопрос был задан А. А. Писареву или ректору университета А. А. Прокоповичу-Антонскому (если он также присутствовал на этом судилище). В отвечавшем, писал Герцен, «проснулось что-то человеческое» и он отозвался о поведении Полежаева в положительном смысле.
Царь объявил, что положительный отзыв «спас» Полежаева, которого, однако ж, необходимо наказать «для примера другим». Последовал вопрос: «Хочешь в военную службу?»
Полежаев молчал. «Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь? — Я должен повиноваться, — отвечал Полежаев.
Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: — От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне писать, — поцеловал его в лоб».
Услышав о поцелуе Николая I, Герцен изумился, но, по его словам, Полежаев «клялся, что это правда». Подтверждением тому могут служить и строки документального стихотворения «<Узник>», где сказано, как царь почтил поэта враждой и, «лобызая, удушил».
Разыграв хорошо отрепетированную с декабристами роль строгого, но великодушного судьи, Николай I пытался внушить Полежаеву иллюзию некоей человеческой симпатии, будто бы зародившейся в нем. Этим он, видимо, рассчитывал превратить поэта в верноподданного стихотворца.
В тот же день было сформулировано «высочайшее повеление», согласно которому студент с чином XII класса Александр Полежаев определяется унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. Повеление предписывало учредить над Полежаевым строгий надзор и ежемесячно доносить о его поведении начальнику Главного штаба.
В конце сентября 1826 года Бутырский полк был направлен в Рязанскую губернию. Позднее он был переведен в Тверскую губернию. Для Полежаева с его крайне неуравновешенным психическим складом и нетерпимостью к любым стеснениям свободы служба в армии превратилась в затянувшееся на двенадцать лет замедленное убийство.
Александр Иванович Полежаев был внебрачным сыном молодого помещика Л. Н. Струйского от дворовой девушки Аграфены Федоровой, проживавшей в главной усадьбе семейства Струйских Рузаевке Пензенской губернии (Инсарского уезда). С целью легализации положения Аграфене, после того как она в 1804 году стала матерью, был подыскан жених — купеческий сын Иван Полежаев. Польстившись на выделенное невесте приданое, он в январе 1805 года обвенчался с ней и увез в Саранск (той же губернии). В декабре 1808 года фиктивный отец мальчика бесследно исчез, оставив ему в наследство свою фамилию, а в июне 1810 года скончалась и Аграфена, незадолго до смерти перебравшаяся в имение Леонтия Струйского сельцо Покрышкино (Саранского уезда).
Незаконнорожденные дети господ — явление довольно распространенное в царской России. Поэты А. X. Востоков, И. П. Пнин, Жуковский — старшие современники Полежаева — тоже родились вне брака и тоже не унаследовали фамилий и привилегий отцов. Однако ни на кого состояние «промежуточности», двусмысленности своего положения не повлияло до такой степени неблагоприятно, как на Полежаева. Его детский мир неоднократно рушился: близкие ему люди один за другим исчезали, заменялись новыми. Осиротевший подросток был отдан в семью тетки — скотницы Анны (младшей сестры матери). Струйский, видимо, питал отцовские чувства к сыну, но его влияние на мальчика могло быть только отрицательным. Это был человек властный, неуправляемый в гневе, злоупотреблявший спиртным. Среда «дикого помещичества», которая, по меткому выражению Η. П. Огарева, «с дворней пьет и дворню бьет»,[8]исказила и спутала ценностные ориентации будущего поэта. Струйский не смог или не успел узаконить сына. Все же юноша Полежаев в 1816 году был помещен отцом в частный пансион при Московской губернской гимназии, а в 1820 году поступил в Московский университет (на словесное отделение), пополнив ряды его вольнослушателей. Этот контингент студентов в основном составляли дети лиц из так называемых податных сословий, отцы которых принадлежали к духовенству, мещанству, купечеству и очень редко к крестьянской среде. Числившийся по документам мещанином, Полежаев мог быть допущен к университетскому образованию только таким путем. Окончившие полный курс университета в соответствии с действовашим законодательством исключались Сенатом из податного состояния, после чего получали диплом, а вместе с ним и права личного дворянства. Такая перспектива ожидала и Полежаева.
Едва приступив к занятиям в университете, Полежаев лишился забот отца. Засекший до смерти своего «бурмистра», Струйский был изобличен, осужден и выслан в Сибирь (г. Тобольск), где в 1825 году и нашел свой конец. Средства на содержание юного студента отныне поступали нерегулярно — уже от дядей поэта, распоряжавшихся теперь собственностью его отца. Единственным покровителем Полежаева стал его третий дядя — Александр Николаевич, у которого Полежаев неоднократно гостил в Петербурге и которого изобразил в «Сашке».
Обучение Полежаева в университете растянулось на шесть лет (вместо положенных трех). «Сашка», повесть «Рассказ Кузьмы, или Вечер в „Кенигсберге“» и ряд других вещей объясняют причину столь долгого обучения, протекавшего при довольно беспорядочном образе жизни их автора.
В пестрой, демократической по составу среде вольнослушателей Полежаев окончательно обретает черты личности со стертым социальным мышлением. Чувство неполноценности, отщепенства, беспочвенности глубоко травмировало его психику. Свобода от всяких социальных связей, столь бравурно провозглашенная в «Сашке», неминуемо должна была обернуться другой стороной — одиночеством, беззащитностью, гнетом пессимистических настроений. Мрачные предчувствия дают о себе знать уже в стихах перевода из Ламартина (то есть до июльской катастрофы 1826 года), в которые Полежаев ввел строки, отсутствующие во французском оригинале:
Невинной жертвою несчастья Еще в младенчестве я был, Ни сожаленья, ни участья Ни от кого не заслужил. Перед минутой роковою Мне смерть, страдальцу, не страшна… («Восторг — дух божий»)«Минута роковая» не заставила себя ждать. С нее начался отсчет новым бедам. В состоянии гнетущей депрессии, вызванной убийственным однообразием казарменного режима, 14 июня 1827 года Полежаев совершает безумный поступок — самовольно оставляет полк, стоявший в деревне Низовка (Тверской губернии), и добирается до Вышнего Волочка. В пути к нему стало возвращаться чувство реальности. На случайно занятые у попутчицы деньги он нанимает извозчика и 20 июня возвращается.[9] Шестидневную отлучку Полежаева приравняли к дезертирству, и он предстал перед военным судом. На следствии провинившийся объявил, что совершил свой поступок «в крайнем расстройстве духа», «по врожденному в нем свойству необдуманной пылкости».[10] Полежаев признался также, что задумал добраться до Петербурга, чтобы через начальника Главного штаба И. И. Дибича умолить императора об освобождении его от военной службы ввиду слабого здоровья. В искренности поэта вряд ли можно сомневаться. Вместе с тем признания эти характеризуют его как человека, управляемого исключительно эмоциями, настроениями и абсолютно неспособного взвешивать осуществимость поставленных целей или предвидеть последствия своих поступков. Кроме того, Полежаев, должно быть, еще наивно верил в возможность какого-то индивидуально-снисходительного отношения к нему императора.
Военно-судная комиссия постановила разжаловать унтер-офицера Полежаева в солдаты и лишить его приобретенного по окончании университета дворянского звания. Приговор побывал на конфирмации у Николая I, и после того в нем появилось небольшое дополнение: «без выслуги». Низведенный до положения самого бесправного человека, каким был в то время солдат царской армии, Полежаев, с его дарованиями и культурными запросами, по милости царя был отныне обречен на пожизненную кабалу. У поэта не оставалось ни одного человека, который мог бы морально и материально поддержать его. Петербургский дядя порвал все отношения с племянником. О помощи других родственников нечего было и думать. Спасаясь от мрачных мыслей, Полежаев все чаще стал искать забвения в вине.
В мае 1828 года, когда Бутырский полк находился в Москве, поэт с большим опозданием вернулся в казармы и в ответ на выговор фельдфебеля обрушился на него с площадной бранью. За новое нарушение воинского устава Полежаев был посажен на гауптвахту при Спасских казармах. Написанная им там сатира «Притеснил мою свободу…» свидетельствует, что поэта временами покидало реальное представление о своем бесправном положении, которое вытеснялось совершенно необоснованными надеждами на какие-то преимущества. Понося фельдфебеля, в «угождение» которому он попал в каземат, Полежаев пишет стихотворение, в котором проглядывает презрение к «шуту» — простолюдину. Заканчивалось оно так: «Я — под спудом на минуту, Он — в болоте навсегда».
На самом деле «минута» растянулась в многомесячное тюремное заключение. Длительное пребывание в полуподвальной тюрьме не могло не подорвать и без того расшатанное здоровье поэта. Именно здесь он скорее всего и подхватил чахотку, которая десять лет спустя свела его в могилу. Беспросветным было и моральное состояние арестованного. Лишенному дворянских привилегий, ему, как обыкновенному солдату-штрафнику, угрожало прогнание сквозь строй. Единственным утешением для поэта была завязавшаяся в заключении дружба с мелким чиновником Лозовским, тоже Александром, чья служба в приказе общественного призрения давала ему поводы для свиданий с Полежаевым. Лозовский ободрял Полежаева, побуждая его писать, оказывал ему кое-какие услуги. Именно в каземате Спасских казарм поэт написал большое интересное стихотворение «<Узник>» и целый ряд других, скрепленных тюремной темой.
Наконец 17 декабря 1828 года было вынесено решение по делу Полежаева, где говорилось, что он заслужил «прогнание сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет» и с учетом долговременного содержания под арестом он «прощен без наказания с переводом в Московский полк».[11]
3
По верному суждению Огарева, «Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием».[12] Почему же именно ему, человеку далекому от декабристских кругов и лишенному гражданских идеалов, выпала такая честь? Без преувеличения можно сказать, что в первое пятилетие после поражения декабристского восстания протестующий голос Полежаева раздавался громче, чем у кого-либо из русских поэтов.
Чтобы понять сложившуюся ситуацию, следует напомнить хотя бы о двух особенностях гражданской поэзии декабристов, претерпевших в мрачную пору правительственного террора существенные изменения.
В декабристской поэзии до 1826 года выделяются два типа произведений. В одном из них преобладала критика русской действительности — крепостничества («барства дикого»), самодержавия (в лице царя-деспота, временщика Аракчеева, правящей знати), подпирающих его институтов церкви, суда, военной бюрократии. Сюда же относятся стихи, разоблачающие постыдное примиренчество современников с рабством и произволом властей (стихи В. Ф. Раевского, «Гражданин» Рылеева, агитационные песни Рылеева и Бестужева). Задачей произведений второго типа было воспитание гражданского и революционного энтузиазма современников на материале героических страниц отечественной истории («думы» и поэмы Рылеева).
После 14 декабря 1825 года тираноборческие идеи в поэзии декабристов и декабристской периферии теряют свой наступательный пафос. Люди, подчинившие свою жизнь святой цели ниспровержения социальной несправедливости, не могли позволить себе сводить счеты с покаравшим их деспотом — ведь в противном случае их инвективы могли быть приняты за выражение бессильной злобы к императору и его сатрапам. В программном «Ответе» А. И. Одоевского на послание Пушкина «В Сибирь», написанном как бы от лица всех сосланных декабристов, ясно сказано, что они полны решимости продолжить борьбу за свободу с «царями». Множественное число здесь весьма показательно: оно означает самодержавие, то есть деспотическую систему правления. Декабристские поэты испытывали необходимость осмысления своего подвига в широкой исторической перспективе. На материале отечественной истории они показывали различные проявления тиранической власти на Руси, стремившейся к удушению народной вольности (стихотворения и поэмы Одоевского, А. Бестужева, Кюхельбекера).
Хотя Полежаева покарала та же августейшая рука, что и декабристов, он отнюдь не ощущал себя продолжателем их дела. Его идея личной свободы почти ничего общего не имела с идеей «общественного блага», которую поэты-декабристы понимали как торжество справедливых законов, гарантирующих равные права и обязанности граждан. В обрушившихся на него репрессиях Полежаев увидел только жестокую волю злобного самодержца и бездушных людей, претворявших эту волю с отвратительным рвением. Инвективы в адрес царя были проникнуты личной ненавистью Полежаева к своему тирану, и он не стеснялся в выражениях, величая «священную особу» самодержца Иудой, палачом, удавом, «ефрейтором-императором», тем самым подрывая авторитет коронованного диктатора. Уже в «Вечерней заре» (1827) мы встречаем слова о том, что «родная страна палачу отдана». Подобные оскорбительные выклики обычно сочетались с мотивами личных страданий, проникнутыми еще не веданной в русской поэзии силой трагического чувства. В то время агитационный эффект от таких стихов был выше, чем от какой бы то ни было другой оппозиционной поэзии.
Зверская расправа над декабристами, угроза превращения страны в гигантский застенок сделали необычайно актуальной в поэзии тему пленения и тюрьмы. Для Полежаева в этих словах заключалась жуткая реальность целого периода его биографии. Не случайно в его стихах второй половины 20-х годов тюремная тема выдвигается на первое место. Речь идет о таких стихотворениях, как «Цепи», «<Узник>», «Осужденный», «Табак», «Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего пловца».
Автобиографический характер тюремной темы — явление нечастое в гражданской поэзии 1820-х годов. В творчестве декабристских узников она также представлена довольно скромно. Назовем стихи «первого декабриста» В. Ф. Раевского, еще в 1822 году павшего жертвой властей, — «Певец в темнице», «Послание к друзьям в Кишинев», тюремные стихи Рылеева «<Князю Е. П. Оболенскому>», его же «Тюрьма мне в честь — не в укоризну…», «Узника» Ф. Н. Глинки, наконец «Одичалого» Г. С. Батенькова. Можно предположить, что в полежаевском «<Узнике>» преломились кое-какие подробности и черты «Послания» Раевского, давно ходившего по рукам в списках.[13] Но при известном сходстве обоих произведений как велико различие в их звучании! Раевский не сомневается в грядущей победе правого дела, которому он предан, он видит себя в авангарде лучшей части свободолюбивой молодежи России, к представителям которой (Пушкину и генералу Μ. Ф. Орлову) он обращается со своим посланием. Поэтому и перспектива гибели в сыром сибирском остроге его не страшит. Герою полежаевского «<Узника>» такого утешения не дано. Хотя он и называет себя мастером «сатир и острых слов», главное в его прошлом — «служение» богу вина и веселья — единственное, что соединяло его с миром живых людей. Но связь оказалась химерической. Друзья — участники этих пиров — тотчас забыли про поэта, как только он оказался за решеткой.
Мучаясь от одиночества, от тяжелых дум и неуважения к себе, Полежаев проникается пессимизмом. В отличие от декабристских поэтов ему, как сказал Огарев, «дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни».[14]
Больше оснований для сопоставления «<Узника>» с «Одичалым» Батенькова, написанным, кстати, почти одновременно с полежаевским стихотворением и на ту же самую тему (Полежаев, естественно, не мог знать текста «Одичалого»). В отличие от большинства декабристов Батеньков долгое время томился в одиночном заключении. Почти с такой же натуралистической достоверностью он описывает полускотский тюремный быт крепостей, от которого можно было не только одичать, но и сойти с ума. Отчаяние неудержимо овладевает героем «Одичалого». И все же несчастный узник, переживший разгром движения, воспитавшего его гражданские чувства, замурованный в каменном мешке, в конечном счете проникается сознанием своего высокого предназначения, неотделимого от борьбы за священное дело. Как позднее и у других декабристских поэтов, вера в достижение общего блага трансформировалась у Батенькова в христианское чаяние бессмертия духовной жизни человека. Воодушевлявшая на подвиг идея, потерявшая практическое значение и превратившаяся в иллюзию, тем не менее продолжала выполнять функцию регулятора самосознания Батенькова, давала ему внутреннюю опору, которая позволяла сохранить свое достоинство и преодолеть «одичание».
У Полежаева такого выхода не было. В «<Узнике>», как и в других произведениях поэта второй половины 20-х годов, нетрудно приметить богоборческие настроения, вообще говоря, всегда чуждые декабристским поэтам, чей социальный утопизм был отчасти сродни христианскому учению о равенстве людей перед богом.
В шестой главе «<Узника>» поэт приводит популярные доводы французских просветителей-материалистов, опровергающие догмат христианской церкви о всемогущем, всеблагом и всемудром боге — творце мира и людей, ибо догмат этот не совместим ни с засильем зла на земле, которому так подвержено лучшее создание бога — человечество, ни со свободой воли людей, как раз толкающей их ко злу. Если я страдаю невинно, рассуждает Полежаев (любопытна тут замена страдающего человечества личностью самого поэта), значит, по воле самого бога, или же бог не предвидел злосчастных последствий моей свободы, которую даровал мне. Оставляя вопрос нерешенным, поэт склоняется к тому, что он жертва другого бога, столь же всесильного, но слепого и жестокого. Имя ему — рок (или судьба).
Следует отметить, что Полежаев как будто вовсе забыл, что переведенная им медитация Ламартина «Провидение человеку» парировала те самые доводы, которые выдвигались в «<Узнике>», идеей бессмертия человеческой души. Полностью обходя идею бессмертия, в которое Полежаев, судя по всему, не верил, он рисует в «<Узнике>» жуткую картину собственного конца: его непогребенное тело становится «добычей вранов и червей». Однако поэт все же мыслит себя свидетелем этого омерзительного пиршества, то есть не может представить полного уничтожения своего «я».
Стихи Полежаева с бунтарскими мотивами тайно ходили по рукам. Их разыскивали и переписывали. По свидетельству А. Милюкова, запрещенные стихи Рылеева и Полежаева хорошо знали воспитанники одной из гимназий.[15] Я. М. Неверов записал в дневнике 26 января 1831 года, что у бывшего соученика поэта по Московскому университету H. С. Селивановского можно ознакомиться с запрещенными стихотворениями Полежаева.[16] Известный шпион И. В. Шервуд раздобыл в 1828 году копии нескольких стихотворений поэта[17], содержащих бунтарские строки, и сочинил очередной донос, призывавший к бдительности III Отделение. Шервуд уверял, что стихи Полежаева направлены «против религии, государя и отечества». Полежаеву удалось избежать очередного расследования, видимо, лишь благодаря тому, что в это время он находился далеко от Москвы.
Агитационный эффект мятежной лирики Полежаева объясняется и тем, что царь выступал в ней как угнетатель своего народа. Зловещий образ венценосного палача сопровождается темой народного рабства. Полежаевские «Четыре нации» — одно из самых крамольных, самых хлестких стихотворений, не уступающих по своей остроте агитационной песне Рылеева — Бестужева «Ах, тошно мне…», — обошли всю Россию.
Автор «Четырех наций» зло высмеивает царя и народ, привыкший к рабскому повиновению. Стрелы Полежаевской сатиры летят в двух противоположных направлениях — в угнетателей и угнетенных — позиция, немыслимая для поэтов-декабристов, которые верили в то, что народ русский по природе своей вольнолюбив. Кроме того, они считали, что в интересах успешной борьбы с тиранией не следовало подчеркивать покорность народных масс.
В литературе о Полежаеве высказывалось мнение, что его осуждение этой покорности того же рода, что и у революционеров-демократов 60-х годов, горячо любивших народ и возмущавшихся его долготерпением. Однако у Полежаева есть стихотворения, в которых именно народная масса выступает носителем мятежных настроений. Это уже упоминавшийся «<Узник>» и песня «Ай, ахти, ох, ура!..». Как и «Четыре нации», они скорее всего написаны в период 1827–1829 годов. То есть об изменении взглядов поэта за это время говорить не приходится. В «<Узнике>» описывается мрачное подземелье, куда кроме поэта-арестанта брошено «десять удалых голов — царя решительных врагов». В своих религиозно кощунственных молитвах они костерят августейшего монарха матерным словом.
В песне подразумеваются солдаты, оставшиеся верными Николаю I «в день большой кутерьмы» (то есть 14 декабря), опираясь на которых он удержался на престоле. Именно об этой громадной услуге и напоминают солдаты, прошедшие «по братним телам», царю, который должен был, по их расчетам, облагодетельствовать их. Как видим, Полежаев отнюдь не склонен идеализировать солдатскую массу. Но, возмущенные неблагодарностью Николая-государя, который нещадно их муштрует и наказывает, эти же самые солдаты проклинают своего мучителя и угрожают ему беспощадной расправой.
4
Справедливо было сказано о Полежаеве, что «крушение его частной жизни не только не принесло с собою крушения его поэтического значения, но скорее… развило в нем некоторые поэтические стороны, которым без того бы никогда бы не проявиться».[18] Несчастья, постигшие поэта, действительно углубили некоторые стороны его духовного склада, придали надрывно-трагическое звучание его стихам.
Стихотворение «Вечерняя заря» (1826) ознаменовало решительное обновление романтической лирики Полежаева, которая стала подлинной исповедью его сердца и в которой утвердилась гегемония авторского «я». Стихи «от первого лица» не были новостью в русской поэзии. При всем том это «я» в лирике Пушкина, Д. Давыдова, Боратынского, Языкова, Вяземского было в значительной мере объективированным художественным персонажем, вписанным в более или менее конкретную жизненную ситуацию. Привилегия авторского «я» в поэзии романтизма — способность ощущать себя частью мирового целого, но для этого нужны были особо веские мотивы: духовное богатство личности, ощущающей себя микрокосмом, пережитые ею исключительные обстоятельства, возносящие ее над массой обыкновенных людей. В иных случаях романтический поэт возвышался до роли пророка, провозвестника высоких истин, глашатая великих стремлений века, самозабвенного жреца искусства. В исповеднической лирике Полежаева нет и намека на какую бы то ни было почетную миссию. То, что делает его исключительной фигурой и дает основание поставить свое «я» в отношении к миру в целом, — это, как ему казалось, сверхчеловеческая мера страданий, насильственное отчуждение от жизни и обреченность. Традиционно возвышенная тема смерти накладывала соответствующий отпечаток на образ автора, а тема смерти при жизни выводила его из тесных рамок чувственного бытия и в значительной степени из физической реальности.
Авторское «я» в поэзии Полежаева — это обычно обнаженно автобиографическое «я». Порой оно облекается художественной условностью («Осужденный», «Песнь пленного ирокезца», «Живой мертвец» и другие). Но и условные персонажи поэта, внешне отделенные от авторского «я» (например, главные герои поэм «Кориолан», «Видение Брута», стихотворений «Тюрьма», «Ренегат»), по сути дела тоже автопортретны.
Героя Полежаева делают исключительным и его страстные признания в преступных умыслах и деяниях, горячая жажда покаяния, очищения души от всего низменного, порочного. Оказывается, автобиографический герой поэта — грешник, да еще великий грешник! Такое явление было сенсационным событием в русской литературе. Нравственный облик поэта (необязательно романтического) искони считался неуязвимым в его произведениях. Назначение поэта (каких бы сторон жизни он ни касался в своих стихах) быть воспитателем сограждан, адвокатом справедливости, творцом прекрасного. Подобное убеждение было аксиомой.
Одно дело Святополк Окаянный или Борис Годунов (в одноименных «думах» Рылеева), на совести которых ужасные злодеяния. Но совсем другое дело — порочные черты автора, который исповедуется в них перед современниками. Каковы же поводы для подобных самообличений?
В статье о Полежаеве 1842 года Белинский говорил: «Слишком рано поняв безотчетным чувством, что толпа жила и держалась правилами, которых смысла сама не понимала… Полежаев, подобно многим людям того времени, не подумал, что он мог и должен был уволить себя только от понятий и нравственности толпы, а не от всех понятий и всякой нравственности. Освобождение от предрассудков он счел освобождением от всякой разумности и начал обожать эту буйную свободу».[19] При всей верности этого суждения точку на нем поставить нельзя. Хорошо известно, против каких предрассудков восставал Полежаев (достаточно вспомнить хотя бы «Сашку» и «Четыре нации»): против религии, царя-батюшки, покорности перед начальством, христианской морали воздержания плоти и т. д. Поэт с презрением все это отметал, но отметал с позиций личной свободы, то есть его протест не подкреплялся идейными и нравственными обоснованиями. Духовно порывая с «толпой», Полежаев время от времени с ужасом ощущал отсутствие каких-либо положительных начал в своем безграничном отрицании, которое и осознавалось им как отщепенство, отчуждавшее его от современников. Не находя этих положительных начал, он принужден был поворачивать в обратном направлении к морали той самой «толпы», которую так пылко отвергал (не отказывался он только от своей вражды к царю). Поэт сожалеет о своем атеизме, с которым все же не может порвать до конца. В «Ожесточенном», например, он говорит о том, что весь мир наслаждается божественной любовью и только он один — закоренелый атеист, исторгнутый «из цепи бытия», обречен на призрачное существование полумертвого человека, которому постыла жизнь. Однако в этом же самом стихотворении, как бы забыв о своем неверии, он обращается к провидению, то есть богу, спрашивая его, зачем он создал его таким отщепенцем.
Второй повод для покаяний — ненависть к людям как ответная реакция на их зло и равнодушие, превращающая внутренний мир поэта в сплошной ад:
Всем постылый, чужой, Никого не любя, В мире странствую я, Как вампир гробовой. («Вечерняя заря»)Поэту мнится, будто он одержим «демонской силой». Так в лирическом герое Полежаева появляются черты демонического героя, предваряющего аналогичный образ в поэзии Лермонтова. Но полежаевский демонический герой страдает от своих отрицательных настроений и жаждет порвать с ними. В отличие от Лермонтова он только однажды (в «Провидении») — чуть ли не на минуту — отождествил себя с образом самого Люцифера, с тем чтобы тотчас выйти из этой ужасающей его роли. Демонический герой Полежаева далек от того монументального лирического образа, который преследовал долгое время воображение Лермонтова. В нем нет ни могущества, покоящегося на громадном интеллекте лермонтовского героя, ни глубокой потребности в любви.
Наконец, третий повод для покаянных настроений — эротические вожделения, которые поэт часто называл «мятежными страстями». И неслучайно: стремление к грешной «беззаконной» любви было вызовом любви, дозволенной церковным браком, мещанским приличиям. Сладость такого греха обладала особым обаянием для поэта. Между тем «страсти ненасытные», даже чисто мечтательные, истощали психику поэта, а порой приводили к варварской растрате сил, которые, как ему думалось, были исчерпаны до дна. О своем преждевременном увядании Полежаев впервые поведал в «Вечерней заре», потом в песне «Зачем задумчивых очей…» (ок. 1828 года), на которую обратил внимание Белинский. Герой песни отвергает любовь девушки из-за неспособности ответить на ее чувство к нему. Не зная хронологии полежаевских стихотворений, критик пришел к выводу, что поэт уже в ранней молодости одряхлел от чувственных злоупотреблений и в дальнейшем томился лишь «бесплодными желаниями».[20] Но, обращаясь к полному корпусу стихотворений Полежаева, по большей части поддающихся датировке, нельзя не заметить, что периоды мучительных депрессий, аскетических состояний, мертвенности души у Полежаева сменялись периодами оживления. Приходили «часы выздоровления», и поэт «воскресал бытием» даже вопреки всем злополучиям, в самой подчас безотрадной обстановке, как, например, в каземате Спасских казарм (см. гл. 3 «<Узника>»). Доказательства тому — такие стихотворения 1830-х годов, как «Раскаяние», «Тарки», «Призвание», «Ожидание», романс «Одел станицу мрак глубокий…» и другие.
Полежаев, несомненно, гиперболизировал свои прегрешения. Пристрастный прокурор, он беспощадно обвиняет себя даже в незначительных или вовсе мнимых преступлениях, тогда как множество его современников (в том числе и писателей), столь же чуждых религиозной морали, нисколько не терзалось угрызениями совести.
Но то, что Полежаев в своей лирической исповеди не побоялся с такой откровенностью заговорить о несовершенствах и уязвимых чертах своей личности, не только делает честь его беспрецедентной в литературе искренности. Гораздо важнее, что следствием этой самокритики было расширение нравственной проблематики и изобразительных возможностей поэзии. Наконец, была явлена без малейших прикрас одна истина: поэт до такой степени живой человек, что и ему не чужды слабости, заблуждения и не слишком достойные поступки.
В состоянии внутреннего угнетения, отвращения ко всему и к самому себе, с такой пронзительной болью изображенном в «Живом мертвеце», сам Полежаев видел возмездие за чувственные злоупотребления. Тут была только часть правды. Периодическая подверженность этим состояниям была особенностью психического склада поэта, с присущими ему резкими перепадами настроений от оживления к подавленности. С юных лет Полежаев познал эти внезапные приступы лютой тоски и душевного оцепенения. Отсюда чрезмерная переоценка гедонистических влечений, культ эротики, ощущаемой как противоядие от подавленности «живого мертвеца» — состояния, по-разному отразившегося в ряде лучших его стихотворений: «Вечерняя заря», «Цепи», «Провидение», «<Узник>», «Зачем задумчивых очей…», «Ожесточенный», «Ночь на Кубани», «Тоска». Половина и́з них связана с тюремной темой. Нетрудно представить, что получалось, когда внешнее порабощение сопровождала внутренняя скованность. Реальная и духовная тюрьма смыкались, и обе беды исторгали у поэта поистине вопль мирового страдания.
5
Одиночество в романтической поэзии — даже в том случае, когда оно добровольное, — неизбежный удел ее положительных героев. В этом не только драматизм их общественного положения, но и осознанная ими потребность. Уединение — путь к углублению своего внутреннего мира, к духовному обогащению, к обнаружению сокровенных тайн вечной книги бытия, которые рано или поздно оплодотворят и возвысят жизнь «толпы», теперь с презрением взирающей на романтического отшельника. «Чем дале от людей — тем мене он один», — сказал о романтическом поэте Вяземский в стихотворении «Байрон».
Иное дело — Полежаев. Его одиночество сулило ему только оскудение духа, муки «живого мертвеца». Угнетенный внешними обстоятельствами поэт до того уходил в себя, что терял всякую связь с действительностью и оказывался во второй — внутренней тюрьме. Не случайно он так дорожил любой возможностью вырваться из своего внутреннего затворничества, наполнить себя свежими впечатлениями жизни, отдаться ее пьянящим призывам. Однако «бегство в действительность» почти всегда означало погружение только в быт, в сферу витальных потребностей, вещественных забот, поверхностных человеческих контактов.
Итак, идеал личной свободы воплощался в нескованном выражении возвышенных стремлений, в борьбе с насилием всех видов, включая и борьбу с собственной «неестественной свободой» — отчуждением от жизни. Здесь Полежаев проявлял себя как типичный романтик. Жажда свободы отчасти удовлетворялась в мире быта, потому что частный быт не подлежал строгой опеке властей и потому что внедренные в него моральные и культурные императивы не всегда соблюдались. А нужда в личной свободе диктовалась здесь гедонистическими влечениями, напряженность которых вела к столкновению с этическими предписаниями. При этом в изображении быта у Полежаева, как правило, наблюдается крен в сторону натурализма.
Действительность, отражавшаяся в обоих мирах творчества поэта, воспринималась им очень своеобразно. Полежаев весьма обобщенно и расплывчато представлял себе систему подавления и стеснений личности в современном ему обществе — в виде незримой тотальной силы, лишь время от времени обретавшей те или иные зримые очертания. Но подобное представление не мешало ему в другое или в то же самое время воспринимать эту действительность как свободную, то есть лишенную строгого порядка, социальной иерархии и социальной дисциплины. В результате жизнь оказывалась либо неопределенно скованной, либо неопределенно свободной, либо и той и другой одновременно, ибо структурный ее характер осознавался весьма туманно.
Мы уже знаем, что Полежаев зачастую видел в русской действительности бессрочную тюрьму. Но перу того же Полежаева принадлежит целый ряд произведений, в которых он упивается вольным воздухом бытия, которые наполнены озорной веселостью, юмором, эксцентрикой или по крайней мере полным забвением своих бед («Песня» — перевод из Панара, «Кремлевский сад», «Белая ночь», «Тарки», повести «День в Москве», «Чудак», «Царь охоты»). Достойно удивления, что некоторые из названных произведений написаны в самые тяжелые для автора первые годы его солдатчины.
Чрезмерная обобщенность, суммарность и разорванность мировосприятия Полежаева имели далеко идущие последствия для него как человека (не способного прогнозировать социально обусловленные действия окружающей его среды) и как поэта. В его стихах жизнь вообще приобретала крайне изменчивый (часто коварно изменчивый) и текучий характер, в котором терялась мера свободы и несвободы. Вместе с тем все человеческие коллективы, союзы и общество в целом лишались своих структурных связей, превращались в диффузную, безликую массу — анонимную толпу, которая также являлась носительницей свободы и насилия.
Толпа — ключевое понятие в творчестве Полежаева. Совокупность свойств, которые определяют ее существование, складывается у поэта в универсальную модель общества. Эта модель постулирует генеральную схему расстановки персонажей: субъективное «я» (в ряде случаев заменяемое условными персонажами, которых поэт наделяет существенными свойствами своей личности), соотнесенное с неопределенно многочисленной человеческой средой.
Оба мира поэзии Полежаева не только густо населены, но и перенаселены. Любопытно примечание, которым поэт в 1837 году сопроводил один из отрывков «<Узника>»: «Под солнцем, озаряющим неизмеримую темную бездну, будто в хаосе, вращаются и пресмыкаются миллионы двуногих созданий, называемых человеками». Неисчислимое количество людей непосредственно изображается или подразумевается во многих произведениях разных жанровых форм. Чаще всего это масса лиц совершенно чужих, а то и чуждых автобиографическому герою (или его заместителю). К неопределенному множеству относятся и знакомые автобиографического героя. Друзья тоже, по сути дела, — лишь «знакомцы», дружба с которыми носит характер случайных встреч и не выходит за пределы бытовой суеты. Границы между друзьями, просто знакомыми и врагами подвижны. Прочность дружбы обратно пропорциональна количеству приятелей. Они тотчас исчезают при первой беде поэта:
Я надежду имел На испытных друзей, Но их рой отлетел При невзгоде моей. («Вечерняя заря»)В «<Узнике>» оставленный всеми герой исчисляет своих псевдодрузей большой круглой цифрой: «сто знакомых щегольков — Большого света знатоков».
Неизбывное одиночество полежаевского автобиографического героя — не только результат печально сложившейся судьбы. Поэт до того уходил в себя и в свои личные проблемы, что не способен был никого выделить из окружающих его людей, всерьез заинтересоваться их индивидуальностью. Сказанное относится и к Лозовскому.[21]
Полежаев посвятил ему пять стихотворений, в которых немало пылкой дружеской риторики, но из которых невозможно составить даже общего представления о личности адресата. Правда, на то были и объективные причины: культурный багаж и умственный кругозор Лозовского, судя по всему, едва ли намного возвышался над чертой посредственности. Оказать глубокое влияние на Полежаева он, конечно, не мог, хотя поэт ценил его за отзывчивость, сострадание к себе, переросшее затем в сердечную привязанность. В этих стихотворениях автор более всего говорит о себе, а Лозовский предстает выключенным из всех жизненных связей, кроме одной — дружеского союза с одиноким страдальцем. К этому, пожалуй, и сведена сущность образа Лозовского, в котором нет ни единой портретной черты оригинала.
Обычно люди, которых изображал Полежаев, являлись в его стихах бледными проекциями его расщепленного «я», отдельные свойства которого персонифицировались. Подобной проекцией и явился образ Лозовского, на которого Полежаев переносит свою способность к искренней, бескорыстной симпатии. В конце концов он отождествил его с собой: «Я буду — он, он — будет — я! В одном из нас сольются оба».
Итак, Лозовский не смог избавить Полежаева от снедающего его чувства одиночества и потерянности в чуждом ему мире человеческих «множеств». Любопытный мотив оторванности от этих «множеств» встречается в «<Узнике>». В смрадном каземате «томится лютою тоской» поэт-арестант, а за стеной — в Спасских казармах — совсем иная атмосфера:
В казармах этих тьма людей И ночью множество …… На нарах с воинами спят, И веселятся и шумят.Для раннего Полежаева праздная уличная толпа была поистине захватывающим зрелищем. К пространному обозрению такой толпы целиком сводится «Рассказ Кузьмы, или вечер в „Кенигсберге“». Уличные сценки щедро разбросаны и в «Сашке». В основе этих зарисовок по большей части живые впечатления автора. Вот типичный случай такого натурного живописания:
Различноцветными огнями Горит в Москве Кремлевский сад, И пышно-пестрыми роями В нем дамы с франтами кипят… …Там в пух разряженный присяжный Напрасно ловким хочет быть; Здесь купчик, тросточкой играя, Как царь доволен сам собой; Там, с генералом в ряд шагая, Себя тут кажет и портной, Вельможа, повар и сапожник, И честный, и подлец, и плут, Купец, и блинник, и пирожник — Все трутся и друг друга жмут.Легко заметить, что тексты подобных «описей» строятся по примитивной формуле: 1 + 1 + 1 и т. д. Но они не так бессодержательны, как может показаться с первого взгляда. Прежде всего каждая человеческая «единица» разительно отличается от другой по своему социальному статусу, профессии и предположительным нравственным качествам. Разнокалиберность такой толпы Полежаев передает и другими «особыми приметами»: возрастными, половыми, национальными, внешним видом, выражением лица, отличительными принадлежностями туалета, позами и т. д. Более чем показателен в этом отношении «Рассказ Кузьмы»: примененный здесь способ изображения фланирующей бульварной публики вызывает в памяти стихи Пушкина: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» В самом деле, кого только не поместил Полежаев в стихотворный каталог: тут и армяне, и бухарцы, «и с красоткою счастливец», «и бонтонная мамзель», «и изнеженный спесивец», «и разряженный портной». Каждый чем-то отличается от других, причем отличается единственным признаком, подчас только деталью туалета:
Тот красуется усами, Тот — малиновым плащом, Тот — с чешуйкою штанами, Тот — кургузым сюртуком, Та — парижским рединготом, Та — платочком на плечах, Та — каштановым капотом, Та — серьгами на ушах.Человек в толпе у Полежаева — всегда одномерный, даже более того, не человек, а монада, дробь человека. В иных «описях» мини-характеристики «персон» разрастаются: они могут даже получить имена-этикетки, что-то говорить и делать (см., например, «День в Москве»), но и тут их одномерность не исчезает.
Нельзя также не заметить, что при всей пестроте своего состава сумма персонажей-«статистов», вовлеченных в толпу, подчиняется закону нивелировки, соблюдению некоего эфемерного демократизма. «Низшие» в ней пребывают на равных правах с «высшими». Подобная уравнительность в «Рассказе Кузьмы» подчеркнута стандартным оформлением перечня фигур — с назойливыми анафорическими «и», «тот», «та».
Далее, при всей скученности людей, достигающей телесного касания, толпа, даже празднично оживленная (как в «Сашке»), никого не сближает: все соблюдают дистанцию. Взаимное любопытство, общая приподнятость настроения не способны отменить разобщенность индивидов.
Впрочем, не менее свойствен Полежаеву и другой способ обрисовки хаотичной толпы, когда под влиянием общего аффекта она превращается в сплошную однородную массу, в которой раздельность существования индивидов уничтожается. Так в «Имане-козле» возмущение против обманщика-имама поднимает на ноги всех мусульман деревушки, которые устраивают самосуд над нечестивым служителем аллаха. Здесь сверхплотное единство массы потребовало компактных средств изображения: «И сонмы буйного народа К нему нахлынули на двор».
Разъяренный народ действует как один человек. Чаще всего в моменты превращения толпы в нерасчлененное бесформенное тело Полежаев прибегает к метафорам. Он обычно отождествляет толпу, наэлектризованную единым чувством, с природными стихиями, нередко — с водной стихией, порой с мощными порывами ветра, с огнедышащим вулканом и т. п. Подобные метафоры встречаются в «Кориолане» и в кавказских поэмах. Существенно, что и в изображении строго организованных коллективов, таких, как воинские части, Полежаев придерживается тех же средств, которые он применял в картинах неупорядоченного, случайного скопления людей.
В полежаевской толпе живет стихийное влечение к свободе, но в целях обуздания своих же разрушительных стремлений к безначальной воле она весьма склонна к подчинению, к преклонению перед авторитетами (чаще ложными, но иной раз и подлинными — таковы генералы в кавказских поэмах). Нередко человеческое море колеблется в том и в другом направлении одновременно.
Лирика в силу своей специфики (сжатость текста) побуждала Полежаева к предельно обобщенным и лаконичным образам массы. Толпа здесь изображается непосредственно, как реальное окружение автобиографического героя, например — «народная толпа» в «Иване Великом». Иногда это «толпа знакомцев вероломных» («Раскаяние»).
В ряде стихотворений с условным сюжетом толпа — своеобразное действующее лицо. В «Осужденном», например, узник готовится к выходу на площадь, «кипящую» падкой на кровавые зрелища толпой. В «Песни пленного ирокезца» героя истязает целое скопище мучителей. А ему в этом кошмаре слышатся голоса теней умерших предков, которые обещают сойти на землю «совокупной толпой» и отомстить за него. В «Ренегате» «влюбленный сибарит» «пожирает взором» прелести многочисленных наложниц гарема.
Но толпа не только скученность и многочисленность. Она пространственно и духовно разводит людей и создает пустыню одиночества. Пребывание в кругу совершенно чуждых для себя людей Полежаев однажды сверхлаконично обозначил одной строкой-оксюмороном: «В толпе безлюдной» («Демон вдохновения»).
Гораздо интересней условно-метафорические образы человеческой массы. В «Песни погибающего пловца», которая могла бы служить превосходным эпиграфом ко всему творчеству Полежаева, море — это, конечно, житейское море. Одинокий отважный плаватель — сын моря (читай: людей, толпы), пренебрегший друзьями, «узами любови», оставил «мирный брег». Он возлюбил вольную жизнь на безбрежных просторах грозной стихии, где некоторое время удачно лавировал, и море терпело его дерзость до определенного момента, ополчившись затем на него, чтобы погубить смельчака. Конечно, емкий смысл стихотворения не сводится к сказанному. Буря на море — это и буря ожесточенных страстей толпы, но это и душевные потрясения самого пловца, от которых он безмерно устал. Этим объясняется финал «Песни» (герой примиряется с трагической участью), который так удивлял Белинского своей кроткой тональностью.
6
Поэтическое «я» Полежаева (либо эквивалентные ему условные персонажи) — своеобразно детерминировано толпой, более того, оно — самый индивидуальный и самый полномочный представитель этого хаотического, разношерстного «общества». В этом «я» гораздо сильней и ярче выражено стремление массового человека к обособлению и свободе, переходящей в трагическое отчуждение, и стремление к общению, к слиянию с гедонистической толпой и даже к растворению в ее аффективной одержимости. Наконец, оно же — выразитель ее немыслимых колебаний и шараханий между самыми крайними влечениями. Короче говоря, автобиографический (или автопортретный) герой — олицетворение коллективной души массы. И это понятно: ведь окружающая поэта среда — гигантская проекция его субъективного «я». И наоборот: толпа в известном смысле — духовный портрет автора с его расщепленным сознанием и разнонаправленными влечениями. Гипнотизирующее воздействие на него толпы и в том, что в ней он видит полного, «многостороннего» человека, обладающего всевозможными свойствами, тогда как сам он тяготится своей односторонностью.
В итоге и образ автора неизбежно приобретал черты множественного, многоролевого, колеблющегося человека. И если толпа — это исполинский хамелеон, то и ее главный представитель выглядит как некий оборотень.
С чертами «оборотничества» автобиографического (шире — лирического) героя поэта мы уже отчасти сталкивались в «Сашке». Эффект оборотничества многократно прослеживается в оде «Гений».[22] Оно определяет решающие сюжетные ходы в «Имане-козле»: нищий оборванец Абдул внезапно делается богачом, облекаясь в роскошные парчи, а служитель аллаха, напялив шкуру козла, выдает себя за посланца ада. Мотив переодевания (он очень важен и в «Сашке») — показатель того, сколь слабо ощущал Полежаев стабильность социальных и других ролей.
Наглядный пример другого — нравственно-психологического — оборотничества являет одно из самых поразительных стихотворений — «Провидение» (1828). Оно отражает пессимизм и ожесточение поэта в период его заключения в каземате Спасских казарм — настроения, которые моментально были уничтожены благой вестью об освобождении. Сначала герой стихотворения — «отступник мнений своих отцов», «с душой безбожной», одержимый нечеловеческой гордыней, враждебный «небу», что позволяет поэту отождествить его с самим Люцифером, то есть Сатаной. Далее происходит нечто странное. Статус могущественного повелителя адских духов вдруг резко понижается, и он оказывается «в когтях чертей», которых именует теперь своими «подземными братьями». Попав в разряд низших духов, герой уже ощущает себя не столько служителем зла, сколько страдающим существом, для которого пребывание в адской тьме непереносимо. В этом месте стихотворения читателя поджидает еще одна неожиданность: бессмертный дух жаждет избавиться от мук посредством… самоубийства, то есть он незаметно становится смертным человеком. А когда это решение созревает окончательно, то адская мгла (теперь это уже просто подземелье — тюрьма) рассеивается: милосердный бог извлекает несчастного узника из тьмы, оживляет его «остов могильный»:
И Каин новый В душе суровой Творца почтил. Непостижимый, Неотразимый, Он снова влил В грудь атеиста И лжесофиста Огонь любви!Так демонический герой, пройдя ряд ступеней в своем преображении, становится приверженцем творца.
К распространенным приемам оборотничества в лирике Полежаева надо отнести переключение персонажа из категории условных или условно-фантастических образов в реальный автобиографический образ. С предельной наглядностью этот прием выражен в «Живом мертвеце»: фантастический выходец из могилы во второй части стихотворения непосредственно идентифицируется с авторским «я».
С оборотничеством непосредственно смыкается другой, столь же характерный для Полежаева прием обрисовки персонажей, обусловленный пониманием человека как совокупности одномерных лиц. Вспомним портрет Николая I в «<Узнике>». Полежаев видел царя в нескольких шагах от себя. Он мог бы воспользоваться в своем памфлетном портрете кое-какими реальными впечатлениями. Но поэт создает «гибридный» образ императора, составленный из имен людей, имеющих негативный нарицательный смысл, подключив к ним еще и чудовищного удава. В результате получилось: «Второй Нерон, Искариот, Удав бразильский и Немврод».
Еще более показателен суммарный образ цыганки в одноименном стихотворении. Поэт видит свою героиню идущей «перед толпою на широкой площади́»:
Под разодранным покровом, Проницательна, черна, Кто в величии суровом Эта дивная жена?.. Бьются локоны небрежно По нагим ее плечам, Искры наглости мятежно Разбежались по очам, И, страшней ударов сечи, Как гремучая река, Льются сладостные речи У бесстыдной с языка.Полежаевский портрет цыганки в свое время поставил в тупик А. В. Дружинина. «Читатель, — писал он, — даже не может дать себе отчета, какого рода цыганку описывает поэт — молода или стара эта цыганка… Поэт даже как бы нарочно запутывает представления; сладостные речи у него выходят страшнее ударов сечи, дивная жена имеет в глазах разбежавшиеся искры наглости… а в результате сам читатель сбивается с толку и не может решить, о ком говорено было поэтом: о прекрасной ли девушке цыганского племени или о мрачной ведьме из того же народа».[23] В своей придирчивой критике стихотворения с позиции художественного подобия жизни Дружинин довольно верно передал суть этого мозаичного, множественного, но отнюдь не индивидуального образа. Полежаевская цыганка — суммарный образ разных женских типов цыганского племени. В этот зыблющийся (и тоже оборотнический) портрет введены черты и цыганки — вещей предсказательницы судьбы, и молодой темпераментной артистки, и нескромной прельстительницы.
Пребывание в таком странном мире, внезапно меняющем свой облик, где необозримые человеческие множества (а множественность сродни неопределенности, неоднородности, хаотичности) сами не ведают, какие события они могут развязать, отдавало его во власть неведомых сил. А это влекло за собой мистификацию действительности.
Богоборческие идеи, столь ярко сказавшиеся в шестой главе «<Узника>», все же не избавили поэта от некоторых рудиментов религиозного сознания. Мысль о том, что «система звезд, прыжок сверчка, Движенье моря и смычка» — созданья «творческой руки», то есть что бог — зодчий природы, отнюдь не оспаривается в этом произведении. В контексте других стихотворений («Ожесточенный», «Осужденный», «Атеисту», «Отчаяние») природа и бог — понятия смежные, если не тождественные. В «Отчаянии», например, природа мыслится как прямой заместитель бога, причем здесь ей приписана даже божественная миссия воскрешения мертвых. В этом можно усмотреть признаки тяготения Полежаева к пантеистическим воззрениям, но не более того. Ведь поэт не раз обращался к природе как антропоморфному и разумному существу, способному покарать, понять и простить его.
Привлекает внимание тот факт, что стихи Полежаева густо насыщены персонажами христианской мифологии (тот же бог-творец, сатана, ангелы, архангелы, демоны, добрые и злые духи). Потребность в широком использовании этих персонажей нельзя свести к чисто художественной стороне дела.[24] Поэт действительно ощущал себя пленником могущественных сил, властно распоряжавшихся его внешней и внутренней жизнью. В различных наименованиях, которые присваивались этим силам, проглядывает величайшая неуверенность поэта в своем завтрашнем и даже сегодняшнем дне. С этим связана необычайно подвижная в его стихах иерархия богов — следствие отхода от традиционного понимания судьбы, широко отразившегося в поэзии ближайших предшественников и современников Полежаева. Надо полагать, первый из русских поэтов, он возвел судьбу в ранг верховного божества. С точки зрения мировоззренческой здесь не было ничего оригинального. Подобное понимание судьбы типично для массового человека, которым манипулируют неясные ему социальные силы и которым он приписывает удачные для себя или неудачные комбинации обстоятельств. В период начавшегося угасания религиозной веры, — а таким периодом, несомненно, была эпоха Полежаева (вспомним, что никогда не писалось столько антиклерикальных стихов, как в то время), — судьба обретает автономию и всевластие, чуждые христианскому вероучению, в котором она всегда трактуется только в качестве орудия миродержавного промысла. Антропоморфный бог-вседержитель уступает место безличному, слепому и оборотническому «богу» — судьбе. Этот процесс размывания религиозного сознания и отразился в стихах Полежаева.
Показательно в этом смысле стихотворение 20-х годов «Рок», черты своеобразия которого особенно наглядно проступают в сравнении с одноименным стихотворением Языкова (1823), где рок наделен однозначной характеристикой. Это — «ангел злодеянья», «посол неправых неба кар». В стихотворении Полежаева рок — псевдоним капризно изменчивой судьбы, совершенно безразличной к обитателям земли. Он не только губит, но и милует, правда, тоже без всякого разбора. Его жертвы и фавориты — абсолютно случайны. Рок избавляет от костра плененного царя Креза, возносит на вершину славы ничтожного раба-гладиатора, умерщвляет всемогущего Кира, дарует России «ефрейтора-императора». Выходит, что в слепоте и безразличии рока все же таится и возможность справедливых, благих решений.
О двойственном, предательски изменчивом поведении судьбы в отношении к себе Полежаев говорит, как бы подводя итог своему плаванию по волнам моря житейского, в стихотворении «Красное яйцо» (1836). Очень редко судьба «улыбалась» ему. И тогда в ней обнаруживались проблески добра и разума. В таких случаях она превращалась в обычного бога — небесного филантропа («Провидение») или в «доброго гения» («Мой гений») — тоже небесного патрона, олицетворявших милостивую волю судьбы. Поскольку же всякого рода злоключений и душевных терзаний поэту хватало с избытком, постольку злая воля — теперь уже слепой, коварной судьбы, соответственно переименованной в «злого гения» или демона, — ощущалась как фатальная неизбежность. Роковая обреченность полежаевского автопортретного героя обычно заранее предуказана зловещими предзнаменованиями, визионерством, мрачными предчувствиями. В этом легко убедиться на примере таких стихотворений, как «Цепи», «Осужденный», «Негодование», как поэма «Видение Брута», где исполинский призрак предсказывает смерть герою.
Следует отметить, что враждебные себе потусторонние силы автобиографический герой Полежаева ощущает то постоянно действующими, то периодически возобновляемыми. Случается, что этот герой вообще избавлен от каких бы то ни было посторонних влияний. Иногда все эти точки зрения уживаются в одном произведении, как, например, в «Осужденном». Здесь в полежаевском герое выступают черты суверенной, ответственной за все содеянное личности, но, наряду с тем, трагический путь жизни осужденного осмыслен и как предопределенный свыше. Причина подобных колебаний в том, что поэт меньше всего был похож на укротителя собственных страстей и влечений, которые и провоцировались в нем обстоятельствами жизни, и возникали совершенно спонтанно — внутри его «я», но так, словно эта одержимость страстями навязывалась ему чужой таинственной волей. Отсюда двойственность нравственной самооценки героя, когда он то берет всю ответственность на себя, то, напротив, настаивает на своей невиновности. Так, в «<Узнике>» поэт не раз объясняет свои злоключения волей «слепого свирепого рока». Но это не помешало ему в конце произведения признать все обрушившиеся на него беды достойным возмездием за совершенное им преступление — неблагодарность в отношении к родному человеку и благодетелю. «Моя вина Ужасной местью отмщена!» — горестно восклицает поэт-арестант. Хотя вопрос об инициаторе возмездия здесь не поднимается, но мысль о существовании верховной нравственной инстанции, творящей свой справедливый суд, проглядывает между строк. В других же стихотворениях болезненно встревоженная совесть поэта и ожидание наказания непосредственно восстанавливали бога в правах верховного блюстителя нравственности, как в этом нетрудно убедиться на примере того же «Ожесточенного».
Подобная противоречивость находит объяснение в распадении автобиографического героя, который изолированно рассматривает разные «части» своего «я» в отношении к одинаково прискорбным обстоятельствам жизни.
В контексте Полежаевской поэзии весомо звучат слова из «Песни погибающего пловца»: «Сокровенный сын природы». Да, «сын природы» был с избытком наделен ее стихийными силами — разрушительными страстями, которые в ряде стихотворений непосредственно проецируются на бурные явления природы («Море», «Водопад», «Черные глаза» и другие), превращаясь в метафорические образы этих страстей. Тем самым природа в восприятии поэта, не отрицавшего в ней предустановленного начала божественного порядка, открывалась ему, в нем самом, и своей второй сущностью — как воплощение демонических сил разрушения и хаоса. Не случайно большинство картин природы в стихах Полежаева — не «пейзажи», а метафоры душевных потрясений и острейших внутренних коллизий.
7
Вскоре после выхода Полежаева из тюрьмы Московский пехотный полк, куда он был переведен, получил предписание двигаться на Кавказ. Несмотря на победоносное завершение русско-персидской (1826–1827), а затем и русско-турецкой (1828–1829) войн, обширная территория Дагестана и Чечни становится ареной стремительного роста горского освободительного движения, назревавшего еще с середины 1820-х годов. Разрозненные многочисленные народности и этнические группы края, издавна враждовавшие, объединяются для совместной борьбы против могучей северной державы. Идеологической базой этого сплочения послужил мюридизм — одно из наиболее фанатичных учений мусульманства. Мюрид по первому призыву своего духовного вождя имама обязан был бросить дом, семейство и не щадить жизни в войне с гяурами.
В 1829 году имамом Дагестана и Чечни был провозглашен Гази Мухаммед, родом из аула Гимры. Он подчинил своему влиянию койсубулинские аулы, расположенные вдоль реки Аварское Койсу, среди которых находился и названный аул. Встревоженная организованными выступлениями горцев, царская военная администрация направила в мае 1830 года в этот район сводный отряд генерал-лейтенанта Р. Ф. Розена. Койсубулинская экспедиция могла стать первым боевым крещением Полежаева, но цель ее не была достигнута: проникнуть к Гимрам с высоты исполинского горного массива генерал не рискнул, удовлетворившись заключением формального перемирия.
На Кавказе испорченная политическая репутация Полежаева и положение разжалованного скорее пошли ему во благо, чем во вред. Другой генерал — А. А. Вельяминов, сподвижник и друг А. П. Ермолова (в 1826 году удаленного с Кавказа Николаем 1), унаследовал от своего бывшего шефа гуманное обращение с лицами, высылавшимися властями на Кавказ «для исправления». Сочувствуя опальному поэту, Вельяминов брал его в походы, чтобы представить к повышению. В апреле 1832 года благодаря инициативе Вельяминова Полежаев был произведен в унтер-офицеры и одновременно восстановлен в правах дворянина.
На Кавказе Полежаев провел около трех с половиной лет (с июня 1829 года по январь 1833 года). Обилие разнообразнейших впечатлений от девственной природы этой страны, от внезапной перемены обстановки, неизбежной во всякой войне, а в местных условиях особенно частой, наконец, глубоко волнующие впечатления от сражений, — от всего этого поэзия Полежаева обрела необычную для него широту творческого диапазона. Об этом красноречиво свидетельствуют поэмы «Эрпели» (1830) и «Чир-Юрт» (1831), занявшие особо важное место в творчестве Полежаева и — более того — в русской поэзии. Среди поэтических произведений на батальные темы до сих пор не было примера претворения в стихах столь богатого документального материала. «Эрпели» и «Чир-Юрт» были напечатаны отдельным изданием вслед за «Стихотворениями» (1832) в том же 1832 году.[25]
В последние два десятилетия в нашем литературоведении делались попытки представить кавказские поэмы сочинениями, недостойными Полежаева, который будто бы в ложном свете изобразил горское повстанческое движение, не понимая колониального характера политики царизма на Кавказе.
Кричащий антиисторизм такого обвинения очевиден: для современников Полежаева — в данном случае уместно вспомнить о таких людях, как Пушкин, Грибоедов, декабристы, — вопрос о необходимости присоединения Кавказа к России не был дискуссионным. Декабристское и вообще гражданское вольнолюбие той эпохи вполне уживалось с идеей первенства России на исторической арене. Декабрист М. С. Лунин, полемически заостряя свою мысль, писал даже, что «в политическом отношении взятие Ахалцыха важнее взятия Парижа».[26] Иными словами, позиции России в Европе зависели от прочности ее положения на Кавказе. Стоит напомнить в этой связи, что в «проконсуле» Кавказа А. П. Ермолове, не стеснявшемся крутыми мерами в усмирении непокорных аулов, декабристы видели одного из возможных лидеров дворянской оппозиции и революции. Того же Ермолова они считали самой подходящей фигурой, способной возглавить ополчение для помощи восставшим в 1823 году грекам против турецкого ига (кстати, и Ермолов, и борьба за свободу Греции упоминаются в «Чир-Юрте» в самом положительном смысле). Всем мало-мальски государственно мыслящим людям тогда было ясно, что исключение Кавказа из сферы интересов России привело бы к его захвату Турцией, Персией или к разделу края между ними с помощью тех же европейских держав.
Страдает явным преувеличением и сравнительно недавно высказанный Полежаеву упрек в том, что он обрисовал горцев «одними черными красками». Между тем когда поэт говорит о так называемых «мирны́х» жителях аулов, то в его искреннем добродушии трудно усомниться. Солдаты, изображенные в «Эрпели», весьма далеки от националистических предрассудков, в их поведении нет и намека на какое-либо чувство превосходства над местным населением. К тому же значительное место в «Чир-Юрте» уделено изображению удальства и неустрашимости горских джигитов. Посвященный этому фрагмент, начинающийся стихом «Смотрите, вот они толпа́ми», — один из лучших в поэме.
Осуждение колониальных и вообще захватнических войн — мораль, вошедшая в силу лишь в конце XIX века. Но как будут выглядеть наша история первой половины XIX века и ее деятели, если мы станем их судить с позиций современного гуманизма? Почему бы тогда и Пушкина не объявить певцом колониализма — ведь в послесловии к «Кавказскому пленнику» он решительно высказывается за полное усмирение Кавказа? Спору нет: ограниченность взгляда Полежаева на кавказскую войну продиктована не только условиями времени, но и его собственной субъективной позицией. Это более всего сказалось в памфлетно-гротесковой характеристике такой выдающейся личности, как Кази-Мулла, что во многом вытекало из общей концепции «Чир-Юрта». Но нельзя не заметить и того, сколь неутешна печаль поэта «на страшном месте пораженья», когда он видит распростертые тела искалеченных людей, когда он представляет себе плачевную участь лишившихся крова жителей аула, обреченных на скитания по диким местам горной страны. В конце поэмы всю вину за «кровавый пир» Полежаев перекладывает на имама, тем самым реабилитируя жертвы его «коварства» и «обмана». Поэт увидел в Кази-Мулле лишь проворного честолюбца и хитреца, с помощью ислама раздувшего пламя войны с гяурами и притом усердно пекущегося о собственной безопасности. Реальный Кази-Мулла вовсе не был ни сознательным обманщиком, ни таким неудачным воителем, как это явствует из кавказских поэм.[27] Но сходство литературного героя с прототипом — не обязательный критерий художественной правды.
Другая причина негативного отношения Полежаева к восставшим — их самоубийственное поведение. Не веря в победу горцев, ринувшихся в огонь войны с могущественной державой, он протестует против бессмысленного кровопролития. Можно считать это убеждение односторонним, но ему также нельзя отказать в гуманизме.
Нетрудно догадаться, что у автора кавказских поэм были свои личные причины к резким выпадам против Кази-Муллы и развязанной им войны. В самом деле, к чему могли привести поэта длительные, изматывающие странствия с полком по голым степям, горным вершинам и ущельям, в жару и в мороз, в любое время суток, нервное перенапряжение, угроза заболевания, ранения и смерти? Угрозы эти были тем более очевидны, что в лице горцев русское воинство встретило достойного противника, чье мужество, самоотвержение, ловкость и находчивость в боях удивляли видавших виды ветеранов. Неудивительно, что ратоборство с такими бойцами, которых генерал-лейтенант Вельяминов назвал «совершенными героями»[28], считалось почетным делом и служило своего рода аттестатом храбрости.
Объективность требует указать и на то, в чем поэт был ниже интеллектуально-нравственного уровня своих выдающихся современников. Зная о том, что многие старейшины и феодалы Северного Кавказа (начиная с самого крупного из них — шамхала Тарковского), признали вассальную зависимость от российского императора, Полежаев вообще отрицал право местного населения сражаться за свободу родных гор и степей.
И наконец, самое главное: сосредоточившие в себе богатейший познавательный материал (в чем сказалось новаторство Полежаева), «Эрпели» и «Чир-Юрт», хотя они и написаны под диктовку действительности, — не только документальные, но и художественные произведения, обобщающий смысл которых далеко выходит за рамки кавказского материала, произведения с уникальной структурой, образующие особый, оригинальный мир творчества.
«Эрпели» и «Чир-Юрт» заполнили обширный пробел, образовавшийся в развитии военно-героической темы в поэзии, где она была представлена лишь эпизодически (картина полтавского боя у Пушкина) и притом представлена исключительно на историческом или легендарно-историческом материале (например, некоторые «думы» Рылеева, «Мстислав Мстиславич» П. А. Катенина). Заслуга Полежаева заключается и в том, что он показал современную войну, с применением современного оружия и тактики, войну, в которой главными героями были сражающиеся массы людей. Читатель слышит в этих поэмах гулкую поступь тысячной солдатской рати, он ощущает ее горячее дыхание, физическое изнурение, доходящее до отупения, когда все равно куда идти — «в огонь иль в воду» («Эрпели»), ощущает ее монолитную собранность перед лицом опасности, он также видит ее в часы досуга, отрешенной от всяких тревог и забот, и многое другое.
Современный подход к теме заключался также в том, что поэт лишил ее исключительно батального содержания, показав войну в разнообразных, в том числе и будничных, проявлениях. В этом сказалась реалистическая устремленность поэм, все же не ставших явлениями реалистического искусства, ибо скрепляющим каркасом этих произведений по-прежнему оставалась генеральная для всего творчества Полежаева схема устройства бытия: изолированная личность (то есть автобиографический либо автопортретный герой) и обезличенное бесчисленное множество чужих ему людей. Правда, эта схема здесь намного усложнилась, обросла богатейшим жизненным материалом, подчерпнутым из самой действительности. Однако верность этой схеме, сужая познавательные возможности поэта, исключала более полное и многостороннее изображение человеческих связей, включающее и отношения индивидуальности к индивидуальности.
В кавказских поэмах Полежаев рассказывает о военных операциях как их свидетель и участник, но он не довольствуется ролью правдивого рассказчика, не ограничивается художественным претворением фактов. Поэт изображает и себя в качестве действующего лица. Более того, автобиографическому персонажу поэм уделялось почти такое же внимание, как и деяниям воюющих сторон! Подобное новшество шло вразрез с традициями батальной темы в поэзии. Автор, согласно им, просто не имел права ни при каких обстоятельствах заслонять своей фигурой важность столь ответственной, общезначимой темы.
Авторское «я» или автобиографический герой были довольно распространенным явлением в поэмах с иным тематическим наполнением. Опыт Пушкина в «Евгении Онегине» с его разветвленной системой лирических отступлений, безусловно, отразился на кавказских поэмах. Однако многочисленные фрагменты поэм, написанные «от первого лица», по своему содержанию далеко выходят за рамки лирических отступлений. Дело не только в том, что автобиографический персонаж Полежаева обладает повышенной самоценностью — он обрисован в определенной окружающей обстановке, а в «Эрпели» наделен к тому же и определенным внешним обликом; у него есть свое прошлое, свои личные сегодняшние интересы, свои думы о будущем. Главное же, что сообщает этому персонажу своеобразие, — его внутрисюжетное положение. Впрочем, тут была одна тонкость, очень интересная и существенная. Автор и присутствует в сюжете произведений, и вместе с тем отсутствует. Чтобы уяснить необычность его положения, необходимо составить представление об общих композиционных принципах поэм.
В «Эрпели» и «Чир-Юрте» отчетливо прослеживается их сюжетно-событийная канва, многократно испытанная в народном и литературном героическом эпосе: сборы ратников на войну, препятствия, одолеваемые ими в пути, неожиданные приключения, действия полководцев, осада и взятие вражеских крепостей — таковы обычные слагаемые этой сюжетной схемы (по своему труднодоступному положению и оборонительным сооружениям Чир-Юрт по сути дела и был настоящей крепостью. А в «Эрпели» захвату крепости соответствует штурм громадной обороняемой повстанцами горы, надежно прикрывавшей все подступы к главному очагу восстания).
Но традиционная эпическая ткань поэмы, во-первых, прослоена сценами и картинами мирного лагерного быта воинов и быта горских селений. А во-вторых, эта ткань прерывается авторскими монологами. Так вот, тонкость заключается в том, что автобиографический персонаж совершенно исчезает из поля зрения читателя в батальных эпизодах и в приравненных к ним эпизодах борьбы с природными препятствиями. Такое самоустранение этого персонажа молчаливо подразумевало его присутствие в наступающей и сражающейся массе воинов, в которых он терялся. Читатель знает, что поэт в гуще этой массы, хотя ни с кем из товарищей по оружию он не общается, а те, в свою очередь, его не замечают.
В результате изображенные в «Эрпели» и «Чир-Юрте» эпические события могут быть восприняты как часть автобиографии и духовного опыта сочинителя, а в рамках эпического повествования те же автобиографические фрагменты будут выглядеть как предельная детализация воюющей человеческой массы, то есть читатель увидит в них песчинку, рассмотренную через увеличительное стекло, ставшую индивидуальностью, а в определенном смысле и олицетворением духа враждующих сторон.
Таким образом, мы приходим к заключению о расщеплении автора кавказских поэм на внеличного повествователя, которому доверен рассказ о самых драматических, самых ответственных эпизодах, и на автобиографического персонажа. Между ними налицо разительное несоответствие в ценностных установках. Автор поэм — певец воинской доблести и чести, победоносной отечественной рати, глашатай истины и справедливости. В автобиографическом персонаже преобладают черты человека, чуждого военной профессии, войне и тем ценностям, носителем которых выступает автор.
В «Эрпели» перед читателем как бы воскресает образ Сашки, но не московского озорника, а петербургского — записного франта и бульварного кавалера. Свойственный ему эпикуреизм воспитан в нем привольем и комфортом столичной жизни господ. Нетипичность этой фигуры, одетой в солдатскую шинель, но все еще живущей в своем эпикурейском прошлом, более чем очевидна. Между тем в самом общем плане гедонизм этого персонажа соотнесен с тягой уставших солдат к сладостному безделью, вкусной пище, болтовне «за квартой красного вина», развлечениям со станичными девицами. Показательно, что эпикурейская тема первой главы поэмы подхватывается во второй, где она привязана к автобиографическому персонажу и коллективному адресату этой главы — студенческой, по преимуществу, молодежи Москвы.
В «Чир-Юрте» трагическая обреченность автобиографического персонажа непосредственно проецируется на защитников горской твердыни. В мятежных страстях, которыми одержимы повстанцы, Полежаев видит помрачение разума — слабость, изведанную им на собственном горьком опыте, в чем он и признается в своих скорбных монологах, кстати говоря, беспощадно самокритичных, ибо почти такому же обличению подлежал и «неприятель». Не случайно упреки, которыми поэт осыпает горцев, укоряя их в безрассудстве, злобе, мстительности, «наглой черноте», он распространяет и на самого себя. Это о нем сказано с осуждением, что ему «знакомы месть и злоба — Ума и совести раздор — И, наконец, при дверях гроба Уничижения позор», что все хорошее в жизни он в «безумстве жалком потерял».
Как отмечалось, в лирике Полежаева самообличительные тирады нередко сопровождались пылкими заверениями в своей невиновности. В «Чир-Юрте» этого нет и не могло быть: отрицание виновности автобиографического героя означало бы почти то же самое, что оправдание мятежного нрава горцев, в которых этот герой видел свое утысячеренное «я».
Необычная структура кавказских поэм и расщепление авторского облика находят объяснение в жизнетворческом пафосе этих произведений. Жизнетворчество — один из активнейших стимулов развития романтического искусства, удаляющегося от порочной и презренной действительности в сферу возвышенных идеалов, которые должны тем не менее послужить переустройству этой же самой действительности. Романтический художник — строитель лучшего будущего, прообраз которого видится ему в его грезах и творческих исканиях. В стихах Полежаева (не только в кавказских поэмах!) объектом жизнетворчества становится сам поэт. Он только и делает, что пишет свой портрет, стараясь запечатлеть в нем всю возможную многосторонность своего духа. Поэзия — средство пересоздания и расширения его «я», средство приобщения к действительности, болезненная отчужденность от которой была для Полежаева глубоко жизненной личной проблемой. Решая эту проблему, поэт не может обойтись без того, чтоб не увидеть себя в качестве героя документального произведения, погруженного в кипящий поток жизни, окруженного плотной человеческой средой.
Жизнетворческий потенциал поэм усиливался благодаря тому, что их автобиографический персонаж наделялся довольно широкими полномочиями. Дело в том, что время от времени он подменяет автора — эпического стихотворца, превращаясь в поэта-репортера, строящего свой рассказ с места происшествия, «по пятам событий». В поэмах, таким образом, попеременно чередуются две авторские позиции в освещении различных перипетий походной жизни воинов, которым соответствовали и два художественных пространства. Всеведение автора, охватывающего своим взором события в их связности и широкой перспективе, сменялось, как в этом легко убедиться на примере «Эрпели», суженной, ограниченной точкой зрения автора-репортера, которому неясен подлинный смысл происходящего и который теряется в догадках по поводу увиденного и услышанного. Кроме того, на тесноту кругозора обрекала поэта-солдата его принадлежность к «нижним чинам», которым не дозволялось знать ни о тактических замыслах начальства, ни о сложившейся военной ситуации. Тем не менее подобная суженность взгляда позволяла приблизить «объектив» повествования к солдатскому быту, выхватить и запечатлеть многие его подробности, на которых не мог остановиться масштабно мыслящий эпический автор.
Удвоение автора кавказских поэм (или, что то же самое, расщепление авторского сознания) отвечало неудержимой внутренней потребности Полежаева — его жажде духовной и творческой свободы. Ведь перебегание от одной позиции к другой каждый раз освобождало его от диктуемых этими позициями условностей, от их идейных и художественных установок.
Раздвоение авторского сознания в кавказских поэмах сказалось и в противопоставлении художника живому человеку. Называя себя в «Чир-Юрте» «питомцем Аполлона», поэт, не равнодушный к авторской славе, признается в том, что хотел бы сравняться с самим Байроном в мастерстве изображения кровавых сеч и их умопомрачительных последствий. Он поглощен своей миссией певца бранных подвигов, старающегося увлечь читателя картинами войны и кавказской природы. И это обязывает его соблюдать требования художественной логики, мастерской чеканки стиха, следовать определенным традициям. Но тем самым он ощущает себя в тисках художественной систематики. Замкнувшись в организованном канонами искусстве, Полежаев сталкивается в нем с… новым отчуждением своего «я». И тогда его захватывает бунт против профессиональной поэзии. Чувство освобождения от утомительной дисциплины мышления выливалось в бравурную болтовню, неуместную шутливость и ернический тон. «Питомец Аполлона» уступал место незадачливому стихотворцу (он же и автобиографический персонаж), равнодушному к своей литературной репутации, даже не уважающему свой талант, называющему себя поставщиком «галиматьи». Такой образ поэта-карикатуриста появляется в конце седьмой главы «Эрпели». Кстати, в этой главе восхождение на гору ассоциировалось с восхождением духовным, словно речь шла о подъеме на Парнас. Отсюда патетическая одержимость автора, перенесенного в «страну ужасной красоты». Наоборот, спуск вниз, «к жителям земли», приводит к утрате высокого поэтического настроя, а с ним и художественного мастерства, к появлению бесцветных, небрежных и корявых словосочетаний. В сущности, художественная неровность обеих поэм обязана своеобразной природе поэтического дарования Полежаева. Любопытную декларацию «своевольства», призванную оправдать перепады в уровне художественного мастерства, находим в «Чир-Юрте», где Полежаев извиняется перед друзьями-читателями за то, что важность рассказа «некстати» провоцирует его на «шутку и проказу»:
Я своевольничать охотник И, признаюсь вам, не работник Ученой скуке и уму!.. Боюсь, как смерти, разных правил… …Но правил тяжкого ума, Но правил чтенья и письма Я не терплю, я ненавижу И, что забавнее всего, Не видел прежде и не вижу Большой утраты от того.И далее:
Ужели день и ночь для славы Я должен голову ломать, А для младенческой забавы И двух стихов не написать?..Замена одного авторского облика другим — прием, родственный феномену оборотничества, печать которого лежит на всей художественной ткани кавказских поэм. «Эрпели» и «Чир-Юрт» — произведения удивительных и притом вполне реальных метаморфоз персонажей, всякого рода «качаний» их от одной позиции к другой, обманутых ожиданий и сюрпризов. Интересно в этой связи превращение автобиографического героя в «Чир-Юрте». Мы уже знаем, что это герой переживаний, весь ушедший в свое личное горе, окованный «цепями смерти вековой», словом — вариант «живого мертвеца». Тем не менее этого мрачного скитальца Полежаев одним махом превращает в беззаботного эпикурейца. Как бы забыв о своей неисцелимой скорби, автобиографический герой является на многолюдный базар в праздник байрама в образе веселого фланера, жадно разглядывающего сборище торговцев, красу местных нарядов, манящие взор товары Востока. В добавок ко всему он вскользь упоминает и о своем невинном флирте с девушкой-горянкой, разбившей купленную им на этом базаре глиняную трубку.
Неоднократные превращения наяву происходят с коллективными персонажами — воюющей массой, чьи настроения придают ей совершенно разные обличия, а настроения эти колеблются от антигероических до воинственного энтузиазма (это касается и русских воинов, и горцев). Целая серия превращений происходит с коллективным адресатом «Эрпели». Сначала (во второй главе) это любители «нагой природы красоты», потом воспитанники Московского университета, затем их всех заменяет только один представитель этой молодежи — «любезный дружок», которого поэт «переселяет» к себе на Кавказ и ставит во внутрисюжетное положение. В последующих главах адресат поэмы — те же друзья — далекий и множественный. В шестой главе автор обращается к разнополым лицам — двум совсем инфантильным молодым людям, которых он надеется лишь усыпить своими стихотворными «записками». А в последней главе автор оказывается в кругу друзей, которых он также переносит на Кавказ и которым досказывает финал похода к Эрпели в форме устной импровизации.
Наконец, феномен оборотничества сказывается и на сюжетостроении поэм. «Чир-Юрт» распадается на две песни.[29] Их водоразделом не случайно служит эпизод сорвавшейся переправы отряда Вельяминова через глубокий и бешено мчащийся Сулак (кстати сказать, это едва ли не лучший эпизод произведения). Серьезная неудача русского войска вызывает взрыв агрессивного энтузиазма среди горцев Чир-Юрта, подогретый неистовыми пророчествами Кази-Муллы о неизбежной гибели русских. Но в начале второй песни вкратце сообщается об успешном форсировании реки в другом месте. В данном случае река, как и другие природные стихии Кавказа, выполняет в поэме функцию действующего лица. Сначала она покровительствовала горцам, даже позволила Кази-Мулле благополучно умчаться по ней на челноке перед самой атакой на Чир-Юрт. Но защитница горцев стала их могилой.[30] Спасаясь от преследователей, воины и мирные жители Чир-Юрта бросались в ледяные кипящие волны реки и погибали в них.
Кавказские поэмы — произведения многочисленных и напряженных контрастов. Принцип контраста был заложен в основе каждой из них. Достаточно сказать, что в «Эрпели» и «Чир-Юрте» произошло пересечение обоих миров творчества Полежаева — возвышенного романтического и приземленно-бытового. Это скрещение, предвестием которого был, несомненно, «<Узник>» (1828), привело к образованию третьего, смешанного мира творчества поэта, где романтизм и бытописание, все еще не свободное от натуралистических тенденций, приобрели невиданную в стихах поэта широту выражения, вызванную изобилием охваченного в поэмах документального материала. Именно он побуждал Полежаева к романтической трактовке героически сражающихся масс, трагических переживаний автобиографического персонажа, грозной и могучей природы Кавказа, которая, наряду с чисто эстетической и сюжетной функциями, обретала еще метафорическое значение разрушительных страстей и величайшей дисгармонии человеческого духа. То же можно сказать и о чисто бытовых картинах, в бо́льшей мере присущих «Эрпели», чем «Чир-Юрту», что обусловлено прежде всего разницей в сюжетах поэм, одна из которых лишена кровавой развязки. В этой сфере Полежаеву также предстояло сделать шаг вперед в сторону освоения различных манер бытописательной поэзии и ее традиций.
Третий мир творчества Полежаева мог сложиться лишь в результате преломления различных жанрово-стилистических традиций, достаточно специфических и порой трудносочетаемых (такова несочетаемость двух во многом полярных жанров — оды и элегии).
Тема воинской доблести, батальные эпизоды потребовали от Полежаева обращения к жанру военно-героической оды с характерным для нее прославлением победоносных армий, вождей и полководцев. Поэт по мере необходимости использует разные стороны одического жанра: например, гимн воинской славе вообще — таким торжественным запевом открывается «Чир-Юрт». С ориентацией на одическую баталистику выполнены также картины битв и борьбы с природными стихиями.
Пламенный пропагандист и теоретик оды В. К. Кюхельбекер, между прочим, ценил ее за то, что она «торжествует о величии родного края, мещет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга»[31]. Полежаев почти сполна осуществил в кавказских поэмах (особенно в «Чир-Юрте») программу патетической оды, отразив разные ее аспекты в различных фрагментах поэм. Например, в ключе оды обрисован сжатый портрет А. П. Ермолова, отчасти генерала Вельяминова. А в финале «Чир-Юрта» находится громогласная инвектива против Кази-Муллы (она начинается стихом «Приди сюда, о мизантроп»), в сущности, исчерпывающая программу оды.[32]
Авторская исповедь в «Чир-Юрте», распавшаяся на ряд фрагментов, почти повсюду строится с оглядкой на жанр элегии, с присущими ему пессимистической трактовкой жизни как добычи смерти и соответствующей минорной тональностью. Элегические куски поэм Полежаев неоднократно стыковывает с одическими. Так, одическое вступление к «Чир-Юрту» вскоре сменяется элегией, герой которой исповедуется в своих несчастьях. Подобные же элегические куски неоднократно вклиниваются в патетическое описание боя под Чир-Юртом.
Можно заметить также, что значительную часть текста в «Эрпели» и «Чир-Юрте» — собственно эпическое повествование — отличает несколько взвинченная и ускоренная манера рассказа, свойственная героической поэме в эпоху ее романтической модернизации.
Что касается фрагментов с бытовым содержанием, то в них прослеживаются приметы таких устоявшихся жанров, как стихотворная бытописательная новелла, ироикомическая поэма, сатира, дружеское послание, открывавшие широкие возможности для вторжения в стих обиходной разговорной речи.
Монтаж столь различных жанровых блоков в кавказских поэмах, обычно подчиняющийся принципу контрастного примыкания, приводит к выводу, что «Эрпели» и «Чир-Юрт» — уникальные в русской поэзии конгломераты различных поэтических жанров.
8
После того как в октябре 1832 года солдаты, предводительствуемые генералом Вельяминовым, взяли штурмом оплот мюридов Гимры, где нашел свой конец имам Кази-Мулла, Московский полк через два месяца был отозван с Кавказа. За участие в Гимринской операции унтер-офицер Полежаев был представлен Вельяминовым к производству в прапорщики, но «высочайшего соизволения» на то не последовало.
Летом 1833 года Полежаев с полком прибыл в Москву. В том же году ему удалось издать новый сборник стихов «Кальян». Стихотворением «Отрывок из послания к А. П. Л<озовском>у» поэт прощается с кавказской темой, не оставившей почти никаких следов в его дальнейшем творчестве. Четвертая книга стихов, «Арфа» (подлинное авторское название — «Разбитая арфа»), подготовленная к печати в 1834 году, была запрещена цензурой и вышла уже посмертно, в 1838 году. Главное место в ней заняла поэма «Кориолан», созданию которой предшествовало важное событие в биографии автора.
Служба в Тарутинском егерском полку, куда Полежаев был переведен в сентябре 1833 года, привела его в г. Зарайск (Рязанской губернии). Здесь весной 1834 года случай столкнул поэта с человеком, сыгравшим пагубную роль в его жизни, о чем Полежаев, видимо, никогда и не узнал. И. П. Бибикову впервые представилась возможность вкусить плоды своего жандармского усердия, когда он увидел благородный облик поэта, прозябающего в нищете и унижении. Бывший губитель, а теперь покровитель Полежаева выхлопотал для него двухнедельный отпуск и увез в июле того же года в село Ильинское (неподалеку от Москвы). Здесь проводило лето семейство Бибикова, радушно принявшее гостя.
Чтобы добиться присвоения поэту офицерского чина, Бибиков отправил А. X. Бенкендорфу письмо, в котором изображал своего протеже совершенно порвавшим с «заблуждениями юности». К письму в качестве оправдательного документа был приложен текст стихотворения «Божий суд», последние три строфы которого, выражавшие «надежду… на милосердие его величества», присочинил автор письма, ибо поэт категорически отказался закончить стихотворение просьбой о прощении.[33] Письмо было предъявлено «монаршему воззрению»… вместе с доносом Шервуда 1829 года, который содержал копии стихов Полежаева, опровергавших заверения Бибикова, будто голос поэта «никогда не звучал против правительства».[34] Заступничество Бибикова постигла полная неудача.
В Ильинском, уютном и ухоженном «дворянском гнезде», поэт удостоился внимания дочери Бибикова — Екатерины, которая нарисовала его портрет.[35] Отзывчивая, обаятельная и совсем еще юная девушка очаровала поэта, посвятившего ей несколько стихотворений, в которых он с вынужденной сдержанностью намекал на свое неравнодушие к ней. Разумеется, нищему бездомному унтер-офицеру надеяться было не на что. По истечении отпуска поэт покинул Ильинское с растерзанным сердцем. Возвращаясь из «земного эдема» в прежний ад ненавистной солдатчины, Полежаев по дороге запил. Он где-то пропадал, его разыскали, водворили в полк. На сей раз это происшествие каким-то чудом сошло ему с рук.
Самым важным итогом пребывания Полежаева в Ильинском явилось стихотворение «Черные глаза». В нем поэт впервые попытался нарисовать портрет живой женщины, точнее сказать — несколько портретов, вставленных в рамку одного произведения.
В этой связи уместно заметить, что Полежаев был не только певцом «пленительных страстей». Ему была доступна и светлая умиленность чистотой девственного создания. Назовем такие стихотворения, как «Ночь», «Мечта» (из Ламартина), «Погребение», «Черная коса». В двух последних поэт как стороннее лицо с чувством боли откликается на смерть юных красавиц. В двух первых он благоговейно лелеет образ почивших возлюбленных, хотя это были условные образы. Наиболее существенно то, что все названные стихотворения объединяет пафос посмертной идеализации женщин, психологически вполне закономерный, ибо смерть уничтожает всякую чувственность, все плотское, нечистое, окружая образы покойниц ореолом непорочной святости. Иное дело — живые женщины в стихах поэта, манящие жгучими соблазнами или проявляющие повышенную инициативу в любви («Ренегат», «Зачем задумчивых очей…», «Призвание», «Эндимион»).
Весьма показательно для поэта маленькое стихотворение «Призвание», перекликающееся с пушкинским «В крови горит огонь желанья…». Самое любопытное в нем — типичная для Полежаева разноголосица чувств: тут и нетерпеливая жажда близости с боязнью ее потерять, и тоска, и предвкушение знойной страсти, таящей в себе нечто жестокое, и ожидание нежности. Какая противоположность стихотворению Пушкина, где царит спокойная атмосфера сладостного и только сладостного упоения в любви!
Разноголосицы чувств Полежаев не избежал и в «Черных глазах». По мнению Белинского, здесь отразился пережитый автором период «идеального чувства». Но эпитет «идеальный» все же недостаточен для понимания стихотворения: его героиня — не только прекрасная фея-небожительница, «существо других миров», она и вполне земная дева, купальщица с пленительной красотой телесных форм. «Идеальность» и «чувственность» не слились здесь в единое целое, хотя впервые у Полежаева они встретились в одном стихотворении.
Главную и вполне очевидную причину крушения своего романа — социальное неравенство — Полежаев обошел, коснувшись этой темы в виде полунамека.[36] Как всегда, в невзгодах своей жизни он винил вмешательство могущественных сил, в данном случае «лихую судьбу», поманившую его грезой неиспытанного блаженства и тут же беспощадно ее уничтожившую.
«Черные глаза» были первым объяснением поэта в любви и прощанием с любимой без надежды продолжить с ней какие-либо отношения. Остановиться только на «идеальной любви» подобно Жуковскому или Козлову Полежаев не мог — для этого надо было поставить в центр своего внутреннего мира прекрасный образ избранницы, продлить существование этого образа в мечтах, поэтически вдохновляться им. Но прошло немного времени, и «нелепый вихрь бытия» развеял образ Екатерины Бибиковой, отразившийся, может быть, еще только в стихотворении «Грусть» (того же 1834 года).
Обращает на себя внимание тот факт, что из десятка стихотворных повестей и поэм, составляющих бо́льшую часть литературного наследия Полежаева, у него нет ни одной с любовным сюжетом, тогда как в эпоху 20—30-х годов этот род поэмы достиг вершины своего развития. Непрочность человеческих связей, отразившаяся во всех мирах творчества поэта, немало усугублялась и тем, что могущественнейшая сила взаимного тяготения людей, соединяющая их в тесные устойчивые союзы — семейные, кровно-родственные и другие, — не проникала в его сознание. «Уз любви я не знал» — откровенно и верно было сказано Полежаевым в «Песни погибающего пловца». Похоже, что в «узах любви» он прозревал утрату свободы духа, ибо какая же всепоглощающая любовь обходится без преданности, чувства долга и служения избраннице? Но в «Черных глазах» (хотя и там автор называет себя «рабом» любви, влачащем ее «цепи») и в предшествующих стихотворениях, адресованных той же Екатерине Бибиковой, можно усмотреть симптом внутреннего обогащения поэта. Предвестием его был перевод «Троянок» Казимира Делавиня (сборник «Кальян»). Трогательный патриотизм женщин покоренной Трои, их верность павшим мужьям, отцам, сыновьям — вот что пленило русского переводчика в кантате французского поэта. Пребывание в Ильинском еще более продвинуло Полежаева в этом направлении. Недаром именно там поэт работал над «Кориоланом» — этапным в его творчестве произведением.
Мысль о том, что самое глубокое чувство родины укоренено именно в женщине, родоначальнице всех видов любви, во многом определила обращение поэта к легенде о Кориолане, рассказанной в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха,[37] откуда и был заимствован сюжет поэмы. Изгнанный из отечества за свои диктаторские замашки, оскорбленный Кориолан стал во главе враждебного Риму племени. Снедаемый чувством мести, он осадил родной город. Рим был спасен матерью Кориолана, пришедшей во вражеский стан и предупредившей сына, что ему придется пролить ее кровь, прежде чем он одержит победу. Кориолан снял осаду, расплатившись за это жизнью.
Общий смысл поэмы заключался в осуждении героя-индивидуалиста, оторвавшегося от своего народа, и в утверждении общественного, патриотического начала над узколичным, эгоистическим. Подобный ход мысли роднит поэму с традициями декабристской поэзии.
Хотя главный герой — изменник и заклятый враг родины, едва не погубивший ее, обрисован он был Полежаевым с нескрываемой симпатией. Осуждение героя-индивидуалиста, противопоставившего себя народу и понесшего заслуженную кару, — эта декабристская по видимости идея у Полежаева скрещивается с другой, встречной идеей, придавшей своеобразное звучание произведению.
В поэме победоносный военачальник, не раз проливавший кровь за отчизну, ложно обвинен в притязаниях на верховную власть. Объясняя предательство героя черной неблагодарностью народа, его легковерием, склонностью к смуте и бунтам, Полежаев тем самым оправдывает Кориолана, ибо, очевидно, не заслуживал преданности тот народ, который вовсе не умеет ценить подвиги своих доблестных сынов. Трагедия Кориолана в том, что до поры до времени он не осознает до конца истинного смысла своих агрессивных деяний. Народ побеждает грозного витязя не превосходством военной мощи, а тем, что открывает его «слабое» место — преданную любовь к матери, лишь временно заслоненную чувством мести. Пробудившись с неожиданной для самого Кориолана силой, эта любовь сметает его ожесточение против соотечественников, но с обретенным просветлением духа он уже не может начать новую жизнь: оставаясь в полнейшей изоляции между двумя враждующими народами, он обрекает себя на неминуемую гибель.
Примечательно, что преображение героя совершается не только в результате свидания с матерью, но и при виде сопровождавшего ее «сонма» молодых римлянок, взывавших к Кориолану о пощаде с мольбами и слезами. Как всегда у Полежаева, его герой-отщепенец более всего восприимчив к коллективным эмоциям. Нежность, кротость, беззащитность этих женщин окончательно порабощают сердце Кориолана.
В легендарной истории знаменитого римского патриция Полежаев прочел свою собственную трагедию: рождение внутри себя нового человека, взалкавшего преданной любви к женщине и отвергаемого жизнью вследствие запоздалого характера этого возрождения.
Потребность зашифровать свои переживания, передать их в форме исторического предания (хотя бы и псевдоисторического) свидетельствовала о тяге поэта к художественному перевоплощению. Подобная же тенденция обнаруживается и в лирике Полежаева этих лет. Примечательно, например, что стихотворения типа авторского монолога были потеснены стихотворениями иного склада с «объективными» сюжетными ситуациями («Окно», «Баю-баюшки-баю», «Эндимион», «Из VIII главы Иоанна», «Султан» и другие).
Последний период литературного пути Полежаева, начавшийся сборником «Кальян», отличает утрата третьего мира творчества поэта, причем романтическая струя теперь вливается в жанр романтической поэмы («Видение Брута», «Кориолан») а бытописание — в лирические стихи («Белая ночь», «Напрасное подозрение», «Картина», «Глаза» и другие).
Позднее творчество Полежаева являет любопытную параллель поэзии Лермонтова. В русле субъективно-автобиографической тематики оно тоже развивается под знаком отказа от эмоциональной взвинченности и душевного надрыва. Подтверждением сказанному может служить «Отрывок из письма к А. П. Л<озовском>у». Это одно из последних произведений Полежаева поражает каким-то самоотречением и шутливостью в изображении своего угасания. Самое впечатляющее место в стихотворении — «монолог» чахотки, в котором жуткая «избранница» поэта вещает ему хриплым голосом о своей неизменной верности.
Если в «Отрывке из письма» высокая трагическая тема подается в сниженной простонародно-разговорной манере, то в повести «Царь охоты» (1837) о буднях усадебного помещичьего быта и курьезных неудачах компании охотников поэт рассказывает «оглушающим» языком романтической патетики. «Царь охоты» — любопытная трансформация почти утраченного в 30-е годы жанра ироикомической поэмы, возвышенным фоном которой служит у Полежаева, вопреки традиции, не героическая поэма античности или классицизма, а романтическая тираноборческая поэма с характерными для нее остродраматическими мотивами зависти, соперничества, борьбы с деспотом, междоусобий, пророчества, визионерства и т. п. Структурные особенности «Царя охоты» позволяют с равным основанием рассматривать его и как жанровую пародию на романтическую поэму с кровавой развязкой. Есть в этом произведении и явные признаки самопародирования. Например, в четвертой главе содержится намек на конкретную «римскую» тему, ранее затронутую поэтом в «Видении Брута».
В последние два года жизни свои новые произведения Полежаев пытался издавать небольшими книжками, но цензура запрещала их одну за другой, в частности и собственноручно переписанный поэтом сборник «Часы выздоровления» (1837).
12 декабря 1837 года Полежаев наконец был произведен в офицеры. Но этим «повышением» ему не пришлось воспользоваться. Уже с 25 сентября он в безнадежном состоянии находился в московском военном госпитале. Его ослабевший организм не смог более сопротивляться чахотке. 16 января 1838 года Александр Полежаев погиб.
9
В истории вольной русской поэзии прошлого века творчество Полежаева представляет собой одно из важнейших ее ответвлений. В эпоху, когда боевой дух гражданской поэзии заметно сник, именно Полежаев влил новую жизнь в традиции свободолюбивой поэзии. В полной мере его роль противника самодержавия Николая I была установлена лишь в советское время, чему в немалой степени способствовало обнаружение в архивах потаенных стихов поэта, а также публикация подлинных текстов его произведений, из которых некоторые вплоть до октября 1917 года печатались с цензурными изъятиями и вариантами.
Со временем в нашем литературоведении возникла инерция истолкования поэзии Полежаева как исключительно политической. Односторонность этого подхода сказалась в забвении целых пластов творчества поэта, в произвольных домыслах и беспочвенных выводах.
Между тем поэзия Полежаева давно заслуживает того, чтоб были изучены и другие ее стороны, чтобы наконец она была осмыслена как самобытное явление искусства.
Начав свой литературный путь с полемического подражания Пушкину (в «Сашке»), Полежаев в конце его написал пространную панегирическую эпитафию — «Венок на гроб Пушкина» — доказательство преклонения автора перед гением покойного поэта. От себя лично и как будто от лица собратьев по ремеслу Полежаев делает такое признание: «Не всегда ли безотчетно, Добровольно и охотно, Покорялись мы ему?». Нет сомнения, что без Пушкина русская литература не имела бы Полежаева. Однако воздействие творца «Онегина» на Полежаева, за исключением явных и довольно многочисленных цитат из его сочинений, не поддается определению. Парадокс заключается в том, что почти все, вышедшее из-под пера Полежаева, отстояло от школы «гармонической точности» Пушкина неизмеримо дальше, чем у других поэтов, внесших значительный вклад в поэтическую культуру эпохи.
Первый из критиков, всерьез заговоривший о Полежаеве и создавший ему известность в литературе, Белинский в своей итоговой статье о поэте (1842 года) показывает его преимущества над видными мастерами пушкинской эпохи. Он отмечает «необыкновенную силу чувства» и «необыкновенную силу сжатого выражения», присущие именно Полежаеву. Оценивая его стихи, критик все же руководствовался теми художественными нормами, которые были выработаны корифеями современной поэзии, прежде всего Пушкиным. Многие произведения Полежаева не отвечали этим высоким критериям. Главная беда поэта, полагал Белинский, в том, что, оказавшись вне интеллектуальных и нравственных исканий образованного общества, он не овладел мыслью и «остановился на одном чувстве». В результате сила чувства, «не управляемая браздами разума», сказалась и на художественной разлаженности целого ряда произведений поэта, которые Белинский называет «смесью прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным».[38] Все это далеко уводило Полежаева от господствующих традиций, созданных «светилами» современной поэзии. Критик заканчивал свою статью сравнением Полежаева с «беззаконной кометой», внезапно вторгнувшейся «в круг расчисленных светил»[39] (под «светилами» подразумевались Пушкин и виднейшие поэты его эпохи).
Белинский исходил из верного положения о том, что недостатки таланта Полежаева — продолжение его достоинств. Правда, эти достоинства он в общем свел к «необыкновенной силе чувства», тогда как разговор о слабых сторонах творчества поэта занял гораздо большее место, и это притом, что Полежаев был провозглашен в статье одним из самых замечательных поэтов своего времени. Причина тому — нормативный характер эстетических критериев Белинского. Так, например, он отрицательно оценивал «неопределенность созерцания» Полежаева, хотя она далеко не всегда губительна для поэзии, не говоря уже о том, что «неопределенность созерцания» — законное свойство поэтического творчества, между прочим, пленяющее и таинственной неразгаданностью своих картин, образов и часто передающееся методом художественного абстрагирования, столь характерным для романтического искусства и для Полежаева, в частности. В конце концов, без «неопределенности созерцания» не было бы «Песни погибающего пловца», «Провидения», «Цыганки», которыми так восхищался Белинский, не было бы и возвышенного мятежного героя полежаевской поэзии, чей трагизм в немалой степени усилен ощущением потерянности в огромном — без берегов и устоев — коварно изменчивом и оборотническом мире.
Понимание своего предназначения, места в жизни и своих возможностей часто служит цементирующей основой личности, определяющей ее характер, линию поведения и обеспечивающей известное равновесие ее в действительности. Абстрактность и разорванность эмоционально-аффектированного мышления Полежаева, неразрешимая конфликтность его сознания, отразившиеся в его творчестве, привели к довольно интересному результату и позволили поэту сказать часть истины о человеческой жизни, до него никем не высказанной.
Незыблемым устоем поэтической культуры XIX века была вера в единство личности — не того плоского единства, которое сложилось при классицизме и которое Пушкин проиллюстрировал известной фразой («У Мольера Скупой скуп — и только»), а того, которое предполагало многомерность литературных героев со всеми их разнообразными качествами. Поэзия Полежаева показывает иное: личность может быть нетождественной себе, ей присущи многоликость, текучесть, диффузность. Это открытие Полежаева отчасти сближает его с Лермонтовым, который пришел к нему своим путем, путем раскрытия «диалектики души». Поэзия XIX века в сущности прошла мимо этого феномена. Зато в прозе (прежде всего у Достоевского, он нашел наиболее широкое и углубленное отражение.
Далее, Полежаев показал, что личность, попавшая в многолюдный коллектив или даже толпу, может растерять свою индивидуальность или, выражаясь словами Жюля Ромена, «человек в толпе как бы заново рождается, причем неизвестно даже, представляет ли это существо отдельную личность».[40]
И еще показал Полежаев одну важную истину, в полной мере ставшую азбучной в послеоктябрьской поэзии: судьба отдельной личности не может быть познана в отрыве от жизнедеятельности масс.
Не кто иной, как Белинский заметил, что стихи Полежаева представляют собой поэтическую исповедь автора. Впрочем, сам критик не придал особого значения этому наблюдению. Между тем построение творчества в виде духовной биографии автора следует поставить в заслугу поэту, имевшему своим предшественником такого выдающегося мастера романтической поэзии, как Жуковский. Но главное в лирической исповеди Жуковского — ее интимное содержание — глубоко запрятано в подтекст его стихов и как бы растворено в наполняющей их эмоциональной атмосфере. Лирическая исповедь Полежаева с ее чрезвычайно активным авторским «я» достигла достаточно полного развития и ввиду своей откровенности и значительного разнообразия переживаний, что позволяет видеть в нем ближайшего предшественника Лермонтова.[41]
Ни в 1830-е, ни в 1840-е годы еще не было ясно, что за формой лирической исповеди большое будущее, в чем последующий опыт развития поэзии, особенно в XX столетии, убеждает с неоспоримой очевидностью. Будущее это было подготовлено глубочайшим интересом культурной общественности страны к индивидуальному миру духовно обогащенной личности, не подвластной процессам обезличения и стандартизации человека, и стремлением такой личности выразить свое внутреннее «я» средствами поэтического искусства. В этом, разумеется, не было никакого ущерба для поэзии, ибо в индивидуальности большого поэта всегда открывается индивидуальность его эпохи.
Влечение к духовной самореализации в ряде случаев — в силу избыточной субъективности авторского сознания и заботы о нескованном его претворении — не могло не противостоять привившимся традициям и нормам поэзии, а порой эта потребность вела к их ломке, даже к выходу за пределы искусства — вплоть до отречения от красоты формы и художественной логики образов.
Пример Полежаева, одного из основателей исповеднической поэзии, в этом отношении более чем показателен. Оценивая его наследие в исторической перспективе, мы вслед за Белинским не можем не признать, что творчество поэта отмечено резкими перепадами в уровне художественного мастерства, что лучшее из написанного им окружено вещами далеко не безупречными и просто слабыми. Потому Белинский настаивал на том, чтобы стихи Полежаева издавались с очень строгим отбором, с отсечением «балласта», дабы не повредить его писательской репутации. Действительно, мало найдется поэтов XIX века, лучшая часть творчества которых имела бы столь распространенную периферию. Тем не менее эта периферия составляет тот необходимый контекст, без которого не могут быть правильно поняты ни шедевры Полежаева, ни мир (точнее: миры) его творчества.
Стихотворное наследие Полежаева со всей своей разросшейся периферией — в высшей степени любопытное историко-литературное явление, обнажающее важнейшие социально-психологические стимулы и корни исповедальной поэзии. Суть поэзии Полежаева — самоутверждение личности автора в борьбе со всевозможными видами ее вытеснения из жизни — как внешними (социальное принуждение, обезличение, насильственная изоляция, угроза смертельного наказания), так и внутренними (аскетическая подавленность, ослабленное чувство бытия, одиночество, ожидание близкой смерти и полного уничтожения своего «я», неспособность привязаться к какому-либо положительному объекту или цели и т. д.). Поэт или давал отпор враждебным ему силам отчуждения, или освобождался от своих внутренних недугов тем, что выражал их в стихах, или спасался от мучительных состояний, погружаясь в поток «живой жизни» — в быт, причем погружался иной раз до такой степени элементарно, что принижал некоторые пробы своего пера до уровня явлений быта («Новодевичий монастырь», «Рассказ Кузьмы», отчасти «Сашка», «Нечто о двух братьях, князьях Львовых» и другие). Вместе с тем поэзия была для Полежаева и средством воссоединения разрозненных осколков своего «я», кладовой памяти, хранившей следы его прикосновения к жизни. Такие стихи зачастую превращались в прямой разговор с современниками и потомками как бы в расчете на их сочувствие, помощь и прощение своих «грехов».
Таким образом, в наследии Полежаева с предельной ясностью просматривается то, что называется «человеческим документом», причем «документом» в самом емком смысле этого слова. Не удивительно, что в наследии этом мы обнаружим больше человеческой исповеди, чем способно вместить в себя искусство поэзии.
Сам Полежаев не заблуждался насчет характера своего дарования: он знал, что может быть настоящим поэтом, но может писать и «гадкие стихи» («К друзьям»), от которых не собирался отказываться, знал, что ему не избавиться от искушения писать «для младенческой забавы», а «не для славы» и т. п. Еще он считал, что в творчестве важнее всего быть самим собой, то есть не приносить в жертву художественности неприкрашенную правду своей внутренней и внешней жизни. Искренность он даже противопоставлял изяществу формы и отделке стиха. Обращаясь к Лозовскому («Другу моему А. П. Л<озовскому>»), он выражал надежду, что тот оценит «сердце выше слов» — сердце не художника, а человека Александра Полежаева.
Как не вспомнить тут поэта XX века Марину Цветаеву, которая тоже различала в стихах «дар души» и «дар глагола». И, кстати говоря, Цветаева, чья поэзия также представляет собой род своеобразной исповеди, была убеждена, что путь истинных поэтов лежит в стороне от рационалистической обдуманности исполнения, от причинности дискурсивного мышления и сделанной красивости, что задача поэта — не утешать, а тревожить и потрясать читательское воображение:
……………… путь комет — Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности — вот связь его. Кверх лбом — Отчаятесь! Поэтовы затменья Не предугаданы календарем… …Поэтов путь: жжя, а не согревая, Рвя, а не взращивая — взрыв и взлом — Твоя стезя, гривастая, кривая, Не предугадана календарем! («Поэт», 1923)Так через весь XIX век протягивается нить от поэта пушкинской эпохи, одинокой «кометы в кругу расчисленном светил», к одному из крупнейших поэтов XX столетия.
В. Киселев-СергенинСТИХОТВОРЕНИЯ
2. Непостоянство
Он удалился, лицемерный, Священным клятвам изменил, И эхо вторит: легковерный! Он Нину разлюбил! Он удалился! Могу ли я, в моей ли власти Злодея милого забыть? Крушись, терзайся, жертва страсти! Удел твой — слезы лить: Он удалился! В какой пустыне отдаленной, В какой неведомой стране Сокрою стыд любви презренной? Везде всё скажет мне: Он удалился! Одна, чужда людей и мира, При томной песне соловья, При легком веянье зефира Невольно вспомню я: Он удалился! Он удалился — всё свершилось! Минувших дней не возвратить! Как призрак счастие сокрылось… Зачем мне больше жить? Он удалился! <1825>3. Воспоминание
Исчезли, исчезли веселые дни, Как быстрые воды умчались. Увы! Но в душе охладелой они С прискорбною думой остались. Как своды лазурного неба мрачит, Облекшися в бурю, ненастье, Так грусть мое сердце и дух тяготит. Полина, отдай мое счастье! Полина! О боги! Почто я узрел Твои красоты несравненны? Любовь без надежды — мой грозный удел. Безумец слепой, дерзновенный, Чтоб видеть улыбку на милых устах, Я жертвовал каждой минутой И пил не блаженство в прелестных очах, Но яд смертоносный и лютый. Невольно кипела горячая кровь В мечтаниях нежных и страстных, Невольно в груди волновалась любовь И пламя желаний опасных. Приятное иго почувствовал я, В душе родилась перемена, Исчезла свобода, подруга моя, Не мог избежать я от плена. Но что, о прекрасная, сталось со мной — Волшебная прелестей сила! — Когда тебя обнял я пылкой рукой, Когда ты, мой друг, приклонила На перси лилейные робко главу И в страсти взаимной призналась? И всё совершилось… Почто ж я живу? Минута любви миновалась! Далёко, Полина, далёко оно, Восторгов живых упоенье; Быть может, навек и навек мне одно В награду осталось мученье… Исчезли, исчезли веселые дни, Как быстрые воды умчались. Увы! Но в душе охладелой они С прискорбною думой остались. <1825>4. Любовь
Свершилось Лилете Четырнадцать лет; Милее на свете Красавицы нет. Улыбкою радость И счастье дари́т; Но счастия сладость Лилеты бежит. Не лестны унылой Толпы женихов, Не радостны милой Веселья пиров. В кругу ли бывает Подруг молодых — И томность сияет В очах голубых. Одна ли в приятном Забвенье она — Везде непонятным Желаньем полна. В природе прекрасной Чего-то ей нет, Какой-то неясный Ей мнится предмет: Невольная скука Девицу крушит И тайная мука Волнует, томит. Ах, юные лета! Ах, пылкая кровь! Лилета, Лилета! Ведь это — любовь. <1825>5. Новая беда
Беда вам, попадьи, поповичи, поповны! Попались вы под суд и причет весь церковный! За что ж? За чепчики, за блонды, кружева, За то, что и у вас завита голова, За то, что ходите вы в шубах и салопах, Не в длинных саванах, а в нынешних капотах, За то, что носите с мирскими наряду Одежды светлые себе лишь на беду. А ваши дочери от барынь не отстали — В корсетах стянуты, турецки носят шали, Вы стали их учить искусству танцевать, Знакомить с музыкой, французский вздор болтать. К чему отличное давать им воспитанье? Внушили б им любить свое духовно званье. К чему их вывозить на балы, на пиры? Учили б их варить кутью, печь просвиры. Коль правду вам сказать, вы, матери, не правы, Что глупой модою лишь портите их нравы. Что пользы? Вот они, пускаясь в шумный мир, Глядят уж более на фрак или мундир Не оттого ль, что их по моде воспитали, А грамоте учить славянской перестали? Бывало, знали ль вы, что значит мода, вкус? А нынче шьют на вас иль немец, иль француз. Бывало, в простоте, в безмолвии вы жили, А ныне стали знать мазурку и кадрили. Ну, право, тяжкий грех, оставьте этот вздор, Смотрите, вот на вас составлен уж собор. Вот скоро Фотий сам с вас мерку нову снимет, Нарядит в кофты всех, а лишнее всё скинет. Вот скоро — дайте лишь собрать владыкам ум — Они вам выкроят уродливый костюм! Задача им дана, зарылись все в архивы. В пыли отцы, в поту! Вот как трудолюбивы: Один забрался в даль под Авраамов век Совета требовать от матушек Ревекк, Другой перечитал обряды назореев, Исчерпал Флавия о древностях евреев, Иной всей Греции костюмы перебрал, Другой славянские уборы отыскал. Собрали образцы, открыли заседанье И мнят, какое ж дать поповнам одеянье, Какое — попадьям, какое — детям их. Решите же, отцы! Но спор возник у них: Столь важное для всех, столь чрезвычайно дело Возможно ль с точностью определить так смело? Без споров обойтись отцам нельзя никак — Иначе попадут в грех тяжкий и просак. О чем же этот спор? Предмет его преважный: Ходить ли попадьям в материи бумажной, Иметь ли шелковы на головах платки, Носить ли на ногах Козловы башмаки? Чтоб роскошь прекратить, столь чуждую их лицам, Нельзя ли обратить их к древним власяницам, А чтоб не тратиться по лавкам, по швеям, Не дать ли им покров пустынный, сродный нам? Нет нужды, что они в нем будут как шутихи, Зато узнает всяк, что это не купчихи, Не модны барыни, а лик церковных жен. Беда вам, матушки, дождались перемен! Но успокойтесь, страх велик лишь издали бывает: Вас Шаликов своей улыбкой ободряет. «Молчите, — говорит, — я сам войду в синод, Представлю свой журнал, и, верно, в новый год Повеет новая приятная погода Для вашей участи и моего дохода. Как ни кроить убор на вас святым отцам, Не быть портными им, коль мысли я не дам». 1825ГЕНИЙ
Кто сей блестящий серафим,
Одетый облаком лазури,
Лучом струистым огневым,
Быстрее молнии и бури
Парящий гордо к небесам?..
Я зрел: возникнувши из праха,
В укор судьбе, в укор векам,
Он разорвал оковы страха,
Удел ничтожный бытия,
Он бросил взор негодованья
На сон природы, на себя,
На омертвелые созданья.
«Я жив, — он рек, — я человек,
Я неразрывен с небесами!»
И глубь эфирную рассек
Одушевленными крылами.
Се он, божественный, летит,
Душевных сил и славы полный,
И под собой с улыбкой зрит
И твердь и океанов волны.
Уже он там, достиг небес,
Мелькнул незрим в дали туманной,
И легкий след его исчез,
Как ветр долин благоуханный,
Как метеор во тьме ночной.
Как сон от дневных впечатлений…
Кто ж он, сей странник неземной?
Великий ум, блестящий гений!
Раздайся, вечность, предо мной!
Покровы мрачные, спадите!
И в след за истиной святой,
Душа и разум мой, парите!
О гений мира и любви,
Первоначальный жизни датель,
Не ты ли неба и земли
Непостижимый есть создатель?
Не ты ли радужным перстом
Извлек вселенную из бездны,
Не ты ль в пространстве голубом
Рассеял ночь и день подзвездный.
Не ты ль Гармонию низвел
На безобразные атомы
И в хор пленительный привел
Дыханья малые и громы,
Чья невидимая рука
Могла ничто и всё устроить:
И смертного и червяка
Создать, взрастить и успокоить?
Кто есть начало и конец
Непостижимых устроений,
Ты добродетели отец,
Ты правота, могущий Гений.
О, дел бессмертных красота!
Венец премудрости глубокой.
Святой дар неба — правота,
Великих душ удел высокой.
В какой стране, в каких веках
Ты не была превозносимой?
В каких чувствительных сердцах
Ты не была боготворимой!
Надежду, счастье с тишиной,
Покой — отраду, мир приятный —
Всё, всё ты сыплешь под луной
Твоей рукою благодатной.
Пускай бестрепетный герой,
В кровавых битвах знаменитый,
Увенчан звучною молвой
И меч свой, лавром перевитый,
Во храм бессмертия несет,
Когда он чужд был сожаленья,
Что Правота произнесет?
Над ним достойное решенье:
«Герой! Повергни меч твой в прах!..»
Пускай вельможа горделивый,
Имея власть царя в руках,
Гнетет ярмом несправедливым
Пред ним трепещущий народ,
И сей, низринутый во прахе,
Его отцом своим зовет,
Окамененья в рабском страхе…
Раздайся, Правды приговор!
«Он был Злодей», — речет потомство,
И вечный, гибельный позор
Накажет лесть и вероломство.
Пускай блестящий лжемудрец
Своею славою надменной
Присвоит сам себе венец
К стыду обманутой вселенной.
«Ты — лживый гений!» —
Правота Ему речет, как глас громовый,
И где твой блеск и красота,
Венец лжегения лавровый?
Так, божий дар, ты возгремишь
Умам кичливым в наказанье,
И ложь и злобу разразишь.
Так, правда — бога достоянье!
Восторг в груди моей кипит,
Я полн возвышенных мечтаний,
Творец, твой дух со мною спит,
Я исполин твоих созданий!
1825
6. Ночь
Умолкло всё вокруг меня, Природа в сладостном покое, Едва блестит светило дня, В туманах небо голубое. Печальной думой удручен, Я не вкушу отрады ночи, И не сомкнет приятный сон Слезой увлаженные очи. Как жаждет капли дождевой Цветок, увянувший от зноя, Так жажду, мучимый тоской, Сего желанного покоя. Мальвина, радость прежних дней! Мальвина, друг мой несравненный! Он жив еще в душе моей, Твой образ милый, незабвенный. Так, всюду зрю его черты: В луне, задумчивой и томной, В порыве пламенной мечты, В виденьях ночи благотворной. Твоя невидимая тень Летает тайно надо мною; Я зрю ее, но зрю как день За этой мрачной пеленою… Я с ней — и от нее далек! И легкий ветер из долины Или журчащий ручеек — Мне голос сладостный Мальвины! Я с ней — и блеска сих очей, На мне покоившихся страстно, В сиянье радужных лучей Ищу в замену я напрасно. Я с ней — и милые уста Целую в розе ароматной; Я с ней и нет — и всё мечта, И пылких чувств обман приятный! Как светозарная звезда Мальвина в мире появилась, Пленила мир — и навсегда Звездой падучею сокрылась. Мальвины нет! Исчезли с ней Любви, надежд очарованье, И скорбной участи моей Одна отрада: вспоминанье! <1826>7. Вечерняя заря
Я встречаю зарю И печально смотрю, Как кропинки дождя, По эфиру слетя, Благотворно живят Попираемый прах, И кипят и блестят В серебристых звездах На увядших листах Пожелтевших лугов. Сила горней росы, Как божественный зов, Их младые красы И крепит и растит. Что ж, кропинки дождя, Ваш бальзам не живит Моего бытия? Что ж в вечерней тиши, Как приятный обман, Не исцелит он ран Охладелой души? Ах, не цвет полевой Жжет полдневной порой Разрушительный зной,— Сокрушает тоска Молодого певца, Как в земле мертвеца Гробовая доска… Я увял, и увял Навсегда, навсегда! И блаженства не знал Никогда, никогда! И я жил, но я жил На погибель свою… Буйной жизнью убил Я надежду мою… Не расцвел — и отцвел В утре пасмурных дней; Что любил, в том нашел Гибель жизни моей. Изменила судьба… Навсегда решена С самовластьем борьба, И родная страна Палачу отдана. Дух уныл, в сердце кровь От тоски замерла; Мир души погребла К шумной воле любовь… Не воскреснет она! Я надежду имел На испытных друзей, Но их рой отлетел При невзгоде моей. Всем постылый, чужой, Никого не любя, В мире странствую я, Как вампир гробовой!.. Мне противно смотреть На блаженство других И в мучениях злых Не сгораючи тлеть… Не кропите ж меня Вы, росинки дождя: Я не цвет полевой, Не губительный зной Пролетел надо мной. Я увял, и увял Навсегда, навсегда! И блаженства не знал Никогда, никогда! 18268. Четыре нации
1
Британский лорд Свободой горд — Он гражданин, Он верный сын Родной земли. Ни к<ороли>, Ни происк п<ап> Кровавых лап На смельчака Исподтишка Не занесут. Как новый Брут — Он носит меч, Чтоб когти сечь.2
Француз — дитя, Он вам шутя Разрушит трон И даст закон; Он царь и раб, Могущ и слаб, Самолюбив, Нетерпелив. Он быстр как взор И пуст как вздор. И удивит, И насмешит.3
Германец смел, Но переспел В котле ума; Он как чума Соседних стран, Мертвецки пьян, Сам в колпаке, Нос в табаке, Сидеть готов Хоть пять веков Над кучей книг, Кусать язык И проклинать Отца и мать Над парой строк Халдейских числ, Которых смысл Понять не мог.4
В <России> чтут <Царя> и к<нут>; В ней <царь> с к<нутом>, Как п<оп> с к<рестом>: Он им живет, И ест и пьет. А <русаки> Как дураки, Разиня рот, Во весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, Без дальних слов И ночь и день, Пока не лень: Чем больше бьют, Тем больше жнут, Что вилы в бок, То сена клок! А без побой Вся Русь хоть вой — И упадет, И пропадет. 18279. Валтасар Подражание V главе пророка Даниила
Царь на троне сидит; Перед ним и за ним С раболепством немым Ряд сатрапов стоит. Драгоценный чертог И блестит и горит, И земной полубог Пир устроить велит. Золотая волна Дорогого вина Нежит чувства и кровь; Звуки лир, юных дев Сладострастный напев Возжигают любовь. Упоен, восхищен, Царь на троне сидит — И торжественный трон И блестит и горит… Вдруг неведомый страх У царя на челе, И унынье в очах, Обращенных к стене. Умолкает звук лир И веселых речей, И расстроенный пир Видит (ужас очей!): Огневая рука Исполинским перстом На стене пред царем Начертала слова!.. И никто из мужей, И царевых гостей, И искусных волхвов Силы огненных слов Изъяснить не возмог. И земной полубог Омрачился тоской… И еврей молодой К Валтасару предстал И слова прочитал: «Мани, фекел, фарес! — Вот слова на стене: Волю бога небес Возвещают оне. Мани значит: монарх, Кончил царствовать ты! Град у персов в руках — Смысл середней черты; Фарес — третье — гласит: Ныне будешь убит!..» Рек — исчез… Изумлен, Царь не верит мечте, Но чертог окружен, И… он мертв на щите!.. Между 1826 и 182810. Ренегат
Кто любит негу чувств, блаженство сладострастья И не парит в края азийские душой? Кто пылкий юноша, который в мире счастья Не жаждет век утратить молодой? Пусть он летит туда, чалмою крест обменит И населит красой блестящий свой гарем! Там жизни радость он познает и оценит, И снова обретет потерянный эдем! Там пир для чувств и ока! Красавицы Востока, Одна другой милей, Одна другой резвей, Послушные рабыни, Умрут с ним каждый миг! С душой полубогини В восторгах огневых Душа его сольется, Заснет — и вновь проснется, Чтоб снова утонуть В пучине наслажденья! Там пламенная грудь Манит воображенье; Там белая рука Влечет его слегка И страстно обнимает; Одна его лобзает, Горит и изнывает, Одна ему поет И сладостно дает. Прелестные подруги, Воздушны как зефир, Порхают, стелют круги, То вьются, то летят, То быстро станут в ряд. Меж тем в дыму кальяна На бархате дивана Влюбленный сибарит Роскошно возлежит И, взором пожирая Движенья гурий рая, Трепещет и кипит, И к деве сладострастья, Залог желанный счастья, Платок его летит… О, прочь с груди моей исчезни, знак священный, Отцов и дедов древний крест! Где пышная чалма, где Алкоран пророка? Когда в сады прелестного Востока Переселюсь от пагубных мне мест? Что мне… что Карателя блаженства моего? Приятней в ад цветущая дорога, Чем в рай, когда мне жить не можно для него. Погибло всё! Перуны грома, Гремите над моей главой! Очарования Содома, Я ваш до сени гробовой!.. Но где гарем, но где она, Моя прекрасная рабыня? Кто эта юная богиня, Полунагая как весна, Свежа, пленительна, статна, Резвится в бане ароматной? На чьи небесные красы С досадной ревностью власы Волною падают приятной? Чья сладострастная нога В воде играет благовонной И слишком вольная рука Шалит над тайной благосклонной? Кого усердная толпа Рабынь услужливых лелеет? Чья кровь горячая замлеет В объятьях девы огневой? Кто сей счастливец молодой?.. Ах, где я? Что со мною стало? Она надела покрывало, Ее ведут — она идет: Ее любовь на ложе ждет… Он дышит На томной груди, Он слышит Признанье в любви, Целует Блаженство свое, Милует И нежит ее, Лобзает Невинный цветок, Срывает И пьет ее вздох. Так жрец любви, игра страстей опасных, Пел наслажденья чуждых стран И оживлял в мечтаньях сладострастных Чувств очарованных обман. Он пел… Души его кумиры Носились тайно вкруг него, И в этот миг на все порфиры Не променял бы он гарема своего. Между 1826 и 182811. Цепи
Зачем игрой воображенья Картины счастья рисовать? Зачем душевные мученья Тоской опасной растравлять? Гонимый роком своенравным, Я вяну жертвою страстей И угнетен ярмом бесславным В цветущей юности моей!.. Я зрел: надежды луч прощальный Темнел и гаснул в небесах, И факел смерти погребальный С тех пор горит в моих очах! Любовь к прекрасному, природа, Младые девы и друзья, И ты, священная свобода,— Всё, всё погибло для меня! Без чувства жизни, без желаний, Как отвратительная тень, Влачу я цепь моих страданий И умираю ночь и день! Порою огнь души унылой Воспламеняется во мне, С снедающей меня могилой Борюсь как будто бы во сне! Стремлюсь в жару ожесточенья Мои оковы раздробить И жажду сладостного мщенья Живою кровью утолить! Уже рукой ожесточенной Берусь за пагубную сталь, Уже рассудок мой смущенный Забыл и горе и печаль!.. Готов!.. Но цепь порабощения Гремит на скованных ногах, И замирает сталь отмщенья В холодных, трепетных руках… Как раб испуганный, бездушный, Тогда кляну свой жребий я И вновь взираю равнодушно На цепи <нового цар>я. Между 1826 и 182812. Рок
Зари последний луч угас В природе усыпленной; Протяжно бьет полночный час На башне отдаленной. Уснули радость, и печаль, И все заботы света; Для всех таинственная даль Завесой тьмы одета. Всё спит… Один свирепый рок Чужд мира и покоя И столько ж страшен и жесток В тиши, как в вихре боя. Ни свежей юности красы, Ни блеск души прекрасной Не избегут его косы Нежданной и ужасной! Он любит жизни бурный шум, Как любят рев потока, Или как любит детский ум Игру калейдоскопа. Пред ним равны — рабы, цари; Он шутит над султаном, Равно как шучивал Али Янинский над фирманом. Он восхотел — и Крез избег Костра при грозном Кире, И Кир, уснув на лоне нег, Восстал в подземном мире; Велел — и Рима властелин Народный гладиатор, И Русь как кур передушил Ефрейтор-император. Между 1826 и 182813. «Притеснил мою свободу…»
Притеснил мою свободу Кривоногий штабс-солдат: В угождение уроду Я отправлен в каземат. И мечтает блинник сальный В черном сердце подлеца Скрыть под лапою нахальной Имя вольного певца. Но едва ль придется шуту Отыграться без стыда: Я — под спудом на минуту, Он — в болоте навсегда. 182814. <Узник>
Александру Петровичу Лозовскому
Plus tôt que je n’ai dû je reviens dans la lice; Mais tu le veux, amis! Ton bras m’a reveillé; c’est toi qui m’a dit: va! H<ugo>[42] Ты мне чужой — не с давних лет Знаком душе твоей поэт! Не симпати́я двух сердец Святого дружества венец В счастливой жизни нам вила И друг для друга родила. Быть может, раз сойтись с тобой Мне предназначено судьбой — И мы сошлись… Ты — в красоте Цветущих дней, я — в наготе Позорных уз… Добро иль зло Тебя к страдальцу привело, Боюсь понять… Под игом бед Мне подозрителен весь свет; Погибшей истины черты В глазах моих — одни мечты… Уму свирепому она И ненавистна и смешна! Быть может, ветреник младой, Смеясь над глупой добротой, Вменяя шалости в закон И быстрым чувством увлечен, Ты ложной жалостью хотел Смягчить ужасный мой удел Иль осмеять мою тоску; Быть может, лестью простаку Желал о прежнем вспомянуть И беспощадно обмануть… Но пусть, игралище страстей, Я буду куклой для людей, Пусть их коварства лютый яд В моей груди умножит ад… И ты не лучше их ничем… Не знаю сам, за что, зачем Я полюбил тебя… Твой взор Не есть несчастному укор. Твой голос, звук твоих речей Мне мил, как сладостный ручей… Так соловей в ночной тиши Поет для горестной души, Так Абадонне Уриил[43] Во тьме геенны говорил… Глаза печальные мои Слезу приязни и любви В твоих заметили очах… Ты любишь сам меня — но ах! Твое участие ко мне, Как легкий пепел на огне, На миг возникнет, оживет — И вместе с ветром пропадет. Я не виню тебя!.. Жесток Ко мне не ты, а злобный рок, И ты простишь в пылу страстей Обидной вольности моей… ………………………………………… Я снова узник и солдат!.. Вот тайный дар моих стихов… Проникни в силу этих слов… Прочти, коль вздумаешь, спиши И не забудь меня в глуши… Когда ж забудешь — бог с тобой, Но знай, что я навеки твой… Спасские казармы. 18281
Ты хочешь, друг, чтобы рука Времен прошедших чудака, Вооруженная пером, Черкнула снова кой о чем? Увы! Старинный жар стихов И след сатир и острых слов Исчезли в буйной голове, Как след дриады на траве Иль запах розы молодой Под недостойною пятой. Поэт пленительных страстей Сидит живой в когтях чертей, Атласных не поет И чуть по-волчьи не ревет… Броня сермяжная и штык — Удел того, кто был велик На поле перьев и чернил; Солдатский кивер осенил Главу, достойную венка… И Чайльд-Гарольдова тоска Лежит на сердце у того, Кто не боялся никого… Но на призывный дружный глас Отвечу я в последний раз, Еще до смерти согрешу — И лист бумаги испишу… Прочти его и согласись, Что если средства нет спастись От угнетенья и цепей, То жизнь страшнее ста смертей, И что свободный человек Свободно кончить должен век… ………………………………………………… ………………………………… опыт злой Завесу с глаз моих сорвал И ясно, ясно доказал, Что добродетель есть мечта, ………………………………… суета. Любовь и дружба — пара слов, А жалость — мщение врагов… Одно под солнцем есть добро: Неочиненное перо…2
В столице русских городов, Мо<щей>, мон<ахов> и попов, На славном Вале Земляном Стоит странноприимный дом; И рядом с ним стоит другой, Кругом обстроенный, большой. И этот дом известен нам, В Москве, под именем казарм; В казармах этих тьма людей И ночью множество На нарах с воинами спят, И веселятся, и шумят; И на огромном том дворе, Как будто в яме иль дыре, Издавна выдолблено дно, Иль гаубвахта, всё равно… И дна того на глубине Еще другое дно в стене, И называется тюрьма; В ней сырость вечная и тьма, И проблеск солнечных лучей Сквозь окна слабо светит в ней; Растреснутый кирпичный свод Едва-едва не упадет И не обрушится на пол, Который снизу, как Эол, Тлетворным воздухом несет И с самой вечности гниет… В тюрьме жертв на пять или шесть Ряд малых нар у печки есть. И десять удалых голов, <Царя> решительных врагов, На малых нарах тех сидят, И кандалы на них гремят… И каждый день повечеру, Ложася спать, и поутру В м<олитве> к г<осподу> Х<ристу> <Царя российского> в …… Они ссылают наподряд И все сл …… ему хотят, За то, что мастер он лихой За п<устяки> г<онять> скв<озь> с<трой>. И против нар вдоль по стене Доска, подобная скамье, На двух столпах утверждена. И на скамье той у окна, Броней сермяжною одет, Лежит вербованный поэт. Броня на нем, броня под ним, И всё одна и та же с ним, Как верный друг, всегда лежит, И согревает, и хранит; Кисет с негодным табаком И полновесным пятаком На необтесанном столе Лежат у узника в угле. Здесь триста шестьдесят пять дней В кругу Плутоновых людей Он смрадный воздух жизни пьет И <самовластие> клянет. Здесь он во цвете юных лет, Обезображен как скелет, С полуостриженной брадой, Томится лютою тоской… Он не живет уже умом — Душа и ум убиты в нем; Но, как бродячий автомат Или бесчувственный солдат, Штыком рожденный для штыка, Он дышит жизнью дурака: Два раза на день ест и пьет И долг природе отдает.3
Воспоминанья старины, Как соблазнительные сны, Его тревожат иногда; В забвенье горестном тогда Он воскресает бытием: Безумным, радостным огнем Тогда глаза его горят, И слезы крупные блестят, И, очарованный мечтой, Надежды жизни молодой Несчастный видит, ловит вновь. Опять — поэт, опять любовь К свободе, к миру в нем кипит! Он к ней стремится, он летит; Он полон милых сердцу дум… Но вдруг цепей железных шум Иль хохот глупый беглецов, Тюрьмы бессмысленных жильцов, Раздался в сводах роковых — И рой видений золотых, Как легкий утренний туман, Унес души его обман… Так жнец на пажити родной, Стрелой сраженный громовой, Внезапно падает во прах — И замер серп в его руках… Надежду, радость — всё взяла Молниеносная стрела!..4
О ты, который возведен Погибшей в<ольности> на трон, Или, простее говоря, О<соба> р<усского> ц<аря>! Коснется ль звук моих речей Твоих обманутых ушей? Узришь ли ты, прочтешь ли ты Сии правдивые черты?.. Поймешь ли ты, как мудрено Сказать в душе: всё решено! Как тяжело сказать уму: «Прости, мой ум, иди во тьму»; И как легко черкнуть перу: «Ц<арь> Н<иколай>. Б<ыть> по с<ему>». Поймешь ли ты, что твой народ Есть пышный сад, а ты — Ленотр, Что должен ты его беречь И ветви свежие не сечь… Поймешь ли ты, что ц<арский> долг Есть не душить, как лютый волк, По алчной прихоти своей Мильоны страждущих людей… Но что?.. К чему напрасный гнев, Он не сомкнет Молохов зев: Бессилен звук в моих устах, Как меч в заржавленных ножнах… И я в тюрьме… Ватага спит; Передо мной едва горит Фитиль в разбитом черепке; С ружьем в ослабленной руке, На грудь склонившись головой, У двери дремлет часовой; Вблизи усталый караул Глаза бессонные сомкнул. На гаубвахте тишина… Бог винограда, бог вина, Сын пьяный пьяного отца, Зачем приятный глас певца, В часы полуночных пиров, Не веселит твоих сынов? Зачем на лире золотой Перед волшебницей младой В восторге чувств он не гремит И бледный, пасмурный сидит Без возлияний и друзей В руках едва ль полулюдей… Не он ли свежесть ранних сил Тебе на жертву приносил Во дни беспечной старины? Не он ли розами весны Твой благодетельный покал Рукой покорной украшал? Свершилось!.. Нет его!.. Ударь Поблекшим тирсом в свой алтарь! Пролей вино из томных глаз! Твой жрец, твой верный жрец угас! Угас, как факел буйных дев, Исчез, как громкий их напев: «Эван, эвое, сильный Вакх!», Как разум, скучный на пирах!.. Вторый Н<ерон>, Ис<кариот>, У<дав> б<разильский> и Н<емврод> Его враждой своей почтил И, лобызая, удушил!5
Mais qu’importe? Accompli ta mission sacrée.[44]
Оставлен всеми, одинок, Как в море брошенный челнок В добычу яростной волне, Он увядает в тишине… ……………………………………… Участье верное друзей, Которых шумные рои, Под ложной маскою любви, Всегда готовы для услуг, Когда есть денежный сундук Или подобное тому,— Не в тягость более ему: Из ста знакомых щегольков, Большого света знатоков, Никто ошибкою к нему Не залетал еще в тюрьму… Да и прекрасно… Для чего? Там нет ни водки, ничего… Чутье животных, модный тон Или приличия закон — Вот тайна дружественных уз… А нежность сердца, тонкий вкус — Причина важная забыть Того, кто слезы должен лить: «Ах, как он жалок, cependant, C’était naguére un bon enfant»,[45]— Лепечет милый фанфарон, И долг приязни заплачён… И что пенять? Они умны, Их рассуждения верны; Так до́лжно было — наперед Судьба нам сделала расчет: Им наслаждение дано, А мне страданье суждено! И правы мрачный фаталист И всем довольный оптимист…<6>
Система звезд, прыжок сверчка, Движенье моря и смычка — Всё воля творческой руки… Иль вера в бога — пустяки? Сказать, что нет его, — смешно; Сказать, что есть он, — мудрено. Когда он есть, когда он — ум, Превыше гордых наших дум, Правдивый, вечный и благой, В себе живущий сам собой, Омега, альфа бытия,— Тогда он нам не судия: Возможно ль то ему судить, Что вздумал сам он сотворить? Свое творенье осудя, Он опровергнет сам себя!.. Твердить преданья старины, Что мы в делах своих вольны,— Есть перекорствовать уму И, значит, впасть в иную тьму… Его предведенье могло Моей свободы видеть зло — Он должен был из тьмы веков Воззвать ато́м мой для оков. Одно из двух: иль он желал, Чтобы невинно я страдал, Или слепой, свирепый рок В пучину бед меня завлек?.. Когда он видел, то хотел, Когда хотел, то повелел, Всё чрез него и от него, А заключенье из того: Когда я волен — он тиран, Когда я кукла — он болван.<7>
Так и забвение друзей. Оно не есть коварство змей; Так пусть же тягостной руки Меня снедающей тоски Не испытают на себе, В угодность ветреной судьбе; Страдалец давний, но не злой Постыдной зависти чертой Чужого счастья не смутит! ………………………………………… А ты, примерный человек, Души высокой образец, Мой благодетель и отец, О Струйский, можешь ли когда, Добычу гнева и стыда, Певца преступного простить?.. Неблагодарный из людей, Как погибающий злодей Перед секирой роковой, Теперь стою перед тобой!.. Мятежный век свой погубя, В слезах раскаянья тебя Я умоляю! ………………… Священным именем отца Хочу назвать тебя!.. Зову… И на покорную главу За преступления мои Прошу прощения любви! Прости!.. Прости!.. Моя вина Ужасной местью отмщена! …………………………………………8
Завеса вечности немой Упала с шумом предо мной… Я вижу ……………………………… ……………………………… мой стон Холодным ветром разнесен, Мой труп ……………………… Добыча вранов и червей …………………………………………… …………………………………………… И нет ни камня, ни к<реста>, Ни огородного шеста Над гробом узника тюрьмы — Жильца ничтожества и тьмы… 1828Ты хочешь, друг, чтобы рука…
1
Ты хочешь, друг, чтобы рука
Времен прошедших чудака,
Вооруженная пером,
Черкнула снова кой о чем?
Увы! Старинный жар стихов
И след сатир и острых слов
Исчезли в буйной голове,
Как след дриады на траве
Иль запах розы молодой
Под недостойною пятой.
Поэт пленительных страстей
Сидит живой в когтях чертей,
Атласных… не поет
И чуть по-волчьи не ревет…
Броня сермяжная и штык —
Удел того, кто был велик
На поле перьев и чернил;
Солдатский кивер осенил
Главу, достойную венка…
И Чальд-Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого…
Но на призывный дружный глас
Отвечу я в последний раз,
Еще до смерти согрешу —
И лист бумаги испишу…
Прочти его и согласись,
Что если средства нет спастись
От угнетенья и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей,
И что свободный человек
Свободно кончить должен век…
…………………………..
……………………..опыт злой
Завесу с глаз моих сорвал
И ясно, ясно доказал,
Что добродетель есть мечта,
……..суета
Любовь и дружба — пара слов,
А жалость — мщение врагов…
Одно под солнцем есть добро:
Неочиненное перо…
2
В столице русских городов,
Мо<щей>, мон<ахов> и попов,
На славном Вале Земляном
Стоит странноприимный дом;
И рядом с ним стоит другой,
Кругом обстроенный, большой.
И этот дом известен нам,
В Москве, под именем казарм;
В казармах этих тьма людей
И ночью множество блядей
На нарах с воинами спят,
И веселятся, и шумят;
И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гаубвахта, всё равно…
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;
В ней сырость вечная и тьма,
И проблеск солнечных лучей
Сквозь окна слабо светит в ней;
Растреснутый кирпичный свод
Едва-едва не упадет
И не обрушится на пол,
Который снизу, как Эол,
Тлетворным воздухом несет
И с самой вечности гниет…
В тюрьме жертв на пять или шесть
Ряд малых нар у печки есть.
И десять удалых голов,
<Царя> решительных врагов,
На малых нарах тех сидят,
И кандалы на них гремят…
И каждый день повечеру,
Ложася спать, и поутру
В м<олитве> к г<осподу> Х<ристу>
<Царя российского > в пизду
Они ссылают наподряд
И хуй сломать ему хотят,
За то, что мастер он лихой
За п < устяки > г < онять > скв < озь > с < трои >
И против нар вдоль по стене
Доска, подобная скамье,
На двух столпах утверждена.
И на скамье той у окна,
Броней сермяжною одет,
Лежит вербованный поэт.
Броня на нем, броня под ним,
И всё одна и та же с ним,
Как верный друг, всегда лежит,
И согревает, и хранит;
Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком
На необтесанном столе
Лежат у узника в угле.
Здесь триста шестьдесят пять дней
В кругу Плутоновых людей
Он смрадный воздух жизни пьет
И < самовластие > клянет.
Здесь он во цвете юных лет,
Обезображен как скелет,
С полуостриженной брадой,
Томится лютою тоской…
Он не живет уже умом —
Душа и ум убиты в нем;
Но, как бродячий автомат
Или бесчувственный солдат,
Штыком рожденный для штыка,
Он дышит жизнью дурака:
Два раза на день ест и пьет
И долг природе отдает.
3
Воспоминанья старины,
Как соблазнительные сны,
Его тревожат иногда;
В забвенье горестном тогда
Он воскресает бытием;
Безумным, радостным огнем
Тогда глаза его горят,
И слезы крупные блестят,
И, очарованный мечтой,
Надежды жизни молодой
Несчастный видит, ловит вновь.
Опять — поэт; опять любовь
К свободе, к миру в нем кипит!
Он к ней стремится, он летит;
Он полон милых сердцу дум..
Но вдруг цепей железных шум
Иль хохот глупый беглецов,
Тюрьмы бессмысленных жильцов,
Раздался в сводах роковых —
И рой видений золотых,
Как легкий утренний туман.
Унес души его обман…
Так жнец на пажити родной,
Стрелой сраженный громовой,
Внезапно падает во прах —
И замер серп в его руках…
Надежду, радость — всё взяла
Молниеносная стрела!..
4
О ты, который возведен
Погибшей в<ольности> на трон,
Или, простее говоря,
О<соба> р<усского> ц<аря>!
Коснется ль звук моих речей
Твоих обманутых ушей?
Узришь ли ты, прочтешь ли ты
Сии правдивые черты?..
Поймешь ли ты, как мудрено
Сказать в душе: все решено!
Как тяжело сказать уму:
«Прости, мой ум, иди во тьму»;
И как легко черкнуть перу:
«Ц<арь> Н<иколай>. Б<ыть> по с<ему>
Поймешь ли ты, что твой народ
Есть пышный сад, а ты — Ленотр,
Что должен ты его беречь
И ветви свежие не сечь…
Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
Есть не душить, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Мильоны страждущих людей…
Но что?.. К чему напрасный гнев,
Он не сомкнет Молохов зев:
Бессилен звук в моих устах,
Как меч в заржав ленных ножнах…
И я в тюрьме…
Ватага спит;
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке;
С ружьем в ослабленной руке,
На грудь склонившись головой,
У двери дремлет часовой;
Вблизи усталый караул
Глаза бессонные сомкнул.
На гаубвахте тишина…
Бог винограда, бог вина,
Сын пьяный пьяного отца,
Зачем приятный глас певца,
В часы полуночных пиров,
Не веселит твоих сынов?
Зачем на лире золотой
Перед волшебницей младой
В восторге чувств он не гремит
И бледный, пасмурный сидит
Без возлияний и друзей
В руках едва ль полулюдей…
Не он ли свежесть ранних сил
Тебе на жертву приносил
Во дни беспечной старины?
Не он ли розами весны
Твой благодетельный покал
Рукой покорной украшал? Свершилось!..
Нет его!.. Ударь
Поблекшим тирсом в свой алтарь!
Пролей вино из томных глаз!
Твой жрец, твой верный жрец угас!
Угас, как факел буйных дев,
Исчез, как громкий их напев:
«Эван, эвое, сильный Вакх!»,
Как разум, скучный на пирах!..
Вторый Н<ерон>, Ис<кариот>,
У<пырь> б<ездушный> и Н<емврод>
Его враждой своей почтил
И, лобызая, удушил!
5
Mais qu'importe?
Accomp ta mission sacree
Оставлен всеми, одинок,
Как в море брошенный челнок
В добычу яростной волне,
Он увядает в тишине…
Участье верное друзей,
Которых шумные рои,
Под ложной маскою любви,
Всегда готовы для услуг,
Когда есть денежный сундук
Или подобное тому,—
Не в тягость более ему,
Из ста знакомых щегольков,
Большого света знатоков,
Никто ошибкою к нему
Не залетал еще в тюрьму…
Да и прекрасно… Для чего?
Там нет ни водки, ничего…
Чутье животных, модный тон
Или приличия закон —
Вот тайна дружественных уз…
А нежность сердца, тонкий вкус —
Причина важная забыть
Того, кто слезы должен лить:
«Ах, как он жалок, cependant,
Cetait naguere un bon enfant»1,
Лепечет милый фанфарон,
И долг приязни заплачен…
И что пенять? Они умны,
Их рассуждения верны;
Так должно было — наперед
Судьба нам сделала расчет:
Им наслаждение дано,
А мне страданье суждено!
И правы мрачный фаталист
И всем довольный оптимист…
6
Система звезд, прыжок сверчка,
Движенье моря и смычка —
Всё воля творческой руки…
Иль вера в бога — пустяки?
Сказать, что нет его, — смешно;
Сказать, что есть он, — мудрено.
Когда он есть, когда он — ум,
Превыше гордых наших дум,
Правдивый, вечный и благой,
В себе живущий сам собой,
Омега, альфа бытия,
Тогда он нам не судия:
Возможно ль то ему судить.
Что вздумал сам он сотворить?
Свое творенье осудя,
Он опровергнет сам себя!..
Твердить преданья старины,
Что мы в делах своих вольны,—
Есть перекорствовать уму
И, значит, впасть в иную тьму…
Его предвиденье могло
Моей свободы видеть зло —
Он должен был из тьмы веков
Воззвать атом мой для оков.
Одно из двух: иль он желал,
Чтобы невинно я страдал,
Или слепой, свирепый рок
В пучину бед меня завлек?..
Когда он видел, то хотел,
Когда хотел, то повелел,
Всё чрез него и от него,
А заключенье из того:
Когда я волен — он тиран,
Когда я кукла — он болван.
7
Так и забвение друзей.
Оно не есть коварство змей;
Так пусть же тягостной руки
Меня снедающей тоски
Не испытают на себе,
В угодность ветреной судьбе;
Страдалец давний, но не злой
Постыдной зависти чертой
Чужого счастья не смутит!
…………………………….
А ты, примерный человек,
Души высокой образец,
Мой благодетель и отец.
О Струйский, можешь ли когда,
Добычу гнева и стыда.
Певца преступного простить?..
Неблагодарный из людей,
Как погибающий злодей
Перед секирой роковой,
Теперь стою перед тобой!..
Мятежный век свой погубя,
В слезах раскаянья тебя
Я умоляю!……..
Священным именем отца
Хочу назвать тебя!.. Зову…
И на покорную главу
За преступления мои
Прошу прощения любви!
Прости!.. Прости!.. Моя вина
Ужасной местью отмщена!
Завеса вечности немой
Упала с шумом предо мной…
Я вижу . . . . . . . . .
……. мой стон
Холодным ветром разнесен,
Мой труп ……..
Добыча вранов и червей
……………………………..
……………………………..
И нет ни камня, ни к<реста>,
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы…
1828
15. Песнь пленного ирокезца
Я умру! На позор палачам Беззащитное тело отдам! Равнодушно они Для забавы детей Отдирать от костей Будут жилы мои! Обругают, убьют И мой труп разорвут! Но стерплю! Не скажу ничего, Не наморщу чела моего! И, как дуб вековой, Неподвижный от стрел, Неподвижен и смел, Встречу миг роковой, И, как воин и муж, Перейду в страну душ. Перед сонмом теней воспою Я бесстрашную гибель мою. И рассказ мой пленит Их внимательный слух И воинственный дух Стариков оживит; И пройдет по устам Слава громким делам. И рекут они в голос один: «Ты достойный прапрадедов сын!» Совокупной толпой Мы на землю сойдем И в родных разольем Пыл вражды боевой; Победим, поразим И врагам отомстим! Я умру! На позор палачам Беззащитное тело отдам! Но, как дуб вековой, Неподвижный от стрел, Я недвижим и смел Встречу миг роковой! 182816. Песнь погибающего пловца
1
Вот мрачится Свод лазурный! Вот крути́тся Вихорь бурный! Ветр свистит, Гром гремит, Море стонет — Путь далек… Тонет, тонет Мой челнок!..2
Всё чернее Свод надзвездный, Всё страшнее Воют бездны! Глубь без дна! Смерть верна! Как заклятый Враг грозит, Вот девятый Вал бежит!..3
Горе, горе! Он настигнет: В шумном море Челн погибнет! Гроб готов!.. Треск громов Над пучиной Ярых вод Вздох пустынный Разнесет!..4
Дар заветный Провиденья, Гость приветный Наслажденья — Жизнь иль миг! Не привык Утешаться Я тобой — И расстаться Мне с мечтой!5
Сокровенный Сын природы, Неизменный Друг свободы,— С юных лет В море бед Я направил Быстрый бег И оставил Мирный брег!6
На равнинах Вод зеркальных, На пучинах Погребальных Я скользил; Я шутил Грозной влагой, Смертный вал Я отвагой Побеждал!..7
Как минутный Прах в эфире, Бесприютный Странник в мире, Одинок, Как челнок, Уз любови Я не знал, Жаждой крови Не сгорал!8
Парус белый Перелетный, Якорь смелый Беззаботный, Тусклый луч Из-за туч, Проблеск дали В тьме ночей — Заменяли Мне друзей!9
Что ж мне в жизни Безызвестной? Что в отчизне Повсеместной? Чем страшна Мне волна? Пусть настигнет С вечной мглой — И погибнет Труп живой!..10
Всё чернее Свод надзвездный, Всё страшнее Воют бездны! Ветр свистит, Гром гремит, Море стонет — Путь далек… Тонет, тонет Мой челнок! 1828?17. Ожесточенный
О, для чего судьба меня сгубила? Зачем из цепи бытия Меня навек природа исключила И страшно вживе умер я? Еще в груди моей бунтует пламень Неугасаемых страстей, А совесть, как врага заклятый камень, Гнетет отверженца людей! Еще мой взор, блуждающий, но быстрый, Порою к небу устремлен, А божества святой отрадной искры, Надежды с верой, я лишен! И дышит всё в создании любовью, И живы червь, и прах, и лист, А я, злодей, как Авелевой кровью Запечатлен! Я атеист! И вижу я, как горестный свидетель, Сиянье утренней звезды, И с каждым днем твердит мне добродетель: «Страшись, страшись готовой мзды!..» И грозен он, висящей казни голос, И стынет кровь во мне как лед, И на челе стоит невольно волос, И выступает градом пот! Бежал бы я в далекие пустыни, Презрел бы ужас гробовой! Душа кипит, но руки не рабыни Разбить сосуд свой роковой! И жизнь моя мучительнее ада, И мысль о смерти тяжела… А вечность… ах! она мне не награда — Я сын погибели и зла! Зачем же я возник, о Провиденье, Из тьмы веков перед тобой? О, обрати опять в уничтоженье Ато́м, караемый судьбой! Земля, раскрой несытую утробу, Горящей Этной протеки, И, бурный вихрь, тоску мою и злобу И память с пеплом развлеки! 1828?18. Осужденный
Нас было двое — брат и я… А. П<ушкин>1
Я осужден! К позорной казни Меня закон приговорил! Но я печальный мрак могил На плахе встречу без боязни,— Окончу дни мои, как жил.2
К чему раскаянье и слезы[46] Перед бесчувственной толпой, Когда назначено судьбой Мне слышать вопли и угрозы И гул проклятий за собой?3
Давно душой моей мятежной Какой-то демон овладел, И я зловещий свой удел, Неотразимый, неизбежный, В дали туманной усмотрел!..4
Не розы светлого Пафо́са, Не ласки гурий в тишине, Не искры яхонта в вине,— Но смерть, секира и колеса Всегда мне грезились во сне!5
Меня постигла дума эта И ознакомилась со мной, Как холод с южною весной, Или фантазия поэта С унылой северной луной!6
Мои утраченные годы Текли, как бурные ручьи, Которых мутные струи Не серебрят, а пенят воды На лоне илистой земли.7
Они рвались, они бежали К неверной цели без препон; Но быстрый бег остановлен, И мне размах холодной стали Готовит праведный закон.8
Взойдет она, взойдет, как прежде, Заутра ранняя звезда, Проснется неба красота,— Но я, я небу и надежде Скажу: «Простите навсегда!»9
Взгляну с улыбкою печальной На этот мир, на этот дом, Где я был с счастьем незнаком, Где я, как факел погребальный, Горел в безмолвии ночном;10
Где, может быть, суровой доле Я чем-то свыше обречен, Где я страстями заклеймен, Где чем-то свыше, поневоле Я был на время заключен;11
Где я… Но что?.. Толпа народа Уже кипит на площади́… Я слышу: «Узник, выходи!» Готов — иду!.. Прости, природа! Палач, на казнь меня веди!.. 1828?19. Живой мертвец
Кто видел образ мертвеца, Который демонскою силой, Враждуя с темною могилой, Живет и страждет без конца? В час полуночи молчаливой, При свете сумрачном луны, Из подземельной стороны Исходит призрак боязливый. Бледно, как саван роковой, Чело отверженца природы, И неестественной свободы Ужасен вид полуживой. Унылый, грустный он блуждает Вокруг жилища своего И — очарован — за него Переноситься не дерзает. Следы минувших, лучших дней Он видит в мысли быстротечной, Но мукой тяжкою и вечной Наказан в ярости своей. Проклятый небом раздраженным, Он не приемлется землей, И овладел мучитель злой Злодея прахом оскверненным. Вот мой удел! Игра страстей, Живой стою при дверях гроба, И скоро, скоро месть и злоба Навек уснут в груди моей! Кумиры счастья и свободы Не существуют для меня, И, член ненужный бытия, Не оскверню собой природы! Мне мир — пустыня, гроб — чертог! Сойду в него без сожаленья, И пусть за миг ожесточенья Самоубийцу судит бог! 182820. Провидение
Я погибал… Мой злобный гений Торжествовал!.. Отступник мнений Своих отцов, Враг утеснений, Как царь духов, В душе безбожной Надежды ложной Я не питал И из Эреба Мольбы на небо Не воссылал. Мольба и вера Для Люцифера Не созданы,— Гордыне смелой Они смешны. Злодей созрелый В виду смертей В когтях чертей — Всегда злодей. Порабощенье, Как зло за зло, Всегда влекло Ожесточенье. Окаменен, Как хладный камень, Ожесточен, Как серный пламень, Я погибал Без сожалений, Без утешений… Мой злобный гений Торжествовал! Печать проклятий — Удел моих Подземных братий, Тиранов злых Себя самих,— Уже клеймилась В моем челе; Душа ко мгле Уже стремилась… Я был готов Без тайной власти Сорвать покров С моих несчастий. Последний день Сверкал мне в очи; Последней ночи Встречал я тень,— И в думе лютой Всё решено; Еще минута — И… свершено!.. Но вдруг нежданный Надежды луч, Как свет багряный, Блеснул из туч: Какой-то скрытый, Но мной забытый Издавна бог Из тьмы открытой Меня извлек!.. Рукою сильной Остов могильный Вдруг оживил,— И Каин новый В душе суровой Творца почтил. Непостижимый, Неотразимый, Он снова влил В грудь атеиста И лжесофиста Огонь любви! Он снова дни Тоски печальной Озолотил И озарил Зарей прощальной! Гори ж, сияй, Заря святая! И догорай, Не померкая. 182821. Кремлевский сад
Люблю я позднею порой, Когда умолкнет гул раскатный И шум докучный городской, Досуг невинный и приятный Под сводом неба провождать; Люблю задумчиво питать Мои беспечные мечтанья Вкруг стен кремлевских вековых, Под тенью липок молодых, И пить весны очарованье В ароматических цветах, В красе аллей разнообразных, В блестящих зеленью кустах. Тогда, краса ленивцев праздных, Один, не занятый никем, Смотря и ничего не видя И, как султан, на лавке сидя, Я созидаю свой эдем В смешных и странных помышленьях. Мечтаю, грежу как во сне, Гуляю в выспренних селеньях — На солнце, небе и луне; Преображаюсь в полубога, Сужу решительно и строго Мирские бредни, целый мир, Дарую счастье миллионам, Проклятья посылаю тронам… И между тем, пока мой пир, Воздушный, легкий и духовный, Приемлет всю свою красу И я себя перенесу Гораздо дальше подмосковной,— Плывя как лебедь в небесах, Луна сребрит седые тучи; Полночный ветер на кустах Едва колышет лист зыбучий; И в тишине вокруг меня Мелькают тени проходящих, Как тени пасмурного дня, Как проблески огней блудящих. <1829>22. Табак
Курись, табак мой! Вылетай Из трубки, дым приятный, И облаками расстилай Свой запах ароматный! Не столько персу мил кальян Или шербет душистый, Сколь мил душе моей туман Твой легкий и волнистый! Тиран лишил меня всего — И чести и свободы, Но всё курю, назло его, Табак, как в прежни годы; Курю и мыслю: как горит Табак мой в трубке жаркой, Так и меня испепелит Рок пагубный и жалкой… Курись же, вейся, вылетай Дым сладостный, приятный, И, если можно, исчезай И жизнь с ним невозвратно! <1829>23. На смерть Темиры
Быстро, быстро пролетает Время наш подлунный свет, Всё разит и сокрушает, И ему препятствий нет. Ах, давно ль весна златая Расцветала на полях? Час пробил — зима седая Мчится в вихрях и снегах! Лишь возникла юна роза, Развернула стебельки — Дуновением мороза Опустилися листки. Так и ты, моя Темира, Нежный друг души моей, Быв красой недавно мира, Вдруг увяла в цвете дней! Лишь блеснула как явленье И — сокрылася опять… Ах, одно мне утешенье — О тебе воспоминать. <1829>24. Наденьке
1
Смейся, Наденька, шути! Пей из чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангел во плоти! Быстро волны ручейка Мчат оборванный цветок; Видит резвый мотылек Листик алого цветка, Вьется в воздухе, летит, Ближе… вот к нему прильнул… Ветер волны колыхнул — И цветок на дне лежит… Где же, где же, мотылек, Роза нежная твоя? Ах, не может для тебя Возвратить ее поток!.. Смейся, Наденька, шути! Пей из чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангел во плоти!2
Было время: как и ты, Я глядел на божий свет, Но прошли пятнадцать лет — И рассеялись мечты. Хладной бурною рекой Рой обманов пролетел, И мой дух окаменел Под свинцовою тоской! Где ты, радость? Где ты, кровь? Где огонь бывалых дней?.. Ах, из памяти моей Истребила их любовь! Смейся, Наденька, шути! Пей из чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангел во плоти!3
Будет время: как и я, Ты о прежнем воздохнешь И печально вспомянешь: «Где ты, молодость моя?» Молчалива и одна, Будешь сердце поверять И, уныния полна, Втайне слезы проливать. Потемнеют небеса В ясный полдень для тебя, Не узнаешь ты себя — Пролетит твоя краса!.. Смейся ж, смейся и шути! Пей из чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангел во плоти! <1829>25. Погребение
Я видел смерти лютой пир — Обряд унылый погребенья: Младая дева вечный мир Вкусила в мгле уничтоженья. Не длинный ряд экипаже́й, Не черный флер и не кадилы В толпе придворных и пажей За ней теснились до могилы. Ах нет! Простой дощатый гроб Несли чредой ее подруги, И без затейливой услуги Шел впереди приходский поп. Семейный круг и в день печали Убитый горестью жених, Среди ровесниц молодых, С слезами гроб сопровождали. И вот уже духовный врач Отпел последнюю молитву, И вот сильнее вопль и плач… И смерть окончила ловитву! Звучит протяжно звонкий гвоздь, Сомкнулась смертная гробница — И предалась как новый гость Земле бесчувственной девица… Я видел всё; в немой тиши Стоял у пагубного места И в глубине моей души Сказал: «Прости, прости, невеста!» Невольно мною овладел Какой-то трепет чудной силой, И я с таинственной могилой Расстаться долго не хотел. Мне приходили в это время На мысль невинные мечты, И грусти сладостное бремя Принес я в память красоты. Я знал ее — она, играя, Цветок недавно мне дала, И вдруг, бледнея, увядая, Как цвет дареный, отцвела. Вторая половина 1820-х годов?26. Звезда
Она взошла, моя звезда, Моя Венера золотая, Она блестит, как молодая В уборе брачном красота! Пустынник мира безотрадный, С ее таинственных лучей Я не свожу моих очей В тоске мучительной и хладной. Моей бездейственной души Не оживляя вдохновеньем, Она небесным утешеньем Ее дари́т в ночной тиши. Какой-то силою волшебной Она влечет меня к себе И, перекорствуя судьбе, Врачует грусть мечтой целебной! Предавшись ей, я вижу вновь Мои потерянные годы, Дни счастья, дружбы и свободы, И помню первую любовь. Конец 1820-х годов?27. Букет
К груди твоей, Эмма, Приколон букет: Он жизни эмблема, Но розы в нем нет. Узорней, алее Есть много цветов, Но краше, милее Царица лугов. Эфирный влетает В окно мотылек, На персях лобзает Он каждый цветок, Над ландышем вьется, К лилее прильнул, Кружи́тся, несется — И быстро вспорхнул. Куда ж ты, бесстрастный Любовник цветов? Иль ищешь прекрасной Царицы лугов? О Эмма, о Эмма! Вот блеск красоты!.. Как роза, эмблема Невинности ты. Конец 1820-х годов?28. Кольцо
Я полюбил ее с тех пор, Когда печальный, тихий взор Она на мне остановила, Когда безмолвным языком Очей, пылающих огнем, Она со мною говорила. О, как безмолвный этот взор Был для души моей понятен, Как этот тайный разговор Был восхитительно приятен! Пронзенный тысячами стрел Любви безумной и мятежной, Я, очарованный, смотрел На милый образ девы нежной; Я весь дрожал, я трепетал, Как злой преступник перед казнью,— Непостижимою боязнью Мой дух смущенный замирал… Полна живейшего вниманья К моей мучительной тоске, Она с улыбкой состраданья, Как ропот арфы вдалеке, Как звук волшебного напева, Мне чувства сердца излила. И эта речь, о дева, дева, Меня как молния пожгла!.. Властитель мира, царь небесный! …………………………………………………… Она, мой ангел, друг прелестный, Она — не может быть моей!.. Едва жива, она упала Ко мне на грудь; ее лицо То вдруг бледнело, то пылало,— Но на руке ее сверкало, Ах, обручальное кольцо!.. Свершилось всё!.. Кровавым градом Кольцо невесты облило Мое холодное чело… Я был убит землей и адом… Я встал, отбросил от себя Ее обманчивую руку И, сладость жизни погубя, Стеснив в груди любовь и муку, Ей на ужасную разлуку Сказал: «Прости, забудь меня! Прости, невеста молодая, Любви торжественный залог! Прости, прекрасная, чужая! Со мною смерть — с тобою бог! Спеши на лоно сладострастья, На лоно радостей земных, Где ждет тебя в минуту счастья Нетерпеливый твой жених; Где он, с владычеством завидным, Твой пояс девственный сорвет И, с самовластием обидным, Своею милой назовет… Люби его: тебя достоин Судьбою избранный супруг; Но помни, дева, — я покоен: Твой долг — мучитель, а не друг… Печально, быстро вянут розы На зное летнем без росы; В темнице душной моют слезы Порабощенные красы…» Далёко, долго раздавался Стон бедной девы над кольцом, И с шумной радостью примчался За нею суженый с попом. Напрасно я забыть былое Хочу в далекой стороне: Мне часто видится во сне Кольцо на пальце золотое, Хочу забыть мою тоску, Твержу себе: она чужая!.. Но, бесполезно изнывая, Забыть до гроба не могу. Конец 1820-х годов?29. К друзьям
Игра военных суматох, Добыча яростной простуды, В дыму лучинных облаков, Среди горшков, бабья, посуды, Полуразлегшись на доске Иль на скамье, как вам угодно, В избе негодной и холодной, В смертельной скуке и тоске Пишу к вам, ветреные други! Пишу — и больше ничего, И от поэта своего Прошу не ждать другой услуги. Я весь — расстройство!.. Я дышу, Я мыслю, чувствую, пишу, Расстройством полный; лишь расстройство В моем рассудке и уме… В моем посланье и письме Найдете вы лишь беспокойство! ………………………………………………… ………………………………………………… И этот приступ неприродный Вас удивит, наверно, вдруг. Но, не трактуя слишком строго, Взглянув в себя самих немного, Мое безумство не виня, Вы не осудите меня. Я тот, чем был, чем есть, чем буду Не пременюсь, не пременим… Но ах! Когда и где забуду, Что роком злобным я гоним? Гоним, убит, хотя отрада Идет одним со мной путем И в небе пасмурном награда Мне светит радужным лучом. «Я пережил мои желанья!» — Я должен с Пушкиным сказать, «Минувших дней очарованья» Я должен вечно вспоминать. Часы последних сатурналий, Пиров, забав и вакханалий Когда, когда в красе своей Изменят памяти моей? Я очень глуп, как вам угодно, Но разных прелестей Москвы Я истребить из головы Не в силах… Это превосходно! Я вечно помнить буду рад: «Люблю я бешеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд». Моя душа полна мечтаний, Живу прошедшей суетой, И ряд несчастий и страданий Я заменять люблю игрой Надежды ложной и пустой. Она мне льстит, как льстит игрушка Ребенку в праздник годовой, Или как льстит бостон и мушка Девице дряхлой и седой — Хоть иногда в тоске бессонной Ей снится образ жениха,— Или как запах благовонный Льстит вялым чувствам старика. Вот всё, что гадкими стихами Поэт успел вам написать, И за небрежными строками Блестит безмолвия печать… В моей избе готовят ужин, Несут огромный чан ухи,— Стол ямщикам голодным нужен,— Прощайте, други и стихи! Когда же есть у вас забота Узнать, когда и где охота Во мне припала до пера,— В деревне Лысая гора. Между июнем и декабрем 182930. Казак
Под Черные горы на злого врага Отец снаряжает в поход казака. Убранный заботой седого бойца Уж трам абазинский стоит у крыльца. Жена молодая с поникшей главой Приносит супругу доспех боевой, И он принимает от белой руки Кинжал Базалая, булат Атаги И труд Царяграда — ружье и пистоль.[47] На скатерти белой прощальная соль, И хлеб, и вино, и Никола святой… Родителю в ноги… жене молодой — С таинственной бурей таинственный взор, И брови на шашку — вине приговор, Последнего слова и ласки огонь!.. И скрылся из виду и всадник и конь! Счастливый казак! От вражеских стрел, от меча и огня Никола хранит казака и коня. Враги заплатили кровавую дань, И смолкла на время свирепая брань. И вот полунощною тихой порой Он крадется к дому глухою тропой, Он милым готовит внезапный привет, В душе его мрачного предчувствия нет. Он прямо в светлицу к жене молодой, И кто же там с нею?.. Казак холостой! Взирает обманутый муж на жену И слышит в руке и душе сатану: «Губи лицемерку — она неверна!» Но вскоре рассудком изгнан сатана… Казак изнуренные силы собрал И, крест сотворивши, Николе сказал: «Никола, Никола, ты спас от войны, Почто же не спас от неверной жены?» Несчастный казак! 1830 Кавказ31. Ночь на Кубани
Весенний вечер на равнины Кавказа знойного слетел; Туман медлительный одел Гор дальних синие вершины. Как море розовой воды, Заря слилась на небе чистом С мерцаньем солнца золотистым, И гаснет всё; и с высоты Необозримого эфира, Толпой видений окружен, На крыльях легкого зефира Спустился друг природы — сон… Его влиянию покорный, Забот и воли мирный сын, Покой вкушает благотворный Трудолюбивый селянин. Богатый духом безмятежным, Он спит в кругу своей семьи Под кровом верным и надежным Давно испытанной любви И счастлив в незавидной доле! Его всегда лелеют сны: Он видит вечно луг и поле, И поцелуй своей жены. И он — заране утомленный Слепой фортуны сибарит — И он от бедного сокрыт На ложе неги утонченной! Напрасно голос гробовой Страданья тяжкого взывает: Он никогда не возмущает Его души полуживой! И пусть таит глухая совесть Свою докучливую повесть: Ее ужасно прочитать Во глубине души убитой! Ужасно небо призывать Деснице, кровию облитой!.. Едва заметною грядой — Громад воздушных ряд зыбучий — Плывут во тьме седые тучи, И месяц бледный, молодой, Закрытый их печальной тканью, Прорезал дальний горизонт И над гремучею Кубанью Глядится в новый Геллеспонт… Бывало, бодрый и безмолвный, Казак на пагубные волны Вперяет взор сторожевой: Нередко их знакомый ропот Таил коней татарских топот Перед тревогой боевой; Тогда винтовки смертоносной Нежданный выстрел вылетал — И хищник смертию поносной На бреге русском погибал. Или толпой ожесточенной Врывались злобные враги В шатры Защиты изумленной — И обагряли глубь реки Горячей кровью казаки. Но миновало время брани, Смирился дерзостный джигит, И редко, редко на Кубани Свинец убийственный свистит. Молчаньем мрачным и печальным Окрестность битв обложена, И будто миром погребальным Убита бранная страна… Всё дышит негою прохладной, Всё спит… Но что же сон отрадный В тиши таинственных ночей Не посетит моих очей? Зачем зову его напрасно? Иль в самом деле так ужасно Утратить вольность и покой? Ужель они невозвратимы, Кумиры юности моей, И никогда не укротимы Порывы сильные страстей? ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Ах, кто мечте высокой верил, Кто почитал коварный свет И на заре весенних лет Его ничтожество измерил; Кто погубил подобно мне Свои надежды и желанья; Пред кем разрушились вполне Грядущей жизни упованья; Кто сир и чужд перед людьми, Кому дадут из сожаленья Иль ненавистного презренья Когда-нибудь клочок земли — Один лишь тот меня оценит, Моей тоски не обвинив, Душевным чувствам не изменит И скажет: «Так, ты несчастлив!» Как брат к потерянному брату, С улыбкой нежной подойдет, Слезу страдальную прольет И разделит мою утрату!.. …………………………………………… Лишь он один постигнуть может, Лишь он один поймет того, Чье сердце червь могильный гложет! Как пальма в зеркале ручья, Как тень налетная в лазури, В нем отразится после бури Душа унылая моя!.. Я буду — он, он будет — я, В одном из нас сольются оба, И пусть тогда вражда и злоба, И меч, и заступ гробовой Гремят над нашей головой!.. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Но где же он, воображенье Очаровавший идеал,— Мое прелестное виденье Среди пустых, туманных скал? Подобно грозным исполинам, Они чернеют по равнинам В своей бесстрастной красоте; Лишь иногда на высоте Или в развалинах кремнистых Мелькает пара глаз огнистых, Кабан свирепый пробежит Или орлов голодных стая, С пустынных мест перелетая, На время сон их возмутит. А я на камне одиноком, Рушитель общей тишины, Сижу в забвении глубоком, Как дух подземной стороны, И пронесутся дни и годы Своей обычной чередой, Но мне покоя и свободы Не возвратят они с собой! 1830 или 183132. Водопад
Между стремнин с горы высокой Ручьи прозрачные журчат, И вдруг, сливаясь в ток широкой, Являют грозный водопад. Громады волн буграми хлещут В паденье быстром и крутом И, разлетевшись, ярко блещут Вокруг серебряным дождем. Ревет и стонет гул протяжный По разорвавшейся реке И, исчезая с пеной влажной, Смолкает глухо вдалеке. Вот наша жизнь! Вот образ верный Погибшей юности моей! Она в красе нелицемерной Сперва катилась как ручей; Потом в пылу страстей безумных, Быстра как горный водопад, Исчезла вдруг при плесках шумных, Как эха дальнего раскат. Шуми, шуми, о сын природы! Ты безотрадною порой Певцу напомнил блеск свободы Своей свободною игрой! 1830 или 183133. Черная коса
Там, где свистящие картечи Метала бранная гроза, Лежит в пыли, на поле сечи, В три грани черная коса. Она в крови и без ответа, Но тайный голос произнес: «Булат, противник Магомета, Меня с главы девичьей снес! Гордясь красой неприхотливой В родной свободной стороне, Чело невинности стыдливой Владело мною в тишине. Еще за час до грозной битвы С врагом отечественных гор Пылал в жару святой молитвы Звезды Чир-Юрта ясный взор. Надежда храбрых на пророка Отваги буйной не спасла, И я во прах веленьем рока Скатилась с юного чела! Оставь меня!.. Кого лелеет Украдкой нежная краса, Тому на сердце грусть навеет В три грани черная коса». 183134-36. Песни
1. «Зачем задумчивых очей…»
Зачем задумчивых очей С меня, красавица, не сводишь? Зачем огнем твоих речей Тоску на душу мне наводишь? Не припадай ко мне на грудь В порывах милого забвенья,— Ты ничего в меня вдохнуть Не можешь, кроме сожаленья! Меня не в силах воспалить Твои горячие лобзанья, Я не могу тебя любить — Не для меня очарованья! Я был любим и сам любил — Увял на лоне сладострастья И в хладном сердце схоронил Минуты горестного счастья; Я рано со́рвал жизни цвет, Всё потерял, всё отдал Хлое,— И прежних чувств, и прежних лет Не возвратит ничто земное! Еще мне милы красота И девы пламенные взоры, Но сердце мучит пустота, А совесть — мрачные укоры! Люби другого: быть твоим Я не могу, о друг мой милый!.. Ах, как ужасно быть живым, Полуразрушась над могилой! <1828>2. «У меня ль, молодца…»
У меня ль, молодца, Ровно в двадцать лет Со бела со лица Спал румяный цвет; Черный волос кольцом Не бежит с плеча; На ремне золотом Нет грозы-меча; За железным щитом Нет копья-огня; Под черкесским седлом Нет стрелы-коня; Нет перстней дорогих Подарить мило́й! Без невесты жених, Без попа налой… Расступись, расступись, Мать-сыра земля! Прекратись, прекратись, Жизнь-тоска моя! Лишь по ней, по мило́й, Красен белый свет; Без мило́й дорогой Счастья в мире нет! <1831>3. «Там, на небе высоко…»
Там, на небе высоко Светит солнце без лучей,— Там без друга далеко Гаснет свет моих очей!.. У косящата окна Раскрасавица сидит; Призадумавшись, она Буйну ветру говорит: «Не шуми ты, не шуми, Буйный ветер, под окном; Не буди ты, не буди Грусти в сердце ретивом; Не тверди мне, не тверди Об изменнике моем! Изменил мне, изменил Мой губитель роковой; Насмеялся, пошутил Над моею простотой, Над моею простотой, Над девичьей красотой! Я погибла бы, душа Красна девка, от ножа, Я погибла б от руки, А не с горя и тоски. Ты убей меня, убей, Ненавистный мой злодей! Я сказала бы ему, Милу другу своему: „Не жалею я себя, Ненавижу я тебя! Лей и пей ты мою кровь, Утуши мою любовь!“ Не шуми ж ты, не шуми, Буйный ветер, надо мной; Полети ты, полети Вдоль дороги столбовой! По дороге столбовой Скачет воин молодой; Налети ты на него, На тирана моего; Просвищи, как жалкий стон, Прошепчи ему поклон От высоких от грудей, От заплаканных очей,— Чтоб он помнил обо мне В чужедальной стороне; Чтобы с лютою тоской, Вспоминая, воздохнул И с горючею слезой На кольцо мое взглянул; Чтоб глядел он на кольцо, Как на друга прежних дней, Как на белое лицо Бедной девицы своей!..» <1831>37. Море
Я видел море, я измерил Очами жадными его: Я силы духа моего Перед лицом его поверил. «О море, море! — я мечтал В раздумье грустном и глубоком.— Кто первый мыслил и стоял На берегу твоем высоком? Кто, неразгаданный в веках, Заметил первый блеск лазури, Войну громов и ярость бури В твоих младенческих волнах? Куда исчезли друг за другом Твоих владельцев племена, О коих весть нам предана Одним злопамятным досугом? ……………………………………………… ……………………………………………… Всегда ли, море, ты почило В скалах, висящих надо мной? Или неведомая сила, Враждуя с мирной тишиной, Не раз твой образ изменила? Что ты? Откуда? Из чего? Игра случайная природы Или орудие свободы, Воззвавшей всё из ничего? Надолго ль влажная порфира Твоей бесстрастной красоты Осуждена блистать для мира Из недр бездонной пустоты?» Вот тайный плод воображенья Души, волнуемой тоской, За миг невольный восхищенья Перед пучиною морской!.. Я вопрошал ее… Но море, Под знойным солнечным лучом Сребрясь в узорчатом уборе, Меж тем лелеялось кругом В своем покое роковом. Через рассыпанные волны Катились груды новых волн, И между них, отваги полный, Нырял пред бурей утлый челн. Счастливец, знаешь ли ты цену Смешного счастья твоего? Смотри на челн — уж нет его: В отваге он нашел измену!.. В другое время на брегах Балтийских вод, в моей отчизне, Красуясь цветом юной жизни, Стоял я некогда в мечтах; Но те мечты мне сладки были: Они приветно сквозь туман, Как за волной волну, манили Меня в житейский океан. И я поплыл… О море, море! Когда увижу берег твой? Или, как челн залетный, вскоре Сокроюсь в бездне гробовой? <1831>38. Ожидание («Как долго ждет…»)
Как долго ждет Моя любовь — Зачем нейдет Моя Любовь? Пора давно! Часы летят И всё одно Любви твердят: «Скорей, скорей Ловите нас, Пока Морфей Скрывает вас От зорких глаз!..» Поет петух, Пропел другой — И пылкой дух Убит тоской: Всё нет и нет! Редеет тень, И брезжит свет, И скоро день… Спеши, спеши, Моя Любовь, И утуши Мою любовь! <1831>39. Черкесский романс
Под тенью дуба векового, В скале пустынной и крутой, Сидит враг путника ночного — Черкес красивый и младой. Но он не замысел лукавый Таит во мраке тишины, Не дышит гибельною славой, Не жаждет сечи и войны. Томимый негой сладострастной, Черкес любви минуту ждет И так в раздумье о прекрасной Свою тоску передает: «Близка, близка пора свиданья! Давно кипит и стынет кровь, И просит верная любовь Награды сладкой за страданья. Где ты? Спеши ко мне, спеши, Джембе, душа моей души! Покойно всё в ауле сонном, Оставь ревнивых стариков: Они узреть твоих следов Не могут в мраке благосклонном! Где ты? Спеши ко мне, спеши, Джембе, душа моей души! Звезда любви родного края, Ты — целый мир в моих очах! В твоей груди, в твоих устах Заключена вся прелесть рая! Взошла луна… Спеши, спеши, О дева, жизнь моей души!» И вдруг, как ветер тиховейный, Она явилась перед ним — И обняла рукой лилейной С восторгом пылким и немым! И лобызает с негой томной, И шепчет: «Милый, я твоя!..» И вздох невольный и нескромный Волнует сильно грудь ея… Она его!.. Но что мелькнуло В седой ущелине скалы? Что зазвенело и сверкнуло Среди густой, полночной мглы? Кто блещет шашкой обнаженной, Внезапно с юношей сразясь? Чей слышен голос разъяренный: «Умри, с злодейкой не простясь!..» Ее отец!.. Отрады ночи Старик бессонный не вкусил, Он подозрительные очи С преступной девы не сводил; Он замечал ее движенья, Ее таинственный побег, И в первый пыл ожесточенья Дни обольстителя пресек… Но где она? Какую долю Ей злобный рок определил? Ужель на вечную неволю Отец жестокой осудил, И, изнывая в заточенье, Добычей гнева и стыда Погибнет в жалком погребенье Любви виновной красота?.. Что с ней?.. Увы! Вот дикой камень Стоит над гробом у скалы: Там светлых дней несчастный пламень Давно погас — для вечной тьмы! В тот самый миг, как друг прекрасный В крови к ногам ее упал, Последний вздох прощальный, страстный, Стеснил в груди ее кинжал!.. <1831>40-42. Романсы
1. «Пышно льется светлый Терек…»
Пышно льется светлый Терек В мирном лоне тишины; Девы юные на берег Вышли встретить пир весны. Вижу игры, слышу ропот Сладкозвучных голосов, Слышу резвый, легкий топот Разноцветных башмачков. Но мой взор не очарован И блестит не для побед — Он тобой одним окован, Алый шелковый бешмет! Образ девы недоступной, Образ строгой красоты Думой грустной и преступной Отравил мои мечты. Для чего у страсти пылкой Чародейной силы нет Превратиться невидимкой В алый шелковый бешмет? Для чего покров холодный, А не чувство, не любовь Обнимает, жмет свободно Гибкий стан, живую кровь?2. «Утро жизнью благодатной…»
Утро жизнью благодатной Освежило сонный мир, Дышит влагою прохладной Упоительный зефир, Нега, радость и свобода Торжествуют юный день, Но в моих очах природа Отуманена как тень. Что мне с жизнью, что мне с миром? На душе моей тоска Залегла, как над вампиром Погребальная доска. Вздох волшебный сладострастья С стоном девы пролетел И в груди за призрак счастья Смертный хлад запечатлел. Уж давно огонь объятий На злодее не горит; Но над ним, как звук проклятий, Этот стон ночной гремит. О, исчезни, стон укорный, И замри, как замер ты На устах красы упорной Под покровом темноты!3. «Одел станицу мрак глубокой…»
Одел станицу мрак глубокой… Но я казачкой осужден Увидеть снова прежний сон На ложе скуки одинокой. И знаю я — приснится он, Но горе деве непреклонной! Приснится завтра ей, несонной, Коварный сон, мятежный сон. Моей любви нетерпеливость Утушит детскую боязнь, Узнает счастие и казнь Ее упорная стыдливость. Станицу скроет темнота,— Но уж не мне во мраке ночи, А ей предстанет перед очи Неотразимая мечта. И юных персей трепетанье, И ропот уст, и жар ланит — Всё сладко, сладко наградит Меня за тайное страданье. <1831>43. Мертвая голова
Из-за черных облаков Блещет месяц в вышине, Видны в ставке казаков Десять копий при луне. Отчего ж она темна, Что не светится она, Сталь десятого копья? Что за призрак вижу я При обманчивой луне На таинственном копье? О, не призрак! Наяву Вижу вражеский укор — Безобразную главу Сына брани, сына гор. Вечный сон ее удел На отеческих полях, На убийственных мечах Он к ней рано прилетел. Пять ударов острия Твердый череп разнесли; Муку смерти затая, Очи кровью затекли. Силу дивную бойца Злобный гений превозмог, Труп холодный мертвеца В землю с честию не лег. И глава его темнит Сталь десятого копья, И душа его парит К новой сфере бытия… …………………………………… …………………………………… 183144. Другу моему А. П. Л<озовскому>
Бесценный друг счастливых дней, Вина святого упованья Души измученной моей Под игом грусти и страданья,— Мой верный друг, мой нежный брат По силе тайного влеченья, Кого со мной не разлучат Времен и мест сопротивленья. Кто для меня и был и есть Один и всё, кому до гроба Не очернят меня ни лесть, Ни зависть черная, ни злоба, Кто овладел, как чародей, Моим умом, моею думой, Кем снова ожил для людей Страдалец мрачный и угрюмый,— Бесценный друг, прими плоды Моих задумчивых мечтаний, Минутной резвости следы И цепь печальных вспоминаний! Ты не найдешь в моих стихах Волшебных звуков песнопенья: Они родятся на устах Певцов любви и наслажденья… Уже давно чуждаюсь я Их благодатного привета, Давно в стихии шумной света Не вижу радостного дня… Пою, рассеянный, унылый, В степях далекой стороны И пробуждаю над могилой Давно утраченные сны… Одну тоску о невозвратном, Гонимый лютою судьбой, В движенье грустном и приятном Я изливаю пред тобой! Но ты, понявши тайну друга, Оценишь сердце выше слов И не сменишь моих стихов Стихами резвыми досуга Других счастливейших певцов. 7 февраля 1832 Крепость Грозная45. Федору Алексеевичу Кони
Was sein soil — muss geschehen![48]
Я не скажу тебе, поэт, Что греет грудь мою так живо, Я не открою сердце, нет! И поэтически, игриво Я гармоническим стихом, В томленье чувств перегорая, Не выскажу тебе о том, Чем дышит грудь полуживая, Что движет мыслию во мне, Как глас судьбины, глас пророка, И часто, часто в тишине Огнем пылающего ока Так и горит передо мной! О, как мне жизнь тогда светлеет! Мной всё забыто — и покой В прохладе чувств меня лелеет. За этот миг я б всё отдал, За этот миг я бы не взял И гурий неги Гаафица — Он мне нужнее, чем денница, Чем для рожденного птенца Млеко родимого сосца! Так не испытывай напрасно, Поэт, волнения души, И искры счастия прекрасной В ее начале не туши! Она угаснет — и за нею Мои глаза закрою я, Но за могилою моею Еще услышишь ты меня. Лишь с гневом яростного мщенья Оно далёко перейдет, А всё врага <себе> найдет В веках грядущих поколеньях! 19 февраля 183246. Акташ-аух
На высоте пустынных скал, Под ризой инеев пушистых, Как сторож пасмурный, стоял Дуб старый, царь дубов ветвистых. Сражаясь с хладом облаков, Встречая гордо луч денницы, Один, далёко от дубров, Служил он кровом хищной птицы. Молниеносный ураган Сверкнул в лазуревой пучине — И разлетелся великан Как прах по каменной твердыне. В вертепах дикой стороны, Для чужеземца безотрадной, Гнездились буйные сыны Войны и воли кровожадной; Долины мира возмущал Брегов Акташа лютый житель; Коварный гений охранял Его преступную обитель. Но где ты, сон минувших дней? Тебя сменила жажда мщенья, И сильный вождь богатырей Рассеял сонм злоумышленья! Акташа нет!.. Пробил конец Безумству жалкого народа, И не спасли тебя, беглец, Твои кинжалы и природа… Где блещет солнце, где заря Едва мелькает за горами — Предстанет всюду пред врагами Герой полночного царя. 183247. Кладбище Герменчугское
В последний раз румяный день Мелькнул за дальними лесами, И ночи пасмурная тень Слилась уныло с небесами. Всё тихо, мертво, всё гласит В природе час успокоенья… И он настал: не воскресит Ничто минувшего мгновенья. Оно прошло, его уж нет Для добродетели и злобы! Пройдут мильоны новых лет, И с каждым утром новый свет Увидит то же: жизнь и гробы! Один мудрец, в кругу людей, Уму свободному послушный, Всегда покойный, равнодушный Среди волнений и страстей, Живет в покое безмятежном Высоким чувством бытия: В грозе, в несчастье неизбежном, В завидной доле, затая Самолюбивое мечтанье, Он, как бесплотное созданье, Себе правдивый судия. В пределах нравственного мира, Свершая тихий перио́д, Как скальда северного лира, Он звук согласный издает, Журчит и льется беспрерывно И исчезает в тишине, Как аромат Востока дивный В необозримой вышине. Цари, герои, раб убогой,— Один готов для вас удел! Цветущей, тесною дорогой Кто миновать его умел? Как много зла и вероломства Земля могучая взяла! Хранит правдивое потомство Одни лишь добрые дела! Не вы ли, дикие могилы, Останки жалкой суеты, Повергли в грустные мечты Мой дух угрюмый и унылый? Что значат длинные ряды Высоких камней и курганов, В часы полуночи немой Стоящих мрачно предо мной В сырой обители туманов? Зачем чугунное ядро, Убийца Карла и Моро, Лежит во прахе с пирамидой Над гробом юной девы гор? Ее давно потухший взор Не оскорбится сей обидой! Кто в свежий памятник бойца Направил ужасы картечи? Не отвращал он в вихре сечи От смерти грозного лица. И кто б он ни был — воин чести Или презренный из врагов,— Над царством мрака и гробов Ровно ничтожно право мести! Сверкает полная луна Из туч багровыми лучами… Я зрю: вокруг обагрена Земля кровавыми ручьями. Вот труп холодный… Вот другой На рубеже своей отчизны. Здесь — обезглавленный, нагой; Там — без руки страдалец жизни; Там — груда тел… Кладби́ще, ров, Мечети, сакли — всё облито Живою кровью; всё разбито Перуном тысячи громов… Где я? Зачем воображенья Неограниченный полет В места ужасного виденья Меня насильственно влечет? Я очарован!.. Сон тревожный Играет мрачною душой!.. Но пуля свищет надо мной!.. Злодеи близко… Ужас ложный С чела горячего исчез… Объятый горестною думой, Смотрю рассеянно на лес, Где враг, свирепый и угрюмый, Сменив покой на загово́р, Таит свой немощный позор. Смотрю на жалкую ограду Неукротимых беглецов, На их мгновенную отраду От изыскательных штыков; На русский стан; воспоминаю Минувшей битвы гул и звук И с удивлением мечтаю: О воин гор, о Герменчуг! Давно ли, пышный и огромный, Среди завистливых врагов, Ты процветал под тенью скромной Очаровательных садов? Рука, решительница бо́ев, Неотразимая в войне, Тебя ласкала в тишине С великодушием героев; Но ты в безумстве роковом Восстал под знаменем гордыни — И пред карающим мечом Склонились дерзкие твердыни!.. Покров упал с твоих очей; Открыта бездна заблуждений! Смотри сквозь зарево огней, Сквозь черный дым твоих селений — На плод коварства и измен! Не ты ли, яростный, у стен, Перед решительною битвой Клялся вечернею молитвой Рассеять сонмы христиан И беззащитному семейству Передавал в урок злодейству Свой утешительный обман? Ты ждал громо́вого удара; Ты вызывал твою судьбу — И пепел грозного пожара Решил неравную борьбу!.. Иди теперь, иди к несчастным: Рассей их робость и тоску; И мсти отчаяньем ужасным Непобедимому врагу! И спросят жены, спросят дети Тебя с волнением живым: «Где наши сакли, где мечети? Веди нас к милым и родным!» И ты ответишь им: «Родные Лежат убитые в пыли, А их доспехи боевые На воях вражеской земли! Удел младенца без покрова — Делить страданья матерей; Приют наш — темная дуброва, Замена братьев и друзей — Толпа голодная зверей!..» И заглушит тогда стенанье Жестокосердые слова, И упадет на грудь в молчанье Твоя преступная глава! И, движим грустию мятежной, На миг чувствительный отец — Ты будешь речью безнадежной Тушить с заботливостью нежной Боязнь неопытных сердец! То снова пыл ожесточенья В душе суровой закипит, И над главою ополченья Свинец разбойничьего мщенья Из-за кургана просвистит… А грозный стан, необозримый, Теряясь в ставках и шатрах, Стоит покойный, недвижимый, Как исполин, на двух реках. Великий духом и делами, Фиал щедроты и смертей, Пришел он с русскими орлами Восстановить права людей, Права людей — права закона В глухой далекой стороне, Где звезды северного трона Горят в туманной вышине! Его вожди… Скрижали чести Давно хранят их имена. Труба презрительныя лести Не пробуждает времена; Но голос славы, племена — Отважный галл, осман надменный, Поклонник ревностный Али, Кавказ, сармат ожесточенный — Им приговор произнесли!.. Он свят!.. Язык врага отчизны Свободен, смел, красноречив, И славный Пор без укоризны Был к Александру справедлив… Вот эти славные дружины, Питомцы брани и побед! Где солнце льет печальный свет, Где бездны, горы и стремнины, Где боязливая нога Едва ступает с изумленьем, Везде с крылатым ополченьем Следы граненого штыка! И Герменчуг!.. Народ жестокой, Народ, свой пагубный тиран! Когда пред истиной высокой Исчезнет жалкий твой обман? Когда признательные очи, Обмыв горячею слезой, Ты дружбу сына полуночи Оценишь гордою душой? Покойно всё. Между шатрами Кой-где мелькают огоньки; С ружьем и пикой за плечами Кой-где несутся казаки; Разводят цепи и патру́ли, Сменяют бодрых часовых, И визг изменнической пули В дали таинственной затих!.. И, вновь объятый тишиною, Под кровом ночи дремлет стан, Пока с грядущею зарею Отгрянет с пушкой вестовою В горах окрестных барабан; Зажжется яркая денница На склоне пасмурных небес; Пробудит утренняя птица Веселым пеньем сонный лес; Обвеет дух отрадной жизни Могучий сонм богатырей, И дикий вид чужой отчизны Предстанет в блеске для очей! О, сколько бурных впечатлений На поле брани роковой Проснутся в памяти живой Победоносных ополчений! Минувший день, минувший гром, Раскаты пушечного гула, Картины гибели аула, Пальба и сеча, прах столпом, И визг, и грохот, и моленье, И саблей звук, и ружей блеск, Бойниц, завалов, саклей треск — Всё воскресит воображенье!.. Вот снова царствует, кипит Оно в кругу знакомой сферы… «Ура» отважное гремит… Бегут на приступ гренадеры, Долины мирные Москвы Давно забывшие для славы, Они бесстрашно в бой кровавый Несут отважные главы! На ров, на вал, на ярость встречи, Под вихрем огненных дождей, На пули, шашки и картечи Летят по манию вождей. Ни крик, ни вопли, ни стенанье — Ничто отдельно не гремит: Одно протяжное жужжанье, Разлившись в воздухе, гудит. Окопы сбиты… Враг трепещет, Сбирает силы, грянул вновь, Бежит, рассеялся — и хлещет Ручьями варварская кровь… Повсюду смерть, гроза и мщенье!.. Пируют буйные штыки, Везде разносят истребленье Неотразимые полки! Там егерь, старый бич Кавказа, Притек от Куры на Аргун Метать свой гибельный перун; А там — летучая зараза — Неумолимый Карабах С кривою саблею в руках, Как черный дух, мелькает, рубит Ожесточенного бойца И опрокинутого губит Стальным копытом жеребца!.. Куртин, казак и персиянин, Свирепый турок, христианин, Пришельцы дальней стороны, Краса грузинских легионов,— Всё пало тучею драконов На чад разбоя и войны! И всё утихло: глас молитвы В дыму над грудой братних тел, И шум, и стон, и грохот битвы!.. Осталась память славных дел! Один под ризою ночною, В тумане влажном и сыром, С моей подругою — мечтою — Сижу на камне гробовом. Не крест — симво́л души скорбящей — Стоит над чуждым мертвецом: Он славен гибельным мечом, А меч — симво́л его грозящий!.. Быть может, тень его парит, Облекшись в бурю, надо мною И невиди́мою рукою Пришельцу дерзкому грозит; Быть может, в битве оживляла Она отчизны бранный дух И снова к мести призывала Сокрытый в пепле Герменчуг. 183248. Песнь горского ополчения
Зашумел орел двуглавый Над враждебною рекой, Прояснился путь кровавый Перед дружною толпой. Ты заржавел, меч булатный, От бездейственной руки, Заждались вы славы ратной, Троегранные штыки. Завизжит свинец летучий Над бесстрашной головой, И нагрянет черной тучей На врага зловещий бой. Разорвет ряды злодея Смертоносный ураган, И исчезнет, цепенея, Ненавистный мусульман. Распадутся с ярым треском Неприступные скалы, И зажжется новым блеском Грозный день Гебек-Калы.[49] 183249. Ахалук
Ахалук мой, ахалук, Ахалук демикотонный, Ты работа нежных рук Азиатки благосклонной! Ты родился под иглой Атагинки чернобровой, После робости суровой И любви во тьме ночной. Ты не пышной пестротою — Цветом гордых узденей, Но смиренной простотою — Цветом северных ночей — Мил для сердца и очей… Черен ты, как локон длинный У цыганки кочевой, Мрачен ты, как дух пустынный — Сторож урны гробовой. И серебряной тесьмою, Как волнистою струею Дагестанского ручья, Обвились твои края. Никогда игра алмаза У могола на чалме, Никогда луна во тьме, Ни чело твое, о База,— Это бледное чело, Это чистое стекло, Споря в живости с опалом, Под ревнивым покрывалом — Не сияли так светло! Ах, серебряная змейка, Ненаглядная струя — Это ты, моя злодейка, Ахалук суровый — я! 1832 или 183350. Раскаяние
Я согрешил против рассудка, Его на миг я разлюбил: Тебе, степная незабудка, Его я с честью подарил! Я променял святую совесть На мщенье буйного глупца, И отвратительная повесть Гласит безумие певца. Я согрешил против условий Души и славы молодой, Которых демон празднословий Теперь освищет с клеветой! Кинжал коварный сожаленья Притворной дружбы и любви Теперь потонет без сомненья В моей бунтующей крови. Толпа знакомцев вероломных, Их шумный смех, и строгий взор Мужей значительно безмолвных, И ропот дев неблагосклонных — Всё мне и казнь, и приговор! Как чад неистовый похмелья, Ты отлетела наконец, Минута злобного веселья! Проснись, задумчивый певец! Где гармоническая лира, Где барда юного венок? Ужель повергнул их порок К ногам ничтожного кумира? Ужель бездушный идеал Неотразимого разврата Тебя, как жертву каземата, Рукой поносной оковал? О нет!.. Свершилось!.. Жар мятежный Остыл на пасмурном челе: Как сын земли, я дань земле Принес чредою неизбежной; Узнал бесславие, позор Под маской дикого невежды,— Но пред лицом Кавказских гор Я рву нечистые одежды! Подобный гордостью горам, Заметным в безднах и лазури, Я воспарю, как фимиам С цветов пустынных, к небесам И передам моим струнам И рев и вой минувшей бури. 1832 или 183351. Цыганка
Кто идет перед толпою На широкой площади́, С загорелой красотою На щеках и на груди? Под разодранным покровом, Проницательна, черна, Кто в величии суровом Эта дивная жена?.. Бьются локоны небрежно По нагим ее плечам, Искры наглости мятежно Разбежались по очам, И, страшней ударов сечи, Как гремучая река, Льются сладостные речи У бесстыдной с языка. Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины: Ты коварная цыганка, Дочь свободы и весны! Под узлами бедной шали Ты не скроешь от меня Ненавистницу печали, Друга радостного дня. Ты знакома вдохновенью Поэтической мечты, Ты дарила наслажденью Африканские цветы! Ах, я помню… Но ужасно Вспоминать лукавый сон: Фараонка, не напрасно Тяготит мне душу он! Пронеслась с годами сила, Я увял — и наяву Мне рука твоя вручила Приворотную траву… <1833>52. Призвание
В душе горит огонь любви, Я жажду наслажденья,— О милый мой, лови, лови Минуту заблужденья! Явись ко мне — явись как дух, Нежданный, беспощадный, Пока томится, ноет дух В надежде безотрадной, Пока играет на челе Румянец прихотливый И вижу я в туманной мгле Звезду любви счастливой! Я жду тебя — я вся твоя, Покрой меня лобзаньем, И полно жить — и тихо я Сольюсь с твоим дыханьем! В душе горит огонь любви, Я жажду наслажденья,— О милый мой, лови, лови Минуту заблужденья! <1833>53. Сон девушки
Чего не видит во сне 13-летняя девушка?
Скучно девушке с старушкой Длинный вечер просидеть наедине, Скучно с глупою болтушкой Песни петь о незабвенной старине. Спится бедной за рассказом О каком-то колдуне, И над слухом, и над глазом Сон зацарствовал вполне. Вот уснула — и виденья Под Морфеевым крылом Разнесли благотворенья Над пылающим челом. Видит дева сон мятежный, Плод томительных годов, Тайный отзыв думы нежной: Трех красивых женихов. Юны, пламенны и страстны, К ней приближились они, Просят трое у прекрасной Ласки девственной любви! Пышет пламень сладострастья В соблазнительных очах, Ропот неги, ропот счастья Замирает на устах. Бьется сердце у Нанины, Труден выбор для души: Женихи, как три картины, Миловидны, хороши… Наконец невольной силой К одному привлечена, Говорит она: «Мой милый, Я тебе обречена!» Поцелуй любви трепещет На счастливце молодом… Вдруг струистый пламень блещет, Загремел подземный гром, Всё исчезло… Засверкало Что-то яркое в углу, Зашумело, зажужжало, И, как будто наяву, Перед ней козел рогатый, Старец с книгою в руках И петух большой, мохнатый, В красно-бурых завитках… Обмерла моя Нанина, Нет защитника нигде… «Пресвятая Магдалина, Не оставь меня в беде!..» ……………………………………… Снова молния сверкнула, Призрак пагубный исчез… Дева — «Ах!» Открыла очи — Вкруг постели тишина; Лишь над ней во мраке ночи, Как туманная луна, Шепчет бабушка седая Что-то с книгой и крестом: «Пробудись, моя родная! Ты в волнении живом: Соблазнил тебя лукавый Окаянною мечтой… Призови рассудок здравый В помощь с верою святой; Мне самой мечтались прежде И козлы, и петухи, Но не бойся — верь надежде — Нам они не женихи». <1833>54. Степь
Светлый месяц из-за туч Бросил тихо ясный луч По степи безводной. Как янтарная слеза, Блещет влажная роса На траве холодной. Время, девица-душа, Из-под сени шалаша Пролети украдкой, Улови, прелестный друг, От завистливых подруг Миг любови краткой! Не звенит ли за холмом Милый голос? Не сверкнул ли над плечом Черный волос? Не знакомое ли мне Покрывало В благосклонной тишине Промелькало? Сердце вещее дрожит, Дева юная спешит К тайному приюту. Скройся, месяц золотой, Над счастливою четой, Скройся на минуту! Миг волшебный пролетел, Как виденье, И осталось мне в удел Сожаленье! Скоро ль, девица-краса, От желанья Потемнеют небеса Для свиданья? <1833>55. Окно
Там, над быстрою рекой Есть волшебное окно, Белоснежною рукой Открывается оно. Груди полные дрожат Из-под тени полотна, Очи светлые блестят Из волшебного окна… …………………………………… …………………………………… И, склонясь на локоток, Под весенний вечерок, Миловидна, хороша, Смотрит девица-душа. Улыбнется — и природа расцветет, И приятней соловей в саду поет, И над ручкою лилейной Вьется ветер тиховейный, И порхает, И летает С сладострастною мечтой Над девицей молодой. Но лишь только опускает раскрасавица окно — Всё над Тереком суровым и мертво, и холодно́. Улыбнись, душа-девица, Улыбнись, моя любовь, И вечерняя зарница Осветит природу вновь! Нет! Жестокая не слышит Робкой жалобы моей И в груди ее не пышет Пламень неги и страстей! Будет время, равнодушная краса: Разнесется от печали светло-русая коса! Сердце пылкое, живое Загрустит во тьме ночной, И страдание чужое Ознакомится с тобой; И откроешь ты ревниво Потаенное окно, Но любви нетерпеливой Не дождется уж оно. <1833>56. Демон вдохновенья
Так, это он, знакомец чудный Моей тоскующей души, Мой добрый гость в толпе безлюдной И в усыпительной глуши! Недаром сердце угнетала Непостижимая печаль: Оно рвалось, летело вдаль, Оно желанного искало. И вот, как тихий сон могил, Лобзаясь с хладными крестами, Он благотворно осенил Меня волшебными крылами, И с них обильными струями Сбежала в грудь мне крепость сил, И он бесплотными устами К моим бесчувственным приник, И своенравным вдохновеньем Душа зажглася с исступленьем, И проглаголал мой язык: «Где я, где я? Каких условий Я был торжественным рабом? Над Аполлоновым жрецом Летает демон празднословий! Я вижу — злая клевета Шипит в пыли змеиным жалом, И злая глупость, мать вреда, Грозит мне издали кинжалом. Я вижу будто бы во сне Фигуры, тени, лица, маски: Темны, прозрачны и без краски, Густою цепью по стене Они мелькают в виде пляски… Ни па, ни такта, ни шагов У очарованных духов… То нитью легкой и протяжной, Подобно тонким облакам, То массой черной стоэтажной Плывут, как волны по волнам… Какое чудо! Что за вид Фантасмагории волшебной!.. Все тени гимн поют хвалебный; Я слышу страшный хор гласит: „О Ариман! О грозный царь Теней, забытых Оризмадом! К тебе взывает целым адом Твоя трепещущая тварь!.. Мы не страшимся тяжкой муки: Давно, давно привыкли к ней В часы твоей угрюмой скуки, Под звуком тягостных цепей; С печальным месячным восходом К тебе мы мрачным хороводом Спешим, восставши из гробов, На крыльях филинов и сов! Сыны родительских проклятий, Надежду вживе погубя, Мы ненавидим и себя, И злых и добрых наших братий!.. Когтями острыми мы рвем Их изнуренные составы; Страдая сами — зло за злом Изобретаем мы, царь славы, Для страшной демонской забавы, Для наслажденья твоего!.. Воззри на нас кровавым оком: Есть пир любимый для него, И в утешении жестоком, Сквозь мрак геенны и огни Уста улыбкой проясни! О Ариман! О грозный царь Теней, забытых Оризмадом! К тебе взывает целым адом Твоя трепещущая тварь!..“» И вдруг: и треск, И гром, и блеск — И Ариман, Как ураган, В тройной короне Из черных змей, Предстал на троне Среди теней! Умолкли стоны, И миллионы Волшебных лиц Поверглись ниц!.. «Рабы мои, рабы мои, Отступники небесного светила! Над вами власть моей руки От вечности доныне опочила, И непреложен мой закон!.. Настанет день неотразимой злобы — Пожрут, пожрут неистовые гробы И солнце, и луну, и гордый небосклон: Всё грозно дань заплатит разрушенью — И на развалинах миров Узрите вы опять по тайному веленью Во мне властителя страдающих духо́в!..» И вновь и треск, И гром, и блеск — И Ариман, Как ураган, В тройной короне Из черных змей, Исчез на троне Среди теней… Всё тихо!.. Страшные виденья Как вихрь умчались по стене, И я, как будто в тяжком сне, Опять с своей тоской сижу наедине! Зачем ты улетел, о демон вдохновенья!.. 183357. Иван Великий
Опять она, опять Москва! Редеет зыбкий пар тумана, И засияла голова И крест Великого Ивана! Вот он — огромный Бриарей, Отважно спорящий с громами, Но друг народа и царей С своими ста колоколами! Его набат и тихий звон Всегда приятны патриоту; Не в первый раз, спасая трон, Он влек злодея к эшафоту! И вас, Реншильд и Шлиппенбах, Встречал привет его громовый, Когда с улыбкой на устах Влачились гордо вы в цепях За колесницею Петровой! Дела высокие славян, Прекрасный век Семирамиды, Герои Альпов и Тавриды,— Он был ваш верный Оссиан, Звучней, чем Игорев Баян! И он, супруг твой, Жозефина, Железный волей и рукой, На векового исполина Взирал с невольною тоской! Москва под игом супостата, И ночь, и бунт, и Кремль в огне — Нередко нового сармата Смущали в грустной тишине. Еще свободы ярой клики Таила русская земля, Но грозен был Иван Великий Среди безмолвного Кремля. И Святослава меч кровавый Сверкнул над буйной головой, И, избалованная славой, Она скатилась величаво Перед торжественной судьбой!.. Восстали царства, пламень брани Под небом Африки угас, И звучно, звучно с плеском дланей Слился Ивана шумный глас!.. И где ж, когда в скрижаль отчизны Не вписан доблестный Иван? Всегда, везде без укоризны Он русской правды Алкоран!.. Люблю его в войне и мире, Люблю в обычной простоте, И в пышной пламенной порфире, Во всей волшебной красоте, Когда во дни воспоминаний Событий древних и живых Среди щитов, огней, блистаний Горит он в радугах цветных!.. Томясь желаньем ненасытным Заняться важно суетой, Люблю в раздумье любопытном Взойти с народною толпой Под самый купол золотой И видеть с жалостью оттуда, Что эта гордая Москва, Которой добрая молва Всегда дарила имя чуда,— Песку и камней только груда. Без слов коварных и пустых Могу прибавить я, что лица, Которых более других Ласкает матушка-столица, Оттуда видны без очков, Поверьте мне, как вереница Обыкновенных каплунов… А сколько мыслей, замечаний, Философических идей, Филантропических мечтаний И романтических затей Всегда насчет других людей На ум приходят в это время? Какое сладостное бремя Лежит на сердце и душе! Ах, это счастье без обмана, Оно лишь жителя Монблана Лелеет в вольном шалаше! Один крестьянин полудикий Недаром вымолвил в слезах: «Велик господь на небесах, Велик в Москве Иван Великий!» Итак, хвала тебе, хвала, Живи, цвети, Иван кремлевский, И, утешая слух московский, Гуди во все колокола! 183358. Отрывок из послания к А. П. Л<озовском>у
И нет их, нет! Промчались годы Душевных бурь и мятежей, И я далек от рубежей Войны, разбоя и свободы… И я без грусти и тоски Покинул бранные станицы, Где в вечной праздности девицы, Где в вечном деле казаки; Где молоканки очень строги Для целомудренных невест; Где днем и стража и разъезд, А ночью шумные тревоги; Где бородатый богатырь, Всегда готовый на сраженье, Меняет важно на чихирь В горах отбитое именье; Где беззаботливый старик Всегда молчит благопристойно, Лишь только б сва́рливый язык Не возмущал семьи покойной; Где день и ночь седая мать Готова дочери стыдливой Седьмую заповедь читать; Где дочь внимает терпеливо Совету древности болтливой И между тем в тринадцать лет В глазах святоши боязливой Полнее шьет себе бешмет; …………………………………………… Где безукорая жена Глядит скосясь на изувера,[50] …………………………………………… …………………………………………… Где муж, от сабли и седла Бежав, как тень, в покое кратком, Под кровом мирного угла Себе растит в забвенье сладком Красу оленьего чела; Где всё живет одним развратом;[51] Где за червонец можно быть Жене — сестрой, а мужу — братом; Где можно резать и душить Проезжих с солнечным закатом; Где яд, кинжал, свинец и меч Всегда сменяются пожаром И голова катится с плеч Под неожиданным ударом; Где наконец Кази-Мулла, Свирепый воин исламизма, В когтях полночного Орла Растерзан с гидрой фанатизма, И пал коварный Бей-Булат,[52] И кровью злобы и раздора Запечатлел дела позора Отважный русский ренегат…[53] И всё утихло: стон проклятий, Громов победных торжество,— И село мира божество На трупах недругов и братий… Таков сей край от древних лет, Свидетель казни Прометея, Войны Лукулла и Помпея И Тамерлановых побед. 1833В АЛЬБОМ Ф. А. КОНИ (ЧТО НАПИСАТЬ, ЕЙ-ЕЙ, НЕ ЗНАЮ…)
Что написать, ей-ей, не знаю —
Девиц и женщин не терплю,
Лишь душу, чувство уважаю,
И ум я искренно люблю…
1834
ОПРАВДАНИЕ МУЖА
Берег сокровище! Но льзя ли сберечи,
Когда от оного у всех висят ключи?
<1833>
ОТВЕТ НА ВОПРОС ПУШКИНА
Прошли все юности затеи,
И либеральные идеи
Под верноподданным кнутом.
<1833>
59. Имениннику
Что могу тебе, Лозовский, Подарить для именин? Я, по милости бесовской, Очень бедный господин! В стоицизме самом строгом, Я живу без серебра, И в шатре моем убогом Нет богатства и добра, Кроме сабли и пера. Жалко споря с гневной службой, Я ни гений, ни солдат, И одной твоею дружбой В доле пагубной богат! Дружба — неба дар священный, Рай земного бытия! Чем же, друг неоцененный, Заплачу за дружбу я? Дружбой чистой, неизменной, Дружбой сердца на обмен: Плен торжественный за плен!.. Посмотри: невольник страждет В неприятельских цепях И напрасно воли жаждет, Как источника в степях. Так и я, могучей силой Предназначенный тебе, Не могу уже, мой милый, Перекорствовать судьбе… Не могу сказать я вольно: «Ты чужой мне, я не твой!» Было время — и довольно… Голос пылкий и живой Излетел, как бури вой, Из груди моей суровой… Ты услышал дивный звук, Громкий отзыв жизни новой — И уста, и пламень рук, Будто с детской колыбели, Навсегда запечатлели В нас святое имя «друг!» В чем же, в чем теперь желанье Имениннику души? Это верное признанье Глубже в сердце запиши!.. 30 августа 1833 На Лубянке, дом Лухманова60. Гальванизм, или Послание к Зевесу
Le monde est plein de trompeurs et de trompés. N. M.[54] Итак, узнал я наконец Тебя, Зевес самодержавный![55] Узнал, что мир — большой глупец, А ты — проказник презабавный! Два металлических кружка Да два телятины куска С цепочкой медной за ушами — Вот тайна молний и громов, Которыми, как чудесами, Ты нас стращал из облаков. Гальвани с мертвою лягушкой В лаборатории своей Нам доказал, что ты людей Всегда считал одной игрушкой! Сын праха, слабый и глухой, Под руководством гальванизма Едва ль, Зевес почтенный мой, Я не сойду до атеизма! К чему мне ты? Я сам Зевес! Перуны, молнии и громы Мне без обмана и чудес Теперь торжественно знакомы! Огонь и блеск в моих очах, И гром и треск в моих ушах! Я весь — разгульный шум Содома И мусульманский вертоград, С тех пор как дивный препарат Из мяса, шелку и металла Уснувших сил моих начала Электризует и живит И всё вокруг меня нестройно, Разнообразно, беспокойно, Но гармонически звенит! Итак, Зевес, мое почтенье! Тебе я больше не слуга! Я сам велик — еще мгновенье… И — вознесусь на облака! Тогда, как вздорного соседа, Тебя порядочно уйму, А молодого Ганимеда, Орла и Гебу отниму. После 183361. «Судьба меня в младенчестве убила…»
Судьба меня в младенчестве убила! Не знал я жизни тридцать лет, Но ваша кисть мне вдруг проговорила «Восстань из тьмы, живи, поэт!» И расцвела холодная могила, И я опять увидел свет… Июль 183462. Божий суд
Есть духи зла — неистовые чада Благословенного отца; Удел их — грусть, отчаянье — отрада, А жизнь — мученье без конца! В великий час рождения вселенной, Когда извлек всевышний перст Из тьмы веков эфир одушевленный Для хора солнцев, лун и звезд; Когда творец торжественное слово В премудрой благости изрек: «Да будет прах величия основой!» — И встал из праха человек… Тогда ему, светлы, необозримы, Хвалу воспели небеса, И юный мир, как сын его любимый, Был весь — волшебная краса… И ярче звезд и солнца золотого, Как иорданские струи, Вокруг его, властителя святого Вились архангелов рои! И пышный сонм небесных легионов Был ясен, свят перед творцом И на скрижаль божественных законов Взирал с трепещущим челом. Но чистый огнь невинности покорной В сынах бессмертия потух — И грозно пал с гордынею упорной Высокий ум, высокий дух. Свершился суд!.. Могущая десница Подъяла молнию и гром — И пожрала подземная темница Богоотверженный Содом! И плач, и стон, и вопль ожесточенья Убили прелесть бытия, И отказал в надежде примиренья Ему Правдивый Судия. С тех пор враги прекрасного созданья Таятся горестно во мгле, И мучит их, и жжет без состраданья Печать проклятья на челе. Напрасно ждут преступные свободы: Они противны небесам, Не долетит в объятия природы Их недостойный фимиам! 8 июля 1834 Село Ильинское63. К Е…… И…… Б……й
Таланты ваши оценить Никто не в силах, без сомненья! Возможно ли о том судить, Что выше всякого сужденья? Того ни с чем нельзя сравнить, Что выше всякого сравненья! Вы рождены пленять сердца Душой, умом и красотою, И чувств высоких полнотою Примерной матери и редкого отца. О, тот постигнул верх блаженства, Кто вышней цели идеал, Кто все земные совершенства В одном созданье увидал. Кому же? Мне, рабу несчастья, Приснился дивный этот сон — И с тайной силой самовластья Упал, налег на душу он! Я вижу!.. Нет, не сновиденье Меня ласкает в тишине! То не волшебное явленье Страдальцу в дальней стороне! Не гармоническая лира Звучит и стонет надо мной И из вещественного мира Зовет, зовет меня с собой К моей отчизне неземной!.. Нет! Это вы! Не очарован Я бредом пылкой головы… Цепями грусти не окован Мой дух свободный… Это вы! Кто, кроме вас, творящими перстами, Единым очерком холодного свинца — Дает огонь и жизнь с минувшими страстями Чертам бездушным мертвеца? Чья кисть назло природе горделивой Враждует с ней на лоске полотна И воскрешает прихотливо, Как мощный дух, века и времена? Так это вы!.. Я перед вами… Вы мой рисуете портрет — И я мирюсь с жестокими врагами, Мирюсь с собой! Я вижу новый свет! Простите смелости безумной Певца, гонимого судьбой, Который после бури шумной В эмали неба голубой Следит звезду надежды благосклонной И, сча́стливый, в тени приветливой садов Пьет жадно воздух благовонный Ароматических цветов! 11 июля 1834 Село Ильинское64. «Зачем хотите вы лишить…»
Зачем хотите вы лишить Меня единственной отрады — Душой и сердцем вашим быть Без незаслуженной награды? Вы наградили всем меня — Улыбкой, лаской и приветом, И если я ничто пред целым светом, То с этих пор — я дорог для себя. Я не забуду вас в глуши далекой, Я не забуду вас в мятежной суете; Где б ни был я, везде с тоской глубокой Я буду помнить вас — везде!.. Июль 183465. Черные глаза
О, грустно мне!.. Вся жизнь моя — гроза! Наскучил я обителью земною! Зачем же вы горите предо мною, Как райские лучи пред сатаною, Вы — черные волшебные глаза? Увы! Давно печален, равнодушен, Я привыкал к лихой моей судьбе, Безжалостный, неистовый к себе, Презрел ее в отчаянной борьбе И гордо был несчастию послушен!.. Старинный раб мучительных страстей, Я испытал их бремя роковое, И буйный дух, и сердце огневое — Я всё убил в обманчивом покое, Как лютый враг покоя и людей! В моей тоске, в неволе безотрадной, Я не страдал, как робкая жена: Меня несла противная волна, Несла на смерть — и гибель не страшна Казалась мне в пучине беспощадной. И мрак небес, и гром, и черный вал Любил встречать я с думою суровой, И свисту бурь под молнией багровой Внимать, как муж, отважный и готовый Испить до дна губительный фиал. И, погрузясь в преступные сомненья Об цели бытия… кляня, Я трепетал, чтоб истина меня, Как яркий луч внезапно осеня, Не извлекла из тьмы ожесточенья. Мне страшен был великий переход От дерзких дум до света провиденья; Я избегал невинного творенья, Которое могло без сожаленья Моей душе дать выспренний полет. И вдруг оно, как ангел благодатный… О нет! Как дух, карающий и злой, Светлее дня явилось предо мной С улыбкой роз, пылающих весной На мураве долины ароматной. Явилось… Всё исчезло для меня: Я позабыл в мучительной невзгоде Мою любовь и ненависть к природе, Безумный пыл к утраченной свободе И всё, чем жил, дышал доселе я… В ее очах, алмазных и приветных, Увидел я с невольным торжеством Земной эдем!.. Как будто существом Других миров, как будто божеством Исполнен был в мечтаниях заветных. И дева-рай и дева-красота Лила мне в грудь невыразимым взором Невинную любовь с таинственным укором, И пела в ней душа небесным хором: «Лобзай меня… и в очи, и в уста Лобзай меня, певец осиротелый, Как мотылек лилею поутру! Люби меня как милую сестру, И снова я и к небу, и к добру Направлю твой рассудок омертвелый!» И этот звук разгаданных речей, И эта песнь души ее прекрасной В восторге чувств и неги сладострастной Гремели в ней, волшебнице опасной, И врезались в огонь ее очей!.. Напрасно я мой гений горделивый, Мой злобный рок на помощь призывал: Со мною он как друг изнемогал, Как слабый враг пред мощным трепетал,— И я в цепях пред девою стыдливой! В цепях!.. Творец!.. Бессильное дитя Играет мной по воле безотчетной, Казнит меня с улыбкой беззаботной, И я как раб влачусь за ним охотно, Всю жизнь мою страданью посвятя!.. Но кто она, прелестное созданье? Кому любви, беспечной и живой, Приносит дар, быть может, роковой? Увы! Где тот, кто девы молодой Вопьет в себя невинное дыханье?.. Гроза и гром!.. Ужель мои уста Произнесут убийственное слово? Ужели всё в подсолнечной готово Лишить меня прекрасного земного?.. Так! Я лишен, лишен — и навсегда!.. Кто видел терн, колючий и бесплодный, И рядом с ним роскошный виноград? Когда ж и где равно их оценя́т И на одной гряде соединят?.. Цветет ли мирт в Лапландии холодной?.. Вот жребий мой! Благие небеса! Быть может, я достоин наказанья, Но я с душой — могу ли без роптанья Сносить мои жестокие страданья? Забуду ль вас, — о черные глаза? Забуду ль те бесценные мгновенья, Когда с тобой, как друг, наедине, Как нежный друг, при солнце и луне Я заводил беседы в тишине И изнывал в тоске, без утешенья! Когда между развалин и гробов Блуждали мы с унылыми мечтами, И вечный сон над мирными крестами, И смерть, и жизнь летали перед нами, И я искал покоя мертвецов,— Тогда одной рассеянною думой Питали мы знакомые сердца… О, как близка могила от венца! О, что любовь — не прах ли мертвеца?.. И я склонял к могилам взор угрюмый. И ты, бледна, с потупленной главой, Следила ход мой, быстрый и неровный; Ты шла за мной, под тению дубровной Была со мной… И я наш пир духовный Не променял на сча́стливый земной!.. И сколько раз над нежной Элоизой Я находил прекрасную в слезах, Иль, затая дыханье на устах, Во тьме ночей стерег ее в волнах, Где иногда под сумрачною ризой, Бела как снег, волшебные красы Она струям зеркальным предавала, А между тем стыдливо обнажала И грудь, и стан, и ветром развевало И флер ее, и черные власы… Смертельный яд любви неотразимой Меня терзал и медленно губил; Мне снова мир, как прежде, опостыл… Быть может… Нет! Мой час уже пробил, Ужасный час, ничем не отвратимый! Зачем гневить безумно небеса? Ее уж нет!.. Она цветет и ныне… Но где?.. Для чьей цветет она гордыни? Чей фимиам курится для богини?.. Скажите мне, о черные глаза! 183466. Негодование
Где ты, время невозвратное Незабвенной старины? Где ты, солнце благодатное Золотой моей весны? Как видение прекрасное В блеске радужных лучей Ты мелькнуло, самовластное, И сокрылось от очей! Ты не светишь мне по-прежнему, Не горишь в моей груди,— Предан року неизбежному Я на жизненном пути, Тучи мрачные, громо́вые Над главой моей висят, Предвещания суровые Дух унылый тяготят. Как я много драгоценного В этой жизни погубил! Как я идола презренного — Жалкий мир — боготворил! С силой, дивной и кичливою, Добровольного бойца И с любовию ревнивою Исступленного жреца Я служил ему торжественно, Без раскаянья страдал И рассудка луч божественный На безумство променял! Как преступник, лишь окованный Правосудною рукой,— Грозен ум, разочарованный Светом истины нагой! Что же?.. Страсти ненасытные Я таил среди огня, И друзья — злодеи скрытные — Злобно предали меня! Под эгидою ласкательства, Под личиною любви Роковой кинжал предательства Потонул в моей крови! Грустно видеть бездну черную После неба и цветов, Но грустнее жизнь позорную Убивать среди рабов И, попранному обидою, Видеть вечно за собой С неотступной Немезидою Безответственный разбой! Где ж вы, громы-истребители, Что ж вы кроетесь во мгле, Между тем как притеснители Властелины на земле! Люди, люди развращенные — То рабы, то палачи,— Бросьте злобой изощренные Ваши копья и мечи! Не тревожьте сталь холодную — Лютой ярости кумир! Вашу внутренность голодную Не насытит целый мир! Ваши зубы кровожадные Блещут лезвием косы — Так грызитесь, плотоядные, До последнего, как псы!.. 183467. На болезнь юной девы
Ты ли, ангел ненаглядный, Ты ли, дева — алый цвет,— Изнываешь безотрадно В полном блеске юных лет? На тебя ль недуг туманный В пышном празднике весны Налетел, как враг нежданный Из далекой стороны? Скучен, грустен взор печальный Голубых твоих очей — Он, как факел погребальный, Блещет в сумраке ночей. Развился пушистый волос На увядших раменах, Нет улыбки, томный голос Слабо ропщет на устах. И для чувства наслажденья, И для неги и любви Ты мертва, огонь мученья Пробежал в твоей крови!.. И когда ж бальзам природы — Утешитель бытия — Воскресит и для свободы И для счастия тебя? Верь мне, дева, с ранним утром, В те часы, когда росой, Будто светлым перламутром, Будто яркою слезой, Окристаллятся поляны И весенние цветы И денницы луч багряный Блещет мирно с высоты, И тогда, как ночью сонной Осенен безмолвный мир И прохладно, благовонно Веет сладостный зефир,— Я дремотою отрадной Не сомкну моих очей И встречаю с грустью хладной Свет зари и тьму ночей!.. Что мне солнце, что мне звезды! Что мне ясная лазурь! Я в груди, как в лоне бездны, Затаил весь ужас бурь… Дева-солнце, дева-радость! Ты явилась мне в тиши — И влетела жизни сладость В глубину моей души! Я знакомые страданья На мгновенье позабыл — И любви и упованья Чашу полную испил. Я мечтал… Но дух упорный, Мой гонитель на земле, Луч надежды благотворной Потопил в глубокой мгле. Где ты, что ты, образ милый? Я ищу тебя, но ты — Только призрак лишь унылый Изнуренной красоты!.. 183468. Баю-баюшки-баю
В темной горнице постель, Над постелью колыбель; В колыбели с полуночи Бьется, плачет что есть мочи Беспокойное дитя… Вот, лампаду засветя, Чернобровка молодая Суетится, припадая Белой грудью к крикуну, И лелеет, и ко сну Избалованного клонит, И поет, и тихо стонет На чувствительный распев Девяностолетних дев.Усыпительная песня
Да усни же ты, усни, Мой хороший молодец! Угомон тебя возьми, О постылый сорванец! Баю-баюшки-баю! Уж и есть ли где такой Сизокрылый голубок, Ненаглядный, дорогой, Как мой миленький сынок? Баю-баюшки-баю! Во зеленом во саду Красно вишенье растет, По широкому пруду Белый селезень плывет. Баю-баюшки-баю! Словно вишенье румян, Словно селезень он бел,— Да усни же ты, буян! Не кричи же ты, пострел! Баю-баюшки-баю! Я на золоте кормить Буду сына моего; Я достану, так и быть, Царь-девицу для него! Баю-баюшки-баю! Будет важный человек, Будет сын мой генерал… Ну, заснул… хотя б навек! Побери его провал! Баю-баюшки-баю! Свет потух над генералом; Чернобровка покрывалом Обвернула колыбель — И ложится на постель… В темной горнице молчанье, Только тихое лобзанье И неясные слова Были слышны раза два. После, тенью боязливой Кто-то, чудилося мне, Осторожно и счастливо, При мерцающей луне Пробирался по стене. 183469. Автор и читатель
Автор Позвольте вам поднесть Тетрадь моих стихов… Читатель Извольте. Автор Прикажете прочесть С полдюжины листов? Читатель Увольте! Автор Статейки хороши — Вот эти, например… Читатель Прекрасны. Автор А сколько в них души! А рифмы, а размер! Читатель Ужасны! Автор Хочу, чтобы меня Князь Шаликов хвалил. Читатель Отрадно. Автор Почтеннейшему я Две книги подарил. Читатель Ну, ладно. Автор Я вижу, от стихов Вы любите зевать? Читатель Безмерно. Автор Плодом моих трудов Нельзя пренебрегать. Читатель О, верно… Автор Желаю вас спросить: Вы шутите иль нет? Читатель Немного. Автор Прошу не позабыть, Что колкий я поэт! Читатель Как строго! Автор Сатиру в целый том И сотню эпиграмм… Читатель О боже! Автор Во гневе роковом Готовлю я врагам… Читатель И что же? Автор Узнаете же вы, Что значу я между… Читатель Глупцами? Автор Восплещет пол-Москвы Правдивому суду… Читатель Над вами! 183470. Грусть
На пиру у жизни шумной, В царстве юной красоты, Рвал я с жадностью безумной Благовонные цветы. Много чувства, много жизни Я роскошно потерял И душевной укоризны, Может быть, не избежал. Отчего ж не с сожаленьем, Отчего — скажите мне — Но с невольным восхищеньем Вспомнил я о старине? Отчего же локон черный, Этот локон смоляной День и ночь, как дух упорный, Всё мелькает предо мной? Отчего, как в полдень ясный Голубые небеса, Мне таинственно прекрасны Эти черные глаза? Почему же голос сладкой, Этот голос неземной Льется в душу мне украдкой Гармонической волной? Что тревожит дух унылый, Манит к счастию меня? Ах, не вспыхнет над могилой Искра прежнего огня! Отлетели заблуждений Невозвратные рои — И я мертв для наслаждений, И угас я для любви! Сердце ищет, сердце просит После бури уголка, Но мольбы его разносит Безотрадная тоска! 183471. Разочарование
Была пора — за милый взгляд, Очаровательно притворный, Платить я жизнию был рад Красе обманчиво упорной! Была пора — и ночь, и день Я бредил хитрою улыбкой, И трудно было мне, и лень Расстаться с жалкою ошибкой. Теперь пора веселых снов Прошла, рассорилась с поэтом,— И я за пару нежных слов Себя безумно не готов Отправить в вечность пистолетом. Теперь хранит меня судьба: Пленяюсь женщиной, как прежде, Но разуверился в надежде Увидеть розу без шипа. 183472. Сарафанчик
Мне наскучило, девице, Одинешенькой в примерной мате Шить узоры серебром! И без матушки родимой Сарафанчик мой любимый Я надела вечерком — Сарафанчик, Расстеганчик! В разноцветном хороводе Я играла на свободе И смеялась как дитя! И в светлицу до рассвета Воротилась: только где-то Разорвала я шутя Сарафанчик, Расстеганчик! Долго мать меня журила — И до свадьбы запретила Выходить за ворота; Но за сладкие мгновенья Я тебя без сожаленья Оставляю навсегда, Сарафанчик, Расстеганчик! 183473. Картина («О толстый муж, и поздно ты и рано…»)
О толстый муж, и поздно ты, и рано С чахоточной женой сидишь за фортепьяно, И царствует тогда и смех, и тишина… О толстый муж! О тонкая жена! Приходит мне на мысль известная картина — Танцующий медведь с наряженной козой… О, если б кто-нибудь увидел господина, Которого теперь я вижу пред собой, То верно бы сказал: «Премудрая природа, Ты часто велика, но часто и смешна! Простите мне, но вы — два страшные урода, О толстый муж, о тонкая жена!» 183474. Глупой красавице
Как бюст Венеры, ты прекрасна, Но без души и без огня, Как хладный мрамор, для меня Ты, к сожаленью, не опасна. Ты рождена, чтобы служить В лукавой свите Купидона, Но прежде должно оживить Тебя резцом Пигмалиона. 183475. Атеисту
Не оглушайте вы меня Ни вашим карканьем, ни свистом Против начала бытия! Смотря внимательно на вас, Я не могу быть атеистом: Вы без души, ума и глаз! 183476. Напрасное подозрение
«Нет! Это, друг, не сновиденье: Я вижу у тебя есть женский туалет! Женат ты?» — «Нет…» — «Не может быть!» — «Какое подозренье! Ты знаешь сам: я женщин не терплю». — «Откуда ж у тебя явились папильотки?» — «О милый мой! Поверь, не от красотки: Нередко завивать собачку я люблю». 183477. Село Печки (принадлежащее тринадцати помещикам)
Полны божественной отвагой, Седрах, Мисах и Авденаго Когда-то весело в печи Хвалили бога с херувимом И вышли в здравье невредимом, И ужаснулись палачи!.. Теперь — совсем другое дело, Теперь боятся лишь плетей, И заверяю очень смело, Что это лучше для людей. Умнее сделались народы: Всем есть свиней позволено́, И печь халдейская из моды В Европе вывелась давно. Все стали смирны как овечки, Живут, плодятся и растут И смертью собственною мрут… Но есть село — его зовут Не печь халдейская, а Печки. И в том селе, как ветчина, Коптятся маленькие хлопцы, Двенадцать их, а старшина У них тринадцатый: Потоцци. 183578. На память о себе
Враждуя с ветреной судьбой, Всегда я ветреностью болен И своенравно недоволен Никем, а более — собой. Никем — за то, что черным ядом Сердца людей напоены́; Собой — за то, что вечным адом Душа и грудь моя полны. Но есть приятные мгновенья!.. Я испытал их между вас, И, верьте, с чувством сожаленья Я вспомяну о них не раз. 183579. Отчаяние
Он ничего не потерял, кроме надежды. А. П<ушкин> О, дайте мне кинжал и яд, Мои друзья, мои злодеи! Я понял, понял жизни ад, Мне сердце высосали змеи!.. Смотрю на жизнь как на позор — Пора расстаться с своенравной И произнесть ей приговор Последний, страшный и бесславный! Что в ней? Зачем я на земле Влачу убийственное бремя?.. Скорей во прах!.. В холодной мгле Покойно спит земное племя: Ничто печальной тишины Костей иссохших не тревожит, И череп мертвой головы Один лишь червь могильный гложет. Безумство, страсти и тоска, Любовь, отчаянье, надежды И всё, чем славились века, Чем жили гении, невежды,— Всё праху, всё заплатит дань До той поры, когда природа В слух уничтоженного рода Речет торжественно: «Восстань!» <1836>НЕЧТО О ДВУХ БРАТЬЯХ КНЯЗЬЯХ ЛЬВОВЫХ
1
Кто видел в Жиздринском уезде
Село с прудом,
С мостом
И с церковью при въезде?
В селе том есть старинный дом,
Огромный, желтый и с крыльцом,
И рядом новые палаты;
В палатах тех, мои друзья.
Живут два барина, два брата,
Два отставных полусолдата
И, с божьей помощью, князья;
И есть у них по половине,
Один: женат,
Горбат,
Рогат
Назло лихой судьбине,
Затем, что прост,
Как женин хвост,
По крайней мере, ныне.
Другой: тюфяк,
Вахлак,
Не хочет в брак
Никак
И по особенной причине:
Живет с подругой так…
Они живут
Весьма приятно,
Едят и пьют
Всегда опрятно
И аккуратно
Два раза в день.
Потом ложатся;
Ложась — бранятся,
Бранясь — мирятся
И все — не лень;
Потом проснутся,
Чайку напьются.
2
Потом пора
И со двора:
И вот выходят…
И вот выводят
Им лошадей,
«Держи правей!» Кричит лакей,
И вот садятся
Попарно в лад
И покатятся,
Должно быть, в ряд…
Уж где бывают,
И где зевают,
И что болтают —
Не можем знать!
Потом с дороги
В свои чертоги
Приедут спать!
Не будем строго
Их осуждать
За то, что много
Привыкли спать,—
Ведь спать — не грех…
Но, между нами,
Скажу не в смех,
Что под глазами
И у него
И у нее Весьма синё.
Знать, очень туго
И во всю мочь
Они друг друга
Лелеют в ночь…
Другая дева,
Или жена,
Или княжна,
Всегда полна
На б… гневна:
Сперва его
Раз пять прибьет,
А без того
И не заснет
<1833–1836>
80. Красное яйцо
А. П. Лозовскому
1
В те времена, когда вампир Питался кровию моей, Когда свобода, мой кумир, Узнала ужасы цепей; Когда, поверженный во мгле, С клеймом проклятья на челе, В последний раз на страшный бой, На беспощадную борьбу, Пылая местью роковой, Я вызывал мою судьбу; Когда, сурова и грозна, Секиру тяжкую она Уже подъяла надо мной — И разлетелся бы мой щит, Как вал девятый и седой, Ударясь смело о гранит; Когда в печальной тишине Я лютой битвы ожидал,— Тогда, как вестник мира, мне Ты неожиданно предстал! Мою бунтующую кровь С умом мятежным помирил И в душу мрачную любовь К постыдной жизни водворил… Так солнца ясного лицо Рассеивает ночи тень, Так узнику в великий день Даруют красное яйцо!..2
Всему в природе есть закон — Луна сменяется луной, И годы мчит река времен Невозвратимою волной!.. Лучи обманчивых надежд Еще горят во тьме ночей… ……………………………………… ……………………………………… Моя судьба — то иногда Мне улыбнется вдалеке, То, как знакомая мечта, Опять с секирою в руке И опершись на эшафот, Мне безотрадно предстает… Тоска, отчаянье и грусть Мрачат лазурный небосклон Певца, который наизусть Врагом и другом затвержен… Безмолвен, мрачен и угрюм, Я дань бесславию плачу И в вечном вихре черных дум Оковы тяжкие влачу!.. ……………………………………… Лишь ты один меня постиг… Кому, скажи, как не тебе Знаком в убийственной судьбе Прямой души моей язык?.. Не ты ль один моих страстей Прочел заветную скрижаль И разгадал, быть может, в ней Туманной будущности даль?.. Не ты ли дикий каземат Преобразил, волшебник мой, В цветник, приятный и живой, В весенний скромный вертоград?3
И пронеслося много лет, С тех пор когда явился ты, Как животворный, тихий свет, Ко мне в обитель темноты… И где воинственный Кавказ С его суровой красотой, Где я с унылою мечтой Бродил, страдал, но не угас!.. Где дни отрады, новых мук, Свиданий новых и разлук, Минуты дружеских бесед, Порывы бешеных страстей И всё, и всё?.. Их больше нет,— Они лишь в памяти моей. Но сам я здесь, опять с тобой, С тобою, верный, милый друг, Как гул протяжный, тихий звук, Иль эхо с арфой золотой!.. Апрель 1836 Москва81. Русская песня («Разлюби меня, покинь меня…»)
Разлюби меня, покинь меня, Доля, долюшка железная! Опротивела мне жизнь моя, Молодая, бесполезная! Не припомню я счастливых дней, Не знавал я их с младенчества,— Для измученной души моей Нет в подсолнечной отечества! Слышал я, что будто божий свет Я увидел с тихим ропотом — А потом житейских бурь и бед Не избегнул с горьким опытом. Рано-рано ознакомился Я на море с непогодою. Поздно-поздно приготовился В бой отчаянный с невзгодою! Закатилася звезда моя, Та ль звезда моя туманная, Что следила завсегда меня, Как невеста нежеланная. Не ласкала, не лелеяла, Как любовница заветная, Только холодом обвеяла, Как изменница всесветная. <1836>82. Русская песня («Долго ль будет вам без умолку идти…»)
Долго ль будет вам без умолку идти, Проливные, безотрадные дожди? Долго ль будет вам увлаживать поля? Осушится ль скоро мать-сыра земля? Тихий ветер свежий воздух растворит — И в дуброве соловей заголосит. И придет ко мне, мила и хороша, Юный друг мой, красна девица-душа! Соловей мой, соловей, Ты от бури и дождей — Ты от пасмурных небес Улетел в дремучий лес. Ты не свищешь, не поешь — Солнца ясного ты ждешь! Дева-девица моя, Ты от бури и дождя И печальна и грустна, В терему схоронена́! К другу милому нейдешь — Солнца ясного ты ждешь! Перестаньте же без умолку идти, Проливные, безотрадные дожди! Дайте вёдру, дайте солнцу проглянуть. Дайте сердцу после горя отдохнуть! Пусть, как прежде, и прекрасна и пышна, Воцарится благотворная весна, Разольется в звонкой песне соловей, И я снова, сладострастней и звучней, Расцелую очи девицы моей. <1837>83. Эндимион
Dors, cette nuit encore d’un sommeil pur et doux.
V. H<ugo>[56] Ты спал, о юноша, ты спал, Когда она, богиня скал, Лесов и неги молчаливой, Томясь любовью боязливой, К тебе, прекрасна и светла, С Олимпа мрачного сошла; Когда одна, никем не зрима, Тиха, безмолвна, недвижи́ма, Она стояла пред тобой, Как цвет над урной гробовой; Когда без тайного укора Она внимательного взора С тебя, как с чистого стекла, Свести, красавец, не могла! И сладость робких ожиданий, И пламень девственных желаний Дышали жизнью бытия В груди божественной ея! Ты спал… но страстное лобзанье Прервало сна очарованье: Ты очи черные открыл — И, юный, смелый, полный сил, Под тенью миртового леса Пред юной дщерию Зевеса Склонил колено и чело!.. Счастливый юноша! Светло Редеет ночь, алеет небо! Смотри: предшественница Феба Открыла розовым перстом Врата на своде голубом. Смотри!.. Но бледная Диана В прозрачном облаке тумана Без лучезарного венца Уже спешит в чертог отца И снова ждет в тоске ревнивой Покрова ночи молчаливой! <1837>84. Белая ночь
Tout va au mieux…
«Candide»[57]1
Чудесный вид, волшебная краса! Белы как день земля и небеса! Вдали — кругом холодная, немая Везде одна равнина снеговая, Везде один безбрежный океан, Окованный зимою великан! Всё ночь и блеск! Ни облака, ни тучи Не пронесет по небу вихрь летучий, Не потемнит воздушного стекла. Природа спит, уныла и светла!.. Чудесный вид, волшебная краса! Белы как день земля и небеса!2
Великий град на берегах Неглинной, Святая Русь под мантией старинной. Москва, приют разгульной доброты, Тревогой дня утомлена и ты! Покой и мир на улицах столицы,— Еще кой-где мелькают колесницы, Во весь опор без жалости гоня, Извозчик бьет кой-где еще коня. На пустырях и крик, и разговоры, И между тем бессонные дозоры! Чудесный вид, волшебная краса! Белы как день земля и небеса!3
Зачем же ты, невинное дитя, Так резво день минувший проведя Между подруг безгрешно-благонравных, Теперь одна в мечтаньях своенравных Проводишь ночь печально у окна? Но что я? Нет! Ты, вижу, не одна? Мне зоркий глаз, мне свет твоей лампады Не изменят!.. Ах, ах! Твои наряды Упали с плеч!.. Дитя мое, Адель! Не духа ли влечешь ты на постель?[58] Чудесный вид, волшебная краса! Белы как день земля и небеса!4
Увы! Увы! Бессонницей томимый, Волнуемый тоской непостижимой, Я потерял рассеянный мой ум! То вижу блеск, то чудится мне шум, Невнятные, прерывные стенанья И страстные, горячие лобзанья! Проказница, жестокая Адель! Да кто же он? Счастливый этот Лель? Кто этот сильф?.. Свершилось! Нет отрады, Потух огонь изменницы-лампады! Чудесный вид! Волшебная краса! Белы как день земля и небеса! <1837>85. Когда-то
Helas![59]
Когда-то много кой-чего Она с улыбкой мне сулила, И после — что же? Ничего!.. Как всем, с улыбкой изменила! Когда-то с ней наедине, Мечтой волшебной упоенный, Я предавался, весь в огне, Порывам страсти исступленной! Когда-то дерзкая рука Играла черными кудрями И осеняли смельчака Те кудри пышными роями… Когда-то влажные уста Мне дали сладкое лобзанье, И я бы мог… Но вот беда: Я глуп был. Грустное сознанье!86. Картина («Как ты божественно прекрасна…»)
Chaque étoile à son tour vient apparaître au ciel.
H.[60] Как ты божественно прекрасна, О дева, рай моих очей! Как ты без пламенных речей Красноречиво сладострастна! Для наслажденья и любви Ты создана очарованьем. Сама любовь своим дыханьем Зажгла огонь в твоей крови! Свежее розы благовонной Уста румяные твои, Лилейный пух твоей груди Трепещет негой благосклонной! И этой ножки белизна, И эта темная волна По лоску бархатного тела, И этот стан зыбучий, смелый, Соблазн и взора и руки,— Манят, и мучат, и терзают, И безотрадно растравляют Смертельный яд моей тоски! Друзья мои! (Я своевольно Хочу иметь везде друзей! Хоть друг, предатель и злодей — Одно и то же! Очень больно! Но так и быть!) Друзья мои! Я вижу часто эту пери — Она моя! Замки и двери Меня не разлучают с ней! И днем и позднею порою, В кругу заветном и один, Любуюсь я, как властелин, Ее волшебною красою! Могу лобзать ее всегда В чело, и в очи, и в уста, И тайны грации стыдливой Ласкать рукою прихотливой!.. «Счастливец!» — скажете вы мне… Напрасно… Всё мое блаженство, Всё милой девы совершенство И вся она — на полотне! <1837>87. К набеленной красавице
Я говорил вам и не раз, Скажу опять: вы милы! Особенно, когда у вас Не в милости белилы! К чему невинная рука, Рабыня вялой моды, Таит и кра́дет два цветка Любимые природы? Давно ли яркой белизне, Не радующей взоры, Придать позволено весне Генварские узоры? Ужели ландыш снеговой И роза Гулистана Цветут по воле роковой Искусства и обмана? О нет! Отрада соловья, Красавица Востока, Не переменит бытия Из прихоти жестокой Влюбленной в ландыш и в себя Шалуньи черноокой! Глаза ведь — зеркало души (Преданья вековые!) — У вас прекрасны, хороши, Как стрелы огневые. Но цвет лица — другое он Достоинство имеет: Все тайны сердца без препон Он высказать умеет! Тоска любви, надежда, страх, Невинное желанье — Всё видно в нем, как в небесах Блестящее сиянье! Зачем же милые цветки — Румяные ланиты — У вас завесою тоски Без жалости прикрыты? О! Разлюбите этот цвет, Он страсти не обманет,— Иль поцелуем вас поэт Невольно разрумянит. <1837>КОГДА-ТО
КОГДА-ТО
Heks!
Когда-то много кой-чего
Она с улыбкой мне сулила,
И после — что же? Ничего!..
Как всем, с улыбкой изменила!
Когда-то с ней наедине,
Мечтой волшебной упоенный,
Я предавался, весь в огне,
Порывам страсти исступленной!
Когда-то дерзкая рука
Играла черными кудрями
И осеняли смельчака
Те кудри пышными роями.
Увы! Греховного плода
Они вкушали неизбежно —
И отходили безмятежно,
Никто не ведает куда!
Холодный зритель улыбался,
Лукавый родственник смеялся;
Сатира колким языком
Об них минуты две судила,
Потом — холодная могила
Навек бесчувственным песком
Их трупы грешные прикрыла!
Скажите ж мне в последний раз,
Непостижимые созданья!
Куда из круга мирозданья,
Куда вы кроетесь от нас?..
Кто этот мир без сожаленья
Покинуть может навсегда?
Не тот ли, кто без заблужденья,
Как неподвижная звезда,
Среди воздушного волненья
Привык умом своим владеть…
И, сын бессмертия и праха,
Без суеверия и страха
Умеет жить и умереть.
25 ноября 1835 Москва
88. Тюрьма
«Воды, воды!..» Но я напрасно Страдальцу воду подавал. А. П<ушкин> За решеткою, в четырех стенах, Думу мрачную и любимую Вспомнил молодец, и в таких словах Выражал он грусть нестерпимую: «Ох ты, жизнь моя молодецкая! От меня ли, жизнь, убегаешь ты, Как бежит волна москворецкая От широких стен каменно́й Москвы! Для кого же, недоброхотная, Против воли я часто ратовал? Иль, красавица беззаботная, День обманчивый тебя радовал? Кто видал, когда на лихом коне Проносился я степью знойною? Как сдружился я при седой луне С смертью раннею, беспокойною? Как таинственно заговаривал Пулю верную и метелицу, И приласкивал и умаливал Ненаглядную красну девицу? Штофы, бархаты, ткани цве́тные Саблей острою ей отмеривал И заморские вина светлые В чашах недругов после пенивал? Знали все меня — знал и стар, и млад, И широкий дол, и дремучий лес… А теперь на мне кандалы гремят, Вместо песен я слышу звук желез… Воля-волюшка драгоценная! Появись ты мне, несчастливому, Благотворная, обновленная — Не отдай судье справедливому!..» Так он, молодец, в четырех стенах Страже передал мысль любимую; Излилась она, замерла́ в устах — И кто понял грусть нестерпимую? <1837>89. Тоска
Бывают минуты душевной тоски, Минуты ужасных мучений, Тогда мы злодеи, тогда мы враги Себе и мильонам творений. Тогда в бесконечной цепи бытия Не видим мы цели высокой — Повсюду встречаем несчастное «я», Как жертву над бездной глубокой; Тогда, безотрадно блуждая во тьме, Храним мы одно впечатленье, Одно ненавистное — холод к земле И горькое к жизни презренье. Блестящее солнце в огнистых лучах И неба роскошного своды Теряют в то время сиянье в очах Несчастного сына природы; Тоска роковая, убийца-тоска Над ним тяготеет, как мрамор могилы, И губит холодная смерти рука Души изнуренные силы. Но зачем же вы убиты, Силы мощные души! Или были вы сокрыты Для бездействия в тиши? Или не было вам воли В этой пламенной груди, Как в широком чистом поле, Пышным цветом расцвести? …………………………………………… …………………………………………… <1837>90. Удивительное приключение одного стихотворца
«Enfant, pourquoi pleurez vous?»
— «J’ai brisé mon miroire».
V.[61] Два дня, две ночи он писал — На третью наконец устал; Уснул — и что ж? О удивленье, Окончил сонный сочиненье! Вдруг видит он Престрашный сон, Что будто демонская сила Со всех сторон Его в постели окружила! И будто сам верховный бес, Мохнатый, Как уголь черный и рогатый, Под занавес К нему залез. Вот он встает, творит молитву — И вызвал демона на битву! Не знаю, долго или нет Продлилось грозное явленье, Но только выиграл поэт Великое сраженье! Всю крепость мышц своих собрал — И черта бедного на части разорвал! Но с кем он именно сражался? Ужель никто не угадал? Ему нечистым показался Его стихов оригинал! Что, если бы в жару подобных сновидений Кончались точно так И многие из русских сочинений? Но нет! Умен лукавый враг — И в этой жизни он никак Не хочет нас оставить без мучений! <1837>91. Глаза
Je crois parce que je crois!
V.[62] Нелепин верит — и всему, И без понятия, и слепо! Недум, не веря ничему, Опровергает всё нелепо! Скажите первому шутя, Что муха нос ему откусит… При этой новости он струсит — И вам поверит, как дитя. Потом спросите вы Недума: Счастли́в ли он своей женой? И не скрывает ли без шума Ее фантазий, как другой? Он вам ответит: «О, напрасно! Я ею счастлив и богат!» А между тем давно уж гласно, Что он невыгодно женат! Противоречия во мненьях — Оригинальный их девиз! И то же самое в явленьях Большого света и кулис. Один живет слепою верой В чужие мысли и дела, Другой скептическою мерой Определяет цену зла! И тот и этот без ошибки Судить готовы обо всем; И кроме жалостной улыбки Над их мечтательным умом — Они всё видят — и покойны! Так путник в жаркий летний день Встречает ключ в пустыне знойной И пальмы сладостную тень! И кто узнал, где наш Иуда? Куда обрушится, откуда Неизбежи́мая гроза? А? Для того иметь нехудо Свои хоть слабые глаза. <1837>92. Он и она
Il lui dit une sottise — elle lui répond par une autre.
N. M.[63] Он В последний раз, прекрасная, скажи: Любим ли я хоть несколько тобою? Она О милый друг, мне суждено судьбою Быть от тебя без сердца и души! Он Творец, я жив! Но, ангел лучезарный, Зачем же ты не хочешь доказать?.. Она Моей любви?.. Злодей неблагодарный! Давно бы мог об этом мне сказать! Он Иди за мной! В тени густой дубровы Узнаешь ты миг счастья золотой? Она Иду, и знай: Лукреции суровой Ты не найдешь, Тарквиний молодой! <1837>93. Ожидание («Напрасно маменька при мне…»)
Напрасно маменька при мне Всегда бывает безотлучно. Мне на пятнадцатой весне При ней, ей-богу, что-то скучно! Нельзя природу обмануть,— Я это очень замечаю! И уж давно кого-нибудь Как будто жду — и не встречаю! Но он, желаемый, придет, Рассеет думу роковую — И роза бледная вопьет В себя росинку дождевую. <1837>94. Из VIII главы Иоанна
И говорят ему: «Она Была в грехе уличена На самом месте преступленья. А по закону мы ее Должны казнить без сожаленья; Скажи нам мнение свое!» И на лукавое воззванье, Храня глубокое молчанье, Он нечто — грустен и уныл — Перстом божественным чертил! И наконец сказал народу: «Даю вам полную свободу Исполнить древний ваш закон, Но где тот праведник, где он, Который первый на блудницу Поднимет тяжкую десницу?» И вновь писал он на земле!.. Тогда с печатью поношенья На обесславленном челе Сокрылись чада ухищренья — И пред лицом его одна Стояла грешная жена! И он с улыбкой благотворной Сказал: «Покинь твою боязнь! Где обвинитель твой упорный, Кто осудил тебя на казнь?» Она в ответ: «Никто, учитель!» — «Итак, и я твоей души Не осужу, — сказал спаситель,— Иди в свой дом и не греши». <1837>95. Венок на гроб Пушкина
Oh, qu’il est saint et pur le transport du poéte, Quand il voit en espoir, bravant la mort muette, Du voyage des temps sa gloire revenir! Sur les âges futurs, de sa hauteur sublime, Il se penche, écoutant son lointain souvenir; Et son nom, comme un poids jeté dans un abîme, Eveille mille échos au fond de l’avenir! V. Hugo[64]1
Эпоха! Год неблагодарный!.. Россия, плачь!.. Лишилась ты Одной прекрасной, лучезарной, Одной брильянтовой звезды. На торжестве великом жизни Угас для мира и отчизны Царь сладких песен, гений лир! С лица земли, шумя крылами, Сошел, увенчанный цветами, Народной гордости кумир! И поэтические вежды Сомкнула грозная стрела, Тогда как светлые надежды Вились вокруг его чела! Когда рука его сулила Нам тьму надежд, тогда сразила Его судьба, седой палач! Однажды утро голубое Узрело дело роковое… О, плачь, Россия, долго плачь! Давно ль тебя из недр пустыни полудикой Возвел для бытия и славы Петр Великий, Как деву робкую на трон! Давно ли озарил лучами просвещенья С улыбкою отца, любви и ободренья Твой полунощный небосклон. Под знаменем наук, под знаменем свободы Он новые создал, великие народы, Их в ризы новые облек; И ярко засиял над царскими орлами, Прикрытыми всегда победными громами, Младой поэзии венок. Услыша зов Петра, торжественный и громкий, Возникли: старина, грядущие потомки, И Кантемир, и Феофан; И наконец во дни величия и мира Взгремела и твоя божественная лира, Наш холмогорский великан! И что за лира! Жизнь! Ее златые струны Воспоминали вдруг и битвы и перуны Стократ великого царя, И кроткие твои дела, Елисавета; И пели все они в услышание света Под смелой дланью рыбаря! Открылась для ума неведомая сфера, В младенческих душах зиждительная вера Во всё прекрасное зажглась, И счастия заря роскошно и приветно До скал и до степей Сибири многоцветной От вод балтийских разлилась! Посеяли тогда изящные искусства В груди богатырей возвышенные чувства; Окреп полмира властелин. И обрекли его в воинственной державе Бессмертию веков, незакати́мой славе Петров, Державин, Карамзин!2
Потом, когда неодолимый Сын революцьи Бонапарт Вознес рукой непобедимой Трехцветный Франции штандарт, Когда под сень его эгиды Склонились робко пирамиды И Рима купол золотой; Когда смущенная Европа В волнах кровавого потопа Страдала под его пятой; Когда, отважный, вне законов, Как повелительное зло, Он диадимою Бурбонов Украсил дерзкое чело; Когда, летая над землею, Его орлы, как будто мглою, Мрачили день и небеса; Когда муж пагубы и рока Устами грозного пророка Вещал вселенной чудеса; Когда воинственные хоры И гимны звучные певцов Ему читали приговоры И одобрения веков; И в этом гуле осуждений, Хулы, вражды, благословений Гремел, гремел, как дикий стон, Неукротимый и избра́нный Под небом Англии туманной Твой дивный голос, о Байро́н!.. Тогда, тогда в садах Лицея, Природный русский соловей, Весенней жизнью пламенея, Расцвел наш юный корифей. И гармонические звуки Его младенческие руки Умели рано извлекать; Шутя пером, играя с лирой, Он Оссиановой порфирой Хотел, казалось, обладать… Он рос, как пальма молодая На иорданских берегах, Главу высокую скрывая В ему знакомых облаках; И, друг волшебных сновидений, Он понял тайну вдохновений, Глагол всевышнего постиг, Восстал, как новая стихия, Могуч, и славен, и велик,— И изумленная Россия Узнала гордый свой язык!3
И стал он петь, и всё вокруг него внимало; Из радужных цветов вручил он покрывало Своей поэзии нагой. Невинна и смела, божественная дева Отважному ему позволила без гнева Ласкать, обвить себя рукой И странствовала с ним, как верная подруга, По лаковым парке́ блистательного круга Временщиков, князей, вельмож, Входила в кабинет ученых и артистов И в залы, где шумят собрания софистов, Меняя истину на ложь! Смягчала иногда, как гений лучезарный, Гонения судьбы, то славной, то коварной, Была в тоске и на пирах, И вместе пронеслась, как буйная зараза, Над грозной высотой мятежного Кавказа И Бессарабии в степях. И никогда, нигде его не покидала; Как милое дитя, задумчиво играла Или волной его кудрей, Иль бледное чело, объятое мечтами, Любила украшать небрежными перстами Венком из лавров и лилей. И были времена: унылый и печальный, Прощался иногда он с музой гениальной, Искал покоя, тишины; Но и тогда, как дух приникнув к изголовью, Она его душе с небесною любовью Дарила праведников сны. Когда же, утомясь минутным упоеньем, Всегдашним торжеством — высоким наслажденьем, Всегда юна, всегда светла — Красавица земли, она смыкала очи, То было на цветах, а их во мраке ночи Для ней рука его рвала. И в эти времена всеведущая Клио Являлась своему любимцу горделиво, С скрижалью тайною веков; И пел великий муж великие победы, И громко вызывал, о праотцы и деды, Он ваши тени из гробов!4
Где же ты, поэт народный, Величавый, благородный, Как широкий океан, И могучий и свободный, Как суровый ураган! Отчего же голос звучный, Голос, с славой неразлучный, Своенравный и живой, Уж не царствует над скучной, Полумертвою душой, Не владеет нашей думой, То отрадной, то угрюмой, По внушенью твоему? Не всегда ли безотчетно, Добровольно и охотно Покорялись мы ему? О так! О так! Певец Людмилы и Руслана, Единственный певец волшебного Фонтана, Земфиры, невских берегов, Певец любви, тоски, страданий неизбежных,— Ты мчал нас, уносил по лону вод мятежных Твоих пленительных стихов, Как будто усыплял их ропот грациозный, Как будто наполнял мечтой религиозной Давно почивших мертвецов. И долго, превратясь в безмолвное вниманье, Прислушивались мы, когда их рокотанье Умолкнет с отзывом громов. Мы слушали, томясь приятным ожиданьем, И вдруг, поражена невольным содроганьем, Россия мрачная в слезах Высо́ко над главой поэзии печальной Возносит не венок… но факел погребальный, И Пушкин — труп, и Пушкин — прах!.. Он прах!.. Довольно! Прах, и прах непробудимый! Угас и навсегда, мильонами любимый, Державы северной Боян! Он новые приял, нетленные одежды И к небу воспарил под радугой надежды, Рассея вечности туман!5
Гимн смерти
Совершилось! Дивный гений! Совершилось: славный муж Незабвенных песнопений Отлетел в страну видений, С лона жизни в царство душ! Пир унылый и последний Он окончил на земле, Но, бесчувственный и бледный, Носит он венок победный На возвышенном челе. О, взгляните, как свободно Это гордое чело! Как оно в толпе народной Величаво, благородно, Будто жизнью расцвело. Если гибельным размахом Беспощадная коса Незнакомого со страхом Уравнять умела с прахом,— То узрел он небеса! Там, под сению святого, Милосердного творца, Без печального покрова Встретят жителя земного, Знаменитого певца. И благое провиденье Слово мира изречет, И небесное прощенье, Как земли благословенье, На главу его сойдет. Тогда, как дух бесплотный, величавый, Он будет жить бессумрачною славой; Увидит яркий, светлый день, И пробежит неугасимым оком Мильон миров в покое их глубоком Его торжественная тень! И окружи́т ее над облаками Теней, давно прославленных веками, Необозримый легион: Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни… И руку ей с улыбкою приязни Подаст задумчивый Байро́н. И между тем, когда в России изумленной Оплакали тебя и старец и младой И совершили долг последний и священный, Предав тебя земле холодной и немой, И, бледная, в слезах, в печали безотрадной, Поэзия грустит над урною твоей,— Неведомый поэт, но юный, славы жадный, О Пушкин, преклонил колено перед ней! Душистые венки великие поэты Готовят для нее, второй Анакреон, Но верю я — и мой в волнах суровой Леты С рождением его не будет поглощен: На пепле золотом угаснувшей кометы Несмелою рукой он с чувством положе́н!Утешение
Над лирою твоей разбитою, но славной Зажглася и горит прекрасная заря! Она облечена порфирою державной Великодушного царя. 2 марта 183796. <Отрывок из письма к А. П. Лозовскому>
Вот тебе, Александр, живая картина моего настоящего положения:
………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Но горе мне с другой находкой: Я ознакомился — с чахоткой, И в ней, как кажется, сгнию! Тяжелой мраморною пли́той, Со всей анафемскою свитой — Удушьем, кашлем, — как змея, Впилась, проклятая, в меня; Лежит на сердце, мучит, гложет Поэта в мрачной тишине И злым предчувствием тревожит Его в бреду и в тяжком сне. «Ужель, ужель, — он мыслит грустно,— Я подвиг жизни совершил И юных дней фиал безвкусный, Но долго памятный, разбил! Давно ли я в орги́ях шумных Ничтожность мира забывал И в кликах радости безумных Безумство счастьем называл? Тогда — вдали от глаз невежды Или фанатика глупца — Я сердцу милые надежды Питал с улыбкой мудреца И счастлив был! Самозабвенье Плодило лестные мечты, И светлых мыслей вдохновенье Таилось в бездне пустоты. ………………………………………… ………………………………………… С уничтожением рассудка, В нелепом вихре бытия, Законов мозга и желудка Не различал во мраке я. Я спал душой изнеможенной, Никто мне бед не предрекал, И сам — как раб, ума лишенный,— Точил на грудь свою кинжал; Потом проснулся… но уж поздно: Заря по тучам разлилась — Завеса будущности грозной Передо мной разодралась… И что ж? Чахотка роковая В глаза мне пристально глядит И, бледный лик свой искажая, Мне, слышу, хрипло говорит: „Мой милый друг, бутыльным звоном Ты звал давно меня к себе; Итак, являюсь я с поклоном — Дай уголок твоей рабе! Мы заживем, поверь, не скучно: Ты будешь кашлять и стонать, А я всегда и безотлучно Тебя готова утешать…“» Декабрь 1837СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ
97. «Ай, ахти! Ох, ура…»
Ай, ахти! Ох, ура, П<равославный> наш ц<арь>, Н<иколай> г<осударь>, В тебе мало добра!.. Обманул, погубил Ты мильоны голов — Не сдержал, не свершил И<мператорских> слов!.. Ты припомни, что мы, Не жалея себя, Охранили тебя От большой кутерьмы,— Охранили, спасли И по братним т<елам> Со грехом пополам На п<рестол> возвели! Много, много сулил Ты с<олдатам> тогда; Миновала беда — И ты всё позабыл! Помыкаешь ты нас По горам, по долам, Не позволишь ты нам Отдохнуть ни на час! От ста<льных> те<саков> У нас сп<ины> трещат, От уч<ебных> ша<гов> У нас но<ги> болят! День и ночь наподряд, Как волов наповал, Бьют и мучат с<олдат> О<фицер> и ка<прал>. Что же, бе<лый> от<ец>, Своих черных ов<ец> Ты стираешь с земли? Иль мы кроме побой Ничего пред тобой Заслужить не могли? Или думаешь ты Нами вечно играть И что мать Лучше доброй молвы. Так у………………………… П<равославный> наш <царь>, Н<иколай> г<осударь>. Ты бо<лван> наших р<ук>: Мы склеи́ли тебя И на тысячу штук Разобьем, разлюбя!98. Султан
Тихо в спальне у султана. В легкой розовой чалме На подушке оттомана Он заметен в полутьме. Благовонное алоэ И душистые цветы В пышном убранном покое Нежат чувства и мечты. И горит от нетерпенья Взор владыки мусульман: Верно, дивного явленья Ждет рассеянный султан. Держит чашу не с сорбетом Он рассеянной рукой: Запрещенный Магометом В ней напиток дорогой… Время длится неприметно, Бьется сердце, ноет дух, И кальян его заветный Недокуренный потух. Бьет в ладони, и мгновенно Черный евнух перед ним. «Скоро ль?» — «Идут…» — «Вон из спальни!» И счастливец меж рабынь, Приведенных из купальни, Видит трех полубогинь. Три богатых каравана Из Аравии пришли И в подарок от Судана Сладострастию султана Юных пленниц привели. Все они разнообразной Красотой одарены — И как будто ленью праздной Для любви сотворены. Две из них белы и нежны, Как лилеи под росой Или ландыш белоснежный, Только срезанный косой. Третья блещет черным оком, Величава и смугла, Грозен в ужасе глубоком Бледный лоск ее чела…99. К моему гению
Ужель, мой гений быстролетный, Ужель и ты мне изменил И думой черной, безотчетной, Как тучей, сердце омрачил? Погасла яркая лампада — Заветный спутник прежних лет, Моя последняя отрада Под свистом бурь, на море бед… Давно челнок мой одинокой Скользит по яростной волне, И я не вижу в тме глубокой Звезды приветной в вышине; Давно могучий ветер носит Меня вдали от берегов; Давно душа покоя просит У благодетельных богов… Казалось, теплые молитвы Уже достигли к небесам, И я, как жрец, на поле битвы Курил мой светлый фимиам, И благодетельное слово В устах правдивого судьи, Казалось, было уж готово Изречь: «Воскресни и живи!» Я оживал… Но ты, мой гений, Исчез, забыл меня, а я Теперь один в цепи творений Пью грустно воздух бытия… Темнеет ночь, гроза бушует, Несется быстро мой челнок — Душа кипит, душа тоскует, И, мнится, снова торжествует Над бедным плавателем рок. Явись же, гений прихотливый! Явись опять передо мной И проведи меня счастливо К стране, знакомой с тишиной!100. Русский неполный перевод китайской рукописи, вывезенной в 1737 году иезуитскими миссионерами из Пекина, неизвестного почитателя добрых дел
1
Девицы, дамы, господа, Прошу пожаловать сюда! Я вам немногими словами Скажу, поверьте, не шутя, Что за горами, за долами И за индийскими морями Вы не найдете с фонарями Такого малого, как я!.. Я — диво, чудо в здешнем мире, Во мне достоинств миллион. Везде дивятся мне невольно И говорят, что очень мил. О, ведь зато на колокольне Я воспитанье получил!.. Факир китайского собора — Дурак набитый предо мной, А все другие: «Фора, фора!» — Кричат с поникшей головой… Во-первых, слушайте: ей-богу, Шайтан свидетель, — я не лгу, Во все дома найти дорогу Без затрудненья я могу. К соседу или не соседу, К чужим, своим — мне всё равно! На чай, на завтрак и к обеду Мне быть всегда позволено! Моя метода обращенья С людьми всех званий и чинов Достойна также удивленья Глубокомысленных голов! Встречаясь с кем-нибудь нарочно (Хоть прежде лично и заочно Его не знал я никогда), Я подхожу к нему всегда Преуниженно и учтиво И завожу красноречиво Весьма приятный разговор: Про дождь, про лен, про скотный двор.[65] Потом без дальних объяснений Иду за ним без приглашений, Являюсь запросто к жене, Сажусь, зеваю и моргаю И жду закуски или чаю (Люблю поесть на стороне — Пусть судят дурно обо мне!), Потом иду в другое место, Опять сижу и снова жду; Особенно я там в ладу, Где есть подарок мне в виду Или красивая невеста. Уж там не выживут меня! Как им угодно, днем и ночью, И стыд и совесть затая, Я их терзаю всею мочью! Уж там насильно я как свой! Умен родитель мой косматый, Он говорил мне завсегда: «О сын мой, сын первоначатый, Не знай ни чести, ни стыда, Всё для тебя честно́ и свято, Живи на счет других людей, Обманывай всех человеков И до скончанья наших веков, Поверь, ты будешь всех умней!»2
Другое правило прямое Я долгим опытом постиг: Хвали свое, хули чужое, Имей язвительный язык! Я к этим правилам привык. Всегда и всюду понемногу Черню товарищей своих: Того раскрашу я развратным, Другого — пошлым дураком, Того — невеждой неприятным, Иного — явным подлецом И, наконец, поодиначке Знакомых так переберу, Что все виновны без потачки, А я и прав, и чист, и вру! Смеюсь! Да что же! Так и должно: Я их обманываю всех! Я буду жить покуда можно, Как вор в чулане, без помех!.. Предвижу я: близка надежда… Какой-нибудь лихой невежда, Меня прижавши в уголке, Ударит сильно по щеке.[66] Но что мне плюха!.. Звук минутный, Щелчок по носу! Bon soir.[67] Итак, неси же, ветр попутный, Неси, волны морской удар, Мою предательскую лодку На камни, мели и пески!.. Не даром пить чужую водку И есть чужие пирожки.3
Еще до этого я время Одно достоинство имел, Мне сам лукавый это семя Растить и множить повелел. А именно: людей почтенных, Которых ласками я жил, Всегда я в отзывах презренных В знак уваженья поносил! Судил превратно и коварно Про каждый благородный дом И завсегда неблагодарно Платил за дружеский прием! Теперь — язвительным дыханьем И черной пеной языка Я облил с редким состраданьем Моих друзей исподтишка… Живут они однообразно В стенах Пекина, без затей, Между утех и лени праздной, С самодовольствием детей, И мой расчет благоразумный И мой блистательный успех Нередко в их беседе шумной Заводит дружественный смех! Улыбкой жалкого презренья Они мне платят, гордецы, Но я факир — пустого мщенья Не устрашились наглецы!.. Живу покойно, заклейменный Проклятьем бога и людей, И, перед всеми униженный, Жду скромно ласки и честей!.. О пол почтенный, пол прекрасный, О мест окружных господа! У ваших ног, как раб подвластный, Я пресмыкаюсь завсегда,— Внемлите ж вы мольбе последней: Позвольте жить у вас в передней… Всегда тарелку и поднос Держать рука моя готова, И буду лаять я как пес На своего и на чужого.Здесь несколько строк в китайском подлиннике совершенно изглажены временем, залиты какою-то острою краскою, — и русский переводчик, при редком знании китайского языка, не в силах был связать или угадать последних идей добродетельного человека.
ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ
101. Сашка
К читателям
Не для славы — Для забавы Я пишу! Одобренья И сужденья Не прошу! Пусть кто хочет, Тот хохочет, Я и рад, А развратен, Неприятен — Пусть бранят. Кто ж иное Здесь за злое Хочет принимать, Кто разносит И доносит — Тот ……ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
«Мой дядя — человек сердитый, И тьму я браней претерплю, Но если говорить открыто, Его немножко я люблю! Он — черт, когда разгорячится, Дрожит, как пустится кричать, Но жар в минуту охладится — И тих мой дядюшка опять. Зато какая же мне скука Весь день при нем в гостиной быть, Какая тягостная мука Лишь о походах говорить,2
Супруге строить комплименты, Платочки с полу подымать, Хвалить ей шляпки ее, ленты, Детей в колясочке катать, Точить им сказочки да лясы, Водить в саду в день раза три И строить разные гримасы, Бормоча: „Черт вас побери!“» Так, растянувшись на телеге, Студент московский помышлял, Когда в ночном на ней побеге Он к дяде в Питер поскакал.3
Студенты всех земель и кра́ев! Он ваш товарищ и мой друг; Его фамилья Полежаев, А дальше… эх, друзья, не вдруг! Я парень и без вас болтливый, И только б вас не усыпить, А то внимайте терпеливо: Я рад весь век мой говорить! Быть может, в Пензе городишка Несноснее Саранска нет,— Под ним есть малое селишко, И там мой друг увидел свет…4
Нельзя сказать, чтобы богато Иль бедно жил его отец, Но всё довольно торовато, Чтоб промотаться наконец. Но это прочь!.. Отцу быть можно Таким, сяким и растаким,— Нам говорить о сыне должно: Посмотрим, вышел он каким. Как быстро с гор весенни воды В долины злачные текут, Так пусть в рассказе нашем годы Его младенчества пройдут.5
Пропустим также, что родитель Его до крайности любил, И первый Сашеньки учитель Лакей из дворни его был. Пропустим, что сей ментор славный Был и в французском Соломон И что дитя болтал исправно: «Jean-foutre, un vil, une v…., un con».[68] Пропустим, что на балалайке В шесть лет он «барыню» играл И что в похабствах, бабках, свайке Он кучерам не уступал.6
Вот Саше десять лет пробило, И начал папенька судить, Что не весьма бы худо было Его другому научить. Бич хлопнул! Тройка быстрых коней В Москву и день и ночь летит, И у француза в пансионе Шалун за книгою сидит. Я думаю, что всем известно, Что значит модный пансион. Итак, не многим будет лестно Узнать, чему учился он.7
Должно быть, кой-чему учился Иль выучил хоть на алтын, Когда достойным учинился Носить студента знатный чин! О родины прямых студентов — Гётти́нген, Вильна и Оксфорд! У вас не может брать патентов Дурак, алтынник или скот; Звонарь не может колокольный У вас на лекции сидеть, Вертеться в шляпе треугольной И шпагу при бедре иметь.8
У вас не вздумает мальчишка Шипеть, надувшись: «Я студент!» Вы судите: пусть он князишка, Да в нем ума ни капли нет! У вас студент есть муж почтенный, А не паршивый, не сопляк, Не полузнайка просвещенный И не с червонцами дурак! У вас таланты в уваженье, А не поклоны в трех верстах; У вас заслугам награжденье, А не приветствиям в сенях!9
Не ректор духом вашим правит — Природный ум вам кажет путь, И он вам чин и честь доставит, А не «нельзя ли как-нибудь!». А ты, козлиными брадами Лишь пресловутая земля, Умы гнетущая цепями, Отчизна глупая моя! Когда тебе настанет время Очнуться в дикости своей? Когда ты свергнешь с себя бремя Своих презренных палачей?10
Но что я?.. Где я?.. Куда скрылся Вниманья нашего предмет?.. Ах, господа, как я забылся: Я сам и русский и студент… Но это прочь… Вот в вицмундире, Держа в руках большой стакан, Сидит с красотками в трактире Какой-то черненький буян. Веселье наглое играет В его закатистых глазах, И сквернословие летает На пылких юноши устах…11
Кричит… Пунш плещет, брызжет пиво; Графины, рюмки дребезжат! И вкруг гуляки молчаливо Рои трактирщиков стоят… Махнул — и бубны зазвучали, Как гром по тучам прокатил, И крик цыганской «Черной шали» Трактира своды огласил; И дикий вопль и восклицанья Согласны с пылкою душой, И пал студент в очарованье На перси девы молодой.12
Кто ж сей во славе буйной зримый Младой роскошный эпикур, Царицей Пафоса любимый, Средь нимф увенчанный Амур? Друзья, никак не может статься, Чтоб всякий вдруг не отгадал, И мне пришлось бы извиняться, Зачем я прежде не сказал. Ах, миг счастливый, быстротечный Волшебных юношества лет! Блажен, кто в радости сердечной Тебя сорвал, как вешний цвет!13
Блажен, кто слез ручей горючий Рукой Анюты утирал; Блажен, кто жизни путь колючий Вином отрадным поливал. Пусть смотрит Гераклит плаксивый С улыбкой жалкой на тебя, Но ты блажен, о друг мой милый, Забыв в веселье сам себя. Отринем, свергнем с себя бремя Старинных умственных цепей, Что ныне гибельное время Еще щадит до наших дней.14
Хорош философ был Сенека, Еще умней — Платон-мудрец, Но через два или три века Они, ей-ей, не образец. И в тех и в новых шарлатанах Лишь скарб нелепостей одних; Но и весь свет наш на обманах Или духовных, иль мирских. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………15
И полно, я заговорился, А как мой Сашка пировать С блядьми в трактире научился, Я и забыл вам рассказать. Не знаю, право, я, природный Умишка маленький в нем был Иль пансион учено-модный Его лозами поселил, Но, лишь учась тому, другому, Он кое-что перенимал И, слов не тратя по-пустому, Кой в чем довольно успевал:16
Мог изъясняться по-французски И по-немецки лепетать, А что касается по-русски, То даже рифмы стал кропать. Хоть математике учиться Охоты вовсе не имел, Но поколоться, порубиться С лихим гусаром не робел. Он знал науки и другие, Но это более любил… Ну, ведь нельзя, друзья драгие, Сказать, чтоб он невежда был!17
Притом же, правду-матку молвить, Умен — не то, что научен: Иной куда гораздо молвит — Переучен, а не умен! По-моему, семинариста Хоть разучи бог знает как, Строка в строку евангелиста Прочтет на память, а дурак. Я для того здесь об ученых И умных начал рассуждать, Что мне не хочется об оных И об науках толковать.18
Итак, ни слова об науках… Черты характера сего: Свобода в мыслях и поступках, Не знать судьею никого, Ни подчиненности трусливой, Ни лицемерия ханжей, Но жажда вольности строптивой И необузданность страстей! Судить решительно и смело Умом своим о всех вещах И тлеть враждой закоренелой К мохнатым шельмам в хомутах!19
Он их терпеть не мог до смерти, И в метафизику его Ни мощи, ангелы, ни черти, Ни обе книги — ничего Ни так, ни эдак не входили, И как ученый муж Платон Его с Сократом ни учили, Чтобы бессмертью верил он, Он ничему тому не верит: «Всё это — сказки», — говорит, Своим аршином б<ога> мерит И в церковь гроша не дарит.20
Я для того распространяюсь О столь божественных вещах, Что Сашу выказать ласкаюсь, Как голого, во всех частях; Чтоб знали все его как должно, С сторон хорошей и худой, Да и, клянусь, ей-ей, неложно Он скажет сам, что он такой. Конечно, многим не по вкусу Такой безбожный сорванец, Хоть и не верит он И<су>су, Но, право, добрый молодец!21
Вот всё, чему он научился, Свидетель — университет! Хотя б сам Рафаэль трудился — Не лучше б снял с него портрет. Теперь, какими же судьбами, Меня вы спросите опять, Сидит в трактире он с блядями Извольте слушать и молчать. Рожденный пылким от природы, Недолго был он средь оков: Искал он буйственной свободы — И стал свободен, был таков.22
Как вихрь иль конь мыли́стый в поле Летит в свирепости своей, Так в первый раз его на воле Узрел я в пламени страстей. Не вы — театры, маскерады, Не дам московских лучший цвет, Не петиметры, не наряды — Кипящих дум его предмет. Нет, не таких мой Саша правил; Он не был отроду бонтон, И не туда совсем направил Полет орлиный, быстрый он.23
Туда, где шумное веселье В роях неистовых кипит, Отколь все света принужденья И скромность ложная бежит; Туда, где Бахус полупьяный Об руку с Момусом сидит, И с сладострастною Дианой, Разнежась, юноша шалит; Туда, туда всегда стремились Все мысли друга моего, И Вакх и Момус веселились, Приняв в товарищи его.24
В его пирах не проливались Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай! Но сильно, сильно разливались Иль пунш, иль грозный сиволдай. Ах, время, времячко лихое! Тебя опять не наживу, Когда, бывало, с Сашей двое Вверх дном мы ставили Москву! Пока я жив на свете буду, В каких бы ни был я страна́х, Нет, никогда не позабуду О наших буйственных делах.25
Деру «завесу черной нощи» С прошедших, милых сердцу дней И вижу: в Марьиной мы роще Блистаем славою своей! Ермолки, взоры и походка — Всё дышит жизнью и поет; Табак, ерофа, пиво, водка Разит, и пышет, и несет… Идем, волнуясь величаво,— И все дорогу нам дают, А девки влево и направо От нас со трепетом бегут.26
Идем… и горе тебе, дерзкий, Взглянувший искоса на нас! «Молчать, — кричим, насупясь зверски,— Иль выбьем потроха тотчас!» Толпа ль блядей иль дев стыдливых Попалась в давке тесной нам, Целуем, лапаем смазливых И харкаем в глаза каргам. Кричим, поем, танцуем, свищем — Пусть дураки на нас глядят! Нам всё равно: хвалы не ищем, Пусть как угодно говорят!27
Но вот… темнее и темнее. Народ разбрелся по домам. «Извозчик!» — «Здесь, сударь!» — «Живее, Пошел на Сретенку к блядям!» — «Но, но!» И дрожки задрожали; Летим, Москва летит — и вот К знакомым девкам прискакали, Запор сломали у ворот. Идем по-матерно ругаясь Врастяжку банты на штанах, И, боязливо извиняясь, Нам светит бандерша в сенях.28
«Мне Танька, а тебе Анюта», — Скосившись, Саша говорит. Неоценимая минута, Тебя никто не изъяснит! Приап, Приап! Плещи мудями! Тебя достойный фимиам Твоими верными сынами Сейчас вскурится к облакам! О любожопы, мизогины! Вам слова два теперь скажу, Какой божественной картины Вам легкий абрис покажу!29
Растянута, полувоздушна, Калипса юная лежит, Студенту грозному послушна, Она и млеет, и дрожит. Одна нога коснулась полу, Другая — нежно, на отлет, Одна рука спустилась долу, Другая друга к персям жмет, И вьется жопкою атласной, И извивается кольцом, И изнывает сладострастно В томленье пылком и живом.30
Нет, нет! И абрис невозможно Такой картины начертать. Чтоб это чувствовать, то должно Самим собою испытать. Но вот под гибкими перстами Поет гитара контроданс, И по-козлиному с блядями Прекрасный сочинился танц! Возись! Пунш плещет, брызжет пиво, Полштофы с рюмками летят, А колокольчик несонливый Уж бьет заутрени набат…31
Дым каждую туманил кровлю, Ползли ерыги к кабакам, Мохнатых полчища — на ловлю, И шайки нищих там и сям. Вот те, которые в бордели, Как мы, ночь в пьянстве провели, Покинув смятые постели, Домой в пуху и пятнах шли. Прощайте ж, милые красотки! Теперь нам нечего зевать! Итак, допив остаток водки, Пошли домой мы с Сашкой спать.32
Ах, много, много мы шалили! Быть может, пошалим опять; И много, много старой были Друзьям найдется рассказать Во славу университета. Как будто вижу я теперь Осаду нашу комитета: Вот Сашка мой стучится в дверь… «Кто наглый там шуметь изволит?» — Оттуда голос закричал. «Увидит тот, кто дверь отворит»,— Сердито Саша отвечал.33
Сказав, как вихорь устремился — И дверь низверглася с крючком, И, заревевши, покатился Лакей с железным фонарем. Се ты, о Сомов незабвенный! Твоею мощной пятерней Гигант, в затылок пораженный, Слетел по лестнице крутой! Как лютый волк стремится Сашка На девку бледную одну, И распростерлася Дуняшка, Облившись кровью, на полу.34
Какое страшное смятенье, И дикий вопль, и крик, и рев, И стон, и жалкое моленье Нещадно избиенных дев! Но вдруг огнями осветился Пространный комитета двор, И с кучерами появился Свирепых буфелей дозор. «Держи!» — повсюду крик раздался, И быстро бросились на нас; И бой ужасный завязался… О грозный день, о лютый час!35
Капоты, шляпы и фуражки С героев буйственных летят, И — что я зрю? — о небо! Сашке Веревкой руки уж крутят!.. «Mon cher![69] — кричит он, задыхаясь.— Сюда! Здесь всех не перебью!» Народ же, больше собираясь, На жертву кинулся свою. Ах, Сашка! Что с тобою будет? Тебя в рогатку закуют, И рой друзей тебя забудет… Нет, нет! Уж Калайдович тут!36
Он тут! И нет тебе злодея! Твою веревку он сорвал И, как медведь, всё свирепея, Во прах всех буфелей поклал. Одной своей телячьей шапки Уже вовек ты не узришь, А сам, безвреден после схватки, Опять за пуншем ты сидишь; Пируй теперь, мой Жданов милый, Твоя обида отмщена, И проясни свой лик унылый Стаканом пенного вина.37
И ты, мой друг в тогдашни годы, Теперь — подлец и негодяй, Настрой-ка, Лузин, брат, аккорды, Возьми гитару и взыграй. Прочь, прочь, Надеждин, от бильярда: Коль проиграл, так не робей! Donnez-nous, Jean, un peu[70] гишарда! Коврайский! Вот сивуха — пей! А ты, наш чайный разливатель, О Кушенский, не отходи И, как порядка наблюдатель, За пиром радостным гляди!38
Засядем дружеским собором За стол, уставленный вином, И звучным, громогласным хором Лихую песню запоем… Летите грусти и печали К ебене матери в пизду! Давно, давно мы не ебали В таком божественном кругу! Скажите, блядиприпевая: «Виват наш Саша, молодец!» А я, главу сию кончая, Скажу: «Ей-богу, удалец!»ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Чуть освещаемый луною, Дремал в тумане Петербург Когда с уныньем и тоскою Узрел верхи его мой друг. На облучке, спустивши ноги, В забы́тье жалком он сидел И об оконченной дороге В сердечной думе сожалел. Стакан последний сиволдая Перед заставой осушил, И, из телеги вылезая, Он молчалив и страшен был.2
Нева широкая струилась Близ постоялого двора, И недалёко серебрилось Изображение Петра. Всё было тихо; не спокойно В душе лишь Саши моего, И не смыкалися невольно Глаза померкшие его, Недавно буйного студента. С дымящимся от трубки ртом, Он, прислонясь у монумента, Стоял с потупленным челом.3
«Увы, увы!.. Часы веселья, Вы пролетели будто сон!» Так в петербургском новоселье, Вздохнувши тяжко, мыслил он: «Быть может, долго, молодые Красотки, мне вас не видать!.. Так в петербургском новоселье Вздохнувши тяжко, мыслил он: «Быть может, долго, молодые Красотки, мне вас не видать! И долго, жопочки крутые, На вас не буду умирать, И щупать трепетной рукою, И прижимать к своим устам, И нежно припадать порою К упругим, полненьким грудям!4
Прощайте, звонкие стаканы, И пунш, и грозный ерофей! Быть может, други мои пьяны Теперь пируют у блядей И сны приятные осенят Глаза, сомкнутые вином, И яркие лучи осветят Их, упоенных сладким сном! Увы, увы! А я, несчастный, Я б проклял восходящий день!..» Умолк… и луч денницы ясной Рассеивал ночную тень.5
Ах, Сашка! Как тебе не стыдно, Сробел, лихая голова! Ей-богу, слышать нам обидно Такие вздорные слова. Когда ты был такою бабой? Когда так трусил и тужил? Как мальчик глупенький и слабый При виде розог, приуныл. Что ты в Москве накуролесил И гол остался как сокол, И как сова ты нос повесил… Пошел, брат, к дядюшке, пошел!..6
И что ж, друзья?.. Ведь справедливо Он дядю чертом называл: Ведь как же тот красноречиво Его сначала отщелкал! Такую задал передрягу, Такую песенку отпел, Так отприветствовал бродягу, Что тот лишь слушал да глядел; Потом всё тише да смирнее, Потом не стал уж и кричать, Всё ласковее, всё добрее, Потом и Сашей начал звать.7
А Сашка тут и распустился, И чувствует, что виноват, Раскаялся — и прослезился, А дядя?.. Боже мой, как рад! Повесу грязного отмыли, Сейчас белья ему, сапог, И с головы принарядили Как лучше быть нельзя, до ног. Повеселиться там нисколько Никак не думав, не гадав, Пирует Сашка мой и только! Опять в кругу своих забав.8
Где вид московского гуляки? Куда девался пухлый лик? В англо-кургузом модном фраке, В отличной шляпе эластик, В красивом бархатном жилете Мой Сашка тот же, да не тот. И вот, сбоченясь, на проспекте С фигурой важною идет. Червонцы светлы, драгоценны И на театры в первый ряд Билет на кресла ежедневный В кармане брюк его лежат!9
С какою миною кичливой На прочих франтов он глядит, Какой улыбкою спесивой И дам и барышень дари́т! С какой приятностью играет И машет хлыстиком своим, И как искусно задевает Под ножки девушкам он им; Какой бонтон в осанке, взорах, Какую важность возымел! Но вот на ухарских рессорах В театр, разлегшись, полетел.10
Взошел. С небрежностью лакею Билет, сморкаясь, показал И, изогнувши важно шею, Глазами ложи пробежал. Взгремела «Фрейшица» музыка; Гром плесков залу оглушил, И всяк от мала до велика И упоен и тронут был. Что ж Сашка? С видом пресыщенья Разлегшись в креслах, он сидел И лишь с улыбкой сожаленья В четыре стороны смотрел.11
Напрасно fora[71] все кричали — Он свой выдерживал bon ton[72], И в самом действия начале Спокойно пить пунш вышел вон; Напрасно, милая Дюрова, Твой голос всех обворожал: Он не расслышал ни полслова, Но только жопку увидал; Напрасно, Антонин воздушный, Ты резал воздух, как зефир: Для тону Саше будет скучно, Хотя б растешил ты весь мир.12
Да и нельзя же, в самом деле… Смотрите, он в каком кругу! Народ не тот здесь, что в бордели,— Иль видишь ленту, иль звезду! И, шутки в сторону откинуть,— С ним рядом первая ведь знать; И непристойно рот разинуть, Степного Фоку тут играть. Так, раз и твердо рассудивши, Всегда мой Сашка поступал И всякий раз, в театре бывши, Роль полусонного играл.13
Но как же был он зато скромен Во всех поступках и словах И полутихо-нежно-томен При зорких дяденьки глазах; С каким почтеньем и терпеньем Его он слушал по часам, С каким — о, смех! — благоговеньем Ходил с ним вместе по церквам; По Летнему ль гуляет саду — Не свищет песенки, небойсь, Хоть будь красотка — ни полвзгляду Не кинет прямо и ни вкось.14
С какою пылкостью восторга Хвалил он дядины мечты, Доказывал премудрость бога, Вникал природы в красоты, С каким он жаром удивлялся Наполеонову уму И как делами восхищался Моро, и Нея, и Даву; Ругал всех русских без разбора И в Эрмитаже от картин Не отводил ни рта, ни взора. О плут! О шельма, сукин сын!15
И потакал, и лицемерил, Ему безжалостно он врал! А честный дядя всему верил И шельме денежки давал… Бывало, только с Миллионной, А дядя: «Где, дружочек, был?» А он (куда какой проворный!): «Я-с по бульвару всё ходил, Потом спуск видел парохода, Да Зимний осмотрел дворец. Какая ж тихая погода!» Ах ты, ебена мать, подлец!16
Ах ты, проклятая ерыга, Чего мошенник не соврет! А хоть ругай — мой забулдыга Живет да песенки поет… Звенит целковыми рублями, Летает франтиком в садах, Пирует, нежится с блядями И сушит водку в погребках. Ну что мне делать с ним прикажешь? Не хочет слышать уж про нас… Эй, Сашка! Или не покажешь В Москву своих спесивых глаз?17
Постой! Не вечно, брат, рейнвейны В Café de France[73] ты будешь пить, И щупать жопочки лилейны И в шляпе эластик ходить! Постой, не вечно Петербурга Красоток будешь целовать, Опять любезнейшего друга В Москву представят к нам, опять! Гуляй, пируй, пока возможно, Крути, помадь свой хохолок, Минуты упускать не должно, Играй, сбоченясь, á la coq![74]18
Не выпускай из рук стакана, От Каратыгина зевай И в ресторации с дивана, Дымясь в вакштафе, не вставай; Катайся в лодочках узорных, Лови обманчивых жидов И мчись на рысаках проворных До поздних полночи часов Проеть целковенькой в бордели, А дядя мыслит кое-что, И в дилижансе две недели Тебе уж место нанято.19
Различноцветными огнями Горит в Москве Кремлевский сад, И пышно-пестрыми роями В нем дамы с франтами кипят. Музы́ка шумная играет На флейтах, бубнах и трубах, И гул шумящий зазывает Кремля высокого в стенах. Какие радостные лица, Какой веселый, милый мир! Все обитатели столицы Сошлись на общий будто пир.20
Какое множество букетов, Индийских шалей и чепцов, Плащей, тюрбанов и лорнетов, Подзорных трубок и очков; И смесь роскошная в нарядах, И лиц различные черты, И выражения во взглядах И плутовства и простоты, И ловкости и неуклюжства, И на глазах почтенных дам: И надоевшее замужство, И склонность к модным шалунам.21
Как из-под шляпки сей игриво Глазок прищуренный глядит; Что для мужчин она учтива, Он очень ясно говорит. На грудь лилейную другая Власы небрежно разметав И всех прельстить собой желая, Нарочно гордый кажет нрав; Другая с нежностью лилеи, Иная томно так идет, Но подойди к ней не робея — Она и ручку подает.22
Всё живо и разнообразно, Всё может мысли породить! Там в пух разряженный присяжный Напрасно ловким хочет быть; Здесь купчик, тросточкой играя, Как царь доволен сам собой; Там, с генералом в ряд шагая, Себя тут кажет и портной, Вельможа, повар и сапожник, И честный, и подлец, и плут, Купец, и блинник, и пирожник — Все трутся и друг друга жмут.23
Но что? Не призрак ли мне ложный Глаза внезапно осенил? Что вижу я? Ужель возможно, Чтоб это Сашка мой ходил?.. Его ухватки и движенья, Его осанка, взор и вид… Какое странное сомненье… И дух и кровь во мне кипит… Иду к нему… трясутся ноги… Всё ближе милые черты… Дрожу, стремлюсь… колеблюсь… боги!.. О друг любезный, это ты?24
Нет, я завесу опускаю На нашу радость и восторг. Такой минуты, сколь я знаю, Никто нам выразить не мог. Друзьям же верным и открытым И всё желающим узнать, Умам чрез меру любопытным Довольно, кажется, сказать, Что, раз пятнадцать с ним обнявшись, И оросив слезами грудь, И раз пятнадцать целовавшись, В трактир направили мы путь.25
Не вспомнишь всё, что мы болтали, Но всё, что он мне рассказал, Вы перед этим прочитали, И я ни слова не соврал. Одно лишь только он прибавил, Что дядя в университет Его еще на год отправил И что довольно с ним монет. «Сюда, ебена мать!» — гремящим Своим он гласом возопил, И пуншем нектарным, кипящим В минуту стол обрызган был.26
Ты видел, Jean, когда на дрожках К тебе он быстро подлетел; В то время с книгой у окошка, Дымясь в гишарде, ты сидел. Ты помнишь, о Коврайский славный, Студентов честь и красота, Какой ты встречею забавной Его порадовал тогда: В блевотине, мертвецки пьяным Тебя он в нумере застал, И ртом вонючим и поганым Его не раз ты замарал.27
Ты зрел, любезный мой Костюшка, Его как стельку самого, И снова, толстенькая Грушка, Ты жопку нежила его. Виват, трактиры и бордели, Поживка еще будет вам, И кабаки не опустели, Когда приехал Сашка к нам. В веселье буйственном с друзьями Еще за пуншем он сидел, А разноцветными огнями Кой-где Кремлевский сад горел…<Эпилог>
Друзья, вот несколько деяний Из жизни Сашки моего… Быть может, дождь ругательств, брани Как град посыплет на него, И на меня, как корифея Его похабства и бесчинств, Нагрянет, злобой пламенея, Какой-нибудь семинарист… Но я врагов сих презираю, В дела их вовсе не вхожу И, что про Сашку ни узнаю,— Ей-богу, всё вам расскажу. 1825–1826102. Иман-козел
В одной деревне, недалёко От Триполи иль от Марокко — Не помню я, — жил человек По имени Абдул-Мелек. Не только хижины и мула Не заводилось у Абдула, Но даже верного куска Под час иной у бедняка В запасной сумке не случалось. Он пил и ел, где удавалось, Ложился спать, где бог привел, И, словом, жизнь так точно вел, Как независимые птицы Или поклонники царицы, Котору вольностью зовут, Или как нищие ведут. С утра до вечера с клюкою И упрошающей рукою Бродя под окнами домов Пророка ревностных сынов, Он ждал святого подаянья, Молил за чувства состраданья С слезой притворной небеса, Потом осушивал глаза Своим изодранным кафтаном И шел другим магометанам Одно и то же повторять. Так жил Абдул лет двадцать пять, А может быть, еще и боле, Как вдруг однажды, сидя в поле И роя палкою песок, Нашел он кожаный мешок. Абдул узлы на нем срывает, Нетерпеливо открывает, Глядит, и что ж? О Магомет! Он полон золотых монет. «Что вижу я! Ужель возможно? Алла, не сон ли это ложный? — Воскликнул радостный бедняк.— Нет, я не сонный! Точно так… Червонцы… цехины без счету… Абдул! Покинь свою заботу О пище скудной и дневной: Теперь ты тот же, да другой». Схватил Абдул свою находку, Как воин пленную красотку, Бежит, не зная сам куда, Именью рад — и с ним беда! Бежит что сил есть, без оглядки, Лишь воздух рассекают пятки. Земли не видит под собой. И вот лесок пред ним густой. Вбежал, взглянул, остановился И на мешок свой повалился. «Ну, слава богу! — говорит.— Теперь он мне принадлежит. Червонцы всё, да как прелестны: Круглы, блестящи, полновесны! Какая чистая резьба! О, презавидная судьба Владеть подобною монетой! Я не видал милее этой. И можно ль статься — я один Теперь ей полный властелин. Я… я… Абдул презренный, нищий, Который для насущной пищи Два дни лохмотья собирал И их девать куда не знал, Я — бездомовный, я — бродяга… ………………………………………………… Блажен скупой, блажен стократ Зарывший первый в землю клад! Так, так! На лоно сладострастья, На лоно выспреннего счастья, В объятья гурий молодых, К горам червонцев золотых, На крыльях ветра ангел рока Тебя, по манию пророка, Душа святая, принесет — Там, там тебя награда ждет». ……………………………………………… ……………………………………………… И снова радостный Абдул На груду золота взглянул, Вертел мешок перед собою, Ласкал дрожащею рукою Его пленявшие кружки И весил, сколь они легки, И прикасался к ним устами, И пожирал их все глазами, И быстро в землю зарывал, И снова, вырывши, считал. Так обезьяна у Крылова Надеть очки была готова Хотя бы на уши свои, Того не зная, что они Даны глазам в употребленье. И вот дивится всё селенье, В котором жил Абдул-Мелек. «Откуда этот человек, Из самых бедных, как известно,— Заговорили повсеместно,— Откуда деньги получил? Ну, так ли прежде он ходил? Какой наряд, какое платье! Ему ли, нищенской ли братье Носить такие епанчи?» (А он оделся уж в парчи.) «Давно ли мы из состраданья Ему давали подаянья И он смиренно у дверей В чалме изодранной своей, Босой и голый, ради неба, Просил у нас кусочка хлеба,— И вдруг богат стал! Отчего?..» «Готов и дом уж у него!» — Другой сказал с недоуменьем, И все объяты удивленьем: «И дом готов! Нельзя понять, А как изволит отвечать, Коль намекнешь ему об этом. Ну — заклинай хоть Магометом, А он одно тебе в ответ: „Мне бог послал“. — Ни да, ни нет. Что хочешь говори — ни слова. Ты подойдешь: „Абдул, здорово! Откуда денег ты достал?“ А он, проклятый: „Бог послал“. Такой ответ — на что похоже!» — «Да, да! И мне твердит всё то же,— Шептал завистливый иман,— Но я открою сей обман. Конечно, много может вера! Однако ж не было примера, Чтоб за хорошие дела Давал червонцы нам Алла. Люби его всю жизнь усердно, А всё умрешь так точно бедно, Каким родила мать тебя, Когда не любишь сам себя И там прохлопаешь глазами, Где должно действовать руками. Пой эти песни простакам И легковерным, а не нам. Я сорок лет уже иманом, И если с денежным карманом, То оттого, что мало сплю И кой-что грешное люблю. И как, мой друг, ни лицемеришь, Меня ничем не разуверишь: Нашел ты, верно, добрый клад. Проспорить голову я рад…» — И углубился в размышленье, Каким бы образом именье Себе Абдулово достать. Пронырством истину узнать — Старанье тщетное — не можно: Себя ведет он осторожно. Прокрасться в дом к нему тайком И деньги вынудить ножом — Успех неверный и опасный; Просить на бедных — труд напрасный; Взаймы — не даст, украсть — нельзя… Иман выходит из себя: Нет средства обмануть Абдула. Гадал, гадал, и вдруг мелькнула Ему идея сатаны: Пришельцем адской стороны Иль просто дьяволом с когтями, В козлиной шкуре и с рогами Абдула ночью попугать И деньги дьяволом отнять. «Прекрасно, чудно, несравненно! — Кричал стократно, восхищенный Своею выдумкой, иман.— Как дважды два мой верен план!» Сказал — и разом всё готово. Козла здорового, большого В хлеву поспешно ободрал, На палках шерсть его распял; Сперва рукой, потом другою, Потом совсем и с головою В него с усилием он влез — И стал прямой козел и бес. «Как, как! Иман в козлиной шкуре? Не может быть того в натуре,— Кричат пятнадцать голосов,— Не может быть людей-козлов!» Друзья мои! Пустое дело: Могу уверить очень смело И вас, и прочих молодых, Людей неопытных таких, Что в сто иль тысячу раз боле Искусств таинственное поле Открыто глупым дикарям, Чем нашим важным хвастунам, Всезнайкам гордым и надменным, Полуневеждам просвещенным. Поверьте: множество вещей (Прочтите «Тысячу ночей»), Которых мы не понимаем И нагло вздором называем, Враньем, несбыточной мечтой, В степях Аравии святой, За Индостанскими горами, За неоткрытыми морями Не выдумки и не мечты, А так известны, так просты, Как наше древнее преданье Об очень чудном наказанье Царицей Ольгою древлян, Как всякий рыцарский роман, Как предречение кометы, Как Фонтенели и Боннеты… В козла запрятался иман, Как русский прячется в кафтан. В козлины лапы всунул ноги, На голове — явились роги, С когтями, бородой, хвостом — И, словом, сделался козлом. Коль говорить вам правду надо, Я не видал сего наряда, Но будь на месте я — не я, Когда хоть каплю от себя В моем рассказе я прибавил: Мне это сведенье доставил Один приехавший арап, По имени Врилги-хап-хап. Он человек весьма приятный, И что важнее: вероятный — Не лжет ни слова — и он сам Свидетель этим был делам. Спустилась ночи колесница; Небес лазоревых царица, Блеснула бледная луна; Умолкло всё, и тишина Простерлась в дремлющем селенье Свершив обряды омовенья, Облобызавши Алкоран, Семейства мирных мусульман Предались сладкому покою. Один, с преступною душою, В одежде беса и козла, Забыв, что бодрствует Алла И видят всё пророка очи,— Один лишь ты во мраке ночи, Иман-чудовище, не спишь, Как тень нечистая скользишь, Как дух, по улице безмолвной, Корысти гнусной, злобы полный — Ты не иман, а Вельзевул. И вдруг встревоженный Абдул — К нему стучится кто-то, слышит, И за дверьми ужасно дышит, И дико воет, и скрипит, И хриплым гласом говорит: «Абдул, Абдул! Вставай скорее, Покинь твой страх, будь веселее: Твой гость пришел, твой друг и брат. Отдай назад, отдай мой клад; Узнай во мне — Адрамелеха!» — И снова грозный голос смеха, И визг, и скрежет раздались; Крючки на двери потряслись, Трещит она, вали́тся с гулом, И пред трепещущим Абдулом Козел рыкающий предстал… «Отдай мой клад! — он закричал.— Отдай! — взгремел громоподобно.— Мне было дать его угодно — И отниму его я вновь. Где, гнусный червь, твоя любовь И благодарность за услугу Мне, избавителю и другу? ………………………………………… Кому, о дерзостный! Кому Дерзал ты жаркие моленья В пылу восторга и забвенья За тайный дар мой приносить? ………………………………………………… Куда, Адамов сын презренный, Моей рукой обогащенный, Златые груды ты сорил? Меня ли тратой их почтил? Познал ли ты мирское счастье: Забавы, роскошь, сладострастье, Веселье буйное пиров И плен заманчивых грехов? Ты не искал моей защиты; Пророк угрюмый и сердитый Тебе приятнее меня — Тебе не нужен боле я! Итак, свершись предназначенье — Впади, как прежде, в униженье! Отдай мой дар, отдай мой клад — И будь готов за мною в ад!» — «О сильный дух, о дух жестокой! — Вскричал Абдул в тоске глубокой.— Постой, постой! Возьми твой клад, Но страшен мне, ужасен ад…» ……………………………………………… ……………………………………………… Иман, схватив скорей мешок, Лихим козлом из дому — скок; Ему как пух златое бремя, Как Архимед в старинно время, «Нашел!» — он радостно кричит И без души домой бежит. Примчался, кинул деньги в сено И стал из дьявольского плена Свой грешный труп освобождать, И так и сяк — тянуть и рвать Бесов лукавых облаченье,— Нет… ни искусство, ни уменье, Ничто нимало не берет — Козлина шерсть с него нейдет; Вертится, бесится, кружится, Потеет, душится, бранится, Пытает снять с себя козла — Нет силы… кожа приросла. Что делать? Бедный ты невежда! Исчезла вся твоя надежда: Сырое липнет на сухом — А ты не слыхивал о том! Когда б ты знал хотя немного, Что запрещается престрого От европейских докторов (От самых сведущих голов) Не только в шкуры кровяные И не совсем еще сухие Влезать, как ты изволил влезть, Но даже стать на них иль сесть — Чему есть многие причины (Которых, впрочем, без латыни Тебе не можно рассказать), То, верно б, шкуру надевать Тебе не вздумалось сырую; Теперь же плачь и во́пи: векую! Реви, завистливый иман, Кляни себя и свой обман, Терзайся, лей рекою слезы, Твое лукавство и угрозы Увлечь ограбленного в ад Теперь тебя лишь тяготят; И шерсть козлиная с тобою Пребудет ввек, как с сатаною, Который с радостию злой Теперь летает над тобой. «Иман, иман! — тебе на ухо Шипит ужасный голос духа, Как шорох листьев иль змеи.— Приятны ль цехины мои?» Напрасно, мучимый тоскою, Окован мощною рукою, Бежишь в обитель спящих жен; Они невинны: легкий сон Смыкает сладостно их очи, Для них отрадны тени ночи, В душе их царствует покой. Напрасно с просьбой и мольбой Ты ожидаешь состраданья; Твой гнусный вид, твои рыданья, Твои слова: «Я ваш супруг!» — Как громом их сразили вдруг. Испуга пагубного жертвы, Они упали полумертвы При этих горестных словах. «Не муж явился к нам в рогах С брадой и шерстию козлиной, Но дух подземный, нечестивый, Приняв козла живого вид, Его устами говорит». И крик детей, и жен смятенье, И в доме страшное волненье, И визг, и вой: «Алла, Алла!», И быстролетная молва, И речи, сказки об имане И о смешном его кафтане В селенье быстро разнеслись. «Где, где он? — вопли раздались.— Кажите нам сего урода!» И сонмы буйные народа К нему нахлынули на двор. «Вот дух нечистый, вот мой вор! — Кричал с горящими глазами И угрожая кулаками И вне себя Абдул-Мелек.— Отдай, презренный человек, Сейчас мешок мой с золотыми Или я в ад тебя за ними, Исчадье адово, пошлю; Отдай мне собственность мою!» «Абдул, Абдул! — сказал несчастный.— Теперь я вижу, что напрасно Не чтил Аллу я моего: Правдиво мщение его! Возьми твой клад — мне бес лукавый Вдохнул поступок мой неправый». «Теперь он боле не иман; Его на петлю, на аркан! — Кричал народ ожесточенный.— Пускай во все концы вселенной Пройдет правдивая молва, Что так за гнусные дела У нас карают всех злодеев». …………………………………………… «Ура! — раздался общий крик.— Пророк божественный велик! Пред ним не скрыты преступленья, И грозен час его отмщенья! Покинь, Абдул, покинь твой страх, Иман и клад в твоих руках». «Так награждаются обманы И козлоногие иманы!» — Абдул безжалостно твердил И по селу его водил С веревкой длинною на шее. «Сюда скорей, сюда скорее!» — Кричали зрители вокруг; И хилый дедушка, и внук, И стар, и молод собирались, Козлу смешному удивлялись И тайно думали: «Алла! Не дай нам образа козла!» _____ Уже то время миновало; Имана бедного не стало, Покрыла гроб его ковыль; Но неизгла́димая быль Живет в преданьях и рассказах, И об имановых проказах Там и доселе говорят И детям маленьким твердят: «Дитя мое! Не делай злого И не желай себе чужого, Когда не хочешь быть козлом: За зло везде заплатят злом». И в час полночи молчаливой Ребенок робкий и пугливый Со страхом по́ полю бежит, Где хладный прах его лежит. И мусульманин правоверный Еще доселе суеверно Готов пришельцу чуждых стран Сказать, что мертвый их иман Нередко, встав из гроба, бродит И криком жалостным наводит Боязнь и трепет в тех местах, Что — страшно думать о козлах. 1825 или 1826103. День в Москве
Я дома… Боже мой, насилу вижу свет! Мой милый, посмотри, в уме я или нет? Не видишь ли во мне внезапной перемены? Похож ли на себя? С какой ужасной сцены Сейчас я ускользнул!.. Где был я, о творец! Я мукой заслужил страдальческий венец! Нет, Сидор Карпович, покорнейшим слугою Прошу меня считать, но… в дом к вам ни ногою — Хотя б вы умерли — не буду никогда. «Что сделалось с тобой?» — «Беда, беда, беда!» — «Положим, что беда, но объяснись, как должно». — «Нет сил пересказать, наказан я безбожно. Послушай и суди: сегодня поутру Сам черт меня занес к mademoiselle[75] Тру-тру, Известной жрице мод, торгующей духами, Ликером, шляпками и многими вещами, О коих я судить нимало не привык По правилу: держи на привязи язык; Взял дюжину платков, материй для жилетов И, осмотрев мильон шнуровок и корсетов, Заказанных у ней почетным щегольством, Хотел благодарить за ласки кошельком,— Как вдруг — преддверие блистательного храма Звенит и хлопает… Вуаль отброся, дама С девицей в локонах вступает в магазейн, И милости прошу: баронша Крепсенштейн! Взошла — и началась ужасная тревога: „Bon jour, ma chère![76] Ба, ба, скажите, ради бога, Ужели это вы, почтенный наш Сократ?“ Они, как сговорясь, вдруг обо мне пищат: „Ах, боже мой! Вот смех, вот чудеса, вот странно! Серьезный господин, который беспрестанно Поносит женский пол, и моды, и весь свет, Заехал к mademoiselle купить себе лорнет, Колечко, медальон иль что-нибудь такое. И что же? На софе посиживают двое, Как будто о делах приличный разговор Ведут наедине!“ Такой нелепый вздор, Бесстыдство матери и дочери в огласку Невольно бросило меня сначала в краску, И я уже хотел почтенной Крепсенштейн Сказать и пояснить, что если магазейн Француженки Тру-тру слывет Пале-Роялем, То ей, окутанной огромнейшим вуалем, Едва ль не совестно с девицей приезжать В такой свободный дом товары покупать. Но быстро все мои тяжелые заботы Пресекли новые парижские капоты. „Ах, прелесть! Что за цвет! Прекраснейший фасон! А эти складочки, а этот капишон!.. Ах, маменька! Скорей, немедленно обновы“. — „Изволь, мой друг, изволь!“ — ответ, всегда готовый, Был дочке радостной. Баронша — в кошелек, А кошелек, как пух, и тонок и легок. „Смотрите, да он пуст! — баронша закричала.— Ах, мой создатель! Как забывчива <я> стала, Без денег выезжать! А всё заторопясь… Mais à propos[77],— ко мне с улыбкой обратясь, Сказала дружески, — я видела при входе, Что есть у вас большой бумажный курс в расходе. Прошу, отдайте ей за эти пустяки, А завтра мы сочтем и прежние долги“. Что делать мне? Полез к бумажным кредиторам И в знак почтения к уродливым узорам Парижских епанчей три сотни заплатил. Зато мне и хвала! Сказали: „Как он мил!“ „Конечно, очень мил“, — подумал я с досадой, И проклял магазейн со всей его помадой, Чепцами, блондами, а более всего С гостями вечными, бароншами его, Потом с покупкою и книжкою карманной, Довольно гибкою от встречи нежеланной, Я ехал отдохнуть в досужный час домой. Но вот Кремлевский сад пестреет предо мной. Нельзя не погулять. „Фома, держи левее, К воротам. Стой!“ — и слез. Иду большой аллеей, Любуясь зеленью и пышностью цветов, Сажусь под арками. Тут запах пирожков, Паштетов, соусов — приманка сибарита — Невольно моего коснулся аппетита… „Толпы зевак еще и гастрономов нет,— Подумал я, — велю подать себе котлет И выпью рюмки две хорошего донского“,— Подумал — и взошел; велел — и всё готово. Но только сесть хотел — дверь настежь, и Ослов С отборной партией бульварных молодцов, Как водится всегда, охотников до рома, Котлет, чужой жены и до чужого дома, Ввалил прямехонько в ту комнату, где я Готовил скромное занятье для себя. „Любезнейший мой друг, старинный мой приятель! — Вскричал, обняв меня, сей новый истязатель.— Здоров ли, жив ли ты? Скажи, какой судьбой Привел меня господь увидеться с тобой? Позволь, тебя всего сто раз я поцелую! Вот друг мой, господа! Мой друг, рекомендую; Прошу его любить: он всё равно что я, А вам представлю их, всё добрые друзья: Вот князь Свистов, а вот поэт Ахтикропалов, Сверчков, Бостонников, Облизов и Пропалов. Ей-ей, сердечно рад! Знакомьтесь поскорей; Мы время проведем как можно веселей!“ И с этим словом все нахалы, пустомели, Вертясь и кланяясь, вокруг меня обсели. Котлеты между тем свернулися в желе И лакомили мух покойно на столе. Жестокая беда! Но вот еще мученье! Является паштет, огромное строенье, Торжественный венец искусства поваров, Со свитой водок, вин и влаги всех родов. Почтеннейший Ослов, на откуп взяв желудки, Как истинный делец, успел уже за сутки Вперед распорядить явленье пирога — И снова я в руках могущего врага! Облизов, приступя к решительному бою, Сразил чудовище искусною рукою, Огромный зев его на части резделил, И всякий с лезвием ко трупу приступил. Припомни, как терзал Демьян соседа Фоку, Как потчевал его без отдыху и сроку И градом пот с него, несчастного, бежал; Так точно и меня знакомец угощал Без срока, отдыха и даже без оглядки! „Да кушай, милый мой, вот ножка куропатки, Цыплята, голуби и фарш — и всё тут есть. Отведай же, мой друг, прошу тебя я в честь“. Хочу сказать, что сыт, — не даст ответить слова; Лишь только я начну — и рюмка мне готова. „Пей, пей, любезнейший! Поменьше говори. Что за бордо, сотерн, шампанское! Смотри! Да, кстати, добрый наш поэт Ахтикропалов, Ты так запрятался меж рюмок и бокалов, Что мудрено тебя найти и с фонарем. Отсвистнись-ка, мой друг, каким-нибудь стишком!“ — „Готов!“ — сказал поэт с довольною улыбкой; Перст ко лбу — и в ушах раздался голос хрипкой: „Я с удовольствием сижу В кругу друзей почтенных И с чистой радостью гляжу На строй бутылок пенных, Которых слезы, как хрусталь Лазурный, белый и румяный, Кропят граненые стаканы — И, не откладывая в даль, Запью последнюю печаль“. Скончал. Бутылка хлоп — в фиале зашипело, И „браво“, как ядро из пушки, загремело… „Списать стихи, списать! Вот истинный поэт! Как скоро и легко! Отличнейший куплет!“ И вдруг карандаши и книжки записные Посыпались на стол в хвалу и честь витии. А я… как думаешь? Скорее шляпу, трость Да в общей кутерьме, как запоздалый гость, Забывши заплатить за грешные котлеты, Которые опять быть могут подогреты, Бежать, да как бежать! Без памяти, без сил, Нашел свой экипаж, как бешеный вскочил. „Пошел, Фома, пошел! Скорее, ради бога!“ Пусть там о беглеце идет у них тревога… Уже две улицы остались позади; Я дух переводил свободнее в груди, И только изредка, исполненный боязни, Погони ожидал, <как будто смертной казни>. Но все несчастия, нарочно сговорясь, Пред домом Трефиной меня толкнули в грязь Без всякой милости, с Фомой, кабриолетом, Журналом дамских мод и наконец пакетом Материй и платков mademoiselle Тру-тру. Как Вакхов гражданин, проснувшись поутру, Невесело встает с услужливой постели, Вставал из грязи я без плана и без цели. Вдруг тонкий голосок воздушною струей Раздался над моей печальной головой: „Вы ль это? Боже мой! Какое приключенье! Не сделалось ли вам удара от паденья? Вот люди, соль и спирт — они вас укрепят. Прошу взойти наверх“. Я бросил томный взгляд В воздушную страну, из коей, мне казалось, Истек приятный звук. И что же оказалось? Особа Трефиной, дородна и тучна, Как на море подчас девятая волна, Стояла, на балкон небрежно опираясь. Что было делать мне? Неловко извиняясь В нечаянном грехе, Фому и фаэтон Отправил я домой, а сам без оборон От выдумок судьбы жестокой и нахальной Повлекся к лестнице парадной машинально. Чем встретили меня — нетрудно угадать. Ни сил я не имел, ни время отвечать. Напала на меня вся дамская эскадра, Вопросы сыпались, как с Эрзерума ядра. Бог знает, до чего б их штурм меня довел, Но тем окончилось, что подали на стол. Хвала на этот раз уставам просвещенья! У Трефиной я был избавлен принужденья: Сказал, что не хочу, — и дело решено. Сиди, кури табак — хозяйке всё равно. Стол начат хорошо: особы две крестились, Потом, как водится, сперва разговорились О важном, — например, <что будет государь На этих днях в Москву,> что будто секретарь Такого-то суда за рубль лишился места, И замуж за судью идет его невеста. Потом, на полутон понизя разговор, Коснулись ближнего. Какой-нибудь узор Подола Мотовой в прошедшее собранье Успел приобрести всеобщее вниманье. Иного с головы размерили до ног, И всякий говорил, что думал и что мог. Приезжий между тем господчик из Калуги Девице Трефиной оказывал услуги: Брался ей косточку разрезать с мозжечком И многое шептал, как кажется, о том. Но, как бы ни было, стол кончился исправно. Я время проводил ни скучно, ни забавно. Десерт и кофе шли своею чередой, И я доволен был обедом и собой. Но вот что повторю: осмей мое сознанье, А вера в дьяволов имеет основанье. Сызмала верить им от нянек я привык И после опытом ту истину постиг. Есть дьяволы — никто меня не переспорит,— Не мы, а семя их кутит, мутит и вздорит. Они, проклятые, без тела и без лиц, Влезают и в мужчин, и в женщин, и девиц; Сидят в них, к пакостям, страстям, порокам клонят И, раз на шею сев, в открытый гроб загонят. Старинный Ариман и новый падший дух Едва ли не живут и давят нас, как мух! Мне думать хочется, что это не пустое! А впрочем, вот тому свидетельство живое: Девица Фольгина по просьбе двух шмелей, Которые, на шаг не отходя от ней, Точили на заказ безбожно каламбуры, Разыгрывала им отрывок увертюры Из оперы „Калиф“, потом, переходя От арии к рондо, нежнее соловья, Томнее горлицы прелестным голосочком Пропела песню: „Раз весною под кусточком“. И прочая… Игра и пение вокруг Сирены Фольгиной собрали знатный круг: Дивились, хлопали, хвалили, рассуждали И чудом из певиц торжественно назвали. Один из сказанных услужливых господ Приходит вне себя: как обер-франт и мот, Скользя, подходит к ней с улыбкой чичисбея. „Позвольте, — говорит, — божественная фея, Устами смертного коснуться ваших рук! Меня очаровал непостижимый звук, Произведенный их летучими перстами“. С сим словом подлетел и страстными губами Хотел восторг любви руке ее принесть. Она, заторопясь наезднику присесть, Нечаянно ногой за кресла зацепила И франта на парке́ с собою уронила. „Ах, ах!“ — как водится, но дело уж не в том: Закрыв лицо и грудь, горящие стыдом, Как серна, бросилась в другую половину, А ловкий петиметр, прелестную картину Увидя и другим немножко показав, Поднялся охая, как будто он и прав. Что было следствием — никто меня не спросит: Кто нюхает табак, кто лимонаду просит, Кто сожалеет вслух и очень рад тайком, Кто обтирается батистовым платком И далее. Меж тем отец и мать певицы, Разгладя нехотя наморщенные лицы, Карету — и с двора. Я тоже замышлял, Но Сидор Карпович тревогу прокричал: „Куда, куда и вы?.. Гей, люди, повеленье: Вот шляпа вам и трость — убрать на сохраненье! Ни шагу и́з дому, ни капли воли нет. Вы партию жене составите в пикет, Бостончик или вист. Два столика готовы — Прошу не отказать, не будьте так суровы!“ Засел я нехотя, смертельно не любя Для прихоти других женировать себя. Проходит час и два — нам дела нет нимало: Сражаемся и всё!.. Мне даже дурно стало! Виконт Де ла Клю-Клю, парижский патриот, Оставя в Франции жену и эшафот, Чтоб быть учителем у русских самоедов, По счастью, был тогда из близких мне соседов. „Vicomte, prenez ma place“,[78] — сказал я обратясь. „Bon, bon!“[79] — он отвечал. И я, перекрестясь, Но только верно уж неявно и наружно, Пошел из-за стола рассеять миг досужный. Послушай, что теперь случилося со мной, И верь, что все дела текут не сатаной! В исходе одного большого коридора Вдруг слышится мне смех и шепот разговора. „Подслушать тайну — есть позорная черта,— Вдали остановясь, подумал я тогда.— Быть может, через то я много потеряю… Но ч<ерт> меня возьми!.. Я точно различаю Девичьи голоса. Подслушаю секрет…“ Подкрался и взошел в ближайший кабинет. Вот тайный разговор от слова и до слова: Девица 1-я Да знаешь ли ты, чем Анета не здорова? <Девица> 2-я Неу́жели улан?.. 1-я Уж знает вся Москва!.. Прошу покорнейше!.. Но только он едва Останется в глупцах. 2-я О, это вероятно!.. А впрочем, милая, какой мужчина статный! 1-я Не Сонин. 2-я Ха, ха, ха! Я думаю, наскучил! 1-я Пустою нежностью в два месяца измучил! Ах, что за фалалей! В отставку, со двора! 2-я Налетов, камер-паж… Ma chère, убей бобра. 1-я Et vos affaires?[80] 2-я Hélas![81] Сказать тебе не смею! 1-я Забавно! До сих пор?.. 2-я Он слеп, а я робею! 1-я Кто этот в парике осанистый брюнет Играет с Трефиной так счастливо в пикет? Не знаешь ты его? Он мастерски играет. Но Трефина, поверь, не много потеряет, Хотя б он на нее сто тысяч записал. 2-я Как? Что? Он на ноге? 1-я Контракт уж подписал: Что выиграет туз, тем пользуется дама. 2-я Fi donc![82] Так нагло жить и не бояться срама! А этот пасмурный и скучный кавалер, Разбитый лошадьми, точь-в-точь как grande misère,[83] — Из двух: или влюблен, или глупец тяжелый! 1-я Тс!.. Кажется, идут! Оправимся, пойдем!.. _____ Каков был разговор! Что думаешь о нем? А в заключение как выражено внятно: „Влюблен или глупец!..“ Не правда ли, приятно! А делать нечего: наука для ушей; Недаром говорят: есть кошки для мышей. Итак, оправившись, как скромные девицы, Вернулся я опять в клоб новостей столицы. Вхожу — и вижу там всезнаек дорогих В кругу их маменек и тетенек седых. Они уже опять и кротко и невинно, Как куколки, сидят в беседе благочинной И, только изредка кивая головой, Дивуются вранью рассказчицы одной. Я долго не спускал исподтишка их с глазу, Но вдруг: „От сорока и восемьдесят мазу…“ — Раздалося в углу. И что же? Мой брюнет (Что ныне на ноге), огромнейший пакет Имея пред собой наличных ассигнаций, Оставя козырей к услугам древних граций, Как бес, понтирует с каким-то толстяком. Что раз, то „attendez!“, то транспорт, то с углом!.. Толстяк уже пыхтит, лицо краснее рака, А всё задорнее заманчивая драка! Но наконец нет сил!.. „Нельзя ль переменить? Прошу, мечите вы!.. Хоть карту бы убить!..“ Ни слова вопреки. Серьезно, равнодушно Колоды обменил злодей его послушный И мечет. Первая убита толстяком; Вторая также. Туз и дама пик с углом Убиты. Карты в тос. Толстяк свободней дышит. Другая талия — толстяк берет и пишет. „Тьфу, счастие!“ — ворчит с досадою брюнет И с места пересел. „Пятьсот рублей валет!“ Вспотевшая рука банкёра задрожала… Ждут оба… карты нет… идет — направо пала! „Насилу!.. Он опять!.. Проклятое плие!.. Он и отыгрывать! Скажите, сряду две И три!.. Опять идет!“ Признаться, эта сцена — Игры и счастия слепая перемена — Невольно и меня влекла в среду толпы Зевак, которые, недвижны, как столбы, У стульев игроков, разиня рот, стояли И с нетерпением конца задачи ждали. Понтёр не сводит глаз; торопится брюнет — И вдруг четвертый раз на правую валет! „Фальшь! — толстый закричал. — Вот скраденная карта!“ Хватает за рукав и с первого азарта С размаху бац его колодою в висок!.. Банкёр встает, но стул как раз сбивает с ног. Кровь брызжет. Деньги, стол, мел, щетки, два стакана Летят за ним вослед без цели и без плана. „Убийство! Караул! Спасите! — раздалось, И всё собрание рекою разлилось.— Гей, люди, кучера! Салопы и кареты!“ Бегут по лестнице, едва полуодеты, Теснятся, падают, толкаются, пищат — И мигом опустел плачевный маскарад… Я… Боже упаси свидетельственной роли! И что мудреного? Боясь такой же доли, Хоть сроду не бывал картежным подлецом, Схватив чужой картуз, скорей оттоль бегом. Зову извозчика, скачу как из содома, И вот, как видишь сам, сейчас лишь только дома! Петрушка, где халат? Сними скорее фрак, Оправь мою постель, дай трубку и табак!.. Гостей не принимать! Гони их, бей, коль можно,— И убирайся сам… Я зол теперь безбожно!» Между 1829 и 1831104. Кредиторы
Что делать мне от кредиторов? Они замучили меня! От их преследующих взоров Хоть бросься в воду из огня! Пугаясь встречи их накладной, Везде я бегаю, как вор; Но, боже мой, как ни досадно, Где ни ступи — всё кредитор! Как саранча, как ополченья Теней, лишенных погребенья, Вокруг Хароновой ладьи,— Толпятся вкруг меня стадами С своими жадными руками Враги-мучители мои! Как на трепещущее тело В степи упавшего быка Глядит толпа воронья смело, Алкая жданного куска,— Так мне глядят они в глаза С ландшафтом харь и выраженья Досады, злости, нетерпенья, Притворной ласки — и следят Меня, как рыбу или клад! «Когда же? Скоро ли? Да что же? Нам деньги нужны — ведь пора. Легко ли ждали мы!» О боже, Хоть отрекайся от двора! Им деньги надобны — вот повесть: Кому же не надобны они? Сошлюсь на чью хотите совесть. Я вновь бы занял сотни три,— Да что ж, когда никто не верит, А только требуют уплат; Тут и <монах> залицемерит, Как за грехи потянут в ад! «Как быть, любезные, терпите! — Заимодавцам мой ответ.— В другое время приходите, Теперь, ей-ей, ни гроша нет!» Отпевши так серьезным тоном Иль «Добрый день!», иль «Добра ночь!», И, кто с упреком, кто с поклоном, Они идут лениво прочь. Что ж, други? Честность, несомненно, В стране подсолнечной нужна, Но признаюсь вам откровенно: Нужда ужасна и сильна! Не всякий выгодно повздорит С негодной фурией-нуждой, За словом дело переспорит, Хоть будь волшебник не пустой! ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Скажу короче: благороден, ………………………………………… ………………………………………… Богат, покоен и свободен Кто обстоятельствам не раб, Кто сам больной и эскулап!.. Но тот, кого судьба от скуки Согнуть изволит в три дуги, Хоть будь сам черт, да пусты руки, Без покровительств и поруки, Тот нос и уши береги! Бывал и я когда-то в свете, Кой-что нередко замечал,— И что ж осталось на примете? Не много чести я видал! Случалось вскользь видать в прихожей Или на рынке где-нибудь, Но всё с такой дурною рожей, Что даже страшно и взглянуть! А у вельмож, господ чиновных, Военных, светских и духовных, ……………………………………… ……………………………………… ………… В.……………………… Картежных клобах и парадах Они являются без ней! А что того еще смешней,— Они с богатством и чинами Живут одними лишь долгами. И видел я издалека, Что от долгов иные бары, Хотя толсты, как самовары, Но вместе тоньше волоска И легче перышка гагары! Их очень много — перечесть За труд излишний почитаю, Но вот о чем вас вопрошаю: Куда ж они зарыли честь? Смотрите: Н*** спешит к обеду, В ландо разлегшись щегольком,— И вот, оставивши беседу, Домой торопится пешком. Карета, лошади, лакеи Исчезли вдруг, как чародеи,— Он конфискован за долги… И… здесь-то честь побереги!.. Спокойно лежа на диване С хорошей трубкой табаку, Имея тысяч сто в кармане — Да ни полтинника в долгу,— Конечно, нам о благородстве Легко судить и рассуждать И всех нечестных осуждать, Но при большом недоброхотстве Слепой фортуны мудрено Сказать, что бедность и раздолье, Квас и шампанское, подполье И пышный замок — всё равно! Привычка к старому невольно Банкрота мучит и крушит, И превратиться в Ира больно Тому, кто жил как сибарит. Что ж делать в море от ненастья? — Искусно править у кормы. Чем заменить потерю счастья? — Искусно деньги брать взаймы. «Но брать взаймы, так брать с отдачей,— Рычит кредиторский подьячий,— На это есть свои права». О золотая голова! Давай лишь денег нам поболе, Под роспись или под заклад (Чему не всякий, впрочем, рад), А там в твоей, пожалуй, воле По сроку требовать назад. Греми, великий муж, протестом И апелляций не забудь; Коль нужно будет, то присестом Махни по форме в земский суд И налепи на просьбе в пуд Печать свинцовой гирей с тестом… А мы червонные твои Меж тем на мелочь разменяем И, труся грозного судьи, Кой-где меж водкою и чаем, ………………………………………… Когда ж до медного рубля Съедим, убьем и протранжирим, То, совесть бережно храня, Тебе ж его на зубы кинем И будем вновь тебя просить, Нельзя ли вновь нас одолжить… Богат я, милый, — вот проценты, Изволь и с суммой получить. Без денег, — друг мой, документы Храни, чтоб всё не упустить! Расписка, вексель — деньги тоже; А если — вздор, — но от чего, Меж тем избави тебя боже! — В уплату рвенья твоего Ты не получишь ничего, То укрепись по-философски, Судом разделки не проси И, как процентщик, по-геройски Пустой урок перенеси! Зачем срамить себя бесславно? Припомни только без хлопот Панглоса мудрого расчет: Он показал, и очень явно, Что зло с добром в связи издавна И всё здесь к лучшему идет. Так что ж печальною мечтою Тревожить робкие умы? Перо с бумагой предо мною — Давайте денег мне взаймы. А вас, старинные знакомцы, Прошу мне в уши не жужжать И знать потверже, что червонцы Сходнее брать, чем отдавать. Отдам, отдам и вам, поверьте, Но, ради бога, вкруг меня Без шабаша не лицемерьте, Дождитесь радостного дня! Вот мы поправимся немного, Свали́м огромные грехи — И не всегда невежды строго Судить нас будут за долги, Как ныне судят за стихи… Прощайте! — Ох, как будто стало Теперь на сердце веселей; Авось мучителей хоть мало Я тронул логикой своей. Вторая половина 1820-х годов105. Чудак
Дорогой в град первопрестольный, Часа в четыре поутру, Игрой судьбины самовольной К ямскому сонному двору Примчались быстро друг за другом Две тройки и карета цугом. Улан — красавец и корнет, Мужчина в фраке средних лет И барышня свежее розы, С служанкой сивой, как морозы, Выходят — входят и: «Гей-гей! Давайте чаю поскорей!» Читатель, верно, вам знакомы Неугомонные содомы Неугомонных ямщиков, Итак, оставя кучеров И слуг вертеться возле сена И воевать за рубль промена, Посмотрим лучше на свою Разнообразную семью. Облокотяся нерадиво На стол, девица молчаливо Сидит за чайником своим; Улан, с искусством щегольским Играя перстнем и часами, В карман не лезет за словами И, как учтивый кавалер, Желает знать всё, например: Кто такова она? Откуда? Как имя ей? Мими, Земруда Или подобное тому? Находит в ней достоинств тьму, Обворожен ее румянцем, Дивится вслух прелестным пальцам, А втайне — ножке; да притом Он мыслит также о другом. Невольно барышня краснеет, Но он нимало не робеет, Осаду правильно ведет И смело в чашку рому льет… Другая резкая картина: Во фраке средних лет мужчина, Качая важно головой, Как будто занятый большой Алгебраической поверкой, С полуоткрытой табакеркой И весь засыпан табаком, Ходил задумчиво кругом. Вдруг, скуча долгим размышленьем, Подходит к барышне с почтеньем И предлагает ей… чего? — Понюхать… Барышня его Глазами мерит с удивленьем И отвечает с наклоненьем: «Покорно вас благодарю — Не нюхаю и не курю». В ответ ни слова, хладнокровно Отходит прочь сопутник скромный; Минуты две спустя потом Вновь угощает табаком: «Прошу понюхать!» — «Я сказала,— Смутясь девица отвечала,— Что я не нюхаю». Улан, Поставя выпитый стакан, Взглянул, скосясь, на господина, Но беззаботливая мина В широком фраке чудака Смягчила гнев его слегка. Пунш снова налит; всё как прежде. Но непонятному невежде Неймется — барышне опять Идет табак свой предлагать: «Прошу понюхать!» — Градом слезы Кропят ланит прелестных розы. «Что вам угодно от меня? — Вскричала жалостно она.— Подите дальше, ради бога!» — «Опять, уж это слишком много! — Вскричал значительно улан.— Вы наглы, сударь, вы буян! Прошу разделаться с корнетом За наглость даме пистолетом». — «Зачем не так: я очень рад». Готовы пули. Идут в сад. Курки на взводах — бац! С корнета Летит долой пол-эполета; Соперник жив, без картуза. Глядят, разиня рот, в глаза Друг другу храбрые герои; Потом сближаются — и двое Вдруг составляют одного! «Ура!» — и больше ничего… На стол являются бутылки. Улан, в движеньях гнева пылкий, Был в дружбе также щекотлив: В карманной книжке начертив Свой полный адрес в память другу, Пожал ему усердно руку, Два раза в лоб поцеловал И в ближний город поскакал. А барышня? И, други, прежде Пока забавному невежде Защитник скромности — корнет — Дал в руку смертный пистолет, Она, с досады и испуга, Не дождалась другого цуга И кое-как на четверне С двора свернула в тишине. А наш чудак с серьезной маской Теперь один в кибитке тряской Летит дорогой столбовой — На встречи новые и бой. И точно: вдруг в глуши крапивной Он слышит стон и вопль разрывный И колокольчик в стороне. Кинжал и сабля на ремне, Ружье с картечью у лакея,— Чего бояться? Не робея Летит крапивою на стон — И что ж, кого встречает он? Два мужика… один с дубиной, С звероподобной образиной, За вожжи держит лошадей Несчастной барышни моей; А кучер с старою служанкой Лежат бездушною вязанкой, Опутаны без рук и ног Веревкой вдоль и поперек… «О боже! Стой!» — вскричал он внятно; Вооруженный сбруей ратной, Спешит к красавице. Кинжал С ружьем и саблей заблистал. Злодеи в бегство. «Вы свободны!» — Гласит ей витязь благородный. Пошло всё прежним чередом, И он — в карете с ней вдвоем, Как друг и ангел-охранитель. «Чем заплачу вам, мой спаситель?» — Твердит девица чудаку. «Прошу понюхать табаку!» А после? Что болтать пустое? Они в Москву явились двое, Смеялись, думали; потом Накрыл священник их венцом; Потом всё горе позабыли, Гуляли, спали, ели, пили — И, приучившись к чудаку, Она привыкла к табаку. Вторая половина 1820-х годовЭРПЕЛИ И ЧИР-ЮРТ Две поэмы
Evil be to him that evil thinks.[84]
Воинам Кавказа
106. Эрпели
ГЛАВА 1
Едва под Грозною[85] возник Эфирный город из палаток И раздался приветный крик Учтивых егерских солдаток: «Вот булки, булки, господа!» И, чистя ружья на просторе, Богатыри, забывши горе, К ним набежали, как вода; Едва иные на форштадте Найти успели земляков И за беседою о свате Иль об семействе кумовьев, В сердечном русском восхищенье И обоюдном поздравленье, Вкусили счастие сполна За квартой красного вина; Едва зацарствовала дружба,— Как вдруг, о тягостная служба! Приказ по лагерю идет: Сейчас готовиться в поход! Как вражья пуля, пролетела Сия убийственная весть, И с Ленью сильно зашумела На миг воинственная Честь. «Увы! — твердила Лень солдатам.— И отдохнуть вам не дано; Вам, точно грешникам проклятым, Всегда быть в муке суждено! Давно ль явились из похода — И снова, батюшки, в поход! Начальство только для народа Смышляет труд да перевод. Пожить бы вам хотя немного Под Грозной крепостью, друзья! Нет, нет у Розена ни бога, Ни милосердья, ни меня! Пойдете вы шататься в горы, Чеченцы, бестии и воры, Уморят вас без сухарей; Спросите здешних егерей!..» — «Молчать, негодная разиня! — В ответ презрительно ей Честь.— Я — сердца русского богиня И подавлю пятою лесть! Ужель вы, братцы, из отчизны Сюда спешили для того, Чтоб после слышать укоризны От сослуживца своего: „Они-де там не воевали, А только спали на печи, В станицах с девками играли Да в селах ели калачи!“ (Не воевали мы, бесспорно,— Есть время спать и воевать.) Вам был знаком лишь ветер горный, Теперь пора и горы знать; Вы целый год здесь ели дули, Арбузы, терн и виноград; Теперь — прошу — отведай пули, Кто духом истинный солдат! Винить начальство грех и глупо: Оно, ей-ей, умнее нас, И без причины вместо супа В котлы не льет гусиный квас. Идите в горы, будьте рады, Пора патроны расстрелять, За храбрость лестные награды Сочтут за долг вам воздавать; А егерям прошу не верить, Хоть Лень сослалась на их гурт: Они привыкли землемерить Одну дорогу в Старый Юрт».[86] Так Честь солдатам говорила, Паря над лагерем полка, И Лень печально и уныло Ушла, вздохнув издалека. Внезапно ожили солдаты: Везде твердят: «В поход, в поход!» Готовы. «Здравствуйте, ребяты!» — «Желаем здравия!» — И вот Выходят роты. Солнце блещет На грани ружей и штыков; Крест на́ грудь — и как море плещет В рядах походный гул шагов. Вот Розен!.. Как глава от тела, Он от дружин не отделен; Его присутствием несмелый Казак и воин оживлен! Его сребристые седины Приятны старым усачам: Они являют их глазам Давно минувшие картины, Глубоко памятные дни! Так прежде видели они Багратионов пред полками, Когда, готовя смерть и гром, Они под русскими орлами Шли защищать Романов дом, Возвысить блеск своей отчизны Или, к бессмертью на пути, Могилу славную найти Для вечной и бессмертной тризны! Так прежде сам он был знаком Седым служителям Беллоны; Свои надежды, обороны Они вторично видят в нем. И полк устроенной громадой По полю чистому валит, И ветер свежею отрадой Здоровых путников дарит. Всё живо: здесь неугомонный Гремит по воле барабан; Там хоры песни монотонной «Пал на сине́ море туман!..», Здесь «Здравствуй, милая…», с скачками Передового плясуна; Веселый смех между рядами И без запрету тишина. Глубокомыслящие канты И на черкесских жеребцах В доспехах горских адъютанты, Крутя столбом летучий прах, Сверкают, вьются пред глазами. День вечереет; за горой С полублестящими лучами Исчез бог света золотой. Луна серебряной лампадой Виднеет в небе голубом; Заря вечерняя прохладой Приятно веет над полком. Вперед, вперед! Еще немного — Близка до станции дорога! Вот ручеек горячих вод… Отбой!.. Окончен переход!..ГЛАВА 2
Кто любит дикие картины В их первобытной наготе, Ручьи, леса, холмы, долины, В нагой природу красоте; Кого пленяет дух свободы, В Европе вышедшей из моды Назад тому немного лет,— Того прошу когда угодно Оставить университет И в амуниции походной Идти за мной тихонько вслед. Я покажу ему на свете Таких вещей оригинал, Которых, верно, в кабинете Он на ландкартах не видал, А, шедши фронтом, на походе Увидит их по сторонам, Как у себя на огороде Чеснок и редьку по грядам. Я покажу ему с улыбкой На степи верст по пятисот, На коих изредка ошибкой Ковыль с мордвинником растет, И, расстилаясь в день румяный, Цветник сей длинной полосой Блестит, как океан багряный, Своей колючею красой. Я покажу ему титана, Который сед и стар, как бес, В огромной области тумана Всегда в войне против небес! Из ребр его окаменелых Мильоном волн оледенелых Шумят и летом и зимой Ручьи с свирепой быстротой. Напрасно жар полдневный пышет, Сразясь с тройным его венком, Сердит и пасмурен, он дышит Одними вьюгами и льдом! Кругом, от моря и до моря, Хребты гранита и снегов, Как Эльборус, с природой споря, Стоят от бытности веков! И неприступная сияет Из облаков их высота; Туда лишь дерзкая мечта С царем пернатых долетает. Потом, направивши слегка Полет и взору и надежде, Я б показал сему невежде Крутые горы из песка, Которых около Валдая, Раз десять в Питер проезжая, Заметить, верно, он не мог. А что за вид! Какой песок! Куда ваш славный воробьевский!.. Какой-нибудь писец московский Не только б в думе пожалел Засыпать им свой бред плутовский, Но, право б, горсть тихонько съел! Потом, пришедши с ним на берег, Я б показал ему Сулак, Лихую Сунжу или Терек; Не утерпел бы он никак, Чтобы не вскрикнуть: «Что такое, Вода иль грязные помои?»[87] В ответ: «Помилуйте, вода,— Сказал бы я ему невинно,— Попробуйте, она чиста, Как в Яузе или Неглинной!» Потом любезному дружку Я показал бы лес фруктовый, В котором с девушкой суровой Сойтись опасно пастушку, Затем что слишком мал в округе: Верст десять только есть к услуге, Да и довольно некрасив: Из грушей, персиков и слив! Спросил бы я его учтиво: Давно ль он прибыл из столиц? Едят ли там в июне сливы Без покровительства теплиц? На все вопросы таковые Глазища выпуча большие, Стоял бы он передо мной, Как сивка-бурка пред Бовой Или как лист перед травой; А я, в досужный час, от скуки, В Костеках или Ташкичу, Его ударя по плечу И взявши дружески за руки, Зашел бы с ним за буерак И, севши рядом, начал так; Мой милый! Очень натурально Вам всем, столичным петушкам, Из залы вышед танцовальной, Дивиться здешним чудесам. Вам всё здесь ново, всё забавно, Я очень верю, потому, Что я и сам еще недавно Облекся в ратную суму. И я, мой друг, в былые годы Ходил во фраках, да каких! Последней, самой лучшей моды, Короткофалдых, обрезных! Штаны на мне, я помню живо, Любил носить я широко, Из казимира и трико, Внизу с чешуйкою красивой. А сапоги — ты, верно, знал Все магазейны по бульвару — Мне немец Хейн всегда шивал По тридцати рублей за пару, На вес пять-шесть золотников. Вот был недавно я каков! Так обратимся мы к предмету: Я думал так же, как и ты, Готов был целый век по свету Искать чудес и красоты В природе мудрой и премудрой, Как нам твердит ученый хор, И восхищался до тех пор, Пока, мне кажется, за вздор Меня распудрили не пудрой, Как, может, ты предполагал. …………………………………………… …………………………………… и что же? Прошу пройтиться на Кавказ! С какою, думаешь ты, рожей Узнал заслуженный приказ? Не восхищался ли, как прежде, Одним названием «Кавказ»? Не дал ли крылышек надежде За чертовщиною лететь, Как-то: черкешенок смотреть, Пленяться день и ночь горами, О коих с многими глупцами По географии я знал, Эльбрусом, борзыми конями, Которых Пушкин описал, И прочая… Ах нет, мой милый! Я вспомнил то, кем прежде был, Во что господь преобразил,— И с миной кислой и унылой И нос и уши опустил! Пришед сюда, я взором диким Окинул всё, что прежде мне Казалось чудным и великим,— И всем скучал наедине, В шуму пиров и тишине! Вот эти дивные картины: Каскады, горы и стремнины… С окаменелою душой, Убитый горестною долей, На них смотрю я поневоле И, верь мне, вижу из всего Уродство — больше ничего! Быть может, друг мой (почему же Не быть подобному с тобой?), Поссорясь ветрено с судьбой, Ты сам наденешь фрак поуже Или две капли так, как мой; Тогда судить умнее станешь, Навек поклонишься мечтам — И удивляться перестанешь Кавказа вздорным чудесам!ГЛАВА 3
Меж тем уходит день за днем Неизменяемым порядком; Жары над странственным полком Сменяет ночь в молчанье кратком; За переходом переход: Степьми, аулами, горами Московцы дружными рядами Идут послушно без забот. Куда? Зачем? В огонь иль воду? Им всё равно: они идут, В ладьях по Тереку плывут, По быстрой Сунже ищут броду; Разносит ветер вдоль реки С толпами ратных челноки; Бросает Сунжа вверх ногами Героев с храбрыми сердцами.[88] Их мочит дождь, их сушит пыль. Идут — и живы, слава богу! Друзья, поверьте, это быль! Я сам, что делать, понемногу Узнал походную тревогу, И кто что хочет говори, А я, как демон безобразный, В поту, усталый и в пыли, Мочил нередко сухари В воде болотистой и грязной И, помолившися потом, На камне спал покойным сном!.. А вы, бифстексы и котлеты, Домашней кухни суета, Какие лестные приветы Я вам выдумывал тогда! С каким живым воспоминаньем, С каким чудесным обоняньем Перед собой воображал! Я вас не резавши глотал, Без огурцов и кресс-салата… А на поверку, наконец, Увы, хоть съел бы огурец, Да нет их в ранце у солдата! …………………………………………… …………………………………………… Уже осталося за нами Довольно русских крепостей, В которых рядом с кунаками Живут семейства егерей, Или, скажу яснее, роты Линейной егерской пехоты Из сорок третьего полка. Уж наши воины слегка Болтать учились по-чеченски, Как встарь учились по-немецки, И восхищались от души (Таков обычай русской рати), Когда случалося им кстати Сказать «яман» или «якши». Уже тарутинцы успели Подробно нашим рассказать, Притом прибавить и прилгать, Как в Турции они терпели От пуль, и ядер, и чумы, Как воевали под Аджаром, И, быль украшивая с жаром, Пленяли пылкие умы, Всегда лежавшие на печке… Мы, в разговоре деловом Прошедши вброд еще две речки, К Внезапной крепости тишком Пришли внезапно вечерком… Вот здесь и точка с запятою… Я должен тон переменить И, как поэт отважный, вдвое Сурьезней дело пояснить. Итак, принявши тон сурьезный, Скажу вам так: когда из Грозной Пошли мы, грешные, в поход, То и не думали, не знали, Куда судьба нас заведет. Иные с клятвой утверждали, Что мы идем на смертный бой В аул чеченский, не мирно́й; Другие, впятеро умнее И на сужденье поскромнее, Шептали всем, понизя тон, Что наш второй баталион Был за Андреевской нещадно Толпою горцев окружен. Все пели складно, да не ладно; Один поход мог доказать, Как хорошо умеют врать. Замечу здесь: все офицеры, Конечно, знали наперед Вернее, нежель мушкатеры, Куда судьба их заведет, Но знали так, как думать должно, Не для других, а для себя; Итак, рассказов не любя, Хранили тайну осторожно. Теперь, к Внезапной подходя, Засуетились все безбожно: «Да где ж второй наш батальон? Ведь, говорят, в осаде он». — «Э, вздор, налгали об осаде: Он здесь с бутырцами стоит; Смотрите, ежели в параде Он нас принять не поспешит». — «Да, если здесь, то, верно, выйдет». Идет наш первый батальон — И что же? Место только видит, Где был второй… «Да где же он?» — Один другого вопрошает, А тот в ответ ему: «Бог знает!» Меж тем и спать уже пора… Как раз раскинули палатки, И разрешение загадки Все отложили до утра.ГЛАВА 4
Вали[89] бессменный Дагестана И русской службы генерал, В Тарках, без трона и дивана, Сидел владетельный шамхал. Ему подвластные магоги В папахах[90], с трубками в руках, Сложив крестом смиренно ноги, Сидели также на коврах, Как одурелые французы От русской пули и штыков. Они внутри своих лесов Покойно сеяли арбузы, Пшеницу, просо и саман,[91] В душе, быть может, персиян И турок нам предпочитали, Но между тем, <боясь плетей,> Без отговорок и затей, Уставы наши принимали, Склонясь покорною главой Перед десницей громовой. Враги порядка и покоя, Они, подчас от злобы воя, Точили шашки на кремнях, Но грохот пушки на горах Вослед словесных увещаний Всегда и быстро укрощал Тревоги буйственных собраний И мир в аулах водворял. Так их смирял Ермолов славный, Так на равнинах Эрпели Они позор свой погребли, Вступивши с Граббе в бой неравный. С тех пор устроенной толпой, Смиряя пыл мятежной страсти, Они под кровом русской власти Узнали счастье и покой. Последний луч надежды темной Бросал в разбойничий аул Глава Востока — Истамбул, Но, сокрушив кумир огромный И льва тавризского связав, С брегов Аракса до Кубани Могущий росс, питомец брани, Лишил злодеев тщетных прав. Закоренелые невежды, От Черных гор до снеговых, С потерей слабой их надежды Вписались все в число мирны́х. Какой-нибудь Самсон презренный Или преступный Каплунов,[92] Спасаясь казни заслуже́нной, Тревожат мир ночных воров И потаенными стезями С мирны́ми, добрыми друзьями Из гор являются врасплох Перед стадами земляков. Но правосудный меч в размахе Висит на нити роковой, И рано ль, поздно ль головой, В оцепенении и страхе, Злодеи дань позорной плахе Заплатят жалкой чередой. Итак, кавказские герои В косматых шапках и плащах, Оставя нехотя в горах Набеги, кражи и разбои, Свою насильственную лень Трудом домашним заменили И кукурузу и ячмень С успехом чудным разводили. Как вдруг в один погодный день, На зло внезапное и горе, Из моря или из-за моря — О том безмолвствует молва — У них явился гость отменный, Какой-то гений исступленный, Пророк и поп Кази-Мулла. Как муж, ниспосланный от бога Для наставленья мусульман, Нося открытый Алкоран, Он вопиял сначала строго На тьмы пороков и грехов Своих почтенных земляков. Стращал их пагубною бритвой, Которой к раю на пути, Запасшись доброю молитвой, Должны их души перейти Иль, отягченные грехами, Упасть на огненное дно, Где нечестивым суждено Жить в вечной каторге с чертями. «О, горе нам, Алла, Алла! — Черкесы вторят с умиленьем.— Велик и прав святой мулла С ужасной бритвой и мученьем!» А он, усами шевеля, Как голова на сходе шумном, И знаком вопли прекратя, Вещал в пророчестве безумном: «Откройте сонные глаза, Развесьте уши все народы! Грядут со мною чудеса И воскресение свободы! Определения судьбы Готовят нам иную долю: Исчезнет Русь, конец борьбы — Вы возвратите вашу волю! Жив бог, а я его пророк! Его уста во мне вещают, В моей деснице пребывают И жизнь, и смерть, и самый рок! Как дождь нежданный и обильный, Мы ополчимся на врагов, Прогоним их рукою сильной С анапских пашен и лугов, С холмов роскошных Дагестана И ненавистного тирана Свободных гор, без оборон, Обратно вытесним за Дон! О, верьте! Крепости, станицы И села русских — прах и тлен; Их дети, жены и девицы Узнают гибель, месть и плен! И населят леса и степи, У нас отнятые войной, И только с смертию земной Спадут с них тягостные цепи!» И раздались и вопль и стон: «Исчезни, Русь, ступай за Дон!» Смутились буйственные горы; В мятежных сонмах, в тишине, Везде идут переговоры Об удивительной войне. Везде мулла благовествует; Он — им посланник от небес, Нигде ни шагу без чудес: Там он покойно марширует, Босой, все видят, по реке; Там улетает налегке К седьмому небу из аула; Там обращает кошку в мула, А здесь забавной чередой Переменяет вид природный И перед вами как угодно — Без бороды и с бородой! В один и тот же миг нежданный Изволит быть в пяти местах.[93] Короче: поп довольно странный, Хотя б и в русских деревнях. Что делать? Шутка не до смеха! Пошла ужасная потеха. Черкес мирно́й и немирной — Все бредят мыслию одной: Скорей исполнить предсказанье, Закон докучный истребить И Русь святую на изгнанье За Дон широкий осудить. Иные кое-где от скуки Уже сбирались по ночам, Но им, как дерзким шалунам, Веревкой связывали руки; Другие, несколько умней, С мирского общего совета Держались неутралитета И ожидали лучших дней. Но больше всех, как якобинцы, Взбесились жители земли Под управлением Вали — Неугомонные тавлинцы; За ними вслед койсубулинцы. Шамхал, заботливый старик, Кричал о казни громогласно, Но беспокоился напрасно, И бунт торжественно возник. Читатель, ежели ты срода Хотя две книги прочитал, То непременно угадал Причину нашего похода. Что будет далее, прошу Меня не спрашивать заране: Ты не останешься в обмане, Я всё подробно опишу.ГЛАВА 5
Когда по высшему веленью Уничтожались иногда С лица земного города, То мудрено ль землетрясенью — Хочу я физиков спросить — Аул кумыков навестить, Разрушить две иль три мечети, В которых набожно с муллой Молились девы, старцы, дети Перед невидимым Аллой — И вдруг с глухим подземным гулом, Под грудой камней и столпов, Прешли в обители отцов? Вот быль с Андреевским аулом: Шесть суток гром по временам Из тьмы кромешной по горам Носился тихо и протяжно, Потом решительно и важно Во всех местах загрохотал, Дома и сакли разметал, Испортил в крепости строенья, Казармы, стены, укрепленья — И… очень скромно замолчал! Сего печального явленья Мы не застали, но следам Еще живого разрушенья Дивились с горестию там. Всё было дико и уныло, Всё душу странника в тоску И грусть немую приводило. Громады камней и песку, Колонн разбитых пирамиды, Степные пасмурные виды, Туман волнистый над горой, Кустарник голый и порой Как будто мертвое молчанье… Два дня томилось ожиданье: Когда ж идти на явный бой, Алкая смерти благородной? Раздался снова шум походный — И полк дружиной боевой Идет дорогою степной. Всё те же хо́лмы, горы, реки, Всё те же ветры и жары, Сырые, вредные пары И кукурузные чуреки;[94] Всё те же змеи по полям, Вода с землею пополам, Кизиль неспелый, розан дикой; Черешня с луком и клубникой, Чеснок, коренья всех родов И сыр из козьих творогов… Идут… Седая пыль столпами Летит вослед за казаками; Мирны́е всадники толпой Покойно едут стороной; Мешаясь с ними, офицеры Заводят речи — на словах И пантомимой — о конях, Кинжалах, шашках; канонеры За путевым экипажо́м Идут с зажженным фитилем; Джигиты бешеные скачут; Трещат колеса по кремням; Арбы немазаные плачут; Везде и крик, и шум, и гам. Там с крутизны несется фура, Там, между узких дефилей, Впрягают новых лошадей. Но вот аул Темир<-Хан-Шура> Мелькнул за речкою вдали; Вот ближе, ближе… Перед нами… Прошли… Привал!.. И за стенами На отдых воины легли. Вода кипит, огонь пылает; Быки в котлах, готов обед; Здоровы все, усталых нет! Вдруг шум внезапный прерывает Вои́нский добрый аппетит. Глядим… Какой чудесный вид! Из-за горы необозримой Необозримою толпой, Покорной, тихою стопой Идет народ непокоримый. Потупя взоры в тишине, Как очарованы во сне Питомцы яростные брани; Обезоружены их длани; Ни пистолет, ни ятаган Не красят пышного наряда; Вся их надежда, вся ограда Перед начальником отряда — Их предводитель Сулейман. Печален, бледен, сын шамхала, Склоня колена и главу, Почтил безмолвно генерала. Ковер раскинут на траву, И, может быть, в виду народа, За кратким отдыхом похода, Судьба пришельцев решена! Паше бумага подана… Он пишет… кончил. С уваженьем Вторично голову склоня, Садится с ловким небреженьем На подведенного коня. Народ, князья, все равным кругом Его обстали… На коней Взлетают все… Быстрей, быстрей Обратно скачут друг за другом. И, то являясь на горе, То исчезая за горою, Как свет на утренней заре В борьбе с туманной пеленою Иль при волшебном фонаре Рои китайских легких теней, Они сокрылись… Для чего? Откуда, как и отчего? Не предложу моих суждений, Не объясню вам ничего, Затем что знаю очень мало; Что знаю мало, не скажу, А лучше место покажу, Где всякой тайны покрывало Всегда прозрачно и светло, Как изумруд или стекло. Вот это место дорогое: Оно на кухне у котлов. Там всё премудрое земное; Там ежедневно от голов Веселых, добрых, беззаботных И завсегда словоохотных Легко вы можете узнать Такие вещи в белом свете, О коих даже в кабинете Не часто смеют рассуждать. Там всё подробно вам докажут, А в заключение того С божбой анафемскою скажут, Что этот слух от самого Кузьмы Савельича Скотова. «Коль скоро так, тогда ни слова,— Все закричат, разиня рот,— Кузьма Савельич не соврет!» А кто он? — спросите вы кстати; Да генеральский человек… Ужели то вам невдомек? Таков обычай русской рати. Прошу пожаловать за мной К котлам… поближе… так… садитесь. Вот ложка вам, перекреститесь… Бульон здоровый и мясной… Чу!.. О тавлинцах разговоры. Кашевар 1-й Да, да, естественные воры! Коль наших нет, так берегись,— Башку сорвут, как звери злые; Отрядом только покажись — И все приятели мирны́е. Кашевар 2-й Весь в красном, сколько серебра На шароварах и бешмете! Кашевар 1-й Как не иметь ему добра, Порезав нас, на белом свете? Мушкатер (раскуривая трубку) Сперва словами улещал, Что бунтоваться уж не станет, А после клятву написал. Голосов 10 Небось!.. Московских не обманет!.. Кашевар 1-й Я, говорит он, воевать С царем российским не намерен, А чтоб он был во мне уверен, Готов ему присягу дать, И серебра, и много злата. А есть в горах у нас два брата, Которых трусит весь Кавказ,— Они воюют против вас. Кашевар 2-й (из-за котла) Уймем не этаких нахалов. Кашевар 1-й А я, дескать, Мирза Шамхалов, Ваш вечный данник и слуга! Мушкатер Забудет гневаться… Ага!.. А сколько верст еще до места? Кашевар 1-й Да что! С хорошего присеста Часа в четыре мы дойдем. Кашевар 2-й И всех их завтра перебьем! Да, если б что-нибудь под руку Случилось, братцы, мне поймать, Уж то-то б стал я разгонять На кухне тягостную муку, Всегда б был навесе́ле, пьян! Кашевар 1-й Гей, вы, вставайте, барабан! Котлы, котлы! Как сходны вы С столами светских сибаритов, Где пресыщаются умы За недостатком аппетитов Болтаньем сплетницы-молвы! А вы, одутливые бары, Среди поклонников своих — Желудков тощих и пустых,— Вы в полном смысле кашевары!ГЛАВА 6
Вот наконец мы и пришли Под знаменитый Эрпели! В пяти частях моих записок Представя вкратце весь поход, Я должен здесь, как Вальтер Скотт Или Байро́н, представить список С живых разительных картин Вам, мой любезный господин, Иль вам, почтеннейшая дама (Которым вместо порошков Смекнула ласковая мама Поднесть тетрадь моих стихов. Рецепт действительный, не спорю). Но, к моему большому горю, Я должен правду вам сказать, Что не умею рисовать. Учился прежде у Визара Чертить конту́ры рук и ног, Но смелой живописи дара Понять, как Й<оге>ля урок, Подобно У<тки>ну, не мог. Простите ж мне мое незнанье — Ему взамену есть старанье; Мой безыскусный карандаш Так точно верен без поверки, Как на устах у лицемерки Всегда готовый «Отче наш». Картина первая: на ровном Пространстве илистой земли Стоит в величии огромном Аул тавлинцев — Эрпели. Обломки скал и гор кремнистых — Его фундамент вековой! Аллеи тополей тенистых — Краса громады строевой! Везде блуждающие взоры Встречают сакли и заборы, Плетни и валы; каждый дом — Бойница с насыпью и рвом. Над разорвавшейся рекою, Бегущей с горной высоты, Искусства чудного рукою Везде устроены мосты; Водовороты, переходы, Каскады, мельница, отводы — Всё дышит резкой наготой Природы дикой и простой! В ауле шум и конский топот, Молчанье жен и детский хохот; На кровлях, в окнах, у ворот Кипящий ветреный народ, Богато убранный, одетый, Как кизильбаши персиян; Там — оттоманский ятаган, Там — ружья, сабли, пистолеты Блестят, сверкают серебром В своем параде боевом; Здесь — коней странные приборы: Луки, уздечки, стремена; Бород раскрашенных узоры, Куски материй, полотна, Едва скрывающие плечи Седых, запачканных старух, И лай собак на русский дух, И крик, и визг, и сцены встречи, И говор волн, и ветра гул — Вот скопиро́ванный аул!.. Идем — и вид другой картины: Среди возвышенной равнины, Загроможденной с двух сторон Пирамидальными горами, Объявших гордыми главами С начала мира небосклон, Разбиты белые палатки… Быть может, прежние догадки Теперь решились: это он — Второй наш добрый батальон! Так, он — свободный, незапертый, Как утверждали мы сперва, Но вот еще здесь лагерь!.. Два!.. И три!.. Наш будет уж четвертый… Идет всё далее отряд… Вот эполеты забелели. ………………………………………… Бутырцы красные блестят… Московцы странно говорят… ………………………………………… «Какой же, братцы, это полк?» — «Куринский!» — некто отвечает… ………………………………………… И начался тихонько толк! Меж тем особу генерала Два сына старого шамхала, Со свитой пышною князей И благородных узденей, С благоговеньем окружали И на челе его читали И мир и грозный приговор — Великой правды договор. Поборник древней русской славы, Как полководец величавый, Он привлекал к себе сердца; В нем зрели с чувством удивленья Два неразрывные стремленья: И властелина, и отца. Что мыслил он? Что отражалось Во глубине его души?.. Не смеем знать… нам оставалось Молить всевышнего в тиши; О чем молить — другая тайна: Ее постигнуть может тот, Кто духом истый патриот; Для злых она необычайна. О Эрпели, о Эрпели! И ты уроком для земли! И ты, быть может, для поэта В другие дни, в другие лета Послужишь пищею живой! Ты воскресишь воспоминанье О бурях сердца, о страданье Души, волнуемой тоской, Под игом страсти роковой! Быть может, ежели холера Меня в червя не обратит, Походный грифель мушкатера В карманной книжке сохранит Твои леса, ручьи и горы, И друга искреннего взоры Прельстятся с правнуком моим Изображением твоим. Я расскажу им в час досужный Об эрпелийской красоте И эпизод довольно нужный Не пропущу о баранте, Кафир-Кумыке, Казанищах, Где был второй наш батальон, И о любезнейших дружищах, Которым всё поведал он Под сенью мирных балаганов: Плененье горских пастухов Со многим множеством баранов И полновесных курдюков… Тьмы разных случаев, тревоги И приключения в дороге… Все эти песни хороши, Но вот что в голову мне входит: Подчас за разум ум заходит, А я теперь хоть не пиши, Заняться вздумал я мечтою Нелепой, странной и пустою — О счастье будущих времен, А настоящие оставил, Тогда как первый батальон Еще палаток не поставил. Итак, моя галиматья, Adieu[95] до будущего дня!ГЛАВА 7
Не зная исстари властей, Повиновенья и князей — Вина мятежных покушений, Бунтов и общего вреда,— В кругу шамхаловых владений Гнездилась дикая орда. На дне вертепов неприступных, Таясь, как новый сатана, Таить не думала она Надежд и замыслов преступных: Взирая гордо на позор Бунтовщиков окружных гор, Смиренных вдруг единым словом, И, ненавидя мир и дань, В ожесточении суровом Она готовилась на брань. Ни жребий явный истребленья, Ни меры кроткия главы Победных войск и ополченья В виду защитной их горы, Ни увещания тавлинцев …………………………………… Не укротили роковой Отважный бунт койсубулинцев. С вершин утесов на отряд Они смеются беззаботно, Готовят пули и охотно Кинжалы длинные острят. Ни путь широкий, ни тропины На их высокие стремнины Стопы пришельцев не ведут. Пред любопытными очами Стоит с гранитными стенами Природной крепости редут, Недосягаемый, огромный. И за оградой вековой, В хаосе пропасти бездонной, Как тартар буйный и живой, Кипят свободные аулы… Кто видел легкие черты С картины адской суеты В заводах Брянска или Тулы, Где неумолчной чередой Гудят и стонут над водой Железо, медь, чугун и камень, Где угли, искры, жар и пламень Блестят, сверкают и шумят, Где гвозди, молоты, машины И рук искусственных пружины В насильном действии звучат И поражают удивленьем И свежий слух, и свежий взор,— Того незначащим сравненьем Знакомлю с видом этих гор. Дыша слепым ожесточеньем, Там всё кипит вооруженьем: Как муравьиные рои, Мелькают всадники и кони, Куют джелоны, сбруи, брони, Чеканят ружья, лезвии; Везде разъезды, шум и топот; В глухой дали отзывный грохот, Огни, пальба, вои́нский крик И в кольцах грудь — на русский штык. Они не знают нашей встречи, Им незнаком открытый бой; Питомцы наглых битв и сечи, Они не зрели над собой Свистящих ядер и картечи. Но рати северной приход Даст брани новый оборот! ………………………………………… ………………………………………… ………………………… В восьми верстах От гордой вражьей цитадели, Среди равнины на холмах Шатры отряда забелели. Здесь видим дружные полки С брегов Москвы благословенной, А там — граненые штыки Пехоты русской отдаленной, Из заграничных городов, Всегда готовые на зов Царя, начальников и чести; Там, гибель верная врагов, Алкая крови, бед и мести, Стоит ватага казаков; А там за лагерем походным Ибрагим-бек и Ахмет-хан, Князья от крови мусульман, Пылая рвеньем благородным, Из разных стран под Эрпели Свои дружины привели. У них кумыки и тавлинцы С свинцом и сталью на конях, И с ятаганами в боях Пехота горцев — мехтулинцы. У вод холодного ручья Аул летучий их мятется, И знамя розовое вьется Над белой ставкою вождя. Все ждут решительной осады, Все ждут и смерти и награды!.. И вот на утренней заре Отрядом легким батальоны С весельем двинулись к горе! Пути не видно… Нет препоны! Война и слава не без слуг: С подошвы горной сотни рук Взрывают новую дорогу! Идут и роют… Впереди Зияют пушки роковые, Внутри рядов и позади Кинжалы, ружья боевые И беспардонные штыки! Вот пуля свищет, вот другая!.. Идут!.. Вот залп из-за кремней Раздался, сверху пролетая!.. Идут, работают смелей!.. Уж высоко! Туман нагорный Густеет, скрыл средину гор; Темнеет день, слабеет взор,— Идут отважно и упорно. Внезапный холод, ветер, дождь Приводят в трепет нестерпимый,— Идут стеной неотразимой! Среди их друг и бодрый вождь! Вот солнце яркими лучами Блеснуло вновь. Туман исчез… Они вверху, и пред глазами, С огромной массою небес, Как в неразрывной, длинной цепи, Слились, казалось, горы, степи, Холмы, долины. Целый мир Представил чувствам дивный пир… Безмолвно воины взирают На точку светлую земли; Едва заметные, мелькают Под ними стан и Эрпели. Вдали, под крепостию Бурной, Синеет моря блеск лазурный, Ландшафт несвязный дальних стран, И вкруг — воздушный океан!.. Поражены недоуменьем, Они бросают мутный взор Во глубину ужасных гор, Глядят… И с радостным движеньем От поразительных картин Отряд отхлынул от стремнин! Там — света нового пространство, Мифологическое царство Подземных теней и духо́в; Там елисейские долины, О коих исстари веков Не знают русские дружины, Цветут средь рощей и дубров; Там по гранитам зеленели Кедровник, пихта, о́льха, ели; Там, роя камни и песок, Сулак, как мелкий ручеек, Бежал извилистой струею; А там огромной полосою Вдали тянулись над водой Скалы безбрежные грядой; И тридцать шесть аулов бранных, Покрытых мрачной тишиной, Как сонмы демонов изгнанных, В тени чернели рассыпной. Глаза, очки, лорнеты, трубы, Носы, фуражки, уши, губы — Всё устремилось с высоты В страну ужасной красоты. Глядели, думали, дивились, Кричали, охали, крестились И, изумленные, сошли С полнеба к жителям земли. Насилу кончил! Слава богу! Устал! Позвольте замолчать… Прорыв на первый раз дорогу, Поэму буду продолжать. Всего мучительней на свете Сурьезный выдержать рассказ, А я — имейте на примете — Перо туплю не на заказ, Без подлой лести и прикрас. Не знаю, строгая цензура Меня осудит или нет; Но всё равно — я не поэт, А лишь его карикатура.ГЛАВА 8
«Ну-ну, рассказчик наш забавный,— Твердят мне десять голосов,— Поведай нам о битве славной Твоих героев и врагов! Как ваше дело, под горою?» — «Готов! Согласен я, пора! Итак, торжественно со мною Кричите, милые: ура!» — «Ба! И сраженье и победа, Как после сытного обеда Десерт и кофе у друзей! Так скоро?» — «Ровно в десять дней Покорность, мир и аманаты — И снова в Грозную поход!» — «Какой решительный расчет, Какие русские солдаты! Но как, и что, и почему?» Вот объяснение всему: Койсубулинская гордыня Гремела дерзко по горам; Когда ж доступна стала нам Их недоступная твердыня Посредством пушек и дорог (Чего всегда избави бог), Когда злодеи ежедневно, Как стаи лютые волков, На нас смотрели очень гневно Из-за утесов и кустов, А мы, бестрепетною стражей, Меж тем работы берегли И, приучаясь к пуле вражьей, Помалу вверх покойно шли, И скоро блоки и машины Готовы были навестить Их безобразные вершины, Чтоб бомбой пропасть осветить,— Тогда военную кичливость У них рассудок усмирил И непробудную сонливость Бессонный ужас заменил. Сначала, бодрые джигиты, Алкая стычек и борьбы, Они для варварской пальбы Из-под разбойничьей защиты Приготовляли по ночам Плетни с землею пополам, Дерев огромные обломки И, давши залп оттуда громкий, Смеялись нагло русакам, Стращали издали ножами С приветом: «яур» и «яман» — И исчезали, как туман, За неизвестными холмами; Но после, видя жалкий бред В своем бессмысленном расчете, Они от явных зол и бед Все были в тягостной заботе. Едва зари вечерней тень Прогонит с гор веселый день И ляжет сумрак над полями — Никем не зримыми толпами В ночном безмолвии они Разводят яркие огни, Сидят уныло над скалами И озирают русский стан, Который, грозный, величавый И озарен луной кровавой, Лежит, как белый великан. С рассветом дня опять в движенье Неугомонная орда: Отрядов сменных суета И новых пушек появленье Своей обычной чередой — Всё угрожает им бедой, Неотразимою осадой! Невольный страх сковал умы Детей отчаянья и тьмы За их надежною оградой… И близок час! Готов удар! Кипит в солдатах бранный жар! Полки волнуются, как море! Последний день… и горе, горе!.. Но вот — внезапно мирный флаг Мелькнул среди ущелий горных; Вот ближе к нам — и гордый враг, С смиреньем данников покорных, Идет рассеять русский гром, Прося с потупленным челом Статей пощады договорных! Статьи готовы, скреплены… Народов диких старшины Решают участь поколений! Восходит светлая заря! В параде ратные дружины: Койсубулинские стремнины Под властью русского царя! Присяга нового владенья — И взорам тысячей предстал Победоносный генерал Без битв и крови ополченья!.. Цветут равнины Эрпели! Покой и мир в аулах бранных! Не видят более они Штыков отряда троегранных! В своих утесах вековых Не слышат пушек вестовых! Громада зыбкая тумана, Молчанье, сон и пустота Объемлют дикие места Надолго памятного стана! И стан под Грозною стоит… Но дума, дума о прошедшем Невольно сердце шевелит; В бреду поэта сумасшедшем Я дни минувшие ловлю И, угрожаемый холерой, Себя мечтательною верой Питать о будущем люблю! Поклонник муз самолюбивый, Я вижу смерть невдалеке, Но всё перо в моей руке Рисует план свой прихотливый: Сойдя к отцам вослед других, Остаться в памяти иных! Быть может, завтра или ныне, Не испыта<вши> вражьих пуль, Меня в мучной уложат куль И предадут земной пустыне!.. В глухой, далекой стороне От милых сердцу я увяну… В угодность злобному тирану, Моей враждующей судьбе! Увидя мой покров рогожный, Никто ни истинно, ни ложно Не пожалеет обо мне. Возьмут, кому угодно будет, Мои чевяки и бешмет (Весь мой багаж и туалет) — И всякий важно позабудет, Кто был их прежний господин! А панихиды, сорочин, Кутьи и прочих поминаний Хоть и не жди!.. Вот мой удел! Его без дальних предсказаний Я очень ясно усмотрел! Что ж будет памятью поэта? Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?.. Они оброк другого света… Стихи, друзья мои, стихи!.. Найдут в углу моей палатки Мои несчастные тетрадки, Клочки, четвертки и листы, Души тоскующей плоды И первой юности проказы… Сперва, как должно от заразы, Их осторожно окурят, Прочтут строк десять втихомолку И, по обычаю, на полку К другим писцам переселят… А вы, надежды, упованья Честолюбивого созданья, Назло холере и судьбе,— Вы не погибнете с страдальцем: Увидит чтец иной под пальцем В моих тетрадках А и П, Попросит ласковых хозяев Значенье литер пояснить — И мне ль забвенным, мне ли быть? Ему ответят: «Полежаев…» Прибавят, может быть, что он Был добрым сердцем одарен, Умом довольно своенравным, Страстями, жребием бесславным Укор и жалость заслужил; Во цвете лет — без жизни жил, Без смерти умер в белом свете… Вот память добрых о поэте! 1830107. Чир-Юрт
Л<юбезный> д<руг>
……………………………
…Среди ежедневных стычек и сражений при разных местах в Чечне, в шуму лагеря, под кровом одинокой палатки, в 12 и 15 градусов мороза, на снегу, воспламенял я воображение свое подвигами прошедшей битвы, достойной примечания в летописях Кавказа, и в 11 дней написал посылаемый к тебе «Чир-Юрт».
А. П. Л<озовскому> Крепость Грозная 25 мая 1832 годаПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Цель бытия души высокой, Удел и жизнь полубогов, Сияет слава в тьме веков, В пучине древности глубокой! Подобно юной красоте В толпе соперниц безобразных, Подобно солнцу в высоте Перед игрой лучей алмазных, Она блестит, она горит Без украшений и убранства, Среди бесплодного тиранства Своих ничтожных эвменид. Где тот, чью душу не волнует Войны и славы громкий глас? Чье сердце втайне не тоскует, Внимая воина рассказ О наслажденьях жизни бранной, Кровавых сечах и боях, О вражьих пулях и мечах И смерти, всюду им попранной? Кто не стремится, не летит Душой за взором и за словом, Когда усастый инвалид На языке своем суровом, Но верном, как граненый штык, С которым к правде он привык, Передает детям иль внукам Любимый ключ к своим наукам — Большую повесть прежних лет? О, знай, питомец Аполлона, Там, где витийствует Беллона, Ничтожен гений и поэт! Есть много стран под небесами, Но нет той сча́стливой страны, Где б люди жили не врагами, Без права силы и войны! О, где не встретим мы способных Основы блага разрушать? Но редко, редко нам подобных Умеем к жизни призывать!.. Младые воины Кавказа, Война и честь знакомы вам; Склоните слух к моим словам, К словам кавказского рассказа! Я не усастый инвалид, Наследник песней Оссиана; Под кровом горного тумана Мне дева арфы не вручит… Но ропот грусти безотрадной, Пиры кровавые мечей Провозгласит вам, славы жадный, Певец печали и страстей! Добыча юности безумной И жертва тягостная дня, Я загубил уже в подлунной Состав весенний бытия. Неукротимый и мятежный, Покоя сладкого злодей, Я потонул в глуби безбрежной С звездой коварною моей! На поле чести, в бурях брани Мой меч не выпадет из длани От страха робостной души, Но, вечной грустью очарован, Наедине с собой, в тиши, Мой ум бездействен, дух окован Цепями смерти вековой, Как гений злобы роковой! Забытый, пасмурный и скучный Живу один среди людей, Томимый мукою своей, Везде со мною неразлучной… Безжалостный, свирепый взор, Привет холодный состраданья — Всё новой пищей для страданья, Всё новый, вечный мне укор!.. Одни тревоги и волненья, Картины гибели и зла — Дарят минуты утешенья Тому, кто умер для добра… Так, уничтоженный для жизни, Последней кровью для отчизны Я жажду смыть мое пятно!.. О, если б некогда оно Исчезло с следом укоризны! Военный гул гремит в горах; Клятвопреступный дагестанец, Лезгин, чеченец, закубанец Со мною встретятся в боях! Не изменю царю и долгу, Лечу за честию везде И проложу себе дорогу К моей потерянной звезде! Меж тем под ризою ночною Шумит в разбойничьем лесу С своей обычной быстротою По голым камням Араксу. Но искры бунта с новой силой Пророк неистовый раздул, И стал пустынною могилой Мятежных подданных аул. Всё пусто в нем! Свирепый пламень Пожрал жилище беглецов; Обломки бревен, черный камень И пепел брошенных домов Гласят об участи врагов! Там, где под русскою защитой Недавно цвел веселый мир, Лежит возникший и разбитый Чеченской вольности кумир. Поля и нивы золотые — Удел богатой тишины — В места унылые, пустые В единый миг обращены. Их топчет всадник беспощадный Своим гуляющим конем, Меж тем как хищник кровожадный В оцепенении немом Клянет отмстительную руку Неодолимого бойца И видит, с жалостью отца, Тоску, отчаянье и муку Своей жены, своих детей, Которых он, изнеможенных, Нагих и гладом изнуренных, Сокрыл в пристанище зверей… Перед аулом над рекою, В огнях, как пламенный волкан, Стоит громадой боевою Каратель буйных — русский стан. Немноголюдные дружины В летучих ставках и шатрах По скату вражеской долины Окрест себя наводят страх! Нет, око видит с изумленьем В пришельцах русских горсть людей, Но эта горсть с пренебреженьем Пойдет на тысячи смертей! Не в первый раз под их стопами Хрустит в лесах осенний лист, Не в первый раз над головами Они внимают пули свист! То дети чести безукорной, Владыки сабли и штыка. Мятежник, хищник непокорный Их знает — эти три полка!.. Всегда в крови на вражьем трупе, Всегда с победой впереди: При Эндери, при Маюртупе, Под богатырским Кошкильди! Вблизи рассыпана ватага Неукротимых ездоков, Казачья буйная отвага, Краса линейных удальцов. Татарский вид, вооруженье, Страны отечественной грудь — Всё может в рыцаря вдохнуть Боязни тайной впечатленье! Взращенный в сечах на коне, Он дышит смертью на войне!.. Всегда в трудах, всегда в движенье Сия блуждающая рать! Ее удел и назначенье — Закон и правду охранять! В стране гористой печенега, Где житель русского села Без верной шашки у седла Небезопасен от набега; Где мир колеблемый станиц, Ненарушимость достояний, И святость прав, и честь девиц Нередко жертвою стяжаний Неумолимых кровопийц; Где беззащитные трепещут, Где в тишине полночной блещут Ножи кровавые убийц,— Необходим бесстрашный воин, Опора слабых, страх врага, И, верный долгу, он достоин Из рук бессмертия — венка!.. Взяла довольно храбрых воев Неукротимая страна; Молва гласит нам имена, И жизнь, и подвиги героев. Довольно трупов и костей Пожрали варварские степи, Но ни огонь, ни меч, ни цепи Не уничтожили страстей Звероподобного народа! Его стихия — кровь и бой, Насильство, хищность и разбой, И безначальная свобода… Ермолов, грозный великан И трепет буйного Кавказа! Ты, как мертвящий ураган, Как азиатская зараза, В скалах злодеев пролетал! В твоем владычестве суровом Ты скиптром мощным и свинцовым Главы Эльбруса подавлял!.. И ты, нежданный и крылатый, Всегда неистовый боец, О Греков, страшный — и заклатый Кинжалом мести наконец! Что грохот вашего перуна? Что миг коварной тишины? Народы Сунжи и Аргуна — Доныне в пламени войны; Брега Койсу, брега Кубани Досель обмыты кровью брани! Там, где возникнул Бей-Булат, Не истребятся адигеи; Там вьются гидрами злодеи И вечно царствует булат! Он здесь, он здесь, сей сын обмана, Сей гений гибели и зла, Глава разбоя и Корана, Бич христиан — Кази-Мулла! «Пророк, наследник Магомета, Брат старший солнца и луны…» — Вот титла хитрого атлета В устах бессмысленной страны!.. Он чужд пронырства лицемера: Оно не нужно для глупцов; Ему довольно пары слов: Так бог велит, так хочет вера! Он всё для горцев: судия, Пророк, наставник, предводитель И первый — прав и бытия Своих апостолов гонитель!.. Там, обольщая Дагестан, Он грабит русского вассала, И слабый подданный шамхала Влечется силою в обман!.. Граната в парк дохнула адом… Скалы́ — на воздух!.. Гром, огонь Взвились над морем!.. Всадник, конь — Всё пало ниц кровавым градом… Пророк исчез с своим отрядом… Там он, разлив как океан Свои мятежные народы Вкруг малой горсти россиян, Грозит бедой, отводит воды… Но крепость русская тверда: Не стонет воин изнуренный, Сверкает штык ожесточенный — И льется жаждущим вода! Что ж гений замыслов преступных, Посланник мнимый божества? С гремящей славой торжества Он оставляет недоступных И поучает мусульман Перед началом первой битвы Читать прилежнее молитвы И верить твердо в Алкоран… Вот тайна властвовать умами! Вот легковерие людей, Всегда готовое мечтами Питать волнение страстей!.. Надеждой ложной и безумной Лукавец очи ослепит, И сонм невежд хвалою шумной Свою погибель одобри́т! Уже тогда, как грозно, грозно Накажет нас правдивый меч, Хотим мы с робостью пресечь Удар отмстительный, но поздно!.. Тогда в ужасной наготе Предстанет нам внезапно совесть, И ум, блуждавший в темноте, Прочтет ее живую повесть! О, для чего я на себе Влачу раскаяния бремя? Зачем счастливейшее время Я отдал бурям и судьбе, Несправедливой, своенравной, Убийце пылкого ума?.. Ужель последней ночи тьма Застанет труп мой, всё бесславный, Всё ненавистный для людей, Отраду вранов и червей?. Меж тем под ризою ночною Шумит в разбойничьем лесу С своей обычной быстротою По голым камням Араксу. Мелькая в нем светло и стройно, Луна плывет в туманной мгле; Дружина русская покойно Стоит на вражеской земле… Ночлег на месте — нет сомненья… В кострах чеченские дрова, Вокруг забота, и движенья, И песни звучные слова… Иные спят, другие бродят, В кружках толкуют кой о чем; Пикет сменяют, цепь разводят, Смеются, вздорят о пустом. В одной палатке за стаканом Видна мирская суета; В другой досужная чета, Засев en grand[96] над барабаном, Преважно судит о плие; А третий зритель машинально Им поясняет пунктуально, Что даму следует на ne. «У всякого своя охота, Своя любимая забота»,— Сказал любимый наш поэт, А потому сомненья нет, Что часто в лагере походном Мы видим так же точно свет, Как и в собранье благородном. Но вот различие: в одном Вернее, нежели в другом!.. Тьфу — как несбыточны догадки! Лишь только даму в третий раз На ne загнули, вдруг приказ: Снимать немедленно палатки! Приказ исполнен в тишине; Багаж уложен, цепи сняты; В строю рассчитаны солдаты, И всадник в бурке на коне… Поход. Марш, марш по отделеньям! Развились лентой казаки, И с непонятным впечатленьем Безмолвно тронулись полки… Заряд на полке, всё готово!.. На сердце дума: верно, в бой!.. Но вопросительного слова Не знает русский рядовой! Он знает: с нами Вельяминов! И верит счастливой звезде! Отряд покорных исполинов Ему сопутствует везде. Он знал его давно по слуху, Давно в лицо его узнал!.. Так передать отважность духу Умеет горский Аннибал!.. Он наш, он сладостной надежде Своих друзей не изменил; Его в грозу войны, как прежде, Нам добрый гений подарил! Смотрите, вот любимый славой!. Его высокое чело Всегда без гордости светло, Всегда без гнева величаво!.. Рисуют тихо думы след Его пронзительные взоры… Достойный видит в них привет, Ничтожный — чести пригово́ры!.. Он этим взором говорит, Живит, терзает и казнит… Он любит дело, а не слово… С душою доброю — он строг! Судья прямой, но не суровый, Бесстрастно взыщет он за долг; За чувство истинной приязни Он платит ласкою отца; Никто из рабственной боязни Не избегал его лица. Всегда один, всегда покоен; Походом, в стане пред огнем С замерзлым усом и ружьем Нередко греется с ним воин… Куда ж поход во тьме ночной? Наш полководец не обманщик, Его ответ всегда простой: «Куда ведет нас барабанщик». Но мы не первый раз в горах! Ведет в Внезапную дорога; От ней в двенадцати верстах Аул. Мы знаем, где тревога! Идем. Уж полночь. Огоньки С высот твердыни замелькали; По камням речки казаки С главой дружины проскакали; За ними вслед полки вперед, Артиллеристы на лафеты… Патроны вверх, полураздеты, Ногой привычною мы вброд. Вот на горе перед аулом… «Вперед!» — «А! верно, на Сулак? — Перелилось болтливым гулом.— Ведь говорил же нам казак!» Давно ль, расставшись с Дагестаном, На этом месте, о друзья, Наскуча длинным рамазаном, Байрам веселый встретил я! Тогда всё пело беззаботно В деревне сча́стливых татар; В то время русские охотно Желали видеть их базар. Мирно́й чеченец, кабардинец, Кумык, лезгин, койсубулинец, И персиянин, и еврей, Забыв вражду своих обрядов, Пестрели здесь, как у друзей, Красою праздничных нарядов. В толпе андреевцев, жидов, Смотря на разные проказы, Кто не купил себе обнов Тогда на лишние абазы? Один с ружьем приходит в стан, Другой под буркою мохнатой, Тот шашкой хвалится богатой, А этот кажет ятаган. Всего так много, так довольно, Товар Востока налицо, И, признаюсь, меня невольно Пленило горское кольцо И трубка — ах! какая трубка! Ее разбила у меня Потом невинное дитя, Одна девчонка-душегубка! Но верьте, я не пропущу Смешной каприз такого роду — И по пятнадцатому году Шалунье славно отомщу… Теперь где лица, где наряды? Где разноцветный их базар? Нигде задумчивые взгляды Не встретят ласковых татар. Разбойник яростный в пустыню Торговый город обратил И беззаконную гордыню На пепле саклей водворил. Одни потомки Авраама Покорны русскому мечу И в укрепленьях Ташкичу Ждут смело нового байрама. Верхи Андреевой горы Давно сокрылись для отряда; Ясней туманная громада, Сырее влажные пары. Долина глухо вторит топот Шагов фаланги боевой, И зашумел перед зарей Волны Койсу протяжный ропот. Вот прояснился небосклон… Река вблизи. На берег прямо Кавалерийский легион Коней испуганных упрямо Торопит в воду. Залп огней Раздался вдруг из камышей… Покойно, тихо, без ответа На ласку вражьего привета Плывут и едут казаки… Вторичный залп… Опять молчанье… В волнах разлившейся реки И гул, и крик, и коней ржанье! Вода свирепствует, кипит, Буграми в рать отважных хлещет; Товарищ всадника трепещет, И леденеет, и храпит… Вздымая морду, друг ретивый В стихии грозной тонет с гривой, Дрожит, колеблется, как челн, Несет заветного рубаку Или, предавшись злобе волн, Бессильный мчится по Сулаку… Но солнце блещет в вышине. И русской пушки гул мятежный Гласит на вражьей стороне Чир-Юрта жребий неизбежный! Вот он, отважнейший в горах, Как Голиаф неодолимый, Стоит в красе необозримой На диких каменных скалах! Возникший в ужасах природы, Надменный крепостью своей, Он вечный воин мятежей И страж разбойничьей свободы! Назло примерной доброте Вассал и друг неблагодарный, Как часто в наглой черноте Питал он замысел коварный! Острил убийственный кинжал На благодетельную руку И ей же с робостью вверял Свою измену, жизнь и муку! Но он придет, сей лютый час! Злодей проснется без отрады, И будет тщетно скорбный глас Просить отверженной пощады!.. О, как безумна, как дерзка Неустрашимость смельчака! Он презирает наши пули; Смеясь, готовится к войне, И между тем в его ауле Дымятся сакли в тишине… Когда жена его и дети Стремятся в ужасе к мечети И в прахе льют потоки слез, Кичливый варвар с небреженьем Дарит их ложным утешеньем Иль взором гнева и угроз! Слепец, уверенный тираном В своей надежде роковой, Клялся торжественно Кораном, Мечом и бритой головой Спасти могилы правоверных От поругания собак И кровью воинов неверных Насытить яростный Сулак! Но не преступного вассала На жертву русскому обрек Святой губитель их, пророк… О нет, и подданных шамхала, Мятежных жителей Тарков, И маюртупских беглецов Он здесь собрал для истребленья! И я клянусь своим ружьем: Кази-Мулла с большим умом И вправе требовать почтенья! Его призывный к брани клич — Всегда злодеям новый бич! Смотрите, вот они толпа́ми Съезжают медленно с холмов И расстилаются роями Перед отрядом казаков. Смотрите, как тавлинец ловкой Один на выстрел боевой Летит, грозя над головой Своей блестящею винтовкой! С коня долой — удар, и вмиг Опять в седле, стреляет снова, К луке узорчатой приник — И нет наездника лихого! Вот двое пеших за бугром… На сошки ружья, приложились… Три пули свистнули кругом… Они ответили и — скрылись! Но пусть картечью и ядром Пугают робких! Что за дума У полководца на челе? Среди Сулака на седле Взирает мрачно и угрюмо На переправу генерал. По грудь в воде, рука с рукою, Неверной, шаткою ногою Пехотный сонм переступал; Река, как ад с отверстым зевом, Крутя валы с ужасным ревом, Твердыню храбрых облила; За каждый шаг — назад, стеною, Дружину с ношей боевою Волна свирепая гнала… Собрав измученные силы, Без слов, но с бодрою душой, Они встречают мрак могилы И образ смерти пред собой! Один упал, другой слабеет… Шатнулся, пал… и в целый рост! На помощь — кони: тот за хвост, Другой на гриве цепенеет!.. Ныряют сабли и штыки, Несутся пушки с лошадями, Летает гибель над главами — Идут бестрепетно полки!.. Всегда задумчивый, глубокой Ценитель сердца и людей, Но, затаив в душе высокой Волненье чувства и страстей, Не изменя чела и взора, Он вдруг решается… «Назад!» — Он рек — и силу приговора Покорно выполнил отряд.ПЕСНЬ ВТОРАЯ
Да будет проклят злополучный, Который первый ощутил Мученья зависти докучной: Он первый брата умертвил! Да будет проклят нечестивый, Извлекший первый меч войны На те блаженные страны, Где жил народ миролюбивый!.. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Печальный гений падших царств, Великой истины свидетель: Закон и меч! — Вот добродетель! Единый меч — душа коварств! Доколь они в союзе оба, Дотоль свободен человек; Закона нет — проснулась злоба, И меч права его рассек!.. Вот корень жизни безначальной, Вот бич любимый сатаны! Вина разбоя и войны, Кавказа факел погребальный!.. И ты сей жребий испытал, Чир-Юрт отважный, непокорный! Ты грозно бился, грозно пал С твоей гордынею упорной! О, как ужасно разлилось Меча губительного мщенье! Как громко, страшно раздалось В туманах гор твое паденье!.. И час пробил! Чир-Юрта нет! В стенах Чир-Юрта сын побед, Огонь, гроза и разрушенье!.. Толпа врагов издалека Взирала с радостию шумной На отступление врага. Оно надеждою безумной Питало ярость смельчака; Оно вещало суеверным Определение небес: «Сам рок противится неверным, И гяур мстительный исчез!» Сильней отвага горделивца, Спесивей варварская честь, И мчит по саклям кровопийца Никем не слыханную весть!.. Какой восторг и изумленье И жен, и старцев, и детей! Какое бурное волненье Среди народных площадей!.. «Я здесь, рабы мои! Я с вами! — Вещает глас среди толпы.— Я вам безгрешными устами Открою таинства судьбы! Как волны моря от гранита, От вас отхлынули враги, Но сила дивная реки Была небесная защита! Внимайте мне: придут полки, Придут сюда за палачами, И меч невидимой руки Сразит их вашими мечами!.. Молите бога! Сильный бог Приемлет теплые молитвы, Но для неправедных жесток И страшен он на поле битвы!» — «Исчезни, рабственный позор! — Завыли грозно изуверы.— Умрем за вольность наших гор, За край родной, за святость веры!» Чей глас таинственный вещал Слова коварства и обмана?.. Кто имя бога призывал? — Мятежник гор и Дагестана! Но где отряд? Ужели он С своим вождем не занят славой? Ужель пророком осужден Он вечно быть над переправой И уготовит наконец Себе страдальческий венец За пир последний и кровавый, Который дать желает нам В угодность бритым головам?.. О, горе, горе! По Сулаку Вблизи отыскан новый брод, И вождь на гибельную драку Проклятых гяуров ведет! «Беда!.. Помилуй, ради бога! Чего ты хочешь, генерал? Пророк шутить не будет много, Он нас повесить обещал! Пропали мы, пропали гуртом!..» Но он не слышит, он идет… И что за чудо? Весь народ Живой явился под Чир-Юртом! Простите, милые друзья, Когда за важностью рассказа Всегда родится у меня Некстати шутка и проказа! Ей-ей, не знаю почему, Я своевольничать охотник И, признаюсь вам, не работник Ученой скуке и уму! Мне дума вольная дороже Гарема светлого паши, Или почти одно и то же: Она — душа моей души. Боюсь, как смерти, разных правил, Которых, впрочем, по нужде, В моральной жизни и в беде Благоразумно не оставил, Но правил тяжкого ума, Но правил чтенья и письма Я не терплю, я ненавижу И, что забавнее всего, Не видел прежде и не вижу Большой утраты от того. Я трату с пользою исчислю, И вот что после вывожу: Когда пишу, тогда я мыслю; Когда я мыслю, то пишу… Скажи же, милый мой читатель И равнодушный судия, Ужель я должен, как писатель, Измучить скукою себя?.. Ужели день и ночь для славы Я должен голову ломать, А для младенческой забавы И двух стихов не написать?.. Мы все, младенцы пожилые, Смешнее маленьких ребят, И верь: за шалости бранят Одни лишь глупые и злые. Всё тихо в лагере ночном. К земле приникнув головою С своим хранителем-ружьем, Приносит русский дань покою. Питомец севера и льдов, Не зная прихоти и неги, Везде завидные ночлеги Себе находит у врагов. И сон угрюмый над аулом Летает с образом луны; Одна река протяжным гулом Тревожит царство тишины. О сон лукавый, сон опасный, Товарищ думы и тоски! Тебя приветствуют напрасно Сии мятежные враги!.. Отрады сладкого забвенья Всегда чуждается злодей, И ты крылом успокоенья С подругой сердца и ночей Не осенишь его очей! Увы, печальна, одинока, С душевной бурей на челе, Как жертва крови и порока, Таится, бедная, во мгле! Она исполнена боязни, Для ней погиб надежды луч, Ей светлый день за ризой туч — Предвестник гибели и казни!.. А он, убийца юных дней Подруги сердца и ночей, Меж тем, бессонный, на кинжале Лежит в разбойничьем завале! Но вот уж ранняя звезда В пустынях неба показалась; Волнистой тенью нагота Полей и гор обрисовалась. Ударил звонкий барабан; Завыла пушка вестовая, И полунощный великан Восстал, как туча громовая! Молитва к богу, меч во длань, И за начальником отряда Толпой бесстрашною на брань Валит безмолвная громада. Певец Гюльнары! Для чего В избытке сердца моего, В порывах сильных впечатлений Назло природе и судьбе, Зачем не равен я тебе Волшебным даром песнопений? Тогда бы кистию твоей, Всегда живой и благородной, Я тронул с гордостью свободной Сердца холодные людей! Тогда, владыка величавый Перуна, гибели и зла, Изобразил бы я дела Войны жестокой и кровавой!.. Отважный приступ христиан, Злодеев яростную встречу, Орудий гром, пальбу и сечу, И смерть, и кровь, и трепет ран… Изобразил бы я страданье Полуживого мертвеца, И жил и членов содроганье, Его последнее дыханье И чувства мертвого лица!.. Но ты, певец души и чувства, Умея смертных презирать, Ты нам не передал искусства Умы и души волновать!.. Как непонятное явленье, Исчезло мира изумленье — Великий гений и поэт!.. Осиротевшая природа И Новой Греции свобода Вещают нам: Байро́на нет!.. ………………………………………… ………………………………………… Недолго, воины Москвы, Своих врагов искали вы! На заповеданной молитве, С ружьем и шашкою в руках, Вы их узнали на холмах, Давно готовых к лютой битве. Свинец летучий, рассыпной Встречает рать передовую, И первый раз в толпу лихую Направлен меткою рукой Удар картечи боевой… И разлетелся с рокотаньем Заряд чугунного жерла, И салато́вец с содроганьем Бежит до нового холма… Засел… Проходит ополченье. Кремни стучат, ядро свистит… Защита… натиск… отраженье… Злодей рассеян и бежит!.. Отряд идет густой колонной, Но на пути большой овраг, Кругом завалы; злобный враг Из-за утесов, пеший, конный, Стреляет в цепь и в казака; Навстречу гул единорога, Картечи, ядра в смельчака — И снова чистая дорога. Линейный всадник впереди, Усач с крестами на груди, Отважный Засс его главою; Всегда в виду, всегда в огне, Под ним летает конь гусарский; Перед полками князь Черкасский И полководец на коне. Земля трясется, тучи дыма, Жужжанье пули, свист ядра, И штык, и сабли, и «ура» Приводят в трепет мизраима. Он уступает чудесам, Клянет открытое сраженье И, угрожая в отступленье, Спешит к завалам и стенам. Искусство, сила и природа Слились, казалось, заодно В защиту дикого народа: И рвы, и насыпь, и бревно, И неприступными рядами, Как время вечные, скалы. Над ними вьются временами Одни свирепые орлы И, с алчным криком облетая В глуби туманной вышины Чир-Юрт и горы Балтугая, Невольно в жителей страны Вдыхают ужасы войны. Там, укрепясь ожесточеньем, Засели бодрые враги И ожидали с небреженьем Иноплеменные полки. И вот они перед врагами С своими страшными громами Идут нетрепетной грядой; Питомцы хищного разбоя Огонь открыли роковой, И зашумела над стеной Гроза решительного боя. Не видно более в дыму Ни скал, ни воинов аула; В тревоге приступа, в шуму, В раскатах пушечного гула Не слышно голоса вождя, Но он повсюду, вождь упрямый: Иди вперед, кидайся прямо В огонь свинцового дождя — Он там, покойный, величавый; Он видит всё, его рука Вам указует и врага, И путь давно знакомой славы!.. Смотрите: вот бросает он Стрелков бутырских батальон С крутого берега Сулака! Пока у варваров кипит С бойцами егерскими драка, Стрелок отважный поспешит Тропой неведомой к оплоту — И враг, противной стороной, Увидит вдруг перед собой Неотразимую пехоту. Но бой сильнее! Вот ядро Разбило твердое ребро Полугранитного завала, И изумился суевер! Неустрашимый офицер, Покорный воле генерала, Взлетает с скоростью ядра На вышину другой защиты; За ним друзья его… Ура! Толпы неистовые сбиты!.. И — на завале ятаган И разогнутый Алкоран! Какое гибельное море На осажденных пролилось! И гром, и треск, и горе, горе: Веленье Мощного сбылось! Бутырцы в схватке рукопашной На опрокинутой стене; Московец, егерь тучей страшной На новой сбитой стороне; Визжат картечи, ядра, пули, Катятся камни и тела, Гремит ужасное «Алла!» — И пушка русская в ауле!.. Кто проникал в сердца людей С глубоким чувством изученья; Кто знает бури, потрясенья — Следы печальные страстей; Кто испытал в коварной жизни Ее тоску и мятежи И после слышал укоризны Во глубине своей души; Кому знакомы месть и злоба — Ума и совести раздор — И, наконец, при дверях гроба Уничижения позор; Кого обманывал стократно Неверный счастья идеал; Кто всё ужасно, невозвратно В безумстве жалком потерял; Кто силой опыта измерил Земного блага суеты,— Тому б страдальцу я поверил Мои унылые мечты, Мой ум, мой дух, воображенье, Под залпом тысячей громов, На трупах русских и врагов, На страшном месте пораженья!.. Но, ах! в убийственной глуши Едва ль я сам не без души!.. Всё истребляет, бьет и губит Везде бегущего врага; Его, беспамятного, рубит Кинжал и шашка казака; Жестокой местию пылая В бою последнем, роковом, Его пехота удалая Сражает пулей и штыком. Дитя безумного мечтанья, Надежда храбрых умерла И падшей гордости стенанья С собой в могилу унесла. Бежит злодей, несомый страхом, За ним летучая гроза И смерти лютая коса С своим безжалостным размахом. В домах, по стогнам площадей, В изгибах улиц отдаленных Следы печальные смертей И груды тел окровавленных. Неумолимая рука Не знает строгого разбора: Она разит без приговора С невинной девой старика И беззащитного младенца; Ей ненавистна кровь чеченца, Христовой веры палача,— И блещет лезвие меча!.. Как великан, объятый думой, Окрест себя внимая гул, Стоит громадою угрюмой Обезоруженный аул. Бойницы, камни, и твердыни, И длинных скал огромный ряд — Надежный щит его гордыни — Пред ним повержены лежат. Их оросили кровью черной Его могучие сыны, И не поднимет ветер горный Красы погибшей стороны: Оборонительной стены И стражей воли непокорной!.. И всё в унынии кругом! Его судья, властитель новый, В ущелья гор за беглецом Теперь несет удар громовый! Не воин, клявшийся Аллой Рассеять сонм иноплеменный, Не воин битвы дерзновенной, Отважный духом и рукой, Полурассеянный, разбитый, Но вечно грозный для врага, Всегда готовый для защиты, Бежит, грозя издалека Победоносному герою, И вдруг нежданный перевес Дает отчаянному бою… Нет, воин ярости исчез С своею клятвой на завале; Столпы чир-юртские упали С утратой славы мусульман, И лютой мести ураган Вился над робкими душами В огне потерянных голов, Над беззащитными руками Обыкновенных беглецов… Не тратьте лишнего заряда, Рои крылатые стрелков: Для очарованного стада Довольно сабли и штыков! Холмы, утесы и стремнины — Всё неприязненному путь, Но вслед за ним — повсюду грудь И меч торжественной дружины… За ней отчаянье и стон, И кровь и смерть со всех сторон! Между крутыми берегами, Всегда обмытыми водой, Шумит кипучими валами Койсу, туманный и седой. Противник вечный русской силы, В холодной сфере глубины Не раз готовил он могилы Детям полночной стороны. Неукротимый и суровый, Недавно с яростию новой Он ополчался на коней И смелых воинов Завета, Когда толпа богатырей На бранный берег Магомета Вносила тысячу смертей. Еще под каменной скалою Привязан сча́стливый челнок, На коем раннею порою Вчера пронесся лжепророк. С какою радостию бурной Волною светлой и лазурной Он лобызал его края, Дарил, как ветер, легким бегом И, силу дивную тая, Остановил его под брегом. Теперь кипучею волной, Сражаясь с черными скалами, Опять шумит под берегами Койсу, туманный и седой. Уста коварного пророка Вещали гибель и обман, И обратились силы рока На суеверных мусульман. Но что за крик, и шум, и грохот От стен Чир-Юрта по горам? И пули визг и конский топот Гласят чудесное волнам… Вот ближе, ближе!.. Под скалами Койсу не плещет, не шумит; Потомок Каина толпами На берег в ужасе спешит. Койсу кипит, вздымает волны, Горами хлещет в крутизну, И воин бритый — пеший, конный — Стремглав слетает в глубину! За ним картечи!.. Воют, стонут, Плывут мятежно, бьются, тонут Сыны отчаянья и зла… Спаси их, праведный Алла! О, кто, свирепою душою Войну и гибель полюбя, Равнина бранная, тебя Обмыл кровавою росою? Кто по утесам и холмам, На радость демонам и аду, На пир шакалам и орлам, Рассеял ратную громаду? Какой земли, какой страны Герои падшие войны? Всё тихо, мертво над волною; Туман и мир на берегах; Чир-Юрт с поникшею главою Стоит уныло на скалах. Вокруг него, на поле брани, Чернеет дыму полоса И смерти алчная коса Сбирает горестные дани! Приди сюда, о мизантроп, Приди сюда в мечтаньях злобных Услышать вопль, увидеть гроб Тебе немилых, но подобных! Взгляни, наперсник сатаны, Самоотверженный убийца, На эти трупы, эти лица, Добычу яростной войны! Не зришь ли ты на них печати Перста невидимой руки, Запечатлевшей стон проклятий В устах страданья и тоски?.. Смотри на мглу ужасной ночи В ее печальной тишине, На закатившиеся очи В полубагровой пелене… За полчаса их оживляла Безумной ярости мечта, Но пуля смерти завизжала — В очах суровых темнота! Взгляни сюда, на эту руку,— Она делила до конца Ожесточение и муку Ядром убитого бойца! Обезображенные пе́рсты Жестокой болью сведены, Окаменелые — отверсты, Как лед сибирский, холодны!.. Вот умирающего трепет: С кровавым черепом старик… Еще издал протяжный лепет Его коснеющий язык… Дух жизни веет и проснулся В мозгу рассеченной главы… Чернеет… вздрогнул… протянулся — И нет поклонника Аллы!.. Повсюду, жертвою погони, Во прахе всадники и кони И нагруженные арбы; И победителям на долю Везде рассеяны по полю Мятежной робости дары: Кинжалы, шашки, пистолеты, Парчи узорные, браслеты И драгоценные ковры. Чрез долы, горы и стремнины, С челом отваги боевой, Идут торжественной тропой К аулу русские дружины. За ними вслед — игра судьбы — Между гранеными штыками Влачатся грустными толпами Иноплеменные рабы. Восстав над вечною могилой, В последний раз издалека Чир-Юрт, пустынный и унылый, Встречает грозного врага. Сверкает, пышет бурный пламень; Утесы вторят треск и гул И указуют пепл и камень, Где был разбойничий аул!.. Когда воинственная лира, Громовый звук печальных струн, Забудет битвы и перун И воспоет отраду мира? Или задумчивый певец, Обманут сладостною думой, Всегда печальный и угрюмый, Найдет во бранях свой конец? Между декабрем 1831 и маем 1832108. Видение Брута
Слетела ночь в красе печальной На Филиппинские поля, Последний луч зари прощальной Впила холодная земля. Между враждебными шатрами Народа славы и войны Туман сгущенными волнами Разнес отраду тишины. Тревоги ратной гул мятежный, Стук копий, броней и мечей Умолк; кой-где в дали безбрежной Мелькает зарево огней; Протяжно стонет конский топот, И, замирая в тьме ночной, Сливает эхо звучный ропот С отзы́вом стражи боевой. И тихо всё… Судьба вселенной Погружена в глубокий сон; Один булат окровавле́нный Предпишет с утром ей закон. Но чей булат окровавленный? Святой защитник вольных стран Или поносный и презренный Булат — убийца согражда́н? Погибнет сонм триумвирата Или, презревши долг и честь, Готовит римлянин для брата Позор и цезарскую месть?.. Всё спит… Ужасная минута!.. Ужель зловещий, тяжкий сон Смыкает так же очи Брута? Ужель не бодрствует и он? О нет, волнуясь жаждой боя, В его груди пылает кровь: В его груди, в душе героя Горит к отечеству любовь!.. Во тьме полуночи глубокой, Угрюм, задумчив и уныл, Под кровом ставки одинокой Он безотрадно опочил. И сна вотще искали вежды: Предчувствий горестных толпа, И отдаленные надежды, И своенравная судьба — Его насильственно терзали. Он ждал, он видел море бед — За думой черной налетали Другие черные вослед. То, жертва сильных впечатлений, В волненье памяти живой Он воскрешал угасший гений, Судьбу страны своей родной: Он пробегал картины славы, Те достопамятные дни, Когда Рим гордый, величавый Был удивлением земли; Когда Камиллы, Сципионы Дробили в гневе роковом Составы царств, крушили троны Народной вольности мечом; Когда рождались для потомства Сцезолы, Регул, Цинциннат; Когда был Рим без вероломства Свободной бедностью богат… То, снова в вихрь переворотов Проникнув с тайною тоской, Он видел гибель патриотов Над их потупленной главой: Раздоры Мария и Силлы, Как бурный нравственный поток, Разрушив щит народной силы, Повергли Рим в кровавый гроб; Два солнца Рима, два злодея В крови отчизны возросли — Помпей и Цесарь… Прах Помпея С гражданской жизнью погребли… Лепид, Октавий, Марк Антоний Судьбы заутра изрекут: Иль самовластие на троне, Или свободный Рим и Брут. «Глава, десница загово́ра, Я первый вольность пробудил, Я первый гения раздора, Завоевателя Босфора, Отца и друга умертвил!.. Ничтожный, робкий сонм сената Моей надежде изменил И пред мечом триумвирата Колена рабства преклонил! Позор мужей, позор вселенной, Тебя проклятие веков Постигнет тенью раздраженной В пределах смерти, в тьме гробов! Звучат, о Рим, твои оковы — Безгласен доблестный народ, Но, Рим, отмстители готовы! Тарквиний, час твой настает! Ударит он, сей вестник казни, Его зловещий, грозный бой Отгрянет с ужасом боязни В сердцах отваги роковой!.. Последний раз поля отчизны Я потоплю в крови родной, И клик безумной укоризны Иль голос славы вековой Предаст потомкам дальним повесть О битве будущего дня И пощадит, быть может, совесть Убийцы друга и царя!» Так вождь свободных ополчений Мечтал в порыве бурных дум, Так заглушал змию мучений Тоску души высокий ум!.. Густеет ночь; между шатрами Молчанье мертвое и сон, Луна закрыта облаками; Герой в забвенье погружен, Он жаждет сна, смыкает очи… Но вдруг глухой, протяжный гул В священном царстве полуночи Как вихорь ставку размахнул. Колосс огромного призра́ка Из тучи воздуха растет И в ризе ужаса и мрака Очам героя предстает… Бесстрашный видит и трепещет: Пред ним убийственный кинжал… Извлек его, отмститель блещет — Шатер раздался, дух пропал!.. «Так, я узнал — мой злобный гений!.. Он всё решил, он всё сказал! Конец несчастных покушений!..» День битвы пагубной настал. Шумят знамена бранной чести — Триумвират непобедим, И сын отваги, воин мести Свободный пал за падший Рим!.. <1833>109. Кориолан
Глава первая
РИМ
1
Была страна под небесами, Была великая страна — Страна чудес… но времена Враждуют страшно с чудесами! Был град, любимый град богов, Но уж давно пределы мира Освободились от кумира Племен, народов и веков! Он пал — сперва как лев свободный, Потом как воин благородный, Потом как раб!.. С лица земли Он не исчез от укоризны, Но душен воздух той отчизны, Где славу предков погребли! И, жертва общего презренья, С тех пор на месте преступленья Он, как измученный злодей, Обезображенный страданьем, Лежит, покрытый поруганьем, В виду безжалостных людей! Без утешенья и без силы, Лишенный чувств и оборон, Как лобызанием Далилы Обезоруженный Самсон,— Он недвижим во сне глубоком, И филистимская вражда Стоит в веселии жестоком Над ложем смерти и стыда… И залегла над ним сурово Непроницаемая мгла — И долго черного покрова Не сгонит день с его чела! И что ж? Не будет лист увядший Цвести опять между ветвей, И горний дух, однажды падший, Не воскресит минувших дней!2
Он спит… но кто не видел бури, Когда, свирепа и грозна, Она, как черная волна, Мрачит и топит блеск лазури? О, так на лоне тишины, Над этой вечною могилой Кумира славной старины Летают, вьются с чудной силой Живые тягостные сны! Так благодатная десница Всегда таинственной судьбы Еще хранит твои столпы, О Рим, всемирная столица! И, как бездетная орлица, Она витает над тобой, И грустно ей расстаться с славой, С твоей победною державой, Теперь погибшей и рабой! И между тем как сон печальный Тебя сурово тяготит, Она улыбкою прощальной С тобой безмолвно говорит… И рой видений — то прекрасных, Подобно утренней звезде, То величавых, то ужасных — Страшней порока в наготе,— Тебя лелеет беспрерывно, Как мать любимое дитя, Иль, свежей памятью шутя, Наводит страх и ужас дивный На труп холодный и немой Твоей гордыни роковой…3
И в влажном облаке тумана Рисует он перед тобой Перстом волшебным некромана: И твой воинственный разбой, И добровольное гражданство, И дух отважный мятежей, И кровь свободы, и тиранство Среди народных площадей. Фабриций, Регул, триумвиры, Трибуны, консулы, порфиры В громах и прежней красоте, Борясь с свирепыми веками, Встают и, пышными рядами Мелькая ярко в темноте, Приносят дань твоей мечте… И видишь живо ты мильоны Своих народов и рабов, Свои когорты, легионы Под тенью тысячей орлов, И океан, обремененный Громадой черных кораблей, И мир, коленопреклоненный Пред Капитолией твоей. И всё — и всё, что обожали С глухим проклятьем племена, Что безусловно освящали Своим проклятьем времена! — Всё видишь ты, и, изнуренный Ужасной мукой Прометей, Ты будто вновь одушевленный Картиной славы прежних дней,— Ты, может быть, в тоске бессильной Желаешь быстро перервать Твой сон лукавый, сон могильный И с новой яростью восстать? Но… безотрадные надежды!.. Прошли года — пройдут года, И смертью скованные вежды Не разомкнутся никогда!..4
Ты пал! Ты умер для потомства! Ты — груда камней для земли! Секиры зла и вероломства Твои оплоты потрясли! Нет Рима, нет — и невозвратно! И с полунощной тишиной Одна лишь тень его превратно Дрожит над тибрскою волной!.. Исчезли цирки, пантеоны, Дворцы Нерона и сенат, И императорские троны, И анархический булат, И там, на площади народной, Где, в буйном гневе трепеща, Взывал Антоний благородный К друзьям кровавого плаща, Где защитил народ свободный Своих тиранов от мечей И, наконец, окровавленный, Склонился выей, изнуренный, Под иго хитрых палачей[97],— Там тихо всё! Умолкли битвы!.. Лишь век иль два тому назад, Бывало, теплые молитвы То место громко огласят, Когда в угодность Каиафе[98] При звуке бубнов и рогов В великолепном автодафе Сжигали злых еретиков…5
Теперь же в Ромуловой сфере Костры живые не трещат — Зато прекрасно Miserere Поет пленительный кастрат. И, если страннику угодно Иметь услужливых друзей, Его супругу благородно Проводит в спальню чичисбей.Глава вторая
ИЗГНАННИК
1
Кто видел над брегом туманного моря Векам современный, огромный утес, Который, с волнами кипучими споря, На брань вызывает их бурный хаос? Стоит он недвижный над черной могилой, Но воют и плещут буграми валы; Свирепое море с неведомой силой Обмыло гранитные ребра скалы, Обрушилось, пало холодной геенной, Тяжелой громадой на вражье чело — Сорвало, разбило — и лавой надменной В пучину седую, как вихрь, унесло! Те волны, то море — народная сила; Скала — побежденный народом герой. На поле отваги судьба довершила Насильства и славы торжественный бой…2
Смотрите, бунтуют безумные страсти, Неистово блещет крамольный перун, Священный останок утраченной власти Громит безответно могучий трибун. Мятеж своевольный и ярые клики Возникли в отчизне великих мужей: Патриций, и воин, и раб полудикий Враждуют на стогнах отцов и детей; И шум и смятенье в приливе народа. «Сенат и законы!» — «Мечи и свобода!» — Взывают и вторят в суровых толпах. «Но слава, победы, заслуги и раны?» — «Изгнанье злодею! Погибнут тираны! Мы вместе сражались и гибли в боях!» — И глухо мечи застучали в ножнах… «Давно ли он принял от гордого Рима Зеленый венок, украшенье вождей?» — «Изгнанье, изгнанье! Видна диадима В зеленом венке из дубовых ветвей!»[99] И долго торжественный голос укора, Мешаясь с проклятьем, в народе гремел, И жребий изгнания — жребий позора — Достался бесстрашному мужу в удел!..3
Доволен и грозен неправедной силой, Народ удалился от места суда, И город веселый, и город унылый Покрылся завесою тьмы и стыда… Но кто, окруженный толпою ревнивой, Под верной защитой булатных мечей, Покоен и важен, как царь молчаливый, Идет перед сонмом врагов и друзей? Волнистые, длинные перья шелома Клубятся и вьются над бледным челом, Где грозные тучи, предвестницы грома, Как будто таятся во гробе немом, И око, обвитое черною бровью, Сверкает и пышет, как день на заре, И стан величавый, и, жаркою кровью Нередко увлаженный, меч при бедре, Блестящий в изгибах суровой одежды. Он гордо проходит пред буйной толпой, И мнится — и злобу, и месть, и надежды Великого Рима уносит с собой…4
Уж поздно… Тарпея, как тень великана, Сокрыла седую главу в облаках, И тихо слетает на землю Диана, В серебряной мантии, в ярких звездах. Часы золотые! Отрадное время… Вам жертву приносит поклонник сует — Лишь с сумраком ночи забудет он бремя Душевной печали и тягостных бед. В глуби эмпирея на небе эмальном Звезда молодая блестит для него, И сон благотворный на ложе страдальном Согреет облитое хладом чело… И после на муку знакомого ада, На радость и горе, на жизнь и тоску Навеет волшебная ночи прохлада, Быть может, навек гробовую доску!..5
Оделась туманною мглою столица; Мятежные площади спят в тишине. Вдали промелькает порой колесница Иль всадник суровый на быстром коне; Ночные беседы, румяные девы Заметны порою в роскошных садах, И слышны лобзанья, и смех, и напевы, И рядом — темницы и вопли в цепях! И редки на улицах робкие встречи, И голос укора, и ропот любви, Плащи и кинжалы, смертельные сечи, Мольба и проклятья, и трупы в крови… И снова молчанье… Как будто из Рима Возникло песчаное море степей… Безоблачно небо, луна недвижима В пространстве глубоком воздушных зыбей.6
У храма, под тенью душистой оливы, Внезапно нарушен священный покой: То робкие жены — их взор боязливый Наполнен слезами и дышит тоской. Одна — молодая, в печали глубокой, Как ландыш весенний, бела и нежна; Другая — летами и грустью жестокой Могиле холодной давно суждена. Пред ними, закрытый волнистою тогой, В пернатом шеломе, в броне боевой,— Неведомый воин, унылый и строгой, Стоит без ответа с поникшей главой. И тяжкая мука, и плач, и рыданье Под сводами храма в отсвеченной мгле — И видны у воина гнев и страданье, И тайная дума, и месть на челе. И вдруг, изнуренный душевным волненьем, Как будто воспрянув от тяжкого сна, Как будто испуган ужасным виденьем: «Прости же, — сказал он, — родная страна! Простите, рабы знаменитой державы, Которой победы, и силу, и честь Мрачит и пятнает на поприще славы Народа слепого безумная месть! Я прав перед вами! Я гордой отчизне Принес дорогую, священную дань — Младые надежды заманчивой жизни, И сердце героя, и крепкую длань. Не я ли, могучий и телом и духом, Решал многократно сомнительный бой? Не я ли наполнил Италию слухом О гении Рима, враждуя с судьбой? И где же награда? Народ благодарный В минутном восторге вождя увенчал — И, вновь увлеченный толпою коварной, Его же свирепо судил и изгнал! Простите ж, рабы знаменитой державы, Которой победы, и славу, и честь Мрачит и пятнает на поприще славы Народа слепого безумная месть!..»7
Протяжно гремели суровые звуки И глухо исчезли в ночной тишине, Но голос прощанья <в> минуты разлуки Опять пробудился, как пепел в огне: «Свершилось! Свершилось! О мать и супруга! Мне дорого время, мне дорог позор! Примите ж в объятия сына и друга — Его изгоняет навек приговор! Где дети изгнанника? Дайте скорее Расстаться с чертами родного лица, О, пусть лобызают младенцы нежнее Устами невинными очи отца! Пусть юные души дыханье обиды В груди благородной навек сохранят — И некогда гордо кинжал Немезиды Забвенному праху отца посвятят!» И снова рыданья!.. Горячих объятий Не слышит, не чувствует гордый герой — Свободен… и скрылся от граждан и братий, Как лев, уязвленный пернатой стрелой…Глава третья
ВРАГ
1
Пробудился гений славы: Из объятий тишины Потекли на пир кровавый Брани гордые сыны. Кто ж вы?.. Яростные клики Раздались, как гул морей… Не восстал ли Рим великий На народов и царей? Не во гневе ль он суровый Изрекает приговор — И дарует им оковы И блистательный позор?.. Нет! Решитель дивных боев Стран далеких не гремит — Над отечеством героев Туча грозная висит. Пали, пали легионы, Приносившие законы На булатных лезвия́х,— И бесстрашно окружила Разрушительная сила Самый Рим в его стенах!.. Кто же смелый искуситель Повелительной судьбы, Ваш опасный притеснитель, Ига римского рабы?2
Раздавался гул громовый, Полунощная гроза Блеском молнии багровой Озаряла небеса. Над туманною рекою Древний Анциум[100] дремал И угрюмой тишиною Мирных жителей к покою Благосклонно призывал. Племя славного народа Крепкий город охранял; Там отважная свобода На границах рубежей Берегла от утеснений Кровожадных поколений Цвет воинственных мужей; Там она, на поле чести, В самой гибели жива, Разливала ужас мести За великие права. Часто сильные дружины Приходили на равнины Плодоносной стороны, Но тогда миролюбивый Обожатель тишины Покидал златые нивы И заветный серп и плуг И стремился горделиво На призывный трубный звук. Непреклонный, беспощадный, Он пришельца поражал И в тени лесов отрадной Грозный подвиг воспевал…3
Тщетно Рим неодолимый Вызывал на лютый бой Сына родины любимой, Стража вольности святой. Лишь один герой могучий Прошумел, как вихрь летучий, На убийственных полях: Он покрыл костями долы, И упали Кориолы Перед воином во прах. Но народ самодержавный Осудил его бесславно На изгнанье и позор И без тайной укоризны Произнес красе отчизны Ненавистный приговор… Благородный победитель, Удивленье чуждых стран, Обвинен как притеснитель Легкомысленных граждан; И теперь, в суровой доле, Грустной думой удручен, Может быть, на бранном поле Ищет смерти — жаждет он Позабыть несправедливый И блуждающий ревниво По следам его закон…4
Город вольсков осенила, Как холодная могила, В шуме бури тишина; И под кровлею надежной Мирный житель безмятежно Предавался неге сна. В это время кто-то, строен, Безоружен, но покоен, Гость неведомый, вступал В град и пышные чертоги, Где глава народа — строгий Старец Аттий — обитал. В мрачной думе вождь верховный После тягостного дня Одинок сидел безмолвно У отрадного огня. Всё вокруг него дышало Незабвенной стариной И невольно вспоминало Славу жизни молодой: Шлемы, панцири и латы, И тяжелые булаты, Иззубренные в боях, Перед ним в отцовской сени Отсвечались на стенах — И порой как будто тени Трепетали на гробах.5
Охранитель беззащитных, Раболепственных владык, Он на битвах кроволитных Был отважен и велик; Сам орел капитолийской Рог гордыни италийской, Для тиранов роковой, Не возмог стереть кичливо Над его вольнолюбивой Серебристой головой.[101] Только раз он в вихре боя Пал разбитый и от ран; Но тогда его, героя, Победил Кориолан. Это имя было казнью В непокорных племенах И с невольною боязнью Повторялось на устах; Это имя ужасало И народы, и царей И, как буря, навевало Хлад на души матерей…6
Старый вождь сидел угрюмо Перед тлеющим огнем И летал печальной думой В невозвратном и былом. Вдруг в мечтании глубоком, Изумлен и недвижим, Видит он: в плаще широком Чуждый воин перед ним. Скрыты взор его и лета; Он безмолвен и суров, И садится без привета Под защитою богов.[102] Понял Аттий горделивый Гостя чудного без слов — То язык красноречивый Запоздалых пришлецов. Аттий Не порою ли ненастной, Незнакомец, ты гоним? Здесь, под кровлей безопасной, Будешь здрав и невредим. От измены, от булата Сохранит тебя судьба, И на путь тебе я злата Приготовлю и раба. Но скажи мне: кто ты, странник? Из каких далеких стран? Незнакомец Я из Рима — я изгнанник! Я твой враг — Кориолан!..7
Он встает… Какая встреча! Если б яростная сеча Их неистово свела, Если б лаврами обвитых Двух героев знаменитых На погибель обрекла,— О, тогда и гром и бури Засверкали б на лазури Их убийственных мечей И сразились бы стихии, А не воины лихие Пред мильонами очей. Но теперь — один, великий, Без покрова и друзей, У могущего владыки Необузданных мужей Ищет с гордостью свободной Или жизни благородной, Или смерти, как злодей. Кориолан Аттий! Рок меня коварный Справедливо погубил — Слишком Рим неблагодарный, Слишком много я любил! Он изгнал меня… я снова У старинного врага; Для услуг его готова Беспощадная рука, Для вражды непримиримой — Голова моя и кровь! Ах, без родины любимой В сердце месть, а не любовь!..Глава четвертая
ГРАЖДАНКА
1
Светило дня роскошно и светло По небесам безоблачным текло И озаряло Рим унылый, Когда в виду его граждан, Военачальник чуждой силы, Как бранный дух, предстал Кориолан. Уже не славу, но оковы, Не щит, а гибельный булат Принес в деснице он суровой Для казни Ромуловых чад. Смотри, тиран народов вероломный, Любимец счастья и богов, На этот сонм, могучий и огромный, Твоих завистливых врагов! Дерзнешь ли ты, как прежде, горделивый, Рассеять их несметные толпы? Падут ли в прах с потупленною выей Перед тобой мятежные рабы? Увы!.. Одни высокие твердыни, Одни бойницы — твой покров, И превратил огонь в печальные пустыни Богатство сел твоих, и нив, и городов! К тебе как гений разрушенья Притек неистовый герой — Обмыть в крови на поле мщенья Позор обиды роковой!..2
Кто видел бурные потоки, Когда с вершин утесов и холмов Они бегут и роют путь широкий Среди степей, среди лесов И рушат всё стремительною лавой,— Так и отважные сыны Свободы дикой и войны Текли на подвиг величавый. И смерть и кровь по их следам — И исполин, доселе знаменитый, Везде рассеянный, разбитый, Спешит в отчаянье к стенам. И вопли жен осиротелых, И укоризны матерей, И ропот старцев, поседелых На поле славы прежних дней, Встречают с грустью безнадежной Остатки робких беглецов; И стыд неволи неизбежной, И звук торжественных оков Над ними носится незримо, но мятежно, Как молния во мраке облаков… Нередко, погружен в мучительные думы, Когда во тьме ночей дремал покойный стан, На город мрачный и угрюмый С невольною тоской взирал Кориолан. В каком печальном униженье Стоял, как призрак, перед ним Тот самый гордый, сильный Рим, Краса могучих поколений, Который, страшен и велик, Был некогда грозой народов и владык; Тот Рим, отечество героев, Который он на поле боев Прославил гибельным мечом И наконец карал без сожаленья, Как жертву праведного мщенья, В безумстве жалком и слепом!3
Как гражданин страны несчастной, О ней он втайне тосковал; Он часто к родине прекрасной Мечтой высокой улетал, Но приговор несправедливый, Но голос чести и стыда В его душе самолюбивой Таились яростно всегда; И он презрел, неумолимый, Права, законы, самый рок — И славный град вражде непримиримой И разрушению обрек. Увы, священная свобода! Ни представители народа,[103] Ни жрец верховный, ни сенат В зловещий день не охранят Тебя надежною эгидой От непреклонного врага! Кто движим местью и обидой, Кого свирепая тоска Казнит и мучит самовластно, Кто утонул в пучине зла, Тому раскаянье ужасно, Тому отрада немила; Тот увлечен ожесточеньем Безумной воли и страстей И дышит весь уничтоженьем, Как недруг неба и людей… Таков Кориолан!.. Народ самодержавный, Тебе он произнес печальные слова: «Я гражданин изгнанный и бесславный, — Огонь и меч — мои единые права! Я их внесу рукой окровавленной В чертог тиранов и судей — И не спасет гордыни униженной Ни стон, ни вопль, ни святость алтарей!..»4
Где раздались протяжно и сурово Глухие звуки этих слов? Под сводом неба, средь шатров, Где всё шумит, где всё готово Восстать и тучей громовой Лететь за славою на бой… Совершилось!.. Благодатный Луч надежды изменил! Ополчись на подвиг ратный, Гений Рима — воин сил! Где вы, праотцы и деды Погибающих сынов? О, покиньте для победы Сени мрачные гробов! Пронеситесь над главами Устрашенных беглецов, И рассеются пред вами Сонмы лютые врагов! Но нет! Блистают копья, брони. Стучат железные щиты; Покрыли воины и кони Луга, долины, высоты; Тревога, грохот, гул и клики, Земля и стонет и гудит — И горе, горе, Рим великий, Твой час, последний час пробит!..5
Кто этот муж иноплеменный, Всегда и всюду впереди? За ним волною разъяренной Текут народы и вожди; Его десницы мановенье, Единый взор его очей Приводят в трепет и волненье Толпы воинственных мужей… Уже он близок; из колчана Выходят стрелы, миг один — И, может быть, к стопам Кориолана Падет покорный гражданин!..6
Но что за дивное явленье, Откуда страх между бойцов? Кто мог остановить внезапно ополченье Перед лицом бледнеющих врагов? Вся рать безмолвна, недвижима. Навстречу ей, торжественно, из Рима Идет не грозный легион, Предвестник битвы кроволитной, Но сонм унылый, беззащитный Младых гражданок, славных жен… С другим оружием — с слезами И распушенными власами На обнаженных раменах, С словами мира на устах, С мольбой, ничем не отразимой,— Они идут тебя сразить И пламень мести потушить В твоей груди, герой непобедимый!..7
Кого с растерзанной душой, С челом суровым и холодным, Кого ты зришь перед собой? Кто гласом грустным, но свободным К тебе воззвал: «Кориолан! Кого я заключу в горячие объятья: Тебя ли — своего отечества тиран, Навлекший на главу позорную проклятья, Или тебя — несчастный сын? Кто ты? Изгна́нный гражданин Или надменный повелитель? Когда и меч, и смерть, и плен Ты вносишь в недра этих стен,— Зачем же медлишь, победитель, Своих детей, жену и мать Цепями рабства оковать? Карай меня всей тяжестию мщенья! Я Рим повергла в море зла И недостойна сожаленья — Я жизнь преступнику дала!..»8
И вопль гражданок знаменитых, И милые слова: «Отец! Супруг!», Печальный вид простертых к небу рук, Растерзанных одежд и уст полуоткрытых — Всё душу мрачного вождя В то время сильно волновало И, чувство мести победя, Невольно к жалости склоняло. Казалось, слова одного Искал он в памяти: пощада; И в тишине взирали на него И чуждые толпы, и римляне из града. И долго был он в думу погружен, И наконец как будто пробудила Его от сна неведомая сила: «О мать моя, ты победила! Твой сын погиб, но Рим спасен!..» На месте том, где самовластье Любви гражданской и красы Спасло отчизну от грозы, Воздвигли храм богине Счастья.[104] Но там, где пал неистовый герой И добродетельный изгнанник,— Не видел памятника странник И не вздыхал над урной гробовой… 1834110. Марий <Начало неоконченной поэмы>
Был когда-то город славный, Властелин земли и вод; В нем кипел самодержавный И воинственный народ. В пышных мраморных чертогах Под защитою богов Или в битвах и тревогах Был он страшен для врагов. Степи, горы и долины И широкие моря Покрывали исполины Двухстихийного царя. И соседние владыки, И далекие страны́ Перед ним, как повилики, Были все преклонены. Багряницею и златом Он роскошно их дарил И убийственным булатом В страх и ужас приводил; Подавлял свирепой тучей Он судьбы чужих племен… Кто не знал тебя, могучий, Знаменитый Карфаген?.. Июль 1837111. Царь охоты
В<асилию> А<лексеевичу> Б<урцов>у
Honny soit qui mal у pense.
Montaigne[105] Надолго вихорь света, Как бурная река, Уносит от поэта Любезного стрелка! Быть может, невозвратно? Что делать!.. Так и быть!.. Меж тем я буду жить Надеждою приятной, Что некогда, шутя, От скуки на досуге Иль так, в веселом круге, Он вспомнит про меня И скажет: я когда-то Проказника знавал И помню, что проклятый Мне что-то написал. А я ему богатый, Какой-то полосатый, Огромнейший колпак В знак памяти оставил И живо помню, как Меня он позабавил, Любуясь, как дурак, На шелковый колпак!1
ОН
Не черные тучи Висят над скалой; Не вихорь зыбучий Взвился над землей; Не сокол могучий Летит с облаков Стрелою гремучей В толпы воробьев. Нет! Буря не воет… И вихорь не роет Горячей земли. Всё тихо, покойно, И дивно, и стройно В небесной дали. Но что ж изменилось В природе вещей? Не чудо ль явилось Для робких очей? То в поле выходит Roi de la chasse,[106] И в ужас приходит Весенний бекас!.. То муж сановитый, Стрелок знаменитый, Гусар отставной, Привыкший к победам, К бутылке, к обедам И к воле лихой. Скучая без славы, Любя старину, С жильцами дубравы Ведет он войну. Он долго не метит: Лишь глазом заметит — Спускает курок… И птица у ног. Не знает ни тьмы, ни денницы Великий стрелок. Не видя поднявшейся птицы, Он слышит лишь крыльев полет, Прицелился, грянул — и жертва падет. Едва появился Лесной удалец, Он — паф! — покатился! Он — хлоп!.. и конец! Как солнце в огромном Хаосе миров, Блистает он в скромном Хаосе стрелков, Предво́дит их сонмом, Как муромский витязь Илья. А те лишь зевают И грустно считают Свои пуделя.2
ОНИ
Куда ж, скажите мне, мятежною ватагой Вы собрались, мои друзья? Зачем, упитанные влагой Живого Вакхова ручья, Вы с поприща котлет, бифштекса и ростби́фа, С улыбкой вандала и наглостию скифа, Накинув ружья на плеча, Вдруг поднялися сгоряча, Схватили яростно патроны И, застегнув на шпензерах крючки, В сажень величиной надели сапоги И кожаные панталоны? О, что за грозный, страшный вид! Он вестник будущего боя! Провинциальный сибарит Преображается в героя! Везде тревога и содом: Борзых и гончих завыванье, Лакеев брань, и ко́ней ржанье, И шум, и крик, и всё вверх дном!.. Пустеют барские палаты, Конюшни, кухни, домы, хаты. «Сюда! — кричат конфедераты, Накинув шапки набекрень.— Настал, настал великий день! Сегодня мы себя покажем… Злодея Б<урцов>а накажем И всеторжественно докажем, Что он отнюдь не великан, Что мы вобьем его в болото, Что он над М<уромом> не пан И, наконец, не царь охоты!..» Так демон зависти и мщенья Раздора пламень раздувал И своенравно ополченья На подвиг бранный вызывал! Так некогда сычи и совы, Поднявшись ночью из дупла, Хотели массой бестолковой Напасть на сонного орла. Но он могучими крылами, Приосани́вшись, размахнул — И где с летучими мышами Пернатых витязей аул? Так точно Васеньку сбирались Другие мыши погребать!.. Сперва шутили и смеялись, Потом хотели отпевать, Но кот лукавый зорким глазом Окинул их исподтишка, Расправил лапищи и разом Передушил их в два прыжка!..3
ЗАГОВОРЩИКИ. ОХОТА
Уже по небу разливалась Багряноцветная заря, Природа тихо пробуждалась, В сребре и золоте горя, Когда холмы, леса, болота, В хаосе шумных голосов, Узрели вдруг царя охоты Между завистливых врагов. С челом открытым, величавым, Любуясь зеркалом ружья, Перед собранием лукавым Он шел как вождь и судия. Всегда на брань идти готовый, Владыка долов и полей, Он видел происки и ковы Своих обманчивых друзей. Но, улыбаясь равнодушно, На них без страха он смотрел И лишь в душе великодушной Об их безумстве сожалел. Но вот огромная ватага Уже рассыпалась в лесах И взволновалася, как брага В полузамазанных чанах. И господа и их лакеи Преважно заняли посты; Скрывают их, как батареи, Колоды, кочки и кусты. Собаки бешеные рыщут Вокруг болот, пугая дичь; Псари бранятся, скачут, свищут. Везде призывный гул и клич! Вот раздается выстрел первый! Сильнее тысячи громов Он раздражительные нервы Потряс невольно у стрелков. «Ведь это он! — в оцепененье Один другому говорит.— Клянусь, бекас на положенье Не поднялся́ и уж убит! Смотри, смотри… Опять наметил… Ужель и этот упадет?.. Ах, варвар!.. Так его и встретил… А черт легавый и несет!» Скрывая горестное чувство, «Тут важного нет ничего,— Бормочет третий про него,— Одно лишь счастье без искусства». — «Да, разумеется», — весь хор, Приосанившись, возглашает. А он меж тем, от этих ссор Вдали, смеется да стреляет И всем толкам наперекор Суму исправно набивает. И между тем часы бегут, Всё занимательней охота. Давно с измученных текут Ручьи убийственного пота, А толку нет… Позор! Беда! Громят, расстреливают небо… Не знают, как, не знают, где бы Им приютиться от стыда. Иной несчастный в полоумье Ягдташ свой щепками набил; Другой в отчаянном раздумье Пять рюмок водки проглотил. А тот без совести лакея Совсем невинного бранит; Сам промах дал и, не краснея, Слугу безмолвного винит, Клянется небом и землею: «Не я стрелял, а мой слуга!» Слуга же бедный, чуть не плача, Твердит: «Что делать! Неудача! Немного дрогнула рука».4
СЛЕДСТВИЯ ОХОТЫ. БОЛЬНОЙ. ОБЩЕЕ УНЫНИЕ
В лесах дремучих, в чистом поле Гуляет витязь удалой, И, повинуясь грозной доле, Дергач, и тетерев глухой, И дупельшнеп, и куропатка, Кулик и рябчик молодой — Всё исчезает без остатка Перед десницей роковой. Бессмертной славою покрытый И с полновесным ягдташом, Перед завистливою свитой Мелькает он с своим ружьем. Ему предшествует победа! За ним — досада и раздор! Где он, там робкая беседа, Где нет его, там шум и вздор! Хотите ль знать, как у соседа Об нем заводят разговор: «Сам черт в ружье его двуствольном Нашел квартиру и сидит, И нас в упрямстве своевольном Без сожаления стыдит. Все наши козни, вероломства Ему нимало не вредят. Оценит строгое потомство Его деяний пышный ряд, Неимоверными хвалами Его осыплет навсегда, А мы с своими пуделями, Как петербургская орда Поэтов с белыми стихами, Мы канем в Лету, господа! Зачем же завистью напрасной Себя мы будем очернять, И почему б единогласно Печальной правды не сказать? Он — царь охоты?.. Согласимся! Обуха плеть не перебьет… И, право, лучше помиримся С таким злодеем без хлопот!» Так, наконец, в печали слезной Один из тружеников рек, Когда с охоты бесполезной Пришел домой и занемог. И тихо вкруг его постели, Занявшись жирным пирогом, Друзья усталые сидели В молчанье мрачном и немом. Они сидели. Пот кровавый С их лиц нахмуренных бежал, И каждый важно, величаво Свою бутылку осушал. «Ну что ж, друзья? Ведь справедливо? — Нахмурясь в очередь свою, Сказал больной красноречивый.— Скрепите исповедь мою! Она, поверьте, благородна И не унизит никого! К чему упорствовать бесплодно? Примите лучше всенародно Сознанье сердца моего. Простилось с вами, о заботы, Мое горячее чело! Склонись пред ним: он — царь охоты, Мне сердце вещее рекло». Умолк. Как воин в лютой сече На щит расколотый упав, Или торжественное вече Новогородцы потеряв, Или свирепые медведи, Рыкая жалостно в цепях, Вздохнули грустные соседи При этих пагубных словах. «Увы! Увы! — сказал протяжно Один задумчивый герой.— Я вижу сам, борьбе отважной Конец приходит роковой. Погибла древняя свобода Дремучих муромских лесов, И из великого народа Республиканцев и стрелков — О, верх плачевный униженья! — Растут, исходят поколенья Немых бесчувственных рабов. Как Бруты смелые, напрасно За вольность родины прекрасной Мы не щадили наших сил. Но Б<урцов>, цезарь самовластный, Пришел, увидел, победил!.. Где наши подвиги и слава, Где милый равенства закон? Одна осталась нам забава: Стрелять кукушек и ворон!» — «Увы! Увы! О горе, горе! — Повсюду громко раздалось.— Какое гибельное море Над нами быстро разлилось!..»5
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО И ВИДЕНИЕ. СМЕРТЬ ЕГО. УЖАС ЗРИТЕЛЕЙ
А между тем больной кончался И отходил уже во мглу, И пот холодный разливался По бледному его челу; Слабел заметно тихий голос… И вдруг поднялся дыбом волос, И он, как будто бы пророк, В жару неистовом изрек: «Где я? Где я?.. Какие тучи Над головой моей висят?.. В моей груди — огонь кипучий… В моей душе — свирепый ад! Я вижу, вижу ряд ужасных, Ряд изумительных картин! Среди охотников несчастных, На злаке муромских долин, Среди болот непроходимых, Между лесов необозримых, Возник какой-то исполин… О, верьте, я не очарован! Мое виденье — не обман! Броней железной не окован Фантома гибельного стан… Он не доспехами стальными, Он не оружием велик… С очами каре-огневыми, Причесан он á la[107] мужик… В венгерке с черными шнурами, С ружьем блестящим за спиной, С кавалерийскими усами, С полугишпанской бородой, С улыбкой гения и славы, Отважный, ловкий, молодой, Как царь охоты величавый, Стоит он, светел и румян, Рассеяв зависти туман!.. Но что?.. Упала предо мною Завеса будущих времен! Мой светлый взор не омрачен Непроницаемою мглою… Я вижу ясно… Это он!.. О бог великий, бог правдивый!.. То он!.. И что же?.. Перед ним Толпою бледной, нечестивой Мы, окаянные, стоим!.. И он величественно страшен, А мы — в отчаянье смешном. Венком лавровым он украшен, А мы — зеленым лопухом!.. Друзья! Свершилось!.. Умираю!.. Внемлите гласу моему. В последний раз вам завещаю Повиновение к нему… Смотрите!.. Вот!.. О други, братья!.. Он здесь!.. Смотрите!.. Вот он!.. Вот! С его охотничьего платья Кровь бекасиная течет… По раменам его играют Струи каштановых кудрей… Ружье и пояс украшают Две пары жирных дупелей… Прости! Помилуй… Царь охоты!» И вдруг несчастного постиг Припадок яростной зевоты, И, искажая бледный лик, Прильпе к устам его язык… Прильпе?.. Но взор его блудящий Какой-то ужас выражал, И вдруг, поднявши перст дрожащий, Он им на что-то указал, Как будто вымолвить, страдалец, Он что-то дивное хотел, Всё дико, пристально смотрел… Зевнул протяжно, захрапел… И в воздухе недвижный палец, Остановясь, окаменел. Восстали витязи… У мощных Мороз по коже пробежал, И их испуганный кагал, Как рой видений полунощных, От трупа хладного бежал.6
КОНЕЦ ВРАЖДЕ. ТОРЖЕСТВО ЦАРЯ ОХОТЫ. ДОЛГИОС. СЛАВА
Откуда шум, откуда клики В веселой Муромской земле? Какие радостные лики, Какие светлые enflé[108] Сидят без горя, без заботы За преогромнейшим столом… И между ними царь охоты С своим торжественным челом… Шато-марго и дрей-мадера, Душистый гейцих, ве-се-пе[109] И всё, что кончится на е, Как благодатная Венера Или безумная холера Гуляет в дружеской толпе. «Messieurs![110] Товарищи, синьоры, Маркизы, фоны, господа! — Гласит веселая орда.— Отныне скука и раздоры, Междоусобия и споры От нас сокрылись навсегда! Сейчас, сейчас на этом месте Воздвигнем дружеству алтарь, И все, не изменяя чести, Речем торжественно, без лести, Что Б<урцов> гений наш и царь! Да, уж давно леса, болота, Созданья умные и тварь Давно сказали: он наш царь, Другого нет царя охоты!» — «Он царь двуствольного ружья! Он властелин коростеля, Он самодержец куропатки, Он богдыхан перепелов,— Кричит полсотня голосов.— Никто, никто ему перчатки Не смеет бросить из стрелков. Ура! Ура! Герой Василий! Прости, что мы до этих пор Тебя, как должно, не почтили! Забудь наш бедный загово́р!» И вдруг с улыбкою приветной К нему собранье потекло, И пышно лавр зеленоцветный Украсил гордое чело. «Он твой! Он твой! Его делами Ты, о Василий, заслужил За то, что воздух пуделями, Подобно многим, не кормил! Другого Б<урцов>а в подлунной Мы не увидим, не найдем… И верь, на лире многострунной Твои деянья воспоем! Ура! Ура!» И хор избранный, Немного спиртом обуянный, Лихую песню затянул, И витязь, лавром увенчанный, Едва в восторге не уснул! Но кто, свирепый, долголикий, Как тень, покинувшая мглу, Бросая взор угрюмый, дикий, Стоит задумчиво в углу? Кто этот муж, который, грозно, Повеся голову и нос, Глядит так важно и серьезно На светлый пир?.. То — Долгиос! Не имя предков благородных Себе в наследье он стяжал… Он сам в число мужей свободных Господской милостью попал. Но, бич зверей и птиц ужасный, Прославясь гибельным ружьем, До этих пор единогласно Считался первым он стрелком. Подобный крепостью Немвроду, Но побежденный и без сил, Свою охотничью свободу Еще он дорого ценил. Внушенью зависти послушный, Безумной местию горя, Не мог он видеть равнодушно Венка болотного царя. Итак, в слепом ожесточенье И с ерофеичем в руке, Стоял печально в отдаленье В широком синем сюртуке. И в этот миг, как фальконетом, Импровизаторским куплетом Был уничтожен, поражен… О боже! Что услышал он? «Погибла слава Долгиоса! Он потерялся, оробел, С кровавой пеною из носа Стоит в углу и почернел».[111] Он это слышит!.. Страшно блещет Зеленый огнь в его очах… Как вальдшнеп, бьется и трепещет Большой стакан в его руках… И наконец, от злобы воя, Кляня вселенную, как бес, Из ненавистного покоя Он с ерофеичем исчез… Ликуй теперь, победоносец! Хвала тебе, дубровный царь! Ты, как великий ружьеносец, Соорудил себе алтарь! Пройдут века… Исчезнет слава Наполеоновых побед, Но ты, к бессмертью величаво Ты проложил огромный след. Умрут и лесть и вероломство, Как ядовитый василиск, Тебе ж правдивое потомство Воздвигнет вечный обелиск… Твоих соперников накажет, Сорвет покров туманный с глаз И временам грядущим скажет: «Il fut roi, mais de la chasse!»[112] 1837ПЕРЕВОДЫ
Из ОССИАНА
Морни и тень Кормала
Владыко щитов, Мечей сокрушитель И сильных громов И бурь повелитель! Война и пожар В Арвене пылают, Арвену Дунскар И смерть угрожают. Реки мне, о тень Обители хладной! Падет ли в сей день Дунскар кровожадный? Твой сын тебя ждет, Надеждою полный. И море ревет, И пенятся волны; Испуганный вран Летит из стремнины; Простерся туман На лес и долины; Эфир задрожал, Спираются тучи… Не ты ли, Кормал, Несешься могучий? Тень Чей глас роковой Тревожить дерзает Мой хладный покой? Морни Твой сын вопрошает, Царь молний, тебя! Неистовый воин Напал на меня — Он казни достоин… Тень Ты просишь… Морни Меча! Меча твоей длани, От молний луча! Как бурю во брани Узришь меня с ним: Он страшно заблещет На пагубу злым; Сын гор затрепещет, Сраженный падет — И Морни воздвигнет Трофеи побед… Тень Прими — да погибнет!.. <1825>ИЗ ГЕТЕ
ТИШИНА НА МОРЕ
Тихо, мрачно над водою,
Море бурное молчит,
Смотрит кормчий вдаль с тоскою,
Вод равнина всюду спит.
Ветры веять перестали,
Мертвый, страшный вкруг покой,
В беспредельной синей дали
Взор не встретится с волной.
1825
СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНИЕ
Разносятся тучи,
Туман исчезает,
И ветры могучи
Шумят на водах.
«Пловцы, веселее!
— Торопится кормчий.—
Скорее, скорее!
Волной нас качает,
Земля к нам несется,
Уж берег в глазах».
1825
ИЗ БАЙРОНА
112. Оскар Альвский Поэма лорда Байрона
1
Луна плывет на небесах, Сребрится берег Лоры; В туманных диких красотах Вдали чернеют горы. Умолкло всё… Окрестность спит, Промчалось время бо́ев: В чертогах Альвы не гремит Оружие героев.2
Как часто звездные лучи Из туч в часы ночные Сребрили копья и мечи И панцири стальные, Когда, презревши тишину, Пылая духом мести, Летел сын Альвы на войну — Искать трофеев чести!3
Как часто в бездны этих скал, Веками освященных, Воитель мощный увлекал Героев побежденных! Быстрее сыпало тогда Свой блеск светило ночи, И муки смерти навсегда Смежали храбрых очи.4
В последний раз на милый свет Из тьмы они взирали, В последний раз луне привет Изобразить желали. Они любили — им луна Бывала утешеньем; Они погибли — им она Отрадой и мученьем…5
Исчезла слава прежних лет И сильные владыки, И замок Альвы, храм побед,— Добыча повилики. В забвенье сладостных певцов И воинов чертоги, И бродят лани вкруг зубцов И серны быстроноги.6
В тяжелых шлемах и щитах Героев знаменитых, В пыли висящих на стенах И лаврами обвитых, Гнездится дикая сова И ветр пустынный свищет; На поле битв растет трава И вепрь свирепый рыщет…7
О древний Альва, — мир тебе, Ничтожности свидетель! Со славой отдал долг судьбе Последний твой владетель. Погас его могучий род! Нет ужаса народов! И звук мечей не потрясет Твоих железных сводов.8
Когда зажгутся небеса, Расстелятся туманы, И гром, и вихри, и гроза Взбунтуют океаны,— Какой-то голос роковой, Как бури завыванье Иль голос тени гробовой, Твое колеблет зданье.9
Оскар, вот твой медяный щит, Воюющий с грозами, Носясь по воздуху, звучит Над альвскими стенами! Вот твой колеблется шелом На тени раздраженной, Как черной нощию, крылом Орлиным осененный.10
Ходили чаши по рукам В рождение Оскара; Взвивался пламень к облакам Веселого пожара:[113] Владыка Альвы ликовал В кругу своих героев, И бард избранный воспевал И гром и вихри боев.11
Ловец пернатою стрелой Разил в стремнинах ланей, И рог отрадный боевой Сзывал питомцев браней. Призывный рог пленял их слух, И арфы золотые Восторгом зажигали дух, Как девы молодые.12
«О будь, невинное дитя,— Пророчил старый воин,— Могущ, бестрепетен, как я, Будь Ангуса достоин! Да будут девы прославлять Копье и меч Оскара, Да будет злобный трепетать Оскарова удара!»13
Проходит год — и снова пир: У Ангуса два сына; И весел он при звуке лир, И радостна дружина. Копье ли учит их метать — Их дикий вепрь трепещет, Стрелу ли меткую пускать — Никто верней не мещет.14
Еще младенцы по летам,— Они в рядах героев: По грозным, пагубным мечам Их знают в вихре боев. Кто первый грянул на врагов? Чьих стран герои эти? То цвет Морвеновых сынов, То Ангусовы дети.15
Чернее вранова крыла, С небрежной красотою Вокруг Оскарова чела Власы вились волною; Их ветр вздымал на раменах Угрюмого Аллана. Оскар был месяц в облаках, Аллан — как тень тумана.16
Оскар, с бестрепетной душой, Чуждался зла и лести; Всегда волнуемый тоской, Аллан был склонен к мести. Оскар, как искренность, не знал Притворствовать искусства; Аллан в душе своей скрывал Завистливые чувства.17
С блестящей утренней звездой В лазури небосклона Равнялась гордой красотой Царица Сутгантона. И не один герой искал Супругом быть прекрасной, И к деве милой запылал Оскар любовью страстной.18
Кеннет и царственный венец Приданым к сочетанью, И в думе радостный отец Внимал его желанью; Ему приятен был союз С коленом Гленнальвона: Он мнил посредством брачных уз Соединить два трона.19
Я слышу рокоты рогов И свадебные клики, И сонмы старцев и певцов Ликуют вкруг владыки; Летают персты по струнам, Пылает дуб столетний, И ходит быстро по рукам Стакан отцов заветный.20
В одеждах пышных и цветных Герои собралися, И в Альве песни дев младых И цитры раздалися. Кипит в сердцах восторг живой: Все пьют веселья сладость — И Мора, в ткани золотой, Таит невольно радость.21
Но где Оскар? Уж меркнет день, Клубятся в небе тучи; Покрыла лес и горы тень… Приди, ловец могучий! Луна лиет дрожащий свет Из облака тумана; Невеста ждет — и нет их, нет, Оскара и Аллана.22
Пришел Аллан, с невестой сел И в думу погрузился. И вот отец его узрел: «Куда Оскар сокрылся? Где были вы во тьме ночной?» — «Гоняя лютых вепрей, Давно расстался он со мной В кустах дремучих дебрей.23
Гроза ревет; быть может, он Зашел далёко в горы: Ему приятней зверя стон Руки прелестной Моры». — «Мой сын, любезный мой Оскар! — Вскричал отец унылый.— Где ты? Где ты? Какой удар И мне и Море милой!24
Скорей, о воины-друзья, Обресть его теките, Спокойте Мору и меня: Оскара приведите! Ступай, Аллан, — ищи его, Пройди леса, долины… Отдайте сына моего Мне, верные дружины!»25
В смятенье все. «Оскар, Оскар!» — Взывают звероловы, И грозно вторит им удар В подне́бесье громовый. «Оскар!» — ответствуют леса, «Оскар!» — грохочут волны, И воют буря и гроза — И все опять безмолвны.26
Денница гонит мрак ночной, Свод неба прояснился: Проходит день, прошел другой — Оскар не возвратился. Приди, Оскар! — невеста ждет, Ждут девы молодые; И нет его — и Ангус рвет Власы свои седые.27
«Оскар, предмет моей любви! Оскар, мой светлый гений! Ужели ты с лица земли Нисшел в обитель теней? О, где ты, сына моего Убийца потаенный? Открой его, открой его, Властитель над вселенной!28
Быть может, жертва злобы, он Лежит без погребенья И труп героя обречен Зверям на расхищенье; Быть может, змий в его костях Белеющих таится И на скале Оскаров прах Луною серебрится.29
Не с честью он, не в битве пал, Но от руки поносной; Сразил могучего кинжал — Не меч победоносный. Никто слезой не оросит Оскаровой могилы И славы холм не посетит В час полночи унылой.30
Оскар, Оскар! Закрыл ли ты Пленительные взоры? Правдивы ль Ангуса мечты И вышнему укоры? Погиб ли ты, сын милый мой, Души моей отрада? Сдружися, смерть, сдружись со мной, Небес благих награда!»31
Так старец, мучимый тоской, Излил свое волненье, И чужд душе его покой, И чуждо утешенье; Повсюду, горестный, влачит Губительное бремя, И редко дух его живит Целительное время.32
«Оскар мой жив», — он льстит себя Надеждою приятной И снова мнит: «Несчастен я, Погиб он невозвратно». Как звезды яркие во мгле То меркнут, то пылают, Печаль с отрадой на челе У Ангуса сияют.33
Текут за днем другие дни Чредою постоянной, И кроют будущность они Завесою туманной. Плывет луна, проходит год. «Оскар не возвратится»,— И реже старец слезы льет, И менее крушится.34
Оскара нет — Аллан при нем: Он дней его опора; И тайным пламенным огнем К нему пылает Мора. Подобный брату красотой И дев очарованье, Привлек он Моры молодой Летучее вниманье.35
«Оскара нет, Оскар убит, И ждать его напрасно,— Стыдливо дева говорит, Сгорая негой страстной.— Когда ж он жив, то, может быть, Я — жертвою обмана; Люблю его, клянусь любить Прелестного Аллана».36
«Аллан и Мора! Год один,— Им старец отвечает,— Продлите год: погибший сын Мне сердце сокрушает! Чрез год и ваши, и мои Исполнятся желанья: Я сам назначу день любви И бракосочетанья…»37
Проходит год. Ночная тень Туманит лес и горы; И вот настал желанный день Для юноши и Моры. Пышнее на небе блестит Светило золотое; Быстрей во взорах их горит Веселие живое.38
Я слышу рокоты рогов И свадебные клики, И сонмы старцев и певцов Ликуют вкруг владыки; Летают персты по струнам, Пылает дуб столетний, И ходит быстро по рукам Стакан отцов заветный.39
В одеждах пышных и цветных Герои собралися, И в Альве песни дев младых И цитры раздалися. Забыта горесть прежних дней; Все пьют блаженства сладость, И средь торжественных огней Таит невеста радость.40
Но кто сей муж? Невольный страх Черты его вселяют; Вражда и месть в его очах Как молнии сверкают. Незнаем он, не Альвы сын, Свирепый и угрюмый, И сел от всех вдали один, Исполнен тяжкой думы.41
Окрест рамен его обвит Плащ черный и широкий; Перо багровое сенит Шелом его высокий. Слова его — как гул вдали, Как гром перед грозою; Едва касается земли Он легкою стопою.42
Уж полночь. Гости за столом, Живее арфы звуки, И кубок с дедовским вином Из рук летает в руки. Желают счастья молодым, Поют во славу Моры; Стремятся радостные к ним Приветствия и взоры.43
И вдруг, как бурная волна, Воспрянул неизвестный, И воцарилась тишина И трепет повсеместный. Умолк веселый шум речей И свадебные клики, И страх проник в сердца гостей, И Моры, и владыки.44
«Старик, — сказал он, — вкруг тебя, Как звезды вкруг тумана, Пируют верные друзья И славят брак Аллана. Я пил за здравие сего Счастливого супруга, Пей ты за здравье моего Товарища и друга!45
Скажи мне, старец, для чего Оскар не разделяет Веселья брата своего? Зачем не поминает Никто при вас о сем ловце? Где Альвы украшенье? Зачем не здесь он, при отце? Реши мое сомненье!»46
«Оскар где? — Ангус отвечал, И сердце в нем забилось, И в золотой его бокал Слеза из глаз скатилась.— Давно, мой друг, Оскара нет: Где он — никто не знает; Лишь он один на склоне лет Меня не утешает».47
«Лишь он один тебя забыл…— С улыбкою ужасной Свирепый воин возразил.— А, может быть, напрасно Ты плачешь каждый день об нем, И нам бы о герое Беседовать как о живом В пиру, при шумном рое.48
Наполни кубок свой вином, И пусть он переходит Из рук в другие за столом: Оскара он приводит На память любящим его. Я всем провозглашаю: За здравье друга моего Оскара — выпиваю!..»48
«Я пью, — ответствовал старик,— За здравие Оскара!» И загремел всеобщий крик: «За здравие Оскара!» — «Оскар в душе моей живет,— Сказал старик, — как прежде, И если жив он, то придет: Я верю сей надежде».50
«Придет иль нет, но что ж Аллан Не пьет вина со мною И держит полный свой стакан Дрожащею рукою? Зачем, скажи, Оскаров брат, Зачем сие смущенье? Иль ты не можешь и не рад Исполнить предложенье?51
Какой тебя волнует страх? Мы пили — не робели!» И быстро розы на щеках Аллана помертвели, Течет с лица холодный пот, На всех взор дикий мещет, К устам подносит — и не пьет, И в ужасе трепещет.52
«Не пьешь, Аллан! Прекрасно, так! Любви весьма нелестной Ты показал нам явный знак! — Воскликнул неизвестный.— Я вижу: хочешь честь воздать Геройскому ты праху, Но на челе твоем печать Не радости, а страху».53
Аллан неверною рукой Пред воином грозящим Подносит кубок круговой К устам своим дрожащим… «Я пью, — сказал, — за моего Любезного Оскара…» И кубок пал из рук его, Как будто от удара!54
«Я слышу голос: это он — Братоубийца злобный!» — Раздался вдруг протяжный стон И вопль громоподобный. «Убийца мой!» — отозвалось По всем концам собранья, И с страшным гулом потряслось Стремительно всё зданье…55
Померк румяный свет огней, Загрохотали громы, И стал незрим в кругу гостей Чудесный незнакомый, И отвратительный фантом В молчании суровом Предстал, одеянный плащом, Широким и багровым.56
Из-под полы огромный меч, Кинжал и рог блистают, И перья черные до плеч С шелома упадают; Зияет рана на его Груди окровавленной, И страшны бледное чело И взор окамененный.57
С приветом хладным и немым На старца он взирает И, взор осклабив, перед ним Колено преклоняет; И грозно кажет на груди Запекшуюся рану Без чувств простертому среди Друзей своих Аллану.58
Вновь громы в мрачных облаках Над Альвой загремели; Щиты и латы на стенах Протяжно зазвенели, И тень в ужасной красоте, Одеянная тучей, Взвилась и скрылась в высоте, Как метеор летучий.59
Расстроен пир; собор гостей Умолк, безмолвен, в страхе! Но кто — не Ангус ли? Кто сей Поверженный во прахе? Нет, дни владыки спасены: Он жить не перестанет, Но дни Аллана сочтены: Он более не встанет…60
Без погребенья брошен был Убийцей труп Оскара, И ветр власы его носил В долине Глентонара. Не в битве жизнь окончил он, Не мощною рукою, Венчанный славой, поражен, Но братнею стрелою.61
Как в летний зной увядший цвет, Он пал, войны питомец! Ему и памятника нет!.. Ужасный незнакомец, Никем не узнанный, исчез! Другое привиденье, Как было признано, — с небес Оскарово явленье!62
Прошли твои златые дни, Невеста гроба, Мора! Не узрят более они Им пагубного взора! Живи, снедаема тоской, Печальна и уныла; Взгляни сюда: сей холм крутой — Алланова могила.63
Какие барды воспоют На арфе громогласной И поздним летам предадут Конец его ужасный? Какой возвышенный певец Возвышенных деяний Возложит риторский венец На урну злодеяний?64
Пади, венок поэта, в прах! Ты — не награда злобе: Одно добро живет в веках, Порок — истлеет в гробе! Напрасно жалости злодей У менестреля просит: Проклятье брата и людей Мольбы его разносит. <1826>ИЗ ЛАМАРТИНА
113. Человек К Байрону
О ты, таинственный властитель наших дум — Не дух, не человек — непостижимый ум! Кто б ни был ты, Байро́н, иль злой, иль добрый гений, Люблю порыв твоих печальных песнопений, Как бури вой, как вихрь, как гром во мраке туч, Как моря грозный рев, как молний яркий луч. Тебя пленяет стон, отчаянье, страданье; Твоя стихия — нощь, смерть, ужас — достоянье. Так царь степей — орел, презрев цветы долин, Парит превыше звезд, утесов и стремнин. Как ты — сын мощный гор, свирепый, кровожадный — Он ищет ужасов зимы немой и хладной, Низринутых волной отломков кораблей, Костьми и трупами усеянных полей… И между тем, когда певица наслажденья Поет своей любви и муки, и томленья Под сенью пальм, у вод смеющейся реки,— Он видит под собой Кавказские верхи, Несется в облака, летит в пучине звездной, Простерся и плывет стремительно над бездной, И там один среди туманов и снегов, Свершивши радостный и гибельный свой лов, Терзая с алчностью трепещущие члены, Смыкает очи он, грозою усыпленный… И ты, Байро́н, паришь, презревши жалкий мир: Зло — зрелище твое, отчаянье — твой пир. Твой взор, твой смертный взор измерил злоключенья; В душе твоей не бог, но демон искушенья: Как он, ты движешь всё, ты — мрака властелин, Надежды кроткий луч отвергнул ты один. Вопль смертных для тебя — приятная отрада; Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада… Но что против судеб могучий гений твой? Всевышнего устав не рушится тобой! Всеведенье его премудро и глубоко. Имеют свой предел и разум наш, и око,— За сим пределом мы не видим ничего… Я жизнью одарен, но как и для чего — Постигнуть не могу — в руках творца могучих Образовался мир, как сонмы вод зыбучих, Как ветр, как легкий прах поверх земли разлил, Как синий свод небес звездами населил? Вселенная — его, а мрак, недоуменье, Безумство, слепота, ничтожность и надменье — Вот наш единственный и горестный удел. Байро́н! Сей истине не верить ты посмел! Бессмысленный ато́м! Исполнить назначенье, К которому тебя воззвало провиденье, Хранить в душе своей закон его святой И петь хвалу ему — вот долг, вот жребий твой. Природа в красотах изящна, совершенна; Как бог, она мудра, как время — неизменна. Смирись пред ней, роптать напрасно не дерзай, Разящую тебя десницу лобызай. Свята и милует она во гневе строгом: Ты — былие, ты прах, ты червь пред мощным богом. И ты, и червь равны пред взорами его, И ты произошел, как червь, из ничего. Ты возражаешь мне: «Закон уму ужасный И с промыслом души всемирной несогласный! Не сущность вижу в нем, но льстивую тщету, Чтоб в смертных вкоренить о счастии мечту,— Тогда как горестей не в силах мы исчислить…» Байро́н! Возможно ль так о Непостижном мыслить, О связи всех вещей, превыспреннем уме? Мы слабы. Как и ты, блуждаю я во тьме; Творец — художник наш, а мы — его махины; Проникнем ли его начальные причины? Единый тот, кто мог всё словом сотворить, Возможет мудрый план природы изъяснить! Я вижу лабиринт, вступаю — и теряюсь; Ищу конца его — и тщетно покушаюсь. Текут дни, месяцы унылой чередой, Тоска сменяется лютейшею тоской… В границы тесные природой заключенный, Свободный, мыслящий, возвышенный, надменный, Неограниченный в желаньях властелин,— Кто смертный есть, <скажи?> — Эдема падший сын, Сраженный полубог!.. Лишась небес державы, Он не забыл еще своей минувшей славы; Он помнит прежний рай, клянет себя и рок; Он неба потерять из памяти не мог… Могущий — он парит душой в протекши годы, Бессильный — чувствует все прелести свободы, Несчастный — ловит луч надежды золотой И сердце веселит отрадною мечтой. Печальный, горестью, унынием убитый, Он схож с тобой, он ты, изгнанник знаменитый! Увы, обманутый коварством сатаны, Когда ты исходил из милой стороны, С отчаяньем в груди, с растерзанной душою,— В последний раз тогда горячею слезою Ты орошал, Адам, эдемские цветы. Бесчувствен, полумертв, у врат повергся ты. В последний раз взглянул на милое селенье, Где счастье ты вкусил, приял твое рожденье, Услышал ангелов поющих сладкий хор — И, отвратив главу, склонил печальный взор. Еще невольно раз к Эдему обратился, Заплакал, зарыдал и быстро удалился… О жертва бедная раскаянья и мук! Какому пению внимал твой робкий слух? Могло ль что выразить порыв твоих волнений При виде мест едва минувших наслаждений? Увы, потерянный прелестный вертоград! Ты в душу падшего вливал невольно яд. Полна волшебного о счастье вспоминанья, Она, как тень, в жару забвенья и мечтанья Перелетала вновь в заветные сады И упивалась вновь всем блеском красоты. Но исчезали сны — и пламенные розы Адамовых ланит, как дождь, кропили слезы. Когда прошедшее нам сердце тяготит И настоящее отрадою не льстит, Мы жаждем более счастливого удела,— Тогда желания бывают без предела. Мы в мыслях воскресим блаженство прежних дней, И снова вспыхнет огнь погаснувших страстей. Таков был жребий твой в жестокий час паденья. Увы! И я испил из чаши злоключенья, И я, как ты, смотрел, не видя ничего, И так же быть хотел толковником всего. Напрасно я искал сокрытого начала, Природу вопрошал — она не отвечала. От праха до небес парил мой гордый ум И — слабый — ниспадал, терялся в бездне дум. Надеждою дыша, уверенностью полный, Бесстрашно рассекал я гибельные волны И истины искал в советах мудрецов; С Невтоном я летал превыше облаков И время оставлял, строптивый, за собою, И в мраках дальних лет я бодрствовал душою. Во прахе падших царств, в останках вековых Катонов, Цезарей — свидетелей немых Неумолимого, как время, разрушенья — Хотел рассеять я унылые сомненья; Священных теней их тревожил я покой, Бессмертия искал я в урне гробовой — И признаков его, никем не постижимых, Искал во взорах жертв, недугами томимых, В очах, исполненных и смерти, и тоски, В последнем трепете хладеющей руки; Пылал обресть его в желаниях надежных, На мрачных высотах туманных гор и снежных, В струях зеркальных вод, в клубящихся волнах, В гармонии стихий, в раскатистых громах: Я мнил, что, грозная, в порывах изменений, В часы таинственных небесных вдохновений, Природа изречет пророческий глагол: Бог блага мог ли быть бог бедствия и зол? Все промыслы его судеб непостижимы, И в мире и добро, и зло необходимы. Но тщетно льстился я… Он есть, сей дивный бог, Но, зря его во всем, постичь я не возмог. Я видел: зло с добром — и, мнилося, без цели,— Смешавшись на земле, повсюду свирепели. Я видел океан губительного зла, Где капля блага быть излита не могла; Я видел торжество блестящее порока — И добродетель, ах, плачевной жертвой рока. Во всем я видел зло, добра не понимал И всё живущее в природе осуждал. Однажды, тягостной тоскою удрученный, Я к небу простирал свой ропот дерзновенный,— И вдруг с эфира луч блеснул передо мной И овладел моей трепещущей душой. Подвигнутый его таинственным влеченьем, Расстался я навек с мучительным сомненьем, Забыв на вышнего презренную хулу, И так ему воспел невольную хвалу: «Хвала тебе, творец могучий, бесконечный, Верховный разум, дух незримый и предвечный! Кто не был, тот восстал из праха пред тобой. Не бывши бытием, я слышал голос твой. Я здесь! Хаос тебя рожденный славословит, И мыслящий ато́м — твой взор творящий ловит. Могу ль измерить я в сей благодатный час Неизмеримое пространство между нас? Я — дело рук твоих — я, дышащий тобою, Приявший жизнь мою невольною судьбою,— Могу ли за нее возмездия просить? Не ты обязан — я! Мой долг — тебя хвалить! Вели, располагай, о ты, неизреченный! Готов исполнить твой закон всесовершенный. Назначь, определи, мудрейший властелин, Пространству, времени — порядок, ход и чин. Без тайных ропотов, с слепым повиновеньем Доволен буду я твоим определеньем. Как сонмы светлые блистательных кругов В эфирных вы́сотах, как тысячи миров Вращаются, текут в связи непостижимой,— Я буду шествовать, тобой руководимый. Избра́нный ли тобой, сын персти, воспарю В пределы неба я и, гордый, там узрю В лазурных облаках престол твой величавый И самого тебя, одеянного славой, В сиянье радужных, божественных лучей; Или, трепещущий всевидящих очей, Во мраке хаоса ато́м, тобой забвенный, Несчастный, страждущий и смертными презренный. Я буду жалкий член живого бытия,— „Всегда хвала тебе, господь!“ — воскликну я. Ты сотворил меня, твое я есмь созданье, Пошли мне на главу и гнев, и наказанье, Я — сын, ты — мой отец! Кипит в груди восторг! И снова я скажу: „Хвала тебе, мой бог!“ Сын праха, воздержись! Святое провиденье Сокрыло от тебя твой рок и назначенье. Как яркая звезда, как месяц молодой Плывет и сыплет блеск по тучам золотой И кроет юный рог за рощею ночною,— Так шествуешь и ты неверною стопою В юдоли жизни сей. Ты слабым создан был; Две крайности в тебе творец соединил. Быть может, с ними я невольно стал несчастен, Но благости твоей и славе я причастен. Ты мудр — немудрого не можешь произвесть: Склоняюсь пред тобой… Хвала тебе и честь! Но между тем тоска сменила в сердце радость; Погасла навсегда смеющаяся младость. Угрюмый, одинок, прошедшим удручен, Я вижу: пролетит существенный мой сон! Престанет гнать меня завистливая злоба! Полуразрушенный, стою при дверях гроба: Хвала тебе! Вражды и горести змия Терзала грудь мою. В слезах родился я, Слезами обливал мой хлеб приобретенный, В слезах всю жизнь провел, тобою пораженный: Хвала тебе! Терпел невинно я, страдал, До дна испил я бед и горестей фиал, У праведных небес просил себе защиты — И пал, перунами всевышнего убитый. Хвала тебе! Тобой невинность сражена!.. Был друг души моей — отрада мне одна! Ты сам соединил нас узами любови, И ты запечатлел союз священной крови — Вся жизнь его была лишь жизнию моей, И душу я его считал душой своей… Как юный, нежный цвет, от стебля отделенный, Увял он на груди моей окамененной!.. Я видел смерть в его хладеющих чертах, Любовь боролась с ней, и в гаснущих очах Изображалось всё души его томленье… „О солнце, — я молил, — продли твое теченье!“ Как, жертва палача в час смерти роковой, Преступник зрит топор, взнесенный над главой, Бесчувствен, падает в отчаянье и страхе И ловит бытия последний миг на плахе,— Так, бледен, быстр как взор, внимателен как слух, Я рвался удержать его последний дух… Он излетел!.. — О бог правдивый, милосердый! Простишь ли мне? — роптал в несчастиях нетвердый, Роптал против тебя, судил твои пути… Непостижимый бог! Прости меня, прости!.. Ты прав!.. Безумен я… Достоин наказанья… Ты смертным создал мир — и дал в удел страданья. Так!.. Я не нарушал закона твоего! Лишился милого душе моей всего, Лишился радости, покоя невозвратно, Но что ж? Твои дары я возвратил обратно. Противиться нельзя таинственной судьбе, Желаньем, волею я жертвую тебе! Я полон на тебя незыблемой надежды, И с верою она мои закроет вежды. Люблю тебя, творец, во мраке грозных туч, Когда ты в молниях, ужасен и могуч, Устав преподаешь природе устрашенной, Иль, кроткия весны дыханьем облеченный, На землю низведешь гармонию небес! „Хвала тебе! — скажу, лия потоки слез,— Хвала, верховный ум, порядок неразрывный! Рази, карай меня!.. Хвала тебе, бог дивный!..“» Так мыслил я тогда, так небом пламенел И так, восторженный, царя природы пел. О ты, неопытных коварный искуситель, Неистовый сердец чувствительных мучитель! Познай, Байро́н, мечту твоих печальных дум, Познай — и устреми ко благу пылкий ум! Наперсник ужасов, певец ожесточенья! Ужель твоя душа не знает умиленья? Простри на небеса задумчивый твой взор: Не зришь ли в них творцу согласный, стройный хор? Не чувствуешь ли ты невольного восторга? Дерзнешь ли не признать и власть, и силу бога, Таинственный устав, непостижимый перст В премудром чертеже миров, планет и звезд? Ах, если б, смерти сын, из мрака вечной ночи Ты оросил слезой раскаяния очи, Надеждой окрилен, оставил ада свод И к свету горнему направил свой полет И в сонме ангелов твоя взгремела лира,— Нет, никогда б еще во области эфира Никто возвышенней, приятней и сильней Не выразил хвалы владыке всех царей! Мужайся, падший дух! Божественные знаки Ты носишь на челе. Как легкие призра́ки, Как сон, как ветерок, исчезнет славы дым; Ты адом, гордостью, ты злом боготворим. Царь песней! Презри лесть: она — твоя отрава; С одною истиной прочна бывает слава. Склони пред ней главу, надменный великан! Теки, спеши занять потерянный твой сан Среди сынов, благим отцом благословенных, Для радости, любви, для счастья сотворенных!.. <1825>114. Восторг — дух божий
Огонь небесный вдохновенья, Когда он смертных озарит И в час таинственный забвенья Восторгом душу окрылит,— Есть пламень бурный, быстротечный, Губитель долов и лесов, Который сын полей беспечный Зажег внезапно средь снегов. Как змий в листах сперва таится, Едва горит, не виден он, Но дунул ветр — и озарится Багровым блеском небосклон. Душа моя! В каких виденьях Сойдет сей пламень на тебя: Мелькнет ли тихо в песнопеньях, Спокойных, чистых, как заря, Или порывистой струею По струнам арфы пробежит, Наполнит грудь мою тоскою И в сердце радость умертвит? Сойди же, грозный иль отрадный, О вестник бога и небес! Разочарованный и хладный, Бесчувствен, я не знаю слез. Невинной жертвою несчастья Еще с младенчества я был, Ни сожаленья, ни участья Ни от кого не заслужил. Перед минутой роковою Мне смерть, страдальцу, не страшна; Увы, за песнью гробовою, Как сон, разрушится она. Но смертный жив иль умирает,— Его божественный восторг, Как гость внезапный, посещает: Сей гость, сей дух есть самый бог… С улыбкой кротости и мира, С невинным, радостным челом, Как духи чистые эфира, И в блеске славы неземном — Его привет благословенный Мы уготовимся приять; Единым богом вдохновенны, Дерзнем лицу его предстать. Его перстом руководимый, Израиль зрит в тени ночной: Пред ним стоит непостижимый Какой-то воин молодой; Под ним колеблется долина, Волнует грудь его раздор, И стан, и мышцы исполина, И полон мести ярый взор. И сей и тот свирепым оком Друг друга быстро обозрев, В молчанье мрачном и глубоком Они, как вихрь, как гнев на гнев, Стремятся — и вступили в битву. Не столь опасно совершить Стрелку неверную ловитву Иль тигру тигра победить, Как пасть противникам во брани. Нога с ногой, чело с челом, Вокруг рамен обвивши длани, Идут, вращаются кругом; Все жилы, мышцы в напряженье Друг друга гнут к земле сырой — И пастырь пал в изнеможенье, Врага увлекши за собой. Из уст клубит с досады пена, И вдруг, собрав остатки сил, Трясет атлета и колено Ему на выю наложил; Уже рукой ожесточенной Кинжал убийства он извлек, И вдруг воитель побежденный Его стремительно низверг… Уже редел туман Эреба, Луны последний луч потух; Заря алела в сводах неба И с ним боролся… божий дух. Там мы ничто, как звук согласный, Как неожиданный восторг, Персту всевышнего подвластный; Мы — арфа, ей художник — бог. Как в тучах яростных перуны, Восторг безмолвствует в сердцах, Но движет бог златые струны — И он летает на струнах. <1826>115. Юность
О други, сорвемте румяные розы Весной ароматною жизни младой! И время летит, и напрасные слезы, Увы, не воротят минуты златой! Как плаватель робкий, грозой устрашенный И быстро носимый в пучине валов, Готовится к смерти — и в думе смущенной Завидует миру домашних богов, И поздно желает беды неизбежной, Терзаемый лютой тоской, миновать, И снова, не видя отрады надежной, Безумец, дерзает судьбу порицать,— Так точно, о други, и старец, согбенный Под игом недугов и бременем лет, Стремится, приятной мечтой окриленный, К весне своей жизни — и нет ее, нет!.. «Отдайте, отдайте мне юные годы И младости краткой веселые дни!» — Он вопит — и тщетно: как вихри, как воды, В туманном пространстве исчезли они, И грозные боги не слышат моленья. Он розы блаженства срывать не умел, Беспечный, не мог изловить наслажденья, И цвет на могиле — страдальца удел… Сорвемте же, други, румяные розы Весною цветущею жизни младой, И время летит, и напрасные слезы, Увы, не воротят минуты златой!.. <1826>116. Злобный гений
Когда задумчивый, унылый Сижу с тобой наедине И, непонятной движим силой, Лью слезы в сладкой тишине; Когда во мрак густого бора Тебя влеку я за собой; Когда в восторгах разговора В тебя вселяюсь я душой; Когда одно твое дыханье Пленяет мой ревнивый слух; Когда любви очарованье Волнует грудь мою и дух; Когда главою на колена Ко мне ты страстно припадешь И кудри пышные гебена С небрежной негой разовьешь, И я задумчиво покою Мой взор в огне твоих очей,— Тогда невольною тоскою Мрачится рай души моей. Ты окропляешь в умиленье Слезой горючею меня, Но и в сердечном упоенье, В восторге чувств страдаю я. «О мой любезный! Ты ли муки, Мне не известные, таишь? — Вокруг меня обвивши руки, Ты мне печально говоришь.— Прошу за страсть мою награды! Открой мне, милый, скорбь твою! Бальзам любви, бальзам отрады Тебе я в сердце излию!» Не вопрошай меня напрасно, Моя владычица, мой бог! Люблю тебя сердечно, страстно — Никто сильней любить не мог! Люблю… но змий мне сердце гложет, Везде ношу его с собой, И в самом счастии тревожит Меня какой-то гений злой. Он, он мечтой непостижимой Меня навек очаровал И мой покой ненарушимый И нить блаженства разорвал. «Пройдет любовь, исчезнет радость,— Он мне язвительно твердит,— Как запах роз, как ветер, младость С ланит цветущих отлетит!..» <1826>117. Отрывок из поэмы «Смерть Сократа»
Сократ утешает плачущих учеников своих.
«Вы плачете, друзья, и плачете в то время, Когда моя душа, как чистый фимиам, Навек освободясь от тягостного бремя, Стремится к небесам. Когда она в пылу священного восторга, Как светлый, горний дух, стрясая прах земной, Из царства горести парит на лоно бога И истины святой. Что время и что жизнь без смерти в сей юдоли? Почто приятно мне за истину страдать? Почто моя душа оковы сей неволи Пылает разорвать? Что значит, о друзья, без смерти добродетель? Что память мудрого в потомстве оживит? Смерть!.. Смертию одной верховный благодетель Ее вознаградит. Она не бич людей, но жребий вожделенный, Победоносный лавр, торжественный венец, Которым нас дарит рукой благословенной Всеведущий творец. И если б, вопреки могучему веленью, Я жизнью дорожил и мог ее продлить, О други, и тогда, покорный провиденью, Я не желал бы жить. Не плачьте обо мне: не скорбью удрученных Приятно мне узреть сподвижников моих, Но с радостным челом, и амброй окуренных, И в тканях дорогих. Как юноша-жених, увенчанный цветами, К невесте молодой идет при звуках лир, Так я хочу идти, о други, между вами На смертный вечный пир. Что значит умереть? Прервать соединенье Небесного луча с презренною землей И снова исполнять свое предназначенье За дверью гробовой. Напрасно человек стремится за блаженством: Подобный узнику, стрегомому в тюрьме, Одеянный своим земным несовершенством, Блуждает он во тьме. Но тот, кого волна низвергла в пристань мира, Кто жизни новый свет с спокойствием узрел, Тот сам, как луч зари, во области эфира, На небо полетел. Он чужд уже своей презренной оболочки; Союз с землей его не в силах тяготить, И жизнь и смерть пред ним — невидимые точки: Он снова начал жить! „Но смерть есть чаша зол — край бедствий и страданий!“ Друзья, не может быть… Сей тяжкий перелом Есть странствия конец и горьких испытаний, И зло везде с добром. Не зрим ли мы, что день течет за мраком ночи, Приятная весна — за хладною зимой; С воззрением на свет блестят младенца очи Невинною слезой. Верховного творца могучая десница Сравняла море зла и море вечных благ: Предшественница тьмы, бессмертия денница — И к богу первый шаг. Не знаю, с торжеством иль с грустью безнадежной Ввергается душа в объятия ея, Но с чистою душой сей жребий неизбежный Не страшен для меня. Я думаю, что бог за жизнию земною, Как правый и благой, блаженство обречет И, сердце поразив губительной стрелою, Бальзам в него прольет…» Мы слушали… Один с улыбкою сомненья Сократовы слова Цебес сопровождал — И, полный вдохновенья, Учитель продолжал: «Так, други! Первый луч блистательной зарницы, Летучий аромат мастики и цветов, Слиянный голос дев с гармонией цевницы И звуки милых слов — Ничто не превзойдет чистейшего восторга Страдалицы души, летящей к небесам… Что жизнь, что смерть, что мир? Ничто пред славой бога. Удел наш — счастье там. Довольно ль умереть, чтоб снова возродиться? Нет! К вышнему предстань с невинною душой, От тлена и страстей умей освободиться Пред жизнию другой. Жизнь в смерть преобрати: земная жизнь — сраженье, Смерть — лавр, земля — огонь, в котором человек Свергает навсегда земное облаченье, Окончив краткий век. Тогда, друзья, тогда, от уз освобожденный, Приемлет он уже награду от небес; Простер крыле, парит, он там в сени блаженной — И мир пред ним исчез! Так, смертный сча́стливый, покорный вышней власти, Который суету рассудку подчинил, Который обуздал презрительные страсти, Закон и правду чтил, Который ниспроверг бессмертия преграду, Был злобы враг, дышал и жил одним добром,— Страдалец праведный украсится в награду Божественным венцом. Но тот, кто ложный блеск обманчивых мечтаний Священной истине безумно предпочел, Кто, чувственности раб, в юдоли испытаний Стезей неверной шел, Кто в вихре суеты, забав и наслаждений, В порочном торжестве, как Леда, утопал, Кто неба глас среди греховных упоений И совесть заглушал,— О други, никогда тот смертный злочестивый Земных своих оков не может сокрушить: Разрушится над ним гнев бога справедливый — По смерти будет жить! Как жалостная тень преступной Арахнеи, В кругу своих детей страдать осуждена, И неразлучны с ней сыны ее — злодеи, И мучится она,— Так точно и душа преступника земного Подвергнется навек сей горестной судьбе — Не к богу воспарит, но с телом будет снова В мучительной борьбе…» Умолк… Сомнительный Цебес прервал молчанье. «Сократ, — вещает он, — приятно для меня На вечность и на суд небесный упованье, Бессмертью верю я; Согласен я, что жизнь — ничтожное мгновенье: Тому примером всё, тому примером ты, Но дай на мой вопрос правдивое решенье — Я в бездне темноты. Ты рек: душа живет за дверью гробовою, Но если в факеле светильник догорел, То где огонь? Куда с последнею струею Сей пламень отлетел? Светильник и огонь — всё вместе исчезает; Душа, бессмертие — не разны, а одно; Бессмертье, как огонь, от тела отлетает — И после где ж оно? Иль так сравним: душа для чувственного тела Нужна, как арфе звук. От времени и лет Разрушилась она, разбилась и истлела… Где ж звук, коль арфы нет?» С унынием в очах, с поникшими главами Внимали мудрецы Цебесовым словам И мнили: «Прав Цебес — и всё под небесами Готовится червям. Всё будет жертвою земли и разрушений; Где звук, коль арфы нет? Где ждать венца наград?..» …И мнилось, ожидал небесных вдохновений И гения Сократ. Как старец на пиру, весельем оживленный, Как солнце, просияв в туманных высотах, Изрек ему ответ страдалец незабвенный В божественных словах: «Друзья мои, огонь — ничтожное сравненье С лучом всевышнего — с бессмертною душой,— С душой и бренностью такое ж съединенье, Как с небом и землей. Душа есть чистый свет, всевидящее око, Пред коим в жизни сей не скрыто ничего; Всё зрит душа — и здесь, и в вечности глубокой — Она душа всего. Рожденье, красоту и смерть земного света — Всё чувствует она, но только вне себя; Пред нею будущность туманом не одета, Пред ней всегда заря. Исчезнет всё — она, как время, непременна; Где смерть — ей жизнь, где мрак — ей свет. Всегда жива… Исчезнут свет и тьма, разрушится вселенна — Не рушится она. Ты мнишь, душа для чувств есть арфы звук согласный, А арфа будет прах от времени и лет. Цебес, не льстись мечтой и ложной и опасной: Душе предела нет. Судьба земных вещей ничтожна, быстротечна, Но тайною душой, но нами движет бог. Перст божий — звук души; как бог, душа безвечна… Бессмертен я!.. Восторг!..» И между тем уже румяное светило На западе текло во блеске красоты И, крояся в волнах, печально золотило Гимета высоты. Спешили к берегам, белея парусами, Укромные ладьи веселых рыбарей, И, с радостными их сливаясь голосами, Пел в роще соловей. И ближе пастухов свирели раздавались, И сча́стливых людей отрада и покой — В темнице мудреца с тоской согласовались, Как отблеск света с тьмой. <1826>118. Мечта
Простерла ночь свои крыле На свод небес червленый; Туманы вьются по земле… В сон легкий погруженный, На камне диком я сижу В мечтаниях унылых И в горькой думе привожу На память сердцу милых. Вдруг из-за черно-сизых туч Серебряной струею С луны отторгнувшийся луч Блеснул передо мною. О милый луч, зачем рассек Ты горние туманы? Иль исцелить мои притек Неисцелимы раны? Или сокрытые судьбой Поведать тайны мира? О луч божественный, открой, Открой, пришлец эфира: Или к несча́стливым влечет Тебя волшебна сила, И снова к счастью расцветет Душа моя уныла? Так! Я восторгом упоен И мыслию священной! Не ты ли в образ облечен Души мне незабвенной? Быть может, вьется надо мной Дух милый в виде тени, Быть может, ивы сей густой Он потрясает сени. Ах, если это не мечта В час полночи священный, Носися вкруг меня всегда, О призрак драгоценный! Хотя твоим полетом слух Мой робкий насладится, И изнемогший, скорбный дух Внезапно оживится… Но месяц посреди небес Облекся пеленою. Где милый луч мой? Он исчез — И я один с мечтою! 1820-е годы119. Провидение человеку
Не ты ли, о мой сын, восстал против меня? Не ты ли порицал мои благодеянья И, очи отвратя от прелести созданья, Проклял отраду бытия? Еще ты в прахе был, безумец своенравный, А я уже радел о счастии твоем, Растил тебя, как плод, и в промысле святом Тебе удел готовил славный. В совете вековом твой век образовал, И времена текли моим произволеньем, И рек я: «Появись и чистым наслажденьем Почти мой горний трибунал!» И ты возник. Мое благое попеченье Не обрекло тебя игралищем судьбе, Огнем моих очей посеял я в тебе С началом жизни вдохновенье. Из груди я воззвал млеко твоим устам, И сладко ты прильнул к источнику любови, И ты впивал в себя и жар, и силу крови, И свет мелькнул твоим очам. И — искра божества под бренным покрывалом — Свободная душа невидимо зажглась, Младенческая мысль словами излилась,— И имя «бог» служило ей началом. В каком великом торжестве Перед тобой оно сияло! Везде и всё напоминало Тебе о тайном божестве. На небе в солнце лучезарном Мое величье ты читал; Когда же с чувством благодарным На землю очи обращал, То всюду зрел мои деянья Во всей красе благодеянья; В природе зрел ты образ мой, В порядке — предопределенье, В пространстве мира — провиденье, В судьбе послушной и слепой — Мое могучее веленье. И ты почтил во мне царя Твоих душевных наслаждений, И, то забывшись, то горя Огнем приятных впечатлений, В своей невинной простоте Ты шел к таинственной мете. Но между тем как грозный опыт Твой свежий ум окаменял, Ты произнес безумный ропот, Ты укорять меня дерзал. Душа твоя одета мглою, Чело бледнее мертвеца, И ты, терзаясь думой злою, Уже не веруешь в творца. «Он есть великая проблема, Рассудку данная судьбой; Когда весь мир его эмблема, То наподобие Эдема Правдивый был бы и благой». Умолкни, гордое мечтанье! Я начертал тебе закон, Но для тебя ничтожен он! О, как вели́ко расстоянье! Перед тобою — миг один, Я — миллионов властелин! Когда спадут перед тобою Покровы мудрости моей, Тогда, измученный борьбою Недоумений и страстей, Ты озаришься совершенством Неизреченной правоты И вкусишь с праведным блаженством От чаши благ и доброты, Познаешь горнего участья Дотоле скрытые плоды, И миновавшие несчастья Благословишь в восторге ты. Но ропот не умолк в душе ожесточенной: Ты жаждешь до времен узреть великий день И дивный вертоград, всевышним насажденный, Где никогда ночная тень Не омрачит святую сень. Безумный! Малый свет и темнота ночная — Вожатые к нему. Надейся и иди, Природу и меня постигнуть не дерзая; Подобно ей, мои пути Слепой покорностью почти! Открыл ли я земле законы управленья? Свирепый океан, великий царь морей, Окован навсегда десницею моей, И в час урочного явленья Он силой бурного стремленья Наводит ужас потопленья И снова хлынет от степей. И — тень моих лучей в лазури необъятной — Узнал ли этот шар закон моих путей? Куда б он полетел без помощи моей? Кончая подвиг благодатный, Улыбкой тихой и приятной Не обещает он обратно Заутра радужных огней. И царствует везде порядок неразрывный: Я утром возбужу вселенную от сна, И вечером взойдет сребристая луна. И вот Из тишины пустынной Она на голос мой призывный Стремится с легкостию дивной — И ночи мгла озарена. А ты, прекрасное творенье, Кого создал для неба я, Ты впал в ужасное сомненье О мудрой цели бытия. Ты, человек и царь вселенной, Дерзнул роптать — и на кого? Ты смел в душе ожесточенной Хулить владыку своего! Я твой владыка — благодетель, Моя святая добродетель Тебя спасает и хранит, Я твой незыблемый гранит. Не мнишь ли ты, что в мраке ночи Я беззаботно опочил? О нет! Внимательные очи Я с действий мира не сводил. Моря в волнении суровом, Летучий прах и ветров стон — Всё движу я великим словом, Всему в природе есть закон. Иди с светильником надежды За провидением вослед, Ты не умрешь, смыкая вежды: Тебе за гробом новый свет! И знай: правдиво провиденье, В его путях обмана нет. Зари румяной восхожденье, Природы целой уверенье Твердят о нем из века в век — Один не верит человек! Но брось, о смертный, безнадежность; Моя родительская нежность Твое сомненье постыдит И за безумное роптанье Свое преступное созданье Любовью вечной наградит. 1820-е годы120. Бонапарте
Есть дикая скала на лоне океана… С крутых ее брегов, под ризою тумана Приветствует тебя, задумчивый пловец, Гробница мрачная, обмытая волнами; Вблизи ее лежат обросшие цветами Разбитый скипетр и венец… Кто здесь? Нет имени!.. Спросите у вселенной! То имя начертал булат окровавленный — От скифского шатра до нильских берегов — На бронзе, на груди бойцов ожесточенных, В народных племенах, в мильонах изумленных Пред ним склонявшихся рабов. Два имени векам переданы веками, Но никогда ничье громовыми крылами Не рассекало мир с подобной быстротой; Нигде ничья нога сильнее не врезала Следов в лицо земли — и грозную сковала Судьба над дикою скалой!.. Вот здесь его дитя шагами измеряет, Враждебная пята гробницу попирает, Громовое чело объято тишиной, Над ним в вечерней мгле жужжит комар ничтожный, И тень его один внимает гул тревожный Волны, летящей за волной. И мир тебе, о прах великого героя, Ты цел и невредим в обители покоя! Глас лиры никогда гробов не возмущал, Всегда таила смерть убежище для славы. Ничто не оскорбит удел твой величавый: Тебе потомство — трибунал!.. Твой гроб и колыбель сокрыты в мгле тумана, Но ты как молния возник из урагана И, безыменный муж, вселенную сразил. Так точно славный Нил, под Мемфисом глубокий, В Мемноновых степях струит свои потоки Еще без памяти, без сил. Упали алтари, разрушилися троны; Ты миру даровал победы и законы, Ты славой наречен над вольностью царем — И век, ужасный век, который местью грянул На царства и богов, перед тобой отпрянул На шаг в безмолвье роковом. Ты грозного числа врагов не устрашался, Ты с призраком, вторый Израиль, состязался, И призрак изнемог под тяжестью твоей; Возвышенных имен могучий осквернитель, Ты с слабостью играл, как демон-соблазнитель Играет с чашей алтарей. Так, если старый век при факеле могильном Терзает, рвет себя в отчаянье бессильном, Издавши вольный крик в заржавленных цепях,— То вдруг из-под земли герой неблагодарный Встает, разит его — и ложь, как сон коварный, Падет пред истиной во прах! Свобода, слава, честь — мечты очарованья — Гремели для тебя, как бранные воззванья, Как отзыв роковой воинственной трубы, И слух твой, языком невнятным пораженный, Внимал лишь одному волнению вселенной И воплю смерти и борьбы!.. И, чуждый прав людей, надменный, величавый, У мира одного ты требовал — державы! Ты шел… И пред тобой везде рождался путь, И лавры на скалах пустынных зеленели! Так меткая стрела летит до верной цели, Хотя б сквозь дружескую грудь. И никогда фиал минутного безумья С чела не разгонял державного раздумья; Ты пурпура искал не в чаше золотой; Как воин на часах, угрюмый и бессонный, Ни вздоха, ни слезы, ни ласки благосклонной Ты не дарил красе младой. Войну, тревогу, стон, лучи зари багровой На копьях и мечах любил твой дух суровый, И только одного товарища в боях Лелеяла твоя десница громовая, Когда, широкий хвост и гриву воздымая, Он бил копытом сталь и прах. Не равный никому гордыней равнодушной, Ты пал без ропота, судьбе твоей послушный; Ты мыслил… И презрел и зависть, и любовь! Как царственный орел, могучий сын эфира, Один всевидящий ты взор имел для мира,— И этот взор был: смерть и кровь! Внезапно овладеть победной колесницей, Вселенную потрясть могучею десницей, Попрать одной ногой трибунов и царей, Сковать ярмо любви из зависти коварной, Заставить трепетать народ неблагодарный, Освобожденный от цепей! Быть века своего и мыслию и жизнью, Кинжалы притупить, рассеять бунт в отчизне, Разрушить и создать всемирные столпы, Под заревом громов, надежды неизменной Оспорить у богов владычество вселенной… О сон!.. О дивные судьбы́!.. Ты пал однако, пал — на пиршестве великом, И плащ властительный ты на утесе диком Увидел наконец растерзанный врагом — И рок, единый бог, в которого ты верил, Из жалости сажень земли тебе отмерил Между могилой и венцом. О, если б я постиг глубокие мечтанья, Ужасные плоды того воспоминанья, Которое тебя покинуть не могло!.. На доблестную грудь бездейственные руки Ты складывал крестом, и тягостные муки Мрачили грозное чело! Как пастырь на брегу реки уединенной, Завидя тень свою в волне одушевленной, Следит ее вблизи и в недрах глубины — Так точно на скале, печальный и угрюмый, Ты гордо вызывал торжественною думой Дни величавой старины, И, радуя твои внимательные взоры, В роскошной красоте текли они как горы, И слух твой утешал их ропот вековой, И каждая волна, блестящую картину Раскинув пред тобой, скрывалася в пучину, И ты летел за ней душой. Вот здесь ты на мосту, в огне, перед громами; Там степи заметал враждебными чалмами; Там стонет Иордан, узрев тебя в волнах; Там горы подавил стопой неодолимой; Там скипетр обменил твой меч непобедимый, А здесь… Но что за чудный страх? Зачем ты отвратил испуганные очи? Бледно твое чело!.. Скажи, во мраке ночи, Что бурная волна к стопам твоим несет?.. Не тяжкой ли войны печальные картины, Не кровью ли врагов обмытые долины? Но слава, слава всё сотрет. Загладит всё она — всё, кроме преступленья; Но перст ее, но перст… Он кажет жертву мщенья — Труп юноши в крови!.. И мутная волна Несла его, несла и снова возвращалась, И, будто судия, к убийце обращалась С ужасной повестью она! А он, как заклеймен печатью громовою, Он быстро закрывал чело свое рукою, Но кровь из-под руки прозрачно и светло Являлась и текла струей неукротимой; Багровое пятно, как царской диадимой, Венчало бледное чело. И вот, тиран, и вот за это вероломство Восстанет на тебя правдивое потомство: Кровавого пятна ничто не истребит! Ты выше и славней соперника Помпея, Но кто, скажи мне, кто и Мария-злодея В тебе невольно не узрит?.. И умер наконец ты смертию народной, Уснул, как селянин на пажити бесплодной, Без платы за труды, с притупленной косой! Мечом вооружась, как будто для осады, У вышнего просить суда или награды Явился ты с твоей рукой. В последние часы, болезнью изнуренный, Один с своим умом пред тайной сокровенной, Казалось, он искал чего-то в небесах; Невнятно лепетал язык его суровый, Хотел произнести неведомое слово, Но замер голос на устах!.. Окончи — это бог, владыка тьмы и славы, Царь жизни и смертей! Он силу и державы Вручает и назад торжественно берет!.. Ответствуй… Он один поймет непостижимых; Он судит и казнит царей несправедливых, Ему рабы дают отчет. Но гроб его закрыт!.. Он там уже… Молчанье! Пред богом на весах добро и злодеянье!.. Он там!.. С лица земли исчез великий муж!.. О боже, кто постиг пути твоих велений? Что значит человек? Увы, быть может, гений Есть добродетель падших душ. <1833>ИЗ ПАНАРА
121. Песня
Как смешон, Неумен Муж ревнивый, Неучтивый! Как хотеть Завладеть Лишь ему Одному (Без причины) И рукой, И душой Половины! Хоть сердись, Хоть бранись, Коль захочется Амуру, То жена, Сатана, Изомнет твою фризуру! Будешь горестно рыдать, Будешь лоб свой проклинать,— Но напрасно! Не найдешь себе утех И услышишь только смех Повсечасный. Станут дыбом волоса, Коль споют тебе в глаза Песенку такую, Хитрую и злую: Как смешон, Неумен Муж ревнивый, Неучтивый! Как хотеть Завладеть Лишь ему Одному (Без причины) И рукой, И душой Половины! <1829>ИЗ ГЮГО
122. Лунный свет
В вода́х полусонных играла луна. Гарем освежило дыханье свободы; На ясное небо, на светлые воды Султанша в раздумье глядит из окна. Внезапно гитара в руке замерла, Как будто протяжный и жалобный ропот Раздался над морем!.. Не конский ли топот, Не шум ли глухой удалого весла? Не птица ли ночи широким крылом Рассе́кла зыбучей волны половину? Не дух ли лукавый морскую пучину Тревожит, бессонный, в покое ночном?.. Кто нагло смеется над робостью жен? Кто море волнует?.. Не демон лукавый, Не тяжкие весла ладьи величавой, Не птица ночная!.. Откуда же он, Откуда протяжный и жалобный стон? Вот грозный мешок!.. Голубая волна В нем члены живые и топит, и носит, И будто пощады у варваров просит… В водах полусонных играла луна. <1833>123. Гимн Нерона
Nescio quid molle atque facetum.
Horac<ius>[114]1
Друзья! Не мудрым угрожает Тяжелой скуки длинный час! Вам пир роскошный предлагает Нерон и консул в третий раз, Нерон, владыка полумира, В руках которого гремит Перун и греческая лира, Животворящая гранит.2
Услышьте голос мой призывный! Нет, никогда и слух и взор Не услаждали вы так дивно, Паллас и милый Агенор! Ни эти шумные обеды, Где наш Сенека заседал И чаши дружеской беседы Вином фалернским наполнял.3
Ни вечера, когда Аглая, В галере легкой и цветной, Пленяла нас, полунагая, Своей волшебною красой! Ни цирк воинственно-мятежный, Где сонмы гнусные рабов Встречались с смертью неизбежной Между когтями диких львов.4
Ко мне! Мы с верху этой башни В огне увидим целый Рим! Что зубы тигра! Пламень страшный, Как самый ад, неодолим! Я образую цирк широкой Между семи священных гор, Где озарится в тьме глубокой Весь Рим, как светлый метеор!5
Так — мира сильный обладатель Досуг печальный усладит! Так — землю он, как бог-каратель, Перуном грозным поразит! Но время! Гидра огневая Шумит торжественным крылом,— И вот, хребет свой извивая, Зарделась в сумраке ночном.6
Смотрите! Вот, она не дремлет! И блеск и дым — ее бойцы! И будто с ласкою объемлет Она и стены и дворцы. О, для чего мои лобзанья, Как пламень серный, не горят, Не могут в душу лить страданья, Не пожирают — не мертвят?7
Внемлите голосу молений И воплю старцев и детей! Смотрите: бледные как тени Они мелькают средь огней! Колонны, двери золотые Трещат, колеблются, падут И в волны Тибра голубые С рекою бронзовой текут.8
И гибнут в лавах бесконечных Порфир, и мрамор, и гранит — И вас, о статуи предвечных, Победный пламень не щадит! Руководим моею волей, Он всё до хижин обоймет, И аквилон в широком поле Останки Рима разнесет.9
Прости, надменный Капитолий! Нерон сказал — и совершит! Вот арка Силлы! Грозной доли Теперь она не избежит! Пылают портики и храмы, Весь Рим! Властительный Зевес, Ужели эти фимиамы Не достигают до небес?10
И что пророчества Сивиллы, И где судьба семи долин? Она сказала: «Вражьи силы Тебя возвысят, исполин! О Рим, удел твой — бесконечность! Ты сын бессмертья и веков!» Друзья мои! Вся эта вечность Продлится несколько часов!11
Прекрасны пламенные воды! Тебя я понял, Герострат! Повсюду вас, мои народы, Они, как змеи, окружат! Освободите от короны Мое горящее чело! Венок мой свежий, благовонный Золой и пеплом занесло!12
Окровавле́нные одежды Вином душистым обольем! Одни безумные невежды Облиты кровью за столом! В высоких, сильных наслажденьях Забудем злобную игру И станем жить не в сожаленьях, Но в упоенье на пиру!13
Я наказую Рим державный! Я омрачу его звезду! Он жертвы робкие бесславно Приносит Зевсу и Христу! Что ж алтарей не воздвигают И мне, властителю рабов, Когда вседневно умножает Число героев и рабов!14
Я уничтожу Рим — и, смелый, Восстановлю его опять! Но христиане!.. Копья, стрелы Должны их всюду поражать! На смерть их всех — на поруганья! Они зажгли великий Рим! Гей, раб мой! Где благоуханья? Мне запах дыма нестерпим! <1837>124. Пир духов
Hic chorus ingens
… lolit orgia.
Avienus.[115] Смотрите, как над черными стенами Сокрытого во мгле монастыря Дрожит луна неверными лучами, Как будто страх невольный затая. Дух полночи коснулся диких башен И, овладев чугунным языком, Двенадцать раз, торжественен и страшен, Пронес свой гул в безмолвии ночном. Грохочет он в пространстве необъятном, Звучит, ревет протяжно этот гул, Как ярый лев под острием булатным,— И наконец, ослабленный, уснул. Внимайте! Где? Откуда эти стоны И вопль и вой? Какой ужасный вид: Гранитный дом, верхи его, колонны И весь он, весь блистанием облит; И вспенилась, и бьет вода святая, Как белый ключ в сосуде вековом, И между тем как лава огневая Везде кипит в мерцанье голубом,— Рыданья, свист, неистовые клики Со всех сторон внезапно раздались… И злых духо́в торжественные лики Из вод и гор в обитель принеслись! Волшебницы, вампиры, змеи, гномы, Чудовища — исчадья Сатаны, Гремящие скелеты и фантомы, И мрачные безбожия сыны, Лукавые, как адские обманы, С таинственной тиарой на челе, В магических покровах некроманы, И сонмы ведьм, проклятых на земле, И демонов клубящиеся волны — Сквозь трещины и окон и дверей В священный дом, пустынный и безмолвный, Внеслись как вихрь при зареве огней! Вот Люцифер, их грозный повелитель; В порфире он, в короне золотой, И на алтарь святыни, осквернитель, Он наступил преступною пятой. О ужас! Вот их хоры загремели На месте том, где бодрствует сам бог: Рука с рукой, стремясь к нечистой цели, Они сошлись, как бездна и порок… Как смерть и грех… и демонские пляски Вдруг начались!.. По очереди глаз Встречает их кружащиеся маски, Все дивные в полночный этот час. Смотря на них, представить смело можно, Что самый ад, рассея вечный мрак, Вращает здесь с орги́ею тревожной Свой пагубный и страшный зодиак. Все в цепь одну свилися неразрывно, И Сатаны услышан глас призывный!.. И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. Хор демонов Безобразною толпой, Без порядка и разбора, В кликах радостного хора Мы забудем век позора, О наш царь, перед тобой! Это время — время мира, И багровая порфира На плече твоем средь пира Блещет райской красотой. И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. О, стекайтесь же на пир, Наши сестры, наши братья, Заклейменные печатью Громогласного проклятья,— Здесь другой, отрадный мир! Вы, суровые мегеры, Без надежды и без веры, Бросьте темные пещеры И почтите свой кумир! И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. Приноситесь же сюда, Торжествуйте вместе с нами: Карлы с козьими ногами И с кровавыми устами Гробовыходцев толпа! Вы, седые кровопийцы, Заговорщицы, убийцы, Что не мчат вас кобылицы Без узды и без седла? И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. И сатиры, и козлы, И русалки молодые, Соблазнительницы злые, Бросьте волны голубые, Бросьте темные углы. И кагалом беспокойным, Разноцветным и нестройным, Воспоем хвалу достойным Нашей демонской хвалы. И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. Пусть же в грозный этот час Проповедник волхвованья Воскурит благоуханья Не блюстителю созданья, Отвергающему нас, Но владыке нашей жизни, Аду — ярости отчизне, Где в огне и в укоризне Луч бессмертья не угас! И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. И могущий Сатана, Издеваясь над святыней, Полон мести и гордыни, Произносит как в пустыне Здесь ужасные слова. Взор отчаянья он мещет, Но не бледен, не трепещет Перед книгою, где блещет Имя: вечный Егова! И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. И, восставши из гробов, С жизнью новой и тревожной, Пусть хулит неосторожно Дух лукавый и безбожный Веру дедов и отцов. И под ризою священной, Блеском ада озаренной, Пусть смеется дерзновенно Над создателем миров. И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. Вас заметит Сатана! Вы тяжелыми руками Непонятными чертами Начертите между нами Слово тьмы: Абракарда́! Птицы ночи и боязни, Прилетайте же — не казни, Но веселью, но приязни Эта ночь посвящена! И мерные звуки их тяжких шагов Тревожат унылый покой мертвецов. Вот знамение чудес, Вот и клятва роковая: Пусть невинная, святая, С сей поры душа живая Не достигнет до небес! Но чтоб луч надежды ясной Для отшельницы прекрасной В мраке вечности ужасной Потерялся и исчез! Заря осветила туманное зданье, Сокрылись виденья и сонмы духов! Опять воцарились и сон и молчанье, Ничто не тревожит покоя гробов. <1837>125. Людовик XVII
Проснись, Капет!
1
В то время небеса отверзлись голубые; В святой святых огни, как лавы золотые, Мгновенно разлились в блистаньях неземных. И праведных мужей божественные сонмы Узрели юный дух, к предвечному несомый На крыльях ангелов младых! То был младенца лик, прекрасный, лучезарный, Бегущий навсегда земли неблагодарной, Под сению кудрей, с алмазною слезой. И с гимном торжества фаланги дев избранных Украсили венком из роз благоуханных Чело, объятое тоской!2
И голоса рекли из облака в то время: «Блаженствуй, юный дух! От тягостного бремя Бог крепости и сил Тебя освободил! А вы, архангелы, пророки, херувимы, Склонитесь перед ним: он царь! Воспойте — без вины злодеями гонимый, Он заслужил страдальческий алтарь!» «Но где я царствовал? — спросила тень младая.— Я узник, я не царь! Давно ли тень ночная С темницей, мрачной и сырой, Меня внезапно разлучила? Скажи же, бог, владыко мой, Когда я царствовал? Темница мне могила; Отец мой пал от злобы палачей, Я — сирота; в кругу людей Давно, давно меня забыли; Меня всего священного лишили; Я мать свою ищу всегда в приятных снах, Я видел здесь ее, на светлых небесах!» Архангелы в ответ: «Творец чадолюбивый Извлек тебя из бездны нечестивой, Воззвал к себе из страшных мест, Где царствуют тираны, кровопийцы, Где нарушают мир гробов цареубийцы И попирают дивный крест!» «Итак, — он говорил, — моей суровой жизни Я кончил длинный путь! Итак, посол обид, Покоя моего на лоне сей отчизны Тюремный страж не возмутит! У бога я просил в печали утешенья, Ужели он мольбе моей внимал? Ужели умер я — и цепь порабощенья С моею смертью разорвал? О, верьте мне! Я был достоин сожаленья! День каждый приносил мне лютые мученья! Когда же, слез моих не в силах затаить, Я плакал, — то один, без матери любимой, Которая б могла мой жребий нестерпимый Одной улыбкою смягчить! Невинный и младой — весь ужас угнетенья Я, как злодей, переносил, И никогда не знал, какие преступленья Я в колыбели совершил! И между тем пред казнью этой вечной, Мне помнится, внимал я в сладкой тишине И гласам торжества и славы бесконечной, И доблестный народ эгидою был мне. И вдруг покрылось всё непостижимой тайной: Я стал добычею оков, И на земле, как лист, поблекший и случайный, Был подавле́н пятой врагов! И бросили меня с глаголами проклятий В темницу — далеко от солнечных лучей, Но вы знакомы мне, о сонмы милых братий, Вы часто надо мной вились во тьме ночей! Под кровожадными руками Моя весна, о бог мой, отцвела, Но я за них молю тебя с слезами, Прости им злобные дела!» И пели ангелы: «С небесного ковчега Завеса пала пред тобой; Дух юный, приими крыле белее снега, Лазурней тверди голубой. Ты наш! Младенческие слезы Мы будем вместе собирать, И солнцев золотых пылающие розы Дыханьем светлым обновлять!»3
Умолк чудесный хор! Избра́нные внимали: Страдалец преклонил невинную главу, И вдруг среди небес миров мильоны стали, Услышан глас — и все познали Егову! «О царь! Я даровал удел тебе суровый! Носил ты на земле не скипетр, а оковы. Но их, мой сын, благослови! Я врезал их в твои младенческие руки, Но юное чело избавлено от муки И от короны — не в крови! Дитя, ты изнемог под бременем страданий — Меж тем когда цветы прекрасных ожиданий Росли вокруг твоих пелен. Но помни: вечный бог, спаситель твой могучий, Мой сын и царь, как ты, носил венец колючий — И крест был праведнику трон!» <1837>126. Воспоминания детства
Мне было восемь лет, когда Наполеон Однажды пробегал народный Пантеон. Чтоб видеть мужа битв, увенчанного славой, От глаз моей родной укрылся я лукаво, Как молодой птенец от материнских крыл. Герой уже давно мой ум воспламенил: Мне чудились его сраженья и победы. Младенец, заводил я пылкие беседы О подвигах мечей под заревом огня; И мать моя в толпе страшилась за меня. И между тем, когда властитель знаменитый Явился, окружен блистательною свитой, И дети робкие шептали матерям: «Ужели это он, столь грозный королям?» — Непостижимый страх, невольный и священный, Внезапно оковал мой дух воспламененный. Ни шум народных волн, рассыпанных за ним, Подобно спутникам за солнцем золотым, Ни шляпа ветхая, светлей короны славной, Мелькавшая в толпах на голове державной, Ни сонмы данников, читавших приговор На иглах золотых его гремучих шпор, Ни эти старые, седые гренадеры, Колонны твердые его великой сферы, Безмолвные с трудом, при кликах торжества, Как будто пред лицом земного божества, Ни этот пышный град коленопреклоненный, Лишь думой о любви к отчизне оживленный, Ни этот звучный хор — великий гимн побед: «Спасем и сохраним империю от бед!» — Ни всё великое, печатью вдохновенья Вонзенное в сердца, исполненные рвенья К отчизне и к нему, могло меня сразить, Наполнить грудь мою каким-то исступленьем,— О нет, о нет, с другим, живейшим впечатленьем Торжественного дня я вышел из толпы! Я помню этот миг: муж славы и судьбы, Скучая торжеством, как жертвой бесполезной, Прошел суров и нем, как полубог железный! И вечером, когда упал уже с отца Воинственный доспех старинного бойца,— Играя золотым, блестящим эполетом, Я робко предложил вопрос ему об этом Возвышенном челе, объятом тишиной; Отец не отвечал, поникнув головой. Но часто наша мысль волною разноцветной Струится в памяти, и след ее заветный, В волнении страстей, в бездейственной тиши, Врезается, как тень, во глубину души. Однажды вечером, под солнечным закатом, Когда по небесам, сияющая златом, Роскошно разлилась вечерняя заря, Как чистый фимиам небесного царя, Вдали от суеты столицы раскаленной, Отец увлек меня на холм уединенный, И там пленялись мы надзвездной красотой,— Я снова был объят знакомою мечтой… И с грустию в душе, как зеркало прозрачной, Невинно повторил вопрос мой неудачный: «Скажи, — я говорил, — скажи мне, отчего Посланник божества, владыка, царь всего, Герой Наполеон, унылый и печальный, Мелькал среди толпы, как факел погребальный?» Тогда, мое чело открытое обняв, На дальний небосклон с улыбкой показав, «Мой сын, — ответил он, — не думай, что немая Холодная земля — как масса гробовая, Бесплодна и мертва! О, верь! Живет она, Как воздух и огонь, как бурная волна! Всё дышит бытием в груди ее могучей И движется, как вихрь молниеносной тучи, Когда она висит, сурова и грозна! Растений и плодов златые семена И днем и по ночам, как змеи молодые, Пронзают ей лицо и ребра вековые, Вокруг ее сосцов вращаются, кипят И миллионом уст их, жадные, суша́т! Внутри ее горит неугасимый пламень: То образует он неоцененный камень, То влагу обратит в пленительный кристалл, То, в мраке растопив блистательный металл, Порою разольет рекою многоцветной Его над головой неодолимой Этны!.. И, мать великая бесчувственных сынов, Для них она всегда под бременем трудов. Под ризою ночей, как гении свободы, Струятся из нее целительные воды,— И обнимает всё десницею своей Она — и плющ, и кедр, и нивы, и людей! Смотри же: всё на ней прекрасно и спокойно. Не может ей вредить ни вихрь, ни пламень знойный. Румяные плоды вокруг ее чела! Всё тихо, но меж тем, когда пучина зла В ее груди таится и не плещет, Быть может, тысяча рабов трепещет, И нивы злачные без цвета и одежд Предстанут пред лицо обманутых надежд!.. Так действует душа глубокая поэта, Когда, холодная и мертвая для света, Творит она свой мир, как мощный ураган. Так воин в тишине обдумывает план. Их грудь напоена зиждительною лавой, Которая зажжет зарницей величавой В определенный час пространный небосклон. Но час еще далек! Таков Наполеон, Одевший рамена державной багряницей, Влекущий за своей победной колесницей Народы и царей на поприще войны,— Безмолвны перед ним великие страны! И что же? Удручен таинственною думой, Ты видел, он прошел безмолвный и угрюмый,— Быть может, о мой сын, давно его чело Грядущие судьбы из мрака извлекло! Быть может, мыслию пророческой томимый, Полсвета подарил он Франции любимой И зрит уже Берлин, и Вену, и Милан, И Лондон, и Мадрид, и древний Ватикан, Несущие к нему торжественные дани. Закон и меч в его непобедимой длани! Колеблется земля под тронами царей, И между ними вдруг глава богатырей, Закованный в броню, как призрак Оссиана, Вселенной предстает с державой Карломана, И между тем, когда в уме его растет Великих подвигов грядущий перио́д, Несметные толпы бойцов неустрашимых Рождаются, идут в рядах неодолимых. Конскрипт, охотник — всё подъемлется, шумит, Призывный барабан пред ставками гремит, Железом, бронзою все площади покрыты, На верфи исполин колеблется маститый, Ядро покоится в убийственном жерле, И флоты на морях, и войско на земле! Его стихия — гром, военная тревога, И, может быть, в душе земного полубога, В таинственной душе, сокрытой от людей, Создался новый мир из солнечных лучей». В другие времена, увенчанного славой, Как Цезаря, в стенах столицы величавой Увидел я опять избранного судьбой!.. Пророчество отца уж не было мечтой: Как прежде, перед ним курились фимиамы, Но думы грозные и замысел упрямый Виднелись на его возвышенном челе, Как черные пары на зе́ркальном стекле; За ним текли его когорты, легионы, Сто золотых орлов, развитые знамена, Огромные уста орудий боевых Тянулись посреди широких мостовых, Сурово преклонясь на тяжкие лафеты, Но скоро дивный блеск таинственной кометы Исчез и потонул в блистательной пыли. Наполеон прошел… И между тем вдали При имени его, стократно повторенном И пушками в толпах народа разнесенном, Гремел, не умолкал язык колоколов, Сливаясь с тысячью приветных голосов, И громко славила великая столица В то время своего великого любимца!.. 16–17 июня 1837ИЗ ДЕЛАВИНЯ
127. Троянки Кантата
Ἄλλ ὦ τῶν χαλχεγχέων Τρώων
Ἄλοχοι μέλεαι,
Καὶ χοῦραι δύσνυμφοι,
Τύϕεται Ἴλὶον αἶάζωμεν.[116]
Еврипид Троянки пленные на бреге Симонса Страдальческой толпой Воспоминали дни беспечности святой, Которые для них так быстро пронеслися. С слезами на очах, С челом, увядшим от печали, Они на Илион разрушенный взирали, И грусть их излилась в унылых голосах. Хор Отечество рабов, погибшая держава, Исчез твой блеск, померкла слава! Троянка Царей соседственных надежда и оплот, Как часто Илион был верной их защитой! Бесчисленный народ, Как волны, наполнял сей город знаменитый; Полет губительный веков Коснуться не дерзал его огромных башен; Возникший из земли велением богов, Верхами храмов и дворцов Касался он, как полубог бесстрашен, Обители твоих божественных творцов. Другая И пятьдесят сынов — честь Трои — Сидели на пиру у доброго отца, И старец изливал веселие в сердца И верил в счастие земное, Не видя счастию конца! Другая Надежда царственного дома, О Гектор, ты приемлешь щит; Железом грудь твоя блестит; Перо с тяжелого шелома Чело высокое сенит. Перед Гекубой устрашенной На играх меч твой засверкал, И лавр победный увенчал Твою главу, непобежденный. Прими, Гекуба, сей венок, Надежды радостной залог, Из рук любимого героя… Увы, преступный сын и брат Вновь обнажат его булат… Но игры грозные тогда увидит Троя! Юная дева Так Поликсена молодым Своим подругам говорила: «Для нас весна под небом голубым Благоухание разлила; Для нас и игры и цветы…» Увы, она не говорила: «На этих берегах, где в блеске красоты Цвету я жизнью безмятежной, Оплачут жребий мой жестокий, неизбежный!» Своим подругам никогда Она не говорила: «Я кровью орошу прекрасные места, Где с вами игры я делила, Среди несорванных цветов Мне гроб безвременный готов!» Хор Отечество рабов, погибшая держава, Исчез твой блеск, померкла слава! Троянка Что за корабль на белых парусах Скользит по влаге моря сонной? Его как будто на крылах Амур лелеет благосклонный. Другая Он в наши стены мчит раздор, Убийство, гибель и позор! О бог морей, Нептун, отмсти прелюбодею! Властительный Зевес, Сошли твой ярый гром и молнию с небес Навстречу хищнику злодею! Троянка Но нет, труба звучит, Железо засверкало, Трещат скалы́, упал разрушенный гранит; Кровь льется, туча стрел и копий засвистала… Там колесница, там боец Встречают в тесноте свой жалостный конец, И смерть запировала! Ужасный вид: Гроза в боях, Ахилл летит — И всё во прах! Пред ним боязнь, За ним вослед Позор, и казнь, И море бед… Внезапный страх У всех в очах: На поле брани С мечом во длани Стоит один Против Зевеса И Ахиллеса Приамов сын! Другая Несчастные троянки, Омойте чистою водой Его священные останки. Пал Гектор, пал герой!.. Где амбра, аромат, мастики и куренья? Пусть вкруг его костра гремит ваш жалкий стон, Сливаясь с песнию живою сожаленья!.. Трояне, воины, уж нет его!.. Вот он!.. Кропите жаркими слезами Прах сына славы и побед!.. Хор Венчайте, девы, гроб великого цветами… Приам идет за сыном вслед… Троянка Ты спишь, о Илион, и с радостью жестокой Ликует Пирр в твоих стенах; Как тигры алчные в глуши далекой, Повсюду нанося отчаянье и страх, Свирепствуют сыны торжественной Эллады. Другая Разгонит ветр ночную тень, Аргос осветит ясный день, Но Трою — мрачный, без отрады! Троянка О ночь ужасная, коварный сон! Зачем вокруг меня мелькают привиденья? Откуда тусклый блеск, и зверский вопль, и стон? Как бедственна минута пробужденья!.. Юная троянка Мой брат Стенеллом умерщвлен. Другая Сестра моя в огне Аяксовых объятий. Другая К Улиссовым стопам отец мой низложен. Троянка О, день позора, день проклятий!.. Дворцы разграблены, святыня сожжена; Младенцы, сестры, девы, жены Под меч иль в плен без обороны… Одна могила всем гражда́нам суждена!.. Другая Простите вы, поля родныя Трои, Угасший род царей, погибшие герои, Святой отчизны красота, И Ида с пышными холмами, И солнце светлое с родными небесами, Простите навсегда!.. Троянка Лесов и мраков грозный житель, Тигр алчный к той долине подойдет, Где некогда травой святыня зарастет, И осквернит его приход Богов старинную обитель. Другая И пастырь Иды молчалив. В развалинах священных, Под тенью лавров и олив, Троянской кровью обагренных, Где стонет в сонме убиенных Приама-мученика тень,— Придет искать следов разрушенной державы, Гробницы Гектора, а над могилой славы Играет между тем блуждающий елень… Другая А мы, несчастные останки разрушенья, В слезах пройдет наш грустный век, Волной обиды и презренья Нас море выбросит на чужеземный брег. Другая Узрим пиры врагов; с мучительным позором Мы уготовим им столы; Укажут жены их с улыбкой и укором На наши робкие, покорные главы; И в чашах золотых, в которых наши деды Пивали некогда за вольность и любовь, Мы будем подносить для наглой их беседы Вино, разврат и нашу кровь… Троянка Воспойте Илион, отверженный богами, Воспойте, скажут нам, ничтожные рабы! Пусть гимны Трои между нами Гремят велением судьбы!.. О реки Илиона, Мы пели радостно на ваших берегах, Когда вокруг отеческого трона Кипел с веселием в сердцах Народ, любимый небесами, В войну и в тишине прославленный землями, Но гимн троянский, гимн неволи роковой, Не огласит земли чужой!.. Другая Ты хочешь слышать песнь рабыни, Бесчувственный народ? Отдай нам матерей, Отдай отцов, детей, и братьев, и мужей, Исторгни Илион из жалостной пустыни, В которую его умел ты превратить! Но если власть твоя не в силах возвратить Величия сожженного Пергама, Когда не можешь оживить Сынов и воинов Приама,— Послушай плач, — а гимн неволи роковой Не огласит страны чужой!.. Хор Простите ж вы, поля родныя Трои, Угасший род царей, погибшие герои, Святой отчизны красота, И Ида с пышными холмами, И солнце светлое с родными небесами, Простите навсегда!.. <1833>ИЗ ЛЕГУВЕ
128. Фалерий
СЦЕНА 1
Комната, обитая черным бархатом.
Плакальщицы: Мессения, Ефрозина и Лукреция и Распорядитель похорон.
Распорядитель Готовы ли? Пора! Последуйте за мной С слезами на глазах, с поникшей головой, Как тени светлые в одеждах погребальных. Мертвец уже в гробу, среди рабов печальных; С оливной ветвию стоит унылый сын — За дело! Мессения Но цена, награда, господин? Распорядитель Цена вам двадцать драхм. Мессения Возможно ль? Исступленье, Отчаянье и плач за это награжденье? Распорядитель Даю вам тридцать, но исполнить договор: Чтоб было всё — и вопль, и бешенство, и взор, И поступь грозная вакханки безнадежной; Раскинуть волосы по груди белоснежной — И крови… Мессения Вот она, священная игла,— Она не пощадит ни тела, ни чела, Но кровь — не слезы: нет, слезами мы богаты, Мы требуем за кровь всегда особой платы. Распорядитель Согласен, но зато с удвоенной ценой Растрогайте народ удвоенной тоской. Мессения Поверь, не заслужу холодного упрека; Я слишком тронута судьбою человека, Лежащего в гробу. Сто драхм — и мы идем. Распорядитель Э, полно! Шестьдесят. Мессения Готовы!СЦЕНА 2
Плакальщицы и Фалерий.
Мессения Так начнем — Сперва Лукреция, за нею Ефрозина, И после — я. Лукреция (поет) Увы, несчастная кончина! Он пал, муж брани и мечей… Греми, греми, мой стон, теките из очей Потоки слез красноречивых! Когда ваш гром из облаков, О сонмы праведных богов, Устанет поражать главы непобедимых, Главы, достойные венков, Мужей, землей боготворимых Без алтарей, — полубогов? Мессения (тихо Ефрозине) Я думаю, для вас Евфимий не скупился Сегодня поутру? Ефрозина О нет! Он расплатился За вина и плоды. Одно его гнетет: Торговка с этих пор уж в долг не продает… (Заметив, что Лукреция кончила.) Увы! Безвременные дани С земли уносят небеса, И смерти гибельные длани Зияют там, где юность и краса Под сенью славы и надежды Цветут для будущих времен! О, для чего сомкнулись вежды Того, который был бессмертью обречен? Лукреция (Мессении) Но где же ты была? Мессения Вчера?.. Ах, как счастливо Я вечер провела! Сначала прихотливо Мне Фидий по реке катанье предложил — Мы плавали; потом… он, право, очень мил!.. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 1830-е годы129. Последний день Помпеи
Печальна и бледна, с высокого балкона В полночной тишине внимала Дездемона Напеву дальнему беспечного гребца, И взор ее искал гондолы невиди́мой, С которой тихий звук гармонии любимой К ней долетал, как звук пернатого певца. И, грустная, она блуждающее око Вперяла на ладью, мелькавшую далёко В пространстве голубом, над сонною волной, Лишь изредка во мгле звездою озаренной, Как будто мрак души, внезапно освещенный Надежды и любви отрадною мечтой. Всё скрылось, но она была еще вниманье… Неистовой любви безумное страданье Приходит ей на мысль — на арфе золотой Поет она судьбу Изоры несчастливой. И ей ли не понять тоски красноречивой, Когда она поет удел свой роковой? Потом, напечатлев с улыбкою прощальной Лобзанье на челе наперсницы печальной, «Прости!» — сказала ей с слезою на очах И после, предана неизъяснимой муке, Воздела к небесам младенческие руки И пала пред лицом всевышнего во прах… И, полная надежд и тайных ожиданий, Отрады и тоски, молитвы и страданий, На ложе мрачных дум и девственной мечты Идет она, склонив задумчивые взоры,— И долго, долго тень унылая Изоры Вилася над главой уснувшей красоты. И как спала она в беспечности небрежной! Как ласково у ней по груди белоснежной Рассыпалась волна гебеновых кудрей, Как пышно и легко покровы золотые Лелеяли и стан и формы молодые — Создания любви и пламенных страстей!.. Порой мятежный сон тревожил Дездемону; Она была в огне, и вздох, подобный стону, Невольно вылетал из трепетной груди, И яркая слеза, как юная зарница В туманных небесах, скатившись по реснице, Скользила и вилась вокруг ее руки. Прорезав облаков полночных покрывало, Казалося, луна с участием взирала На бледные черты прекрасного лица, Как бы на памятник безвременной могилы Или на горлицу, уснувшую уныло Под сетью роковой жестокого ловца… О, как она была божественно прекрасна! Руками белыми обвивши сладострастно Лилейное чело, как греческий амфор, Как трогательно всё в ней душу выражало, Как всё вокруг нее невинностью дышало — Кто мог бы произнесть ей грозный приговор?.. И вдруг глубокое молчанье Прервал глухой, протяжный гул, Как будто крылья размахнул Орел на бранное призванье, Иль раздалось издалека Рыканье тигра роковое, Который бил, от злобы воя, Громады знойного песка. То был Отелло, мрачный, дикой, Вошедший медленно в покой,— Бродящий с страшною улыбкой Вокруг страдалицы младой. Внезапный шум во мраке ночи Тогда извлек ее от сна: Подняв чело, открывши очи, Невинной роскоши полна, Еще с печатью сновидений На отуманенном челе, Полна тоски и наслаждений, Как юный ангел на земле, Она глядит и видит… Боже! Свирепый, бледный, как злодей, Бросая мутный взор на ложе, Стоит Отелло перед ней, Отелло с сталью обнаженной, Отелло с молнией в очах, Отелло с громом на устах: «Погибель женщине презренной!..» Бледна как смерть, она встает — Бежит, но он рукой железной Предупреждает бесполезный И поздновременный уход: Бессильную, полуживую, Ожесточенный не щадит, И вспять он жертву молодую На ложе брачное влачит… Напрасны слезы и моленья, Напрасно в власти у врага Стан, полный неги, наслажденья, Вился и бился как волна… Не слышит он ее стенанья: Он душит мощною рукой Красу подлунного созданья, И Дездемона — труп холодный и немой… Так некогда, дыша прохладой ночи ясной Под небом голубым Италии прекрасной, Внимая шуму волн на берегу морском, На ложе из цветов, под миртовою тенью Раскинута и вся предавшись наслажденью, Помпея юная была объята сном. Под ризой вечера в груди ее высокой Рождался иногда протяжный и глубокой Стон девственной мечты и тихо замирал; И влажный блеск садов ее ветвистых, Как будто бы венком из волосов душистых, Прелестное чело ей пышно осенял… О, как была она в рассеянье приятном Похожа на звезду под небом благодатным, Простертым с роскошью над ней! С какою негой прихотливой Ей навевал эфир ревнивый На очи тишину и мирный сон детей! О, как была она беспечна и покойна Над влагою морской, раскинутою стройно Под золотом луны вокруг ее дворцов, Над этой влагою прозрачно-голубою, Одетою, как дух, огромной пеленою Из мрака, туч и облаков. О, пробудись, несчастное созданье! Проснись — ужель не слышишь ты Подземной бури завыванье Под страшной ризой темноты? Смотри, смотри — во мраке ночи Зарделись огненные очи; Повсюду гул, и гром, и звук… Беги! То он, неодолимый Волкан — твой пагубный супруг!.. Вот, озаряя свод надзвездный, Встает огромный великан Над истребительною бездной; Взмахнул, как сильный ураган, Своими жгучими крылами И, смертоносными руками Готовясь землю обхватить, С кровавым и отверстым зевом, Пылая яростью и гневом, Тебя идет он поглотить!.. Увы, несчастная Помпея! Ты извиваешься в когтях Убийцы — огненного змея! Как лютый тигр рассвирепев, Играет он своею жертвой, И над бездушной, полумертвой Возлег, открыв широкий зев… Его огни как море плещут, Вокруг колонн, дворцов трепещут И, разливаясь, грозно мещут Везде отчаянье и страх; И пожирает ярый пламень Кристалл, и золото, и камень, Сверкая в молнийных лучах… ……………………………………………… Но я не на челе развалин драгоценных, Но на челе существ, умом одушевленных, В которых жили мысль, и чувства, и сердца, Хочу узреть следы свирепого бойца! На них он отразил с суровостью печальной Чертами дивными свой ужас гениальный. Что падший памятник?.. Разрушенный кумир! Но мертвое чело — идея, целый мир!.. О, дайте ж мне среди грозы и разрушенья Искать у мертвецов восторга вдохновенья И кистью слабою, но резвой и живой Представить страшный вид картины роковой, Унылой, горестной, великой, безотрадной, Которой рамой был Везувий кровожадный!.. Взгляните ж — в дымных облаках Вот мать с младенцем на руках! Едва, залог любви прекрасной, Невинный сын увидел день, Как разлилась над ним ужасно И навсегда ночная тень. Еще младенческие звуки В его устах не раздались, Ни разу трепетные руки Вокруг родной не обвились; Еще сама она впервые Лобзала очи голубые Кумира нежности своей И, превратясь в очарованье, Его невинное дыханье Пила с блаженством матерей… Как вдруг волкан, суровый, дикой, Завыл над светлою четой — И мир ее души с любовью и улыбкой, С слезою на очах и ласкою немой, Угас, как метеор под ризою ночной! А он, ручей блестящий и прозрачный, Едва волну свою разлил, Едва хотел нестись долиной злачной, Как первый вопль его уже последним был! Итак, унылый вид печали безнадежной, Вид женщины с убитою душой, Лишенной счастия быть материю нежной, Невинное дитя, сраженное судьбой При гибели несчастного народа, Волкан, обрушенный, как страшная невзгода На робкую главу, весенний цвет земли, Которого б крыле зефиры унесли,— Всё это для меня ужаснее паденья Высоких пирамид, богатых городов; Их вызовет опять для будущих веков Великий гений просвещенья! Их оживит могучее воззванье, Но кто ей, матери, кто первое лобзанье Младенца сына возвратит?КАРТИНА 1-я
Плиний и Везувий
Плиний Блистай еще, греми, Везувий ненасытный, Открой твоих богатств источник любопытный! Везувий Довольно для тебя разрушенных дворцов, Бунтующих стихий и пламенных валов, Разлитых, как моря, между развалин диких! Плиний О нет, во глубину пучин твоих великих Проникнуть должен мой неустрашимый взор — Увижу, оценю чудес твоих собор!.. Везувий Несчастный, удались! Плиний Но кто ж тебя опишет? Везувий Смотри — мое жерло огнем и пеплом дышит! Плиний Я опишу их! Везувий Прочь, пока твое чело Кипучей лавою еще не обожгло. Плиний Так в ней я омочу перо мое живое И в книге разолью, как пламя огневое! Везувий Смотри: мильон огней я сыплю на тебя!.. Плиний Еще!.. Везувий, вновь!.. Зевес, как счастлив я!.. Заметил дым густой из пропасти безмерной, Поднявшись, разливал над нею запах серный; Как ель высокая, он в воздухе стоял… Блеск молний… Везувий Так умри на ребрах этих скал!.. Плиний Еще!.. Везувий, вновь! Диктуй! Я продолжаю!.. Везувий Надменную главу я снова поражаю! Плиний Я ранен! Кровь бежит из ран моих ручьем… Но пусть! Иду к тебе!.. Я снова над жерлом! Везувий!.. Я беру окровавленный камень. (Пишет.) «Он черен и горяч… его извергнул пламень!» Везувий Ты дальше не пойдешь. Плиний Быть может. Везувий Я сказал: Ты дальше не пойдешь!.. Плиний <падая> Но всё ли я узнал? _____ ………………………………………………………………………… Когда в последний раз бесчувственные вежды Сон вечный тихо осенит, То облачают труп в печальные одежды, И в гробе роковом ничто не говорит, Кого скрывает он под черной пеленою; Лишь руки, на груди лежащие крестом, Колено, голова, рисуемые стройно Прозрачно-тонким полотном, Вещают в тишине, что гость его покойный Был некогда с душой. Так точно и волкан, Как будто удручен печалию немою, Помпею облачил в дымящийся туман И скрыл ее чело под лавой огневою… И где величие погибшей красоты? Всё пепел, уголь, прах — всё истребили боги! Кой-где, освободив главу от пыльной тоги, Разбитый храм унылые мечты Наводит и гласит, как голос эпопеи: «Здесь прах Помпеи!» 1830-е годыИЗ ВОЛЬТЕРА
130. Прощание с жизнью
Посвящено Л. А. Якубовичу
C’est que la mort n’est pas
ce que la foule en pense.[117]
H Итак, прощайте! Скоро, скоро Переселюсь я, наконец, В страну такую, из которой Не возвратился мой отец! Не жду от вас ни сожаленья, Не жду ни слез, мои друзья! Враги мои! Уверен я, Вы тоже с чувством умиленья Во гроб уложите меня! Удел весьма обыкновенный! Когда же в очередь свою И вам придется непременно Сойти в Харонову ладью, Чтоб отыскать в реке забвенья Свои несчастные творенья,— То верьте, милые, и вас Проводят с смехом в добрый час! Когда сыграл на сцене мира Пустую роль свою актер — Тогда с народного кумира Долой мишурная порфира, И свист — безумцу приговор! Болезнью тяжкой изнуренных Я видел много разных лиц: Седых ханжей, седых девиц, Мужей и мудрых и почтенных. Увы! Греховного плода Они вкушали неизбежно — И отходили безмятежно, Никто не ведает куда! Холодный зритель улыбался, Лукавый родственник смеялся; Сатира колким языком Об них минуты две судила, Потом — холодная могила Навек бесчувственным песком Их трупы грешные прикрыла! Скажите ж мне в последний раз, Непостижимые созданья! Куда из круга мирозданья, Куда вы кроетесь от нас?.. Кто этот мир без сожаленья Покинуть может навсегда? Не тот ли, кто без заблужденья, Как неподвижная звезда, Среди воздушного волненья Привык умом своим владеть… И, сын бессмертия и праха, Без суеверия и страха Умеет жить и умереть. 25 ноября 1835 МоскваПРИЛОЖЕНИЕ
131. Рассказ Кузьмы, или Вечер в «Кенигсберге» (Истинная повесть в стихах)
«Черт возьми меня, не стану Без ума я больше пить; Зарекаюсь, перестану Колобродить и шалить! Что за глупое веселье Напиваться как свинья, Это скверное похмелье Мучит дьявольски меня!» — Так на лавочке бульвара Вечерком я рассуждал И от пьяного угара Себя ветром освежал. Ясно-тихая погода Всех манила погулять, И различного народа Стало пропасть набредать. Углубившись в размышленья, Я задумчиво сидел И порой для развлеченья На шатавшихся смотрел. Званья всякого особы Проходили предо мной: Волокиты гузно…, И козлиных рой, И уклюжистые бары, И поджарые, как стень, И армяне, и бухары, И с супружницей олень, И с красоткою счастливец, И с лорнетом молодец, И изнеженный спесивец, И стыдливый, и наглец, И блондинка, и брюнетка, И горбатый, и косой, И купчиха, и кокетка, И разряженный портной, И …… старушка, И бонтонная мамзель. Тот верти́тся, как вертушка, Тот жужжит, как будто шмель, Тот красуется усами, Тот — малиновым плащом, Тот — с чешуйкою штанами, Тот — кургузым сюртуком, Та — парижским рединготом, Та — платочком на плечах, Та — каштановым капотом, Та — серьгами на ушах. Этот с видом пресыщенья, Эта нехотя глядит, Тот с улыбкой наслажденья, Та гримасой всех дарит, Там идет один печально, Здесь хохочет во всю мочь, Там глаза дерет нахально, Здесь другой воротит прочь. Я Лафатера не знаю И не Галев ученик, Но в минуту отгадаю Человека напрямик. Как кто смотрит, как шагает, Можно лица различать, Мало ль, много ль кто смекает, На лице ума печать. Вот в пример возьмем мы немца, Всей Германии красу, Вся изнанка его сердца На большом его носу. Долговязый, тонконогой, Он идет еще с другим — Нам узнать его недолго — Лишь последуем за ним. Пусть он слова два-три скажет, И он — мой, хоть об заклад; Чем набит он — всё докажет, Вот они и говорят: «Ja, ich werde ihnen sagen! Dort ist Bier — das beste Bier! O, mein Gott! Wir werden fragen Zwei Bouteilen. O, Bier, Bier!»[118] Чу, про пиво — и довольно: Чистый коренной немчин. И подумал я невольно: «Что я тут сижу один? Марш за ними вслед бульваром!» Средь Никитских вдруг ворот Повернувши, немцы с жаром — В «кенигсбергский» славный вход. Вот на лестнице дерутся, Я скорей — они бегут, Оступаются, трясутся Дверь в одышке сильной прут. «Знать, давно друзья не пили»,— Сам с собой я рассуждал. Молодцы меж тем ввалили. «Hier ist Bier!»[119] — один сказал. В залу длинную, большую Я за ними полетел И картину пресмешную, О друзья мои, узрел. Для чего, зачем нарочно Нам в Германию скакать — Мы Германию заочно Можем в герберге узнать. Я ли в гербергах различных И трактирах не бывал, Но нигде таких отличных Еще рожей не видал. Англичане, и французы, И швернуторов полки, Ножки тонкие и пузы, Карлы, спички, толстяки, И отвислые брылища, И гляделки на заказ, Полосатые носища И уроды напоказ, Хромоногие, косые, С костылями и в очках, Красно-рыжие, седые, И с плешьми, и в париках Там и сям везде шатались; Биру клюкнув чересчур, Бормотали и слонялись, Как в курятнике тьма кур. Тот кричит охриплым басом: «Кусьма! Дай путилька пив!», А другой сидит над квасом, Губы в слюнях распустив; Тот, как клюква раскрасневшись, «Lieber Augustin»[120] поет, Тот, салакушей объевшись, И рыгает, и блюет! Муж багряный, сановитый По прозванию Кузьма — Прездоровый, пресердитый, Но любимый там весьма, Руки на спину сложивши, Вдоль по комнате гулял И порою забурливших Вниз по лестнице швырял. Никогда еще злодея Не видали немцы злей. Все, руки его робея, Говорили: «Кузьма, пей!» Как столяр лихой щепами, Он немчинами шутил И не двух уж вверх ногами В этом герберге спустил. Два иль три стакана пива Я Кузьме дал осушить, И Кузьма мне преучтиво Стал тихонько говорить: «Да-с, когда вам знать угодно, Я пять лет уж здесь служу И пять лет, сударь, охотно На швернуторов гляжу. Ах! Довольно с шеи сплыло, Не с большим десятков с пять, Можно б в это время было Мне народу поузнать. Я всю жизнь в трактирах маюсь, Посмотрел того-сего, Но все герберги, признаюсь, Перед этим — ничего. Один черт смешнее немца,— Уморительный народ! Смех от искреннего сердца Тут невольно заберет. Например: зайдите в место, Где все русские сидят,— Как из воску или теста, Словно куколки торчат, А особенно купчищи, Вот отродие козлов! Только гладят бородищи, И не выбьешь пары слов; Так всё скучно, однобразно, Попивают да глядят. А коль сброд сидит приказный, Тут о кляузах твердят. А уж в ерниках-студентах Никогда и не был толк: Тот в латинских документах, Этот — в греческих знаток; Черт их знает, — ходят, бродят, Ни на каплю нет пути, Вздор, трембрень такой городят. Дрянь всё, — господи прости! Ну, а здесь-το то ли дело,— Здесь небось — уж не заснешь. И ручаюсь, сударь, смело: Здесь, что хочешь, то найдешь, Что душа ни пожелает — Всех сословий здесь народ. Кто колбасников не знает — Рубль не даром здесь швырнет: Ведь Москва куда безмерна, А со всех ее концов Каждый вечер непременно Тьма напрет к нам этих псов». — «Ну, скажи же мне, мой милый,— Я Кузьму перехватил,— Кто сей немец есть унылый? Что он, мало пива пил?» Он на немца искосился И с усмешкой отвечал: «Он бы в пояс поклонился, Кто бы квасу ему дал». — «Полно врать, — да ведь ты пиво, А не квас им подаешь?» — «Точно так! Вам это диво, А поверьте, что не ложь! Коль судить нам по доходу, Не по множеству персон, То две части сего сброду Хоть гони по шее вон». — «Как?» — вскричал я в изумленье. «Так, больша́я часть гостей, Если молвить с позволенья,— Без порток и без грошей, Без алтына за душою, Как собаки без двора, Только-только не с сумою Набегут они сюда; Нет ни места, нет ни крова, Нет ни выпить, ни пожрать — В „Кенигсберге“ же готово То и се им, и поспать!» — «Спать и пить и есть без денег, Что ты врешь, нельзя никак!» — «Эх, сударь! Народ умненек. Коль не эдак, так вот так. Например, сударь, заметит Он, что пиво у вас есть,— Так и бьет, сударь, и метит, Чтоб знакомство с вами свесть. Ну, вы с ним заговорите, А он ближе сядет к вам! А потом опорожните И бутылку пополам. Разумеется, не стоит Пятачок вам ничего, Да немчин-то, сударь, строит Вам все куры для того. Выпив пива, ваша милость Пожелает закусить, А закуску с ним учтивость Не велит ли разделить? Нет, сударь, Кузьма Исаич Знает всех наперечет: Это вот Иван Иваныч, Что вприхлебку пиво пьет, Он таковского разряду, Про который я сказал: Может, денег два дни сряду На бутылку собирал; Он не промах: что как нищий Христа ради наберет, То не тратит он для пищи, А к нам в герберг и несет. Видите, сударь, направо От него сидит старик, Брюзглый, длинный, худощавый, Он такой же вот голик; Осип Осипыч прозванье По-российски ему есть; Препустяшное созданье — Ходит редьку сюда есть. Черт их знает, как народы Эти чудные живут: В слякоть, вьюгу, непогоды — Ведь как дома — тут как тут! Уж куда мне не по сердцу, Не отвадишь дряни прочь: Спросит лучку, квасу, перцу Да и спит тут день и ночь В незаплаченном ночлеге. От утра часов с пяти Сего немца в „Кенигсберге“ Можно за полночь найти. Как покойник Карл Иваныч И придет меня просить: „Как бы, брат Кузьма Исаич, С хренком хлебца закусить?“ А какой тот на прокуды И на лясы был мастак, Как шишимора все виды Принимал и так, и сяк!» — «Ну, а это что за штука?» — Я Исаичу сказал И из жира и из тука На тюленя показал. «А, пузан коротконогой, Это — Гофман», — он шепнул. (Тут студент один немного Его в рыло не махнул.) «Он преважную фигуру Представляет из себя, А не видит того сдуру, Что он — пошлая свинья. Он ужасного барона Роль желает разыграть, А уж доброго трезвона Молодцу не миновать! Вот Арман, француз почтенный; Должно правду говорить: Каждый вечер непременно Ходит пиво сюда пить. Толстопузый же детина, Что с ним рядом, — его друг, Тоже добрый мужичина — Их всегда увидишь двух. А вот этот красноносый Старичишка в фризяке, Весь седой, длинноволосый, Что прижался в уголке, Да его, сударь, все черти Одного не перепьют. Мудрено, как он до смерти Не запьется, сидя тут. Имени его не знает В нашем герберге никто, Только пива осушает Каждый вечер он — ведро. Ну, поди же вот, по виду Человека угадай, Сам ведь с вошь, проклятый, с гниду; Пить же — только подавай. Посмотрите вот, как гордо Этот ходит и глядит. Тьфу ты пропасть, что за морда, Как он важно говорит; Как философ ведь по взгляду Иль какой натуралист, Поглядишь на шельму сзаду — Ан там сажа — трубочист. Оно правда, задирает Вон и Миллер красный нос, Тоже на алтын смекает, Да с крестишком скверный пес. Если б немцам дать отвагу И ни в чем им не мешать, Эту пьяную ватагу Невозможно б и унять. Вот Дюпьеня для примера Нашей речи мы возьмем, Да, другого изувера, Верно, хуже не найдем. Он такая забияка, Что и боже упаси! Как пойдет у черта драка, Так святых вон выноси! Так отпотчует прекрасно, Что забудешь и своих, А крикун какой ужасный, Как сердит, буянлив, лих! О!.. Бывало загуляет С молодцом Бланшардом он, Да вот этот к ним пристанет, Честный парубок Клоссон, Так, поверите ль, ей-богу, Настоящий ведь содом: Заведут возню, тревогу, Герберг вверх поставят дном. Шум, ругаются, дерутся — Так бутылки и летят; Разнаряжутся, напьются, Срам, сударь, такой разврат! Ну, уж в немцах и французах Ни в едином нет пути, В этих скверных голопузах Много толку не найти — В них всегда одно и то же! Но и в русских капли нет, Ни на что уж не похоже! К нам ходил один студент — Ныне видно его редко,— Слышно, в деньгах недочет. А куда с грошами метко Этот парень козырнет,— Так беда, сударь, и только, Прегорчайший запивох! А уж шуму-то с ним сколько, Сколько браней, суматох! Был бы малый он изрядный, Да вот пьет-то без ума, А уж с пьяным с ним накладно, Признаюсь, сударь, весьма! Вот как дьявол заберется Ему пьяному в башку, Забуянит, задерется, И пошла потеха — ну! Ведь имел бы хотя силу, Так ни слова бы о том, А то так-таки вот к рылу И дерется кулаком. Так и смотрит, так и ищет, Как бы драку с кем начать, Так и шнырит, так и рыщет, Чтоб кого-то обругать. Ведь не всякого ж по носу Без отплаты щелканет, Даст иной такого чесу, Что и в порты Я, сказать вам правду-матку, Хоть какого так уйму, Наизлейшую я схватку В две минуты разойму. А ведь он, сударь, с задору И меня хватил не раз, Ну ударь в лихую пору — Я б ушиб его как раз. Все одной студенты масти, Все буяны, наглецы, По большей всё, сударь, части Зюзи, плуты, сорванцы. С ним ходил еще Коврайский,— То-то, сударь, голова! Уж прямой цветочек майский, Всё злодею трынь-трава, Как нарежется, расправит На затылке он хохол, Всех бежать домой заставит — Так отчаян он и зол. Уж небось не попадайся На глаза ему никто: Без оглядки убирайся, Изувечит ни за что. Также Пузин был детина,— Ныне нет таких у нас, То-то бодрый мужичина, То-то стелька напоказ: Облюется ………, Навоняет, …….. Ходит, ходит, повали́тся, Да под стулом и храпит. Ну вот эдакой, так смело Может драться напролом, Малый взрачный да дебелый, Как одернет кулаком, Так невольно понагнешься Да коровой заревешь, А под грех и не свернешься — И аминь — что раз умрешь. Нет, сударь, избави боже, Черт гостей таких возьми; Ни на что ведь не похоже, Что тут делали они. Уж на что задорней немца, А вот эдакий народ Под хмельком да с злого сердца Всех их в нужники забьет. Немец как ни горячится, А как шельму постращал, Мигом, скверный, усмирится,— Как ни в чем и не бывал. А студенты-забулдыги — Хоть теши на них ты клин, Пресердитые ерыги — Толку нет ни на алтын. Кулаки, скоты, засучат Да и бродят по углам; Тормошить кого — замучат, Пьяницы — беда да срам! Много и теперь народу Наползает к нам чуть свет, Но отчаянного сброду Что-то нет уж<е>, как нет. Как, бывало, англичане Набегали чудаки, То-то, сударь, басурмане, То-то некресть на пинки! Как бормочут ведь забавно, Всё с присвистом, да шипят, А щелкаются как славно, Если в пьянстве забурлят! Нам, служителям, потеха — Помирай лишь да смотри, А у них так не до смеха, Так и скачут фонари. Кто под бок кого тилиснет, Кто подъедет под брыле, Кто в затылок сзади свистнет, Кто бутылкой по скуле! Крик, возня, содом, бывало, Хоть пали, так не слыхать! А теперь другое стало, Только немцам и ворчать…» — «Ну, а там что за собранье?» — Я рассказчика прервал. «Там бильярдошно игранье,— Он с почтеньем мне сказал.— Если будет вам угодно, Я туда вас провожу!» — «Хорошо, мой друг, охотно, Что там есть, я погляжу». Быстрым любопытным взглядом Вкруг себя я посмотрел И три комнаты там рядом С биллиардами узрел. Изогнившие диваны В них стояли по стенам, И различные болваны Заседали там и сям. С холуем, мертвецки пьяный, Драл в тамбовскую дьячок; Кии, мазики, стаканы Все стучали: чок и чок! «Это пьяница презлая,— Проводник мне говорит.— Он и службу отправляя На ногах едва стоит. Дьякон, поп сего прихода — Все канальи без пути; Хуже этого народа Невозможно и найти. Бог прости мне согрешенье — Я мохнатых не люблю И кутейно порожденье Ненавижу, не терплю: Плут на плуте, шельмы, воры; Только деньги любят брать, А уж этому без ссоры От бильярда не отстать. Презавидное созданье, Преехидный человек! Он хорошего деянья Одного не сделал в век». — «Ну, а это что за хари?» — О сидящих я спросил. «О, прежалостные твари, Дурачье, — он возразил.— Черт их знает, что за сладость На играющих глядеть, Как не скучно, что за радость Сычугами здесь сидеть? Смотрят фили да мигают, Как шальные столбняки, Дремлют, щурятся, моргают, Рохли, сударь, дураки, Полоумные тетери!» — «О, Кузьма, да ты сердит! Ну, а это что за двери? Кто там в комнате шумит?» — «Прошумят, сударь, до завтра. Это хлещутся в гусек; Пьяный фершал из театра — Самый лучший тут игрок!» — «Пива, пива дай, Тимошка!» — Хриплый голос закричал; Я взглянул туда немножко И Никандра увидал. В сальных роздранных фрачишках, В епанчах из фризяка, В перетертых сюртучишках Вкруг бутылок и гуська, Жался, мялся и толпился Цвет шишимор площадны́х; Гул в каморке разносился Криков радости лихих. Длинной черною шинелью Немец скутанный до пят Лишь один сему веселью, Я заметил, не был рад. Хладнокровно и сурово Он на публику смотрел: Не промолвил ни полслова, С думой мрачною сидел. А Кузьма бесперестанно, Как лукавый, мне шептал: «Это, сударь, самый странный И смешной оригинал. Он всегда такой угрюмый, Как вы видите сейчас, И безмолвной своей думы Не кидал еще не раз; Полагать, наверно, должно, Что не любит он людей, А не то подумать можно, Что он злобный чародей! Вы смеетесь — как хотите, Только как он ни придет, Вот вы сами поглядите, Вечно книжку принесет, Сядет в угол и читает, И никто не подходи, А об чем — никто не знает, Как тут хочешь и суди! Десять лет проклятый носит Платье с головы до ног! Десять лет, сударь, не сбросит Голенищей от сапог». Тут из этой половины Снова в залу я пошел, Но какие там картины Презабавные нашел! Те два немца, что со мною В «Кенигсберг» с бульвара шли, Нализавшись, меж собою Страшный бой произвели; Потасовка чубуками Шла в ужаснейшем пылу, И с разбитыми брылями Был один уж на полу. «Ах, поганые собаки! — Мой Исаич закричал.— Ни минуты нет без драки, То и дело шум и свал!» Я довольно веселился, Как он начал их тузить, Отдал деньги, распростился И пошел опять бродить. «Ныне, сударь, день субботний,— Мне кричал Исаич вслед,— В воскресенье так до сотни Наберется их чуть свет. Милости прошу, зайдите В шесть часов к нам вечерком, Вы не скучно просидите,— Я ручаюсь, сударь, в том». В «кенигсбергские» окошки Кинув взор, пошел я прочь, И, что видел там, до крошки Мне приснилось в эту ночь. 7 июня 1825132. Гений
Кто сей великий мощный дух, Одеян ризой света рдяной, Лучи златые сея вкруг, Быстрее молний, бури рьяной Парящий гордо к высотам?.. Я зрел: возникнувши из праха, В укор ничтожества сынам Он разорвал оковы страха, Пределы тесные уму, И, бросив взор негодованья Окрест на дикость, слабость, тьму, На сон прекрасного созданья, Вещал: «Я жив! Я человек! Я неразделен с небесами!..» И глубь эфирную рассек Одушевленными крылами!.. Вот он, божественный, летит, Надежды смелой, славы полный, И, долу восклоняясь, зрит С улыбкой землю, моря волны. Уже он там — достиг небес, Уже незрим в дали туманной — И яркий след его исчез, Как ветр долин благоуханный, Как метеор во мгле ночной, Как память дивных впечатлений… Кто ж он, сей странник неземной? То сильный ум, блестящий гений!.. Раскройся, древность, предо мной! Рассейтесь, зависти наветы! Пред взором истины святой Его явите мне полеты!.. О гений жизни, света, благ! Не ты ль Того изобразитель, Кто и в пространствах, и в веках Непостигаемый зиждитель, Единым словом оживил, Воздвиг сей мир из мертвой бездны; Того, кто в тверди укрепил Во время ночь и день надзвездный; Того, чья творческая длань Стези светилам устрояет, Нам мир дарит, низводит брань, Возносит царства, унижает, Владеет волею сердец, Как моря шумными волнами? Всего великого отец, Не ограниченный летами, Ты, чуждый зол, препон, сует И непричастный заблуждений, О гений дивный, кто сочтет Твоих все виды изменений? Кто спишет образы твои, В которых, редкий дар судьбины, Многоразличный, но единый, Излить на мир дары свои Нисходишь непостижно долу, Краса и блеск земным сынам, Народу слава, честь умам, Мечу, и плугу, и престолу? Кто мощь твою постигнуть смел, Означил способы и сроки, И меты тайныя предел, И путь твой новый и высокий? Богатый в средствах так, как бог, Летучий, быстрый, как свобода, Неистощимый, как природа, Течешь творения в чертог, Ее чудесный подражатель, Ее сокровищ обладатель!.. Там — горнего восторга полн, В минуты сладких вдохновений, Приникнув слухом к шуму волн, К порывам облачных смятений, К трясущим твердь небес громам, И к гулам труса разъяренным, И к тихо плещущим ключам, И к стонам горлицы смиренным, И к трелям сладким соловья,— Берет свою златую лиру, Гремит!.. О чудо! Где, где я?.. Я чужд вещественному миру, Я слышу в трепетных струнах Свирепых ярость, слабых страх, Страстей пылающих боренья, Раздор народов, битвы клик, Любви и дружества мученья И сердца нежного язык!.. О, дар гармонии священной! О, хор божественных певцов, Благотворителей вселенной!.. Вожди семейств, творцы градов, Вы дали смертным дух и нравы, И доблесть низвели с небес… Глашатаи бессмертной славы, Пророки северных чудес, Поют Державин, Ломоносов, И отдаленным временам Вещают о победах россов!.. Послушны гения мечтам, Животворятся скалы мертвы, Металл и мрамор предстают Любви народной в память, в жертвы, Потомству позднему на суд! Восхощет — полотно вдруг дышит, И мысль, и чувство — во плоти, Зари играют, пламень пышет И молний реются пути! И самая Непостижимость Под кистию его живой Небесную приемлет зримость Для очарованных душой!.. Там сходит он, испытный зритель, В подземный мир, в Плутонов дом; Природы тайн распорядитель, Дарит нас златом и сребром; Там, вод преуглубляясь в бездны, Являет новы царства нам; Там, обтекая круги звездны, Дает законы он мирам: С Линнеем, с выспренним Бюффоном Хозяйствует в ее садах, Или с божественным Невтоном Делит свет солнечный в лучах! С Франкли́ном, дерзостный, отъемлет У молний кры́ла, гасит гром; Трезубец у Нептуна вземлет И бури тяготит ярмом… Огнь, воздух, и земля, и воды Его созна́ют всюду мощь!.. Склонитесь перед ним, народы!.. Невежества рассеяв нощь, Препоны дикости поправый, Вот он — Помпилий, Пифагор!.. Как орган вышния державы, С таинственных нисходит гор, Дубовой ветвию венчанный: «Примите, чада, мой завет! Восстань господствовать, избранный, Любви божественной клеврет! Взаимность, польза, труд и нужды В союз сплетитеся святой! Где вера, бог — там смертным чужды Вражда, алчба, раздор слепой! Восстановитесь царства, троны, И будь основа им — законы!..» Изрек и на алтарь сердец Священны возложил скрижали; Снисшел гармонии творец — И дни блаженства просияли!.. Но вот, как бурные моря, Сыны безумия смутились: Текут, неистовством горя, Против царей совокупились; Законы, троны пали в прах, Повсюду смерть и разрушенье… Где, где небес благословенье, Где Гений мира?.. Битв в полях? Не бойтесь: с вами, с вами сильный! Во броню Правды облечен, Любовью, Верой укреплен И духа силою обильный, Течет, как пламень по лугам, Как гром раскатный по горам, Как буря в безднах воспаленна… Суворов здесь — и Альпов нет! Кутузов там — молчит геенна, И злобы сокрушен навет!.. О день, о подвиги святые, День человечества всего!.. Кто сохранит плоды златые Успеха, Гений, твоего? Ты сам, ты, Гений благотворный!.. Вот, меч оливою обвив, Единым небесам покорный, Земного сердце устранив, Священны узы укрепляет, Любовь и дружество живит, Царей в советах председает, С бессмертным смертное мирит; Пред божьим алтарем — светило, Пророк могущий — средь людей; В судах — одетый свыше силой, Бесстрастный судия страстей; Мудрец — в тиши уединенья, Рачитель нравов правоты, Враг буйной разума мечты И друг прямого просвещенья!.. Царица всех доброт земных, Величие талантов, знаний, О Правота — венец благих, Твердыня мудрых начинаний!.. В какой стране, в каких веках Ты не была превозносимой? В каких чувствительных сердцах Ты не была боготворимой? Пускай бестрепетный герой, В кровавых битвах знаменитый, Гремит неверною молвой И меч свой, лавром перевитый, Во храм торжеств, честей несет,— Коль к смертным чужд был состраданья, Что Правота о нем речет? «Не хвал достойный — наказанья, Герой, низвергни меч твой в прах!..» Пускай властитель сей надменный, С грозой карающей в руках, Гнетет народы, им плененны,— Какой от Правды приговор? «Он был злодей», — гласит потомство, И вечный, гибельный позор Накажет лесть и вероломство!.. Пускай блестящий лжемудрец, Стезей змеяся ухищренной, Присвоит сам себе венец К стыду обманутой вселенной — «Ты — ложный гений», — Правота Ему речет свой суд нельстивый; И где твой блеск и красота, Венец лжегения кичливый?.. Так, божий глас, ты возгремишь Умам коварным в наказанье, И ложь, и злобу обличишь!.. Лишь Правота — умов сиянье!.. Смотрите: там, как бурный ветр, Несется средь пустынь, сквозь тучи Великих вождь, великий Петр, Преобразитель наш могучий! Как звезды светлые, в веках Горят благих мужей деянья: Катонов, Долгоруких прах Кропим слезой воспоминанья!.. Ревет, волнуяся, Скамандр, Но не потопит Ахиллеса: Угас для мира Александр — Но в храме вечности завеса Пред ним, как небо, раздралась, И радуга бессмертной славы С его кончиной разлилась По тучам северной державы!.. «Ты жив, краса земных царей, Ты нам воскрес, Благословенный!» — Как гул торжественный морей, Гремит правдивый глас вселенной. Монарх любви и правоты На троне россов воцарился Иль ты с небесной высоты К нам в Николае ниспустился!.. Питомцы сча́стливых наук, К добру исполненные рзенья! Монарх — талантов юных друг, Венцы — любимцам просвещенья! Пылайте души и сердца К нему любовью благодатной: Теките все перед отца, Как реки в тишине отрадной!.. Пройдет земная лепота, Исчезнут козни вероломства, Но душ великих красота Воскреснет в памяти потомства; Почтут правдивого царя Святою мздой благословений, И грянет русская земля: «Хвала тебе, наш добрый Гений!..» 1826133. Тарки
Я был в горах — Какая радость! Я был в Тарках — Какая гадость! Скажу не в смех: Аул Шамхала Похож немало На русский хлев. Большой и длинный, Обмазан глиной, Нечист внутри, Нечист снаружи; Мечети с три, Ручьи да лужи, Кладбище, ров Да рыбный лов, Духан, пять лавок И, наконец, Всему вдобавок Вверху дворец Преавантажный И двухэтажный, Где князь Шамхал И бьет, и блудит, Сидит и судит Всех наповал. В большой папахе, В цветной рубахе, Румян и дюж, Счастливый муж По царству ходит И юных дев И в стыд и в гнев Нередко вводит. А как в Тарках Прелестны девы — Прекрасней Евы! Всегда в штанах Из красной ткани, Ни разу в год Не ходят в бани. Рублей пятьсот — И ни полслова! Любая мать Сейчас готова Вам дочь отдать — Ложитесь спать, И как угодно… Хоть навсегда! Но, господа, Не так свободно Торгует тот, Кто не сочтет <И ста> в кармане: Тому на хвост Тавлинки пост, Как в рамазане! И щеголек Из зал московских От дев тарковских Услышит «йок!». О «йок!». С бельмесом Вас выдумал Сам дьявол с бесом И передал Потом черкесам Назло повесам: Сердись и плачь От неудач! Набрел я ночью На сущий клад Лет в пятьдесят. Геройской мочью, Зажав ей рот И не стыдясь, По старой вере Старушью честь Уже принесть Хотел Венере… Вдруг «йок!» кричит Моя злодейка, В висок летит Мне прямо лейка, С которой — срам! — Шла к воротам Прелюбодейка. «Тохта! Постой!» — Я слышу ясно, И, с бородой, Как пламень, красной, Передо мной Мужик ужасный — О день несчастный! Сначала я, Как воин смелый, Хотел шутя Окончить дело — Словцом, другим Отговориться, Но помириться Пришлось иным. «Тохта!» — покойно Он бормотал И непристойно Меня вязал. К чему рассказы? Мои проказы Окончить мог Лишь кошелек Да бер-абазы!.. ……………………… ……………………… Она придет, Как было прежде, Ко мне одна В ночной одежде. Сперва, стыдясь, Сапожки скинет, Потом, смеясь, Меня обнимет! Я вне себя Ее целую, Милую! ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… О боже, боже, Как счастлив я! И час спустя Опять за то же. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Потешить Сашку, И лягут спать, Спустя рубашку. Май 1831134. Три нации
1
Британский лорд Свободой горд, Упрям и тверд, Как патриот. Он любит честь Он любит есть, И после сесть На пароход.2
Француз — герой! Он вам порой Грозит бедой, Как великан. Встает, как лев, Откроет зев И… прямо в хлев, Баран, баран!3
Германец смел, Но поседел От важных дел. Заботы тьма: Сиди, кури, Пиши да ври — Да и умри: Сошел с ума! <1837>Когда душа перекалится в камень
Когда душа перекалится в камень,
Когда глаза точить не станут слез,
Когда замрет сердечный пламень
И будут сны без грез;
Тогда возьму я пулю боевую,
Три раза шомполом в зев смерти вколочу
И песнь последнюю земную
На лире пробренчу.
И вылью мозг кровавый на прощанье,
Укором мертвого весть миру я пошлю
И предмогильное страданье
Терпеньем просверлю.
Когда же в ночь засмертную, тоскуя,
Среди могил, явлюсь к вам наяву,
Тогда вам истину скажу я,
Как, бедный, там живу.
1836
К СИВУХЕ
(Отрывок)
Когда уж в вечность переселюся —
Иль в рай, иль в ад — мне все равно,
Где б ни был я, — везде напьюся.
Коль в аде ж выпито вино,—
Зефиры, вы быстрей летите
К моей отчизне дорогой
И из питейных принесите
Мне штоф с сивухою простой!
<1836~1837>
Варианты
Варианты приводятся согласно порядку стихов в основном тексте произведения. Под нумерацией строк указывается источник варианта. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего варианта.
3
9
Изд. 89
Мой ангел! О боже! Зачем я узрел31
О боже, о боже! Почто я живу33
Далеко, мой ангел, далеко оно7
9
«Лира русского Шенье»
На зеленых листахмежду 10 и 11
Как отраден он им, И цветам полевым, И увядшим коврам Пожелтевших лугов.14
И кропит и растит22
Ах, не лист полевоймежду 28 и 29
Не кропите меня Вы, росинки дождя,33
Я любил, но любил36
Я надежду свою8
загл.
ИОРЯС
Четыре народа2
ИВ
Отважен, горд.3
ИВ, Изд. 89
Он властелин8
список 11, ИВ
Звериных лап Коварных лап9—11
«Рев. мотивы»
Исподтишка Не двинет лап На смельчака.11
PC
Не нанесут11–12
РПЛ
Не двинут лап На сельчака.12
PC, Изд. 89, список III
Отважный Брут12
ИВ
И будто Брутвм. 16–18
РПЛ
Он всем шутя Готов играть: Разрушить трон, Издать закон17–19
список II
Готов играть: Низвергнуть трон, Издать законвм. 21–22
Нетерпелив, И смел и слаб, И царь и раб18–24
Изд. 89
Издаст закон. Нетерпелив, Самолюбив. Он быстр, как взор И пуст, как вздор; Он смел и слаб, И царь и раб23–24
ИВ
Сегодня — царь, А завтра — псарьмежду 24 и 25
списки I, III
Он смел и слаб, И царь и раб28
список II
Но перепрел31
ИВ
Окрестных стран33
РПЛ
Сам в кабаке33–34
список III
Нос в табаке, Лоб в колпаке35–39
РПЛ
Хоть пять веков Сидеть готов Над парой слов Халдейских числ И рад ругать41
список II
За пару строквм. 37–44
«Рев. мотивы»
Над парой слов, Халдейских числ, Которых смысл Не мог понять, И рад ругать Отца и мать43
ИВ
Которых толк47–48
В ней поп с крестом Да царь с к<нутом>вм. 48–50
РПЛ, «Рев. мотивы»
Там царь с кнутом Что поп с крестом. Он им и ест Во всяк присест, Он им и пьет Во всяк поход.52
список I
О дураки57–58
РПЛ
Зато и бьют, Не устают59
Изд. 89
Их как скотов,62
список I, PC
Да и не лень65–66
РПЛ, «Рев. мотивы»
Что сена клок, То вилы в бок68
ИВ
Хоть волком вой11
38–40
«Сев. сияние», Изд. 32, Изд. 89
Кляну свой жребий я тогда И вновь взираю равнодушно На жизнь позора и стыда.14
загл.
РПЛ
Арестант28–29
Желал о счастье вспомянуть И вновь жестоко обмануть69
Исчез в безумной голове80
Солдатский шлем приосенил100
Экз. Изд. 89
Что вера в бога — суетавм. 108–109
Изд. 89
Стоит гостеприимный дом; Сей дом больницею зовут И много в нем здоровых мрут. В соседстве с ним стоит другой109
РПЛ
В соседстве с ним стоит другой124
В ней сырость страшная и тьма139
И каждый день и ввечеру144
Экз. Изд. 89
И услужить ему хотят145–146
Экз. Изд. 89
За то, что много он людей Сгубил по прихоти своей.148
РПЛ
И на доске, что у окна164
И … …. клянет!164
Экз. Изд. 89
И долю горькую клянет178
РПЛ
Как обольстительные сны238
Изд. 57, РПЛ
Кто как умеет прикорнул239
Изд. 57
Повсюду сон и тишина246
РПЛ
Перед девицей молодой266
Изд. 1939
У<бивший> б<ратьев> и н<арод>293–294
Изд. 57, РПЛ, Изд. 89
Ах, как он жалок quelle misère![121] Как потерялся он, mon cher![122]313
РПЛ
Правдивый, вечный, всеблагой322
Что мы как бог в себе вольны329
Иль он предвидел и желал331
Или один свирепый рок345
Страдальца давнего покой362
Изд. 57, РПЛ
…… еще моим отцом367
Изд. 57
Прости меня — моя винавм. 375–376
РПЛ
Мой брошен труп на снедь червям376
Изд. 57
Брошен в снедь червям17
23
Изд. 57
И на челе встает невольно волос19
загл.
«Эвтерпа»
Вертер. Фантазия5
«Лира русского Шенье»
В часы полночи молчаливой8
Гал.
Восходит призрак боязливый9
«Лира русского Шенье»
Бледно, как саван гробовой13
«Эвтерпа», «Лира русского Шенье»
Печален, мрачен, он блуждает16
«Эвтерпа»
Переступить он не дерзает18
«Эвтерпа», «Лира русского Шенье»
Он видит мыслью быстротечной24
Гал.
Злодея прахом отверженным28
«Лира русского Шенье»
Уснут навек в душе моей31–32
Гал.
Я, член ненужный бытия, Не оскорблю собой природы20
5–6
«Телескоп», «Лира русского Шенье»
Шести веков, Враг угнетений44
«Телескоп»
Уже клонилась46
«Лира русского Шенье»
Без высшей власти52
Я видел тень72–73
Неотразимый, Неизъяснимый22
9
Изд. 32
Злой рок лишил меня всего18
Гал.
Из трубки дым приятный29
4
Изд. 89
Среди горшков, блох и посуды64
Вот всё, что, мучимый блохами62
загл.
ЛПРИ
Духи зла2
Благословенного творца13–14
Тогда над ним светлы, необозримы Расстлались гордо небесанабросок дополн. строфы автограф
[Их гонит далее в неистовое море Не светлые звезды в вышине. Последний глас погибших «Горе, горе!» Затих в бездонной глубине.]63
19
«Арфа»
Нет, не волшебное явленье43
Мирюсь с собой65
8
Изд. 57
Неистовый, безжалостный к себе14
МН
Давно смирил в обманчивом покое34
Изд. 57
Которое могло из сожаленья50
МН
Исполнен был в видениях заветных55
Люби меня и в очи, и в уста65
Изд. 57
Сверкали в зеркале ее очей109
И что любовь — не прах ли мертвеца?66
2
«Арфа»
Благосклонной старины14
Над главой моей шумят17–18
Ах, как много драгоценного Я в сей жизни погубил!21–24
Так с любовию ревнивою Исступленного жреца, Движим силою кичливою Добровольного бойца27
И рассудок — луч божественный —44
Проводить среди гробов57–60
Вам нескоро сталь холодная Уготовит адский пир — Ваша внутренность голодная Просит в жертву целый мир.81
загл. «Телескоп»
Песня18–19
Та ли мрачная, туманная, Что следила завсегда меня83
6
Изд. 57
С Олимпа скучного сошла86
1–2
«Часы выздоровления»
Как обольстительно прекрасна, О дева, ты для всех очей13
И этой кожи белизна19
И на мгновенье усыпляют87
31
«Урна», «Часы выздоровления»
Тоска любви, надежды луч33
Всё видно в нем, как из-за туч35
Зачем же пышные цветки38
«Урна»
Безжалостно прикрыты?88
загл.
«Отеч. записки»
«Узник»11–13
«Часы выздоровления»
Ночь, красавица беззаботная, День обманчивый, я вас радовал? Кто видал, как на лихом коне91
9
«Урна», «Часы выздоровления»
Спросите дружески Недума27
И кроме горестной ошибки94
загл. ЛПРИ
Грешница13–14
Исполнить праотцов закон, Но где тот праведный, где он25
Где твой синедрион упорный?95
47
«Часы выздоровления»
Любовь во всё прекрасное зажгла58
Сын революций, Бонапарт63
И дома купол золотой88
Как юный русский соловей90
Расцвел наш дивный корифей.104
Восстал как новая стихия111
Невинна и смела, таинственная дева113
Себя обвить его рукой116
Князей, вельмож…136–137
Она с небесною любовью Дарила неземные сны144
И в эти времена, невидимая Клио146
С дивной повестью веков159
Охладелою душой204
Новой жизнью расцвело210
Там под сению благого233
Оплакали тебя и старый и младой238
Неведомый поэт, но смелый, славы жадный248
Она облечена щедротою державной101
24
список ГИМ
Дрожит, как примется кричать26
список ПД
Не черт мой дядюшка опять33
РПЛ
Хвалить ей чепчики и ленты35
список ПД
Точить им сказочки, балясы39
Так, развалившись на телеге,48
И только б вас не утомить55
РА
Не знаю, право, я, богато60
РПЛ
Таким, сяким и рассяким74
РА. Изд. 89
Весь сквернословья лексикон82
РА
Сынка другому поучить86
список ГИМ
Шалун саранскинский сидит86
список ПД
Шалун скромнехонько сидит86
РА
Шалун покрышкинский сидит98
список ГИМ
Глупец, алтынник или скот98—100
Список ГИМ
Такой алтынник или скот, Звонарь не может колокольный У вас на лекции сидеть.100
РА
Звонарь на кафедре гудеть108
Изд. 89
А не паршивец, не пошляк109
РПЛ
Не пол-умишко просвещенный109
Изд. 89
Не полоу́мишко презренный131
РА
Вот полулежа в вицмундире135
РПЛ
Веселье рьяное играет145
список ПД
И крик цыганок в «Черной шали»161
РА
Блажен, кто в радости беспечной164
список ПД
Рукой Дуняши утирал167
Изд. 89
Пусть смотрит Гераклит унылый180
список ПД
Лишь сброд нелепостей одних205
список ГИМ
Но колотиться и рубиться213
РА
Иной куда горазд как спорить223
РПЛ
Аминь, ни слова об науках224
РА
Черты героя моего229
РПЛ
О, жажда вольности строптивой229
РА
А жаждать вольности строптивой233–234
РА, Изд. 89
И к фарисеям в хомутах Гореть враждой закоренелой242
РПЛ
Чтоб Иисусу верил он249
Изд. 89
И Сашу выказать стараюсь256
РПЛ
Такой удалый сорванец271
РА
Как вихрь иль конь мятежный277–278
РПЛ
Но петиметрские наряды Не были дум его предмет.285
список ГИМ
Отколь все роды принужденья296
список ПД, РПЛ
Ни Дон, ни Рейн и ни Токай296
РА
Мадера, Рейн или Токай311
РПЛ
Фуражки, взоры и походка313
список ПД, РПЛ
Табак, рыготина и водка315
РА
Идем, качаясь величаво,322
РПЛ
Иль выбьем потроха как раз!»365
список ГИМ
Истаевая сладострастно372
Изд. 89
Поет гитара, контрабас373
РПЛ
И по-козлиному меж нами374
список ПД, РПЛ
Прекрасный сочинился вальс375
список ПД
Возня! Пунш плещет, брызжет пиво384
РПЛ
Ночь в сне и пьянстве провели399
РА, Изд. 89
«Кто ночью там шуметь изволит?»406
список ГИМ, РА
Лакей с железным косарем418
РА, Изд. 89
Нещадно избиенных дев422
список ГИМ
Команды будочной дозор422
список ПД
Свирепых буфелей собор424
И быстро кинулись на нас431
РА
«Друзья, — кричит он, задыхаясь431–432
список ПД
«Messieurs, — кричит он, задыхаясь.— Savez-moi!.. Je suis perdu!»[123]445
И, невредим, он после схватки448
РА
Неверность Дуньки отмщенапосле 454
РА, Изд. 89
Взыграй чувствительнее барда459
список ГИМ
А ты, пан чайный разливатель486
Изд. 89
Он молчалив и смутен был491
список ПД
Всё тихо: только неспокойно494
Изд. 89
Глаза потухшие его502
РПЛ
Вздохнувши тяжко, молвил он512
И пунш и мощный ерофей!517
список ГИМ
Лучи дневные освещают517
список ПД
И лица бледные осветят517
РА
Лица дневные их осветят518
РПЛ
Их, упоенных крепким сном541
Так отприветствовал беднягу542
Изд. 89
Лишь слушал да потел545
Потом всё ласковей, добрее555–556
список ГИМ
И веселиться мой повеса Никак не думал, не гадал562
РПЛ
В отличной шляпе à la pique562
список ПД
В отменной шляпе élastique563
РПЛ
В подбитом бархатом жилете564
В руках хлыст а́нглийский несет565–566
Вот, избоченясь, на проспекте Он с миной важною идет.571
С какой улыбкою кичливой572
список ПД
На группу франтов он глядит573
список ПД, РПЛ
С какой улыбкою сонливой573
РА
С какой усмешкою сонливой588
РПЛ
Гром плесков залу огласил592
Разлегшись в креслах, он сидит593
С улыбкой гордой пресыщенья594
В четыре стороны глядит596
Но он выдерживал свой тон598
Спокойно пунш пить вышел он602
РА, Изд. 89
Но только ножку увидал603
список ПД
Напрасно Antonine воздушный613
РПЛ
Итак, пристойно ль рот разинуть614
И дураком себя казать615
Так раз и твердо затвердивши,617
И каждый день в театре бывши,620
Изд. 89
Во всех поступках и речах625
список ПД, РПЛ
С каким — о смех! — благоговеньем625
РА, Изд. 89
С каким всегда благоговеньем629
РПЛ
Хоть будь р……. ни полвзгляду629–630
РА
Хоть раскрасотка будь — ни взгляду Не кинет на нее и вкось632
Делил он дядины мечты643
список ПД
С какою миной лицемерной646
РПЛ
И шуту денежки давал653
РА
Что за прекрасная погода!655
РПЛ
Ах ты, проклятая собака655
РА
Ах ты, лукавая ерыга!656
список ПД
Ведь что ни скажет, всё соврет656
РПЛ
Ведь что, мошенник, ни соврет657
список ПД
Хоть век ругай, мой забулдыга657
Изд. 89
А хоть ругай, мой забияка660
список ПД, РПЛ
Летает фертиком в садах660
РА
Порхает франтиком в садах663
список ПД, РПЛ
Ну что ты делать с ним прикажешь?664
список ПД
И счету нет его проказ666
список ГИМ
В Москву спесивых этих глаз668
список ПД
В Café français ты будешь пить669
Изд. 89
И шейки обнимать лилейны670
РПЛ
И в шляпе á la pique ходить684
список ПД
Люби, обманывай жидов684
РПЛ
Лови, обманывай жидов687
Играть в бордели689
список ПД
И в дилижансе три недели694
В нем дамы с франтами сидят694
РПЛ
В нем дамы с франтами кишат695
список ПД
Мазурка шумная играет708
список ПД
И лиц разряженных черты710
РПЛ
Кокетства юной красоты723
Вуалем с нежностию вея,728
Всё может ум развеселить729
список ПД
Там впух разряженный приказный729
РПЛ
Там избоченился приказный732
Изд. 89
Вполне доволен сам собой734
РПЛ
Себя таким же чтит портной737
список ПД
Студент, профессор и пирожник740
список ГИМ, РПЛ
Глаза внезапно ослепил?751
список ПД
Нет, нет, завесу опускаю751
РПЛ
Друзья, завесу опускаю754
список ПД
Никто бы выразить не мог755
РПЛ
Сердцам же верным и открытым756
список ПД
Об этом нечего писать766
РПЛ
И я ни капли не соврал766
И я всё верно передал771
Изд. 89
«Сюда девиц!» — потом гремящим771
РА
«Сюда, друзья, сюда!» — гремящим775
РПЛ
Ты видел Поль, когда на дрожках778
Дымясь в вакштафе, ты сидел778
РА
Дымивши трубкой, ты сидел783
РПЛ
Весь выпачкан, мертвецки пьяным783
Изд. 89
Растрепанным, мертвецки пьяным786
список ПД
Его наряд ты замарал793
РПЛ
И погребки не опустели801–802
Быть может, град ругательств, брани Как дождь посыплет на него804
Его распутства и бесчинств805
РА, Изд. 89
Но я их столько презираю809–810
РПЛ
И что про Сашку вновь узнаю, Ей-ей, ни в чем не умолчу.106
Загл. список
ГИМ
Горы138
Природы в наглой красоте?143
Умерить пыл свой благородный264
Узнал я новый сей приказ?330
Домашних кухней суета611
Прошли в обители отцов?704
Народ, князья ревнивым кругом848
отд. изд. 1832 г.
Там — атаманский ятаган1097
список ГИМ
Глядят… И с робостным движеньем1307
И мне ль бессмертному не быть?109
4
«Сын отечества»
Враждуют странно с чудесами45
Былого тягостные сны48
«Арфа» Еще хранит свои столпы54
«Сын отечества»
Теперь забвенною рабой!73–75
И беспокойное гражданство, И дух безумный мятежей, И кровь сограждан, и тиранство95
Своим полетом времена!149
«Арфа»
Стоит недвижимый над черной могилой153
Обрушилось, пало горячей геенной256 и 272
Простите, сыны знаменитой державы289
В груди благородной навек затаят292
И вопль и рыданья… Горячих объятий300
Где ж вы?.. Яростные клики309
Стран далеких не громит341
За старинные права348
И отцов заветный плуг358
Охраненного судьбой415
Для могущих роковой417
Над его браннолюбивой566
Увы, ни римская свобода583
Изд. 57
Кому он произнес печальные слова387
«Арфа»
В чертог неправедных судей651–654
Тебя ль я заключу в горячие объятья? Кто ты? Отечества тиран, Призвавший на главу небесные проклятья, Или его послушный сын111
1
автограф 1-й
Не вихрь большого света32
Разя ястребов39–42
Но что же над прахом В часы тишины Объятые страхом Трепещут страны?51
Веселым обедам53
Знакомый с громами55
С лесными врагамимежду 65 и 66
Как новый Суворов Без правил он бьет, От дроби и взоров Ничто не уйдет32
Живого Ноева ручья84
С улыбкою глупца и наглостию скифа99
Пустеют пышные палаты113
И легионы ополченья122
Их взбунтовавшийся аул?134
С восходом дне́вного царя130
О бедных витязях жалел155–157
С ращыпом бары и лакеи Повсюду заняли места, И служат им за батареи159
Пятьсот собак как волки рыщут179
«Какое счастье!» — целый хор181
А он вдали от этих ссор203–205
А раб с поникшей головою, Убитый властью роковою, Твердит: «Да, дрогнула рука»вм. 213
Пред ним как мантия ночей При блеске солнечных лучей222–223
Зимой и летом у соседа Об нем одном лишь разговор239
Себя мы будем заклеймлять271
Умолк. Как воин в ярой сече286
автограф 2-й
Зевак, лентяев и стрелков289–291
Каких-то наглых сорванцов, Как мужи смелые, напрасно Для счастья родины прекрасной319
автограф 1-й
Вокруг болот непроходимых325
Его красивый, легкий стан342
Непроницаемою тмою392
Шато-лафит и ве-се-пе403
От нас бежали навсегда415
автограф 1-й
Он первый консул куропатки435
автограф 2-й
Твои победы воспоем!439–440
И витязь, славою венчанный, Едва от скуки не уснул!457
Подобный гордому Нимвроду464
Триумф дубровного царямежду 473 и 474
Вдруг хор насмешливый запел,—478–479
Суровый, бледный, он трепещет С немым проклятьем на устах482
Как дух низринутый, как бес486
Хвала тебе, победоносец,493–496
Коварство, лесть и вероломство Героев ложных воспоет, Но знай: правдивое потомство Твой прах великий, прах найдет.после 500
Совет пернатым О птицы муромских лесов, Он был — он есть — он будет вечно! Не утучняйте же беспечно Его роскошных пирогов.112
загл.
список ПД
Оскар и Мора39–40
И бродят вкруг его зубцов Олени быстроноги374–376
И об Оскаре должно Нам говорить, как о живом, И свидеться с ним можно.413–416
Я вижу: прах его почтить Желаешь ты, как должно, Но чем от страха различить Такую радость можно?116
34–36
BE
Владычица моей души Люблю тебя сердечно, страстно, Судьбу мою сама реши!35
список ЦГИА
Так он людей, как бог, карает50
И воплю жалкому детей103–104
Когда он смело умножает Число своих полубогов124
59
список ЦГИА
В кликах демонского хора94
Бросьте мрачные углыПримечания
С 1825 по 1831 г. стихи Полежаева печатались исключительно в журналах и альманахах. Раньше всего имя поэта промелькнуло на страницах «Вестника Европы» в 1825–1826 гг., затем наступил перерыв, вызванный перевернувшими жизнь поэта драматическими событиями. Только в 1829–1830 гг. значительную партию его стихотворений печатает журнал «Галатея». В сущности, это были анонимные публикации, — репрессивные меры, примененные к Полежаеву (судимость, разжалование в солдаты, арест), получили достаточно широкую огласку, и появление фамилии опального автора в печати могло иметь опасные последствия для издателя журнала.
В 1832 г. все напечатанное ранее с добавлением ряда новых произведений, написанных в 1829–1832 гг., вошло в первый сборник Полежаева «Стихотворения» (М., 1832). С этого времени поэт несравненно реже выступает в периодике и альманахах. Свои новые стихотворения по мере их накопления он стремится печатать отдельными изданиями. В том же 1832 г. выходит книга кавказских поэм — «Эрпели» и «Чир-Юрт», в 1833 г. — сборник «Кальян»[124]. Сборник «Арфа» (первоначально называвшийся «Разбитая арфа») вызвал серьезные цензурные осложнения и вышел в свет в 1838 г., уже посмертно. Другой сборник, «Часы выздоровления», составленный и собственноручно переписанный в 1837 г. Полежаевым, был подвергнут безоговорочному запрещению цензуры. Попытка издать его в апреле 1838 г., т. е. вскоре после смерти автора, под названием «Урна» в составе 14-ти стихотворений (вместо 31-го, входившего в «Часы выздоровления») не увенчалась успехом. Лишь в 1842 г. А. П. Лозовскому, близкому другу поэта и его доверенному лицу по издательским делам, удалось выпустить тощий сборничек под первоначальным авторским названием, куда вошло 15 стихотворений — в основном тех, которые в свое время были отобраны для сборника «Урна». В 1838 г. запрещена была к изданию подготовленная тем же Лозовским небольшая подборка «Последние стихотворения» Полежаева. Сходная участь постигла полежаевские «Переводы из Виктора Гюго» и поэму «Царь охоты», направленные в цензуру владельцами этих рукописей Π. Н. Евреиновым и А. А. Ушаковым[125].
Полежаев — одна из самых многострадальных жертв царской цензуры. Репутация вольнодумца и бунтовщика, караемого властями, внушала удвоенную подозрительность и удвоенное пристрастие цензорам, чья «бдительность» необычайно возросла также вследствие террористических акций правительства, обрушившихся на московскую прессу в 1832–1834 гг. (запрещение журналов «Европеец», «Московский телеграф», «Телескоп», увольнение цензора С. Т. Аксакова). После выхода сборника «Часы выздоровления» (1842), подавшего повод для известной статьи Белинского, имя поэта надолго исчезает из литературы. За период с 1825 по 1842 г. было опубликовано немногим более половины литературного наследия Полежаева. А среди напечатанных его произведений некоторые были известны лишь в извлечениях или с большими пропусками («<Узник>», «Ренегат», «Белая ночь», «Венок на гроб Пушкина», переводы: «Последний день Помпеи» из Легуве, «Прощание с жизнью» из Вольтера и др.). Многие из опубликованных произведений отличались, по выражению Н. О. Лернера, «обилием печальных пустот». Поэт весьма редко прибегал к методу аллюзий или эзоповскому языку, так как искренность выражения чувств и настроений зачастую вовсе подавляла заботу об их маскировке. Не случайно преобладающее большинство его произведений поступало в цензурный комитет с уже сделанными пропусками кра́мольных стихов и «острых слов», причем изъятия не всегда даже отмечались точками. Время от времени Полежаев прибегал и к автоцензурным вариантам (больше всего таких вариантов в «Кориолане» и «Царе охоты»). Но эти меры не намного облегчали положение. Серьезнейшим поводом для цензурных преследований была прежде всего тюремная тема, автобиографический, выстраданный для Полежаева смысл которой был хорошо известен. Такова, надо думать, одна из главных причин, вызвавших запрещение сборника «Часы выздоровления»[126]. Другим объектом цензурных нападок явились слова с особо ответственным значением, такие, как: «царь», «самодержец», «бог», «всевышний», «рай», «тиран», «раб», «свобода», «вольность», «республика» и т. п. В обращении с ними поэта ощущался привкус неуважения к «священным» авторитетам светской власти и церкви, симпатия к свободе и ненависть к тирании. Именно по этой линии возникли цензурные препятствия с публикацией «Кориолана», «Царя охоты», «Негодования», «Прощания с жизнью» и других произведений.
Тот факт, что обширная часть стихотворного наследия поэта длительное время оставалась под спудом, нельзя объяснить только цензурными условиями. По самой своей природе творчество Полежаева нарушало привычные представления о поэзии как высоком искусстве, отвечающем нормам художественного мастерства и литературного этикета.
Единственный истинный ценитель и знаток творчества Полежаева — Белинский, великолепно продемонстрировавший сильные стороны его таланта, решительно высказался в 1842 г. за то, чтобы стихотворное наследие покойного поэта было представлено публике лишь лучшими его образцами, перечнем которых критик сопроводил свою статью. Белинский указал и на другую задачу будущих издателей Полежаева — необходимо очистить его стихи от искажений всякого рода, в том числе от множества типографских погрешностей.
Действительно, книги стихов Полежаева, особенно сборник 1832 г. и «Арфа», отличались крайне низким уровнем издательской культуры. Полежаев явно не читал корректур этих сборников, а его друг Лозовский, человек далекий от литературы, не обладал элементарными навыками издательского дела. В несколько лучшем положении оказались издание кавказских поэм, текст которых, видимо, набирался непосредственно с авторской рукописи, и сборник «Кальян», печатавшийся, как можно думать, под наблюдением автора.
Первое посмертное издание стихов Полежаева, подготовленное H. X. Кетчером (М., 1857), явилось последовательной реализацией задач, сформулированных Белинским. Это была небольшая книжка избранных стихотворений, отбор которых (за отдельными исключениями) соответствовал всем рекомендациям критика, чья статья, кстати говоря, была перепечатана в этом издании (с некоторыми сокращениями) в качестве предисловия. Текст стихотворений был освобожден от множества ошибок и опечаток, в ряде случаев были восполнены цензурные купюры и отменены цензурные варианты, часть стихотворений была сверена с рукописями, предоставленными А. П. Лозовским. К изданию был приложен «Список слишком уже плохих стихотворений, не вошедших в это издание». В списке оказались такие интересные произведения, как «Рок», «Кольцо», «Кладбище Герменчугское», «Акташ-аух». Не вошли в сборник все стихотворные повести и кавказские поэмы. Крайне скупо были представлены в издании 1857 г. впервые публикуемые произведения: «Осужденный», фрагмент неоконченной поэмы «Марий» и отрывок перевода из «Фалерия» Легуве. Для того чтобы выпустить в 1857 г. «Стихотворения» Полежаева, а в 1859 г. — второе издание книги (почти точную копию первого), издатели ее К. Солдатенков и Н. Щепкин должны были вступить в финансовую сделку с книготорговой фирмой Улитиных, которой в течение 50-ти лет со дня смерти поэта принадлежало монопольное право собственности на издание его сочинений. Только в 1888 г., когда истекал срок действия этого права, фирма Улитиных выпустила «Собрание сочинений» Полежаева, объединившее в себе почти все известные в печати его произведения, а также поэму «Сашка», стихотворения «Арестант» (т. е. «<Узник>»), «Четыре нации»[127] — все с большими пропусками и неисправно. Никаких следов текстологической работы издание 1888 г. не содержало. Несмотря на декларированное в нем утверждение, будто тексты проверялись по рукописям поэта, сохранившимся у вдовы А. П. Лозовского, подготовлено это издание было по-дилетантски неумело и неряшливо[128].
Открывшаяся с 1889 г. возможность свободной публикации стихотворного наследия Полежаева развязала руки одному из наиболее компетентных текстологов второй половины XIX в. П. А. Ефремову, который уже с 1887 г. развернул широкомасштабную деятельность по подготовке фундаментального издания Полежаева. Ефремов тщательно обследовал все доступные ему материалы: публикации, списки, автографы, биографические документы. Ефремову удалось очистить несколько произведений поэта от цензурных искажений и вариантов, восполнить цензурные купюры, устранить немалое количество опечаток и ошибок. Разумеется, эти усилия не могли быть доведены до конца: те же самые цензурные условия не позволили Ефремову дать полные тексты наиболее крамольных произведений: «Сашки», «<Узника>», «Ренегата», «Четырех наций». Некоторые из цензурных пропусков по-прежнему обозначались строками точек. При подготовке издания Ефремов напечатал в газетах и журналах обращение к владельцам полежаевских рукописей с просьбой предоставить их для ознакомления. Это обращение не осталось безответным, однако собрание автографов Полежаева, которыми в свое время воспользовался H. X. Кетчер, получить не удалось. Судьба их доныне остается неизвестной. Ввиду этого значительного приращения текстов поэта издание 1889 г. не дало. К сожалению, Ефремов не всегда удерживался в границах допустимого вмешательства в стихотворный текст. Он верно поступал, выправляя явные опечатки, ошибки и беспорядочную пунктуацию прижизненных изданий Полежаева, но при этом он, по свидетельству Н. О. Лернера, «обращался с текстом довольно своенравно, исправляя и переделывая стихи, восстанавливая купюры очень часто по догадке и притом без необходимых в таких случаях оговорок; в этом мы могли убедиться, случайно имея в своих руках черновые бумаги Ефремова»[129]. Впечатление Лернера, быть может, несколько преувеличено, но оно не лишено оснований.
Из дореволюционных изданий Полежаева следует упомянуть первое петербургское издание — «Стихотворения» (1892), под редакцией А. И. Введенского, внесшего в текст несколько мелких уточнений. При всем различии перечисленных изданий, их редакторы сходились в эстетической предубежденности против таких произведений, как «Сашка», «День в Москве», «Кредиторы», «Чудак», «Автор и читатель», «Напрасное подозрение» и т. п. Отсюда чрезмерно многослойная композиция книг, вызванная сортировкой материала по разделам. В самом последнем из них («Смесь» в издании Улитина; «Сатирические и юмористические стихотворения и эпиграммы» в издании Ефремова; «Юмористические рассказы и сатира» в издании Введенского) и нашли приют подобные сочинения.
Лишь в послеоктябрьскую эпоху создались условия для того, чтобы поэзия Полежаева стала известной в самом полном и самом подлинном виде. Тщательные архивные разыскания, предпринятые исследователями (прежде всего В. В. Барановым и Η. Ф. Бельчиковым), увенчались блестящими результатами: было обнаружено много неизвестных произведений Полежаева, в том числе повесть «Рассказ Кузьмы», стихотворения «Новая беда», «Гальванизм, или Послание к Зевесу», «Три нации», переводы из В. Гюго, неизвестные фрагменты уже опубликованных произведений и ценнейшие автографы, в особенности рукописный сборник «Часы выздоровления».[130] Итогом многолетнего плодотворного изучения биографии и творчества поэта явился вышедший в 1933 г. фундаментальный свод «Стихотворений» Полежаева под редакцией Баранова. Произведения поэта здесь были расположены в хронологической последовательности с выделением поэм (точнее — крупных вещей) и переводов. Вобравшее в себя громадный фактический материал, издание 1933 г. существенно расширило фонд полежаевского наследия и за счет текстов, обнародованных после издания Ефремова Н. О. Лернером[131] (к этому фонду были присоединены: «Царь охоты», стихотворения: «Он и она», «Ожидание», «Султан», «Казак», «Русский неполный перевод китайской рукописи», два перевода из В. Гюго). Корпус издания был снабжен подробным текстологическим и библиографическим комментарием, содержавшим необходимые сведения по истории текста произведений и их варианты. Особый раздел примечаний предназначался для пояснения упоминаемых в стихах поэта исторических событий, лиц, мифологических имен, редких топонимов, архаической лексики, малоизвестных иностранных слов.
«Полное собрание стихотворений» Полежаева, вышедшее в 1939 г. в Большой серии «Библиотеки поэта» под редакцией Η. Ф. Бельчикова, зависело в текстологическом отношении от издания 1933 г. Оно уступало предыдущему в оснащенности биографическими материалами и справочным аппаратом. Вместе с тем издание 1939 г. отличалось рядом крупных новаций (включение в корпус новонайденных стихотворений из рукописи «Часы выздоровления», устранение по ней цензурных пропусков и вариантов, публикация полного текста юношеской повести «Новодевичий монастырь, или Приключение на Воробьевых горах» и проч.). Все произведения в издании 1939 г. независимо от жанра располагались в едином хронологическом потоке с выделением лишь переводных стихотворений.
Несколько небольших уточнений в тексты поэта внесли «Сочинения» Полежаева 1955 г. (вступит. статья и примеч. В. И. Безъязычного) и «Стихотворения и поэмы» 1957 г. во втором издании Большой серии «Библиотеки поэта» (вступ. статья Η. Ф. Бельчикова, подг. текста и примеч. В. В. Баранова). Обе книги принадлежат к типу изданий избранного, приближающегося к полному.
За последние 25 лет вышло несколько малообъемных сборников Полежаева, текстологического интереса не представляющих.[132]
Настоящее издание по охвату материала приближается к полному собранию стихотворений. Оно шире представляет стихотворное наследие поэта, чем сборник Полежаева во втором издании Большой серии. За пределами книги осталось несколько малосущественных произведений[133], а также те, атрибуция которых не может считаться бесспорной[134]. Корпус книги составляют разделы: Стихотворения, Поэмы, Переводы, Приложение. Последний содержит очень разные по своим жанрово-стилистическим параметрам произведения, тяготеющие к предельно удаленным друг от друга областям полежаевского творчества. Тут и полулубочный бытоописательный «Рассказ Кузьмы», и парадная ода «Гений», и ерническое стихотворение «Тарки», и, наконец, переделка острополитического стихотворения «Четыре нации», превращенного в безобидное «Три нации».
Материал в каждом разделе помещен в хронологическом порядке, приблизительность которого необходимо иметь в виду, так как многие стихотворения Полежаева с трудом поддаются датировке, а вопрос о времени написания некоторых остается открытым.
Серьезное внимание хронологизации творчества Полежаева уделил П. А. Ефремов, датировки которого (с теми или иными коррективами) заимствовали последующие публикаторы поэта (В. В. Баранов, Η. Ф. Бельчиков, В. И. Безъязычный). Однако знакомство с подготовительными материалами издания 1889 г.[135] приводит к выводу, что Ефремов чаще всего не располагал необходимыми документальными данными для датировок. Так, например, стихотворение, опубликованное в начале 1826 г., Ефремов безоговорочно датировал 1825 г. Нередко он довольствовался догадками, но при этом жестко привязывал произведения к одному или двум-трем годам литературной деятельности поэта[136]. Традиционные датировки, восходящие к изданию 1889 г., частично, но не вполне убедительно были пересмотрены в издании 1957 г. В настоящем издании субъективный элемент в определении дат по возможности ограничен. Отсюда обилие дат в угловых скобках, обозначающих либо время первой прижизненной публикации (иногда с поправками по датам цензурного разрешения)[137], либо год, не позднее которого оно написано, устанавливаемый по другим источникам[138]. Отсюда же несколько гипотетических дат (с вопросительным знаком) и рубрика «Стихотворения неизвестных лет». Данные для датировок в большинстве случаев отражены в соответствующих примечаниях.
В настоящем издании тексты произведений заново проверены по всем печатным и рукописным источникам с учетом их достоверности. В результате некоторые из текстологических решений предшествующих изданий пересмотрены. Устранены также отдельные погрешности, например, ошибочные пропуски строк (в «Рассказе Кузьмы», «Эрпели», «Царе охоты» и др.). Главная проблема полежаевской текстологии — реконструкция текста целого ряда произведений («Сашка», «Эрпели», «Кориолан», «<Узник>» и др.), т. е. восполнение цензурных купюр, устранение цензурных вариантов, искажений переписчиков и т. д. Решенная в основном предыдущими публикаторами стихотворного наследия Полежаева, задача эта подчас понималась ими чересчур широко — она сводилась к установлению «наилучшего», наиболее «осмысленного» текста, что иной раз приводило к произвольному сочетанию вариантов из разных источников, причем в примечаниях давались суммарные указания на сводный характер публикуемого текста, без точной регистрации исправленных и восстановленных строк. В настоящем издании контаминация текста по вкусовым соображениям отвергается. В каждом случае за основу брался один (если это возможно) наиболее исправный или полный источник текста. Устранение купюр и всякого рода искажений по другим источникам каждый раз оговаривается в соответствующих примечаниях с обязательной ссылкой на источник и порядковый номер стихов. Выбор источника текста или их соединение аргументируется, как правило, способом подачи текстологической информации. Каждое примечание начинается ссылкой на первую публикацию, затем — после точки и двойного дефиса — указываются последующие публикации, содержащие какие-либо смысловые отличия. Каждая публикация описывается (если для того есть основания) с точки зрения полноты, исправности и наличия вариантов. Если различия в публикациях не оговорены, это означает, что между ними есть несущественные (как правило, буквенные) разночтения. Отсутствие формулы «Печ. по…», применяемой в случаях реконструкции текста или тогда, когда произведение печатается по автографу, предполагает, что источником текста служит последняя из перечисленных публикаций. Во избежание дублирования номера стихов вариантов не указываются тогда, когда все необходимые сведения содержатся в разделе «Варианты», к которому отсылает звездочка перед номером произведения в примечаниях. Раздел «Варианты» не совсем обычен по материалу. Здесь, как принято, приводятся строки, появившиеся вследствие правки текста с целью его усовершенствования, чем, вообще говоря, Полежаев почти не занимался. В иных случаях, когда мы имеем дело с неопубликованными при жизни поэта произведениями, вопрос о том, кому принадлежат те или иные варианты — автору или переписчикам его произведений, зачастую остается открытым. Так, например, текст «Четырех наций», сохранившийся в автографе, существенно отличается от текста списков, некоторые из которых отражают, как можно думать, предшествующие стадии работы над стихотворением. Ввиду этого фиксация подобных вариантов представлялась достаточно целесообразной. Вообще отбор материала для этого раздела основывался на допущении, что варианты могли восходить к авторскому тексту (не дошедшие до нас ранние, промежуточные редакции, отмененная или вновь введенная правка и т. д.). Значительную часть раздела составляют цензурные варианты, в отношении которых также следует иметь в виду, что авторство Полежаева в них не всегда очевидно.
Если в примечаниях или разделе «Варианты» имеются ссылки на отсчет стихов в произведениях, то такие произведения (при наличии более 50 строк текста) пронумерованы по десяткам.
Орфография и пунктуация прижизненных сборников поэта в настоящем издании основательно приближены к современным нормам. Сохраняются лишь такие особенности написания слов, которые имели смыслоразличительное, стилистическое значение или подсказывались специфическим произношением.
В примечаниях не даются справки о мифологических персонажах, имеющиеся в «Советском энциклопедическом словаре», а из нешироко употребительных слов в текстах поэта (архаизмы, варваризмы, жаргонные слова и т. д.) поясняется только лексический материал, не охваченный «Словарем русского языка» С. И. Ожегова.
Условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Варианты»
«Арфа» — Полежаев А. Арфа: Стихотворения. М., 1834 (цензурное разрешение 25 ноября 1835 г.).
BE — журнал «Вестник Европы».
Гал. — журнал «Галатея».
ГБЛ — Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
ГИМ — Отдел письменных источников Гос. исторического музея.
ГПБ — Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ИВ — журнал «Исторический вестник».
Изд. 32 — Полежаев А. Стихотворения. М., 1832 (цензурное разрешение 12 января 1832 г.).
Изд. 57 — Полежаев А. Стихотворения / С портретом автора и статьею о его сочинениях, писанною В. Белинским. [Редактор H. X. Кетчер] М.: Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1857.
Изд. 88 — Полежаев А. И. Собрание сочинений / С биографией, портретом и факсимиле. М.: Издание В. Н. Улитина, 1888.
Изд. 89 — Полежаев А. И. Стихотворения / С биографическим очерком, портретом и снимками с рукописей. Под редакциею П. А. Ефремова. Спб.: Издание А. С. Суворина, 1889.
Изд. 1933 — Полежаев А. И. Стихотворения / Редакция, биографический очерк и примеч. В. В. Баранова. Л.: Academia, 1933.
Изд. 1939 — Полежаев А. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья, редакция и примеч. Н. Бельчикова. Л.: «Сов. писатель», 1939 (Б-ка поэта, БС).
Изд. 1955 — Полежаев А. И. Сочинения / Вступ. статья и примеч. В. И. Безъязычного. М.: ГИХЛ, 1955.
Изд. 1957 — Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья Η. Ф. Бельчикова. Подготовка текста и примеч. В. В. Баранова. Л.: «Сов. писатель», 1957 (Б-ка поэта, БС).
Изд. 1960 — Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, подготовка текста и примеч. В. С. Киселева. Л.: «Сов. писатель», 1960 (Б-ка поэта, МС).
ИОРЯС — «Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук».
«Кальян» — Полежаев А. Кальян: Стихотворения. М., 1833 (цензурное разрешение 29 сентября 1833 г.).
«Лира русского Шенье» — копии четырех стихотворений Полежаева в тетради под заглавием «Лира русского Шенье», посвященной «сердечному другу Федору Алексеевичу Кони» (ПД, фонд А. Ф. Кони).
ЛН — «Литературное наследство».
ЛН-15 — Бельчиков Н. Запрещенные цензурой стихотворения Полежаева // «Литературное наследство». 1934, № 15. С. 57–82. Публикация неизвестных стихотворений поэта, неизвестных строк и фрагментов по рукописи «Часы выздоровления» (см. ниже: ЧВ).
ЛПРИ — газета «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“».
МН — журнал «Московский наблюдатель».
МТ — журнал «Московский телеграф».
«Нива»-1914 — Лернер Н. О. Неизданные стихи А. И. Полежаева // «Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения». 1914, декабрь. С. 638–656. Публикация двух неизвестных стихотворений поэта по списку сборника «Урна» (см. ниже это сокращение). Здесь же, по автографу ПД, опубликована поэма «Царь охоты», представленная в цензуру 16 июля 1837 г.
«Нива»-1915 — Лернер Н. Из наследия А. И. Полежаева // «Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения». 1915, август. С. 574–590. Публикация шести неизвестных стихотворений поэта по тетради «Последние стихотворения А. Полежаева», представленной в цензуру 28 января 1838 г. и запрещенной к печати. В архивохранилищах тетрадь не обнаружена.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.
РА — журнал «Русский архив».
РПЛ — Русская потаенная литература XIX столетия: Отдел первый. Стихотворения / С предисловием Н. Огарева. Лондон, 1861. Ч. 1. Публикация четырех произведений Полежаева, в том числе поэмы «Сашка».
PC — журнал «Русская старина».
Список Шервуда — копии семи стихотворений поэта («Вечерняя заря», «Рок», «Ренегат», «Песнь <пленного> ирокезца», «Валтасар», «Живой мертвец», «Цепи»), приложение к доносу И. В. Шервуда на Московский университет и Полежаева от 9 февраля 1829 г. (ЦГАОР, фонд 111 Отделения, 1-й экспедиции. Опубл.: Баранов В. В. Судьба литературного наследства А. И. Полежаева // «Литературное наследство». 1934, № 15. С. 244–245).
Ст. — стих., стихи.
Тетр. ПД — тетрадь, подаренная Полежаевым А. П. Лозовскому и заключающая автографы шести стихотворений 1828–1835 гг. («<Узник>», «Нечто о двух братьях князьях Львовых», «Притеснил мою свободу…», «Ай, ахти! Ох, ура…», «Четыре нации», «Село Печки»). Тетрадь из бумаги с водяным знаком «1831». Два листа утрачены.
«Урна» — рукописный сборник «Урна. Стихотворения А. Полежаева», содержащий 14 стихотворений (ПД). Представлен в цензуру (цензору В. П. Флерову) «от дворового человека г-на Евреинова, Егора Макарова Баркова, живущего в доме купца Логинова на Тверской улице, 12 апреля 1838 г.». Причислена к запрещенным 22 апреля 1838 г. На обложке карандашная помета: «Не видно, какое право имеет представлявший. Все сии стихи списаны с тех, кои запрещены». Сборник «Урна» подробно описан в статье Н. О. Лернера (см. выше: «Нива»-1914).
ЦГАОР — Центральный гос. архив Октябрьской революции, высших органов гос. власти и государственного управления СССР.
ЦГИАМ — Центральный гос. исторический архив г. Москвы.
ц. р. — цензурное разрешение.
ЧВ — автографы 31 стихотворения Полежаева (включая 4 фрагмента из стихотворения «<Узник>»), составившие рукопись сборника «Часы выздоровления». Тетрадь из бумаги с водяным знаком «1836». Поступила в цензурный комитет 26 марта 1837 г., причислена к запрещенным 25 мая 1837 г. На обороте первого титула рукой А. П. Лозовского вписано: «А. П. Л… (При посылке рукописи)», начало: «Ты хочешь, друг, чтобы рука…» На втором титуле надпись рукой Лозовского: «По поручению подал Александр Петров Лозовский, жительство имею на Лубянке, в доме купца Лухманова». На обороте второго титула — два стихотворных эпиграфа на французском языке. В конце тетради после стихотворений Полежаевым вписаны «Замечания» к некоторым из них («Осужденный», «Белая ночь», «Гальванизм, или Послание к Зевесу», «Отрывок из послания к А…П…Л…..» — «Ты мне чужой — не с давних лет…»). Тетрадь имеет переписанное Лозовским «Добавление к рукописи „Часы выздоровления“. Стихотворения Полежаева», куда вошли «Отрывок из поэмы „Узник“» и «Видение» (из В. Гюго). Местонахождение всей рукописи в настоящее время не установлено.
Экз. Изд. 32 — экземпляр Изд. 32 (см. выше), содержащий карандашные вставки и поправки, сделанные П. А. Ефремовым. Библиотека Института русской литературы АН СССР.
Экз. Изд. 32 (ГБЛ) — экземпляр Изд. 32 (см. выше), содержащий карандашные вставки и поправки, сделанные П. А. Ефремовым. Книжный фонд Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Экз. Изд. 89 — экземпляр Изд. 89 (см. выше), содержащий правку редактора этого изд. П. А. Ефремова. Библиотека Института русской литературы АН СССР.
СТИХОТВОРЕНИЯ
1. BE. 1825, № 23/24, подпись: П-л-ж-в. Шотландский писатель Дж. Макферсон (1736–1796) опубликовал в 1760–1765 гг. собрание поэм легендарного древнего барда Оссиана, в действительности сочиненных самим Макферсоном. Эпизод поэмы, по мотивам которой написано ст-ние Полежаева, напечатан Макферсоном в качестве осколка утраченной будто бы поэмы Оссиана. Непосредственным источником для Полежаева послужил не русский перевод Е. Кострова (Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века / Гальские стихотворения: 2-е изд. Спб., 1818. С. 113–114), а французский перевод П. М. Л. Баур-Лормиана, где были изменены собственные имена оригинала (кроме Морни).
2. BE. 1825, № 23/24, подпись: П-л-ж-в.
3 *. BE. 1826, № 1, подпись: П-ж-в. — Изд. 32, с ошибочным пропуском в ст. 31 слов «И всё совершилось». — Печ. по BE. В Изд. 89 с вар. П. А. Ефремов заблуждался, утверждая (Изд. 89. С. 534), что эти вар. имеются в BE.
4. BE. 1826, № 1, подпись: П-ж-в. Положено на музыку Π. П. Сокальским.
5. PC. 1871, № 10, без имени автора, без загл., без ст. 65–66, с вар., по неисправному или плохо прочитанному списку, в статье А. Н. Неустроева «Проект Александра I об одежде лиц духовного сословия». — Печ. по списку ПД из бумаг Ф. А. Кони (впервые — Изд. 1933), с уточнением ст. 59 потому же списку: «лик» (а не «меж»). Подпись под ст-нием, а также местонахождение копии среди бумаг близкого к Полежаеву литератора — достаточно определенно решают вопрос об атрибуции этого текста. Повод к написанию «Новой беды» — слухи о проекте царского указа от 31 августа 1825 г., который не был обнародован, вероятно из-за смерти Александра I. Проект указа, процитированный в названной статье Неустроева, должен был положить конец тому, чтобы «жены и дочери священно-церковно-служителей» облекались в «мирские наряды», водворяя «между собою разорительную роскошь и непостоянство». Ввиду этого святейшему Синоду поручалось «составить правила о благоприличном духовным лицам одеянии, которое отличало их от мирских» (PC. 1871, № 10. С. 443–444). В ст-нии затронута характерная для Полежаева тема перемены социальных ролей, сопровождаемой переодеванием (ср. ее разработку в «Имане-козле», «Сашке» и «Эрпели»). В «Новой беде» сказалась индивидуальная особенность сатиры поэта — критика в два адреса, из которых один представляет господствующую сторону (в данном случае отцы церкви), а другой — подчиненную (поповны). См. об этом во вступ. статье. Фотий (светское имя: Петр Никитич Спасский, 1792–1838) — архимандрит и настоятель Юрьевского монастыря (под Новгородом), религиозный фанатик и интриган; пользовался значительным влиянием на Александра I в последние годы его жизни. Мысль об издании указа, очевидно, была внушена царю именно Фотием (см.: Попов К. Юрьевский архимандрит Фотий и его церковно-общественная деятельность // «Труды Киевской духовной академии». 1875, июнь. С. 775). Авраамов век — времена библейского патриарха Авраама, мифического родоначальника еврейского народа. У матушек Ревекк. Ревекка — внучка Авраама, жена Исаака, в библейской книге Бытия — один из главных женских персонажей. Обряды назореев. Назореи — последователи Христа; Назарет — город в Галилее (Палестине), где проповедовал Христос. Покров пустынный — грубая одежда монахов, живущих в «пустыни», т. е. в отдаленных, глухих местах. Флавий Иосиф (ок. 37 — ок. 95) — еврейский историк и военачальник, автор сочинений «Иудейская война», «Иудейские древности», содержащих сведения по истории христианства. Шаликов Петр Иванович (1767–1852) — издатель «Дамского журнала» (1823–1833), регулярно информировавшего читательниц о последних парижских модах. Фигура Шаликова, третьестепенного литератора, самолюбивого и раздражительного, писавшего в слащаво-сентиментальной манере, была излюбленной мишенью сатир, эпиграмм и пародий.
6. BE. 1826, № 5. И скорбной участи моей — цитата из «Кавказского пленника» Пушкина.
7 *. Гал. 1829, № 3, подпись: —ъ — ъ, под загл. «Вечер», без ст. 41–44, 51–54, 59–62. — Изд. 32, без ст. 41–44. — Печ. по Изд. 1933, где пропуск восстановлен по списку Шервуда и «Лире русского Шенье». В Изд. 89 после ст. «Сокрушила судьба» три ряда точек, причем П. А. Ефремов ошибочно отнес пропущенное четверостишие (ст. 41–44) в конец ст-ния. В «Лире русского Шенье» с вар. и с пропуском ст. 51–54. Палачу отдана — Николаю I.
8 *. «Библиографические записки». 1859, № 20 (публикация И. М — к), без последней части о России и с перестановкой частей об англичанах и французах. — РПЛ. — Некрасова Е. С. Альбом С. Д. Полторацкого // PC. 1887, № 10. — Изд. 88, без части о России, текст, близкий к первой публикации, но с правильной композицией частей. — Изд. 89, ст. 8–9, 18–24 и 33–34 переставлены; ст. 40 «В России…», без ст. 41–52 и 65–66. — Бобров Е. А. Новые данные о поэте А. И. Полежаеве // ИВ. 1905, июнь, часть 2 после части 3. — Львов-Рогачевский В. Революционные мотивы в русской поэзии. Тула, 1921 (всюду с вар.). Кроме последнего изд. и РПЛ, все публикации имеют ценз. изъятия (всегда без ст. 46–48 или 41–52). — Печ. по тетр. ПД, с восстановлением зашифрованных и пропущенных слов по РПЛ (впервые этот текст — Изд. 1933, публикация В. В. Баранова). По данным Е. А. Боброва, полученным от дальнего родственника поэта (см.: Бобров Е. Рузаевский список «Четырех наций» А. И. Полежаева // ИОРЯС. 1907, кн. 2. С. 439–447), «Четыре нации» написаны экспромтом в 1827 г., во время отпуска, проведенного Полежаевым в селе Рузаевка (Пензенской губ.), имении А. П. Струйской, его бабушки по отцу. Сличая текст ст-ния по хрестоматии Н. В. Гербеля («Русские поэты в биографиях и образцах». Спб., 1873, заимствован с ценз. пропусками из РПЛ), «Библиографическим запискам», PC, Изд. 88 и Изд. 89, Бобров пришел к выводу, что все эти публикации в основном восходят к трем вариантам текста: рузаевскому списку под загл. «Четыре народа», РПЛ и третьему, неизвестному источнику. Изучение печатных и неопубликованных списков убеждает в том, что в процессе длительного нелегального бытования текст «Четырех наций» обрастал вар., утрачивая некоторые строки (чаще всего ст. 8–9, 12, 19–22, 36–40, 41–44, 57, 59–60, 63–64, 65–66), иные строки переставлялись (8–9, 21–22, 18–24, 33–34, 35–36, 65–66). Правдоподобно предположение Боброва, что ст-ние имело раннюю редакцию (рузаевский список). Вероятно, сам Полежаев менял текст «Четырех наций», сообщая его время от времени своим знакомым, вследствие чего возникли иные строки текста, к которым позднее присоединились вар. переписчиков и распространителей. Наиболее существенные вар. см. в разделе «Варианты», где использованы также списки ПД: I (Р III, оп. 1, № 1648), II (13899 / LXXV б. 18), III (ф. 265, оп. 1, № 17). Позднее Полежаев написал легальный вариант ст-ния (без характеристики русских), под загл. «Три нации», предназначавшийся для запрещенного в 1837 г. сб. «Часы выздоровления» (см. раздел «Приложение» и примеч. к ст-нию). «Четыре нации», бесспорно, самое популярное ст-ние поэта, распространявшееся во множестве копий (иногда с атрибуцией текста Пушкину; такой список за подписью Пушкина — в архиве Гос. театрального музея им. А. А. Бахрушина, № 1254, список 1). В черновике неотправленного письма Гоголя к Белинскому (июль — август 1847 г.) в ответ на знаменитое письмо критика к Гоголю от 3/15 июля 1847 г. цитируются ст. 15–18, 23–26 «Четырех наций» как строки ст-ния Пушкина (см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952. Т. 13: Письма. 1846–1847. С. 440). Декабрист М. И. Муравьев знал ст-ние Полежаева и исполнял его под музыку (см.: Знаменский М. С. Воспоминания художника // «Сибирские огни». 1946, № 2. С. 101).
9. Гал. 1829, № 6, подпись: — ъ — ъ. — МТ. 1829, № 2, без подписи, под загл. «Видение Валтазара (Подражание Байрону)», с незначительными вар. — Печ. по Гал. В списке Шервуда (с искажениями) подчеркнуты ст. 46–47. Оба журнала, вышедшие почти одновременно (МТ чуть позднее Гал.), вступили в затянувшуюся перебранку по поводу того, кто у кого заимствовал ст-ние Полежаева, причем в перепалку в качестве свидетеля был вовлечен сотрудник МТ поэт А. Г. Ротчев. С. Е. Раич и Н. А. Полевой (издатели журналов) заявили, что получили рукопись от самого автора (не упоминая его имени), при этом Полевой назвал Полежаева «переводчиком», ошибочно полагая, что ст-ние — перевод байроновского «Видения Валтасара». Очевидно, он принял ст-ние за перевод по аналогии с ранее опубликованным в его же журнале ст-нием Байрона в вольном переводе И. Бороздны (МТ. 1828, № 2. С. 193–195). Раич поспешил опровергнуть Полевого: «стихи сии совсем не перевод, как вы их называете, а оригинальное сочинение, доставленное в редакцию „Галатеи“ при письме от автора, так же точно, как и другие его стихотворения, напечатанные в моем журнале» (Гал. 1829, № 26. С. 281–282). Большего доверия заслуживает публикация Гал., так как именно этот текст был повторен без изменений в Изд. 32. О ходе полемики 1829 г. см.: МТ. № 2. С. 288 (Полевой);·Гал. № 9. С. 164–165 (Раич); МТ. № 12. С. 534–535 (Полевой); Гал. № 26. С. 281–282 (Раич); МТ. № 13. С. 127–128 (Ротчев); Гал. № 30. С. 248–249 (Раич). Книга пророка Даниила — одна из книг Ветхого завета, в 5-й гл. которой рассказывается о гибели последнего вавилонского царя Валтасара. Когда он устроил роскошный пир, на стене дворца рука невидимого существа начертала смутившие царя таинственные письмена. Из всех мудрецов и гадателей только пророк Даниил понял смысл надписи, означавшей, что Вавилон будет захвачен персами, а Валтасара ожидает неминуемая гибель. По мнению В. В. Баранова, обращение Полежаева к легенде о пире Валтасара подсказано пышными торжествами по случаю коронации Николая I в Москве в 1826 г. (см.: Баранов В. В. Восстание 14 декабря 1825 года и поэзия Полежаева // «Ученые записки Калужского гос. пед. ин-та им. К. Э. Циолковского». Калуга, 1963. Вып. 11. С. 14). Однако В. В. Баранов не учел того, что в образе полежаевского Валтасара вовсе отсутствуют черты тирана. Подражанием ст-нию Полежаева явился «Певец» А. В. Тимофеева («Маяк». 1843, т. 8, кн. 15. С. 21), отзвук «Валтасара» ощутим также в «Попутном ветре» Д. Н. Садовникова («Поэты-демократы 1870—1880-х годов». Л., 1968. С. 534).
10. Гал. 1829, № 49, подпись: 1.15, под загл. «Отрывок из поэмы „Гарем“», с перестановкой ст. 26–27, без ст. 1–8, 28–29, 45–57, 67–70, 80–99, снятых по ценз. причинам. — Изд. 32, под загл. «Гарем», ст. 5 с пропуском слов «чалмою крест обменит», без ст. 28–29, 45–57, 67–70, 80–91. - Изд. 89, с частичным восполнением купюр по неизвестному источнику. — Изд. 1933, сводный текст Изд. 32, Изд. 89 и списка Шервуда (вопреки указанию в комментариях, что текст приводится по списку Шервуда, где в действительности утрачены ст. 27, 75 и имеются искажения). - Печ. по Изд. 32, с восполнением купюр по копии Шервуда. Ст. 50 восстановить не удалось: в Изд. 89 приведено его начало: «Что мне закон…» В списке Шервуда: «Что мне… Что…» В Изд. 1960 предложена конъектура: «Что мне закон! Что <наказанье бога>».
11 *. Альм. «Северное сияние». М., 1831, подпись: ….ъ…ъ, под загл. «Глас несчастливца». — Изд. 32, в обеих публикациях без ст. 7–8, 25–28, 35–36, с ценз. вар. ст. 38–40. — Изд. 57, с теми же ценз. вар. — Печ. по Изд. 32, с восполнением купюр и ст. 38–39 по списку Шервуда; ст. 40 (в списке: «-- я») восстановлен в Изд. 1933. В Экз. Изд. 32 вписаны карандашом пропущенные строки, ценз. вар. исправлен на подлинный, а последний ст. обозначен: «На цепи ……». Те же купюры восполнены на Экз. Изд. 32 (ГБЛ).
12. Изд. 32, без 4-х последних ст. — Изд. 89, без 2-х последних ст. — Печ. по Изд. 32 с восстановлением ценз. пропуска по списку Шервуда (где подчеркнуты ст. 21–25 и 31–32). В Экз. Изд. 32 вписаны ст. 29–30, а два заключительных обозначены точками. В «Роке» различимы отзвуки ст-ния И. А. Крылова «Ночь»:
Уже на Западе остылом Зари румяный след угас, И звоном колокол унылый Давно пробил полночный час. … Уснули страсти у людей…Образы «Рока», видимо, также подсказаны ст-нием неизвестного автора «Ночь марта 1801 года», написанного по поводу убийства Павла I (сохранилось в копии ПД):
О муза! Толь виденья новы Не значат рок простых людей, Но рок полубогов суровый! Звучит на башне медь — час нощи. Во мраке стонет томный глас. Все спят — прядут лишь парки тощи. Ах, гроба ночь покрыла нас…Калейдоскоп — трубка с отверстием, через которое при поворачивании наблюдаются разнообразные цветные узоры и фигуры. Использовался как детская игрушка. Беспрограммный механизм калейдоскопа ассоциируется с абсолютным безразличием рока в выборе своих жертв и фаворитов. Али Янинский (1741–1822) — турецкий паша, наместник Албании, в то время являвшейся одной из провинций Османской империи; успешно вел междоусобную борьбу с султаном Махмудом II; в 1822 г. был взят в плен и убит. В анонимной статье «Али Паша» («Сын отечества». 1819, № 21. С. 53–54), с которой, видимо, был знаком Полежаев, сообщалось: «Завидуя возрастающему могуществу Янинского Паши… Порта несколько раз прибегала к снурку, сему последнему и ужасному орудию восточных деспотов, однако неутомимая бдительность Али Паши и звонкость его червонцев не только не предохранили его от смерти, но часто доставляли ему удовольствие предупреждать намерение самого султана… С сими поручениями посылаются капиджи, придворные чиновники… Они посылаются с потаенным фирманом для снятия головы наместников». Крез избег костра при грозном Кире. Крез — царь малоазиатского государства Лидии (ок. 560–546 до н. э.), славившийся несметным богатством. В 546 г. до н. э. Лидия была завоевана персами, предводительствуемыми царем Киром (ок. 558–529 до н. э.). Согласно легенде, переданной Геродотом, Крез перед сожжением на костре трижды произнес имя мудреца Солона. Кир потребовал разъяснений. Тогда Крез привел изречение Солона о том, что на свете нет счастливого человека, покуда он жив. Кир, на которого эти слова произвели впечатление, отменил казнь Креза (Геродот. История: В девяти книгах. М., 1888. T. 1. С. 45–46). Рима властелин — народный гладиатор. Речь идет о том, что победоносный гладиатор Спартак сделался любимцем римской публики, даровавшей ему свободу.
13. Никольская Г. В. Неизвестные стихи Полежаева // «Звезда». 1930, № 2, под загл. «Еще нечто», по тетр. ПД. - Печ. по этому автографу. Загл. «Еще нечто», опускаемое в последних изданиях Полежаева, обусловлено специфическим характером тетр. ПД, в которой пять ст-ний (из шести) объединены рубрикой «Нечто» (л. 20), означающей: нечто нецензурное. Подбор ст-ний в тетр. ПД, подаренной автором А. П. Лозовскому (см. о нем примеч. 14), очевидно продиктовано желанием поэта сохранить в надежных руках тексты этих ст-ний. Притеснил мою свободу… штабс-солдат. В результате несвоевременной явки в казармы и перебранки по этому поводу с фельдфебелем Полежаев в мае 1828 г. был заключен в каземат Спасских казарм. Ст-ние, видимо, написано вслед за происшествием, когда Полежаев надеялся, что его арест не будет продолжительным. Однако репрессия 1828 г. стала одной из самых тяжких в его жизни (см. об этом во вступ. статье).
14 *. При жизни поэта, в 1829–1830 гг., в Гал. было опубликовано (фактически анонимно) четыре фрагмента произведения. В середине 30-х гг. Полежаев переписывает полный текст ст-ния с зашифровкой и пропуском ряда строк в конспиративную тетрадь ст-ний, предназначенную для личного пользования адресата (о тетр. ПД см. в Списке условных сокращений). В 1837 г., составляя новый сб. «Часы выздоровления», поэт вводит в него и опубликованные отрывки, причем два из них (ст. 1—52, во второй вошли ст. 269–273, 177–192, 195–204) были снабжены французскими эпиграфами, а к ст. 41 было дано обширное «замечание». Разбросанные среди других ст-ний рукописи, отрывки, хотя и разрешенные ранее к печати, тем не менее подчеркивали автобиографическую природу тюремной темы в поэзии Полежаева, и без того достаточно широко представленной в этой рукописи, что и послужило одним из поводов для ее ценз. запрещения. В дальнейшем «<Узник>» долгое время также печ. в извлечениях. В относительно полном виде произведение появилось лишь в 1861 г. за рубежом. Впервые подлинно авторский текст обнародован в 1933 г. История текста «<Узника>» в печати выглядит след. образом: Гал. 1829, № 12, ст. 63–72, под загл. «Другу при посылке стихов»; № 14, ст. 1—52, под загл. «К…»; № 30, монтаж ст. 269–273, 177–192, 195–204, под загл. «Отрывок», всюду подпись — ъ. — ъ; Гал. 1830, № 11, ст. 231–264, под загл. «Отрывок из поэмы „Узник“», подпись:…р в… (отрывок из № 12 вошел в «Часы выздоровления» под загл. «А. П. Л….у при посылке рукописи „Часы выздоровления“. Стихотворения А. Полежаева»). - Изд. 57, три отрывка: ст. 1—57, под загл. «А. П. Л….у»; монтаж фрагментов: ст. 63–72, 269–272, 177–203, под общим загл. «К нему же»; ст. 231–264 и 349–380 под загл. «Отрывок» (без ст. 355, обозначенного точками), с вар. — «Развлечение». 1860, № 19, 14 мая, ст. 121–132, 147–170 (ст. 163 пропущен ошибочно), 269–304, 341–343, 345–347, подборка преимущественно неопубликованных фрагментов (пропуски текста между ними обозначены строками точек), под общим загл. «Отрывок из поэмы „Узник“», с вар. и искажениями. — РПЛ, под загл. «Арестант», с посвящением «Другу моему А. П. Лозовскому», без ст. 100, 118, 147, 150, 219–222, 265–266, 339–340, 355, с многочисленными вар., с перестановкой строк в гл. 4–7: ст. 269–347 (с исключением ст. 339–340) — после 204; ст. 205–268 (с исключением ст. 265–266) — после 347 (ст. 213–218 — после 226), затем следуют ст. 349–382, к загл. дано примеч. публикатора Η. П. Огарева: «„Арестант“. Две рукописи лучшей поэмы Полежаева, бывшие у нас, содержат одни и те же пропуски. От этого столько точек. Если у кого есть более полная рукопись, он очень обяжет нас, приславши ее; мы могли бы в следующем выпуске пополнить недостающие места». — РА. 1881, кн. 1 (в биографическом очерке Д. Рябинина «Александр Полежаев»), с ошибочным загл. «Спасские казармы», без вступ. части (ст. 1—62), без ст. 100–104; 113–116, 118, 139–146, 205–208, 308–330, 333–340,355, с искажениями, произвольно отредактированными и дописанными строками, с перестановками текста в гл. 4–7. — Изд. 88, текст, близкий к публикации РПЛ с характерной для нее композицией, дополненный рядом недостоверных вар. РА и др. вар. того же рода (устраняющими брутальную лексику), без ст. 100, 114–116, 118, 139–146, 205–208, 217–226, 308–330, 333–340, 355, 376. - Изд. 89 (по несохранившемуся списку H. X. Кетчера), без ст. 141–146, 165–168, 301–302, 308–330, 333–338, в гл. 4–5 ст. 209–217 и 227–264 переставлены в гл. 7 между ст. 348 и 349, с вар. — Никольская Г. В. Неизвестные стихи Полежаева // «Звезда». 1930, № 1, по тетр. ПД, только ст. 205–226, в составе которых впервые были опубликованы ст. 219–222. - Изд. 1933, публикация по тетр. ПД и РПЛ, под загл. «Александру Петровичу Лозовскому (Арестант)». Расшифровка ст. 265–266, осуществленная В. В. Барановым в этом изд., будучи гипотетической, принята во всех современных изданиях Полежаева. — В наст. изд. печ. сводный текст автографа (в тетр. ПД ст. 296–308 и 333–356 утрачены — отсутствуют два листа рукописи) и РПЛ. Аргументом для изменения загл. служит прижизненная публикация 1830 г. фрагмента произведения, названного: «Отрывок из поэмы „Узник“». Загл. «Александру Петровичу Лозовскому» в Изд. 1933 (повторенное в последующих изд. Полежаева), взятое из тетр. ПД, следует с бо́льшим основанием рассматривать как посвящение всей тетр. ПД А. П. Лозовскому. Таким же посвящением в тетр. ПД начинается и текст гл. 1. Кроме того, текст «<Узника>» в наст. изд. дополнен французскими эпиграфами и прозаическим «замечанием», введенными в ЧВ (как это уже делалось в Изд. 1957). Последнее наращение текста имеет компромиссный характер: «замечание» с его стихотворными автоцитатами рассчитано на восприятие только фрагмента произведения (ст. 1—52), который использовался в ЧВ в качестве отдельного ст-ния («замечание» впервые опубликовано в Изд. 1939, эпиграфы — в Изд. 1957). «<Узник>» в тетр. ПД имеет пропуски и зашифрованные (т. е. недописанные или обозначенные начальными буквами) слова. По примеру предыдущих советских изданий в настоящем сб-ке все расшифрованные и восполненные элементы текста (они в большинстве своем восстанавливаются по РПЛ) заключены в угловые скобки. Ст. 144 в РПЛ: «И все служить ему хотят» (в рукописи: «И все сл….. ему хотят») отвергался публикаторами полежаевских текстов как произвольный вар., что едва ли резонно: сочетание озлобленности и послушания, бунтарства и забитости — такая противоречивость солдатских настроений вполне в духе поэта с его парадоксальной полярностью чувств и стремлений. По мнению С. А. Рейсера, глагол «служить» «не содержит ничего такого, что надо было бы опускать» (комментарий к сб. «Вольная русская поэзия конца XVIII — первой половины XIX века». Л., 1970. С. 841). Однако Полежаев маскировал как раз все реалии, связанные с военной службой — институтом, непосредственно управляемым царем-деспотом. В незашифрованном виде слово «служить» облегчало бы разгадку остро обличительных ст. 135–146, метивших в Николая I. До настоящего времени остается неизвестным ст. 100. Расшифровка ст. 206 и 266 предположительна. Пропуски в ст. 75, 142 — слова, не удобные в печати. Можно думать, что не все точки из числа оставшихся в тексте ст-ния — результат маскировки и что в ряде случаев мы имеем дело с мнимой неполнотой текста. Нерифмующиеся строки (ст. 56, 274, 347, 349, 376), неполное количество стоп в стихе (ст. 96, 361, 372–373, 375) — эти «недосмотры» по-своему выражают необычный облик произведения, чуждого художественной законченности. Особенно показателен конец, где распад ритма (заимствованного из «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского — четырехстопный ямб с форсированной пульсацией ударных слогов) оправдан предсмертным отчаянием автора, как бы освобождающим его от миссии стихотворца. В раздел «Варианты» внесены только те строки, которые, возможно, являются авторскими, а также вар. рукописных вставок на Экз. Изд. 89. «<Узник>» являет черты сходства с распространявшимся в списках посланием декабриста В. Ф. Раевского «К друзьям в Кишинев», написанным в 1822 г. во время ареста автора. О соотношении обоих произведений см. во вступ. статье. Полежаева сближает с Раевским описание тюрьмы как темницы «с смрадными парами», которую охраняет часовой; оба автора сравнивают себя с одинокими пловцами (у Полежаева — челнок); друзья у Раевского охарактеризованы и как приверженцы эпикурейских услад (упоминаются Вакх, «волшебницы младые»). Лозовский А. П. (1809 — после 1860) — друг Полежаева. Родом из «обер-офицерских детей», отданный в службу в юности, он медленно продвигался по нижним ступеням чиновничьей лестницы. Какие-то обязанности, которые Лозовский исполнял в штате московского приказа общественного призрения, очевидно, и свели его с поэтом-арестантом. Именно Лозовский побуждал Полежаева писать стихи в тюрьме. В результате возникла стихотворная исповедь потрясающей человеческой откровенности. В ст-нии «Красное яйцо» (1836) Полежаев вспоминает о том, как Лозовский сумел утешить его в самую мрачную пору тюремного заточения 1828 г. Лозовскому посвящены также ст-ния «Бесценный друг счастливых дней…», «Имениннику», ряд строк в ст-нии «Ночь на Кубани» (они процитированы поэтом в вышеуказанном «замечании»). К нему же обращены прозаическое вступление к «Чир-Юрту» и два «Отрывка из писем»: «И нет их, нет, промчались годы…», «Но горе мне с другой находкой…». Во время отсутствия Полежаева в Москве Лозовский вел его издательские дела — неоднократно представлял в ценз. комитет ст-ния поэта, предлагал их для печати в журналы и т. д. 26 марта 1837 г. он сдал в цензуру рукописный сб-к «Часы выздоровления», который 25 мая был запрещен к печати. (Сводку данных о личности Лозовского см.: Баранов В. В. А. И. Полежаев: Биографический очерк // Изд. 1933. С. 88–89; Безъязычный В. И. А. И. Полежаев и царская цензура // «Научные труды Московского заочного полиграфического ин-та». Вып. 3. М., 1955. С. 66–67). Лозовский был хранителем автографов поэта, в том числе тетр. ПД, заполненной стихами Полежаева по его просьбе. После смерти поэта Лозовский предоставил его рукописи в распоряжение H. X. Кетчера — редактора Изд. 57, а также напечатал в «Развлечении» вышеуказанные фрагменты посвященного ему ст-ния. Абадонна — падший ангел в поэме «Мессиада» немецкого поэта Ф. Г. Клопштока (1724–1803). Уриил — имя серафима из той же поэмы. Пояснения к «замечанию». Орест и Пилад (греч. миф.) — неразлучные, преданные друзья, чьи имена стали нарицательными для обозначения верной, нерушимой дружбы. Любовь и дружба — пара слов и т. д. Эти и след. два стиха — автоцитаты из первой гл. данного ст-ния. Я буду — он, он будет — я и т. д. — автоцитата из ст-ния «Ночь на Кубани». Спасские казармы — казармы на Большой Спасской (ныне Садово-Спасской) улице, где размещались части, несшие в Москве караульную службу. 1. Чайльд-Гарольдова тоска — безысходная тоска, преследовавшая героя поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1809–1816). Неочиненное перо — гусиное перо, еще не обрезанное надлежащим образом и не употреблявшееся для писания. 2. Вал Земляной — старое название улицы (ныне ул. Чкалова, входящая в Садовое кольцо) и местности в Москве. Странноприимный дом — заведение для содержания инвалидов и бедняков, основанное в 1803 г. графом Η. П. Шереметевым (ныне в этом здании Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского), находилось у Сухаревой башни неподалеку от Спасских казарм. И проблеск солнечных лучей и т. д. Описание тюрьмы перекликается с изображением темной, грязной корчмы в «Чувствительном путешествии в Ревель» (1823) H. М. Языкова:
И мы вошли в сию корчму — Она похожа на тюрьму… …И вдоль стола того — скамья… …Окно с замаранным стеклом, Чтоб даже сумрачным лучом Не освещалася корчма.Броня сермяжная — здесь: солдатская шинель. Вербованный — здесь: взятый на службу. Триста шестьдесят пять дней. Подсчет носит округленный характер: Полежаев пробыл в тюрьме Спасских казарм с мая по декабрь 1828 г. В кругу Плутоновых людей — в кругу обитателей ада; здесь: среди солдат-штрафников. 4. Б<ыть> по с<ему> — обычная формула в императорских указах. С этим местом ст-ния (ст. 215–218) связан любопытный эпизод. В дневнике студента Ф. В. Чижова содержится запись (от 5 апреля 1835 г.) о том, как бумага, в которую был завернут купленный в лавке клей, оказалась «подметным листком». Чижов привел его текст в дневнике:
Как тяжело сказать уму: «Оставь свой свет, приймись за тьму», И как легко сказать И на бумаге написать: «Мы, Николай, быть по сему».(Дневник 1831–1836 гг. Л. 188–189 // ГБЛ. Фонд Ф. В. Чижова, 1/3). Сходство со строками Полежаева следует объяснить либо тем, что поэт «процитировал» какой-то ходивший по рукам текст, либо распространением его собственных ст., обраставших вар. в процессе своего нелегального бытования. Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, прославившийся эффектной планировкой парков и садов. Ватага — здесь: узники каземата. Бог винограда, бог вина — Вакх (Дионис). Тирс (греч. миф.) — жезл Вакха и его спутников, обвитый плющом и виноградными лозами. Эван, эвое! — ритуальные восклицания древних греков на праздниках в честь Вакха. Н<ерон> — см. примеч. 123. И<скариот> — Иуда Искариотский, прозванный так по месту своего рождения — местечку Искариот. Н <емврод> — библейский персонаж, легендарный основатель Вавилонского царства; за ним упрочилась репутация первого поработителя людей. Лобызая, удушил. Очевидно, намек на то, что, отправляя Полежаева на военную службу, Николай I лицемерно облобызал его на прощание (см. вступ. статью). 6. Система звезд, прыжок сверчка и т. д. — до конца гл. Высказывалось предположение, что философский экскурс поэта, очевидно, внушен знаменитым рассуждением Эпикура, вскрывшим несостоятельность идеи всемогущего, всеведущего и всеблагого божества (см.: Бельчиков Η. Ф. А. И. Полежаев // Изд. 1957. С. 21). Рассуждение это, известное в передаче Л. И. Ф. Лактанция, было сочувственно процитировано французским философом-материалистом П. Гольбахом в его сочинении «Здравый смысл, или Естественные идеи, противопоставленные идеям сверхъестественным». По мнению В. В. Баранова, трактовка Полежаевым проблемы теодицеи (согласование идеи бога как воплощения добра с неизбежностью зла на земле) идет непосредственно от суждений самого П. Гольбаха в том же сочинении (Баранов В. В. Отражение материалистической философии Гольбаха в поэзии А. И. Полежаева // «Научные доклады высшей школы: Филологические науки». 1960, № 2. С. 139). Сходство мыслей Полежаева с приводимыми Бельчиковым и Барановым суждениями Эпикура и Гольбаха очевидно, но оно носит довольно общий характер. Можно указать на подобное же совпадение суждений поэта с соответствующими высказываниями других французских просветителей — Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, Ж. Б. Робине (см.: «Французские просветители о религии». М., 1960. С. 315, 121–123, 517), с мыслями в стихах Вольтера («За и против», «Поэма на разрушение Лиссабона»). Нет сомнения, что знакомство с просветительской критикой религиозных догматов Полежаев почерпнул также из отечественных источников, как рукописных (см., например, сочинение неизвестного автора конца XVIII в. «Зерцало безбожия» // «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века». М., 1952. Т. 2. С. 537–539), так и устных. Учившийся в Московском университете одновременно с поэтом Н. И. Пирогов сообщает, что от своих товарищей-студентов он усвоил следующее атеистическое резонерство: «Бог… всеведущ, всевидящ, правосуден, милосерд, поэтому он знал наверное, что мы будем злы, и все-таки накажет нас потом за то, что мы были злы, где же тут справедливость и милосердие?» На возражение: «Да ведь тебе бог дал волю, выбирай, не делай зла» Пирогов отвечал: «…к чему же мне эта воля, когда богу заранее было известно — ведь он всеведущ, — что я согрешу и буду грешником?» (Пирогов Н. И. Дневник старого врача // Соч. Киев, 1910. Т. 2. С. 246). Отвергая догмат о всемогущем, всеблагом и всеведущем боге, Полежаев все-таки не порывает до конца с идеей творца мироздания, о чем говорят начальные строки гл. 6, где целесообразность устройства вселенной приписана воле ее создателя, — мысль, которая не отменяется дальнейшими рассуждениями. Названные строки отсылают к картине божественного миропорядка, ранее нарисованной самим же Полежаевым в ст. 34–46 оды «Гений». Такого рода картина — почти обязательный компонент просветительской философской лирики деистической ориентации («Бог в нравственном мире» А. X. Востокова, «Случай» H. С. Арцыбашева, «Бог» И. П. Пнина, «Бог» В. В. Попугаева — перевод из поэмы П. Д. Э. Лебрена «Природа»). Омега, альфа бытия. Реминисценция Апокалипсиса, где богу приписаны слова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (откровение св. Иоанна Богослова: I, 8, 10; XXII, 13). Говоря о суде всевышнего над творением, поэт тем самым намекает и на день Страшного суда, о котором рассказывается в Апокалипсисе. Преданья старины, что мы в делах своих вольны. По христианскому вероучению, бог даровал людям свободу выбора между добром и злом. Позиция Полежаева противоречива: в гл. 7 он признает себя виновным в совершенном зле (вопреки тому, что сказано в гл. 6) и в разразившейся над ним беде видит заслуженное возмездие верховной нравственной инстанции. Всё чрез него и от него — отзвук Евангелия от Иоанна («Все чрез него начало быть»: I, 3). 7. Струйский — скорее всего речь идет о дяде поэта Александре Николаевиче (1789–1834), который заботился о нем в годы его студенчества. В бумагах Полежаева при первом его аресте в 1826 г. был обнаружен черновик письма к А. Н. Струйскому «совершенно в духе раскаявшегося человека в прежних шалостях» (Баранов В. В. А. И. Полежаев // Изд. 1933. С. 82). Одной из причин разрыва А. Н. Струйского с племянником, возможно, послужила поэма «Сашка», где нарисован иронический портрет дяди (см. примеч. 101). Высказывалось и мнение о том, что Полежаев обращается здесь к покойному отцу, Л. Н. Струйскому (Бобров Е. Семейная хроника Струйских в связи с биографией А. И. Полежаева // PC. 1903, сентябрь. С. 496).
15. Гал. 1829, № 10, подпись: — ъ — ъ. — Печ. по Изд. 32, с уточнением ст. 18 («бесстрашную», а не «бессмертную») по автографу ГИМ (архив А. П. Бахрушина из собр. О. М. Бодянского). В автографе (воспроизведен в Изд. 88) описка: в ст. 20: «воинственный» (вместо «внимательный»). Сведения об обычае мучительной казни пленников у северо-американских индейцев Полежаев мог почерпнуть в изданиях: Свиньин П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке. Спб., 1815. С. 185–191; «Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света… изданное господином аббатом де ла Порт и на российский язык переведенное с французского»: 3-е изд. Спб., 1813. Т. 8. С. 39–42. В последнем издании сообщалось, что уводимый на казнь пленник «начинает петь песнь мертвого, исчисляет все свои подвиги, бранит и укоряет своих мучителей, увещевает их не щадить его» (Там же. С. 42). Один из наиболее вероятных литературных источников ст-ния — сочинение А. П. Беницкого «Грангул. Драматическая безделка» // «Цветник». 1809, апрель. Об этом источнике см.: Лотман Ю. М. Неизвестный текст стихотворения А. И. Полежаева «Гений» // «Вопросы литературы». 1957, № 2. С. 166. Между монологами плененного гуронами ирокезского вождя Грангула и стихами Полежаева ощутимо явное сходство: «Иду на смерть, — возглашал Грангул, — но смерти не боюся! Я храбр и неустрашим: презираю муки… Гуроны! Племя подлое… бодрость моя поразит вас, мужество приведет в отчаяние; цепенейте! Вы узрите смерть бесстрашного… я отыду ко предкам моим без стона, без воздыхания» («Цветник». С. 19–20). Популярность Полежаевской «Песни» в 1829–1830 гг. как сочинения крамольного засвидетельствована современником (см.: Милюков А. Доброе старое время: Очерки былого. Спб., 1872. С. 207–208). Положена на музыку Η. П. Огаревым, И. И. Рачинским, А. С. Размадзе. Текст песни использован Μ. П. Мусоргским для арии Мало в незаконченной опере «Саламбо».
16. Изд. 32. С рекламной целью было перепеч. в «Сыне отечества и Северном архиве». 1832, № 8. К загл. здесь было дано примеч.: «Из собрания „Стихотворений“ А. Полежаева, на которые принимается подписка в книжном магазине H. Н. Глазунова в Москве. Цена на веленевой бумаге 5 р., с пересылкою — 6 р.». «Песня» традиционно считается откликом поэта на один из самых драматических периодов его жизни, чем и обусловлена предположительная датировка 1828 г. В ст-нии различимы отголоски популярной в свое время песни «Друзьям» С. Е. Раича (альм. «Северная лира на 1827 год». М., 1827. С. 115) и песни анонимного автора (XVIII в.) «Буря море раздымает, ветер волны подымает…», помещенной в ряде изданий «Письмовника» Курганова (см.: Курганов Н. Российская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословие… Спб., 1769. Присовокупление 5. Сбор разных стиходейств. С. 301) — книги, по которой Полежаев, видимо, обучался в детстве. В свою очередь под влиянием «Песни» Полежаева было написано ст-ние анонимного автора «Море» («Библиотека для чтения». 1836, № 1. С. 20). Поздним и притом оптимистическим переосмыслением темы гибнущего пловца явилось ст-ние С. Д. Дрожжина «Песнь пловца» (1906). См.: Суриков И. З. и поэты-суриковцы. Л., 1966. С. 430 (Б-ка поэта, БС).
17 *. «Телескоп». 1832, № 11, под загл. «Отверженный», с пропуском слов «Я атеист!» в ст. 16. - Печ. по Изд. 32, с восполнением ст. 16 по Изд. 57, где вар. ст. 23. Авель — сын Адама и Евы, по Библии, убитый завидовавшим ему братом Каином.
18. Изд. 57, без эпиграфа и «замечания», без разбивки на строфы. — Печ. по ЧВ (примеч. и эпиграф впервые — Изд. 1939). Против 1-й строфы цензор пометил карандашом: «Осужденный всем известный пишет здесь человек грешный! Каждое слово должно быть взвешено. Нельзя пропустить» (Изд. 1939. С. 432). Эпиграф — из «Братьев-разбойников» Пушкина. Пояснения к «замечанию». Дантон Жорж-Жак (1759–1794) — видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; вначале примыкал к радикально-демократическому лагерю, позднее стал в оппозицию к якобинскому правительству Робеспьера; обвиненный в измене Дантон по приговору Конвента был гильотинирован. Грекур Жан-Батист (1683–1743) — французский поэт, автор антиклерикальных сатирических стихов. Анахарсис Клоц — Клоотс Жан-Батист (1755–1794) — философ-просветитель, убежденный атеист; при якобинском правительстве пропагандировал враждебную ему программу внешней политики, за что был казнен.
19 *. Гал. 1830, № 4, вместо подписи: ***, с незначительными вар., последний ст. «С……у судит бог!». - Альм. «Эвтерпа, или Собрание новейших романсов, баллад и песен известнейших и любимых русских поэтов». М., 1831 (ц. р. 31 марта 1830), подпись: — ъ — ъ, под загл. «Вертер (Фантазия)», явно ценз. происхождения, маскирующим автобиографическую основу ст-ния и придающим отвлеченно-литературный характер мотиву самоубийства, с вар. ст. 13, 16, 18. - Печ. по Изд. 32, с восстановлением последнего ст. по списку Шервуда. Загл., как и вар. в «Эвтерпе», очевидно, принадлежит издателю альманаха Ф. А. Кони, собиравшемуся выпускать одноименный журнал (ЦГИА, Фонд Главного управления цензуры, оп. 1, ч. 1. Дело 1831 г. «О разрешении Ф. А. Кони издавать журнал „Э́хо“ с приложением „Того-сего“ и „Эвтерпа“»). «Живой мертвец» вписан (с вар. и с перестановкой ст. 7–8) в «Лиру русского Шенье». Датируется по содержанию и дате доноса Шервуда.
20 *. «Телескоп». 1831, № 12, неисправно, с пропуском ст. 72–73, с вар. — Изд. 32. В «Лире русского Шенье» (см. примеч. 19) ст-ние находится после «Живого мертвеца»; оно имеет помету: «Написано через 6 часов после предыдущей пьесы» и вар., в основном совпадающие с журнальным текстом. Толчком к созданию ст-ния, несомненно, явилась весть об освобождении Полежаева из тюрьмы. Откровенной имитацией полежаевского ст-ния явилось «Провидение» анонимного автора в его сб. «Дитя поэзии». Казань, 1834. С. 77. Отзвук «Провидения» слышится в ст-нии поэта-петрашевца Д. Д. Ахшарумова. «Позором века…» (1849), написанном в тюрьме. См.: «Поэты-петрашевцы». Л., 1957. С. 134 (Б-ка поэта, БС). Эреб (греч. миф.) — олицетворение вечного мрака.
21. Гал. 1829, № 22, подпись: ъ.ъ., с ценз. пропуском ст. 27. - Печ. по Изд. 32, с восстановлением ст. 27 по Изд. 89. В Экз. Изд. 32 (ГБЛ) ст. 27: «Весы правдивые законам», который принят в Изд. 1933 и 1939. Кремлевский (или Александровский) сад был разбит после пожара 1812 г. за западной стеной Кремля поверх заключенной в 1819 г. в трубу речки Неглинки. Со времени своего открытия в 1822 г. — излюбленное место гуляний москвичей.
22 *. Гал. 1829, № 26, с ценз. пропуском ст. 9—12 и вар. ст. 18. - Изд. 32, с тем же пропуском. — Изд. 57, с ценз. вар. ст. 9. - Печ. по этому изд. с исправлением ст. 9 по списку «Лиры русского Шенье». Необходимость этой замены была указана еще в анонимной рецензии на Изд. 89 («Сев. вестник». 1889, № 2. С. 88), после чего П. А. Ефремов вписал ст. 9 на Экз. Изд. 32 (ГБЛ) и Экз. Изд. 89. Без имени автора и с пропуском ст. 9—12 было включено в «Полный российский военный песенник». Спб., 1873. Вып. 12. С. 16.
23. Гал. 1829, № 35.
24. «Эхо: Лит. альманах». М., 1930 (ц. р. 17 января 1830), без подписи. Вошло в Изд. 32.
25. Изд. 32. - Изд. 57. - Печ. по Изд. 32.
26. Изд. 32. Положено на музыку М. В. Бегичевой.
27. Изд. 32.
28. Изд. 32, с пропуском, очевидно ценз., ст. 28. Возможные чтения этого ст.: «Творец Любови и людей», «Душа природы и страстей» и т. п.
29 *. Изд. 32, с пропуском слов «бабья», «глуп», и «гадкими стихами» в ст. 4, 43, 64, без ст. 19–20, - Изд. 89, с вар. ст. 4 и 64. - Печ. по Изд. 1933, где пропуски восполнены по неоговоренному источнику. Ст. 19–20 неизвестны. В Экз. Изд. 32 (ГБЛ) вписаны карандашом пропуски в ст. 4 и 43. В июне 1829 г. Полежаев вместе с Московским полком прибыл в Ставрополь. Здесь полк вскоре расположился в станице Горячеводской и затем (до 1 января 1830 г.) в заштатном городе Александрове (ныне Александровское). Стало быть, Лысую гору, т. е. станицу Лысогорскую, неподалеку от Горячеводской, поэт посетил между июнем и декабрем 1829 г. «Я пережил мои желанья» — первая строка ст-ния Пушкина без названия. «Минувших дней очарованья» — из «Песни» В. А. Жуковского, начинающейся этой строкой. «Люблю я бешеную младость» и т. д. — строки из «Евгения Онегина». Мушка — здесь: черная искусственная родинка, которую, следуя моде, наклеивали на лицо.
30. «Нива»-1915. В Изд. 1933 исправлен ст. 25 (на «Мрачного чувствия нет»), где, по мнению В. В. Баранова, «нарушен размер» (с. 622). В таком исправлении нет надобности — ст-ние «Казак» ориентировано на жанр народной баллады, ритмика которой не требует строгой упорядоченности. Высказывалось предположение, что литературным источником ст-ния могла послужить вошедшая в народно-песенный репертуар баллада С. Т. Аксакова «Уральский казак. Истинное происшествие» (BE. 1821, июль, № 14. с. 88–89). Черные горы — Карадаг, горная страна в Дагестане, покрытая густыми, темного цвета лесами. Трам абазинский — скаковая лошадь конного завода старшины абазинцев Трама (абазинцы — горская народность). Базалай — оружейный мастер. Атага — чеченское селение, известное выделкой шашек. Труд Царяграда — огнестрельное оружие турецкого происхождения, распространенное на Кавказе среди горцев, от которых оно попадало и в руки казаков. Никола святой — икона христианского святого Николая-чудотворца, который считался охранителем от бед в опасных ситуациях.
31. Изд. 32, неисправно (в ст. 75 «нам ужасно», в ст. 128 «бесстрашной»), с ценз. пропуском в ст. 76 слова «вольность». - Изд. 57, ст. 131 «Мелькая парой глаз огнистых», без отточий, обозначающих пропуски строк. — Печ. по Изд. 89, где текст убедительно откорректирован П. А. Ефремовым. Ст. 81–84, 105 и 118–121 неизвестны. В Экз. Изд. 32 (ГБЛ) вписано в ст. 76 слово «вольность». Новый Геллеспонт — очевидно, Керченский пролив, названный здесь так по аналогии с Геллеспонтом (древнегреческое название Дарданелльского пролива), который подобно Керченскому соединяет два разных по величине моря: карликовое Мраморное с большим Эгейским. Защита — укрепление на реке Кубань. Я буду — он, он будет — я и т. д. Этот и след. ст. до 117 относятся к А. П. Лозовскому (см. наст. изд. и примеч. 14). Подобно грозным исполинам — из ст-ния А. Ф. Мерзлякова «Гимн Непостижимому» (Стихотворения. М., 1867. Ч. 1. С. 9).
32. Изд. 32. Сюжет ст-ния — слияние ручьев и речек в грозный поток, символизирующее «бег» человеческой жизни к трагической развязке, явно подсказан анонимно напечатанным (альм. «Эхо». М., 1830. С. 146–148) ст-нием «Жизнь», рефрен которого «Вот верный образ наших дней» отозвался в «Водопаде». Полежаев не мог не знать этого альм. — в нем было (тоже анонимно) напечатано его ст-ние «Наденьке». Как удалось установить, «Жизнь» — перевод ст-ния французского писателя Ш. А. Демутье, осуществленный А. И. Писаревым и ранее напечатанный в «Трудах Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете». 1820. Ч. 18. С. 72–73.
33–35. 1. Альм. «Эвтерпа. Подарок любительницам и любителям пения на 1828 г.». М., 1828. - Альм. «Венера, или Собрание стихотворений резных авторов». М., 1831. Ч. 1, без ст. 21–28. Цикл. печ. по Изд. 32. Налой — аналой. Расступись, расступись, Мать-сыра земля! — формульное словосочетание, распространенное во многих народных песнях. Косящатое (или красное) окно обрамлялось деревянными косяками; косящатый — постоянный эпитет в народной поэзии. Первая песня положена на музыку Π. П. Сокальским и И. А. Рупиным (под названием «Каватина»), вторая — Сокальским и В. Т. Соколовым.
36. Изд. 32. Написано вскоре после взятия 19 октября 1831 г. чеченского аула Чир-Юрт (см. примеч. 107), как отклик на поразившее Полежаева зрелище. Рассказ об этом бывшего однополчанина поэта (Π. П. С — а) известен в передаче П. Егорова: «… когда взяли Чир-Юрт, Полежаев, ходя по грудам тел и развалинам, увидел убитую мусульманку, девушку несравненной красоты, у которой была перерублена коса, так что едва держалась на нескольких волосках. Полежаев, будучи поражен смертию несчастной красавицы, бережно перерезал волосы, отделил от головы косу и спрятал ее под мундир, у своего поэтического сердца, на память» (Егоров П. Дорожные записки о Кавказе и Северном Дагестане 1851 года // «Рус. инвалид». 1857, 17 августа. С. 749). Романс был положен на музыку неизвестным композитором и включен без загл. и с перестановкой строф 3–4 в «Сборник военных песен» (Собрал Μ. П. Колотилин. Тифлис, 1907. Вып. 9. С. 9).
37. «Телескоп». 1832, № 4, подпись: А. П., ст. 21 «Или невидимая сила», без ст. 24–27. — Печ. по Изд. 32 с исправлением в ст. 28 («бесстрашной») и двумя строками точек после ст. 16 (как в Изд. 57) вм. одной. Ст. 17–18 неизвестны.
38–42. Изд. 32. В первом романсе отзвук казачьей народной песни «Славный, вспышный, быстрый Терек…» (Песни гребенских казаков / Публикация текстов, вступ. статья и коммент. Б. Н. Путилова. Грозный, 1946. С. 145, 303).
43. Изд. 32. Начиная с Изд. 89 ст. 3 печатался с необязательной поправкой: «в стане». Ст. 31–32 неизвестны. Имеется в виду обычай, заведенный командиром Моздокского казачьего полка Г. X. Зассом (см. примеч. 107), выставлять на пиках головы павших горцев с целью устрашения повстанцев. Это «отвратительное зрелище» засвидетельствовано мемуаристом (см.: Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931. С. 248).
44. Изд. 32, с загл., напечатанным на отдельной странице, как все крупные произведения в этом сборнике («Иман-козел», «Чудак», «Кредиторы», «Оскар Альвский»). Этим ст-нием, написанным после получения ценз. разрешения на Изд. 32, открывается книга. В Экз. Изд. 32 в ст. 22 сделано исправление по Изд. 57: «веселых». Правомочность этого вар. сомнительна. О Лозовском см. примеч. 14. Пою, рассеянный, унылый — реминисценция ст. «Кавказского пленника» («Тогда, рассеянный, унылый»).
45. Безъязычный В. И. Послание Полежаева к Ф. А. Кони // ЛН. 1956. Т. 60, № 1, по автографу ПД из бумаг Ф. А. Кони. Ст. 33 дополнен словом «себе» — его необходимость подсказывается смыслом и ритмом ст-ния. Кони Ф. А. (1809–1879) — поэт, переводчик, журналист, водевилист; приятель Полежаева, с которым он познакомился ок 1825–1826 гг. У Полежаева и Кони был общий круг знакомых: Л. А. Якубович, А, Д. Галахов, А. Г. Ротчев, В. И. Соколовский. У Кони хранились некоторые неопубликованные ст-ния Полежаева. Гаафиц — Хафиз Шамседдин Мохаммед (ок. 1325 — ок. 1390) — классик персидской поэзии.
46. Изд. 32, куда вошло после подписания цензором к печати (12 января 1832). Акташ-аух — селение в нагорном Дагестане, было захвачено отрядом генерала А. А. Вельяминова 8 января 1832 г. Вождь богатырей — Вельяминов (см. примеч. 107).
47. «Кальян». Этим ст-нием открывается книга. Написано вскоре после кровопролитного штурма чеченского аула Герменчуг на реке Аргун, который был взят отрядом генерала А. А. Вельяминова 23 августа 1832 г. Чугунное ядро, Убийца Карла и Моро. Шведский король Карл XII (1682–1718) и французский генерал Моро Жан Виктор (1763–1813) погибли от разрыва пушечных ядер. Галл, осман… поклонник ревностный Али, Кавказ, сармат — условные наименования наций и народов: галл — француз, осман — турок (по имени Османа I, родоначальника династии турецких султанов); поклонник Али — житель Ирана, где широко распространен культ Али, родственника и преемника пророка Мухаммеда, в 656–661 гг. являвшегося халифом. Сармат — здесь: поляк. Пор — правитель северной части Пенджаба (Индия); в 336 г. до н. э. был разбит в сражении с войском Александра Македонского, ранен и пленен. Победитель освободил Пора, вернув ему его владения. Там егерь… притек от Куры на Аргун. После русско-турецкой войны 1828–1829 гг. ряд воинских частей, включая стрелковые, были перемещены с Южного Кавказа на Северный для участия в боях против горцев. Притек — пришел. Перун — здесь: огневой удар. Карабах, куртин, персиянин, турок. Речь идет о дружинах из местного населения Кавказа, привлеченных на службу русским правительством и участвовавших в операциях против горских повстанцев. Куртинами в то время называли курдов; в 1813 и 1828 гг. часть курдского населения, жившего в Закавказье, приняла подданство России.
48. «Кальян». Датируется по содержанию. Горское — здесь: действующее в горах. Гебек-Кала — лесистая гора (между Дылымом и Чир-Юртом), где укрепился с 2000 повстанцев Кази-Мулла, была захвачена в ожесточенном бою отрядом генерала А. А. Вельяминова 15 января 1832 г.
49. «Кальян». Ахалук (правильнее: архалук) — мужская азиатская одежда, заменяющая халат. Демикотонный — из бумажной ткани демикотона, употреблявшейся в начале XIX в. Атагинка (в «Кальяне»: отагинка) — обитательница Большой или Малой Атаги, чеченских аулов, при реке Аргун неподалеку от крепости Грозной. Могол — правитель династии Бабуридов в Индии (XVI — первая половина XIX в.), прозванных европейцами Великими Моголами. База — чеченское женское имя.
50. «Кальян», с опечаткой в ст. 32 («казамата»).
51. «Кальян». Африканские цветы. Фараонка. В старое время бытовало ошибочное представление, будто предками цыган были египтяне. Поздним откликом на «Цыганку» явилось ст-ние Л. А. Мея «Полежаевской фараонке» (1859). А. А. Блок относил «Цыганку» к удачным ст-ниям Полежаева (см.: Блок А. А. Дневник 1921 года // Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л.; 1963. Т. 7. С. 422). Успех цыганской темы среди поэтов-эпигонов вызвал пародию И. И. Панаева «Египтянка» (Соч. М., 1912. Т. 5. С. 809).
52. «Кальян». Положено на музыку А. И. Виллуаном, Ц. А. Кюи, М. В. Бегичевой, В. И. Главачем, М. В. Воронцовой, Μ. Н. Офросимовым, В. Т. Соколовым.
53. «Кальян», после ст. 48 строка точек, видимо, обозначающая смысловую паузу, а не пропуск текста. Под Морфеевым крылом — во сне. Магдалина Мария — по евангельской легенде, последовательница Христа, уверовавшая в него после того, как он исцелил ее; Мария Магдалина считается заступницей от нечистой силы, охранительницей от греховных искушений, порчи и т. п.
54–55. «Кальян». В ст-нии «Окно» ст. 9—10 неизвестны.
56. «Кальян». Замысел «Демона вдохновенья», возможно, был подсказан одной из сцен байроновского «Манфреда», в котором сонм адских духов поет гимн своему владыке, причем три ведьмы-парки именуют его Ариманом. Полежаев мог знать этот эпизод по кн.: Манфред. Сочинение лорда Байрона / Перевел с английского М. В<ронченко>. Спб 1828 С 34–35. То же место представлено в отрывке перевода «Манфреда» за подписью: О., т. е. Д. А. Облеухов («Московский вестник». 1828, ч. 8, № 7. С. 276). Аполлонов жрец — поэт. Па (фр.) — отдельная танцевальная фигура с определенной постановкой ног. Ариман — греческое имя бога мрака и зла Анхра-Майнью, в древнеиранской религии зороастризма. Оризмад (Ормузд) — греческое имя бога добра и света Ахурамазды в той же дуалистической религии, согласно которой событиями в мире движет борьба двух равноправных богов-антагонистов.
57. «Кальян». Ст-ние было процитировано (ст. 5–8 от конца) в детском дневнике А. А. Блока (см.: Орлов В. «Здравствуйте, Александр Блок». Л., 1984. С. 134). Иван Великий — восьмидесятиметровая колокольня Ивана Великого в Московском Кремле, воздвигнутая в 1505 1508 гг. и надстроенная в 1600 г. Опять она, опять Москва! Ст-ние написано под впечатлением возвращения Полежаева с Кавказа в Москву летом 1833 г. Бриарей (греч. миф.) — сторукий великан, сын морского бога Посейдона. Реншильд Карл Густав (1651–1722) и Шлиппенбах Вольмар Антон (ок. 1650–1739) — шведские фельдмаршал и генерал армии Карла XII, сдавшиеся в плен в битве под Полтавой (1709). Семирамида — здесь: комплиментарное наименование Екатерины II; Семирамида — легендарная царица Ассирии Шаммурат, придавшая пышность и блеск своему царствованию, которое было ознаменовано и военными успехами. Герои Альпов и Тавриды — А. В. Суворов, возглавивший Итальянский поход русской армии, которая преодолела на своем пути Альпы, и Григорий Александрович Потемкин (1739–1791) — полководец, удачно действовавший в русско-турецкую войну 1768–1774 гг. на территории Крыма. Оссиан — здесь: вдохновенный поэт; об Оссиане см. примеч. 1. Игорев Баян — древнерусский певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве». Жозефина Богарне (1763–1814) — первая жена Наполеона Бонапарта, брак с которой он расторг в 1809 г. Нового сармата — здесь: собирательное обозначение французских оккупантов в войну 1812 г., именуемых так по аналогии с польскими интервентами, прозванными сарматами и двести лет назад также бежавшими из Москвы. Святослав — великий князь Киевский (ок. 945–972); в данном случае олицетворение героизма и военной доблести русского народа. Пламень брани под небом Африки угас. Речь идет о поражении и ссылке Наполеона I на остров Святой Елены у западных берегов Африки. Алкоран — здесь: священная книга. Монблан — самый высокий горный массив в Альпах.
58. «Кальян». Ст. 29, 31–32 неизвестны. О Лозовском см. примеч. 14. Молокане секта христиан-раскольников, не признающая духовенства и церкви; молокане высылались властями на окраины России, включая Предкавказье. Седьмая заповедь. Мораль этой христианской заповеди: «…не желай жены ближнего твоего (ни поля его), ни раба его, ни рабыни его… ничего, что у ближнего твоего». Бешмет — стеганый полукафтан. Краса оленьего чела — здесь: иносказательное обозначение измены жены мужу. Кази-Мулла — см. примеч. 106. Бей-Булат Таймазов (1779–1832) — отважный чеченец, предводитель горских наездников, прославился стремительными набегами на казачьи поселения, военные заставы и лагеря; неоднократно переходил на русскую службу, но каждый раз исчезал и снова принимался за набеги; летом 1832 г. пал жертвой кровной мести. Свидетель казни Прометея. По древнегреческому мифу, Прометей был прикован к одной из скал на Кавказе. Лукулл Луций Лициний (106—56 до н. э.) — римский политический деятель и полководец; в 71 г. до н. э. совершил поход в Армению. Помпей Гней (106—48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель; в 66–65 гг. до н. э. его армия с победоносными боями прошла по Кавказу. Тамерлан или Тимур (1336–1405) — среднеазиатский полководец и государственный деятель, покоритель многих стран Азии (в том числе Индии, Персии), а также Закавказья.
59. «Развлечение». 1860. № 17, 30 апреля, под загл. «А. П. Л……у» с пометой: «1833 года, августа 30 дня. Москва». - РПЛ, только ст. 1—31, с подзаг. «(Пропущенное стихотворение Полежаева)». — Рябинин Д. Д. Александр Полежаев // РА. 1881. Кн. 1, № 2, без последних 13-ти ст. — Изд. 89, где П. А. Ефремов уточнил текст по списку В. И. Касаткина. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Часть другого автографа (судьба его неизвестна) воспроизведена в изд.: Полежаев А. Собрание стихотворений. М., 1888 («Дешевая б-ка русских писателей», издание В. Н. Улитина).
60. «Звезда». 1933, № 7 (публикация Η. Ф. Бельчикова по ЧВ), более точно — Изд. 1939. - Печ. по ЧВ. Датировка ст-ния обоснована В. И. Безъязычным: в феврале 1832 г. на Кавказе многие однополчане Полежаева пострадали от обморожения, а так как в «замечании» сказано, что поэт потерял слух вследствие «сильной простуды» «более полутора года» назад, то, надо думать, услугами медика он воспользовался по прибытии в Москву — в 1833 г., т. е. как раз спустя полтора года (Изд. 1955. С. 433). Гальванизм — гальванический ток, открытию которого способствовали опыты итальянского ученого Гальвани Луиджи (1737–1798); гальванотерапия применяется в лечебной практике с начала XIX в. Вертоград — сад. Ганимед (греч. миф.) — прекрасный юноша, похищенный Зевсом при помощи орла и ставший виночерпием олимпийских богов. Геба (греч. миф.) — богиня юности, исполнявшая ту же роль на Олимпе, что и Ганимед.
61. Старушка из степи [Бибикова-Раевская Е. И.) Встреча с А. И. Полежаевым // РА. 1882, вып. 6. - Изд. 89, под произвольным загл. «К своему портрету». - Печ. по автографу ГПБ. Текст в автографе заключен в черную рамку. В ст-нии имеется в виду акварельный портрет Полежаева, нарисованный шестнадцатилетней Екатериной Ивановной Бибиковой (1818–1899) в июле 1834 г. в селе Ильинском, где по приглашению отца девушки, И. П. Бибикова, поэт провел в гостях 15 дней (фотокопию с портрета см. на фронтисписе наст. издания). В 1835 г. Екатерина Бибикова вышла замуж за И. А. Раевского.
62 *. ЛПРИ. 1838, 23 апреля, под загл. «Духи зла», без строф 9 и 11, с вар. — «Арфа», без строфы 9, с теми же вар. — Старушка из степи [Бибикова-Раевская Е. И.] Встреча с А. И. Полежаевым // РА. 1882, вып. 6, с датой: 8 июля 1834. - Печ. по автографу ГПБ, ранее принадлежавшему Е. И. Бибиковой (снимок с него воспроизведен в Изд. 89, вклейка), с восстановлением загл. по «Арфе» (о мотивах восстановления см. ниже). В автографе под текстом ст-ния зачеркнута недоработанная строфа (не выдержан размер в строках 2–3). В правом нижнем углу листа (не рукой автора): «Александр Полежаев. Июль 1834. Село Ильинское». Е. И. Бибикова сообщает, что ст-ние было написано по просьбе ее отца, И. П. Бибикова, сказавшего поэту: «Напишите мне что-нибудь такое, что бы я мог при письме послать графу Бенкендорфу». «Полежаев написал „Божий суд“, который тогда почему-то озаглавил „Тайный голос“. Отцу понравились стихи.
— Но вы, Александр Иванович, не можете ли прибавить под конец что-нибудь вроде просьбы о прощении?
На это Полежаев решительно отказался.
— Я против царя ни в чем не виноват, просить прощения не в чем.
Как ни умолял, ни уговаривал его отец, ничего с поэтом сделать не мог: он остался непреклонен. Тогда отец сам приписал три строфы в заключение и принес мне оба стихотворения.
— Неловко, — говорит, — послать стихи в этом виде: почерк разный в начале и в конце.
Я тотчас вызвалась переписать все стихотворение лучшим своим почерком и радостно припрятала оба автографа, которые до сих пор у меня хранятся. Вот эти стихи:
Но нет! Кто снял завесу провиденья, Кто цель всевышнего постиг, Ужели он не может для прощенья Быть столько ж благ и столь велик? О боже! И во мне среди страданий Надежды пламень не погас, Твердит душе глагол предвозвещаний: „Твоей отрады при́дет час!..“ Быть может, и меня, во мгле ато́мов, Воспомнит царь во дни щедрот И над главой моей — мечу законов: „Пощада, милость!“ изречет».(Там же. С. 237). Копия ст-ния, переписанная Е. И. Бибиковой, находится в деле «О монаршем воззрении на участь унтер-офицера Тарутинского егерского полка Полежаева» (10 сентября — 4 декабря 1834 г.) // ЦГАОР. Фонд III Отделения. Опубл.: Баранов В. В. Судьба литературного наследства А. И. Полежаева // ЛН. 1934. № 15. С. 247–250. Тема ст-ния — суд господний над грешными ангелами — выбрана не случайно: она должна была показать отход автора от антиклерикальных настроений «Сашки», осужденных самим царем. Вместе с тем изображение непреклонности вседержителя и страданий падших духов, очевидно, содержало тонкий намек на положение автора. Загл. «Тайный голос» оттеняло личный, исповедальный характер ст-ния, чего не поняла Бибикова. Подсказанное обстановкой в Ильинском и предполагаемым назначением ст-ния, такое загл. в отрыве от них лишалось должной ясности для непосвященных читателей, поэтому в сб. «Арфа», прошедшем цензуру еще 25 ноября 1835 г., название, надо думать, было изменено самим поэтом.
63 *. «Арфа», без ст. 3–4; ст. 36–39 после ст. 31; с вар. ст. 19. — Печ и датируется по автографу ПД (собр. И. А. Шляпкина, ф. 341, оп. 2, № 130) с восстановлением загл. по «Арфе», так как подобное загл. могло принадлежать только Полежаеву. Автограф был подарен поэтом Е. И. Бибиковой во время его пребывания в селе Ильинском в июле 1834 г. Вы мой рисуете портрет. См. примеч. 61.
64. Старушка из степи [Бибикова-Раевская Е. И.] Встреча с А. И. Полежаевым // РА. 1882, вып. 6. - Печ. по автографу ПД (ф. 341, оп. 2, № 362). Нижняя часть листа автографа, где было либо продолжение ст-ния, либо текст, связанный с ним, отрезана. По свидетельству Е. И. Бибиковой, она и ее юные братья, зная о бедности уезжающего поэта, «сделали складчину из наших маленьких сбережений и дали их отцу, чтоб он присоединил их к своей лепте, но с тем, чтоб Полежаев не знал, от кого именно идет помощь. Но, видимо, отец проговорился. Полежаев хотя положительно терпел нищету, но был до крайности горд и деликатен в денежных делах. Отец долго не мог его уломать и уговорить принять от него пособие» (Там же. С. 240–241). Первое четверостишие ст-ния, по утверждению мемуаристки, относится к этому эпизоду.
65 *. «Арфа», с вар., с пропуском четвертого слова в ст. 27. — МН. 1838, март, кн. 2, с подзаг. «(Отрывок)», только первые 12 строф, с вар., ст. 27 «О цели бытия». - Изд. 57, с вар. ст. 27 «…о цели бытия». — Изд. 89, с вар., ст. 27 «О цели бытия, судьбу кляня». — Печ. по «Арфе», с исправлением явно ценз. вар. ст. 54 («И пела в ней душа умильным хором» вм. «небесным») и устранением опечаток в ст. 34 и 130. Восполнение ст. 27 в Изд. 89 вряд ли приемлемо: слово «судьба» не вносило ничего криминального в текст. Скорее всего этот ст. читался: «творца кляня». В экземпляре «Арфы» (из библиотеки Института русской литературы АН СССР) неизвестной рукой ст. 27 дополнен: «и жизнь кляня». В 20 и 26 строфах ст-ния слышится отзвук посвящения «Кавказского пленника» Пушкина. В ст-нии запечатлена история «идеальной», по определению Белинского, любви Полежаева к Е. И. Бибиковой (см. примеч. к предыдущим ст-ниям, посвященным ей, №№ 61, 63–64). «Черные глаза» она прочла только в печатном виде, т. е. не ранее 1838 г., хотя спустя некоторое время по отъезде поэта старший брат девушки по секрету доверил ей, что Полежаев написал посвященное ей ст-ние «Черные глаза». «Не знаю! каким образом, — рассказывает Е. И. Бибикова, — это сообщение дошло до отца, который страшно рассердился на брата и при мне жестоко стал его распекать. — „Как смел ты подобный вздор выдумать? „Черные глаза“ не написаны и не могли быть написаны на твою сестру! Ces vers sont une horreur!“[139], — прибавил он с негодованием… Это несчастное стихотворение… по всей вероятности, причина тому, что с тех пор дом наш навеки был закрыт для бедного грешника» (РА. 1882, вып. 6. С. 241–242). Лапландия — Северная Финляндия. И сколько раз над нежной «Элоизой». Здесь можно видеть намек на социальную подоплеку несчастной любви поэта. Герои романа Ж. Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) вынуждены были расстаться из-за деспотической непреклонности отца Юлии, который не мог допустить, чтоб дочь дворянина унизилась до брака с безродным разночинцем Сен-Пре.
66 *. «Арфа», без ст. 33–40, 45–52, 61–64, с вар. — Изд. 57, без ст. 29–32, 45–52, ст. 44 «Убивать ……». — Печ. по: Ефремов П. А. Памяти А. И. Полежаева // «Пантеон литературы». 1888, февраль, где опубликовано по неизвестному источнику. Под загл. «Дума» и с датой 10 июня 1837 г. входило в рукописный сб. «Последние стихотворения А. Полежаева», представленный в цензуру А. П. Лозовским и запрещенный к печати. Сообщивший эти сведения Н. О. Лернер (см.: «Нива»-1915. Стб. 576) объяснил эту дату как время переписки ст-ния. Но это противоречит его же собственному мнению о том, что «Дума» — ранняя ред. «Негодования». Скорее всего, 10 июня 1837 г. Полежаев создал сокращенный, приспособленный к ценз. условиям вариант ст-ния. И друзья — злодеи скрытные — Злобно предали меня! По мнению некоторых биографов поэта, Полежаев клеймит здесь кого-то из прежних знакомых, по чьей вине он стал жертвой рокового для него доноса 1826 г. Вполне вероятно, что текст поэмы «Сашка» был кем-то из них препровожден полковнику И. П. Бибикову (см. примеч. 101).
67. «Арфа».
68. «Арфа». В «усыпительной песне» использованы типичные словосочетания народных колыбельных песен.
69. «Арфа», где слова «Автор» и «Читатель» обозначены сокращенно: «А» и «Ч», с пропуском слов «Князь Шаликов» — Изд. 89. Шаликов — см. примеч. 5.
70. «Арфа». — МН. 1838, март, кн. 2, ст. 36 «Беспощадная тоска». - Печ. по «Арфе». Находилось в рукописном сб. «Последние стихотворения А. Полежаева», где, по свидетельству Н. О. Лернера, не было разночтений (см.: «Нива»-1915. Стб. 575–577). По предположению Белинского, адресат «Грусти» и ст-ния «Черные глаза» (№ 65) — один и тот же. Положено на музыку А. Е. Варламовым.
71. «Арфа».
72. «Арфа». Положено на музыку А. А. Алябьевым, А. Л. Гурилевым, Ю. К. Арнольдом, А. И. Дюбюком, Μ. Р. Бакалейниковым.
73–76. «Арфа».
77. Никольская Г. Неизвестные стихи Полежаева // «Звезда». 1930, № 1, опубликовано по тетр. ПД. — Печ. по тетр. ПД. Во время пребывания Тарутинского егерского полка в Жиздринском уезде Калужской губ. (1835–1836) Полежаев посетил село Печки, у которого оказалось двенадцать владельцев, не считая тринадцатого — малолетней графини Александры Станиславовны Потоцкой, названной здесь Потоцци. Седрах, Мисах и Авденаго — имена трех иудеев, о которых рассказывается в библейской книге пророка Даниила (III, 1—100). За отказ от поклонения золотому истукану вавилонско-халдейский царь Навуходоносор приказал сжечь непокорных в печи. Однако огонь не причинил вреда казнимым, которые славословили в печи своего бога. Пораженный этим чудом царь отменил казнь и велел возвеличить Седраха, Мисаха и Авденаго. Юмористическое использование библейской легенды придает ст-нию оттенок религиозного кощунства. И печь халдейская из моды В Европе вывелась давно. Институт инквизиции окончательно потерял свое былое могущество в XVIII в.
78. Изд. 89, где опубликовано по копии А. Я. фон Ашеберга (ПД), сообщившего и обстоятельства написания ст-ния. В письме Ашеберга в редакцию PC говорится, что, проходя с полком через г. Мещовск Калужской губ., Полежаев «зашел к смотрителю духовного училища И. Ф. Чупрову, у которого в оживленном разговоре провел два дня и экспромтом написал хозяину на память настоящее стихотворение, которое до сих пор в печати еще не появлялось, но в котором ясно видно настроение поэта» (ПД, арх. PC). Датируется по времени пребывания Полежаева в Калужской губ.
79. «Телескоп». 1836, № 12. — Изд. 57, с вар. ст. 22 («пока природа»), всюду без эпиграфа. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Положено на музыку В. И. Главачем.
80. «Развлечение». 1860, 9 апреля, с примеч.: «Редактор получил это стихотворение при следующем письме: „Милостивый государь! Пересматривая бумаги, оставшиеся с 1838 года после смерти Александра Ивановича Полежаева, я нашел несколько собственноручных его стихотворений, не бывших еще в печати и совершенно неизвестных. Не желая, чтобы они затерялись совершенно для настоящих или будущих издателей стихотворений Полежаева, честь имею препроводить пока одно из них, написанное в 1836 году в апреле месяце, в самую заутреню. Если вы его радушно примете, то я с особенным удовольствием буду присылать и следующие“. А. П. Л<озовски>й». Дальнейшими публикациями в «Развлечении» были: «А. П. Л<озовскому>» («Что могу тебе, Лозовский…»), «Султан» и «Отрывок из поэмы „Узник“» (фрагмент ст-ния «<Узник>»). Ст. 35–36 и 51 «Красного яйца» неизвестны. В ст-нии Полежаев вспоминает о драматических событиях 1828 г. — о заключении в каземате Спасских казарм, знакомстве с Лозовским (см. примеч.), единственной его нравственной опорой в эти мрачные дни. Так узнику в великий день Даруют красное яйцо. Имеется в виду старый обычай дарить узникам на Пасху крашеные (красные) яйца.
81 *. «Телескоп». 1836, № 9, под загл. «Песня», с вар. — «Часы выздоровления», под загл. «Песня». - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Включено в список сб. «Урна». Положено на музыку А. С. Варламовым, И. И. Билибиным, Η. П. Де-Витте, Π. П. Сокальским.
82. ЛПРИ. 1838, 4 июня. — «Часы выздоровления», без загл., без ст. 24. - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939), где текст идентичен сб. «Урна». Часть текста (со ст. 9) положена на музыку Г. М. Римским-Корсаковым под названием «Соловей».
83 *. «Часы выздоровления». - Изд. 57, с вар. ст. 6. - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Вошло в список сб. «Урна» (без эпиграфа). В основе полежаевского «Эндимиона», видимо, какой-то французский или русский оригинал. На эту мысль наводит ст-ние В. И. Туманского «Картина Жиродета» («Новости литературы». 1823, № 26. С. 208):
На склоне вечера, ловитвой утомленный, Сложив с себя колчан и лук окровавленный, В дубраве сумрачной, младый Эндимион, Разлегшись на листах, вкушал отрадный сон. Но верная любовь заботливой Дианы И там, сквозь сень дерев, сквозь тонкие туманы, Золотокудрого ловителя нашла: И там, любуяся красой его чела, Богиня к пастырю в лучах своих слетала И сонного в уста и в очи целовала.Картину А. Л. Жироде-Триозона Туманский видел в 1820 г. в Луврском музее в Париже, после чего он сочинил или перевел чье-то ст-ние. Эндимион (греч. миф.) — прекрасный юноша, пастух и охотник. По одной версии мифа, Эндимиона усыпила безнадежно влюбленная в него богиня Луны Селена, чтобы целовать его во сне. По другой версии, богиня обещала Эндимиону выполнить любое его желание, и тот избрал вечный сон с бессмертием и юностью. Полежаев дает вольную трактовку мифа: в ст-нии речь идет о взаимной любви Эндимиона и богини Луны, обреченных на тайные свидания в краткие часы глубокой ночи. Богиня скал — богиня-охотница Артемида, отождествлявшаяся с Селеной; у римлян ей соответствовала Диана. Предшественница Феба — богиня утренней зари Эос (греч. миф.). Феб-Аполлон считался братом Артемиды.
84. «Часы выздоровления», без эпиграфа и примеч., только строфы 1–3, без ст. 34. - Изд. 57, только строфа 1. - «Нива»-1914, только строфа 4, без примеч., по списку сб. «Урна». - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). В «Урне» без примеч. и эпиграфа, с пропуском ст. 33 и части ст. 32. Эпиграф — из повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (см. примеч. 104). Tout va au mieux — изречение философа Лейбница, догмат философии оптимизма, который развенчивается в повести. Неглинная — приток Москвы-реки, с 1819 г. отведенный в подземную трубу. Покой и мир на улицах столицы и т. д. Эти ст. отсылают к строфе 1 ст-ния H. М. Языкова «Весенняя ночь» (1831).
85. «Часы выздоровления», без эпиграфа, без строфы 4. - «Нива»-1914, только строфа 4, по списку сб. «Урна». — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). В «Урне» без эпиграфа.
86 *. «Часы выздоровления», без эпиграфа и без ст. 19, 35–36, с вар. — «Нива»-1914, с восстановлением ст. 35–36 по списку сб. «Урна». - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939).
87 *. «Часы выздоровления», с вар., без ст. 36. - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). В списке сб. «Урна» с вар., в большинстве своем совпадающими с вар. первой публикации. Гулистан (тюркск.) — сад роз.
88 *. «Отечественные записки». 1840, № 2. - «Часы выздоровления», с вар., с искажением в ст. 11–12, всюду под загл. «Узник» и без эпиграфа. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939).
89. Изд. 57, без членения на строфы. Последние ст. неизвестны. Входило в рукописный сб. «Последние стихотворения А. Полежаева» (см.: «Нива»-1915).
90. «Часы выздоровления», без эпиграфа. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Вошло в сб. «Урна».
91 *. «Часы выздоровления», без эпиграфа, с вар. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). В списке сб. «Урна» с теми же вар.
92. «Нива»-1914, по списку сб. «Урна», без эпиграфа. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Лукреция — согласно историческому преданию, знатная римлянка Лукреция покончила с собой после того, как сын царя Тарквиния Гордого Секст Тарквиний совершил над ней насилие. Это преступление вызвало в 505 или 510 г. до н. э. восстание народа, уничтожившее власть царя.
93. «Нива»-1914, по списку сб. «Урна».
94 *. ЛПРИ. 1838, 14 мая, под загл. «Грешница (Подражание библейскому)», с вар. без членения на строфы. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Входило под принятым загл. в рукопись «Последние стихотворения А. Полежаева» (см.: «Нива»-1915. С. 577). VIII глава Иоанна — восьмая глава Евангелия от Иоанна, где изложена легенда о блуднице, которую должны были, по обычаю древних евреев, забросать каменьями. Христос спас грешницу от жестокой казни. Легенда о блуднице благодаря поэтической обработке Полежаева позднее привлекла внимание других поэтов. См. сб.: Грешница: Поэмы А. Полежаева, А. Толстого, В. Крестовского, Д. Минаева / Издание H. Е. Спб., 1893.
95 *. Ст. 11–17 на литографии 1838 г., изображающей Полежаева в гробу, в качестве эпитафии. — «Часы выздоровления», ст. 21–45, 47–73, 77 102, 104, 106–122, 126–171, 175–179, 181–249, с многочисленными вар. — Изд. 89, в виде двух ст-ний; одно — ст. 11–17, под загл. «На смерть Пушкина», другое — текст «Часов выздоровления» с добавлением ст. 103, 105, 180, с многочисленными вар. — «Нива»-1914, с восстановлением запрещенных цензурой ст. 46, 74–76, 103, 123–125, 172–174, 180 по списку сб. «Урна». - Лернер Н. Венок на гроб Пушкина. Ода А. Полежаева: Полный текст // PC. 1916, июль, по списку сб. «Урна» (во всех перечисленных публикациях без эпиграфа). — ЛН-15, только эпиграф и ст. 1—32, по ЧВ. - Печ. по ЧВ (впервые полный текст — Изд. 1939, с ошибкой: ст. 24 набран второй раз вм. ст. 21). Тот факт, что подлинный текст ст-ния долгое время оставался неизвестен, породил споры вокруг семистишия (ст. 11–17). Высказывалось предположение, что это — эпитафия неизвестного автора на смерть самого Полежаева. Об этих спорах см. указ. статью Н. О. Лернера (PC. 1916, июль. С. 449–450), где правильно объяснена причина столь многочисленных ценз. изъятий и искажений в ст-нии Полежаева: «Немедленно после смерти Пушкина цензорам было приказано обратить внимание на выражение скорби в отзывах о великом поэте и поддерживать в них „надлежащую умеренность и тон приличия“. Восторженная оценка Пушкина в стихах Полежаева должна была смутить надлежащим образом приготовленную цензуру» («Нива»-1914. Стб. 643). Неумеренность Полежаева проявилась, в частности, в применении к «частному лицу», каковым считался Пушкин, торжественной лексики («святой», «божественный», «порфира» и т. п.), привычно ассоциируемой с авторитетами церкви и монархической власти. Эпиграф — из ст-ния В. Гюго «Последняя песнь» («Оды», кн. 2, X). Феофан — Прокопович Феофан (1681–1736) — церковный деятель и писатель (публицист, сатирик, автор стихов), сторонник просвещенного абсолютизма, панегирист Петра I. Холмогорский великан — Ломоносов, родившийся около известного на севере села Холмогоры (в деревне Мишанинской Архангельской губ.). Ее златые струны Воспоминали вдруг и битвы и перуны и т. д. Ломоносов воспевал деятельность Петра в незавершенной поэме «Петр Великий» и в целом ряде похвальных од, адресованных престолонаследникам царя-преобразователя. Кроткие твои дела, Елисавета. Подразумеваются оды в честь императрицы Елизаветы Петровны, из которых наиболее известна «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны». Петров Василий Петрович (1736–1799) — автор од, посвященных Екатерине II, победам русского оружия и событиям придворной жизни. Трехцветный Франции штандарт — сине-бело-красный флаг, учрежденный во Франции в период революции конца XVIII в. Склонились робко пирамиды. Намек на Египетскую экспедицию Наполеона Бонапарта 1798–1801 гг. Крупная победа при деревне Эмбабе вблизи пирамид была одержана французами в июле 1798 г. Рима купол золотой — собор святого Петра в Риме, главный собор католической церкви. В 1809 г. Папская обл. была присоединена к Франции, а папа римский Пий VII оказался в полной зависимости от власти Наполеона. Он диадимою Бурбонов Украсил дерзкое чело. В 1804 г. Наполеон был провозглашен императором Франции, обряд коронации происходил в соборе Парижской богоматери с участием папы римского. Бурбоны. — последняя династия французских королей. Диадима — диадема, здесь: корона. Его орлы. Фигура орла, прикреплявшаяся к древку знамени, была введена в армии Наполеона с 1804 г. в подражание древнеримскому военному обычаю. Оссиановой порфирой. Об Оссиане см. примеч. 1. По лаковым парке́ блистательного круга Временщиков, князей, вельмож. Эти строки скорее всего внушены ст-нием Пушкина «К вельможе». Парке́ (фр.). — паркет. Входила в кабинет ученых и артистов И в залы, где шумят собрания софистов. В названном ст-нии Пушкина упоминаются французские писатели Вольтер, Дидро, Гольбах, Бомарше, итальянцы Гальяни (последователь Дидро) и Каста (поэт), Корреджио (живописец) и Канова (скульптор). Полежаев имеет в виду также и те строки пушкинского послания, где говорится о любопытстве и терпимости вельможи к самым радикальным идеям века: «И скромно ты внимал За чашей медленной афею иль деисту, Как любопытный скиф афинскому софисту». Как буйная зараза — реминисценция послесловия к «Кавказскому пленнику». И Бессарабии в степях — намек на поэму «Цыганы». Всеведущая Клио… с скрижалью тайною веков и т. д. Речь идет об увлечении Пушкина историческими темами («Борис Годунов», «Полтава», «Капитанская дочка», «История Пугачева» и т. д.). Боян — древнерусский поэт-певец, имя которого увековечено в «Слове о полку Игореве»; Пушкин упоминает Бояна в «Руслане и Людмиле». Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни, Байро́н. Перечислены имена поэтов, высоко чтимых Пушкиным, о чем свидетельствуют «Евгений Онегин» (гл. 1), ст-ния «Городок», «К морю», «Гречанке», «Сонет», «Андрей Шенье» и т. д., а также переводы из Шенье. Шенье Андре Мари (1762–1794) — французский поэт, казненный якобинским правительством по обвинению в заговоре в пользу монархии. В трактовке Пушкина — певец любви и свободы, жертва правительственного террора. Судя по тетради «Лира русского Шенье» (см. о ней в списке условных сокращений), Полежаев применял образ французского поэта к своей жизненной и литературной судьбе. Неведомый поэт, но юный, славы жадный. По утверждению В. В. Баранова, Полежаев подразумевает здесь Лермонтова (Баранов В. В. Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» // ЛН. 1952. Т. 58. С. 485–487). В эпитете «неведомый» Баранов видит отзвук этого ст-ния («Как тот певец неведомый, но милый»). Предложенное толкование этих строк все же не является бесспорным: на смерть Пушкина было написано немало стихотворных некрологов, в том числе и очень молодыми поэтами, — тексты таких ст-ний запрещались к печати и ходили по рукам. Вместе с тем трудно представить, что после знакомства со ст-нием Лермонтова, разоблачающим убийц Пушкина и взывающим к отмщению, впечатлительный Полежаев ни в какой мере не проникся мятежным пафосом этого произведения.
96. Изд. 57, под загл. «Чахотка», без ст. 1–3, 28–29, 31–32, с примеч.: «Пьеса эта написана за несколько дней до смерти». - Печ. по Изд. 57, загл. и ст. 28 29 восстановлены по «Ниве»-1915. Н. О. Лернером эти строки взяты из неизвестной ныне рукописи «Последние стихотворения А. Полежаева», где загл.: «Отрывок из письма к …у …у …у за месяц до смерти, в декабре 1837 г.». Ст. 1–3 и 31–32 неизвестны. О Лозовском см. примеч. 14.
Стихотворения неизвестных лет
97. «Красная газета». 1925, 30 декабря, по автографу тетр. ПД — Печ. по этому автографу без загл. «Опять нечто», с расшифровкой недописанных и пропущенных слов (они заключены в скобки) по публикации: Измайлов Н. Неизданные стихотворения А. Полежаева // «30 дней». 1926, № 2. В ст. 41 пропуск не удобных в печати слов, ст. 43 остается нерасшифрованным. Предлагавшееся чтение этого ст. (см.: Зильберштейн И. Трагедия поэта Полежаева // «Огонек». 1926, № 5. С. 4): «Так у<мри> же теперь» сомнительно. О специфическом характере загл. «Опять нечто» см. примеч. 13. Предположение В. В. Баранова (Изд. 1933. С. 628) о том, что песня — «отрывок из неизвестного большого стихотворения», поддержанное Η. Ф. Бельчиковым (Изд. 1939. С. 443) на том основании, что в автографе текст взят в кавычки, маловероятно: кавычки здесь, как и всюду, выделяют чужую речь, т. е. слова солдатского «хора». Датировка ст-ния затруднительна. Мнение о том, что ст-ние «написано не ранее, чем в годы кавказских походов» (Изд. 1933. С. 628), так как его текст записан в тетр. ПД, сшитой из бумаги с водяным знаком «1831», опровергается наличием более ранних ст-ний, переписанных в тетр.: «Ай, ахти! Ох, ура…» находится среди ст-ний 1828–1835 гг. (см. описание тетр. ПД в списке условных сокращений и даты включенных в нее ст-ний). Маловероятно и другое предположение В. В. Баранова — о том, что «Полежаев мог услышать подробности о событиях на Сенатской площади от солдат, которые примкнули к восставшим и после разгрома восстания были направлены на Кавказ (к 1827 г. на Кавказе было около 3000 солдат из мятежных полков)» (Изд. 1957. С. 441. Ср.: Баранов В. В. Восстание 14 декабря 1825 года и поэзия Полежаева // «Ученые записки Калужского Гос. пед. ин-та им. К. Э. Циолковского». 1963. Вып. 11. С. 18). Однако в песне Полежаева нет подробностей о 14 декабря. Что касается настроений репрессированных солдат, то в ст-нии речь идет не о них, а о тех, кто выступил на стороне Николая I против «братий», кто обманулся в своих расчетах на благодарность нового царя. С солдатами — участниками расправы над восставшими — Полежаев мог иметь контакты скорее всего до отправки на Кавказ. В ст-нии, кроме того, говорится о жизни тыловых, а не фронтовых солдат, замученных учениями и телесными наказаниями, что нехарактерно для кавказского военного быта. Ст. 22 «По горам, по долам…» — фразеологизм фольклорного происхождения (ср. народную песню «За горами, за долами…» и ст. 5 в «Русском неполном переводе китайской рукописи», № 100). Видеть здесь намек на природу Кавказа было бы натяжкой. Песня Полежаева теснее всего примыкает к ст-нию 1828 г. «<Узник>», где тоже говорится о солдатах, проклинающих Николая I, и где также звучит мотив коварства царя, названного Иудой. В этот период (1827–1828 гг.), на который приходится апогей антицаристских настроений Полежаева, видимо, и была написана песня «Ай, ахти! Ох, ура…», в которой есть соответствие песне И. Макарова «Солдатская жизнь» (ЛН. 1933, № 9-10. С. 146). От стальных тесаков. Наряду с шомполами и шпицрутенами, солдат порой наказывали тесаком (холодным оружием с обоюдоострым клинком); в таких случаях удары наносились плоской стороной клинка. О наказании тесаком упоминается в народной песне «Уж ты зимушка-зима…» (см.: Лопатин H. М., Прокунин В. П. Русские народные лирические песни. М., 1956. С. 253).
98. «Развлечение». 1860, № 17, только ст. 1—16. - Печ. по «Ниве»-1915. Высказывалось малоправдоподобное предположение, что «Султан» — отрывок из «Ренегата» («Нива»-1915. С. 578). Тот же Н. О. Лернер, опубликовавший ст-ние, указал на географическую ошибку автора: караван из Аравии не мог доставить турецкому султану подарок из Судана (там же). Но не обязательно понимать дело так, будто Судан мыслился автором на Аравийском п-ве. Поэт, очевидно, обозначил лишь один из этапов долгого пути каравана, отправленного из Судана и пересекшего Аравию в направлении к Турции. Сорбет — шербет. Драгоценное алоэ — благовонное дерево, которое сжигали в курильницах и которое чаще всего привозили из Индии. Запрещенный Магометом напиток — вино.
99. Гал. 1839, № 3. - Изд. 57, с двумя незначительными разночтениями. — Печ. по Гал. Благодетельное слово… «Воскресни и живи!» Эти строки отсылают к «Провидению» (1828), написанному при вести об освобождении из тюрьмы. К тому же эпизоду Полежаев возвращается в «Красном яйце» (№ 80). Предположительно написано в 1836–1837 гг.
100. «Нива»-1915. Судя по дате в загл. «1737», вероятно, написано в 1837 г., так как время действия отнесено на сто лет назад — обычный в литературе прием больших хронологических смещений. Сатира Полежаева примыкает к повести «Иман-козел», сатирической мишенью которой тоже выступает лицо из духовного сословия (см. ст. «Но ведь зато на колокольне Я воспитанье получил», «Умен родитель мой косматый») и в которой сатира прикрыта географической маскировкой под Восток. Как и в «Имане-козле», «сам лукавый» внушает герою нечестивые помыслы. Вместе с тем облик этого героя лишен типической социальной характеристики. Объект сатиры — неимущий человек, навязывающийся к состоятельным людям в приятели и бесстыдно пользующийся их хлебосольством и общительностью. Сходные черты проглядывают в персонажах «Дня в Москве» (бульварные молодцы — «охотники до рома, котлет, чужой жены и до чужого дома»), «Рассказа Кузьмы…» (бродяги-вымогатели, находящие бесплатное пропитание и выпивку в трактире), в герое «Кредиторов», живущем на чужие деньги и не платящем долги.
ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ
101. Установление дефинитивного текста произведения представляет не разрешимую до конца проблему, так как авторских рукописей не сохранилось, а дошедшие до нас поздние копии (не ранее 1839 г.), как и осуществленные по ним публикации, изобилуют многочисленными пропусками, грубейшими искажениями и ошибочным порядком строк. В условиях дореволюционной России поэма Полежаева печ. с целым рядом обширных купюр ценз. характера. Впервые за рубежом: РПЛ, по неизвестному списку, присланному Огареву и Герцену из России, без ст. 13–18, 183–186 (пропуск не обозначен), ст. 187–190 включены в строфу 14, без ст. 245–246 (вм. них две строки точек), строфы 17–18, как и 19–20, слиты в одну ст. 383–386 перед ст. 379, без ст. 432, 457, 711–714, (пропуск не обозначен), без эпилога, с многочисленными вар. — РА. 1882. T. 1, вып. 2, по неизвестному списку, в качестве биографического материала, поданного публикатором (Д. Д. Рябининым) в виде цитат с произвольной последовательностью (ст. 1—12, 19—114, 116–122, 127–170 175—180 187, 191–214, 219–234, 259–262, 267–357, 377–382, 387–467, 469–504, 511–690, 739–784, 787–788, 791–810), с многочисленными вар., в том числе принадлежащими публикатору, заменявшему неразборчивые места текста строками собственного изобретения, стремившемуся смягчать грубые слова и выражения, а также цензурно неприемлемые строки. — Изд. 88, сокращенный и контаминированный текст, в котором использованы публикации РПЛ, РА и, видимо, какой-то список, с рядом произвольных поправок, без ст. 13–16, 60, 74, 115–126, 150, 187–190 235—258, 263–266, 311, 323–326, 331–390, 395–462, 505–510, 783–794, 799–810 (пропуски нигде не обозначены, разбивка на строфы отменена), ст. 59 и 642 приведены неполно. — Изд. 89, без ст. 13–18, 125–126, 183–186 (пропуск не обозначен, ст. 187–190 подверстаны к строфе 14, что привело к перенумерации строф), ст. 217 «Строка в строку», без ст. 235–246 (вм. них строка точек), 257 (строка точек), без ст. 339–366 (вм. них строка точек), перед ст. 379 строка точек, без ст. 383–386 (пропуск не обозначен), 505–510 (вм. них строка точек), ст. 609 «…..здесь …….», ст. 642 «О плут!..…», без ст. 654 (строка точек), 687 (строка точек), без ст. 711–714 (вм. них строка точек), с произвольной заменой цензурно неприемлемых или грубых слов, например 248: «О столь существенных вещах», 323: «Толпа иль дам иль дев стыдливых», 325: «Целуем миленьких, смазливых», 337: «К знакомым девам прискакали», 790: «Ты страстно нежила его», и т. п. — Изд. 92, текст предыдущего, но с дополнительным исключением ряда фрагментов (устранены выпады против религии и духовенства — вся строфа 14, строфы 17–19 и др., содержащие натуралистические подробности). — Изд. 1933, по списку ГИМ (собрание И. Е. Забелина, фонд 440, № 1242), с восстановлением недостающих частей текста (ст. 74–78, 234, 443–450, 534, 538, 667–670, 698–702, 736–737, 770) по РПЛ, с уточнением антиклерикальной строфы 9 по доносу И. П. Бибикова 1826 г. на Полежаева и Московский университет (ЦГВИА, фонд 36, оп. 2, № 54) и некоторыми поправками по др. источникам (Изд. 89, Изд. 92). - Изд. 1939, текст напечатан по тем же источникам, но с большим предпочтением вар. списка ГИМ. - Изд. 1955, с использованием тех же источников, с несколько иным выбором вар., с восстановлением ст. 13–18 по списку из частного собр. Г. М. Залкинда (Москва). - Изд. 1957, тот же текст, что и в Изд. 1933, но с большей опорой в выборе вар. на список ГИМ. Из источников «Сашки» наиболее важными являются список ГИМ и текст РПЛ. Значение списка ГИМ правильно охарактеризовал В. В. Баранов: «При всех… недостатках списка: поздняя датировка (1839 г.), позднейшие вставки в основной текст, значительное число описок, плохая грамотность переписчика, незнание переписчиком французского языка и пр., список Заб<елина> является тем не менее наиболее полным списком „Сашки“… Этот список единственный, сохранивший стройный порядок в нумерации строф, который нарушен и перепутан во всех изданиях Полежаева. Весьма малое количество пропусков касается стихов, наилучше сохраненных другими списками и потому легко восстановимых» (Изд. 1933. С. 632–633). Существенный интерес представляют также список ПД в «Сборнике прозаических и поэтических произведений разных авторов». Ч. 3. Составлен Михайловановым, т. е. М. И. Семевским (фонд 274, оп. 1, № 438) и список антиклерикальных строф, приведенных в доносе И. П. Бибикова (фотокопия воспроизведена в Изд. 1933 между с. 72 и 73). В предшествующих изданиях Полежаева наряду с очищением текста от искажений ощущается тенденция к его «улучшению» — из разных источников выбирались строки, которые отвечали этой цели. В наст. изд. сделана попытка предельно ограничить вкусовой подход в предпочтении тех или иных вар. — Поэма печ. по списку ГИМ, с восполнением недостающих строк по Изд. 1955: ст. 13–18; по РПЛ: ст. 74–78, 234, 431, 443–450, 534, 538, 667–670, 698–702, 736–737, 770; ст. 234 восстановлен по доносу Бибикова. Явно дефектные строки (пропуски слов, утрата рифмы, нарушение размера стиха, искажение собственных имен), а также малограмотные и подозрительно корявые строки исправлены всюду, где это было возможно, по РПЛ: ст. 26, 86, 151, 153, 164, 170, 173, 202, 205, 283–285, 288, 295, 314, 316, 321, 327, 348, 365, 367, 390, 406, 418, 422, 438, 453–454, 459, 477, 493, 513, 535, 539, 555–556, 602–603, 605, 609, 613, 629, 659, 662, 666, 677, 695, 731, 738, 764, 768, 776. По списку ПД исправлены ст. 109, 740, 807. По доносу Бибикова уточнены: ст. 120, 123, 224, 229–230, по Изд. 89: ст. 491 и 517. В строфе 31 гл. 1 принята композиция Изд. 1933 — в списках ГИМ, ПД и в РПЛ она приведена с сомнительным порядком строк: ст. 383–386 помещены перед 379 ст., что не дает осмысленного чтения (в Изд. 89 ст. 383–386 вообще отсутствуют). Вероятно, в не дошедшем до нас автографе или в одном из ранних списков ст. 383–386 (или 379–382) были вынесены на поля, что при дальнейшей переписке привело к путанице. Порядок ст. 455–458 в строфе 37 установлен в наст. изд. по списку ГИМ и ПД. Доныне остаются неизвестными ст. 183–186 (не исключено, что их отсутствие изначально, т. е. перед нами неполная строфа, возможно имитирующая неполные строфы «Евгения Онегина»). Прочие точки в тексте означают пропуски слов и строк нескромного содержания. Не исключено, что копии поэмы делались не с одного, а с двух или трех автографов. Возможно, какие-то первоначальные копии имели поправки автора, поэтому возникшие разночтения в источниках текста отчасти могут быть объяснены этим обстоятельством. В разделе «Варианты» приведен только тот материал, который позволяет предполагать, что эти вар. восходят к авторским текстам. Не приводятся искаженные строки, возникшие в процессе неоднократных переписок текста. Опускаются также все незначительные разночтения, в том числе строки с перестановкой слов.
Время написания «Сашки» определяется, с одной стороны, выходом из печати первой главы «Евгения Онегина» (февраль 1825 г.), внушившей Полежаеву замысел поэмы, с другой — датой доноса на него (конец июля 1826 г.). Судя по тому, что название поэмы упоминается в письме А. Я. Булгакова к брату К. Я. Булгакову от 1 июля 1825 г. (РА. 1901, т. 2, № 6. С. 195), можно думать, что к этому времени она уже существовала. В течение года произведение получило широкое распространение в списках. Неизвестно, каким путем одной из его копий завладел жандармский полковник И. П. Бибиков. Занявший этот пост в 1826 г. по протекции своего родственника А. X. Бенкендорфа, Бибиков избрал объектом своей шпионской «деятельности» студенческую молодежь: «…необходимо, — писал он в марте 1826 г. Бенкендорфу, — сосредоточить внимание на студентах и вообще всех учащихся в общественных учебных заведениях. Воспитанные по большей части в идеях мятежных и сформировавшиеся в принципах, противных религии, они представляют собой рассадник, который со временем может стать гибельным для отечества и законной власти. Равным образом необходимо учредить достаточно бдительное наблюдение за молодыми поэтами и журналистами» (Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором: 3-е изд… Л., 1925. С. 17). Текст доноса Бибикова обнаружен и опубликован В. В. Барановым (Изд. 1933. С. 69–72), установившим его автора на основании другого письма Бибикова к тому же Бенкендорфу, от 12 июля 1834 г., в котором Бибиков заступался за свою жертву (Там же. С. 114). После открытия Баранова стала очевидной недостоверность мемуарных рассказов о том, каким образом список «Сашки» попал к царю, а поэт был доставлен к нему на допрос (Струйский Μ. П. Заметка об А. И. Полежаеве // «Живописное обозрение». 1888, № 13. С. 211; Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Спб., 1884. С. 257). Только очерк Герцена «А. Полежаев» (включенный в «прибавление» к первой части «Былого и дум») сохранил значение достоверного документа (несмотря на некоторые неточности), так как в его основе — рассказ самого поэта, слышанный Герценом в 1833 г. Как сообщает Герцен, царь заставил Полежаева читать поэму по великолепно изготовленной копии: «Никогда, говорил он, я не видывал „Сашку“ так переписанного и на такой славной бумаге» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956. Т. 8. С. 166). Популярность «Сашки» засвидетельствована рядом современников (см.: Чалый М. К. Воспоминания. Киев, 1890. С. 189; Пирогов Н. И. Указ соч. С. 239; Галахов А. Д. Письмо к П. А. Ефремову от 9 февраля 1888 г. в статье: Шляпкин И. А. Заметка об А. И. Полежаеве // «Русский библиофил». 1913. № 3. С. 96). По свидетельству Е. А. Комаровой, она видела список «Сашки», на титульном листе которого был «портрет государя и подпись: „Рисовал студент Уткин“» (Белозерский Е. М. К биографии поэта А. И. Полежаева // ИВ. 1895, сент. С. 645). Если это указание достоверно, то оригиналом портрета был Александр I. Художник А. В. Уткин не был студентом, но был знаком с поэтом. Биограф Полежаева Е. А. Бобров резонно заметил, что в поэме автор, «видимо, бравирует своими разгульными подвигами, причем, может быть, кое-что и прибавляет на свою голову» (Бобров Е. Из истории жизни и поэзии А. И. Полежаева. Варшава, 1904. С. 13). С «Сашкой» генетически связана одноименная поэма Лермонтова (1835–1836), в которой имеется прямая ссылка на Полежаева как на предшественника. Презрение к лицемерной нравственности и мнимо благородному обществу, духовная раскованность героев (в лермонтовском герое более внутренняя, соответствующая его замкнутому характеру) объединяет эти произведения. Влияние Полежаева чувствуется также в юнкерской поэме Лермонтова «Петергофский праздник» (описание веселящейся разношерстной толпы).
Глава первая. 1. Мой дядя — Александр Николаевич Струйский (1782–1834), дядя поэта со стороны отца, Леонтия Николаевича (ок. 1782 — ок. 1825). В 1820-х гг., живя в Петербурге, заботился о своем племяннике, материально поддерживая его. Лишь о походах говорить. А. Н. Струйский во время Отечественной войны 1812–1814 гг. служил в конной гвардии, участвовал более чем в тридцати сражениях. Вышел в отставку с чином полковника. 2. Супруга — Авдотья Николаевна (урожденная Чирикова), на которой А. Н. Струйский женился в 1818 г. Бормоча: «Черт вас побери». Эта строка отсылает к пушкинской, также связанной с темой поездки героя к дяде: «Когда же черт возьмет тебя?» Он к дяде в Питер поскакал. Студент Полежаев неоднократно гостил у своего петербургского дяди, в частности он ездил к нему весной 1824 и, должно быть, осенью 1825 г. 3. В Пензе — здесь: в Пензенской губернии. Под ним есть малое селишко. Неподалеку от г. Саранска находились два имения Струйских; поэт родился в селе Рузаевка, принадлежавшем бабушке Полежаева, Александре Петровне Струйской. Но, возможно, он сам считал местом своего рождения сельцо Покрышкино, имение отца. 4. Чтоб промотаться наконец. Имение отца поэта действительно было заложено в опекунском совете. Сходное выражение (также в применении к отцу героя) у Пушкина: «Давал три бала ежегодно И промотался наконец». Как быстро с гор весенни воды — слегка измененная строка из оды Державина «На взятие Измаила». 5. Первый Сашеньки учитель — Яков Андреянов, дворовый Л. Н. Струйского, в доме которого рос малолетний Полежаев; за Андреяновым была замужем тетка поэта со стороны матери. «Барыня» — простонародная любовная песня «Барыня, бырыня, сударыня барыня…» вульгарного пошиба (текст ее см.: «Новый всеобщий и полный песенник». Спб., 1819. Ч. 2. № 118). 6. У француза в пансионе — в пансионе для благородных при Московской губернской гимназии, который возглавлял Жан Визар (см. о нем). Геттинген, Вильна и Оксфорд — перечислены старейшие университетские города в Германии, Литве и Англии. Брать патенты — получать права. Звонарь не может колокольный и т. д. Выпад против студентов, происходивших из духовного сословия. 9. Козлиными брадами и т. д. Выпад против духовенства. 11. «Черная шаль» — ст-ние Пушкина (1820), положенное на музыку А. Н. Верстовским, было популярно в 1820-е гг. 12. Эпикур — здесь: эпикуреец, любитель чувственных наслаждений. Царица Пафоса (греч. миф.) — Афродита, названная так по г. Пафосу на острове Кипр, где был ее храм и где она особенно почиталась. 13. Гераклит Эфесский (ок. 530–470 до н. э.) — древнегреческий философ; античная традиция интерпретировала его как «вечно плачущего» философа, с прискорбием взирающего на человеческую жизнь. 14. Сенека Люций Анней (ок. 6—65) — римский политический деятель, писатель, философ-стоик, учивший, что смысл жизни — в исполнении сурового долга. Сенека был воспитателем Нерона, который, став императором, принудил его к самоубийству. Евангелист — легендарный автор Евангелия; в Новый завет входят евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 18. Мохнатые шельмы. Имеются в виду церковнослужители. 19. Обе книги — Ветхий и Новый завет. Как… Платон его с Сократом ни учили, Чтобы бессмертью верил он. Смысл этих строк в том, что идеалистическая философия Платона и Сократа, проникнутая верой в сверхчувственный мир, предсказывала учение христианства о загробной жизни. 22. Петиметры — модные щеголи, франты. Бонтон (от фр. bon ton) — человек с хорошими манерами. 23. Момус (греч. миф.) — Мом, божество смеха. 24. Дон, Рейн — донское и рейнское (или рейнвейн), сорта виноградных вин. Ямай — ямайский ром. Сиволдай — сивуха, крепкая водка низшего качества. 25. «Завесу черной нощи» — почти точная цитата из ирои-комической поэмы В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771), где описывается пьянство и драки ее героя. Марьина роща — живописная окрестность старой Москвы, излюбленное место отдыха и прогулок. Ермолка — круглая шапочка без околыша и плотно прилегающая к голове. Ерофа — ерофеич (или ерофей) — сорт водки, настоянной на травах. 27. Бандерша — содержательница притона. 28. Приап, Приап… Тебя достойный фимиам. Здесь можно уловить отзвук нецензурной «Оды Приапу» И. С. Баркова, автора так называемых «срамных» од. Приап (греч. миф.) — бог плодородия и чувственных наслаждений. Мизогины — женоненавистники. Абрис — набросок, контурный рисунок, дающий обобщенное представление о предмете. 29. Полувоздушна, Калипса юная и т. д. Вся эта нескромная по содержанию строфа — пародия на описание танца Истоминой в 20-й строфе первой главы «Евгения Онегина». Калипса — Калипсо (греч. миф.), нимфа, персонаж «Одиссеи» Гомера, в переносном смысле — ослепительная красавица. 30. Контроданс (контрданс) — танец с фигурами, кадриль. Полштофы — винные бутыли; штоф — бутыль емкостью в десятую часть ведра. 31. Ерыги (ярыги) — пьяницы. 32. Осаду нашу комитета. В списке ГИМ к этой строке дано примеч.: «Дом Человеколюбивого общества на Арбате». 33. Сомов и далее упоминаемые Калайдович, Жданов, Пузин, Коврайский, Кушенский — приятели Полежаева, студенты, обучение которых в Московском университете подтверждается документами (см.: Изд. 1933. С. 60). Известно двое братьев Сомовых: один — Михаил Матвеевич — был вольнослушателем (как и Полежаев), второй — Александр Матвеевич — числился студентом. В сб. «Речи и стихи, произнесенные в память незабвенных благотворений блаженныя памяти императора Александра I…» (М., 1828. С. 14) сообщается о присвоении звания действительного студента Степану Коврайскому и Андрею Кушенскому. 34. Буфеля — полицейские. 35. Капоты — здесь: шинели из фризяка (грубой ворсистой ткани). 37. Jean — обращение к кому-то из приятелей по имени Иван, возможно к Ивану Пузину. Гишард — возможно, марка импортного табака.
Глава вторая. 2. Изображение Петра — конная статуя Петра I («Медный всадник»). Он, прислонясь у монумента, Стоял с потупленным челом. Реминисценция пушкинского текста: «И опершися на гранит, Стоял задумчиво Евгений». 8. Шляпа эластик — мягкая фетровая шляпа. 10. «Фрейшица» музы́ка — популярная в 1820-е гг. опера «Фрейшюц» («Вольный стрелок») немецкого композитора Карла Вебера. Дюрова Любовь Осиповна (1805–1828) — петербургская драматическая актриса, обладала красивым голосом и приятной дикцией. Антонин — актер балета. В 1820-е гг. часто ставились спектакли смешанного типа, сочетавшие драму, балет и оперу. 14. Моро — см. примеч. 47. Ней Мишель (1769–1815) — французский маршал, один из лучших полководцев Наполеона I. Даву́ Луи Николя (1770–1823) — французский маршал, один из ближайших соратников Наполеона I. 15. Мильонная — улица возле Зимнего дворца (ныне ул. Халтурина); упоминается в первой гл. пушкинского романа. 18. Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) — популярный актер-трагик. Вакштаф — трубочный табак. 19. Кремлевский сад — см. примеч. 21. 26. Jean — возможно, Иван Пузин (как и в строфе 37 гл. 1); в тексте РПЛ не Жан, а Поль — имя какого-то приятеля Полежаева, произносимое на французский манер, либо (как считал В. В. Баранов) это студент Московского университета Пель (из мещан), чья фамилия искажена в списках поэмы. 27. Виват (лат.) — да здравствует.
102. BE. 1826, июнь, № 11, с редакционным примеч. к строке точек (ст. 70): «Пропуски в сей пиесе сделаны самим сочинителем», без ст. 70, 81–82, 275, 280, 301–302, 406, обозначенных точками и остающихся неизвестными. — Изд. 32, с ошибочным выпадением ст. 318. - Печ. по BE с учетом незначительных изменений в Изд. 32. В Экз. Изд. 32 вписан ст. 275 «Мне, ныне богу твоему?» и ст. 280 «Ты бога стал благодарить!» (в Изд. 89 эти дополнения отсутствуют). Источник произведения — распространенная, долго жившая в народе легенда о попе-козломуже, бытовавшая в форме анекдота (в старом значении термина: истинное забавное происшествие), сказки, стихотворного фабльо. В стихах она известна только на украинском языке в записи 1850—1860-х гг. Содержание почти всех версий легенды сводится к следующему. У бедного крестьянина умирает жена (вариант — сын). Приходский поп отказывается совершить заупокойный обряд без денег. Крестьянин роет могилу, находит в земле клад (вариант: кошелек с червонцами) и дает требуемую сумму попу. Вынудив крестьянина открыть секрет своего обогащения, поп ночью в шкуре козла (вариант: вола) отнимает клад у испуганного владельца, но не может избавиться от приросшей шкуры. Легенда либо обрывается на этом, либо заканчивается сообщением о покаянии попа и возвращении им денег, о взятии его под стражу, об отправке к архиерею, пострижении в монахи и т. д. Наиболее искусно текст легенды передан в записи А. Н. Афанасьева, который приобщил его к своему собранию народных сказок под загл. «Клад», не указав, однако, данных о месте и времени этой записи, — не исключено, что это литературная обработка популярного анекдота (см.: «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. М., 1863. Вып. 8. С. 326. № 45). В сб. «Русские простонародные легенды» (Спб., 1861. С. 8—10) в рассказе под загл. «Завистливый» сюжет перестроен публикатором, очевидно по ценз. причинам: поп заменен жадным соседом. Украинские версии легенды, также зафиксированные в середине XIX в., отличаются большей конкретностью. Крестьянин в них носит имя Кирика, в одном из вариантов действует ксендз, в другом попа везут на покаяние «к Почаевской божией матери» (см.: «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом»: Юго-западный отдел / Материалы и исследования, собранные Π. П. Чубинским. Пб., 1878. Т. 2. С. 105–108, № 31; текст в форме раешного стиха см.: Левченко М. Вірша про Кирика, як антиправославний, уніятьский витвір // 3 поля фольклористики й етнографії: Статті та записки. Київ, 1927. С. 20–41). Обзор материалов о бытовании легенды см.: Бобров Е. А. Этюды об А. И. Полежаеве. Варшава, 1913. С. 1—19; Бобров Е. Сказание о корыстолюбце в козлиной шкуре // Бобров Е. Литература и просвещение в России XIX в. Казань, 1902. Т. 3. С. 171–173. Каково бы ни было происхождение легенды о попе-козломуже, ясно одно, что осенью 1825 г. она циркулировала в качестве сенсационного известия о действительном происшествии, вызвав при этом немалое волнение умов. По свидетельству декабриста Д. И. Завалишина, в Петербурге у Казанского собора и Александро-Невской лавры собирались толпы людей, желавших поглядеть на рогатого попа (Завалишин Д. Петербургские легенды и события в 1825 г. История попа с рогами // «Древняя и новая Россия». 1879, ноябрь. С. 403–409). То же самое сообщил другой мемуарист (Ципринус [Пржецлавский О. А.]. Несколько слов по поводу «ответа» г. Берга на мои замечания // РА. 1872, вып. 10. Стб. 1567–1568). Достоверность этих данных стала вполне очевидной после публикации письма поэта-баснописца А. Е. Измайлова к литератору П. Л. Яковлеву от 25 сентября 1825 г.: «Слышал ли ты, любезный племянник, повесть о рогатом попе, которого смотреть собирается у нас народ толпами… Этот поп не хотел похоронить безвозмездно маленького или большого мертвеца у крестьянина. Что делать? Поп не хоронит без денег… староста не велит держать мертвеца дома, крестьянин… взял заступ, стал рыть могилу и нашел клад. Все к лучшему? Не так ли? Не знаю, похоронил ли уже поп мертвеца на кладбище или только отслужил по нем панихиду, но знаю наверное, что сделал это не даром. И дурак-крестьянин разболтался ему, что нашел клад. А поп тому и рад! Вот он с радости убил козла, содрал с него шкуру и надел на себя… В полночь в этом наряде идет он к крестьянину, стучится у окна, называет себя чертом, духом стража клада, требует его обратно и получает. Благополучно возвращается домой… хочет раздеться, и не может снять с себя козлиной шкуры! Вот божеское наказание! Что с ним делать? Привезли его в Петербург и хотели, как носится слух, отчитывать его в Казанском соборе. На тамошней площади, у Знаменья, у Невского монастыря дня три собирается народ толпами, полиция разгоняет чернь водою» (цит. по изд.: «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. М., 1938, Т. 2. С. 629, комментарий Η. П. Андреева, к № 258). История, по-видимому, от начала до конца была выдуманной, хотя Завалишин считал, что в основе ее — действительный случай, лишь несколько разукрашенный фантазией. Правдоподобие слухов о поимке в Петербурге попа-афериста категорически отвергал Я. П. Полонский в автобиографическом романе «Признания Сергея Чалыгина» (Полонский Я. П. Соч.: В 2-х т. М., 1986. Т. 2. С. 195). Министр народного просвещения А. С. Шишков увидел в распространении легенды опасный симптом неуважения населения к духовенству, о чем он писал к императору Александру I незадолго до смерти последнего (Иконников В. Граф H. С. Мордвинов. Спб., 1873. С. 420). Публикация «Имана-козла» в июньской книжке журнала не оставляет сомнения в том, откуда почерпнул Полежаев материал для своей стихотворной повести, написанной в жанре стихотворной сказки (в старом значении слова — рассказа). Возможно, толки о рогатом попе поэт слышал в одно из своих последних посещений Петербурга. В Москве, где этот анекдот был менее известен, оказалось возмо́жным даже напечатать его пересказ в замаскированной форме восточной легенды, что все-таки «наделало немало шуму», по позднейшему признанию Н. А. Полевого ([Полевой Н. А.] Стихотворения А. Полежаева // «Московский телеграф». 1832, июнь, № 11. С. 359). Что имел в виду Полевой, неясно. Переработка легенды о попе, осуществленная Полежаевым, вызвана не только маскировкой злободневного анекдота, импонировавшего поэту своей антипоповской направленностью. В Полежаевской обработке заметно нагнетание комической эксцентрики — внезапной, головокружительной и смешной метаморфозы персонажей — их ролей и жизненных положений. Бездомный бродяга превращается в богача, причем это превращение выглядит более разительным, нежели в устных источниках: вчерашний нищий возводит для себя пышные хоромы, а имам, чей дом — полная чаша, который содержит нескольких жен, теряет все блага жизни вместе с самой жизнью: в финале произведения описывается его призрачное загробное существование — ночные блуждания возле собственной могилы. Персонажи «Имана-козла» действуют под влиянием некоей таинственной силы, тогда как в легенде-анекдоте их поступки мотивированы типичной общественной практикой. Хлопоты о похоронах побуждают крестьянина обратиться к попу, обнаружить перед ним свое безденежье, наконец рыть скрывающую клад землю. Оплата панихиды и поминок возбуждает естественное любопытство попа, который заставляет крестьянина разговориться. Иное в «Имане-козле»: нищий, подчиняясь внезапному импульсу, бесцельно разгребает песок и находит клад, а имам, словно по наитию свыше, проникает в тайну обогащения Абдула. Идея легенды-анекдота ярко отразила общественные настроения 1820-х гг. — религиозные чувства заметно обособляются от влияния церкви, что придает им известное напряжение: желание видеть в боге прямого заступника справедливости на земле сильнее пленяет умы, на что указывают и соответствующие явления в поэзии (опыты «священной поэзии» Ф. Глинки, баллады Жуковского, некоторые думы Рылеева). Вывод, который следует из «Имана-козла», другого рода: жизнь вообще чужда справедливому итогу — ее награды и лишения всегда чрезмерны или невпопад. Полежаевский бродяга Абдул — праздный лукавец, образ которого выписан в ироническом ключе, привалившее ему счастье — не награда за горе и тяжкий труд. А в конце произведения, где говорится об унижении и смерти имама, проскальзывают интонации сострадания к нему: самосуд толпы — слишком жестокое наказание, в свою очередь взывающее к отмщению. «Иман-козел» отметил новый период в развитии стихотворной сказки, — период, когда этот жанр освобождается от присущего ему догматического морализма. Иман (правильно: имам) — глава религиозной общины мусульман, руководитель молящихся в мечети. Цехины — старинные золотые венецианские монеты. Гурия — вечно юная райская красавица. Так обезьяна у Крылова — в басне «Мартышка и очки». И там прохлопаешь глазами, Где должно действовать руками — перифраз строк из ст-ния Державина «Вельможа» («Где должно действовать умом, Он только хлопает ушат ми»). «Тысяча ночей» — сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь», один из основных источников, к которому обращались европейские писатели для воссоздания условного мира экзотического Востока. Об очень чудном наказанье Царицей Ольгою древлян. Киевская княгиня Ольга (ум. 969) в отместку за убийство мужа древлянами безуспешно осаждала их главный город Искоростень; согласно преданию, Ольга велела выпустить полученных ею в качестве легкой дани с древлян голубей и воробьев, к которым были привязаны тлеющие куски серы; от этого в городе возник пожар, и древляне были побеждены. Фонтенель Бернар де Бовье (1657–1757) — французский писатель и ученый, предшественник просветителей, автор известного сочинения «Разговоры о множестве миров» (1686). Боннет — Бонне Шарль (1720–1793) — швейцарский натурфилософ. Вельзевул — божество древних финикиян, имя которого у христиан стало названием Сатаны. Адрамелех — ассирийское божество, злой дух, идол которого изображался в виде лошади. Как Архимед в старинно время, «Нашел!» — он радостно кричал. Древнегреческий математик и механик Архимед (ок. 287–212 до н. э.) однажды, гласит легенда, сидя в ванне, придумал способ измерить количество золота и серебра в короне сиракузского царя Гиерона. С криком «Эврика!» («Нашел!») Архимед выбежал нагим из дома. Вскую — напрасно, попусту.
103. Изд. 32, с пропусками: ст. 163 «Погони ожидал…», ст. 200–201: «О важном, например что будто секретарь». - Изд. 89, где пропуски восстановлены по неизвестному источнику. В Экз. Изд. 32 ст. 163 дописан так: «Погони ожидал, как ждет преступник казни». Упоминание о ядрах Эрзерума в ст. 191 приводит к выводу, что произведение написано не ранее 1828 г.: во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. был осажден город-крепость Эрзерум, капитулировавший 26 июня 1829 г. «День в Москве» примыкает к традиции сатирических обозрений, бичующих распространенные пороки общества («Сатира первая» В. В. Капниста, «Подражание первой сатире Боало» А. А. Бестужева, «К Лицинию» Пушкина и др.). В этих произведениях личность автора-обличителя или его рупора — положительного героя, стоит на большой высоте, т. е. резко обособлена от сатирических объектов. Нередко бескомпромиссная позиция такого автора-героя подтверждается ситуацией разрыва с недостойной средой, даже бегства из этой среды, что отозвалось в сюжете «Горя от ума» (бегство Чацкого из Москвы). С конца XVIII в. начинают появляться произведения, в которых духовный облик автора-сатирика понижается вследствие его приближения к обличаемым персонажам, причем сама сатира подчас сбивается на забавное злословие. Типичный образец такой сатиры — «Вечер» (1798) В. Л. Пушкина, явно предвосхищающий «День в Москве» Полежаева (здесь тоже описывается званый вечер, участникам которого автор, как его свидетель, раздает уничижительные оценки). Облик обозревателя нравов московского общества в произведении Полежаева еще более двоится. Репутация «серьезного господина» и отшельника, сурового критика света опровергается его склонностью к таким же пустым гедонистическим забавам (включая и франтовство), что и у навязчивой толпы знакомцев, покушающихся на его досуг и кошелек. Подобная «расщепленность» героя оборачивается известным художественным просчетом: досада, усталость беглеца, измученного своими преследователями, плохо вяжется с обстоятельностью его рассказа, построенного к тому же в манере бойкой болтовни. Полежаев, несомненно, писал «День в Москве» с оглядкой и на другое произведение В. Л. Пушкина — «Опасный сосед» (1811), где автор так же поставлен во внутрисюжетное положение и где он так же спасается бегством из позорного положения (драка в притоне). В ворчливо-осудительном тоне «Дня в Москве» прослушивается незамолкающая интонация веселости и восхищения: беспорядочное, неприличное кипение живой (хотя бы и пустой) жизни торжествует над скучной и монотонной правильностью культурного быта, этикет которого сковывает героя-обозревателя, ведущего тем не менее свою критику нравов по нормам этого этикета. А преимущества, ставящие его над сатирическими персонажами, — сдержанность, учтивость, отчужденность от света — тоже предстают в комическом освещении. Почти одновременная работа Полежаева и А. С. Пушкина над обновлением жанра стихотворной сказки подчинялась различным творческим началам. Так, в «Графе Нулине» (1826) случайная авария экипажа, делающая пострадавшего гостем дамы, — только завязка сюжета, развитие которого далее уже всецело зависит от характеров персонажей. У Полежаева в сплошном нагромождении случайностей, направленных к тому же только в одну сторону, просматривается однобокая художественная логика (жесткая режиссура насмешницы-судьбы, названной здесь «семенем дьявола»), реализация которой нуждалась как раз в бесхарактерности и крайнем однообразии персонажей, отличающихся лишь именами-этикетками да репликами. В «Дне в Москве» обозрение длинной галереи сатирических персонажей скреплено довольно пространной фабульной канвой, эпизоды которой объединяет тема путешествия по городу, что сближает произведение с недолго существовавшим (в прозе и стихах) антисентименталистским жанром пародийно-фельетонных путешествий, строившихся, как правило, на пестром материале городского быта. Несколько ситуаций и сатирических фигур, по-видимому, было подсказано Полежаеву «Чувствительным путешествием по Невскому проспекту» (Спб., 1828) П. Л. Яковлева. Тут мы найдем и сценку в модной лавке француженки, где герой-рассказчик обескуражен разговорчивой дамой с нескромными манерами. Далее при посещении клуба описывается карточная игра, сопровождаемая выкриками игроков, затем встреча со знакомым на улице и обед в его доме. Тру-Тру — имя-этикетка; французское слово trou означает: дыра. Взял дюжину платков, материй для жилетов И, осмотрев мильон шнуровок и корсетов. Эти строки отсылают к стихам из «Графа Нулина»: «С запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запонок, лорнеров, Цветных платков á jour». Сократ — по предположению В. В. Баранова (Изд. 1957. С. 455), такое прозвище мог иметь сам Полежаев, переводчик поэмы Ламартина «Смерть Сократа». Слывет Пале-Роялем. В Пале-Рояле, бывшем дворце герцогов Орлеанских, с конца XVIII в. размещались торговые и увеселительные заведения Парижа с сомнительной репутацией. Кремлевский сад — см. примеч. 21. Донское — марка шипучего вина наподобие шампанского. Как терзал Демьян соседа Фоку — о персонажах басни Крылова «Демьянова уха». Сотерн — сорт виноградного белого вина. Сказал поэт с довольною улыбкой; Перст ко лбу — и в ушах раздался голос хрипкой. Вероятно, отзвук стихов из «Горя от ума» («Старик заохал, голос хрипкой; Был высочайшею пожалован улыбкой»). Кабриолет — легкий двухколесный экипаж с одним сиденьем. Вакхов гражданин — сильно захмелевший человек. И я доволен был обедом и собой. Реминисценция ст. «Евгения Онегина» («Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой»), Ариман — см. примеч. 56. Новый падший дух — Сатана. Калиф — опера «Багдадский калиф» (1800) французского композитора Ф. Буальдье. Рондо — здесь музыкальная пьеса с неоднократным повторением главной темы, т. е. с рефреном. Чичисбей — в средневековой Италии спутник знатной замужней дамы. Παρκе́ (фр.) — паркет. Петиметр — щеголь, модник. Женировать (от фр. gêner) — стеснять. Виконт де ла Клю-Клю — имя-этикетка; французское слово clou имеет несколько значений: гвоздь, ломбард, полицейский участок. Вот тайный разговор от слова и до слова и т. д. до конца диалога. Этот эпизод, возможно, подсказан сценой нечаянного подслушивания Чацким диалога Софьи с Молчалиным. Фалалей — разиня, простофиля. Убей бобра. Идиома «убить бобра» означает: обмануться в расчетах, получить плохое вместо хорошего. Он на ноге — в близких отношениях. Маз — прибавка к ставке игрока, делаемая другим игроком и дающая последнему право на долю выигрыша. Attendez (атанде́) — предупреждение не делать ставки. Транспорт — перенос ставки на другую карту. С углом — четверть ставки, при ее объявлении загибался угол карты. В тос — перетасовывание колоды карт. Талия — круг игры, в течение которой перекидываются все карты или срывается (выигрывается) банк. Банкер — банкомет, игрок, делающий ставку, против которого играют понтеры. Плие — игра по удвоенной ставке.
104. Изд. 32, без ст. 52–55, 57–58, 77–79, 141, доныне остающихся неизвестными. Ст. 34 («Тут и ……. залицемерит») в Изд. 89 восполнен, очевидно, по догадке. В Экз. Изд. 32 ст. 79 дописан: «В церквах, дворцах». Со стихотворными новеллами Полежаева это произведение объединяет дух неуважения к прописным истинам обыденной морали, атакуемой с низкой позиции плутовского героя, истинного представителя царства быта. Ревизуя с этой позиции суровую этику долговых обязательств, Полежаев ставит и своего героя-беглеца в положение, отнюдь не лишенное комизма (еще один пример обращенной сатиры). Прямая речь героя, при том что она содержит автобиографические моменты, в значительной своей части — монолог, подчиненный условностям водевильного жанра. Фактически власть денег в «Кредиторах» отождествляется с властью капризной судьбы. Деньги и безденежье — всего лишь игра «слепой фортуны», от которой тем не менее следует ждать милости. Эта немудреная «философия» сродни легковесному оптимизму водевиля, неизменно утверждающего торжество удачи над неудачей. Монолог в «Кредиторах», как это и принято в водевиле, декларирует малоправдоподобную линию поведения героя, основанную зачастую на моральном компромиссе. Черты сходства с водевильным куплетом являют и броские, приправленные остротами четверостишия, разбросанные в тексте Полежаева (см. особенно ст. 67–70, 86–89, 118–121, 171–174). Эскулап — здесь: врач. Ландо — четырехместный экипаж с откидным верхом. Ир — персонаж «Одиссеи» Гомера, попрошайка; в нарицательном значении: бедняк. Панглос — персонаж повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), прилагавший ко всем случаям жизни изречение философа Лейбница «Все к лучшему в этом лучшем из миров». И не всегда невежды строго Судить нас будут за долги, Как ныне судят за стихи. Подразумевается постигшее Полежаева наказание за поэму «Сашка».
105. Изд. 32, последнее произведение сборника. Дата написания неизвестна. Отзвук «Графа Нулина» Пушкина (см. ниже) позволяет отнести «Чудака» к 1828–1829 гг. В отличие от предыдущих стихотворных сказок в «Чудаке», комическая эксцентрика с ее чисто развлекательной функцией преобладает над сатирой. Сущность этого комизма — «обратимость» персонажей, их ролей, свойств, отношений. Наглец и авантюрист Чудак превращается в благородного рыцаря оскорбленной им барышни. Поединок между уланом и Чудаком заканчивается дружескими объятиями и взаимным восхищением. Роль улана сполна переходит к Чудаку — оба персонажа, по словам поэта, «вдруг составляют одного». А барышня, симпатизировавшая улану, отдает свою руку недавнему обидчику. Никто из персонажей не верен себе, ибо все они неглубоки и неустойчивы в своих чувствах, которые возбуждаются от случайных обстоятельств, по прихоти «проказницы-судьбы». Карета цугом — запряженная шестеркой лошадей. Обворожен ее румянцем и т. д. Эти строки перекликаются со стихами из «Графа Нулина» («Лица румянец деревенский — Здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной»). На четверне — на повозке, в которую запряжено четыре лошади.
106 *. Отдельное изд.: «Эрпели» и «Чир-Юрт»: Две поэмы А. Полежаева. М., 1832, с пропуском ст. 51, 143, 257–261 (в ст. 257 только слово «Пока…», в ст. 261: «…и что же?»), 341–342, с изъятием слов «боясь плетей» в ст. 432, без ст. 878–885, 936, 972, 986, 1022–1024 (в ст. 1024 нет начала), 1270–1271, с сокращенными обозначениями слов «егерям» в ст. 69 («е……») и фамилий Иогеля и Уткина, обозначенных начальными буквами. — Изд. 89, с восполнением ст. 143 по экземпляру поэм, принадлежавшему поэту М. Л. Михайлову, где было вписано несколько пропущенных строк, со спорным вар. в ст. 432 («от злых гостей»). - Изд. 1939, с восполнением большей части пропусков по списку поэмы ГИМ, озаглавленному «Горы» (фонд 270, H. С. Щербатова, ед. хр. 30). - Изд. 1957, текст предыдущего, но тоже с пропуском ст. 986, с необязательным исправлением ст. 1307 по списку ГИМ. - Печ. по отд. изд. поэм с восстановлением ст. 51, 257–259, 432, 879–880, 882–883, 885, 936, 986, 1270–1271, и с уточнением ст. 848, 946 по списку ГИМ, заслуживающему полного доверия и, несомненно, сделанному с автографа. В списке очень мало погрешностей (пропущен ст. 736) и разночтений с печ. текстом. В ст. 668 («Темира-Мура») и 1265 («испытая») исправлены ошибки. Неизвестными до сих пор остаются ст. 260–261, 341–342, 878, 881, 972, 1022–1023, частично 1024. История издания «Эрпели» и «Чир-Юрта» отдельной книгой не вполне ясно переплетается с подготовкой к печати Изд. 32. 8 мая 1831 г. А. П. Лозовский подал в Московский ценз. комитет «Собрание стихотворений» А. Полежаева на 182 страницах. 22 мая 1831 г. податель забрал разрешенную к печати цензором С. Т. Аксаковым рукопись по неизвестной причине. 8 января 1832 г. тот же Лозовский передал в цензуру рукопись А. Полежаева под загл. «Стихотворения» (на 81 странице). Возможно, рукопись, получившая разрешение к печати 12 января, включала и поэму «Эрпели», но ввиду написания к тому времени «Чир-Юрта» автор решил изъять первую поэму из «Стихотворений». «Чир-Юрт» же поступил в цензуру 12 августа 1832 г. и был одобрен к печати 19 августа. Отсюда две даты ц. р. в книге кавказских поэм: 12 января и 19 августа 1832 г. Несколько иначе освещается этот вопрос В. И. Безъязычным (см.: Безъязычный В. И. Полежаев и царская цензура // «Научные труды Московского заочного полиграфического института». М., 1955. Вып. 3. С. 59–64). К этому следует добавить, что изначально «Эрпели», видимо, называлась «Горы», и лишь после того, как был написан «Чир-Юрт», Полежаев — с целью подчеркнуть художественный параллелизм поэм — переименовал первую из них. Поэмы вышли в свет не ранее конца августа 1832 г.
Поэма «Эрпели» посвящена Койсубулинской экспедиции, предпринятой шеститысячным отрядом Кавказского военного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Р. Ф. Розена. Это был первый боевой поход, в котором участвовал Полежаев. Командующий Отдельным кавказским корпусом И. Ф. Паскевич поставил перед Р. Ф. Розеном задачу захватить вождя горских повстанцев Гази-Мухаммеда, или, как его называли русские, — Кази-Муллу (1785–1832), уроженца селения Гимры. В 1830 г. Гази-Мухаммед был провозглашен первым имамом (высшим духовным лицом мусульман) Дагестана и Чечни с титулом «гази» (т. е. «борец за веру»). Отличавшийся неутомимой предприимчивостью и пламенным красноречием, Гази-Мухаммед сплотил вокруг себя значительную часть населения северо-восточного Кавказа в борьбе против русских, обосновывая ее идеями газавата (священной войны против неверных) и мюридизма (одно из учений ислама, требовавшее беспрекословного повиновения мусульман воле своего религиозного руководителя). Отряду Розена предстояло подавить опаснейший очаг восстания — Гимры, служившие надежным укрытием для Кази-Муллы ввиду своего почти неприступного положения. Предназначенные для этой операции воинские подразделения покинули крепость Грозную (административный и стратегический центр Левого фланга Кавказской линии, заложена в 1818 г.) в разное время, и местом их встречи был выбран аул нагорного Дагестана Эрпели. Колонна, с которой в мае 1830 г. выступил Полежаев и которую возглавил Розен, состояла из батальона Московского полка (где служил поэт), батальона Тарутинского полка и 200 казаков. Проделав длинный путь по равнинному Кавказу, пройдя крепость Внезапную, она двинулась в шамхальство Тарковское, значительная часть которого была объята восстанием, и 16 мая достигла аула Эрпели, возле которого уже расположились лагерем второй батальон Московского полка и Бутырский и Куринский полки. Отряд Розена пополнился также несколькими сотнями казаков и союзными дружинами мехтулинцев, тавлинцев, кумыков (свыше 400 воинов). С прибытием 21 мая Апшеронского полка численность войска возросла до 6000 человек. Однако доступ к Гимрам преграждал высокий скалистый массив — гора Арактау (часть Гимринского хребта). Подъем на него 20–22 мая вызвал перестрелку с горцами. Однако спуск по другой почти отвесной стороне массива на дно Койсубулинского ущелья, где у правого берега Койсу находились Гимры, грозил потерями и опасными неожиданностями. Розен приказал установить наверху пушки и обстрелять мятежное селение. Горцы предложили перемирие и прислали аманатов (заложников) от селений Гимры и Унцукуль, но отказались выдать Кази-Муллу, утверждая, что его нет в этих местах. Удовлетворившись присягой горских старшин на верность русскому правительству, Розен, в сущности ничего не достигший в начале июня, отвел отряд в крепость Грозную. Неуспех Койсубулинской экспедиции вскоре стал очевидностью, о чем позднее иронически писал декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, служивший на Кавказе одновременно с Полежаевым. Начальник отряда, прибывший из России, совсем не знал, с каким противником имеет дело, и, по словам Бестужева, был «чрезвычайно доволен, что заключил вечный мир с койсубулинцами. Койсубулинцы отправились домой в твердой решимости разорвать его при первом удобном случае» (Марлинский А. Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев // Второе полное собр. соч.: 4-е изд. Спб., 1847. Т. 2, ч. 6. С. 176).
Эпиграф — девиз английского рыцарского ордена Подвязки, учрежденного в 1350 г. (этот девиз читался на знаке ордена — бархатной ленте с золотыми буквами). Тот же эпиграф, но на французском языке был предпослан Изд. 32.
Глава 1. Крик учтивых егерских солдаток. В солдатских слободках крепости Грозной жили семьи отставных солдат, занимавшиеся мелкой торговлей. Форштадт — здесь: предместье крепости. Егеря — солдаты легкой пехоты. Розен 4-й Роман Федорович, барон (1782–1848) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г., командир 14-й дивизии, в которую входили Московский, Бутырский, Тарутинский полки и др. соединения. Гусиный квас — видимо, суп из полевого щавеля. Багратионы — старинный княжеский грузинский род, к которому принадлежал Петр Иванович Багратион (1765–1812), ученик А. В. Суворова, выдающийся полководец, герой войны 1812 г. «Пал на сине море туман!..» — народная песня о солдате, умирающем от ран на чужбине (текст ее см.: «Новый всеобщий и полный песенник». Спб., 1819. Ч. 2. № 136 и «Песни русского народа» / [Собранные И. П. Сахаровым]. Спб., 1839. Ч. 4. № 5). «Здравствуй, милая» — «Здравствуй, милая, хорошая моя…», народная песня любовного содержания (тексты ее см.: Великорусские народные песни / Изданы профессором А. И. Соболевским. Спб., 1898. Т. 4. №№ 516–517; «Песни, собранные П. В. Киреевским»: Новая серия. М., 1917. Вып. 2, ч. 1. № 1555). И без запрету тишина. Молчаливость солдат могла оцениваться как признак подавленности или скрытого недовольства. В данном случае тишина была естественным переходом от шумного возбуждения при выходе из крепости, и потому не могла быть «под запретом». Глубокомыслящие канты — каламбур: канты — шнуры на военных мундирах, а Кант — известный немецкий философ.
Глава 2. Ландкарты — географические карты. Мордвинник — вид репейника с красными, медвяно пахучими цветами. Титан — Казбек. Из ребр его окаменелых и т. д. В изображении Казбека можно различить отзвуки ст-ния Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797) и послания Жуковского «К Воейкову» (1813). Отрывки из них, посвященные описанию горного Кавказа, приведены в примеч. Пушкина к «Кавказскому пленнику». Валдай — город неподалеку от Новгорода; в старину через Валдай проходил почтовый тракт Москва — Петербург. Куда ваш славный воробьевский — о песке на Воробьевых горах в Москве; в прежнее время мелкий песок использовали для просушивания написанного чернилами текста. Дума — Московская городская дума. Сулак, Сунжа — крупные водные артерии северо-восточного Кавказа; Сунжа — правый приток Терека. Неглинная — см. примеч. 84. Как сивка-бурка пред Бовой. Бова — герой русской богатырской сказки, совершающий разные подвиги с помощью волшебного коня сивки-бурки. Костеки (Костек) — селение у реки Сулак в равнинном Дагестане, главный населенный пункт Костековского владения кумыкских феодалов. Ташкичу (ныне Новый Аксай) — укрепленное селение в равнинном Дагестане. Хейн — обувных дел мастер. Золотник — старая русская мера веса (ок. 4,25 г). Меня распудрили не пудрой. Полежаев намекает на постигшее его наказание за поэму «Сашка». Эльбрусом, борзыми конями, которых Пушкин описал — в «Кавказском пленнике».
Глава 3. Московцы, тарутинцы — военнослужащие Московского и Тарутинского полков. Из сорок третьего полка. В Грозной находилась штаб-квартира 43-го егерского полка, солдаты которого часто здесь размещались. Женатые егеря жили за пределами крепости. Кунак — приятель, друг у кавказских народов. «Яман», «якши» — «плохо» и «хорошо» (в тюркских языках). Аджар — горный хребет в южном Закавказье; здесь летом 1829 г. во время русско-турецкой войны понес большие потери Тарутинский полк. Внезапная — крепость у реки Акташ, построенная А. П. Ермоловым против кумыкского селения Эндери, называвшегося также Андреевским (или Андрей-аул); Эндери издавна было центром торговли между равнинным и горным Кавказом, здесь находился невольничий рынок. Мушкатеры — солдаты-стрелки; мушкетерами в старину называли солдат с фитильными ружьями. Бутырцы — военнослужащие Бутырского пехотного полка, в котором до отправки на Кавказ служил Полежаев. Засуетились все безбожно. Причиной беспокойства было то, что солдаты ожидали встречи с ранее отправленными во Внезапную однополчанами, но их там не оказалось.
Глава 4. Вали — титул шамхала (правителя) Тарковского; шамхальство — буквально: шамское ханство, так как во главе его стояли ханы, происходившие из Шама (Сирии). Тарки — селение вблизи современной Махачкалы, в прошлом резиденция шамхала Тарковского; с 1776 г. шамхалы состояли в русском подданстве и им присваивался чин генерала. Диван — государственный совет правителей в ряде стран мусульманского Востока. Магоги — в Библии и Коране дикий, свирепый народ; здесь — воинственное население шамхальства. Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) — полководец, ученик А. В. Суворова, герой войны 1812 г., в 1816–1827 гг. — главнокомандующий на Кавказе; пользовался громадным авторитетом у современников. На равнинах Эрпели… Вступивши с Граббе в бой неравный. Летом 1823 г. отряд под командованием генерал-майора Карла Карловича Краббе (а не Граббе) провел карательную операцию против восставших жителей Эрпели, вторично восставших осенью 1831 г., а не во время описываемого похода к этому селению. Истамбул (Стамбул) — турецкое название Константинополя. Сокрушив кумир огромный — о победе России в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Льва тавризского связав — о победе России над Персией в 1826–1827 гг. Изображение льва с поднятой лапой на фоне заходящего солнца — персидский герб. Тавриз (Тебриз) — второй по значению город в Иране. Черные горы — см. примеч. 30. С мирны́ми, добрыми друзьями Из гор являются врасплох. Так называемые мирные горцы часто, нарушая свой нейтралитет, брались за оружие. Стращал их пагубною бритвой и т. д. Полежаев излагает здесь мусульманские поверья о загробной жизни: души умерших могут войти в рай по мосту, который для грешников становится тоньше волоса и острее лезвия меча. С анапских пашен и лугов. Анапа — старинное поселение на берегу Черного моря. Везде мулла благовествует и т. д. (до ст. «Изволит бы́ть в пяти местах»). Различные, но в одинаковой мере захватывающие впечатления, которые Кази-Мулла производил на жителей, разбросанных в горах аулов, народной молвой были интегрированы в легендарно-мифический образ имама. В передаче Полежаева в нем отчетливо проступают черты оборотня. К седьмому небу. В мусульманской средневековой космографии небо представлялось разделенным на семь сфер (одна внутри другой). Тавлинцы (от слова «тау» — гора) — старое название горцев, обитавших на северном склоне Андийского хребта, преимущественно лезгины. Койсубулинцы — так называли горцев, живших на берегах Сулака и четырех образующих его рек Койсу; здесь имеются в виду преимущественно обитатели селений Гимры, Унцукуль и др., расположенных по берегам Аварского Койсу, протекающего в глубоких и узких ущельях. Шамхал, заботливый старик. В 1806–1830 гг. правителем Тарков был Мехти-шамхал, умерший 9 мая по дороге из Петербурга в Дагестан. Его власть унаследовал старший сын Сулейман-паша (ум. 1836).
Глава 5. То мудрено ль землетрясенью и т. д. С 25 февраля по 18 марта 1830 г. часть территории Северного Кавказа подверглась сильному землетрясению. В Андреевском ауле (см. выше), населенном кумыками (народность равнинного Дагестана), было разрушено 900 каменных саклей, 8 мечетей и почти все гарнизонные строения. Кази-Мулла в своих воззваниях объявил землетрясение божьей карой мусульманам за их нестойкость в вере. Эти воззвания имели успех среди местного населения. Испортил в крепости строенья — в крепости Внезапной. Розан дикий — шиповник. Канонеры — пушкари. Дефиле — ущелье. Темир-Хан-Шура — селение в северо-восточной части нагорного Дагестана (ныне г. Буйнакск), входившее во владения шамхала. Два брата — сыновья покойного шамхала Абу-Муслим и Зюбейр, враждовавшие с старшим братом Сулейманом. Мирза Шамхалов — Сулейман-мирза, слово «мирза» здесь означает: потомок шаха, правителя.
Глава 6. Учился прежде у Визара — в пансионе Жана Эли Визара, швейцарца по происхождению. Й<оге>ль Петр Андреевич (ок. 1776–1855) — московский учитель танцев. У<тки>н Алексей Васильевич (1796–1836) — художник и гравер, автор портрета Полежаева; гравюра с него, выполненная А. Ястребиловым, была напечатана в сб. «Кальян» (1833). В 1834 г. Уткин был арестован по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи», заточен в Шлиссельбург, где и умер. Кизильбаши — буквально: красные головы, т. е. красные, богато украшенные верхушки персидских шапок. Уздени — категория феодалов, а также горцы-общинники, имевшие собственное хозяйство. Два сына старого шамхала — Зюбейр и Абу-Муслим; последний был направлен Розеном на переговоры с восставшими койсубулинскими горцами. Ежели холера Меня в червя не обратит. Эпидемия холеры вспыхнула на Кавказе в марте 1830 г. Не пропущу о баранте, Кафир-Кумыке, Казанищах, Где был второй наш батальон. Несколькими месяцами раньше до похода к Эрпели второй батальон Московского полка, который базировался на крепость Внезапную, был направлен на баранту, т. е. угон скота, принадлежавшего повстанцам. В районе селений Кафир-Кумык (Кафиркумух) и Казанищи (Большие и Малые — к востоку от Эрпели) были захвачены многочисленные стада, но эта мера не принудила койсубулинских горцев к повиновению.
Глава 7. На дне вертепов неприступных — в узких и глубоких ущельях долины Аварского Койсу. В заводах Брянска или Тулы. Эти заводы Полежаев видел в 1829 г., когда проходил с Московским полком через Тулу (февраль) и Брянск (апрель). Календарный маршрут полка приведен в статье: Баранов В. В. Судьба литературного наследства А. И. Полежаева // ЛН. 1934, № 15. С. 243–244. Джелоны — металлические украшения конской сбруи. Ибрагим-бек Карчагский — правитель Табасарани; ему был пожалован чин подпоручика. Ахмет-хан — правитель Мехтулинского ханства, имел чин гвардии капитана. Идут и роют… Впереди и т. д. до ст. 1077. Использование в качестве анафоры глагола «идут» подсказано одой Державина «На взятие Измаила» (строфы 4–5 и 7). Под крепостию Бурной, Синеет моря блеск лазурный. Построенная в 1821 г. А. П. Ермоловым крепость Бурная находилась на горе у побережья Каспийского моря над селением Тарки (см. выше). Елисейские долины — Элизий (греч. миф.), загробный мир, где блаженствуют праведники.
Глава 8. Аманаты — заложники. Яур (гяур) — неверный, немусульманин в тюркских языках. Угрожаемый холерой. Эпидемия холеры в крепости Грозной достигла апогея в июле 1830 г. Из 108 человек, заболевших в Московском полку (среди них был и Полежаев), умерло три офицера и 26 рядовых. Бешмет — стеганый полукафтан. Сорочины — христианский обряд поминовения умерших на 40-й день кончины. Что ж будет памятью поэта и т. д. В этих строках «Эрпели» возможна перекличка с близкими по смыслу строфами 39–40 гл. 2 «Евгения Онегина».
107. Отд. изд.: «Эрпели» и «Чир-Юрт»: Две поэмы А. Полежаева. М., 1832, без ст. 196, 576–583. - Печ. по указ. изд. с восстановлением ст. 196 по Изд. 89, где он приведен по экземпляру кавказских поэм из библиотеки М. Л. Михайлова (см. примеч. 106). Ст. 576–583 неизвестны. Из строк письма автора А. П. Лозовскому, предваряющих поэму, следует, что она была в основном написана во время экспедиции в Чечню, т. е. с декабря 1831 по февраль 1832 г. Позднее (вплоть до мая 1832 г.) поэма могла дорабатываться.
Операция по захвату чеченского аула Чир-Юрт, описанная в поэме, проходила с 15 по 19 октября 1831 г. Будучи по своему местоположению малодоступным аулом, Чир-Юрт стал одним из важных опорных пунктов горского восстания, предводительствуемого Кази-Муллой (см. о нем примеч. 106). В начале октября близ укрепления Ташкичу на реке Араксу (Ярыксу) генерал-лейтенантом А. А. Вельяминовым был сформирован ударный отряд из Московского, Бутырского и 40-го егерского полков (2150 человек) и казачьей конницы (550 человек). Преодолев Араксу, отряд прошел через покинутое жителями селение Хасав-Юрт (у этой же реки), откуда ночью направился в сторону реки Сулак. Далее его путь лежал через крепость Внезапную, за счет гарнизона которой Вельяминов пополнил свой отряд 300-ми солдат 43-го егерского полка. На рассвете 17 октября показался Сулак, над правым берегом которого возвышался Чир-Юрт. В рапорте Вельяминова от 21 октября 1831 г. командующему Отдельным Кавказским корпусом барону Г. В. Розену 1-му (сменившему на этом посту И. Ф. Паскевича) о переправе через Сулак сообщалось: «Мы нашли возвышение воды по теперешнему времени необыкновенно великим, и когда пехота начала переходить брод, то несколько человек были опрокинуты быстротою воды. То же случилось с несколькими человеками конных. Хотя никто из опрокинутых силою воды не погиб, но я счел за лучшее отменить переправу в сем месте и потому немедленно остановил пехоту» («Акты, собранные кавказской археографическою комиссиею». Тифлис, 1881. Т. 8. С. 539). Отряд двинулся к Темир-аулу, в то время как находившийся в Чир-Юрте Кази-Мулла с несколькими сотнями конницы переправился на левый берег Сулака и напал на Внезапную с целью сорвать атаку противника. На помощь малочисленному гарнизону крепости Вельяминов послал под командованием полковника Шумского 9 рот 40-го егерского полка и всех егерей 43-го полка. Нападение Кази-Муллы на крепость было отбито; Шумский оставил в ней половину егерей 43-го полка и сразу вернулся. В тот же день 18 октября отряд Вельяминова возле Темир-аула преодолел Сулак и в пяти верстах от Чир-Юрта расположился лагерем на ночлег. 19 октября утром начался штурм стоявшего на утесе аула. Его защищали овраги, каменная стена, а за ней — устроенные горцами завалы. Чередуя артиллерийский обстрел с натиском пехотинцев, воины Вельяминова брали один пояс обороны за другим. Одновременно по его приказу Бутырский полк незаметно спустился к реке и в другом месте поднялся к Чир-Юрту, зайдя в тыл осажденным. Удар с двух сторон решил исход двухчасового кровопролитного сражения. Казаки преследовали бежавших, значительная часть горских семей (482 человека) попала в плен; 200 человек погибло в бою. (Об операции под Чир-Юртом см. также: Волконский Н. А. Война на восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // «Кавказский сборник…». Тифлис, 1890. Т. 14. С. 107–109.) В поэме Полежаева, достоверно передающей факты похода и штурма, никак не отразилось важное происшествие — рейд конницы Кази-Муллы к Внезапной. Опущение этого эпизода связано с недооценкой Полежаевым личности Кази-Муллы, которая получила в кавказских поэмах чересчур тенденциозную трактовку. В соответствии с ней поэт изображает выезд Кази-Муллы из Чир-Юрта как тайное и трусливое бегство, будто бы совершенное на челноке. Кази-Мулла действительно старался не подвергать свою жизнь опасности, — это хорошо известно, но его осторожность отвечала интересам всего горского движения, которое крайне нуждалось в сосредоточении сил вокруг способного и авторитетного организатора. Заменить кому бы то ни было Кази-Муллу, хотя бы в силу теократической природы его власти, было не так просто. Гибель Кази-Муллы (при обороне Гимр, взятых штурмом 17 октября 1832 г. войском Вельяминова) это доказала: повстанческое движение на некоторое время почти заглохло. При разных местах в Чечне. С декабря 1831 по апрель 1832 г. Полежаев участвовал во многих операциях, проводившихся в Чечне военными частями А. А. Вельяминова, о чем имеются соответствующие отметки в формулярном (послужном) списке поэта (опубликован в Изд. 89. С. XLI–XLII). Для понимания исключительно своеобразной композиции «Чир-Юрта» немаловажное значение имеет разбивка обеих песен поэмы на фрагменты, выделенные в прижизненной публикации текста пробелами. Всего первая песнь «Чир-Юрта» насчитывает 21, а вторая 30 фрагментов. Анализ текста выявляет особую художественную функцию этого членения, обозначающего перебои в развитии эпического повествования и авторской исповеди, перемену тональности и жанрово-стилистического оформления фрагментов, их контрастное соотношение по иным показателям (изменения объекта изображения, переход от индивидуализированных персонажей к массовым и т. п.).
Лозовский — см. примеч. 14.
Песнь первая. В начальных строках поэмы ощутим отзвук оды Державина «На взятие Измаила»: «А слава тех не умирает, Кто за отечество умрет, Она там в вечности сияет, Как в море ночью лунный свет». Эвмениды (греч. миф.) — богини мщения. Оссиан — см. примеч. 1. Мне дева арфы не вручит. Престарелый Оссиан скитался в сопровождении возлюбленной его погибшего сына Мальвины, которая подавала ему арфу. Араксу (Ярыксу) — река в северном Дагестане. Искры бунта с новой силой Пророк неистовый раздул. В первую половину 1831 г. атакующая мощь повстанческих отрядов Кази-Муллы достигла апогея. Мятежных подданных аул — Чир-Юрт. Полежаев начинает свой рассказ «с конца» — с печальной картины разгромленного и сожженного чеченского аула. Перед аулом над рекою. В восприятии читателя фрагмент, начатый этой строкой, объединяется с предыдущей картиной павшего Чир-Юрта. Однако речь идет уже о другом месте — укреплении Ташкичу на Араксу, откуда и начался поход. Эти три полка — Бутырский, Московский пехотные и 40-й егерский, входившие в 14-ю дивизию, командиром которой после Р. Ф. Розена 4-го стал А. А. Вельяминов. Эндери — см. примеч. 106, с. 542. В мае — июне 1831 г. Эндери было взято Кази-Муллой, а затем отбито. Маюртуп (Майортуп) — чеченское селение на севере нагорного Дагестана, взятое бутырцами и батальоном 43-го егерского полка 21 января 1831 г. Кошкильди (Хош-гельды) — чеченское селение к востоку от Грозной у реки Аксай.
Здесь 13–14 августа 1831 г. в упорных боях батальон бутырцев и 350 казаков нанесли поражение крупному отряду горских повстанцев. Татарский вид. По свидетельству очевидца, «все кавказские казаки одеваются почти так же, как горцы, так что с первого взгляда их весьма трудно различить» (Письма X. Ш…… к Ф. Булгарину, или Поездка на Кавказ // «Северный архив». 1828, № 6. С. 235). Печенег — здесь в переносном значении: коварный противник. Вой — воин. Ермолов, грозный великан и т. д. до ст. 200. Здесь перекличка со строками эпилога «Кавказского пленника», посвященными Пушкиным генералу П. С. Котляревскому, также воевавшему на Кавказе. Греков Николай Васильевич (1785–1825) — генерал-майор, командир 43-го егерского полка, был зарезан при разоружении партии пленных чеченцев. Сунжа и Аргун — реки, в основном протекающие по территории Чечни. Койсу — собственно Андийское и Аварское Койсу, текущие на север по территории Дагестана; от их слияния образуется Сулак. Бей-Булат — см. примеч. 58. Адигеи — адыге (черкесы). Обольщая Дагестан, Он грабит русского вассала. Весной 1831 г. Кази-Мулла усилил свою активность в шамхальстве Тарковском и 26 мая взял Тарки (29 мая был выбит оттуда генералом С. В. Кохановым). Граната в парк дохнула адом и т. д. Подразумевается осада Кази-Муллой крепости Бурной с 26 по 29 мая 1831 г. (см. примеч. 106, с. 543); небольшой ее гарнизон под начальством майора Федосеева спасла граната, попавшая в пороховой погреб за стенами крепости; взрыв погреба нанес большой урон осаждавшим, а подоспевший на помощь отряд генерала Коханова вынудил горцев отступить. Вкруг малой горсти россиян Грозит бедой, отводит воды. После неудачного нападения на Бурную Кази-Мулла с 14 по 29 июня 1831 г. осаждал крепость Внезапную, оставив ее малочисленный гарнизон без воды. Обороной крепости руководил полковник Шумский. Осаждающие были отброшены подошедшим отрядом генерала Г. А. Еммануеля, который, увлекшись преследованием отступивших в Ауховские леса, сам потерпел там поражение. Плие — см. примеч. 103. Пе — в случае выигрыша повторная ставка на ту же карту. У всякого своя охота и т. д. — строки из 4-й гл. «Евгения Онегина», в окончательный текст романа не вошедшие. Вельяминов 3-й Алексей Александрович (1788–1838) — участник войны 1812 г., выдающийся полководец, соратник и друг А. П. Ермолова; с 1831 г. — командующий войсками Кавказской линии; проявлял заботу о сосланных на Кавказ декабристах, покровительствовал Полежаеву, который по его представлению был произведен в унтер-офицеры. Достоверность портрета Вельяминова, нарисованного Полежаевым, подтверждается мемуарами современников. «Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без обиняков, действовал не иначе, как по твердому убеждению, — писал один из сослуживцев генерала. — …Я не встречал другого начальника, пользовавшегося таким сильным нравственным значением в глазах своих подчиненных. Слово Вельяминова было свято, каждое распоряжение его безошибочно» (Т[орнау Ф.Ф.] Воспоминания о Кавказе и Грузии // «Рус. вестник». 1869, март. С. 129). И далее: «…его сердце было доступно самому заботливому участию; он умел только владеть своими чувствами и скрывал их в глубине души» (Там же. С. 144). См. о нем также: Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931. С. 186, 217; Розен А. Е., барон. Записки декабриста. Спб., 1907. С. 251. Горский Аннибал — Вельяминов. Аннибал — Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, долго и упорно воевавший с Римом. Куда ведет нас барабанщик — подлинная реплика Вельяминова, засвидетельствованная современником: «На Кавказе очень был известен ответ, который он <Вельяминов> дал одному любопытному дивизионному командиру, спросившему у него однажды на походе за Кубанью, куда идут. „Про то ведает барабанщик, он ведет: спросите у него, ваше превосходительство, а я не знаю“» (Т[орнау Ф. Ф.] Воспоминания о Кавказе и Грузии. С. 155). Внезапная — см. примеч. 106. Ногой привычною мы вброд — через реку Акташ. Сулак — см. выше примеч. к слову «Койсу». Следует иметь в виду, что далее эта река попеременно именуется то Сулаком, то Койсу. Рамазан — девятый месяц лунного мусульманского календаря. Байрам — мусульманский праздник после поста. Абазы (перс.) — серебряные монеты, ходившие на Кавказе; стоимость тифлисского абаза — 20–40 коп. серебром. Торговый город — Эндери (см. примеч. 106). Авраам — в Библии легендарный родоначальник евреев. Андреева гора — возле селения Эндери. Фаланга — строй пехоты в Древней Греции и Македонии в форме четырехугольника, насчитывающего до 24-х шеренг. Койсу — здесь: Сулак. Голиаф — в Библии чудовищный великан, побежденный юношей-пастухом Давидом. Тавлинец — см. примеч. 106. На сошки ружья. Горцы для улучшения наводки на цель часто стреляли с деревянных опор — сошек.
Песнь вторая. Да будет проклят злополучный и т. д. Начало второй песни перекликается с «Одой» А. С. Хомякова («Внимайте, голос истребленья…»), написанной в связи с польским восстанием 1830 г. Он первый брата умертвил. По Библии, первым убийцей на земле был Каин, умертвивший из зависти брата Авеля. Гюльнара — героиня поэмы Байрона «Корсар» (1814), в которой также описывается кровопролитное сражение. «Певцом Гюльнары» Байрона назвал Пушкин в 4-й гл. «Евгения Онегина». Новой Греции свобода. В 1830 г. Греция после длительной борьбы сбросила ярмо турецкого порабощения. Байрон умер в 1824 г., отдав жизнь за освобождение Греции. Салатовец — житель аулов, находившихся на возвышенности Салатау (к западу от реки Сулак); Салатавию в основном населяли лезгины. Единорог — вид пушки с украшением на стволе в виде мифического зверя с прямым рогом на лбу — единорога. Засс Григорий Христофорович (1797–1883) — с ноября 1830 г. командир Моздокского казачьего полка; подполковник (см. также примеч. 43). Князь Черкасский — Бекович-Черкасский Федор Александрович (1791–1832) — генерал-майор, был близок к Ермолову. Мизраим — в Библии легендарный родоначальник арабов; здесь: мусульманин. Балтугай (Бавтугай) — чеченский аул в Салатавии, возле Чир-Юрта, тоже у реки Сулак. Веленье Мощного — воля божия. Визжат картечи, ядра, пули, Катятся камни и тела. Перекличка со ст. Пушкина в «Полтаве» («Катятся ядра, свищут пули»). Полночная сторона — север. Воины Завета — христиане. Мизантроп — Кази-Мулла.
108. «Кальян». - Изд. 57. - Печ. по «Кальяну». Незначительные разночтения Изд. 57 в ст. 36 и 41 — скорее результат редакторского вмешательства, нежели уточнение текста по авторской рукописи, как считал В. В. Баранов (Изд. 1933. С. 638). В 3-м издании «Кальяна» (М., 1838 — ц. р. 19 ноября 1837) в тексте были сделаны ценз. изъятия ст. 60 и 82 (заменены строкой точек), в ст. 22 выброшено слово «святой». Литературный источник поэмы — биография Брута, помещенная в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. В богатой фактами и подробностями биографии Марка Юния Брута (85–42 до н. э.) Полежаева привлекало главным образом сообщение Плутарха о том, что незадолго до смерти героя-тираноборца ему явился призрак. Стихи Полежаева текстуально близки этому рассказу. «Была самая глухая часть ночи, в палатке Брута горел тусклый огонь; весь лагерь обнимала глубокая тишина. Брут был погружен в свои думы и размышления, как вдруг ему послышалось, что кто-то вошел… он разглядел у входа страшный чудовищный призрак исполинского роста… Собравшись с силами, Брут спросил: „Кто ты — человек или бог и зачем пришел?“ Призрак ответил: „Я твой злой гений, Брут, ты увидишь меня при Филиппах“» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1964. Т. 3. С. 334). Сосредоточив внимание на обреченности Брута, поэт ставит ее в связь с мучениями виновной совести убийцы Цезаря, для чего текст Плутарха не давал поводов. Полежаев по-своему интерпретировал и не слишком уверенное указание Плутарха на то, что Брут — внебрачный сын Цезаря — подробность, нисколько не отразившаяся на поведении вождя республиканцев. Вопреки тексту Плутарха полежаевский Брут не может забыть, что он — отцеубийца. Душевная драма героя — романтически гиперболизированная картина внутреннего мира самого поэта: в своих мятежных настроениях Полежаев, наряду с возвышенными побуждениями, усматривал темное, разрушительное начало. Возможно, в подтексте произведения запрятаны переживания более интимного свойства. Полежаев упорно скрывал свое «незаконное» происхождение от Л. Н. Струйского и тем самым как бы отрекался от отца, умершего в сибирской ссылке ок. 1825 г. «Видение Брута» неоднократно рассматривалось как прямое выражение декабристских поэтических традиций. Но если борьба за вольность у Полежаева фатально неотделима от греха насилия, который губит благородное дело, то подобный угол зрения был чужд поэтам-декабристам. Мотив роковой обреченности в их стихах обусловлен иными причинами, в частности запретом преступать нравственные предписания в борьбе с опаснейшим врагом, которому тем самым заранее предоставлялся перевес в силе и бо́льшая свобода действий. Иными словами, благородная цель не оправдывала жестоких мер в ее достижении, что в конечном счете понижало уверенность в победе. Филиппинские поля — местность во Фракии (восточная часть Балканского полуострова) близ г. Филиппы, где в 42 г. до н. э. войска республиканцев Брута и Кассия потерпели поражение от войск правителей Рима: Октавиана Августа (63–14 до н. э.), будущего императора, Марка Антония (82–30 до н. э.) и Марка Эмилия Лепида (ум. 13 до н. э.), составивших триумвират. Убедившись в поражении, Кассий и Брут покончили самоубийством. Цезарская месть — возмездие за убийство римского диктатора Кая Юлия Цезаря (100—44 до н. э.). Камилл Марк Фурий (ум. 365 до н. э.), Сципион Эмилиан Африканский Публий Корнелий (185–129 до н. э.), Сцевола Гай Муций (VI–V в. до. н. э.), Регул Марк Атилий (ум. ок. 248 до н. э.), Цинциннат Люций Квинкций (р. ок. 519 до н. э.) — имена и прозвища выдающихся полководцев и прославленных героев Древнего Рима эпохи республики. Раздоры Мария и Силлы. Полководцы Гай Марий (157—86 до н. э.) и Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) вели между собой ожесточенную борьбу за верховную власть в Римской республике. Помпей Гней (106— 48 до н. э.) — победоносный полководец, сначала союзник, затем соперник Цезаря, разгромившего армию Помпея в битве при Фарсале. С гражданской жизнью погребли. Т. е. со смертью Помпея, тоже враждебного республике, Цезарь стал единоличным диктатором, подготовив тем окончательное крушение республиканского строя в Риме. Октавий — Октавиан Август. Завоевателя Босфора. Историческая неточность: завоевателем Босфора, т. е. Боспорского царства, был Помпей (война 67–63 гг. до н. э.); Цезарь лишь упрочил над ним римское господство, разгромив в 68 г. до н. э. войско нового царя этой страны. Тарквиний — см. примеч. 92.
109 *. «Арфа», без главы 1 (с соответствующей перенумерацией глав), с ценз. купюрами ст. 318–321, 427–430, 580–581 и части ст. 582 («Народ самодержавный»), без ст. 526, с ценз. вар. ст. 358, 415, 417, 566, 587 (содержащими слова: «вольность», «свобода», «трон») и рядом др. разночтений. — «Сын отечества». 1838, № 5, только глава 1, под загл. «Рим. Отрывок из поэмы „Кориолан“», с вар., с разделением текста на 5 частей и с редакц. примеч. к загл.: «Одно из последних стихотворений поэта, столь безвременно нами утраченного…», с датой: 1834. - Изд. 57, полный текст, без авторских примеч., без названий глав и разделения их на части. — Печ. по Изд. 57, с восстановлением ст. 583 и членения текста по «Арфе» и «Сыну отечества», так как авторская воля в этом отношении выражена вполне отчетливо. В Изд. 57 в ст. 264, видимо, опечатка: «И делом и духом» (вм. «И телом и духом»), в ст. 278 пропущен предлог «в»; сомнения вызывают ст. 256 и 272 («рабы» — в «Арфе»: «сыны»). В предшествующих советских изданиях Полежаева (1933, 1939 и 1955 гг.) в текст поэмы по чисто вкусовым соображениям были внесены варианты «Арфы» и «Сына отечества», например в ст. 45, 73, 144, 260, 348. Не исключено, что текст Изд. 57 подвергся некоторому редакторскому приглаживанию; с другой стороны, текст «Арфы» помимо ценз. вар., не свободен от сомнительных строк, вызванных недосмотром и типографскими погрешностями. В «Очерке русской литературы за 1838-й год» Н. А. Полевой свидетельствовал, что начало «Кориолана» было помещено в «Сыне отечества» «по желанию самого Полежаева» («Сын отечества». 1838, май. С. 44). Ценз. история поэмы такова. 18 января 1835 г. цензор Μ. Т. Каченовский доложил Московскому ценз. комитету, что в поэме Полежаева он «нашел выражения, может быть, сообразные с духом римлян, но неприличные ни для автора, ни для читателей, благоденствующих под монархическим правлением». Ценз. комитет подтвердил, что в поэме есть «идеи, могущие в некоторых легковерных читателях возродить и питать мысли в пользу либерализма и тем самым оказывать неблагоприятное для правительства влияние» (Изд. 1939. С. 441). 6 февраля 1835 г. решено было представить рукопись на «благоусмотрение его высокопревосходительства г. министра народного просвещения». 22 марта 1835 г. Главное управление цензуры сообщило мнение министра С. С. Уварова о том, что Московскому ценз. комитету надлежит исключить смутившие его строки, а весь остальной текст представить на усмотрение цензора (ЦГИА. Фонд 772 Главного управления цензуры. Оп. 1, № 759. Л. 202). Наибольшие опасения московской цензуры вызвали ст. 73–76 и 124–128. В результате вся глава 1 была запрещена, строки, отмеченные выше, изъяты, изменено и первоначальное название книги («Разбитая арфа»). Весь сб. в изуродованном виде был разрешен к печати 25 ноября 1835 г. По неясным причинам он вышел только в 1838 г. В Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина имеется экземпляр «Арфы», в котором карандашом восстановлены ценз. пропуски. Η. Ф. Бельчиков считал, что эти вставки «сделаны по рукописи, которой пользовался H. X. Кетчер для своего издания (1857) и которую он мог получить от друга поэта А. П. Лозовского» (Изд. 1939. С. 441). Кетчер несомненно пользовался какой-то рукописью «Кориолана», но вставки и поправки в экземпляре «Арфы», скорее всего, были скопированы с печатного текста Изд. 57. По свидетельству Е. И. Бибковой, Полежаев работал над поэмой в июле 1834 г., во время пребывания в селе Ильинском (РА. 1882, вып. 6. С. 237). То же самое говорится в ее письме к П. А. Ефремову от 11 сентября 1887 г. (ПД).
Сюжет поэмы почерпнут из биографии Гнея Марция Кориолана (V в. до н. э.), изложенной в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (Μ., 1961. T. 1. С. 247–272). Полежаев довольно строго следует за Плутархом в изображении важнейших событий в жизни Кориолана незадолго до его гибели. Однако в рассказе Плутарха изгнание Кориолана подано как результат раздирающей римское общество борьбы партий — плебеев и патрициев. Ярый приверженец аристократии, Кориолан презирал простой народ и мало уважал республиканские традиции. Народ отказал победоносному воителю в звании консула, а затем, возмущенный его открытой враждебностью к себе, добился большинством голосов на суде изгнания Кориолана. В поэме социальная подоплека истории героя опущена. Глава первая. 1. Самсон и Далила. По библейской легенде, победитель филистимлян Самсон был предан своей возлюбленной Далилой, отрезавшей, пока богатырь спал, семь прядей волос, в которых заключалась его сверхчеловеческая сила. В результате Самсон был схвачен филистимлянами. 2. Теперь погибший и рабой. До воссоединения Италии в 1861 г. страна долгое время была расчленена на небольшие королевства и княжества, находившиеся в зависимости от соседних государств, прежде всего Австрии. 3. Некроман — человек, занимающийся некроманией — гаданием на трупах или заклинанием душ умерших. Гай Фабриций Люций (III в. до н. э.) — римский политический и военный деятель. Регул — см. примеч. 108. Под тенью тысячей орлов. Подразумеваются фигурки орлов на древке — традиционные эмблемы римских легионов. Капитолия — Капитолий, один из семи холмов, на которых расположен древний Рим, и цитадель города, средоточие его политической жизни. 4. Дворцы Нерона. Нерон — см. примеч. 123. При Нероне в Риме был воздвигнут сказочной красоты золотой дворец, впоследствии полностью разрушенный. Взывал Антоний Благородный К друзьям кровавого плаща. Антоний (см. примеч. 108) после убийства Цезаря произнес похвальную речь покойному и показал его окровавленную тогу народу, чем вызвал взрыв ненависти к заговорщикам-республиканцам. Бруту и Кассию пришлось срочно покинуть Рим, а цезарианцы Антоний и Лепид, к которым присоединился позднее Октавиан, составили триумвират, захвативший власть над Римом. Каиафа — имя иудейского первосвященника, подавшего совет казнить Христа. В Ромуловой сфере — в Риме, по имени легендарного основателя города. В великолепном автодафе Сжигали злых еретиков. Эти строки были процитированы Достоевским в «Братьях Карамазовых» — их приводит Иван Карамазов в Легенде о великом инквизиторе. Автодафе — аутодафе, сжигание еретиков на костре по приговору инквизиции. Miserere — латинское название одного из псалмов в книге ветхозаветных религиозных песен и молитв. Пленительный кастрат. Речь идет о певчих, сохранивших благодаря кастрации в детском возрасте высокий голос; широко использовались католической церковью Рима при богослужениях. Чичисбей — см. примеч. 103. Глава вторая. 2. Зеленый венок. По преданию, за подвиги в сражении с войсками изгнанного римлянами царя Тарквиния Гордого (см. примеч. 92), Кориолан был увенчан дубовым венком — почетнейшим знаком отличия на войне. 4. Тарпея — Тарпейская скала, с которой в Древнем Риме сбрасывали приговоренных к смерти. Эмпирей (греч.) — в древних космогонических представлениях, верхняя часть неба, заполненная огнем. Глава третья. 3. Кориолы — главный город враждебного Риму италийского племени вольсков, захваченный римлянами благодаря храбрости и находчивости Гнея Марция, который за этот подвиг был удостоен почетного прозвища — Кориолан. Орел капитолийский. Изображение орла — символ мощи и военной славы Древнего Рима.
110. Изд. 57, под загл. «Начало неоконченной поэмы „Марий“». Редакторское загл. в наст. изд. исправлено. Н. О. Лернер, давший описание рукописи «Последние стихотворения А. Полежаева» («Нива»-1915. С. 570), сообщил, что здесь отрывок имеет загл. «Карфаген» и дату: июль 1837. Вопреки указаниям комментаторов Изд. 1955 и Изд. 1957 отрывка этого нет в рукописном сб. «Урна», как нет и даты «10 июня 1837» (этим числом в «Последних стихотворениях А. Полежаева» помечена «Дума», т. е. «Негодование»). Подобно «Видению Брута» и «Кориолану» замысел «Мария» был также внушен Плутархом. Резонно предположить, что поэт намечал завершить свою третью «римскую» поэму в обычном для них трагическом ключе, т. е. смертью героя. Значит, она должна была отразить последний, самый бурный период в жизни Гая Мария (см. примеч. 108), когда он, потеряв власть и войско, чудом достиг берегов Карфагена. Здесь, на африканской земле, легионы Мария некогда прославили имя своего победоносного военачальника, но и в жалком рубище беглеца Марий не сломлен: ведь, согласно предсказанию гадателей, судьба должна еще раз вручить ему верховную власть над Римом. Неожиданное стечение обстоятельств возвращает изгнанника на арену политической борьбы. Рим снова под властью Мария, обуянного неукротимой жаждой мщения своим недругам. Как рассказывает Плутарх, наводнив город казнями и убийствами, Марий, раздавленный собственной жестокостью, незадолго до смерти «впал в отчаяние. Его одолевали ночные страхи и кошмары» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1963. Т. 2. С. 96). Величие духа и низкая мстительность, обладание властью над народом и ее потеря, фатальная предопределенность жизни героя, возмездие за лютое ожесточение — в кругу этих мотивов обычно и вращались творческие замыслы Полежаева, о чем свидетельствуют и предыдущие «римские» поэмы и ряд ст-ний. Работа над «Марием», видимо, прервалась в самом начале: поэт не мог не почувствовать, что новое произведение будет во многом дублировать уже написанные. Возможно, он прекратил работу над «Марием», узнав о существовании поэмы на тот же сюжет П. Иноземцева («Утренняя звезда. Собрание статей в стихах и прозе». М., 1834. Кн. 1. С. 145–158).
111 *. «Нива»-1914, по второму (более позднему) автографу ПД. - Изд. 1939, произвольная контаминация текста двух автографов ПД, из которых один — более ранний — менее отделан в литературном отношении, лишен эпиграфа, названий глав, с дополнительным четверостишием в конце под загл. «Совет пернатым», с многочисленными, в том числе цензурно неприемлемыми вар., без ст. 13–14, 21, 235–236, 335. - Изд. 1955, по второму автографу, с заменой автоцензурных вар. (как и в Изд. 1939 ст. 286, 289–291) по первому автографу. — Печ. по второму автографу с заменой автоцензурных вар. (ст. 286, 289–291, 415) и с восстановлением ст. 335, 437, явно выпавших при переписке. На титуле первого автографа (3176/ХII с. 14) подзаг. «Шуточное произведение», далее: «1837 года. Другу Ло…… Подарено от Александра Петровича Лозовского 20 ……» (дата не читается). На втором автографе (3173/ХII с. 111): «Г. цензору Булыгину», на обороте: «Представлено от служащего прав<ительствующего> Сената при обер-прокурорских делах Алексея Ушакова, жительство имею на Тверской улице, в доме генерала Мороза». На титуле: «Поступила июля 16 дня 1837 года. Царь охоты. Стихотворение А. Полежаева», на обороте — эпиграф. Во втором автографе цензора смутили кое-какие места (например, ст. 111–115, 283–290), слова «Конфедераты» и «Заговорщики» в названиях глав, имя Долгиос и проч. Решение вопроса о публикации поэмы осталось открытым. После смерти Полежаева А. А. Ушаков (тоже поэт, автор книги стихов «Рукописи из зеленого портфеля». М., 1836), видимо, купивший у Полежаева рукопись «Царя охоты», не проявил должной настойчивости, и до 1914 г. поэма оказалась погребенной в бумагах ценз. ведомства. Весной 1837 г. Полежаев посетил своего приятеля В. А. Бурцова (р. 1808) в его имении под г. Муромом Владимирской губ., где вместе с хозяином и его гостями развлекался охотой на дичь. Подробнее о Бурцове, учившемся в Московском университете почти одновременно с Полежаевым, а в 1831–1834 гг. служившем в гусарах, см.: Баранов В. В. А. И. Полежаев // Изд. 1933. С. 125. Эпиграф — тот же, что и в кавказских поэмах (см. примеч. 106). Во вступлении к поэме чувствуются интонации пушкинского «Городка». 1. Муромский витязь Илья — Илья Муромец. 2. Шпензер — узкая охотничья куртка. Конфедераты — участники политических союзов польской шляхты, нередко находившиеся в оппозиции к королю. Так точно Васеньку сбирались и т. д. Намек на лубочную картинку «Мыши кота погребают», сопровождавшуюся юмористическим текстом в раешных стихах. 4. Дергач — коростель. Пудель — здесь: промах. Брут, Цезарь — см. примеч. 108. Пришел, увидел, победил! Этими тремя словами Цезарь в 68 г. до н. э. известил одного из своих друзей в Риме об одержанной им молниеносной победе над войском Боспорского царства. 5. Венгерка — гусарская куртка, украшенная поперечными шнурами. Полугишпанской бородой — остроконечной бородкой, эспаньолкой. Дупеля — большие болотные бекасы. Прильпе — прилип. Кагал — здесь: шумное сборище. 6. Гейцих — марка импортного вина. Долгиос — видимо, шутливое прозвище Полежаева в компании охотников. Он сам в число людей свободных Господской милостью попал. Поэт признает, что, не будь на то воли отца, он мог бы, как незаконнорожденный, разделить участь его крепостных крестьян. Нимврод (Немврод) — в Библии ловкий и удачливый охотник. Фальконет — род старинной малокалиберной пушки. Василиск — змея, которая, по народным поверьям, убивает все живое своим взглядом.
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ БАЙРОНА
112 *. «Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете». 1826, ч. 6., без. ст. 101–108, 293–296, 301–304, с вар. ст. 5, 11–12, 15, 49, 57–58, 60–61, 69, 75, 80, 85, 87, 127–128, 154, 158–159, 233, 239–240, 261, 286, 291, 353, 374–376, 385, 413–416, 468. - Печ. по Изд. 32, с опущением второго (нетитульного) загл. «Оскар и Мора». Оно появилось, видимо, потому, что в первой публикации имя Мора в ряде случаев ошибочно читается как Лора. Важнейшие вар. см. В ПД сохранились копии ранних ст-ний Полежаева, переписанных в тетрадь. Она содержит: «Оскар Альвский», «Человек» (из Ламартина), оду «Гений» и два перевода из Гете «Тишина на море» и «Счастливое плавание». «Оскар Альвский» имеет загл. «Оскар и Мора», строфы 61–64 отсутствуют, а текст представляет собой промежуточную редакцию перевода между первой публикацией и Изд. 32. Переведенное Полежаевым произведение Байрона «Oscar of Alva» из его раннего сб. «Часы досуга» (1807) вызвало значительный интерес в 1820-е гг. Оно было дважды переведено прозой анонимным переводчиком (BE. 1821, № 21) и [А. Ф.] В[оейковым] («Новости русской литературы». 1824, кн. 9, август), дважды — в стихах: П. Кудряшовым («Благонамеренный». 1825, № 18) и Д. Гл[ебовым] («Новости русской литературы». 1826, кн. 17, ноябрь-декабрь). Перевод Полежаева, если верить сообщению H. X. Кетчера в Изд. 57, был выполнен с французского прозаического перевода. Полежаевский текст гораздо пространнее оригинала: многие подробности добавлены или переданы по-иному. О соотношении перевода и оригинала см.: Бобров Е. А. Мелочи из истории русской литературы // «Русский филологический вестник». 1905, № 2. С. 194–198. В стилистическом отношении сказывается зависимость переводчика от баллад и «Певца во стане русских воинов» Жуковского. Менестрель — средневековый певец-музыкант.
ИЗ ЛАМАРТИНА
113. Альм. «Урания». М., 1826 (ц. р. 26 ноября 1825), с вар. ст. 67, ст. 78 без слова «скажи», ст. 79 без слов «Лишась небес державы», без ст. 237–238; ст. 263–264 переставлены. — Изд. 32, с теми же пропусками. — Изд. 89, где опубликовано по неизвестному источнику (см. примеч. П. А. Ефремова на с. 541). В Экз. Изд. 32 вписаны недостающие слова в ст. 78–79. Перевод ст-ния «L’homme. À lord Byron» из сб. «Поэтические медитации» (1820), № 2. В ст-нии Ламартина, имевшем значительный резонанс в европейской литературе, сказалось двойственное отношение к творчеству и личности Байрона: преклонение перед его талантом сочеталось с неприятием скептицизма и мятежного духа британского поэта. О своем отношении к Байрону-поэту и обстоятельствах написания медитации Ламартин сообщил в пространном примеч. к ней (Lamartine A. Œuvres. Paris. 1849. T. 1. P. 99—103). С аналогичной позиции его стихи воспринимали Жуковский и И. И. Козлов, сетовавшие на отчужденность Байрона от религиозных идеалов духовного спасения человечества. Выразитель декабристской литературной программы В. К. Кюхельбекер также упрекал Байрона за излишний пессимизм, но с позиции борца за общественное переустройство: неверие в социальное творчество человека, по мнению Кюхельбекера, сообщало односторонний характер поэзии Байрона. Перевод Полежаева стал актуальным фактом в поэтическом движении середины 1820-х гг. Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада. Прочитав обращенное к нему ст-ние, Байрон пришел в негодование и хотел привлечь Ламартина к суду за сравнение его стихов с песнопениями ада, о чем он писал Т. Муру 13 июля 1820 г. Былие — трава. Он ты, изгнанник знаменитый. В 1816 г. вследствие травли, развязанной реакционными кругами английского общества, Байрон навсегда покинул Англию. Вертоград — сад. Катон Младший Марк Порций (95–46 до н. э.) или Старший (234–149 до н. э.) — знаменитые государственные деятели Древнего Рима. Теки — здесь: иди.
114. BE. 1826, январь, № 2, подпись: А. П. - Изд. 32, под загл. «Восторг». - Печ. по BE, где загл., восходящее к французскому оригиналу, сохранилось, видимо, вследствие ценз. недосмотра. Автограф — ГПБ, с зачеркнутым посвящением Л. А. Якубовичу. В автографе имеются пометы цензора: над словом «разрушится» (ст. 32): «минет, пройдет»; против ст. 36: «Восторг есть самый бог — это уж слишком грешно», против ст. 44: «Лицу восторга, который, по выражению г-на сочинителя, есть бог (см. выше)». Перевод ст-ния «L’esprit de Dieu» из сб. «Новые поэтические медитации» (1823), № 6. В петербургском изд. 1823 г. сб. Ламартина на французском языке эта медитация отсутствует, видимо тоже по ценз. причинам. Ст. 25–32 перевода Полежаева не имеют никакого соответствия во французском оригинале — это фрагмент субъективно-лирической исповеди самого переводчика. В феврале 1838 г. неизвестное лицо пыталось переиздать перевод без указания переводчика. Петербургский ценз. комитет, не зная того, что текст дважды уже побывал в печати, препроводил его на рассмотрение комитета духовной цензуры, который в лице архимандрита Климента запретил публикацию. В цензорском заключении указывалось, что немыслимо с точки зрения христианской ортодоксии отождествлять восторг с божьим духом, называть его «вестником бога и небес». Как неприемлемые, были отчеркнуты ст. 21–22, 36–38, 43–44, 80–87. Его перстом руководимый, Израиль зрит в тени ночной и т. д. В основе этого эпизода (ст. 45–76) — библейская легенда о единоборстве бога с его собственным избранником — Иаковом, который получил второе имя Израиль (книга Бытия, XXXII, 24–28). Смысл иносказания: восторг (вдохновение) содержит в себе нечто могущественно-неодолимое, которому поэт уступает не без борьбы и от которого испытывает потрясение, чей глубочайший след навсегда отпечатывается в его сознании. В ст. 51–72 отозвались строфы думы Рылеева «Мстислав Удалый»:
И вот князья, напрягши силы, Друг друга ломят, льется пот… На них, как верви, вздулись жилы: Колеблется и сей и тот. Глаза, налившись кровью, блещут, Колена крепкие дрожат, И мышцы сильные трепещут, И искры сыплются от лат.И вдруг собрав остаток сил — реминисценция из «Кавказского пленника» Пушкина. Уже рукой ожесточенной — эта строка использована в ст-нии «Цепи» (№ 11), ст. 29.
115. BE. 1826, август, № 15, подпись: П. Вошло в Изд. 32. Перевод ст-ния «Elégie» («Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie…» из сб. «Новые поэтические медитации», № 11).
116 *. BE. 1826, август, № 15, подпись: П., с ценз. вар. — Изд. 32, с пропуском в ст. 34 слов «мой бог». - Изд. 57. Перевод ст-ния «À Elvire» из сб. «Новые поэтические медитации», № 10. Гебен — эбен, ценной породы черное дерево, растущее в тропических лесах.
117. «Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете». 1826. ч. 6. - Изд. 32. Вслед за переводом Полежаева в «Трудах» был помещен также перевод из Ламартина В. Мальцова «Умирающий христианин». Перевод отрывка из поэмы «La mort de Socrate» со слов «Quoi! vous pleurez, amis» до ст. «Comme un rayon du soir se fond dans les ténébres!». Древнегреческий философ Сократ (ок. 469–399 до н. э.), приговоренный афинскими властями к смерти за неуважение к языческой религии и проповедь воззрений, признанных нравственно вредными, покончил самоубийством, выпив яд. Амбра — благовонное вещество, получаемое из экскрементов кашалота. Леда (греч. миф.) — жена спартанского царя Тиндарея, пленившая своей красотой Зевса; когда она купалась, он явился к ней в образе лебедя. Арахнея (Арахна) (греч. миф.) — искусная рукодельница, вызвавшая на состязание в ткацком ремесле Афину; за эту дерзость была превращена богиней в паука. Гимет — горная вершина в Аттике (исторической области Греции).
118. Изд. 32. Перевод ст-ния «Le soir» из сб. «Поэтические медитации», № 3. В переводе, в котором на две строфы меньше французского текста, различимы отзвуки «Певца во стане русских воинов» Жуковского: «И тихий дух твой прилетит Из та́инственной сени, И трепет сердца возвестит Ей близость дружней тени». Оттуда же взяты слова «образ… незабвенный».
119. Изд. 32, с ценз. купюрой ст. 54–58 (помещено перед оригинальным ст-нием Полежаева «Провидение»). - Печ. по Изд. 89, где пропуск восстановлен по неизвестному источнику. Перевод ст-ния «La Providence à l’homme» из сб. «Поэтические медитации», № 7. Аналогичное рассуждение, высказанное в ст. 54–58, находится в ст-нии «<Узник>» (№ 14, гл. 6). Всему в природе есть закон — эта строка использована поэтом в «Красном яйце» (№ 80).
120. «Кальян». - Изд. 89, с вар. ст. 23. - Печ. по. сб. «Кальян». Перевод ст-ния «Bonaparte» из сб. «Новые поэтические медитации», № 7. Строфа 10 осталась без перевода. Два имени векам переданы веками — Александр Македонский и, возможно, Карл Великий или Тимур (Тамерлан). Нил, под Мемфисом глубокий, в Мемноновых степях. Эти исторические топонимы подсказаны Египетским походом Наполеона Бонапарта (см. примеч. 95). Мемфис — бывшая столица Египта эпохи Древнего царства; руины ее находятся неподалеку от Каира. Мемнон — так называемый «колосс Мемнона», грандиозное изваяние статуи фараона Аменхотепа III; считался одним из семи чудес света. Ты с призраком, вторый Израиль, состязался — см. примеч. 114. Рассеять бунт в отчизне. В 1793 г. Наполеон подавил в Тулоне монархистский мятеж против революционного правительства Франции, а в 1795 г. — мятеж монархистов в Париже. Там степи заметал враждебными чалмами. Армия Наполеона сражалась в Египте с дружинами мамлюков (местная правящая верхушка) и войском турецкого султана. Там стонет Иордан. В 1799 г. Наполеон из Египта совершил поход в Переднюю Азию и Сирию. Там горы подавил стопой неодолимой. Войска Наполеона переходили Альпы и Пиренеи. Труп юноши в крови. Слово «юноша» — ошибка переводчика: в оригинале говорится о принце Луи Антуане де Бурбон-Конде (1772–1804), именовавшемся также герцогом Энгиенским, последним представителем рода Конде (боковой ветви Бурбонов). Он был ложно обвинен в заговоре против Наполеона и расстрелян. Диадима — диадема, здесь: королевская корона. Соперник Помпея — Кай Юлий Цезарь, боровшийся с ним за власть в Риме. Марий — см. примеч. 110.
ИЗ ПАНАРА
121. Гал. 1829. № 40, подпись: ъ-ъ. Вошло в Изд. 32. Вольный перевод ст-ния французского поэта Шарля Франсуа Панара (1674–1765) «Rondeau» («Quelle folie, quelle manie…»). B 1859 г. было положено на музыку А. И. Виллуаном. Текст в нотах дополнен строками, которые, возможно, принадлежат Полежаеву, но не имеют соответствия в оригинале:
Ах, чудна И жена, Коль строптива И ревнива. Как хотеть Ей владеть Лишь одной Им душой? Для мужчины Гименей Не прочней Паутины!Фризура — прическа вообще и прическа с завитыми волосами.
ИЗ ГЮГО
122. «Кальян». - Изд. 57, без эпиграфа. — Печ. по «Кальян». Перевод ст-ния «Clair de lune» из сб. «Ориенталии», № 10. Эпиграф — ст. 255 из 2-й песни «Энеиды» Вергилия. Вот грозный мешок. За неверность жен султанского гарема живыми зашивали в мешок и бросали в море.
123 *. ЛН-15, по ЧВ. Копия перевода с вар., без эпиграфа и даты — в тетради под загл. «Из Виктора Гюго», без указания переводчика. В тетрадь включены также следующие переводы: «Антихрист», «Лудовик XVII», «Два острова», «Пир духов» и «Видение». На тетради написано: «Представлено от дворового человека Евреинова, Егора Макарова Баркова, живущего в доме купца Логинова на Тверской улице, 1838 года, апреля 12 дня» (ЦГИАМ. Фонд 31. Оп. 4, № 204). Перевод ст-ния «Un chant de fête de Neron» («Оды», кн. IV, № 15). Нерон Клавдий Цезарь (37–68) — римский император в 54–68 гг., время от времени принимал звание консула; отличался патологической жестокостью; заботясь о своей популярности, устраивал грандиозные зрелища, бои гладиаторов, различные состязания; сам играл на кифаре, декламировал и сочинял стихи, лицедействовал, домогаясь славы великого артиста. В 64 г. произошел опустошительный пожар в Риме, который, по слухам, был инспирирован самим императором, жаждавшим придать иной, более парадный облик городу, достойный величия своего властителя. За Нероном утвердилась репутация лютого врага христиан: обвиненные в поджоге Рима, они гибли от пыток и казней. Сенека — см. примеч. 101. Фалернское — воспетое римскими поэтами красное вино, изготовлявшееся в Кампанье. Семи священных гор. Древний Рим был расположен на семи холмах. Аквилон (лат.) — северный ветер. Капитолий — см. примеч. 109. Арка Силлы — триумфальная арка в честь Луция Корнелия Суллы (138—78 до н. э.), римского полководца, консула, диктатора в 82–79 гг. до н. э. Сивилла — легендарная пророчица г. Кум в Кампанье. Герострат — житель г. Эфеса, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды с целью обессмертить свое имя.
124 *. ЛН-15, по ЧВ. Перевод ст-ния «Le rond du sabbat» («Баллады», № 14). По данным Η. Ф. Бельчикова, цензор отметил в «Пире духов» как неприемлемые ст. 17, 33–34 и 61–64 (Изд. 1939. С. 450). Список перевода — ЦГИАМ, включен в тетрадь «Из Виктора Гюго» (см. о ней примеч. 123); в списке вар. ст. 42 и 65 отчеркнуты цензором Тиара — драгоценный головной убор ассирийских и древнеперсидских царей. Зодиак — здесь: скопище зверей. Некроманы — см. примеч. 109. Кагал — см. примеч. 111. Егова — одно из имен бога в Библии.
125. Гал. 1839, № 13. Перевод ст-ния «Louis XVII» (из кн. 1 «Оды», № 5). - Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). По данным Η. Ф. Бельчикова, цензор сделал пометы возле ст. 9—10. Смысл эпиграфа: воскресни, Капет! Здесь Капет — принц Луи Шарль (1785–1795). По требованию революционного Конвента, свергнутый король Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта и их сын Луи Шарль должны были официально называться именем Капет (Гуго Капет — основатель первой династии французских королей). В январе 1793 г. роялисты сделали безуспешную попытку провозгласить королем юного Луи Шарля под именем Людовика XVII, который после казни отца дважды содержался в тюрьме. Егова — см. примеч. 124.
126. «Нива»-1915. Перевод ст-ния «Sovenir d’enfance» (из сб. «Осенние листья», № 30). В основе ст-ния — излюбленная романтиками идея бурного пробуждения стихийных сил как источник всего великого и прекрасного в мире, включая человеческие дарования и способности. Пантеон — бывшая церковь св. Женевьевы в Париже, превращенная в 1791 г. в усыпальницу великих людей Франции (сюда был перенесен прах Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, похоронен Ж.-П. Марат и другие деятели Французской революции). «Спасем и сохраним империю от бед!» — начальная строка гимна Франции эпохи наполеоновской империи. И зрит уже Берлин, и Вену, и Милан и т. д. В этом перечне столиц переводчик опустил Москву. Ватикан — см. примеч. 95 об отношениях Наполеона с папой римским. Оссиан — см. примеч. 1. С державой Карломана — с империей Карла Великого (ок. 742–814). Конскрипт — француз, взятый на военную службу в порядке всеобщей воинской повинности, принятом во время революции конца XVIII в. Цезарь — см. примеч. 108. Сто золотых орлов. — см. примеч. 95.
ИЗ ДЕЛАВИНЯ
127. «Кальян». Перевод ст-ния «Les Troyennes» французского поэта Казимира Жана Франсуа Делавиня (1793–1843) из его книги «Мессинские элегии» (1818). В Изд. 89 появились обозначения «Третья», «Четвертая», дифференцирующие «партии» троянских женщин, что не соответствует французскому оригиналу. Написанное по мотивам трагедии Еврипида «Троянки» (415 до н. э.), откуда взят и эпиграф, произведение Делавиня посвящено несчастной судьбе захваченного и разрушенного греками малоазиатского города Троя (другое название — Илион). Потерявшие в войне всех мужчин, троянки оплакивают падение родного города, гибель его отважных защитников, свою жалкую участь рабынь. Симоис (Симоент) — река близ Трои, приток Скамандра. Пятьдесят сынов… Сидели на пиру у доброго отца. Царь Трои Приам был отцом пятидесяти детей. Гектор — сын Приама, могучий и бесстрашный воин, пал в единоборстве с греческим (ахейским) героем Ахиллом (этот эпизод запечатлен в «Илиаде» Гомера). Гекуба — мать Гектора, жена Приама. Преступный сын и брат — Парис, похититель красавицы Елены, жены спартанского царя Менелая; поступок Париса стал причиной Троянской войны, Поликсена — дочь Приама и Гекубы. Согласно мифу (и трагедии Еврипида), тень покойного Ахилла потребовала, чтоб Поликсена была принесена ему в жертву; умерщвление девушки совершил Пирр, сын Ахилла. Что за корабль на белых парусах — корабль, на котором Парис увез Елену; троянки ненавидят Париса, считая его виновником бедствий родного города. Отмсти прелюбодею. Парис был женат на Эноне, которой беззастенчиво изменял с Еленой. Против Зевеса и Ахиллеса Приамов сын. Троянки вспоминают о поединке Гектора и Ахилла, победу в котором Зевс присудил последнему. Приам идет за сыном вслед. Приам был убит Пирром, когда греки ворвались в Трою. Аргос — крупный город и область Древней Греции (в восточной части Пелопоннеса). Стенелл — имя греческого воина. Аякс — это имя носили два друга, герои Троянской войны, выступавшие на стороне греков. Один из Аяксов пленил Кассандру. К Улиссовым стопам. Улисс — Одиссей, чей хитроумный замысел позволил грекам захватить Трою; проявил жестокосердие к побежденным. Ида — гора и горная цепь близ Трои. Пергам — троянская крепость, название которой часто распространялось и на весь город.
ИЗ ЛЕГУВЕ
128. Изд. 57. Перевод первых двух сцен (из пяти) драматической поэмы французского поэта Эвариста Легуве (1807–1903) «Fhalère» из его книги «Странные смерти» (1832). Фалерий — юноша, покойного отца которого оплакивают три девушки — наемные плакальщицы; убедившись в бездушии окружающих его людей, сраженный горем Фалерий вскоре умирает. Те же плакальщицы теми же словами начинают оплакивать новопреставленного, чем и завершается произведение Легуве.
129. «Часы выздоровления», только ст. 241–259, под загл. «Кар…на» (т. е. «Картина»). - Изд. 57, ст. 1—157 и 241–259. - Баранов В. В. «Последний день Помпеи»: Неизвестный отрывок из перевода Полежаева // ЛН. 1956, № 60. T. 1, сводный текст, включая ст. 158–240, по списку ЦГИАМ. - Печ. по Изд. 1957, где ст. 158–240 дополнены по списку ЦГИАМ. Строки точек в тексте соответствуют оригиналу драматической поэмы Легуве «La mort de Pompé» (из книги «Странные смерти»). Список без обозначения автора и переводчика был представлен в Московский ценз. комитет уже после смерти Полежаева, 12 апреля 1838 г. Цензор И. М. Снегирев 19 мая 1838 г. одобрил текст к печати, который не был издан. Перевод из Легуве, как и переводы из Гюго (тоже в виде отдельной тетради), были проданы Полежаевым отставному офицеру Π. Н. Евреинову, который пытался неудачно выступить в роли издателя этих произведений (о Евреинове см.: Безъязычный В. И. А. И. Полежаев и царская цензура // «Научные труды Московского заочного полиграфического ин-та». 1955. Вып. 3. С. 65–66). Загл. перевода из Легуве («Смерть Помпеи»), как предполагал В. В. Баранов, возможно, изменено по ассоциации с названием картины К. П. Брюллова, которая возбудила большой общественный резонанс именно в середине 1830-х гг. Поет она судьбу Изоры несчастливой. В трагедии Шекспира имя отвергнутой возлюбленным и умершей с горя девушки — Ба́рбара, которое Легуве заменил на Изору. Дездемона в последние часы своей жизни вспоминает ее песню про иву. Гебеновых кудрей — очень черных; гебен — см. примеч. 116. Амфор — амфора, сосуд яйцеобразной формы с двумя ручками, распространенный у древних греков и римлян. Плиний Старший Гай Секунд (23–79) — римский ученый и писатель, автор «Естественной истории» в 37-ми книгах. Плиний стал жертвой своей пытливости, наблюдая с близкого расстояния извержение Везувия. Его гибель описана племянником ученого — Плинием Младшим.
ИЗ ВОЛЬТЕРА
130. Альм. «Новогодник». Спб., 1839, с посвящением, без ст. 18–37, с перестановкой ст. 38–39. - «Часы выздоровления», под загл. «Прощание», без посвящения, без ст. 18–22, 38–50. - Изд. 57, под загл. «Прощание», без посвящения, здесь и всюду без эпиграфа и указания, что это перевод. — Печ. по ЧВ (впервые — Изд. 1939). Датируется по «Новогоднику». В сб. «Урна» (ПД) с подзаг. «С французского», без ст. 18–22; ст. 37: «Их трупы хладные прикрыла». Перевод ст-ния «Adieu à la vie». Якубович Лукьян Андреевич (1805–1839) — поэт, друг Полежаева; сохранились два его письма к Якубовичу 1836 г., единственные из всех писем Полежаева (см.: Динесман Т. Г. Письма Полежаева к Л. А. Якубовичу // ЛН. 1956, № 60. T. 1. С. 608–614). Перевод из Вольтера, видимо, был опубликован по автографу из альбома Якубовича, так как в «Новогоднике» рядом помещено ст-ние А. Д. Илличевского «В альбом (Л. А. Якубовичу)». Французский оригинал ст-ния установлен в 1955 г. (см.: Баранов В. В. Последнее стихотворение Вольтера «Прощание с жизнью» в переводе А. И. Полежаева // «Вестник Московского гос. университета». 1955, № 11. С. 85).
ПРИЛОЖЕНИЕ
131. Изд. 1933, по списку ПД из бумаг Ф. А. Кони, с ошибочным пропуском ст. 50, с некоторыми неточностями. — Печ. по этому списку с уточнением ст. 379 по списку ГПБ (Сбор. ст-ний разных авторов. Фонд 777, собр. Π. Н. Тиханова, № 250). Копия ПД (Фонд 134. Оп. 5, № 166) — малоформатная тетрадь в раскрашенном переплете, на обложке: «„Рассказ Кузьмы“ Александра Полежаева». В конце текста подпись: А-в и дата. Список ГПБ — под загл. «Прогулка в Кенигсберг», с вар. и искажениями, без ст. 79–80 (замененных строкой точек) и 433–436. В конце произведения четверостишие:
Надпись Огнем, и серой, и смолой Сей черный грот всегда пылает, И он-то в лютости порой Несчастных смертных изрыгает.Под четверостишием подпись: А. Полежаев и та же дата. Является ли «Надпись» своеобразным эпилогом произведения или это самостоятельное четверостишие, неясно. «Рассказ Кузьмы» в значительной мере написан в ключе фельетонно-пародийных «путешествий» (см. примеч. 103). Стень — призрак, тень; здесь — хилый, изможденный человек. С супружницей олень, т. е. супруг, которому жена наставила рога. Бонтонная — приличная, с хорошими манерами (от фр. bon ton — хороший тон). Редингот — женский плащ, плотно облегающий талию. Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — немецкий ученый, доказывавший, что форма черепа и физические особенности лица предопределяют духовную сущность человека. Галль Франц Иосиф (1758–1828) — австрийский врач и анатом, учивший, будто по строению черепа человека можно определить его психические способности. Никитские ворота — часть Бульварного кольца в Москве, здесь находилась пивная, описанная Полежаевым. Герберг (нем.) — трактир, постоялый двор. Швернуторы (нем.) — волокиты, ловеласы. Брылища — толстые выпяченные губы. Биру клюкнув — выпив пива. «Lieber Augustin» — популярная немецкая песенка. Салакуша — салака, мелкая рыба. Строит вам куры. Строить куры — идиома, заимствованная из французского языка, означающая: ухаживать. Прокуда — шалость, глупая шутка. Шишимора — привидение-оборотень, a также бедняк. К нам ходил один студент и т. д. Здесь (ст. 376–416) дается остраненная характеристика автора, вложенная в уста Кузьмы. Коврайский, Пузин — студенты, товарищи Полежаева (см. примеч. 101). Ерыги — см. примеч. 101. Некресть — здесь: разбойник. Драл в тамбовскую — выражение, означающее неумелую игру на бильярде. Мазик — бильярдный кий особого устройства или приспособление, надевающееся на конец кия для придания ему устойчивости. Фили — простофили, разини. Гусек — род игры в шашки, ходы которых определялись выбрасыванием костей. Фризяк — фризовая шинель: фриз — толстая ворсистая байка.
132. BE. 1826, июнь, № 12. - «Речи и стихи, произнесенные на торжественном годичном собрании Императорского Московского университета в день июля 3 дня 1826 г.». М., 1826. - Изд. 32. В BE и Изд. 32 к загл. дано примеч.: «Читано на торжественном собрании Императорского Московского университета июля 3 дня 1826 года». Ода «Гений» написана к официальной дате — дню окончания учебного года, традиционно отмечавшегося 3 июля. Автограф — ГБЛ, с редакторской правкой А. Ф. Мерзлякова — профессора словесности, в классе которого Полежаев занимался. Автограф представляет собой раннюю краткую редакцию оды в составе 100 ст. Она была опубликована и прокомментирована Ю. М. Лотманом (Изд. 1957. С. 42, 426), где без достаточного основания помещена взамен полной редакции текста. Ода, исправленная Мерзляковым, в составе 88 ст. вошла в его «Стихотворения» (М., 1867. Ч. 1.С. 202–204) с примеч.: «„Гений“ напечатан по рукописи, которая вся исправлена рукою Мерзлякова и потому стихотворение это помещено в конце отдела <од>. Оно принадлежит А. Полежаеву и напечатано с большими изменениями и дополнениями». Ранняя редакция интересна тем, что содержит инвективу против «Вельможи горделивого», имеющего «власть царя в руках», гнетущего народ (очевидно, отзвук сатиры Рылеева «К временщику»). Мерзляков несколько смягчил это место, заменив упоминание о царе ст.: «Со властью мощною в руках». В печ. тексте вельможу пришлось все же заменить «надменным властителем». В ранней редакции отсутствовали и комплименты в адрес Николая I. По мнению Ю. М. Лотмана, они были кем-то вписаны в оду Полежаева, который будто бы отказался авторизовать такой текст. В результате ода была прочитана 3 июля не им, а кандидатом Гавриловым (как явствует из информации, помещенной в «Речах…»). В дальнейшем, полагает Лотман, Полежаев не воспротивился публикации оды в BE лишь в предвидении грозящих ему неприятностей, о чем он якобы был заранее извещен (см. также: Лотман Ю. М. Неизвестный текст стихотворения А. И. Полежаева «Гений» // «Вопросы литературы». 1957, № 2. С. 169). Со всем этим трудно согласиться: во-первых, функции авторов и чтецов на торжественных университетских актах не всегда объединялись — это было в порядке вещей; во-вторых, похвала Николаю I — во многом дань ритуалу, формальное значение которого Полежаев не мог не сознавать (12 января 1826 г. на другом торжественном акте он лично прочел собственное ст-ние «Восторг, восторг, питомцы муз…», в котором также дело не обошлось без славословия новому императору. См.: Изд. 1933. С. 355 или Изд. 1939. С. 46). Утверждение о том, что Полежаев заранее знал о доносе на него, ничем не подтверждается. Если следовать этой гипотезе, то получится, что 164 ст. были присочинены неизвестным лицом к 100 ст. ранней редакции «Гения», а Полежаев сохранил свою подпись под двумя публикациями в сущности уже чужого произведения, более того — поместил его в таком виде в Изд. 32. Соображение о том, что Изд. 32 «создавалось в обстановке, которая не позволила делать стихотворные тексты уязвимыми в цензурном отношении», маловероятно: Полежаев имел полную возможность не включать «Гения» в состав сборника. Несмотря на то, что последние 20 строк произведения посвящены восхвалению нового монарха, вряд ли можно квалифицировать печатную редакцию оды как «наиболее изуродованную». Нельзя не учитывать тот факт, что автором «Гения» эти строки были написаны до оглашения приговора над декабристами. В такой ситуации слова «монарх любви и правоты» звучали и как призыв — случай типичнейший в истории русской оды, когда под видом похвалы императорам им внушалась желаемая социально-политическая программа. Побуждаемый, вероятно, тем же Мерзляковым, Полежаев доработал и в полтора раза увеличил текст — в соответствии с требованиями, которые обычно предъявлялись к одам подобного рода: прославление просвещения, патриотизма, выдающихся деятелей государства, науки, искусства (в ранней редакции вообще не было ни одного собственного имени), панегирики особо почитаемым монархам, полководцам и т. д. Как бы ни была значительна доля Мерзлякова в написании «Гения» (в печатном тексте по большей части учтена его правка), все произведение носит яркую печать индивидуальности молодого поэта, создавшего романтически-универсальный образ гения: он объединяет в себе мудрость, и великую отвагу, и творческую силу, и справедливость; это — наполовину божественный дух, пребывающий и в человеке и вне его; гений беспрестанно меняет свое обличие, существуя и как единый дух и как множество отдельных воплощений, его полеты направлены то к небу, то к земле. В дальнейшем оборотнический образ «гения» становится постоянным мифическим «персонажем» стихов Полежаева. Опыт работы над одой плодотворно сказался на позднейших произведениях поэта, а художественная экспрессия «Гения» позволяет рассматривать его как значительное явление в истории русской оды на исходе ее развития в XIX в. Загл., как и некоторые мотивы ст-ния Полежаева, связано с одой «Гений» А. И. Писарева, также сочиненной им в бытность студентом для торжественного акта (см.: «Речи, разговоры и стихи, произнесенные на публичном акте Университетского благородного пансиона по случаю выпуска воспитанников, окончивших полный курс учения 1821 года, апреля 2 дня». М., 1821. С. 30–32). Трус — здесь: землетрясение. В Плутонов дом — в подземное царство мертвых, в обитель теней (греч. миф.). Линней Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель и натуралист. Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) — французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории». Невтон — И. Ньютон. Франклин Бенжамен (1706–1790) — североамериканский прогрессивный политический деятель, ученый, сделавший ряд открытий в области физики электричества, изобретатель громоотвода. Трезубец у Нептуна вземлет. Нептун изображался с трезубцем в руках — символом власти над морской стихией. Здесь отмечена, видимо, заслуга Франклина в увеличении власти человека над морской стихией — Франклин предложил строить днища кораблей с разобщенными отсеками, что повысило надежность навигации. Помпилий Нума (716–672 до н. э.) — римский царь, прослывший как мудрый законодатель и реформатор. Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ. Дубовой ветвию венчанный. Венок из дубовых веток — почетный знак отличия у древних римлян. Сыны безумия смутились — намек на французскую революцию конца XVIII в. Суворов здесь — и Альпов нет! Имеется в виду итальянский поход А. В. Суворова 1799 г. Катоны — см. примеч. 113. Долгорукий Яков Федорович (1659–1720), князь — видный государственный деятель, сподвижник Петра I, имел репутацию смелого и прямодушного человека. Благословенный — официальное наименование императора Александра I. Ревет, волнуяся, Скамандр, Но не потопит Ахиллеса — т. е. слава Ахилла, как великого героя, нетленна. Скамандр — река возле Трои. Теките — здесь: идите.
133. Изд. 32, ст. 1—34, с пропуском ст. 24. — Изд. 1955, ст. 1—71, 80—110. - Изд. 1957, тот же текст с дополнением ст. 72–79 и 113–120, по списку ПД. - Печ. по указанному списку с восстановлением ст. 15 и 25 по Изд. 32. Ст. 124–127, 132–138 и 141–142 опускаются как не удобные в печати. Список ПД — из «Сборника прозаических и поэтических произведений разных авторов» (1857), составленного М. И. Семевским. В этом списке отсутствуют ст. 15 и 25, ст. 111–112 и 139–140 обозначены точками и имеют примеч.: «Куплет пропущен» и «Строфа пропущена». К имени Сашка дано пояснение: «Автора звали Александром». В конце текста ошибочная дата: 1836 и приписка: «Стихотворение сие замечательно как грубо-цинический бред поэта, в вине и ужасном разврате утопившего свой замечательный талант». В Изд. 32 в ст. 54 загадочное слово «пето» — скорее всего результат неправильного прочтения автографа: одна из особенностей Полежаевской манеры письма — слитное написание предлогов и союзов с соседними словами, а так как буквы «и» и «п», «с» и «е», «а» и «о» имели большое сходство в начертании, то наборщик (переписчик?), видимо, превратил слова «И ста» в невразумительное «пето». Тема ст-ния связана с посещением поэтом Тарков весной 1831 г., о чем сохранилось приукрашенное легендой свидетельство современника (см.: Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850. Ч. 1. С. 78). В «Тарках» использован ритмический строй цикла эротических стихов H. М. Языкова «Элегии» (1823–1825). Тарки — селение вблизи г. Махачкалы в Дагестанской АССР, в прошлом — столица шамхальства Тарковского; с 1776 г. шамхалы состояли в русском подданстве (см. примеч. к 106) до 1867 г., после чего их власть была упразднена. Где князь Шамхал… Румян и дюж. В то время шамхалом Тарковским стал Сулейман-паша, старший сын шамхала Мехти, умершего в мае 1830 г. по дороге из Петербурга в Дагестан. Преавантажный — пышный, видный. Тавлинка — см. примеч. 106. Рамазан — см. примеч. 107. Иок — нет (в тюркских языках). Тохта — погоди (в тюркских языках Дагестана). Бер-абазы — см. примеч. 107, к слову «абазы».
134. ЛН-15, по ЧВ. Легальный вариант «Четырех наций» (ср. № 8), в сущности новое ст-ние, отличающееся и своей структурой мысли. Если в «Четырех нациях» прослеживается постепенное убывание — от нации к нации — чувства вольнолюбия и гордости, то в «Трех нациях» всем народам, которых объединяет смелость, приписаны комические черты, принижающие их достоинство.
Основные даты жизни
1804 или 1805
В одном из сел, принадлежащих семейству Струйских (Инсаровского или Саранского уезда), Пензенской губернии, у дворовой помещика Л. Н. Струйского Аграфены Ивановой родился сын Александр — будущий поэт.
1805, январь
Аграфена Иванова, отпущенная Струйским на волю, выдана замуж за "саранского купецкого сына Ивана Ивановича сына Полежаева".
1804 — 1809
Александр Полежаев проживает с матерью и отчимом (пропавшим без вести в декабре 1808 года) в г. Саранске.
1810
Мать Полежаева с сыном Александром и его сводным братом Константином (1808 — 1817) переезжает в село Покрышкино, где проживает в семье своей сестры, бывшей замужем за дворовым Струйских Я. Андреяновым, первым учителем Александра.
1810, 16 июня
Смерть матери Полежаева. Дети Полежаевы отданы в опеку Андреянову и его жене.
1816, август
Л. Н. Струйский отвозит Александра в Москву и помещает в пансион. По возвращении Струйский зверски убил своего дворового, за что был лишен чинов и дворянства и сослан на поселение в Сибирь, где умер в 1823 году.
1820, 24 сентября
Полежаев подает прошение о зачислении вольным слушателем Словесного отделения Московского университета.
1820, октябрь
После успешной сдачи экзаменов профессорам Черепанову и Перелогову и адъюнкту Снегиреву Полежаев принят в университет и начал слушание лекций по философии, всеобщей истории и географии, хронологии, генеалогии и нумизматике.
1821, 17 августа
Полежаев начал слушать лекции профессора Мерзлякова по курсу красноречия и поэзии российской.
1821, сентябрь — ноябрь
Полежаев начал слушание лекций профессора Каченовского, Гаврилова, Ульрихса и др.
1822, 18 сентября
Полежаев начал слушание лекций профессора Давыдова по латинской словесности и древностям римским.
1823 — 1824, сентябрь — март
Полежаев проживает в "пансионе для недостаточных" при университете, где одновременно с ним проживает некоторое время Святослав Раевский — родственник и близкий друг М. Ю. Лермонтова, а также будущий артист Малого и Александрийского театров Афанасьев.
1824, май
Поездка Полежаева в Петербург к дяде А. Н. Струйскому.
1825, февраль — июнь
Полежаев пишет поэму "Сашка", непосредственным поводом к созданию которой послужил выход первой главы "Евгения Онегина" Пушкина.
1825, декабрь
В Ко 23 и 24 журнала "Вестник Европы" опубликованы произведения Полежаева: "Непостоянство" и "Морни и тень Кормала" (из Оссиана). Выход в свет альманаха М. Погодина "Урания", в котором напечатан перевод Полежаева "Человек. К Байрону (из Ламартина)".
1826, 12 января
Полежаев читает на торжественном университетском акте свою оду "Восторг, восторг, питомцы муз…", написанную по поручению университетского начальства.
1826, 19 февраля
На 77-м заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете читано и одобрено для печати произведение Полежаева — перевод поэмы Байрона "Оскар Альвский". Полежаев принят в члены — сотрудники общества.
1826, 26 июня
В собрании отделения словесных наук Московского университета Александр Полежаев, в числе других студентов и вольных слушателей, окончивших курс, проходил экзамены "во всех науках, к отделению относящихся". По решению собрания Полежаев, "при похвальном поведении оказавший отличные успехи", признан заслуживающим ходатайства университетского совета перед Сенатом об исключении его из мещанского сословия и присвоения звания действительного студента.
1826, 20 июля
Донос И. П. Бибикова "О Московском университете". Донос доводят до сведения Николая I, прибывшего на коронацию в Москву. Запиской на имя министра народного просвещения Шишкова царь вызывает к себе Полежаева.
1826, 28 июля
Вызов Полежаева к царю, по приказанию которого поэт читает в его присутствии поэму "Сашка". Николай I отправляет его в военную службу.
1826, 4 августа
Полежаев зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, стоявший лагерем на Хорошевском поле близ Ходынки. Позже полк был расквартирован в г. Ряжске.
1827, 9 марта
Советом Московского университета, на основании указа Сената об исключении Полежаева из податного состояния, поэту присвоено звание действительного студента.
1827, 14 — 20 июня
Бегство Полежаева из полка, стоявшего в деревне Низовке, Тверской губернии и уезда, с целью добраться до Петербурга и просить об освобождении от службы. Возвращение в полк. Заключение и суд.
1827, 4 сентября
По распоряжению царя Полежаев разжалован из унтер-офицеров в рядовые без выслуги
1827, в ночь с 14 на 15 августа
В Москве арестованы братья Критские и Лушников. Начало следствия, которое установило, что Полежаев в мае или июне 1826 года читал П. Пальмину агитационную песню "Вдоль Фонтанки-реки".
1827, октябрь
В последних числах Полежаев освобожден из-под ареста. Пребывание с полком в Москве.
1828, май
Вторичный арест Полежаева за оскорбление фельдфебеля.
1828, май — декабрь
Заключение на гауптвахте Спасских казарм. Знакомство поэта с А. П. Лозовским, служившим в штате Московского приказа общественного призрения.
1828, 17 декабря
Решение по делу о Полежаеве: "Хотя за сие и надлежало бы к прогнанию сквозь строй шпицрутенами, но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом: прощен без наказания с переводом в Московский полк".
1829, февраль — июнь
Московский пехотный полк получил приказ о вступлении на Кавказ и после длительного похода 24 июня расположился лагерем при Минеральных Водах.
1829 — 1830, сентябрь — январь
Стоянка Московского пехотного полка в заштатном городе Александрове.
1830, 7 мая
Московский полк прибыл в крепость Грозную, при которой расположился лагерем. В конце мая — поход в Дагестан, отразившийся в поэме "Эрпели".
1830–1833
Участие Полежаева в многочисленных походах и сражениях на левом фланге Кавказской линии. В сражении при Автуре, Гельдигене и Кулиш-Юрте 15, 17 и 19 января 1831 года Полежаев, по отзыву генерала А. А. Вельяминова, "находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа", за что, по ходатайству Вельяминова, Полежаев был награжден унтер-офицерским чином. 19 октября 1831 года Полежаев принимает участие в штурме Чир-Юрта, 23 августа 1823 года — Герменчуга, 16 октября 1832 года — Гимр.
1833, январь
Выступление Московского полка с Кавказа.
1833, апрель — август
Стоянка Московского полка в г. Коврове. Возвращение в Москву.
1833, 1 сентября
Перевод Полежаева в Тарутинский егерский полк, стоявший в г. Зарайске Рязанской губ.
1833 — 1834, декабрь — январь
Знакомство Полежаева с Герценом, Огаревым и поэтом и переводчиком Н. Сатиным.
1834, июнь — июль
Встреча Полежаева с Бибиковым в г. Зарайске.
1834, июль
Пребывание Полежаева в с. Ильинском, в семье Бибиковых.
1834 — 1835, июль — январь
Стоянка Тарутинского полка в городе Жиздре и Жиздринском уезде Калужской губернии.
1836 — 1837
Полежаев с частью полка несет караульную службу в Москве.
1837, 25 сентября
Полежаев, незадолго до этого подвергнутый телесному наказанию, помещен в Московский военный госпиталь.
1838, 7 января
В газете "Русский инвалид, или Военные ведомости"? 4 опубликован "высочайший" приказ от 27 декабря о производстве Полежаева из унтер-офицеров в прапорщики.
1838, 13 января
Полежаев переведен в офицерскую палату.
1838,16 (28) января
Смерть Полежаева.
Биографическая справка
"Сашка" был написан после выхода в свет первой главы "Евгения Онегина" и строился на подспудной полемике с пушкинским романом и образом его главного героя. Вставляя в свой текст цитаты из "Евгения Онегина", проводя Сашку сквозь ситуации, сходные с теми, которые изображал Пушкин, П. избрал при этом совершенно иной, сниженный, грубоватый тон. Он уснастил свое произведение множеством бытовых, натуралистических, порой не свободных от вульгарности деталей, ввел в него эротические сцены, описанные с откровенностью, заключавшей в себе прямой вызов ханжеству официальной морали. В поэме разносторонне отразилось презрительное отношение П. к светскому обществу. Поэт осмеивает сословные привилегии, бюрократические порядки, при которых "честь и чин" получают "дурак, алтынник, скот". Он одобрительно отзывается об атеизме героя поэмы, который "хоть и не верит... Исусу, / Но, право, добрый молодец!", а попов, монахов, церковные устои описывает с нескрываемой издевкой. Россия, к которой обращается П. в "Сашке",-- "отчизна глупая", "умы гнетущая цепями". Он мечтает о времени, когда она "очнется в дикости своей" и "свергнет с себя бремя. / Своих презренных палачей".
Поэма П. стала ходить по рукам, и вскоре в III отделение поступил донос, в котором говорилось, что воспитанники Московского университета "не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти" (Стихотворения.-- С. 70), причем в подтверждение этих сведений приводились цитаты из поэмы "Сашка". Николай I не без основания увидел в ней отзвук декабристских настроений. "Я положу предел этому разврату,-- заявил царь,-- это все ещеследы, последние остатки;я их искореню" (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.-- М., 1956.-- Т. VIII.-- С. 166).
Только что окончившего университет П. назначили унтер-офицером Бутырского пехотного полка с особым указанием: "иметь его под самым строгим надзором и о поведении его ежемесячно доносить..." (Стихотворения.-- С. 78). Расправа с вольнодумным поэтом оказалась не менее жестокой, чем та, которой царизм подверг многих участников восстания на Сенатской площади. П. оказался не в силах вынести тяготы военной службы. Жестокость обрушенной на него кары возрастала с каждым годом. Он пытался бежать в Петербург и хлопотать там о смягчении своей участи. Хотя он сам вернулся в полк, его предали военному суду и приговорили к разжалованию в рядовые без права выслуги. Теперь он мог подвергаться любым издевательствам и телесным наказаниям. В 1828 г. против П. было возбуждено новое дело. Он провел год в сыром и зловонном тюремном каземате, закованный в кандалы и наручники. Вероятно, там у него и началась чахотка, позднее ставшая причиной его безвременной смерти.
Стихотворения П. второй половины 20 гг. запечатлели безрадостные настроения, вызванные в душе поэта тяготами солдатчины. Вместе с тем они со всей определенностью свидетельствуют о том, что тираноборческие, антицаристские убеждения П. не были сломлены. С течением времени жгучая ненависть к николаевскому деспотизму и сочувствие закабаленному народу получали в его поэзии все более определенное и законченное выражение. П. с болью и горечью писал, что "родная страна / Палачу отдана" ("Вечерняя заря", 1826), что "Русь, как кур, передушил / Ефрейтор-император" ("Рок", 1826). Он мечтает "оковы раздробить / И жажду сладостного мщенья / Живою кровью утолить". Его гнетет сознание своего бессилия: "цепь порабощенья / Гремит на скованных ногах, / И замирает сталь отмщенья / В холодных, трепетных руках..." ("Цепи", 1826). В стихотворениях "Песнь пленного ирокезца" (1828), "Песнь погибающего пловца" (1828), в поэме "Арестант" (1828) П. с потрясающей силой и искренностью говорит о муках, выпавших на его долю. И все же он остается "неизменным другом свободы", который готов, "недвижим и смел", "встретить миг роковой", и верит, что придет час, когда "мы... победим, поразим / И врагам отомстим!". Он вновь и вновь клеймит царя, который "возведен / Погибшей вольности на трон" и душит "как лютый волк / По алчной прихоти своей / Мильоны страждущих людей..." (Стихотворения и поэмы.-- С. 70--71).
В 1829 г. полк, в котором служил П., был переведен на Кавказ, где поэт провел четыре года. Он участвовал во многих, сражениях, и за проявленную в них доблесть ему вернули унтер-офицерский чин. Но все попытки добиться производства П. в офицеры и тем самым дать ему возможность уйти в отставку сталкивались с упорным сопротивлением властей. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что имя П. как жертвы царского произвола пользовалось большой популярностью в оппозиционно настроенных кругах русского общества. Шпионы III отделения доставляли властям неопубликованные произведения П., которые могли только укрепить враждебное отношение к нему. А. И. Герцен, который познакомился с П. в 1833 г., писал: "...Сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца" (Герцен А. И. Собр. соч.-- Т. VIII.-- С. 168).
Кавказские впечатления отразились в поэмах "Эрпели" (1830), "Чир-Юрт" (1832) и ряде небольших стихотворений. В центре внимания поэта не красота горных пейзажей, а быт и тяжелая жизнь простых людей. Он с реалистической достоверностью описывает опасности, лишения, бытовую неустроенность, которые постоянно должен был сносить русский солдат. Жизнь, изображаемая здесь П., увидена глазами солдата, и рассказано о ней безыскусным солдатским языком, с постоянным использованием просторечия и разговорных оборотов. Отдавая должное мужеству и русских и горцев, П. видит бессмысленность войны и кровопролития. Он проклинает того, кто извлек "первый меч войны / На те блаженные страны, / Где жил народ миролюбивый", и верит, что придет пора, когда "воинственная лира" "забудет битвы и перун / И воспоет отраду мира" (Стихотворения и поэмы.-- С. 293, 309). Темой поэм П. "Видение Брута" (1833) и "Кориолан" (1834) явились события римской истории. Продолжая традиции декабристов, поэт стремился не к исторической достоверности и точности, а к тому, чтобы на материале прошлого поставить вопросы, актуальные для его времени.
Читатель 30 гг. безошибочно улавливал в "Кориолане" намеки на поражение декабристов и деспотизм николаевского царствования. Уловила их и цензура, запретившая к печатанию обширные куски "Кориолана", впервые опубликованного в 1838 г., уже после смерти автора. Важной частью поэтического наследия П. являются его песни. "Ахалук" (1832), "Сарафанчик" (1834), "Долго ль вам без умолку идти" (1835), "Разлюби меня, покинь меня" (1836) и др. произведения этого жанра завоевали популярность и прочно вошли в песенный репертуар. П. проявлял углубленный и постоянный интерес к фольклору: и к русским народным песням, н к поэтическому творчеству народов Кавказа, и к солдатской песне. В стихотворении "Ай ахти! ох ура!" (1835), явно продолжая традицию, восходящую к агитационным песням Рылеева и Бестужева, П. устами солдат обращается с суровым укором к царю, который "обманул, погубил... мильоны голов".
Среди солдатских жалоб на тяготы службы, мучения и побои нашло себе место и напоминание о 14 декабря 1825 г., когда солдаты царя "охранили, спасли / И по братним телам / Со грехом пополам / На престол возвели". Здесь явно прозвучало сожаление о выборе, сделанном в тот роковой день, и предупреждение, что доведенные до отчаяния солдаты способны уничтожить ими же утвержденную бесчеловечную власть: "Ты болван наших рук: / Мы склеили тебя / И на тысячи штук / Разобьем, -разлюбя!" Шли годы, но они не приносили П. надежды на изменение его участи. Давно нажитая чахотка разыгралась с новой силой. Доведенный до отчаяния, П. стал много пить, а однажды, самовольно покинув полк, потерял амуницию. За это его выпороли розгами с такой жестокостью, что, по свидетельству батальонного адъютанта, "долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья" (Стихотворения.-- С. 126).
В сентябре 1837 г. его отвезли в госпиталь, откуда он уже не вернулся. Там были написаны его последние стихотворения, в том числе "Чахотка" (1837). Когда П. находился уже в предсмертной агонии, пришел приказ о производстве его в прапорщики. Возможно, поэт не успел даже узнать о запоздалой царской милости. 16 января 1838 г. его не стало. Белинский с проникновенной точностью указал, что "отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта" (Полн. собр. соч.-- Т. VI.-- С. 159).
Но он не мог ответить на вопрос, кто виноват в трагической судьбе и гибели П., обвиняя в них самого поэта. На этот вопрос исчерпывающе ответил Н. А. Добролюбов. Откликаясь на книгу стихотворений П., выпущенную в 1857 г., он писал: "Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его, сочинений" (Собр. соч.-- Т. П.-- С. 49).
К изданию был приложен портрет П. в солдатской шинели. Яснее и недвусмысленнее указать на тех, кто нес ответственность за бедствия и безвременную кончину поэта, было невозможно. Соч.:Стихотворения / Ред., биограф, очерк и примеч. В. В. Баранова.-- М.; Л., 1933; Полн. собр. стихотв. / Вступ. ст., ред. и примеч. Н. Ф. Бельчикова.-- Л., 1939; Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. Н. Ф. Бельчикова; Подгот. текста и примеч. В. В. Баранова.-- Л., 1957; Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. и подгот. текста В. С. Киселева-Сергенина.-- Л., 1981. Лит.:Белинский В. Г. <Стихотворения А. Полежаева>.-- Полн. собр. соч.-- М., 1955.-- Т. VI.-- С. 119--160; Добролюбов Н. А. Стихотворения А. Полежаева//Собр. соч.-- М.; Л., 1962.-- Т. II.-- С. 47--53; Воронин И. Д. А. И. Полежаев: Жизнь и творчество.-- 2-е изд., дон. и перераб.-- Саранск, 1979; Порудоминский В. И. Вся жизнь моя -- гроза! Повесть про поэта Полежаева и его время.-- М., 1981; Васильев Н. Л. А. И. Полежаев: Проблемы мировоззрения, эстетики, стиля и языка. -- Саранск. 1987.
Л. Г. Фризман
Иллюстрации
Фронтиспис. Портрет поэта работы Е. И. Бибиковой-Раевской (см. о нем примеч. 61). 1834 г. (ГБЛ).
2. Фрагмент автографа стихотворения «(Узник)», ранее печатавшегося под названием «Арестант» и «А. П. Лозовскому» (ПД).
3. Литография А. Ястребилова с портрета работы А. В. Уткина. Напечатана в сборнике стихов «Кальян» (М., 1833). Полежаев изображен здесь в унтер-офицерском мундире.
4. Литография неизвестного художника с акварельного портрета В. И. Ленца. 1836 г. Напечатана среди страниц очерка: Макаров К. Н. Воспоминания о Полежаеве В. И. Ленца // «Исторический вестник». 1891, апрель.
5. Автограф стихотворения «К Е…….. И…….. Б……..й».
6. Акварельный автопортрет Екатерины Ивановны Бибиковой-Раевской, нарисованный в 1830-е г. О Е. И. Бибиковой см. примеч. 61–65.
7. Полежаев в гробу. Литография Ф. Сиверса с рисунка неизвестного художника. 1838 г. Издана отдельно в 1838 г. Покойник изображен в офицерском мундире. Внизу литографии — цитата из «Венка на гроб Пушкина» Полежаева (ст. 11–17). См. примеч. 95. (Музей Института русской литературы АН СССР.)
8. Схематическая карта северо-восточного Кавказа, публикуемая в качестве комментария к поэмам «Эрпели» и «Чир-Юрт». На карте обозначены топонимы, упоминаемые в кавказских поэмах и стихотворениях Полежаева.
Сноски
1
Эти и последующие переводы были непосредственным выражением творческой субъективности Полежаева, который мог бы сказать о них, подобно Жуковскому, что «все чужое», взятое им у других поэтов, становилось неотъемлемым достоянием его авторской индивидуальности.
(обратно)2
Великосветского общества (фр.).
(обратно)3
Бобров Е. Этюды о Полежаеве // «Варшавские университетские известия». 1913, № 1. С. 30.
(обратно)4
Цит. по: Баранов В. В. А. И. Полежаев: Биографический очерк // Стихотворения. М.; Л., 1933. С. 70.
(обратно)5
См.: Баранов В. В. Новое о поэте Полежаеве // «Лит. газета». 1940, 10 июня.
(обратно)6
Герцен А. И. Былое и думы. Прибавление. А. Полежаев // Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956. Т. 8. С. 166–167. Далее все цитаты из очерка Герцена приводятся по этому изданию.
(обратно)7
Старушка из степи [Бибикова-Раевская Е. И.] Встреча с Полежаевым // «Рус. архив». 1882. Вып. 6. С. 235.
(обратно)8
Огарев Η. П. Предисловие [к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861] // Избр. произв. М., 1956. Т. 2. С. 483.
(обратно)9
См.: Дьяков В. А. Под сермяжной броней: Новые материалы о военной службе А. И. Полежаева // «Русская литература». 1975, № 2. С. 161.
(обратно)10
Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 83.
(обратно)11
Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 90.
(обратно)12
Огарев Η. П. Указ. соч. С. 482.
(обратно)13
Об этих подробностях см. примеч. 14.
(обратно)14
Огарев Η. П. Указ. соч. С. 482.
(обратно)15
См.: Милюков А. Доброе старое время: Очерки былого. Спб., 1872. С. 207–208.
(обратно)16
Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. Л., 1972. С. 269.
(обратно)17
Перечень этих стихотворений см. наст. изд.
(обратно)18
Дружинин А. В. Стихотворения А. Полежаева // Собр. соч. Спб., 1865. Т. 7. С. 426.
(обратно)19
Белинский В. Г. <Стихотворения Полежаева> // Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 128 (курсив в цитате мой. — В. К.-С.).
(обратно)20
Белинский В. Г. Указ. соч. С. 132.
(обратно)21
Сведения о Лозовском см. в примеч. 14.
(обратно)22
См. об этом примеч. 132.
(обратно)23
Дружинин А. В. Указ. соч. С. 424.
(обратно)24
Исключением являются такие стихотворения, как «Демон вдохновения», «Божий суд» и «Пир духов» (перевод из В. Гюго). Здесь сверхъестественные персонажи имеют чисто условное значение. Царство духов в этих стихотворениях очень напоминает человеческое общество, как оно представлялось поэту, — и своей перенаселенностью, и внутренними распрями его обитателей, и их раболепием перед своим властелином. В «Демоне вдохновения» под видом «фантасмагории волшебной» по сути дела обрисован ад земной жизни.
(обратно)25
Сведения о подготовке к печати этих книг см. в примеч. 106.
(обратно)26
Лунин М. С. Письмо к Е. С. Луниной (Уваровой) от 1838 г. // Лунин М. С. Соч. и письма / Ред. и примеч. С. Я. Штрайха, Пб., 1923. С. 45. Ахалцых был взят частями русской армии в 1828 г.
(обратно)27
Полежаева, ненавистника религиозных жрецов всех мастей, тут несколько оправдывает показ уязвимой стороны горского восстания — его религиозный фанатизм, таивший в себе предпосылки военно-теократической государственности, что позднее — уже в эпоху Шамиля — изнутри расшатало идеологическую базу всего движения и способствовало его крушению.
(обратно)28
Письмо к Π. Н. Ермолову (двоюродному брату А. П. Ермолова) от 25 октября 1826 г. // «Рус. старина». 1898, № 1. С. 186.
(обратно)29
О принципиальной важности внутреннего членения песен «Чир-Юрта» на фрагменты см. в примеч. 107.
(обратно)30
Двойное наименование реки — то Сулаком, то Койсу — соответствует двойственной, «оборотнической» роли реки в сюжете произведения.
(обратно)31
Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 454.
(обратно)32
Данные об отзвуках конкретных произведений русской одической поэзии в «Эрпели» и «Чир-Юрте» см. в примечаниях к поэмам (№№ 106–107).
(обратно)33
Подробнее об отказе Полежаева см. примеч. 62.
(обратно)34
Цит. по: Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 115.
(обратно)35
Фотокопия портрета воспроизведена на фронтисписе настоящего издания.
(обратно)36
См. примеч. 65 (к строке «И сколько раз над нежной Элоизой»).
(обратно)37
О сделанных Полежаевым отступлениях от рассказа Плутарха, проясняющих его трактовку в поэме, см. примеч.109.
(обратно)38
Белинский В. Г. Указ. соч. С. 159, 137, 160, 149.
(обратно)39
Белинский цитирует применительно к Полежаеву строки стихотворения Пушкина «Портрет».
(обратно)40
Ромен Ж. Душа толпы. Л.; М., 1924. С. 78.
(обратно)41
Почти одновременно с Полежаевым форму лирической исповеди плодотворно осваивал виднейший представитель школы Жуковского Иван Козлов. Несмотря на довольно щеголеватую отделку стихов, личность поэта нашла в них несравненно более суженное и почти однотемное выражение. Качественно иное явление в поэзии конца 1810—1830-х годов — автобиографический герой в стихах Пушкина, Дениса Давыдова, Языкова. Это явно объективированный и типизированный герой, к тому же не претендующий на монопольное положение во всех разделах творчества этих поэтов.
(обратно)42
Раньше, чем должно, я возвращаюсь в бой; Но таково твое желание, друг! Твоя рука меня разбудила; ведь это ты сказал мне: выходи!Г<юго> (фр.). — Ред.
(обратно)43
Давно прошли времена Орестов и Пиладов. Кто-то сказал, кажется, справедливо, что ныне:
Любовь и дружба — пара слов, А жалость — мщение врагов.И после добавил, что:
Одно под солнцем есть добро — Неочиненное перо…Но — так как нет правил без исключений — и под солнцем, озаряющим неизмеримую темную бездну, в которой, будто в хаосе, вращаются, толпятся и пресмыкаются миллионы двуногих созданий, называемых человеками, встречаемся мы иногда с чем-то благородным, отрадным, не заклейменным печатью нелепости и ничтожества, — то провидению угодно было, чтоб и я на колючем пути моего земного поприща встретил это благородное, это отрадное в лице истинного моего друга А… П… Л… Часто подносил он бальзам утешения к устам моим, отравленным желчию жизни; никогда не покидал меня в минуты горести. К нему относятся стихи:
Я буду — он, он будет — я; В одном из нас сольются оба, И пусть тогда вражда и злоба, И смерть, и заступ гробовой Шумят над нашей головой!Может быть, кто-нибудь с лукавой улыбкой спросит: кто такой этот Л…? Не знатный ли покровитель?.. О нет! Он более, он — человек. <1837>.
(обратно)44
Ну, так что же? Завершай свою священную миссию (фр.). — Ред.
(обратно)45
А хороший парень был когда-то (фр.). — Ред.
(обратно)46
К чему раскаянье и слезы и проч…
Это язык человека, закоренелого в злодействах. Отчаяние, верный сопутник целой его жизни, оскверненной преступлениями, не оставляет своего любимца и на ступенях эшафота. Дантон среди Конвента читает оду Грекура, тогда как ему произносят смертный приговор; Анахарсис Клоц проповедует атеизм на гильотине, окруженный отрубленными головами его сообщников. Редко великие злодеи перед смертью говорят языком праведника.
(обратно)47
На Кавказе между казаков пистолет так всегда называется.
(обратно)48
Чему быть — тому не миновать! (нем.). — Ред.
(обратно)49
Гебек-Кала, или Святая Гора, — хребет Салатавских гор, где генерал-лейтенант Вельяминов после упорного сражения разбил наголову Кази-Муллу, который без туфель, трубки и бурки бежал с поля сражения и едва не был захвачен в плен с своею любовницею, армянкою из города Кизляра.
(обратно)50
Изувер — почетное титло, которым величают иногда закоренелые старообрядки русских воинов.
(обратно)51
Частые необходимые сношения казаков с горцами служат невольною причиною беспорядков, происходящих иногда в станицах. Кому неизвестны хищные, неукротимые нравы чеченцев? Кто не знает, что миролюбивейшие меры, принимаемые русским правительством для смирения буйства сих мятежников, никогда не имели полного успеха; закоренелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. Близкая неминуемая опасность успокаивает их на время, после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодетелей… Черты безнравственности, приведенные в сем отрывке, относятся собственно к этому жалкому народу.
(обратно)52
Бей-Булат — важное лицо в истории горских революций.
(обратно)53
Каплунов — беглый русский солдат, прославивший себя в горах разбоем и непримиримой ненавистью к соотечественникам.
(обратно)54
Мир полон обманщиков и обманутых. H. М. (фр.). — Ред.
(обратно)55
Замечание:
Итак, узнал я наконец Тебя, Зевес самодержавный! и проч.Это шуточное стихотворение написал я экспромтом в то время, когда один известный и опытный медик после долгого, неутомимого старанья возвратить мне слух, потерянный от сильной простуды, решился испытать надо мною силу гальванизма и я в первый раз почувствовал благотворное действие этого электричества.
Более полутора года я страдал почти совершенною глухотою и терял уже надежду на излечение, но гальванизм, искусно и осторожно приноровленный к моей болезни, возвратил мне слух в два месяца.
Никогда не забуду благородного медика, который посвятил свои глубокие познания пользе человечества, и уверен, что голос мой повторяется тысячами голосов людей, обязанных ему нередко самою жизнью.
(обратно)56
Спи еще эту ночь сном чистым и сладостным. В. Г<юго> (фр.). — Ред.
(обратно)57
Всё к лучшему… «Кандид» (фр). — Ред.
(обратно)58
«Не духа ли влечешь ты на постель?» Почем знать, может быть, в самом деле, это был дух, сильф, влетевший нечаянно или с невинным умыслом в покой милой девушки; впрочем, Вольтер когда-то говаривал своим современникам: «Vos oreilles sont bien chastes et vos mœurs — bien depravées» («Ваши уши очень целомудренны, а ваши нравы крайне развращены» (фр.). — Ред.).
(обратно)59
Увы! (фр.) — Ред.
(обратно)60
Каждая звезда в свой черед показывается на небе (фр.). — Ред.
(обратно)61
«Дитя, почему вы плачете?» — «Я разбила зеркало». В. (фр.). — Ред.
(обратно)62
Я верю, потому что верю. В. (фр.). — Ред.
(обратно)63
Он говорит ей глупость — она ему отвечает другой. H. М. (фр.). — Ред.
(обратно)64
О, как свят и чист восторг поэта, когда зрит он с надеждой, презирая немую смерть, как слава его остается в течении времени! Он склоняется со своей превыспренней высоты над грядущими веками, внимая своему отдаленному существованию. Имя его, как некая тяжесть, брошенная в бездну, пробуждает тысячекратное эхо в глубине будущего. В. Гюго (фр). — Ред.
(обратно)65
Стих Пушкина.
(обратно)66
Ожидание вполне совершилось.
(обратно)67
Добрый вечер (фр.). — Ред.
(обратно)68
Олух, подлец, в……, дурак (фр.). — Ред.
(обратно)69
Мой дорогой! (фр.) — Ред.
(обратно)70
Жан, дайте нам немного (фр). — Ред.
(обратно)71
Бис, браво (итал). — Ред.
(обратно)72
Хороший тон (фр). — Ред.
(обратно)73
Французское кафе (фр.). — Ред.
(обратно)74
Петухом (фр.). — Ред.
(обратно)75
Мадмуазель (фр.). — Ред.
(обратно)76
Здравствуйте, дорогая! (фр.) — Ред.
(обратно)77
А кстати (фр.). — Ред.
(обратно)78
Виконт, займите мое место (фр.). — Ред.
(обратно)79
Хорошо, хорошо! (фр.). — Ред.
(обратно)80
А ваши дела? (фр.). — Ред.
(обратно)81
Увы! (фр). — Ред.
(обратно)82
Тьфу! (фр.). — Ред.
(обратно)83
Неудача, беда (фр). — Ред.
(обратно)84
Позор тому, кто подумает об этом дурно (англ.). — Ред.
(обратно)85
Крепость.
(обратно)86
Старый Юрт — маленькая крепость в 18 верстах от Грозной. Возле самой крепости протекают между гор ручьи горячих минеральных вод.
(обратно)87
Все реки на Кавказе чрезвычайно быстры и мутны.
(обратно)88
Сунжа в самых мелких местах так быстра, что невозможно сильному человеку ступить шагу, не подавшись в сторону. Бо́льшая часть солдат переходила ее, держась между собою за руки, а некоторые падали с ружьями.
(обратно)89
Один из титулов шамхала.
(обратно)90
Персидская шапка.
(обратно)91
Персидский табак.
(обратно)92
Беглые русские солдаты, проживающие у горских разбойников, известные своею отважностию и ненавистью к соотечественникам.
(обратно)93
Ничего вымышленного: верный отголосок молвы горцев о чудесах новоявленного пророка.
(обратно)94
Чуреки. Горцы вообще не имеют хлеба, а заменяют его чуреками лепешками, печенными в золе, из просы, пшена или кукурузы.
(обратно)95
Прощай (фр). — Ред.
(обратно)96
Основательно (фр.). — Ред.
(обратно)97
Триумвиров.
(обратно)98
Под именем Каиафы здесь разумеется верховный инквизитор.
(обратно)99
Народные трибуны, обвиняя Кориолана во многих преступлениях против отечества, уличали его также в домогательстве верховной власти.
(обратно)100
Анциум — город вольсков, в котором Кориолан после изгнания его из дома нашел сильное покровительство.
(обратно)101
Да простят мне из уважения к памяти Кориолана поэтическую вольность, с которой приписал я много редких достоинств едва известному по истории Аттию Туллу. Кориолан достоин был иметь знаменитого соперника на поприще славы.
(обратно)102
Историческое.
(обратно)103
Здесь говорится о безуспешном посольстве к Кориолану римского сената и жрецов.
(обратно)104
Историческое.
(обратно)105
Да будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом. Монтень (фр.). — Ред.
(обратно)106
Король охоты (фр). — Ред.
(обратно)107
Наподобие, как (фр.). — Ред.
(обратно)108
Enflé — техническое выражение в кругу одного веселого общества.
(обратно)109
V. С. Р. — марка шампанского «Veuve Cliquot Ponchartrain»
(обратно)110
Господа! (фр.). — Ред.
(обратно)111
Экспромт, сказанный Долгиосу одним из членов стрелкового общества.
(обратно)112
«Он был король, но… охоты!» (фр.). — Ред.
(обратно)113
Бритты имели обыкновение зажигать дубы в дни празднеств.
(обратно)114
Не знаю: нечто изнеженное и насмешливое. Гораций (лат.). — Ред.
(обратно)115
Здесь громадный сонм… устраивает оргию. Авиен (лат.). — Ред.
(обратно)116
О несчастные меднокопейных троянцев девы, злополучные невесты, дымится Илион, возрыдаем (древнегреч.). — Ред.
(обратно)117
Смерть не то, за что ее принимает толпа (фр.). — Ред.
(обратно)118
«Да, я вам скажу! Пиво там — лучшее пиво! О, господи! Спросим две бутылки. О, пиво, пиво!» (нем.). — Ред.
(обратно)119
«Здесь пиво!»(нем). — Ред.
(обратно)120
«Милый Августин» (нем.). — Ред.
(обратно)121
Какая беда! (фр.) — Ред.
(обратно)122
Дорогой! (фр.) — Ред.
(обратно)123
Господа… Спасите! Я пропал! (фр.) — Ред.
(обратно)124
Переиздан без изменений в 1836 г.; третье издание этой книги вышло в 1838 г.
(обратно)125
О прохождении сочинений Полежаева через цензуру см.: Безъязычный В. И. А. И. Полежаев и царская цензура // «Научные труды Московского заочного полиграфического института». 1955. Вып. 3. С. 59–67.
(обратно)126
В эту рукопись вошли четыре отрывка из «<Узника>» (другие названия «А. П. Лозовскому», «Арестант»), стихотворения «Осужденный» и «Тюрьма».
(обратно)127
Названные произведения были опубликованы еще в 1861 г. за рубежом в сборнике Η. П. Огарева и А. И. Герцена «Русская потаенная литература XIX столетия».
(обратно)128
На основе этого издания фирма Улитиных в том же 1888 г. в серии «Дешевая библиотека русских писателей» выпустила «Собрание стихотворений» А. И. Полежаева. Текстологического интереса оно также не представляет.
(обратно)129
Лернер Н. Из наследия А. И. Полежаева // «Нива. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения». 1915, август. Стб. 573.
(обратно)130
Публикуя из этой рукописи неизвестные стихи поэта, Η. Ф. Бельчиков ограничился лишь самой общей ссылкой: «Центр-архив. Москва» и «Дела цензурного ведомства» (Бельчиков Н. Запрещенные цензурой стихотворения Полежаева // «Литературное наследство». 1934, № 15. С. 65, 69, 73). Такого же рода ссылки (с прибавлением: ГАФКЭ) — в издании 1939 г. «Часы выздоровления» изучал также В. В. Баранов, сделавший по этой рукописи несколько уточнений в тексте «<Узника>» («А. П. Лозовскому») в издании 1957 г. Однако Баранов также не обмолвился о местонахождении рукописи, судьба которой и поныне остается загадочной.
(обратно)131
См. в списке условных сокращений «Нива»-1914 и «Нива»-1915.
(обратно)132
Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, подг. текста и примеч. В. С. Киселева. Л., 1960 (Б-ка поэта, МС); Стихотворения / Составители И. Д. Воронин, А. К. Чебакова, Саранск, 1977; Стихотворения. Поэмы / Предисловие и примеч. В. Муравьева. М., 1981; Стихотворения / Редактор-составитель Е. А. Таланова. Ставрополь, 1981 (в этом изд. повторена ошибка издания 1892 г. под ред. А. И. Введенского, где вместо портрета Полежаева помещен портрет А. Е. Рынкевича).
(обратно)133
В это издание не включены: ранняя повесть «Новодевичий монастырь, или Приключение на Воробьевых горах», стихотворения: «Восторг, восторг, питомцы муз…», «Нечто о двух братьях князьях Львовых», несколько стихотворных мелочей: «В альбом Ф. А. Кони», «Оправдание мужа», «К М. А. Я….ой»; переводы из В. Гюго: «Антихрист», «Два острова», «Видение» (все эти произведения вошли в издание 1939 г.). По нескромности и незначительности содержания до сих пор не опубликованы «Дженни» и «Калипсо», списки которых хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР.
(обратно)134
К произведениям, с большой степенью вероятности приписываемым Полежаеву, следует отнести: «Васильевский бульвар» («Литературное наследство́». 1934, № 15. С. 254–257), «Тоска души, мой спутник верный…» («Галатея». 1829, № 36. С. 257, подпись: ……въ), «Когда душа перекалится в камень…» («Невский альбом». Спб., 1839. С. 117, фамилия поэта — на титуле альманаха), «К сивухе» («Вестник Европы». 1897, июнь. С. 726), «Глаголом совести нещадной…» (альм. «Северная лютня». М, 1833, подпись: А. П.) — три последних включены в издание 1933 и 1939 гг. К числу приписываемых в издании 1939 г. отнесены переводы из В. Гете «Тишина на море» и «Счастливое плавание», напечатанные анонимно в альм. «Урания». М., 1826 (оба перевода переписаны неизвестной рукой в тетрадь ранних стихов Полежаева, хранящуюся в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР).
(обратно)135
Эти материалы находятся в Рукописных отделах Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Института русской литературы.
(обратно)136
В предварительном списке произведений Полежаева (ГПБ, ф. 279, № 5) Ефремов, например, пометил «Погребение» и «Провидение к человеку» 1826 г. вопросительным знаком, но в самом издании 1889 г. предположение превратилось в утверждение.
(обратно)137
Так, большинство стихотворений из сборника 1832 г. написано не позднее 1831 г., — дата его цензурного разрешения: 12 января 1832 г., и лишь три стихотворения 1832 г. («Другу моему А. П. Л<озовскому>» «Акташ-аух», «Песнь горского ополчения») попали туда после цензурования всей рукописи.
(обратно)138
Например, дата рукописи «Часы выздоровления» позволяет считать стихотворения, включенные в нее, написанными не позже 1837 г. Иное дело — стихи сборника «Арфа»: все они датируются 1834 г., так как рукопись «Разбитая арфа» имела общую дату «1834 г.» на титуле, что зафиксировано в бумагах Московского цензурного комитета (Центральный гос. исторический архив г. Москвы, ф. 31, оп. 5, № 102) и Главного управления цензуры (Центральный гос. исторический архив в Ленинграде, ф. 772, оп. 1, № 759).
(обратно)139
Эти стихи — сущий ужас! (фр.)
(обратно)
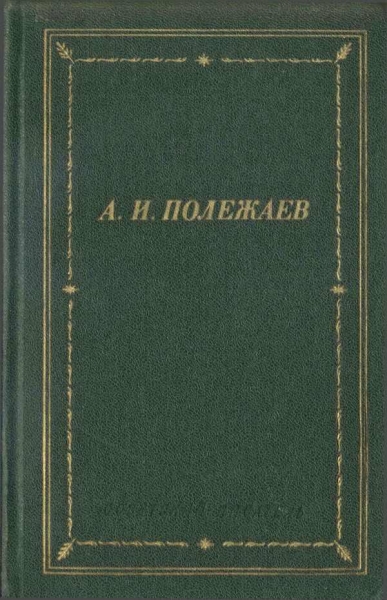

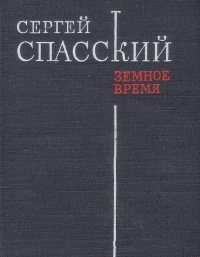


Комментарии к книге «Стихотворения и поэмы», Александр Иванович Полежаев
Всего 0 комментариев