Семен Яковлевич Надсон Полное собрание стихотворений
Г. Бялый. С. Я. Надсон
1
Семен Яковлевич Надсон жил очень недолго, всего 24 года. В памяти читателей сохранился образ поэта, безвременно погибшего от злой чахотки на заре своей деятельности, начавшейся шумным успехом. В стихотворениях Надсона часто шла речь о тяжком недуге, о тоске увядания, о близкой гибели. Разумеется, все понимали, что это не узкобиографические мотивы, что Надсон говорит не только о своей личной судьбе, но и о «болезнях» целого поколения. Признания и жалобы больного поэта приобрели широкий смысл, но они сохранили при этом личные ноты, задушевность и лиризм.
Жизнь Надсона сложилась неудачно, и беды преследовали его едва ли не с самого рождения. Родился он 14 декабря 1862 года в Петербурге, в небогатой чиновничьей семье. Вскоре после рождения сына вся семья переехала в Киев. В двухлетнем возрасте Надсон потерял отца. Мать Надсона Антонина Степановна служила экономкой и учительницей в семействе некоего Фурсова и своими трудами содержала сына и младшую дочь. Детство Надсона было тяжелое. Недаром в своей автобиографии он сообщал: «История моего детства – история грустная и темная».[1] Когда Надсону было семь лет, мать его, рассорившись с хозяевами, переехала в Петербург и поселилась в семье своего брата Д. С. Мамонтова. В Петербурге Надсон поступил в приготовительный класс гимназии. Вскоре мать его вторично вышла замуж, за киевского чиновника Н. Г. Фомина, вновь переехала с мужем в Киев, и Надсон продолжал учение в одной из киевских гимназий. Но несчастья на этом не закончились. Отчим Надсона был болен тяжелой психической болезнью. Он измучил жену семейными сценами и, наконец, в припадке помешательства покончил жизнь самоубийством. Семья Надсона осталась без всяких средств к существованию и жила на скудные подачки «добрых людей» – знакомых и родственников. Другой брат матери Надсона, И. С. Мамонтов, сжалившись над вторично осиротевшей семьей, вызвал Антонину Степановну с детьми в Петербург и определил Надсона пансионером в военную гимназию. Это было в 1872 году, а год спустя Антонина Степановна умерла. Надсон остался у дяди, И. С. Мамонтова, сестра его перешла жить к Д. С. Мамонтову. Таким образом, Надсон оказался в полном одиночестве, на попечении людей, которые не любили его и нередко оскорбляли жестоко и грубо. Единственным светлым пятном в гимназический период жизни Надсона была его горячая любовь к Н. М. Дешевовой, сестре товарища по гимназии. В марте 1879 года Н. М. Дешевова внезапно умерла. Память о ней Надсон сохранил до конца своей жизни, ей посвятил он впоследствии сборники своих стихотворений.
В 1879 году Надсон окончил гимназию и поступил в Павловское военное училище.
Надсон был болезненным и слабым подростком. Из-за болезни он должен был выехать на Кавказ, где провел зиму и лето 1880 года. В 1882 году он окончил училище и вышел подпоручиком в Каспийский полк, расквартированный в Кронштадте.
Военная служба не привлекала Надсона нисколько. В училище он был определен против своей воли. Ему страстно хотелось поступить в университет или в консерваторию: он недурно играл на скрипке и на рояле и горячо любил музыку. В 1880 году он записал в дневнике: «Общественная жизнь идет вперед! С каждым днем выступают новые труженики мысли и искусства, а я должен тратить время на военные науки, ломать и мучить себя во имя дисциплины и иметь в перспективе положение военного!»
«Труженики мысли и искусства» – среди них хотелось быть Надсону, а не в душной среде дворянского семейства Мамонтовых и не в кругу воспитанников военного училища. Надсон увлекался литературой, в детстве он поразительно много читал, читал без разбора, что попадалось под руку. «Тайны» разных дворов, Загоскин, Гончаров, Решетников, Лесков, Шиллер, Гофман, Ауэрбах – таков пестрый перечень авторов, о которых он упоминает в своем, не юношеском даже, а детском дневнике. Дневник он начал вести очень рано, лет одиннадцати-двенадцати, и с недетской серьезностью заносил на его страницы жизненные впечатления, слегка беллетризованные, юношеские стихи и размышления о жизни, чаще всего печальные, не без оттенка литературности, в духе Лермонтова, а иногда и прямо со ссылками на него. «Жизнь ведь, „как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка“, как сказал Лермонтов, а мое мнение, что и обидная вдобавок», – записал Надсон 10 февраля 1878 года, а двумя днями раньше, процитировав из «Демона»
И вновь остался он надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви,Надсон воскликнул: «Что ни говорите, а лучше Лермонтова нет у нас поэта на Руси. Впрочем, я, может быть, думаю и говорю так оттого, что сам сочувствую ему всей душой, что сам переживаю то, что он пережил и великими стихами передал в своих творениях».
Надсон начал писать стихи очень рано, еще в детском возрасте. В 1878 году он решился отнести свое стихотворение «На заре» в журнал Н. П. Вагнера «Свет», и оно было принято. Надсон с нетерпением ждал появления номера журнала. В дневнике появилась такая патетическая запись: «Я вступил теперь на дорогу, назад поздно, да и незачем: даль являет такой заманчивый призрак Славы, невидимый голос шепчет: „Иди вперед, вперед“, и я пойду вперед».
Судьба Надсона, таким образом, определилась: он стал профессиональным литератором, поэтом. Его стихи начали появляться в толстых журналах: «Свет», «Мысль», «Слово», «Русская речь», «Дело» и в других. Но самым важным событием в литературной судьбе Надсона было его сотрудничество в лучшем демократическом журнале его времени – в «Отечественных записках». В 1882 году его пригласил в этот журнал известный поэт А. Н. Плещеев, сочувственно отнесшийся к первым опытам Надсона. Плещеев помог молодому поэту своим участием, расположением и литературными советами. «Его я считаю своим литературным крестным отцом и бесконечно обязан его теплоте, вкусу и образованию, воспитавшим мою музу», – писал Надсон в своей автобиографии.
В 1884 году Надсон вышел в отставку и целиком отдался литературной работе. В 1885 году появился сборник его стихотворений, выдержавший при жизни поэта пять изданий. Критика заметила Надсона, читатели узнали и полюбили его, Академия наук удостоила его Пушкинской премии. «Заманчивый призрак Славы» перестал быть призраком и превратился в реальность. Но дни Надсона были уже сочтены. В своей автобиографии он написал: «В 1884 году начал умирать. Затем, – честь имею кланяться». Не помогло Надсону и лечение за границей – в Германии, Швейцарии, на юге Франции.
В последние месяцы своей жизни поэт стал предметом издевательских нападок со стороны реакционного критика В. П. Буренина, сотрудника газеты «Новое время». Буренин мстил Надсону за то, что тот задел его в одном из критических фельетонов в киевской газете «Заря», где Надсон в 1886 году выступал в качестве литературного обозревателя. «Предсмертные часы этого талантливого, чуткого, рано угасшего поэта были отравлены отвратительной, низкой, подлой травлей газеты „Новое время“», – писала большевистская «Звезда» в 1912 году (№ 4), выступая против попыток некоторых буржуазных журналистов обелить Буренина.
19 января 1887 года Надсон скончался в Ялте. Тело его было перевезено в Петербург. Молодежь несла гроб Надсона на руках до Волкова кладбища. Популярность поэта после его смерти не только не ослабела, но, напротив, еще более усилилась.
Надсон вошел в литературу в трудную, сказать кризисную, для русской поэзии пору. После смерти Некрасова достойного преемника ему не нашлось. К тому же под сенью политической реакции в восьмидесятых годах оживилась деятельность поэтов школы «чистого искусства». Большое влияние приобрел в ту пору патриарх «чистой» поэзии А. А. Фет, с 1883 года печатавший выпуск за выпуском свои поздние стихи, в которых еще более декларативно, чем раньше, провозглашались принципы «чистой поэзии». В это же время А. Н. Апухтин, также сторонник «чистого искусства», возобновил свою деятельность произведениями интимно-лирического характера. Вернулся в литературу и другой представитель этой же школы, К. К. Случевский, уже давно, казалось, бы, замолкший.
Появились и новые приверженцы «чистого искусства»; среди них – даровитый К. М. Фофанов, поэзия которого стоит уже в преддверии символизма, и несколько других, менее талантливых поэтов, как например А. А. Голенищев-Кутузов и С. А. Андреевский, чья. лирика вращалась в кругу узко личных мотивов с налетом- модного. пессимизма. Характерно, что к сборнику своих стихотворений Андреевский избрал такой эпиграф из Эдгара По: «Красота есть единственная законная область поэзии; меланхолия есть законнейший поэтический тон». Иной раз «чистая» лирика соединялась у этих поэтов с антидемократическими декларациями. Так, А. А. Голенищев-Кутузов в одном из стихотворений призывал, не верить тем, кто говорит: «свобода не обман».
Нет, други, – нет и нет! То лести звук пустой, То праздных слов игра, то призрак лишь свободы! Обманутые им волнуются народы, Мятутся вкруг него с надеждой и тоской…О том же с пафосом писал другой сторонник «чистого искусства», Д. Н. Цертелев:
Спешат безумные вожди, Впотьмах гоняются за призраком свободы, Сулят блаженство впереди И лишь на рабство злейшее ведут народы.Правда, поэты, подобные Голенищеву-Кутузову и Цертелеву, не делали литературной погоды: это были незначительные величины. Но и гражданская поэзия восьмидесятых годов также не была представлена сколько-нибудь крупными именами. Н. М. Минский, популярный в те годы поэт, близкий к народническим кругам и по духу своей поэзии созвучный Надсону, поддавшись реакционным веяниям времени, в 1884 году декларативно заявил об отказе от старых демократических традиций. В восьмидесятые же годы началась деятельность поэта-народовольца П. Ф. Якубовича, певца борьбы и жертвенного страдания, но, едва начавшись, была прервана на долгие годы арестом и каторгой.
В этих условиях поэзия Надсона должна была привлечь к себе, пристальное внимание. В его стихах звучали мотивы, отражавшие; гнет и давление общественных условий того трудного времени, когда он жил и писал, а печальная судьба и безвременная гибель молодого поэта, сошедшего в могилу под свист и улюлюканье реакционной газеты, приобрела как бы символическое значение.
2
Вскоре после смерти Надсона В. Г. Короленко в одном из писем своих так определил смысл и характер его популярности: «Я уверен, что большая часть стихотворений Надсона, будучи напечатано каждое отдельно и под другим именем, не произвели бы того обаяния, какое эти стихотворения производили в действительности на читателей покойного поэта. И это совершенно понятно. В нескольких выдающихся стихах Надсон заинтересовал читателя особенностями своей поэтической личности. Читатель его узнал, в его индивидуальности, и полюбил, полюбил известное лицо. С этих пор уже все, до этого лица относящееся, встречает симпатию и отклик, хотя бы это был элементарнейший лирический порыв, каких печатается бесчисленное множество… Тут немедленно к тому, что стоит на печатной странице в виде ряда букв и строчек, присоединяются живые черты уже известной нам прежде личности. Общий мотив облекается живою плотью».[2]
«Живую плоть» поэзии Надсона составил образ «лишнего человека» семидесятых-восьмидесятых годов, вырисовывавшийся в его стихотворениях. Сомнения и жалобы на судьбу, негодование при виде господствующего зла и сознание собственного бессилия, жажда борьбы и неумение бороться, личные неудачи и чувство обреченности целого поколения – все эти давно знакомые черты сознания «лишних людей» в своеобразном историческом перевоплощении возникли в поэзии Надсона и выступили как характерная особенность новой эпохи.
В этом была своя историческая логика. Трагические неудачи народнического поколения, вступившего в борьбу с пореформенным застоем и изнемогшего в этой борьбе, вновь вызвали к жизни, казалось бы, отошедший в далекое прошлое, развенчанный и осмеянный образ «лишнего человека». В народническом движении были свои борцы и мученики, люди бесстрашные и мужественные, не знавшие колебаний и раздвоенности, но если взять целое поколение, большую среду, окружавшую передовых борцов, то люди этого поколения и этой среды тяжело и горестно переживали крах своих надежд и ожиданий, колебались и мучились, от героических порывов переходили к унынию и жестоко страдали от своей раздвоенности. По своему психическому облику они во многом напоминали «лишних людей» сороковых годов.
Все это превосходно почувствовал и понял Тургенев, поставивший в центре романа о народническом движении «лишнего человека». новой формации. В самом деле, герой «Нови» Нежданов, олицетворяющий собою то демократическое поколение, которое выступило сразу вслед за Базаровым, оказался, однако, по основным чертам своего социально-психологического облика ближе к Рудину, чем к Базарову. С тургеневской «Новью» полемизировал А. Осипович-Новодворский в «Эпизодах из жизни ни павы, ни вороны», но под пером этого типичного семидесятника, разночинца и демократа опять-таки возникла фигура «лишнего человека», необычная и оригинальная, но все же недаром названная автором «ни павой, ни вороной» и прямо примкнувшая к галерее давно, казалось бы, исчерпанных > типов. Этот же образ создавал и В. М. Гаршин в своих рассказах о благородных неудачниках, возмутившихся против «мирового зла», но потерявших душевное равновесие и обессилевших в бесплодной, а иной раз даже иллюзорной борьбе.
Надсон в своей поэзии разрабатывал тот же тип, близко соприкасаясь по основным темам, мотивам и настроениям со своими демократическими современниками. Его герой ненавидит насилие и произвол, грубое «царство Ваала», ему претит «бесстыдное невежество» «наглой красоты» и «пошлый рай» мещанского благополучия («Цветы»). Он мечтает о коренном изменении мира, о приходе блаженной и счастливой поры, когда
…не будет на свете ни слез, ни вражды, Ни бескрестных могил, ни рабов, Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды, Ни меча, ни позорных столбов!(«Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат…»)
В дали веков он видит «праздник возрожденья», время, когда «радостно вздохнут усталые рабы, И заменит гимн любви и примиренья Звуки слез и горя, мести и борьбы» («Весенняя сказка»).
Это та же мечта, которая вдохновляла и героя гаршинского «Красного цветка», предвидевшего такое время, когда «распадутся железные решетки, все… заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте».[3] Это была та же мечта, которая владела не литературными героями, а многими реальными людьми семидесятых-восьмидесятых годов. В. Г. Короленко в «Истории моего современника» говорит о том, что у него, в пору его молодости, как и у других мечтателей его поколения и круга, была одна великая мысль. «Господствующей основной мыслью, – пишет он, – своего рода фоном, на котором я воспринимал и видел явления, стала мысль о грядущем перевороте, которому надо уготовить путь».[4] Ему думалось, что придет время, когда станет «новое небо и новая земля».
Это была мечта j гармоническом строе общества и человеческих отношений, мечта заманчивая и пленительная, но туманная и неясная. Неясны были конкретные очертания нового строя, нового мира, неясны были средства ее осуществления, и больше того – неясно было даже, осуществима ли эта мечта вообще. Зло казалось крепким и вечным, и Надсон в своих мечтах выражал чувство растерянности и бессильного недоумения
Пред льющейся века страдальческою кровью, Пред вечным злом людским и вечною враждой…(«Я не щадил себя: мучительным сомненьям…»)
Вот почему герой Надсона не только мечтатель, но и человек мучительных сомнений. Одно из лучших стихотворений Надсона начинается словами:
Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней, – Сын раздумья, тревог и сомнений…И в самом деле, герой Надсона подвергает сомнению все: светлые надежды юности, веру в братство, в борьбу, свое право на любовь и самое чувство любви. Уже в самых ранних стихотворениях Надсона появляется образ человека, сломленного жизнью, уставшего, отказавшегося от «дерзких мечтаний», от былых надежд.
Забыли мы свои желанья: Они прошли для нас, как сны, И наши прошлые мечтанья Нам стали странны и смешны, –пишет Надсон в стихотворении «Во мгле» (1878).
Наивно было бы видеть в таких стихах только автобиографические признания. Совершенно очевидно, что поэт претендует здесь не столько на личную исповедь, сколько на создание образа героя своего времени. Этот герой с детства узнал «яд тайных дум и злых сомнений» («В альбом», 1879), он, пережил крах каких-то юных надежд, он потерял прежнюю веру «в правду и людей», он стыдится своей «былой наивности» и остро чувствует горечь разочарования.
И за то, чем ярче были упованья, Чем наивней был я в прежние года, Тем сильней за эти детские мечтанья Я теперь томлюсь от боли и стыда…(«Муза, погибаю! Глупо и безбожно…», 1881)
Такое душевное состояние становится характерным признаком надсоновского героя не только в ранних, но и в зрелых стихотворениях.
Ты встретила меня озлобленным бойцом, Усталым путником под жизненной грозою, –говорит герой Надсона своей возлюбленной в одном из стихотворений 1883 года («Из песен любви»).
А я, – я труп давно… Я, рано жизнь узнал, Я начал сердцем жить едва не с колыбели, Я дерзко рвался ввысь, где светит идеал, – И я устал… устал… и крылья одряхлели, –сетует он там же. Это не мимолетное настроение, это – постоянный мотив, устойчивая психологическая черта. В одном из последних стихотворений слышны те же самые ноты, которые звучали в ранних опытах:
Изжита жизнь до дна! Назад не воротить Заносчивых надежд и дерзких упований! …Довольно!.. Догорай неслышно, день за днем, Надломленная жизнь! Тяжелою ценою Достался опыт мне.и т. д. («Весной», 1886)
Герой Надсона сомневается даже в идеале будущего счастливого строя, который, как мы увидим ниже, отстаивал сам, сомневается потому, что для его осуществления понадобятся бесчисленные жертвы:
Столько праведной крови погибших бойцов, Столько светлых созданий искусства, Столько подвигов мысли, и мук, и трудов, – И итог этих трудных, рабочих веков – Пир животного, сытого чувства!(«Нет, я больше не верую в ваш идеал…»)
Но не только «праведная кровь погибших бойцов» смущает поэта, он думает и о себе, о своих «слезах» и мучениях: в новом мире ему станет жаль этих мучений, к которым он привык, в которых видит свою миссию, свое назначение:
Ведь сердце твое – это сердце больное – Заглохнет без горя, как нива без гроз: Оно не отдаст за блаженство покоя Креста благодатных страданий и слез.(«Томясь и страдая во мраке ненастья…»)
Больше того, герой Надсона иной раз упивается страданиями, видя в них свое превосходство над довольною и сытою толпой:
Пусть из груди порой невольно рвется крик, Пусть от тяжелых мук порой я задыхаюсь, – Как новый Прометей, к страданьям я привык, Как новый мученик, я ими упиваюсь!..(«Как долго длился день!.. Как долго я не мог…»)
Надсон предвидит, наконец, и такую возможность: ценою жертв, крови и страданий осуществлен «заветный идеал», но человека мучит «пронзающий вопрос»:
Для чего и жертвы и страданья?.. Для чего так поздно понял я, Что в борьбе и смуте мирозданья Цель одна – покой небытия?Этим вопросом кончается стихотворение с характерным названием «Грядущее», а начинается оно утверждением:
Будут дни великого смятенья: Утомясь бесцельностью пути, Человек поймет, что нет спасенья И что дальше некуда идти…3
Недоверие к будущему, разумеется, лишало надсоновского героя сил для жизненной борьбы – тем более, что в настоящем он постоянно сталкивался с безысходным противоречием между личными стремлениями и объективными законами жизни. Это противоречие было источником пессимистических настроений людей народнического поколения, оно же лежало в основе «субъективной социологии», утверждавшей возможность жить и действовать, не считаясь с законами объективной необходимости.
В. Г. Короленко, вместе с другими людьми своего поколения воспитавшийся в атмосфере народнического волюнтаризма, писал в своей восточной сказке «Необходимость» о том, что божество необходимости «признает своими законами все то, что решит наш выбор. Необходимость – не хозяин, а только бездушный счетчик наших движений. Счетчик отмечает лишь то, что было. А то, что еще должно быть – будет только через нашу волю… Значит, – предоставим Необходимости заботиться о своих расчетах, как она знает».[5] Внешне все это звучало более чем оптимистично, по существу же такое решение вопроса не могло устранить тревожных и печальных размышлений над фатальным несоответствием стремлений благородных мечтателей с ходом истории, не оправдывавшей их ожиданий и надежд.
В стихотворении «Червяк, раздавленный судьбою…» (1884) Надсон с горечью и болью говорит о трагедии людей, «в бессильном озлобленьи» стремящихся повернуть к лучшему жизнь «толпы», которая идет своим путем, «как шла доныне». «И гаснет крик мой без следа, Крик вопиющего в пустыне!»
К этому прибавлялась еще трагическая тема бездушной природы, которая чарует человека своей красотой и одновременно подавляет его своей холодностью и безразличием.
Есть что-то горькое для чувства и сознанья В холодной красоте и блеске мирозданья…(«Не знаю отчего, но на груди природы…»)
И эта горечь заставляет больную мысль современного человека биться «над неразгаданным вопросом бытия»:
Зачем ты призван в мир? К чему твои страданья, Любовь и ненависть, сомненья и мечты В безгрешно-правильной машине мирозданья И в подавляющей огромности толпы?(«Случалось ли тебе бессонными ночами…»)
К тому же в сердце человеческом живёт «всем врожденная способность примиренья», а
…жизнь еще вокруг так чудно хороша, И в ней так много благ и кроме гордой воли!..Эта особенность человеческой души и есть самый страшный враг свободы, «страшней насилия, страданья и гоненья» («Есть у свободы враг опаснее цепей…»). Герою Надсона кажется иной раз, что борьба за свободу, за социальные преобразования, за счастье мира противоречит коренным свойствам человеческой природы. И если над его душой властно «мирящее искусство» и «красота» ему «внятна и нечужда», – ему не в чем упрекать себя («Не упрекай себя за то, что ты порою…»).
Сетования на современность, мысль о тщете социальных стремлений, о подавляющем бездушии природы и «подавляющей огромности толпы», мотивы пессимизма социального и космического – все это звучало порою как исповедь отступника. И все же это только кажется так на первый взгляд, потому что сомневающийся во всем герой Надсона сомневается и в своем праве на такого рода сомнение, то есть в своем праве на безверие.
Быть может, их мечты – безумный, смутный бред И пыл их – пыл детей, не знающих сомнений, Но в наши дни молчи, неверящий поэт, И не осмеивай их чистых заблуждений; Молчи иль даже лги: созрев, их мысль найдет И сквозь ошибки путь к сияющей святыне, Как путь найдет ручей с оттаявших высот К цветущей, солнечной, полуденной долине.В стихотворении «Из дневника» («Сегодня всю ночь голубые зарницы…») Надсон показывает своего героя в состоянии страстного стремления к личному счастью, которое в этот миг важнее для него, чем все прежде владевшие им мечты о благе людей. Но «демон тоски и сомненья» укоряет его в забвении прежних обетов: герой Надсона кается в своем малодушии и надеется сладить со своей слабостью, с «жаждой забвенья» и покоя. «Грезы былого», оказывается, по-прежнему сохраняют свою власть над ним, и «демон сомненья» не смеет касаться их своим «язвительным смехом».
Так сомнение переходит у Надсона в свою противоположность, в утверждение жизненных ценностей и в жажду веры.
Один из любимых героев древности для Надсона – Герострат, понятый им, в отличие от общепринятого взгляда, как человек «безжалостного сомненья»,
Сжигаемый своей мучительною думой, Страдающий своей непонятой тоской.«Геростратовское» начало дорого Надсону прежде всего потому, что оно разрушает младенческие иллюзии, наивные верования, надежды на «пошлый рай» мещанского благополучия. Это – противоядие против косности, застоя, обывательского нерассуждающего прекраснодушия.
В стихотворении «Я не щадил себя: мучительным сомненьям…» Надсон развертывает целую схему психологического развития своего героя. Его путь начинается с разрушения наивных младенческих мечтаний. Это первый этап, отправная точка эволюции. Затем герой стихотворения собирает «обломки от крушенья», «созидает и творит» в новый мир, воздвигает «новый храм» и стремится вперед, прозрев «истинного бога». И наконец; третий этап – это опять новые сомнения и тревоги, вызванные ощущением собственного бессилия перед прочностью – и неизменностью мирового зла.
Аналогичную идейную биографию, духовную драму поколения рисует Надсон в стихотворении «С тех пор как я прозрел, разбуженный грозою…». Сперва «детские грезы», развеянные жизнью, очень рано показавшей свою «позорную наготу», свою «жалкую дряхлость», потом жизнь, посвященная «страданью и борьбе» и в то же время полная сомнения, «сомненья в будущем, и в братьях и в себе…».
Я говорил себе: «Не обольщайся снами; Что дашь ты родине, что в силах ты ей дать? Твоей ли песнею, твоими ли слезами Рассеять ночь над ней и скорбь ее унять?..»А между тем «молчать в бездействии позорном» человек, смущаемый такими сомнениями, не может и не хочет. Мысль его не в состоянии прояснить «мучительный хаос», зато непосредственное чувство влечет его к деятельному стремлению «рассеять ночь» над родиной и «скорбь ее унять»..
В другом стихотворении, которое так же, как и предшествующее, носит характер психологической новеллы, перед нами сходный сюжет: герой долго ждал счастья, оно пришло, развеяло сумерки его души, но теперь ему «жаль умчавшихся страданий», он вспоминает «отголоски гроз недавнего ненастья», и голос совести твердит ему: «Есть дни, когда так пошл венок любви и счастья И так Прекрасен терн страданий за людей!..» («Из дневника», 1883).
Эти колебания чувств, вибрация настроений, переходы от одного душевного состояния к другому образуют у Надсона некое психологическое единство. В его поэзии «сомнения» не противостоят ни вере, ни борьбе за счастье мира. Это постоянные спутники, это явления одного порядка. Так устроен современный человек; в его сознания уживаются в противоречивом единстве жажда покоя и стремление к борьбе, вера и безверие, погружение в себя и желание прийти на помощь «страдающим братьям». В этой раздвоенности есть нечто ущербное, болезненное и слабое, но, по мысли Надсона, не мелкое, не примитивно эгоистическое, не узко личное. Все это естественно и законно, так как порождено крепостью неправды и потому при всей болезненности своей оправдано, оправдано объективными историческими (Обстоятельствами. Человек, больной такой болезнью и одержимый такими сомнениями, осуждения не заслуживает.
Выше, в другой связи, приводились уже характерные надсоновские слова: «Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней». В слабостях и недугах надсоновского героя виновато поколение, история, жизненные обстоятельства, против которых человек бессилен.
Наше поколенье юности не знает, Юность стала сказкой миновавших лет; Рано в наши годы дума отравляет Первых сил размах и первых чувств рассвет… –(«Наше поколенье юности не знает…»)
вот характерное самообвинение и в то же время самооправдание «лишнего человека» семидесятых-восьмидесятых годов, который понимает свои слабости и пороки, но винит за них исторические обстоятельства («наши дни», «наши годы»).
В том же стихотворении читаем: «О, проклятье сну, убившему в нас силы!..». То же и в другом стихотворении:
Путь слишком был тяжел… Сомненья и тревоги На части рвали грудь… Усталый пилигрим Не вынес всех преград мучительной дороги И гибнет, поражен недугом роковым…(«Нет, муза, не зови!. Не увлекай мечтами…»)
То же или подобное встречаем мы во многих и многих стихотворениях Надсона.
4
Задолго до Надсона один из тургеневских героев сказал о себе и о людях своего типа: «Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят» («Переписка»).[6] Таково же положение и самочувствие героя поэзии Надсона. Как и его далекий предшественник, он одновременно и осуждает и оправдывает себя, он видит свои слабости и свое бессилие и в то же время отказывается судить за это себя и себе подобных. Такие мотивы поэзии Надсона, как свидетельствует один из мемуаристов, вызвали суровое осуждение Н. Г. Чернышевского: «Нытье, не спорю, искреннее, – сказал он, – но оно вас не поднимает». Он видел у Надсона «обычные плещеевские мотивы с собственными вариациями»,[7] а в поэзии Плещеева сороковых-пятидесятых годов, как позднее у Надсона, вырисовывались контуры той самой «теории заедающей среды», с которой всегда полемизировали революционные демократы. Добролюбов, например, видел в этой теории характерную черту мировоззрения «лишних людей»; он писал об этом в статье «Благонамеренность и деятельность» по поводу повестей того же Плещеева, которого отнес к писателям тургеневской школы с ее постоянным мотивом: «среда заедает человека». Герои писателей этой школы, считал Добролюбов, и в самом деле находятся в полной и совершенной зависимости от окружающей среды. Сетуя на ее губительную силу, они пассивно подчиняются ей и не доходят до мысли о том, что если эта среда столь губительна для людей, то они должны были бы избавить себя от нее и решительно изменить ее характер. «Среда заедает людей», – считал Добролюбов, но, «заедая одних», она в то же время по этой же самой причине влечет других людей к противодействию я тем самым закаляет их. Что же касается «лишних людей», то они – пассивные жертвы этой среды, и только. Правда, они не сливаются с окружающим большинством, они искренне стремятся к тому, чтобы «людям было получше жить на свете, чтобы уничтожилось все, что мешает общему благу», но они «постоянно отличаются самым ребяческим, самым полным отсутствием сознания того, к чему они идут и как следует идти. Все, что в них есть хорошего, – это желание, чтобы кто-нибудь пришел, вытащил их из болота, в котором они вязнут, взвалил себе на плечи и потащил в место чистое и светлое».[8]
Нечто подобное было и с «лишними людьми» восьмидесятых годов. Ожидание сильного человека, вождя, учителя, пророка приобрело у Надсона патетический характер. Такой человек избавит от мук бессильного сомнения, он научит жить и бороться, он поведет за собой, – и тогда не страшны никакие страдания, не страшна даже сама смерть.
В стихотворении «Беспокойной душевною жаждой томим…» перед нами вырисовывается облик человека беспокойного, ненавидящего «будничный, мелкий удел»; он проводит свои дни
То за грудами книг, то в разгаре страстей… Под удары врагов и под клики друзей…Но в его сердце живет «глухая тоска», в груди – безнадежность, в очах – «зной недуга». Он-то и мечтает о вожде и пророке, приход которого избавит его от душевных терзаний.
Где ж ты, вождь и пророк?.. О, приди И стряхни эту тяжесть удушья и сна! Дай мне жгучие муки принять, Брось меня на страданье, на смерть, на позор, Только б полною грудью дышать, Только б вспыхнул отвагою взор!..Чему будет учить этот «пророк», во имя чего бросит он надсоновского героя «на страданье, на смерть, на позор», это не имеет решающего значения: для того чтобы вести за собой людей, нужна не истина, а фанатическая убежденность:
О, мне не истина в речах твоих нужна – Огонь мне нужен в них, горячка исступленья, Призыв фанатика, безумная волна Больного, дерзкого, слепого вдохновенья…(«Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи…»)
«Неверующий гений» и «пророк погибели, грозящей впереди» народу не нужен в те дни, когда у людей гаснет надежда, когда «ночь вокруг свой сумрак надвигает».
Пускай иной пророк, – пророк, быть может, лживый, Но только верящий, нам песнями гремит, Пускай его обман, нарядный и красивый, Хотя на краткий миг нам сердце оживит…(«В больные наши дни, в дни скорби и сомнений…»)
Измученный сомнениями, герой Надсона готов принять любой крест, «лишь бы' стихла боль сомненья рокового». Он восклицает: «На что б ни бросить жизнь, мне всё равно». И если «ничтожная среда не в силах выдвинуть пророка и безумца», то в этом беда и печаль современности:
Напрасно я ищу могучего пророка, Чтоб он увлек меня – куда-нибудь увлек, Как опененный вал гремучего потока, Крутясь, уносит вдаль подмытый им цветок…(«Напрасно я ищу могучего пророка…»)
Конечно, все эти возгласы о том, что человеку безразлично, куда и за кем идти, что истина не важна, что все дело в увлеченности и фанатизме, не следует понимать слишком буквально. Это не голос хладнокровного рассуждения, а голос скорби, эти возгласы характерны для такого душевного состояния, когда слова не взвешиваются на аптекарских весах. В общем строе лирики Надсона они означают жажду веры, определенного мировоззрения, крепкой убежденности. Надсоновекий «пророк» сродни тем «безумцам», о которых писал Беранже в стихотворении того же названия; это стихотворение, благодаря переводу Курочкина, было у всех на устах, а там были такие патетические возгласы:
Господа! Если к правде святой Мир дороги найти не умеет – Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! …Если б завтра земли нашей путь Осветить наше солнце забыло – Завтра ж целый бы мир осветила Мысль безумца какого-нибудь!Поэт называет имена таких безумцев; ими оказываются корифеи утопического социализма Сен-Симон, Фурье, Анфантэн, а в дали времен – тот безумец, который дал Новый завет, «ибо этот безумец был богом».[9] Строки о Новом завете Надсон вряд ли знал, так как они были вычеркнуты цензурой, но дело не в этом. Речь идет не о подражании, не о влиянии даже, а о том контексте, в котором воспринимались надсоновские настроения, мечты и призывы. Взывал ли поэт к «пророкам», прославлял ли он «безумцев» – было ясно, что речь идет о носителях и проповедниках освободительных идей. В этом же духе воспринимались и образы христианской мифологии, нередкие у Надсона, как и у многих других людей его круга я поколения. Здесь уже действовала традиция, сложившаяся в демократической поэзии. Плещеев, поэт-петрашевец, искал и находил в евангельской легенде мотивы подвига и гибели за правду.[10] Некрасов писал в 1874 году о Чернышевском:
Его еще покамест не распяли, Но час придет – он будет на кресте; Его послал бог гнева и печали Царям земли напомнить о Христе.У многих народнических революционеров их демократические идеи расцвечивались евангельскими красками. Отчасти это было продиктовано стремлением найти общий язык с религиозно настроенным крестьянством, отчасти в этом сказывалась идейная слабость народнического мировоззрения, но в любом случае евангельские образы И мотивы Наполнялись вполне, конкретным политическим смыслом и настроениями социального протеста.
Нечто подобное было и у Надсона. Разрабатывая евангельские темы, он всегда стремился подчеркнуть, что в его трактовке они имеют очень мало общего с официальным церковным учением. В евангельской легенде его привлекали прежде всего мотивы жертвенности, гибели за правду, во имя любви к людям. Его влекло к себе «обаянье не власти царственной, но пытки и креста». Он писал: «Мой бог – бог страждущих, бог, обагренный кровью» («Я не тому молюсь, кого едва дерзает…»). Такие образы не случайно возникали в конце семидесятых и в восьмидесятых годах, когда жестокие преследования демократических деятелей придавали обаяние теме подвижнической готовности идти «на пытку и крест» за свои заветные убеждения.
В самом начале своей деятельности, в 1878 году, шестнадцатилетний Надсон написал поэму «Христианка», в которой передал «глубокой древности сказанье» о том, как знатный римлянин Альбин, движимый любовью к молодой христианке, понял ее убеждения, перешел в лагерь гонимых и разделил с ними их страшную участь.
Простой народ тепло и свято Сумел в преданьи сохранить, Как люди в старину, когда-то, Умели верить и любить!.. –так кончается эта поэма, и в ней речь идет именно о том, что больше всего манило Надсона, – о способности «верить и любить», о готовности жертвовать собой ради выстраданной правды.
Времена первых христиан не у одного Надсона вызывали сближения с современностью. Когда в 1877 году была в Петербурге выставлена картина известного художника Г. И. Семирадского «Светочи христианства», на которой изображено было сожжение Нероном христиан как врагов государства, то на эту картину откликнулись многие писатели и критики, в том числе В. М. Гаршин и Н. К- Михайловский. Гаршин, рассказывая содержание картины, говорил о невинно осужденных страдальцах таким тоном, как если бы речь шла о его современниках. Он обратил, между прочим, внимание на фигуру смуглого юноши, приехавшего, очевидно, из дальних стран, чтобы подивиться владычествующему над миром человеку и городу-царю. «И вот перед ним привязанные к позорным столбам люди, которых сейчас будут жечь… Может быть, одно слово отречения освободит их, но они не отрекаются. Что же это такое?»[11] Н. К. Михайловский спрашивал: «Что такое эти засмоленные люди на картине Семирадского? Первые христиане, рабы, обездоленные, забитые, из которых самые видные были „рыбари“, чуть что не бурлаки, да еще римские кающиеся дворяне, отрекшиеся от старого мира».[12] Критик упрекнул художника, почему в его картине нет этих римских «кающихся дворян». «На деле, – писал он, – нередки были переходы… из рядов гонителей в ряды гонимых».[13] Никому не ведомый тогда молодой поэт как бы восполнил пробел, который Н. К. Михайловский усмотрел в картине известного художника: в его юношеской поэме воспет подвиг такого «кающегося дворянина» давно минувших «седых времен», который- нашел в себе нравственную стойкость н силу убеждения для того, чтобы отречься от старого мира без колебаний и сомнений, В себе и людях, себе подобных, Надсон ни тогда, ни позже не видел такой силы, и в этом был один из главных источников его трагизма.
Такие настроения были как нельзя более характерны для народнического поколения, многие представители которого, в особенности из числа рядовых, жестоко страдали от постоянных разочарований, вызванных неразделенной любовью к народу и безысходным противоречием между романтическими мечтаниями и реальным ходом жизни. «Хождение в народ» закончилось тяжкой неудачей, народовольческая борьба без народа завершилась катастрофой 1 марта 1881 года, катастрофой вдвойне трагической, потому что по видимости это была полная победа, а по существу – полное поражение. Что делать – было неясно, во что верить – еще более неясно. В этих условиях и возникал как характерная психологическая черта времени своеобразный комплекс противоречивых настроений: безверие и стремление избавиться от него во что бы то ни стало, любой ценой. Еще тургеневский Нежданов, герой «Нови», уже упоминавшийся выше, за несколько лет до Надсона рассуждал и чувствовал совсем почти по-надсоновски: «Нужно верить в то, что говоришь, а говори, как хочешь! Мне раз пришлось слышать нечто вроде проповеди одного раскольничьего пророка. Черт знает, что он молол… Зато глаза горят, голос глухой и твердый, кулаки сжаты – и весь он как железный! Слушатели не понимают – а благоговеют! И идут за ним. А я начну говорить – точно виноватый, все прощения прошу».[14]
В то время, когда писал Надсон, воззвания к «вождю и пророку», который должен прийти и увлечь людей за собой, находили идейную опору в народнической теории «героев и толпы», сформулированной с особенной резкостью Н. К. Михайловским в статье «Героя и толпа» (1882). В этой статье он писал о том, что при современном общественном строе люди подавлены однородностью и, скудостью впечатлений. В этих условиях сознание и воля тускнеют, люди впадают в состояние почти гипнотической пассивности, и тут человек инициативы, бурного порыва или сильной воли может увлечь за собой людей на любое дело, доброе или злое, на подвиг или преступление. Как известно, эта теория легла в основу практических действий народников и привела их к многим политическим ошибкам. У некоторой части демократической интеллигенции взгляды и настроения, родственные идеям Михайловского, породили то страстное ожидание «вождя» я- «пророка» и то чувство пассивной жертвенности, которое мы видим в поэзии Надсона.
5
Однако в этом комплексе идей и чувств, которые с глубокой искренностью выражал в своей поэзии Надсон, была и другая сторона. Остро чувствуя свое бессилие и ожидая помощи со стороны, от других людей, более сильных и глубоко верующих в свое дело, Надсон завидовал мужественным борцам против «царства Ваала», людям революционного темперамента, преклонялся перед ними и сам хотел бы стать таким же, как они.
В одном из стихотворений 1885 года («По смутным признакам, доступным для немногих...») у Надсона возникает образ девушки подвижнического, революционного типа, с вдумчивым взглядом. Она резко выделяется из обывательской толпы. «Иная скорбь тебя над нею возвышала, Иная даль звала, иная жгла вражда…». Поэт горько сожалеет о ней, он знает, что ее ожидает тяжелая участь, а в последнем итоге, быть может, самое страшное – «поруганная жизнь и жалкое ничто». Но, обращаясь к ней, он восклицает:
И всё-таки иди – и всё-таки смелее Иди на тяжкий крест, иди на подвиг твой, И пусть бесплоден он, но жить другим светлее, Молясь пред чистою, возвышенной душой!Это уже нечто вроде надсоновского гимна «безумству храбрых», а девушка, воспетая здесь, похожа на героиню тургеневского «Порога» или на одну из тех русских женщин, которые вдохновили Тургенева на создание его знаменитого стихотворения в прозе.
В другом стихотворении того же года Надсон создает образ человека, который с детских лет почувствовал, что родился на свет «могучим орлом» и не может бесполезно и слепо влачить свою жизнь день за днем.
Пусть же рано паду я, подломлен грозой, Но навеки оставлю я след за собой. Над людьми и землей, как стрела, я взовьюсь, Как вином, я простором и светом упьюсь, И вдали я обещанный рай разгляжу И дорогу к блаженству толпе укажу!..(«Не хотел он идти, затерявшись в толпе…»)
В сущности, здесь та же тема, что и в предшествующем стихотворении, то же настроение и родственный образ: это человек борьбы и сурового мужества, один из тех людей, которые влекут к себе поэта, вызывая его восхищение и зависть.
И больно мне, что жизнь бесцельно догорит, Что посреди бойцов – я не боец суровый, А только стонущий, усталый инвалид, Смотрящий с завистью на их венец терновый…(«Как каторжник влачит оковы за собой…»)
Эти слова многое объясняют в поэтическом мировоззрении Надсона и в психологическом облике его героя. «Стонущий инвалид», он склоняется к всеобщей любви и примирению («Я божеством избрал любовь и всепрощенье…»), он хочет разнять борющихся людей, «говоря им о правде и боге» («По следам Диогена»), он колеблется и рефлектирует, погружается порой в стихию пассивного созерцания, мечтает о будничном труде и малых делах едва ли не в духе пресловутой «Недели», в которой, кстати сказать, Надсон сотрудничал в 1884 году:
Пускай венки побед других к себе влекут, Тех, кто еще кипит отвагою орлиной, А мне хватило б сил на мой заветный труд, На незаметный труд, упорный, муравьиный!..(«Весной»)
И в то же самое время, как человек, сочувствующий «борцам суровым» и с завистью смотрящий на их «терновый венец», он понимает поэзию грозы и бури и хочет быть ее выразителем. В стихотворении «Я плакал тяжкими слезами…» он отказывается от кротких мечтаний и надежд, от слез «грусти и любви»:
И свет блеснул передо мною И лучезарен и могуч, Но не надеждой, а борьбою Горел его кровавый луч. То не был кроткий отблеск рая – Нет, в душном сумраке ночном Зажглась зарница роковая Грозы, собравшейся кругом!..Так, казалось бы, неожиданно для Надсона, в его поэзии начинают звучать энергичные ноты и слышатся грозовые звуки; появляется у него, тоже, казалось бы, неожиданно, символический мотив буревестника:
Чу, кричит буревестник!.. Крепи паруса!И дальше – сильная картина бури, завершающаяся патетическим возгласом, резко контрастным по отношению к обычным надсоновским сетованиям на болезнь и бессилие:
Как прекрасен и грозен немой ее лик! Как сильны ее черные крылья!В таком психологическом состоянии герой Надсона стремится к( народной массе, к «толпе» и призывает других слиться с ней:
Приди же слиться с ней: не упускай мгновенья, Когда болезненно-отзывчива она, Когда от пошлых дел и пошлого забвенья Утратой тягостной она пробуждена.(«В толпе»)
Перенося эти настроения в повседневную жизнь современной ему литературы, поэт находит гневные слова против «мелких вожаков» пестрых журнальных партий с их мелкими распрями, против героев «лживых фраз, надуто-либеральных» и зовет к прямой и непреклонной борьбе словом и делом:
Не гонись за шумом быстрого успеха, Не меняй на лавр сурового креста, И пускай тебя язвят отравой смеха И клеймят враждой нечистые уста!..(«Сколько лживых фраз, надуто-либеральных…»)
В другом стихотворении, начинающемся характерным призывом: «Певец, восстань! Мы ждем тебя – восстань!..», речь уже прямо идет о народном гневе, который растет во время предгрозовой тишины, растет, «как буря в океане», и о врагах, которые пока еще беспечны и сильны, но чей пир – «безумцев пир на пышущем вулкане». Страна «готовится к решительному бою», и поэт должен звать к борьбе:
Пускай же песнь твоя, как отдаленный гром, Грядущую грозу свободно возвещает, Звучит пророчеством и с гордым торжеством Врага язвит и поражает!..«Грядущая гроза», «народный гнев», «решительный бой», «тишина перед грозою» – это уже лексика и образность политической, революционной поэзии, и это не случайные настроения, не мимолетные порывы, а органическая составная часть поэтического мировоззрения Надсона. «Усталый пилигрим» тяготился своей усталостью и стремился избавиться от нее. Поэт, пришедший в жизнь «с светлым гимном любви всепрощающей», сожалел о том, что он миролюбив и безоружен, что в его руке нет меча, а в душе «злобы карающей» («С каждым шагом вперед всё черней и грозней…»). Он стремился обрести этот поэтический меч и воспитать в себе эту благородную злобу.
6
В духовном облике героя поэзии Надсона есть черты внутреннего родства с передовыми людьми как сороковых годов, так и шестидесятых. Подобно своим предшественникам – Огареву, Плещееву или Некрасову, – он понимает личное счастье только в связи с общественным благом. Он не хочет знать самодовлеющей красоты, независимой от человеческого благополучия. Любовь он воспринимает не как стихийную силу, порабощающую человека, а как идейное содружество и братство. Любовная поэзия Надсона вся пронизана этой идеей.
В любовную лирику Надсон вносит раздумья и нравственные тревоги, характерные для разночинца и демократа его времени. Для влюбленных в поэзии Надсона
Жизнь – не праздник, не цепь наслаждений, А работа, в которой таится подчас Много скорби и много сомнений…(«Позабытые шумным их кругом – вдвоем…»)
Герой любовной лирики Надсона часто бывает подавлен Социальными контрастами большого города, и эта печаль, эта нервозность накладывает свой тревожный отпечаток на его любовное чувство. В стихотворении «Цветы» герой Надсона осенним вечером идет к своей возлюбленной, идет измученный трудным днем, «с усталостью на сердце и во взоре», чтобы отдохнуть в теплом уголке, где его ждут «тетради нот и свечи на рояли, и ясный взгляд…». Но внезапно он видит залитое светом окно, в котором выставлена драгоценная оранжерея прекрасных цветов, и мечты об отдыхе вдвоем мгновенно теряют свое обаяние; радость предстоящей встречи безнадежно омрачена.
В любовных монологах надсоновского героя звучат иной раз слова разуверения: он боится связать свою судьбу, трудную судьбу человека, который «начал сердцем жить едва не с колыбели», с жизнью неопытного существа с едва проснувшейся душой.
Не торопись же мне любовь свою отдать, Не наряжай меня в цветы твоих мечтаний, – Подумай, в силах ли ты без конца прощать, Не испугаешься ль грядущих испытаний?(«Из песен любви»)
В другом стихотворении он предупреждает свою возлюбленную:
Не принесет, дитя, покоя и забвенья Моя любовь душе проснувшейся твоей: Тяжелый труд, нужда и горькие лишенья – Вот что нас ждет в дали грядущих наших дней!Это своеобразное испытание любви, нечто вроде того испытания, какому подверг Инсаров в «Накануне» свою невесту: «Ты знаешь, что я беден, почти нищий?.. Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне… что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?»[15] Подобно Инсарову, герой Надсона зовет свою возлюбленную «из теплого гнезда, от близких и любимых», зовет ее «для мук и жертв невыносимых, В ряды истерзанных, озлобленных бойцов». И так же, как в «Накануне», испытание кончается победой любви и долга, отзывчивости, верности «заветам совести и родине своей» («Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»).
Во времена Надсона, для его современников это была не просто литературная тема. Это была сама жизнь, не раз ставившая люден перед неизбежностью подобных испытаний. Вспомним страницы из дневника молодого Чернышевского, в котором записаны его разговоры с невестой. Эти любовные диалоги также полны разуверений, отрезвляющих слов, суровых предупреждений, в них также звучит мотив серьезного, решающего любовного испытания: «Итак, я должен ехать в Петербург…Я не буду иметь ничего по приезде туда; как же я могу явиться туда женатым? С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что Я не уверен в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой».[16] И рассказ об этих разуверениях носит характерное название: «Дневник моих отношений с той, которая составляет теперь мое счастье». Такова была любовь людей шестидесятых годов; поэзия и психология такой любви сохранилась надолго, и, как мы видим, все эти настроения ясно дали себя знать в любовной лирике Надсона.
Важно также и то, что герой Надсона – не праздный ленивец, не воспитанник барской усадьбы, которого «наследье богатых отцов освободило от малых трудов», а разночинец, бедняк, природный горожанин, человек труда.
Столица чутко спит… В полуночной тени Встают домов ее стоокие громады; Кой-где дрожат еще последние огня, – Рабочей лампы свет или огонь лампады…(«Ночь медленно плывет… Пора б и отдохнуть…»)
При свете рабочей лампы в какой-нибудь Каморке трудится литературный поденщик или студент, один из тех, от лица которых говорит в своих стихах Надсон.
7
И все же, при всей своей близости к передовым предшественникам, герой поэзии Надсона – не борец и не деятель, не человек порыва и страсти; он человек «головной», привыкший к рефлексии и анализу. В стихах Надсона больше размышлений, чем исповедей.
Я не знаю в груди беззаветных страстей, Безотчетных и смутных волнений. Как хирург, доверяющий только ножу, Я лишь мысли одной доверяю…(«Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней…»)
Таковы характерные автопризнания Надсона.
В самом деле, в поэзии Надсона нет ничего «безотчетного и смутного», в ней господствует логика. Стихотворения Надсона часто строятся по логической схеме. Выше говорилось уже в другой связи о стихотворении «Я не щадил себя…», построенном по принципу логической триады. Длинное стихотворение «Грезы» также построено по логическому принципу. Оно делится на две части, обозначенные цифрами. Под цифрой 1 рассказывается о юношеских мечтаниях поэта и под цифрой 2 – о том, как перевоплотились эти мечты в реальной жизни. Стихотворение «Поэт» распадается на две части, так же четко, графически разграниченные. В одной части речь идет о поэте гражданского направления, в другой – о поэте «чистого искусства»; каждая часть имеет одинаковое окончание, точно итог, очень ясно отделенный от остального текста; начальные строки каждой части строго симметричны идейно и лексически. Одна часть начинается так: «Пусть песнь кипит огнем негодованья», вторая оформлена по строгому принципу контраста: «Пусть песнь твоя звучит, как тихое журчанье». В стихотворении «Осень, поздняя осень!.. Над хмурой землею…» три части: сперва картина осени и соответствующее ей осеннее настроение: грустные думы, тоскливые грезы, призраки смерти; затем – весенний пейзаж и весенние настроения, стремление «в ясную даль», вера «в далекое счастье» и, наконец, в итоге – размышление о ничтожности человеческого сердца, послушно подчиняющегося мертвой природе.
Иной раз у Надсона эта схема усложняется, как например в стихотворении «Мелодии», где каждая часть (их всего три) заключает в себе контрастные элементы, своеобразные тезис и антитезис. В первом отрывке – антитеза дня и ночи, причем дневная жизнь полна «дум, страданья и сомненья», зато ночью веет «дух немой, тихий гений примиренья». Во втором отрывке – картина грозы, тут же сменяющейся тишиной и прохладой; при этом автору так важна четкая антитетичность построения, что его не удовлетворяет даже временная последовательность контрастных явлений, он их дает рядом: на одной половине неба – уходящая гроза, на другой – «В сияющей звездной лазури Душистая полночь плывет». В третьем отрывке все построения второго переносятся в область душевных явлений, и порывы мученья вместе с минувшей грозой сменяются счастьем, покоем и миром «упованья». Таким образом третий отрывок на иной основе возвращает нас к первому, а второй приобретает характер аллегории.
И так во многих стихотворениях: логическое чередование частей, стремление к симметрии, к четким антитезам, к логически ясным аллегориям. Надсон ничего не оставляет на долю догадок и не доверяет интуиции читателя. Он стремится все назвать, обозначить и сформулировать. Он часто заключает свои стихотворения итоговой концовкой, выводом, поучением. Возьмем его стихотворение «Неужели сейчас только бархатный луг...». Это один из лучших стихотворных пейзажей Надсона, с настроением, с выразительными образами, как такой, например:
Неуклюжая туча ползет, как паук, И ползет – и плетет паутину теней!..Эта туча, возникшая среди ясного знойного дня, наделает много бед:
Облетят лепестки недоцветших цветов… Сколько будет незримых, неслышных смертей, Сколько всходов помятых и сломанных роз!..Пейзаж превращается в аллегорию, и логическое начало, таким образом, торжествует полную победу. Но Надсону недостаточно этого. Он заканчивает стихотворение поучительной концовкой, формулирующей его логический смысл, и без того ясный:
А не будь миновавшие знойные дни Так безоблачно тихи, светлы и ясны, Не родили б и черную тучу они – Эту черную думу на лике весны!..Надсон любит афоризмы и сентенции и нередко помещает их на «ударные» места своих стихотворений: в начало или в конец. Вот несколько примеров: «Только утро любви хорошо...» – это начало одного стихотворения Надсона.
Твоя любовь казалась мне слепой, Моя любовь – преступной мне казалась!.. –это финал другого его стихотворения («Цветы»).
Она – из мрамора немая Галатея, А я – страдающий, любя, Пигмалион –это концовка стихотворения «Не знаю отчего, но на груди природы..», где речь идет о соотношении человека и природы.
Жизнь – это серафим и пьяная вакханка, Жизнь – это океан и тесная тюрьма! –этим эффектным афоризмом заканчивается стихотворение «Жизнь».
Облетели цветы, догорели огни, Непроглядная ночь, как могила, темна!.. –так кончаются первая и последняя строфы стихотворения «Умерла моя муза!..». Наконец, знаменитое надсоновское четверостишие «Не говорите мне „он умер“. Он живет!..» – это цепь афоризмов, построенных как рассуждение – с тезисом в начале и тремя аргументами, следующими за ним. Каждый «аргумент» представляет собой поэтическую антитезу смерти и бессмертия. Логическая конструкция всего произведения еще более подчеркивается синтаксическим строением каждого «аргументирующего» стиха, начинающегося с уступительного союза «пусть».
Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает, Пусть роза сорвана – она еще цветет, Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает!..Любопытно, что это маленькое стихотворение Надсона построено по всем правилам ораторской речи: положение, доказательства, поэтические уподобления, одинаковое начало каждого «доказательства», четкое отделение одной части целого от другой.
По такому же принципу построено стихотворение «„За что?“ – с безмолвною тоскою…». Первые пять стихов формулируют самый вопрос «за что?» – вопрос, который светится во взоре женщины, ставшей жертвой постыдной клеветы. Остальные восемь стихов – это ответ на вопрос, поставленный в первой части, причем каждое Двустишие имеет одинаковое начало: «За то…»
За то, что жизни их оковы С себя ты сбросила, кляня; За то, за что не любят совы Сиянья радостного дня; За то, что ты с душою чистой Живешь меж мертвых и слепцов; За то, что ты цветок душистый В венке искусственных цветов!..Итак, две части: одна – вопрос («за что?»), другая – ответ («за то») или, точнее, цепь однотипных ответов, причем каждый ответ укладывается в два стиха, не больше и не меньше, а каждое двустишие заключает в себе противопоставление героини обществу, и ничего сверх этого. Все стихотворение построено словно по геометрическому чертежу, притом с явной установкой на ораторский принцип нагнетания логических элементов речи – доказательств, примеров, тезисов. Даже прямое обращение поэта к героине стихотворения, оскорбленной женщине с «кротким взором», не спасает от ощущения, что перед нами не столько любовное объяснение, сколько тщательно подготовленная и логически отточенная речь адвоката, оспаривающего в судебном заседании «врагов, суровый приговор». И это характерно не только для данного стихотворения, но для тенденций надсоновской поэзии вообще. Его стихи- не размышления поэта наедине с собой, а рассуждения вслух, обращенные к большой аудитории, иной раз рассчитанные на чтение с эстрады. Недаром Надсон имел большой успех как исполнитель своих стихов на публичных вечерах, а после смерти поэта его стихотворения на долгие годы стали излюбленным декламационным материалом.
С афористичностью поэзии Надсона как нельзя более гармонирует и его тяготение к аллегориям и абстракциям, которыми насыщен его поэтический словарь: идеал и царство Ваала, свет и мрак, любовь и вражда, лавр и терн, меч и крест, сомнение и вера, раб и пророк – таковы аллегорические абстракции-антитезы, к которым сводит Надсон все многообразие житейских коллизий и психологических драм своего времени. Нечего и говорить о том, что пристрастие к абстракциям и аллегориям обедняло Поэзию Надсона и упрощало жизнь в его изображении. Но в это же время эти аллегории и абстракции помогали Надсону сводить частные вопросы эпохи к наиболее общим проблемам современного ему добра и зла, они придавали его поэзии особую декламационную действенность и усиливали ее ораторский пафос.
8
В свои ораторские монологи Надсон любил вставлять эффектные аллегорические образы и легенды. При всей глубокой искренности своей, он ценил красивое слово и облекал свой трагизм в нарядные одежды.
Некрасов писал в свое время:
Нет в тебе поэзии свободной, Мой суровый, неуклюжий стих.В этом же духе не раз высказывались и прозаики, воспитавшиеся в принципах шестидесятых годов. Глеб Успенский считал свою деятельность только черновой работой литературы, необходимой для того, чтобы подготовить новое общество, в котором искусство «будет служить оправой» для моментов радости, «как бы бриллиантов, и тогда они будут издали ярко сверкать как в книгах, так и в жизни».[17] В. Г. Короленко говорил о писателях восьмидесятых годов: «Наши песни, наши художественные работы – это взволнованное чирикание воробьев во время затмения, и если бы некоторое оживление в этом чирикании могло предвещать скорое наступление света, то большего честолюбия у нас – „молодых художников“ – и быть не может».[18]
Им вторил и Надсон:
Это не песни – это намеки: Песни невмочь мне сложить; Некогда мне эти беглые строки В радугу красок рядить…Но у него это было только декларацией. Он-то именно и стремился рядить в радугу красок все, о чем писал, и в этом стремлении своем нередко сближался с поэтами школы «чистого искусства». Изображая в некоторых стихах «нарядную красоту» южных пейзажей, он с полной искренностью говорит о своей любви к суровой природе родной страны («Снова лунная ночь…», «Я пригляделся к ней, к нарядной красоте…»). Характерно, однако, что звуки и краски он находит именно для изображения этой «нарядной красоты»: залив у него «облит серебром», и «жемчужная пена» серебрит камни, и кремнистый берег спускается к морю «сверкающим скатом». Мы видим в его стихах«…и длинный ряд синеющих холмов, И Пальм развесистых зубчатые короны, И мрамор пышных вилл, и пятна парусов, И вкруг руин – плюща узоры н фестоны». В стихотворении «Олаф и Эстрильда»
Льют хрустальные люстры потоки лучей, Шелк, алмазы и бархат блистают кругом…В первоначальной редакции стихотворения «Мечты королевы»:
Эта страстная ночь и зовет и томит, Эта знойная ночь, как вакханка, пьяна, Сад и спит и не спит, – и над садом стоит В полном блеске лучей золотая луна. …И сверкают узорные цепи огней, И фонтаны по мрамору нежно журчат…И эта «нарядная красота» возникает не только в разработке экзотических сюжетов. В стихотворении «Весной» поэта «зовет с неотразимой властью Нарядная весна в заманчивую даль, К безвестным берегам, к неведомому счастью». В другом стихотворении герою Надсона снится вечернее небо
И крупные звезды на нем, И бледно-зеленые ивы Над бледно-лазурным прудом…Героиня этого поэтического сна плачет, и
…Светлые слезы Катились из светлых очей, И плакали гордые розы, И плакал в кустах соловей.(«Грезы»)
Но не только о природе и любви пинает Надсон так нарядно. Он вносит порою «радугу красок» даже в описание самых мрачных своих настроений и самых тяжелых раздумий. Так, в известном стихотворении «Умерла моя муза!..», где речь идет о «скорби и ранах», о «бессильных слезах», мотив духовного крушения поэта выражен в нарядных афористических уподоблениях: «Облетели цветы, догорели огни», «Он растоптан и смят, мой душистый венок…». В том же стихотворении Надсон так характеризует свои поэтические возможности:
Захочу – и сверкающий купол небес Надо мной развернется в потоках лучей, И раскинется даль серебристых озер, И блеснут колоннады роскошных дворцов, И подымут в лазурь свой зубчатый узор Снеговые вершины гранитных хребтов!..И он часто хотел этого. В стихотворении «На мгновенье» Надсон создает такую поэтическую аллегорию: люди томятся в темнице, но, «заглушив в себе стоны проклятий», они не желают видеть своей темницы:
Пусть нас давят угрюмые стены тюрьмы, – Мы сумеем их скрыть за цветами, Пусть в них царство мышей, паутины и тьмы, – Мы спугнем это царство огнями…Для поэзии Надсона характерно, однако, что в этом же стихотворении возникает иная тема, иной образ: поэт предвидит появление человека, вовсе не склонного уходить в мир вымыслов, цветов и огней, появление того,
Кто, осмелившись сесть между нами, Станет видеть упрямо всё ту же тюрьму За сплетенными сетью цветами; Кто за полным бокалом нам крикнуть дерзнет, К нам в слезах простирая объятья: «Братья, жадное время не терпит, не ждет! Утро близко!.. Опомнитесь, братья!»Очевидно, в своей поэзии Надсон и хотел быть таким человеком. Можно даже сказать, что он и был им. Он никогда не отворачивался от страданий и бед своего времени и своего поколения, но свои страдания, вполне искренние, свою скорбь, жалобы, сетования и гражданские призывы он украшал «цветами» и «огнями», афоризмами и сентенциями, красивыми словами и музыкальной напевностью стиха.
Вот почему Надсон не отвергал культ красоты в творчестве поэтов «чистого искусства», хотя и отдавал явное предпочтение поэтам гражданского направления. Он видел назначение поэзии в том, чтобы в эпоху безвременья и безверия поднимать угасшую веру, разгонять «сомнения», помогать отзывчивым словом «всем, кто ищет и просит участья, Всем, кто гибнет в борьбе, кто подавлен нуждой, Кто устал от грозы и ненастья» («Если душно тебе, если нет у тебя…»). В годы разочарования в народе он призывал поэтов не презирать толпу, помнить о тех мгновениях, о тех периодах, «когда перед тобою Не жалкая раба с продажною душою, – А божество-толпа, титан-толпа!..». Он произносил слова сурового осуждения тем, кто уединяется от массы, кто любит ее Издали, а «чувствует один». Истинный поэт в его глазах – это «певец и сын» толпы («В толпе»). Даже если «толпа» бездушна, поэт все равно органически не может отвернуться от нее: он навсегда связан с ней тяжкими цепями, цепями сочувствия, любви и долга: «И будешь ты страдать и биться до могилы, Отдав им мысль твою, и песнь твою, и кровь…» («Напрасные мечты!.. Тяжелыми цепями…»). Истинный поэт у Надсона не поддается «словам искушенья», он умеет побороть соблазн «полдороги». Он идет к людям,
…чтоб пропеть о голодной нужде, О суровой борьбе и суровом труде, О подавленных, гибнущих силах, О горячих, беспомощных детских слезах, О бессонных ночах и безрадостных днях, О тюрьме и бескрестных могилах…(«Певец»)
Он декларативно отказывается от поэзии «молитв», цветов и соловьиных песен. Такая поэзия умерла «для черствых наших дней»: «Поэзия теперь – поэзия скорбей, Поэзия борьбы, и мысли, и свободы» («Поэзия»). Поэт, по Надсону, не тешит людей сладостными обманами, он видит и показывает изнанку явлений и вещей, их скрытую суть. «Встречая ясный май», поэт не обольщается его цветущей красотой. Он знает,
…что весной и змеи оживают И из своих подземных нор В залитый солнцем сад погреться выползают На мягкий воздух и простор…(«Весна, весна идет!.. Как ожила с весною…»)
Надсон сетует на то, что современные художники и поэты, вызывающие восторг и поклонение толпы, в сущности, недостойны этого поклонения. Они на беду свою личную и на беду людей, им верящих, вовсе не герои, а обыкновенные люди из образованного меньшинства, люди с больной душой, изъеденной рефлексией и себялюбием. Только «в печальные дни» современного разброда могут они вызывать хвалу, исторгать слезы и смех («Видишь – вот он! Он гордо проходит толпой…»).
В незаконченном стихотворении «Музе» у Надсона звучат суровые интонации, восходящие к некрасовским поэтическим декларациям:
Долой с чела венец лавровый, – Сорви и брось его к ногам: Терн обагренный, терн суровый Один идет к твоим чертам…Однако для Надсона в высшей степени характерно, что, отстаивая суровую поэзию «обагренных тернов», он в то же время в своих стихах о поэзии не раз признавался в зависти к поэтическим счастливцам минувших эпох, к тем поэтам, в чьих «гимнах» «струилось дыханье эдемских садов» и звучали песни любви, дошедшие до нас «невредимо и свято» «сквозь бессильную давность годов» («В мире были счастливцы, – их гимны звучали…»). Невозможная в наше печальное и трудное время, «чистая поэзия» представляется ему возможной в принципе и уж во всяком случае вполне законной в те далекие времена, когда она только «сошла в наш мир». У Надсона получается так, что чистая поэзия – это как бы первооснова искусства, его колыбель, его потерянный рай, который, быть может, вернется в будущем: «покуда всюду ночь немая», поэзия должна звать «туда, где льется кровь», но, «когда… повсюду мысль и чувство, Как дивный свет, блеснут кругом, Тогда искусство для искусства Мы все оценим и поймем» (первоначальная редакция стихотворения «Призыв»).
В раннем стихотворении «Поэт» (1879), о котором шла речь в другой связи, Надсон шел еще дальше: он признавал законность обеих враждующих поэтических школ и в наше время. Он провозглашал истинным поэтом и того, кто «ведет нас в бой с неправдою и тьмою, В суровый, грозный бой за истину и свет», и того, кто зовет «В тот чудный мир, где нет ни жгучих слез, ни муки, Где красота, любовь, забвенье и покой». Обоим он говорил слова признанья: «И скажем мы тебе с восторгом: „Ты – поэт!..“». В сохранившихся набросках окончания автор отказывает в звании поэта лишь тем, кто слагает стихи «в угоду сильным мира», либо тем, кто поет «ничтожные страданья». Рептильная, лакейская поэзия и поэзия мелких тем – равно вне искусства, все остальное – поэзия борьбы и гражданских призывов, и поэзия, похожая на «тихое журчанье ручья, звенящего серебряной струей», – принадлежит, по Надсону, к области подлинного искусства, достойного благодарного признания современников.
В «Заметках по теории поэзии» Надсон попытался теоретически сформулировать свое понимание соотношения «чистой» и гражданской поэзии. Убежденный сторонник тенденциозной поэзии, он, однако, и здесь не увидел непримиримого противоречия между борющимися школами. Он писал: «Итак, поэты, проповедующие искусство для искусства, напрасно думают, что школа их противоположна другой, тенденциозной школе; она является просто одною из ее составных частей, служа только чувству красоты, тогда как вторая служит и чувствам справедливости, добра и истины. Нетрудно видеть, которой из этих двух групп принадлежит будущность. Тенденциозность есть последнее мирное завоевание, сделанное искусством, есть пока последнее его слово. А искусство, сделав такой шаг, не отступает назад, если только оно не противоречит его естественному закону. Очевидно, что недалеко время, когда поэзия тенденциозная поглотит поэзию чистую, как целое свою часть, как океан поглощает разбившуюся об утес свою же волну».
9
Непримиримости и суровой непреклонности у Надсона не было. Это сказалось и в его отношении к литературной традиции. Так, он продолжал многие темы и принципы поэзии Лермонтова, он воспринял его ораторский пафос, его афористичность. Некоторые поэтические строки Надсона точно возникли из лермонтовских стихов:
Так храм оставленный – всё храм, Кумир поверженный – всё бог.Лермонтовская «Дума» нашла в поэзии Надсона свое продолжение. Как и Лермонтова, Надсона влекли героические образы прошлого; как Лермонтов, он противопоставлял их жалкому настоящему. В ранней поэме «Христианка» (1878) Надсон напоминает современникам, «Как люди в старину, когда-то, Умели верить и любить». В незаконченной поэме «Томас Мюнцер» он прославляет давно минувшую борьбу. В стихотворении «О, неужели будет миг…», воскрешая времена «древности железной», давшей миру Яна Гуса и Вильгельма Телля, Надсон восклицал:
Нет, не зови ты нас вперед… Назад!.. Там жизнь полней кипела, Там роковых сомнений гнет Не отравлял святого дела! …Там страсть была, – не эта мгла Унынья, страха и печали; Там даже темные дела Своим величьем поражали…И наконец, в одном из последних стихотворений он в лермонтовских тонах рисует образ Герцена, писателя-борца, который «в минувшие годы Так долго, так гордо страдал». Лермонтовский образ поэта, чей голос звучал некогда «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных», Надсон, вслед за Огаревым,[19] как бы переносил на издателя «Колокола»:
Как колокол правды, добра и свободы, С чужбины твой голос звучал.(«На могиле А. И. Герцена»)
Но лермонтовские темы и мотивы смягчались под пером Надсона и теряли суровость и силу. Лермонтов обличал «наше поколенье» за бездействие и безверие. Надсон в разочарованности и бессилии своего поколения хотел найти оправдание своим современникам. Лермонтов обвинял, Надсон оправдывался. Лермонтов говорил: «Печально я гляжу на наше поколенье», Надсон как бы отвечал ему: «Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней».
Исследователи правильно отмечали в поэзии Надсона и некрасовские традиции. В самом деле, он был сторонником гражданской поэзии Некрасова, он видел в ней служение «чувствам справедливости, добра и истины». Но, как говорилось выше, он стремился соединить боевую тенденциозность Некрасова с культом красоты в поэзии «чистого искусства». Вслед за Некрасовым Надсон разрабатывал образ человека, потрясенного будничными драмами современности, но, в отличие от Некрасова, самые эти драмы у Надсона оставались в тени, и на первом плане оказывался образ тоскующего поэта, который заслонял собою реальную жизнь и заполнял всю сцену. Нашли у Надсона свое продолжение и покаянные мотивы поэзии Некрасова. В частности, близок ему был некрасовский образ матери, воспоминание о которой поддерживает падающий дух поэта. Но у Некрасова поэт, обращаясь к любимой тени, молит вывести его на путь борьбы:
От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви.В поэзии Надсона голос матери «звенит» ему совсем о другом:
…В долгой, в горькой жизни Много встретит спящих твой усталый взгляд, Не клейми ж их словом едкой укоризны, Полюби их, милый, полюби, как брат!..(«Сказка»)
Современная Надсону жизнь требовала борьбы, решительной и непреклонной, но суровые формы этой борьбы, ее неизбежная жестокость, ее кровавые жертвы, иной раз, быть может, и невинные, – все это смущало Надсона и тревожило его совесть. Есть у Надсона любопытное стихотворение «Шествие» с подзаголовком «Сон» и с пометой в одном из вариантов: «Из Джакометти», – верный знак того, что автор имел основания опасаться цензурных репрессий. Стихотворение не закончено, но замысел его тем не менее вполне ясен. Это своеобразная философия истории в стихах, причем этапы истории даны в обратной последовательности. В фантастическом «шествии народов и племен» сначала возникает видение счастливого человечества, достигшего наконец своих заветных целей. Здесь у людей ясны взгляды, поступь смела, и «безбоязненны их речи и сужденья». Они зовут к себе поэта, и он восклицает с патетическим воодушевлением:
Благословен ваш путь, счастливые народы, Вас озарил уже познанья кроткий свет, Для вас настал рассвет божественной свободы!Вслед за этим возникает другой образ – иной «толпы», иных настроений. Люди идут, сгибаясь под ярмом; слышны слова негодования – «зерно грядущих гроз», и эти грозы готовы разразиться:
Вулкан готовится извергнуть на врагов Свой гнев, накопленный позорными веками, И скоро цепь спадет с воскреснувших рабов… Но сколько будет слез, и крови, и крестов, И сколько жертв падет безвинно с палачами!Шествие завершается самой тягостной картиной: проходит толпа, безмолвная, покорная, как бы погруженная в сон, здесь не слышно даже слов, и лишь «не многие дерзают Тайком роптать на гнет мучительных оков И, падая в борьбе, безмолвно погибают». Очевидно, по замыслу Надсона, это и есть его современность; она тяготит и угнетает его, лишает покоя и убивает силы, но в то же время необходимость пройти через период кровавой борьбы для того, чтобы достигнуть полной свободы и всеобщего счастья, – эта суровая неизбежность страшит и мучит поэта, порождая расслабленные призывы «к любви, к беззаветной любви».
В стремлении своем к всеобщей любви и примирению противоречий Надсон не был одинок. В пору поисков, растерянности и недоумения, порожденных неудачами революционной борьбы семидесятых годов, это стремление в разных формах давало себя знать у многих больших и малых современников Надсона. В этом была их бесспорная слабость, но это была слабость демократического сознания восьмидесятых годов. К «непротивлению» звал Лев Толстой, и это соединялось у него с непосредственным демократическим негодованием против насилия и угнетения. Как известно, идеи, близкие к толстовским, возникли независимо от Толстого и даже раньше, чем у него, в народнических кругах (Чайковский, Маликов). В. М. Гаршин, с болезненной остротой выступавший против мирового зла, против «красного цветка», вобравшего в себя «всю невинно пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества», отдал дань «доктрине совести и всеобщей любви».
Знаменательно, что даже П. Ф. Якубович, поэт-народоволец, активный революционер, поплатившийся за свою деятельность долгими годами каторги, отразил в своей лирике настроения, близкие и родственные надсоновским. Он писал о «больной душе», о том, что его стихи «создавались из слез и из крови сердечной» («Эти песни гирляндою роз…», 1883), о противоречии между героическими стремлениями и потребностью личного счастья («В час веселья и шумной забавы…», 1880), он признавался в том, что его душа «черной злобой устала дышать» («Успокоение», 1880). В одном из самых задушевных своих стихотворений «Забытый друг» (1886), имеющем ярко выраженный автобиографический характер, он рассказывает о «холодных и горьких сомнениях», пережитых им за стенами тюрьмы. Муза спасает тоскующего поэта, дает ему пережить «блаженную ночь воскресенья» и более уже никогда не покидает его. Психологическая драма заканчивается, и финал ее близко напоминает коллизии надсоновской лирики:
С тех пор я уж не был покинут и сир. И часто мы громы с небес призывали! Но чаще… любовь призывали и мир, И чаще врагов мы прощали…[20]Другой современник Надсона, В. Г. Короленко, отправляясь в ссылку за отказ от присяги Александру III, заносил в свою записную книжку овладевшую его воображением фантастическую картину, в которой хотел представить Желябова и Александра II «понявшими и примиренными».«…Есть где-то примирение», – думал он, и ему чудилось, что «оба – жертва и убийца – ищут этого примирения, обозревая свою темную родину».[21] Впоследствии Короленко преодолел эти настроения, но возникли они, разумеется, не случайно – для него самого и для людей его круга. Не случайно возникли они и у Надсона, вступив в противоречивое, но органическое соединение с противоположным строем чувств и настроений – стремлением преодолеть бессилие, жаждой борьбы и жертвенного подвига, восхищением мужеством и стойкостью передовых людей времени.
Это противоречие и составило главное содержание тех патетических монологов, в которых раскрывалась личность Надсона и его главного героя.
10
Для многих современников Надсона, склонных, как и он, к публичным «исповедям», к самораскрытию личности и самоанализу, в то же время характерно было стремление преодолеть субъективность творчества и выйти за пределы своего «я» на широкий простор объективного, эпического искусства. В восьмидесятых годах Н. К. Михайловский убеждал Г. И. Успенского перейти от очерков, проникнутых своеобразным лиризмом «больной совести», к большому жанру романа. В. М. Гаршин, близкий Надсону по духу, писал в 1885 году: «Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных, отрывочных воплей, каких-то „стихов в прозе“, какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно, и надо изображать не свое я, а большой внешний мир».[22]
Такая же потребность была, очевидно, и у Надсона. Он также пробовал свои силы в другой манере творчества и написал несколько стихотворений и поэм, в которых пытался изобразить не свое я, а внешний мир, хотя бы даже и небольшой. Сюда относятся его поэмы «Боярин Брянский», незаконченная поэма в народном духе «Святитель», действие которой должно было развертываться вскоре после войны 1812 года, незавершенная драматическая сцена «В деревне», разрабатывающая тему отцов и детей в новом повороте, характерном для восьмидесятых годов; это едва намеченный, но ясный по замыслу диалог разочарованного, тоскующего юноши и его отца, безуспешно пытающегося пробудить в нем утраченную любовь к красоте мира. К этим наброскам относится и начало стихотворного рассказа – от лица пожилой женщины – о некоем молодом человеке, больном, угрюмом и бледном, приехавшем в деревню, чтобы отойти душой от бед и тяжестей столичной жизни («Он к нам переехал прошедшей весною…»). Характерно, однако, что это все наброски, отрывки, пробы пера, по-видимому не удовлетворявшие автора и потому брошенные им. Из стихотворных опытов этого рода при жизни автора увидело свет только одно произведение – «Страничка прошлого (Из одного письма)», выделяющееся на общем фоне лирики Надсона полной объективностью тона, даже с оттенком мягкого юмора. Речь идет здесь о воспоминаниях отрочества, о ранней любви, стыдливой и неразделенной. Возникает образ студента, чья судьба – «нужда да тяжкий крест лишений», образ, также нарисованный объективно, без патетики, без риторики и декламации. Но любопытно, что в другом стихотворении, написанном в то же время (1885) и на близкую тему («Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»), у Надсона появляется обычный для него монолог с патетическими фразами и трагическими словами, произносимыми как будто тем же студентом, чей образ в «Страничке прошлого» был подан объективно. В 1885 году Надсон публикует и такие необычные для него стихотворения, как «Жалко стройных кипарисов…» и «Закралась в угол мой тайком…», стихотворения легкие и изящные, без рефлектирования, без пессимистических тирад, без «скорби» и «слез». В первом из них изображено море – не грозная, негодующая стихия, как обычно у Надсона, – а мирное, смеющееся в блеске солнца,
С белым парусом в тумане, С белой чайкой, в даль летящей, С белой пеною, каймою Вдоль по берегу лежащей.В стихотворении «Закралась в угол мой тайком...» появляются столь редкие у Надсона бытовые черты; здесь нет условных символов и аллегорий. Не без психологической тонкости передано здесь настроение возникающей любви; герой стихотворения – поэт, но это не «пророк» и не «певец», а просто литератор, его комната не называется «кельей», как в иных стихотворениях Надсона; обстановка вполне бытовая («Открыты двери на балкон, Газетный лист к кровати свеян» и т. д.). Героиня не имеет ничего общего с теми условно возвышенными женскими образами, которые обычно рисовал Надсон в своих любовных стихотворениях. Это просто шаловливая девушка, затеявшая веселую любовную игру:
Закралась в угол мой тайком, Мои бумаги раскидала, Тут росчерк сделала пером, Там чей-то профиль набросала…Достаточно сравнить эту лирическую миниатюру с широко известным, хотя, впрочем, далеко не лучшим стихотворением Надсона «Только утро любви хорошо…», чтобы увидеть, насколько плодотворны были его новые поиски. Там эффектные, но безжизненные аллегории, декламация, стандартная образность, безвкусная лексика: «светлый храм», «сладострастный гарем», «греховно пылающий жрец», «праздник чувства» и многое иное в том же стиле. Здесь реальные черты быта, живые образы, житейские настроения, чувство меры и такта.
И все-таки подобные произведения у Надсона единичны, и не они прославили его имя. Поиски новой манеры, как бы симптоматичны они ни были, не получили своего завершения.
Имя Надсона и его поэтический облик в сознании его современников и последующих поколений связались с теми стихотворениями, в которых звучали жалобы, возгласы и призывы, отражавшие недовольство настоящим и стремление к всеобщему счастью.
Все ценное и живое, что было в этих настроениях и надеждах, иной раз смутных и неясных, но всегда искренних, сохранило свое значение надолго и обеспечило поэзии Надсона широкую популярность на много десятилетий.
Стихотворения
На заре*
Заревом заката даль небес объята, Речка голубая блещет, как в огне; Нежными цветами убраны богато, Тучки утопают в ясной вышине. Кое-где, мерцая бледными лучами, Звездочки-шалуньи в небесах горят. Лес, облитый светом, не дрогнет ветвями, И в вечерней неге мирно нивы спят. Только ты не знаешь неги и покоя, Грудь моя больная, полная тоской. Что ж тебя волнует? Грустное ль былое, Иль надежд разбитых безотрадный рой? Заползли ль змеею злобные сомненья, Отравили веру в счастье и людей, Страсти ли мятежной грезы и волненья Вспыхнули нежданно в глубине твоей? Иль, в борьбе с судьбою погубивши силы, Ты уж тяготишься этою борьбой И, забыв надежды, мрачно ждешь могилы, С малодушной грустью, с желчною тоской? Полно, успокойся, сбрось печали бремя: Не пройдет бесплодно тяжкая борьба, И зарею ясной запылает время, Время светлой мысли, правды и труда.Апрель 1878
Кругом легли ночные тени*
Кругом легли ночные тени, Глубокой мглой окутан сад; Кусты душистые сирени В весенней неге мирно спят. Склонясь зелеными ветвями, Осока дремлет над прудом, И небо яркими звездами Горит в сияньи голубом. Усни, забытый злой судьбою, Усни, усталый и больной, Усни, подавленный нуждою, Измятый трудною борьбой! Пусть яд безжалостных сомнении В груди истерзанной замрет И рой отрадных сновидений Тебя неслышно обоймет. Усни, чтоб завтра с силой новой Бороться с безотрадной мглой, Чтоб не устать в борьбе суровой, Чтоб не поддаться под грозой, Чтоб челн свой твердою рукою По морю жизни направлять Туда, где светлою зарею Едва подернулася гладь, Где скоро жаркими лучами Свет мысли ласково блеснет И солнце правды над водами В красе незыблемой взойдет.1 мая 1878
Вперед!*
Вперед, забудь свои страданья, Не отступай перед грозой, – Борись за дальнее сиянье Зари, блеснувшей в тьме ночной! Трудись, покуда сильны руки, Надежды ясной не теряй, Во имя света и науки Свой честный светоч подымай! Пускай клеймят тебя презреньем, Пускай бессмысленный укор В тебя бросает с озлобленьем Толпы поспешный приговор; Иди с любящею душою Своею торною тропой, Встречая грудью молодою Все бури жизни трудовой. Буди уснувших в мгле глубокой, Уставшим руку подавай И слово истины высокой В толпу, как светлый луч, бросай.31 мая 1878
«Не весь я твой – меня зовут…»*
Не весь я твой – меня зовут Иная жизнь, иные грезы… От них меня не оторвут Ни ласки жаркие, ни слезы. Любя тебя, я не забыл, Что жизни цель – не наслажденье, В душе своей не заглушил К сиянью истины стремленье, Не двинул к пристани свой челн Я малодушною рукою И смело мчусь по гребням волн На грозный бой с глубокой мглою!3 июня 1878
На разлуку («В последний раз я здесь…»)*
Посвящается С. С. Д.
В последний раз я здесь, с тобой; Пробил тяжелый час разлуки. Вся грудь надорвана тоской, Полна огнем глубокой муки. Измученный, для всех чужой, Я шел один своей дорогой И в даль, окутанную мглой, Смотрел с мучительной тревогой. Но ты сумела разгадать Мои- сомнения и муку, Сумела вовремя подать Борьбой надломленному руку. Ты вновь зажгла в душе больной Судьбой разбитые мечтанья, И я у груди дорогой Забыл тяжелые страданья. Я отдохнул от черных дум, От яда жгучего сомнений, И стал доступен вновь мой ум Для светлых грез и впечатлений. Я зажил полной жизнью вновь, Поверив и в людей, и в счастье. Я всё нашел: покой, любовь. И дружбы светлое участье. Теперь опять своей рукой Судьба навек нас разлучает. Прощай… В моей душе больной Вновь желчь и злоба закипают. Я вновь на жизненном пути Остался в сумраке ненастья. Нет силы одному идти Без света дружбы и участья.20 июня 1878
Идеал*
Не говори, что жизнь – игрушка В руках бессмысленной судьбы, Беспечной глупости пирушка И яд сомнений и борьбы. Нет, жизнь – разумное стремленье Туда, где вечный свет горит, Где человек, венец творенья, Над миром высоко царит. Внизу, воздвигнуты толпою, Тельцы минутные стоят И золотою мишурою Людей обманчиво манят; За этот призрак идеалов Немало сгибнуло борцов, И льется кровь у пьедесталов Борьбы не стоящих тельцов. Проходит время, – люди сами Их свергнуть с высоты спешат И, тешась новыми мечтами, Других тельцов боготворят; Но лишь один стоит от века, Вне власти суетной толпы, – Кумир великий человека В лучах духовной красоты. И тот, кто мыслию летучей Сумел подняться над толпой, Любви оценит свет могучий И сердца идеал святой! Он бросит все кумиры века, С их мимолетной мишурой, И к идеалу человека Пойдет уверенной стопой.27 июня 1878
Ночью*
Хороша эта ночка, безмолвная, ясная, С фосфорической, полной луной, Эта песнь соловьиная, звонкая, страстная, Эта мертвая тишь над рекой. Как покойно кругом! В даль, сияньем залитую, Ширь полей, утопая, бежит, Справа лес-великан головою сердитою Приумолк и таинственно спит. Слева Тигода сонная воды зеркальные Гладью светлою в Волхов катит, И, поникнув над нею ветвями печальными, Одиноко береза грустит. Из-за леса, струей набегая душистою, Чуть шумит ветерок в камышах, А вдали за рекой полосой золотистою Догорает заря в небесах. Успокойся и ты, моя грудь наболевшая, Рой безжалостных дум отгони И, забывши на сердце тоску накипевшую, От всего в эту ночь отдохни.30 июня 1878
«Блещут струйки золотые…»*
Блещут струйки золотые, Озаренные луной; Льются песни удалые Над поверхностью речной. Чистый тенор запевает «Как на Волге на реке», И припевы повторяет Отголосок вдалеке. А кругом царит молчанье, И блестящей полосой Золотой зари сиянье Догорает за рекой.3 июля 1878
Забытый певец*
Он умирал, певец забытый, Толпы недавний властелин, С своею славою разбитой Он гордо погибал один. Один… Слезою сожаленья Никто поэта не почтил, Никто тяжелые мученья В последний час не усладил. В несчастье брошенный друзьями, Подавлен трудною борьбой, С своими грустными мечтами Он глубоко страдал душой. Кругом угрюмо догорала Глухая ночь, и бледный луч Луна кокетливо бросала, Прорвав покров свинцовых туч. И весь облит дрожащим светом, Угрюм и бледен он лежал. Пред умирающим поэтом Ряд сцен прошедших пробежал. Он вспомнил прежние желанья, Судьбой разбитые мечты, Его влекло его призванье К сиянью вечной красоты. Весь век боролся он со мглою, Он славу дорого купил; Идя тернистою тропою, Он жизнь и силы погубил. И вот, усталый, одинокий, Забытый ветреной толпой, Он умирал с тоской глубокой, С душой, надломленной борьбой. И думал он: когда б, сияя Красой, внезапно бы предстал Пред ним святой посланник рая И так страдальцу бы сказал: «За то, что в людях яд страданий Ты звуком песен заглушал И благородный рой желаний Стремленья к свету подымал, За то, что ты борцом отважным Всю жизнь за человека был И лиру честную продажным И пошлым словом не клеймил, Всего проси – я всё исполню, Ты будешь выше всех людей, Я беспредельный мир наполню Стогласной славою твоей, Я дам тебе покой и звуки, Зажгу в душе отрадный свет, Ты вновь свои забудешь муки, Людьми владеющий поэт; И ты дорогою широкой Пойдешь вождем толпы слепой, И к цели светлой и высокой Ты поведешь ее с собой; И не умрешь ты в этом мире – Ты сам себя переживешь, И в дивных звуках честной лиры Ты вновь по смерти жизнь найдешь», – Он отказался бы от счастья, Он только б об одном просил: Что<б> кто-нибудь слезой участия Его могилу окропил, Чтоб кто-нибудь его сомненья Горячей лаской разогнал И светлым словом сожаленья Душе больной отраду дал.4 июля 1878
Признание умирающего отверженца
Я не был ребенком. Я с детства узнал Тяжелое бремя лишений, Я с детства в душе бережливо скрывал Огонь затаенных сомнений. Я с детства не верил в холодных людей, В отраду минутного счастья, И шел я угрюмо дорогой своей Один, без любви и участья. А сердце так рвалось в груди молодой, Так жаждало света и воли! Но что же, на призыв отчаянный мой Никто не согрел моей доли. Меня оттолкнули… и злобной тоской Как камнем мне душу сдавило, И зависти тайной огонь роковой Несчастье в груди пробудило. И стал я с глубокой отрадой взирать На царство нужды и разврата И в бездну бесстрастной рукою толкать Другого страдальца собрата. Я бросил работу, я стал воровать, Под суд я однажды попался, В тюрьме просидел… да как вышел опять За прежнее дело принялся. Я помню, в суде говорил адвокат, Что нужно работать, трудиться. Работать!.. Зачем? Для кого хлопотать, С кем прибылью буду делиться? Вернусь я с работы в подвал свой сырой – Кто там меня встретит с участьем? Работать!.. Работай, кто молод душой, Кто не был надломлен ненастьем! И думали люди, что в сердце моем Заглохли все чувства святые. Кому ж я обязан позорным клеймом – Скажите вы, люди слепые. Когда я любви и привета просил, Кто подал отверженцу руку? Кто словом и ласкою света залил Сиротства тяжелую муку? Нет, я не смутил ваш холодный покой, В вас сердце не билось любовно, И мимо прошли вы бесстрастной стопой, Меня оттолкнув хладнокровно. О судьи, не сами ли с первых же дней Вы холодом жизнь отравили? За что ж философией сытой своей Отверженца вы осудили? За то ль, что, не сладив с тяжелой нуждой И с внутренним ядом страданья. Пред вами не пал я с покорной мольбой, Просить я не стал подаянья? Нет, лучше бесчестье, чем посох с сумой, Нет, лучше разгульная воля И грязи разврата позор роковой, Чем нищенства жалкая доля! И в этой-то бездне я даром убил Мои непочатые силы! Но кончен мой путь. Наконец я дожил До двери безмолвной могилы. Я рад ей: под саваном мрачным земли Сомкнутся усталые веки, Улягутся в сердце страданья мои И мирно усну я навеки,7 июля 1878
Во мгле*
Была пора, – мы в жизнь вступали Могучей, твердою стопой: Сомненья злые не смущали Тогда наш разум молодой. Мы детски веровали в счастье, В науку, в правду и людей, И смело всякое ненастье Встречали грудью мы своей. Мечты нас гордо призывали Жить для других, другим служить, И все мы горячо желали Небесполезно жизнь прожить. Мы думали, что близко время, Когда мы всюду свет прольем, Когда цепей тяжелых бремя Мы с мысли скованной сорвем, Когда, как дивное сиянье, Блеснут повсюду над землей Свобода, честность, правда, знанье И труд, высокий и святой. Мы выходили на дорогу С желаньем пользу принести, И достигали понемногу До края нашего пути; Мы честно шли, и от начала Вплоть до заката наших дней Звучал нам голос идеала: «Вперед за мир и за людей!» Но годы те давно промчались; Жизнь шла обычной чередой – И с прошлым мы навек расстались И жизнью зажили иной. Забыли мы свои желанья: Они прошли для нас, как сны, И наши прошлые мечтанья Нам стали странны и смешны. Мы входим в мир, всё отрицая, Без жажды пользу приносить; Наш пошлый смех, не понимая, Готов всё светлое клеймить: Зовем мы предрассудком чувство, В груди у нас сомнений ад, Сорвав венец златой с искусства, Мы увенчали им разврат. И, грязь презрения бросая В тех, кто силен еще душой, Проходим жизнь мы, попирая Святыню дерзкою ногой!.. Проснись же тот, в чьем сердце живы Желанья лучших, светлых дней, Кто благородные порывы Не заглушил в душе своей!.. Иди вперед к заре познанья, Борясь с глубокой мглой ночной, Чтоб света яркое сиянье Блеснуло б снова над землей!..12 июля 1878
«Минуло время вдохновений…»*
Минуло время вдохновений И с ним отрадных звуков рой, И ряд вопросов и сомнений Один царит в душе больной. Вся жизнь с ее страстями и угаром, С ее пустой, блестящей мишурой Мне кажется мучительным кошмаром И душною, роскошною тюрьмой,18 июля 1878
Романс*
Я вас любил всей силой первой страсти. Я верил в вас, я вас боготворил. Как верный раб, всё иго вашей власти Без ропота покорно я сносил. Я ждал тогда напрасно состраданья. Был холоден и горд ваш чудный взгляд. В ответ на яд безмолвного страданья Я слышал смех и колких шуток ряд. Расстались мы – но прежние мечтанья В душе моей ревниво я хранил И жадно ждал отрадного свиданья, И этот час желаемый пробил. Пробил, когда, надломанный судьбою, Устал я жить, устал я ждать любви И позабыл измученной душою Желания разбитые мои.23 июля 1878
Христианка*
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Пушкин. «Руслан и Людмила»1
Спит гордый Рим, одетый мглою, В тени разросшихся садов; Полны глубокой тишиною Ряды немых его дворцов; Весенней полночи молчанье Царит на сонных площадях; Луны капризное сиянье В речных колеблется струях, И Тибр, блестящей полосою Катясь меж темных берегов, Шумит задумчивой струею Вдаль убегающих валов. В руках распятие сжимая, В седых стенах тюрьмы сырой Спит христианка молодая, На грудь склонившись головой. Бесплодны были все старанья Ее суровых палачей: Ни обещанья, ни страданья Не сокрушили веры в ней. Бесчеловечною душою Судьи на смерть осуждена, Назавтра пред иным судьего Предстанет в небесах она. И вот, полна святым желаньем Всё в жертву небу принести, Она идет к концу страданья, К концу тернистого пути… И снятся ей поля родные, Шатры лимонов и дубов-, Реки изгибы голубые И юных лет приютный кров; И прежних мирных наслаждений Она переживает дни, – Но ни тревог, ни сожалений Не пробуждают в ней они. На всё земное без участья Она привыкла уж смотреть; Не нужно ей земного счастья, – Ей в жизни нечего жалеть: Полна небесных упований, Она без жалости и слез Разбила рой земных желаний И юный мир роскошных грез, – И на алтарь Христа и бога Она готова принести Всё, чем красна ее дорога, Что ей светило на пути.2
Поднявшись гордо над рекою, Дворец Нерона мирно спит; Вокруг зеленою семьею Ряд стройных тополей стоит; В душистом мраке утопая, Спокойной негой дышит сад; В его тени, струей сверкая, Ключи студеные журчат. Вдали зубчатой полосою Уходят горы в небеса, И, как плащом, одеты мглою Стоят священные леса. Всё спит. Один Альбин угрюмый Сидит в раздумье у окна… Тяжелой, безотрадной думой Его душа возмущена. Враг христиан, патриций славный, В боях испытанный герой, Под игом страсти своенравной, Как раб, поник он головой. Вдали толпы, пиров и шума, Под кровом полночи немой, Всё та же пламенная дума Сжимает грудь его тоской. Мечта нескромная смущает Его блаженством неземным, Воображенье вызывает Картины страстные пред ним, И в полумгле весенней ночи Он видит образ дорогой, Черты любимые и очи, Надежды полные святой.3
С тех пор как дева молодая К нему на суд приведена, Проснулась грудь его немая От долгой тьмы глухого сна. Разврат дворца в душе на время Стремленья чистые убил, Но свет любви порока бремя Мечом карающим разбил; И, казнь Марии изрекая, Дворца и Рима гордый сын, Он сам, того не сознавая, Уж был в душе христианин; И речи узницы прекрасной С вниманьем жадным он ловил, И свет великий веры ясной Глубоко корни в нем пустил. Любовь и вера победили В нем заблужденья прежних дней И душу гордую смутили Высокой прелестью своей.4
Заря блестящими лучами Зажглась на небе голубом, И свет огнистыми волнами Блеснул причудливо кругом. За ним, венцом лучей сияя, Проснулось солнце за рекой И, светлым диском выплывая, Сверкает гордо над землей… Проснулся Рим. Народ толпами В амфитеатр, шумя, спешит, И черни пестрыми волнами Цирк, полный доверху, кипит; И в ложе, убранной богато, В пурпурной мантии своей, Залитый в серебро и злато, Сидит Нерон в кругу друзей. Подавлен безотрадной думой, Альбин, патриций молодой, Как ночь прекрасный и угрюмый, Меж них сияет красотой. Толпа шумит нетерпеливо На отведенных ей местах, Но – подан знак, и дверь визгливо На ржавых подалась петлях, – И, на арену выступая, Тигрица вышла молодая… Вослед за ней походкой смелой Вошла с распятием в руках Страдалица в одежде белой, С спокойной твердостью в очах. И вмиг всеобщее движенье Сменилось мертвой тишиной, Как дань немого восхищенья Пред неземною красотой. Альбин, поникнув головою, Весь бледный, словно тень стоял… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И вдруг пред стихнувшей толпою Волшебный голос зазвучал:5
«В последний раз я открываю Мои дрожащие уста: Прости, о Рим, я умираю За веру в моего Христа. И в эти смертные мгновенья, Моим прощая палачам, За них последние моленья Несу я к горним небесам: Да не осудит их спаситель За кровь пролитую мою, Пусть примет их святой учитель В свою великую семью, Пусть светоч чистого ученья В сердцах холодных он зажжет И рай любви и примиренья В их жизнь мятежную прольет!..» Она замолкла, и молчанье У всех царило на устах; Казалось, будто состраданье В их черствых вспыхнуло сердцах… . . . . . . . . . . . . . . . Вдруг на арене, пред толпою, С огнем в очах предстал Альбин И молвил: «Я умру с тобою… О Рим, – и я христианин…» Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся, Как лес осеннею грозой, – И зверь испуганно метнулся, Прижавшись к двери роковой… Вот он крадется, выступая, Ползет неслышно, как змея… Скачок… и, землю обагряя, Блеснула алая струя… Святыню смерти и страданий Рим зверским смехом оскорбил, И дикий гром рукоплесканий Мольбу последнюю покрыл. Глубокой древности сказанье Прошло седые времена, И беспристрастное преданье Хранит святые имена. Простой народ тепло и свято Сумел в преданьи сохранить, Как люди в старину, когда-то, Умели верить и любить!..31 июля 1878
«Ты уймись, кручинушка, смолкните, страдания…»*
Ты уймись, кручинушка, смолкните, страдания Не вернуть погибшего жгучею слезой, И замрет без отзыва крик негодования, Крик, из сердца вырванный злобою людской. Не поймут счастливые горя и мучения, Не спасут упавшего братскою рукой, И насмешкой едкою злобного презрения Заклеймят разбитого жизненной грозой. А кругом надвинулась ноченька глубокая, Без просветов счастия, без огня любви, И железным пологом эта мгла жестокая Давит силы гордые и мечты мои.7 октября 1878
Призыв*
Покуда грозно ночь глухая Царит над сонною землей И лишь вдали заря златая Горит отрадной полосой, Покуда мысль в оковах дремлет, Покуда видят стыд в труде, Покуда человек не внемлет Призыву к свету и борьбе, О муза, светлый мир мечтаний И песен счастья резвый рой. Забудь для горя и страданий, Для битвы с непроглядной мглой. Пускай твои святые звуки Борцов уставших оживят И в их сердцах тоску и муки Надеждой светлой заменят. [И грозный крик негодованья, Промчавшись звучно над толпой, Подымет светлое сознанье И знамя истины святой. Туда, борцы, под это знамя, Вперед уверенной стопой! Пускай любви и веры пламя Во мгле согреет вас собой. Вперед, борцы, на бой жестокий За свет великий и святой Со мглой, тяжелой и глубокой, С мертвящей, безотрадной мглой!]24 октября 1878
Мать («Спите, ребятки; умаялись ноженьки…»)*
Спите, ребятки; умаялись ноженьки: Шутка ль семь верст отхватать? Вон уж и то износились сапоженьки; Новых-то негде достать. Холодно? Нате, закройтесь, родимые… Дров ни полена, – беда! Трудно мне, детушки, трудно, любимые, Давит злодейка нужда. Мужа сегодня на денежки медные Скрыли в могиле сырой; Завтра с зарей, мои птенчики бедные, Завтра пойду я с сумой. Грудь истомили болезнь и страдание, Силушки нет работать: Страшно, родные, просить подаяния, В холод под вьюгой стоять. Страшно, родные, людского презрения, Страшно насмешек людских. Много любви и немого смирения Надо, чтоб вытерпеть их. Полно, не плачьте: быть может, и справимся, Бог не оставит сирот. Добрые люди помогут – оправимся, Старое горе пройдет. Что ж вы?.. Ну будьте же, детушки, умные, Вытрите глазки свои. С вами и я разрыдалась, безумная… Спите, господь вас храни.25 октября 1878
Поэт и прозаик*
Прозаик
Я прочитал твои творенья, Они подчас сильны, умны, Но, признаюсь, твои стремленья, Ты не сердись… до слез смешны. О чем, скажи, ты так хлопочешь, Куда ты нас зовешь с собой? Какой-то «свет» разлить ты хочешь Над «сном объятого» землей?. Мы разве спим? Прочти газеты: Что новый день – то шаг вперед. Куда ж вы тащите, поэты, Своими песнями народ? Чего добиться вы хотите, Куда стремитесь вы душой, За что наш славный век браните, С какой сражаетесь вы мглой? Зачем озлобленные ноты Вы в нас бросаете порой? Вы не певцы, – вы Дон-Кихоты, И странен ваш «петуший бой».1878
«Я чувствую и силы и стремленье…»*
Я чувствую и силы и стремленье Служить другим, бороться и любить; На их алтарь несу я вдохновенье, Чтоб в трудный час их песней ободрить. Но кто поймет, что не пустые звуки Звенят в стихе неопытном моем, Что каждый стих – дитя глубокой муки, Рожденное в раздумье роковом; Что каждый миг «святого вдохновенья» Мне стоил слез, невидных для людей, Немой тоски, тревожного сомненья И скорбных дум в безмолвии ночей?!.1878
В тихой пристани*
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал.
Пушкин Вот наш старый с колоннами серенький дом, С красной крышей, с массивным балконом. Барский сад на просторе разросся кругом, И поля, утопая во мраке ночном, С потемневшим слились небосклоном. По полям, извиваясь блестящей струей, Льется речка студеной волною, И беседка, одетая сочной листвой, Наклонясь над лазурной ее глубиной, Отражается гладью речною. Тихо шепчет струя про любовь и покой И, во мраке звеня, замирает, И душистый цветок над кристальной струей, Наклонившись лукавой своей головой, Нежным звукам в раздумье внимает. Здравствуй, родина-мать! Полный веры святой, Полный грез и надежды на счастье, Я покинул тебя – и вернулся больной, Закаленный в нужде, изнуренный борьбой, Без надежд, без любви и участья. Здравствуй, родина-мать! Убаюкай, согрей, Оживи меня лаской святою, Лаской глуби лесной, лаской темных ночей, Лаской синих небес и безбрежных полей, Соловьиною песнью живою. Дай поплакать хоть раз далеко от людей, Не боясь их насмешки жестокой, Отдохнуть на груди на зеленой твоей, Позабыть о загубленной жизни моей, Полной муки и грусти глубокой.1878
«Терпи… Пусть взор горит слезой…»*
Терпи… Пусть взор горит слезой, Пусть в сердце жгучие сомненья!.. Не жди людского сожаленья И, затаив в груди мученья, Борись один с своей судьбой… Пусть устаешь ты с каждым днем, Пусть с каждым днем всё меньше силы… Что ж, радуйся: таким путем Дойдешь скорей, чем мы дойдем, До цели жизни – до могилы!1878
Над свежей могилой*
Памяти Н. М. Д.
Я вновь один – и вновь кругом Всё та же ночь и мрак унылый, И я в раздумье роковом Стою над свежею могилой: Чего мне ждать, к чему мне жить, К чему бороться и трудиться: Мне больше некого любить, Мне больше некому молиться!..14 марта 1879
Слово*
Н. Ханыкову
О, если б огненное слово Я в дар от музы получил, Как беспощадно б, как сурово Порок и злобу я клеймил! Я б поднял всех на бой со тьмою, Я б знамя света развернул И в мир бы песнею живою Стремленье к истине вдохнул! Каким бы смехом я смеялся, Какой слезой бы прожигал!.. Опять бы над землей поднялся Святой, забытый идеал. Мир испугался б и проснулся, И, как преступник, задрожал, И на былое оглянулся, И робко приговора ждал!.. И в этом гробовом молчаньи Гремел бы смелый голос мой, Звуча огнем негодованья, Звеня правдивою слезой!.. Мне не дано такого слова… Бессилен слабый голос мой, Моя душа к борьбе готова, Но нет в ней силы молодой… В груди – бесплодное рыданье, В устах – мучительный упрек, И давит сердце мне сознанье, Что я – я раб, а не пророк!28 марта 1879
Поэт*
Пусть песнь твоя кипит огнем негодованья И душу жжет своей правдивою слезой, Пусть отзыв в ней найдут и честные желанья, И честная любовь к отчизне дорогой; Пусть каждый звук ее вперед нас призывает, Подавленным борьбой надеждою звучит, Упавших на пути бессмертием венчает И робких беглецов насмешкою клеймит; Пусть он ведет нас в бой с неправдою и тьмою, В суровый, грозный бой за истину и свет, – И упадем тогда мы ниц перед тобою, И скажем мы тебе с восторгом: «Ты – поэт!..» Пусть песнь твоя звучит, как тихое журчанье Ручья, звенящего серебряной струей; Пусть в ней ключом кипят надежды и желанья, И сила слышится, и смех звучит живой; Пусть мы забудемся под молодые звуки И в мир фантазии умчимся за тобой, – В тот чудный мир, где нет ни жгучих слез, ни муки, Где красота, любовь, забвенье и покой; Пусть насладимся мы без дум и размышленья И снова проживем мечтами юных лет, – И мы благословим тогда твои творенья, И скажем мы тебе с восторгом: «Ты – поэт!..»26 мая 1879
Два горя*
Отрывок
1
«Взгляни, как спокойно уснула она: На щечках – румянец играет, В чертах – не борьба роковая видна, Но тихое счастье сияет; Улыбка на сжатые губы легла, Рассыпаны кудри волнами, Опущены веки, и мрамор чела Увит полевыми цветами… Вокруг погребальное пенье звучит, Вокруг раздаются рыданья, И только она безмятежно лежит: Ей чужды тоска и страданья… Душа ее там, где любовь и покой, Где нет ни тревог, ни волнений, Где нет ни безумной печали людской, Ни страстных людских наслаждений… Она отдыхает! О чем же рыдать? Пусть смолкнут на сердце страданья, И будем трудиться, бороться и ждать, Пока не наступит свиданье!..»2
«О, если б в свиданье я веровать мог, О, если б я знал, что над нами Царит справедливый, всевидящий бог И нашими правит судьбами! Но вера угасла в усталой груди; В ней нет благодатного света – И призраком грозным встает впереди Борьба без любви, без привета!.. Напрасно захочет душа отдохнуть И сладким покоем забыться; Мне некому руку в тоске протянуть, Мне некому больше молиться! Она не проснется… она умерла, И в сумрак суровой могилы Она навсегда, навсегда унесла И веру и гордые силы… Оставь же – и дай мне поплакать над ней, Поплакать святыми слезами, – Я плачу над жизнью разбитой моей, Я плачу над прошлыми снами!..»27 мая 1879
На разлуку («Прощайте, папочка…»)*
Н. П. Померанцеву
Прощайте, папочка! Позвольте вас назвать Так, как в года былые вас мы звали. Кто знает, свидимся ль когда-нибудь опять И будет ли свиданье без печали? Быть может, многих ждет за этою стеной Отрада лучших грез и жгучий яд страданья И жизнь наш челн зальет мятежною волной И гордо осмеет заветные желанья. Но прочь предчувствия! К чему глядеть вперед? Простимся же светло, без думы и страданья, – Авось опять судьба нас на пути сведет, И будет радостно отрадное свиданье. И вновь мы проживем мечтами прошлых дней, И, вспомнив их восход, как солнце лучезарный, Вас снова окружит любящий круг детей И прошлое почтит слезою благодарной.2 июня 1879
Сон Иоанна Грозного*
1
И мрак и тишина… В торжественном молчаньи Горит немая ночь над сонною Москвой… Затих обычный шум на улицах столицы, И ряд огней погас в светлицах теремов. Промчался шумный день… На площади широкой Как тень стоит еще высокий эшафот, Но не вопит вокруг толпа, не слышно стонов И не видать суровых палачей. И только в сумраке разбросанные трупы Лежат вокруг – и бледный лик луны Глядит на них с безмолвным состраданьем И снова прячется за облаком седым. А завтра вновь – и эшафот, и муки, И новых жертв покорная толпа, Покуда ночь не остановит казни, Покуда день не утомит царя.2
Дворец его, суровый и безмолвный, Один не спит во мраке. Вся в огнях Сияет царская трапеза. За столами Сидят опричники, бояре и дворяне, И кравчий, брагою наполнив чаши, Их подает пирующим гостям. Задумчивый и грустный за трапезой Сидит сегодня царь… Его не тешит Ни шум толпы, ни песни удалые Двух гусляров, которые поют Про грозный бой у белых стен Казани И славят Русь и русского царя… В его уме встают иные сцены: То видит он суровый эшафот, С которого звучат ему проклятья, То чудятся ему истерзанные трупы И слышится предсмертное хрипенье… И вздрогнув, он очнется – и велит Подать вином наполненную чашу, Пьет сам – и требует, чтоб гости пили, И гуслярам дает приказ плясать… А ночь бежит… Уж кое-где дымятся Угасшие лампады… Уж в речах Гостей звучит порою утомленье И клонит сон их головы хмельные. И вот вином в последний раз Наполнены сверкающие чаши, – И грозный царь, на посох опираясь, Уходит из трапезы… Вслед за ним Расходятся и гости – и вокруг Царит немая мгла и мертвое молчанье…6 июня 1879
Желание*
О, если там, за тайной гроба, Есть мир прекрасный и святой, Где спит завистливая злоба, Где вечно царствует покой, Где ум не возмутят сомненья, Где не изноет грудь в борьбе, – Творец, услышь мои моленья И призови меня к себе! Мне душен этот мир разврата С его блестящей мишурой! Здесь брат рыдающего брата Готов убить своей рукой, Здесь спят высокие порывы Свободы, правды и любви, Здесь ненасытный бог наживы Свои воздвигнул алтари. Душа полна иных стремлений, Она любви и мира ждет… Борьба и тайный яд сомнений Ее терзает и гнетет. Она напрасно молит света С немой и жгучею тоской, Глухая полночь без рассвета Царит всесильно над землей. Твое высокое ученье Не понял мир… Он осмеял Святую заповедь прощенья. Забыв твой светлый идеал, Он стал служить кумирам века; Отвергнув свет, стал жить во мгле, – И с той поры для человека Уж нет святыни на земле. В крови и мраке утопая, Ничтожный сын толпы людской На дверь утраченного рая Глядит с насмешкой и хулой; И тех, кого зовут стремленья К святой, духовной красоте, – Клеймит печатью отверженья И распинает на кресте.7 июня 1879
В тени задумчивого сада*
В тени задумчивого сада, Где по обрыву, над рекой, Ползет зеленая ограда Кустов акации густой, Где так жасмин благоухает, Где ива плачет над водой, – В прозрачных сумерках мелькает Твой образ стройный и живой. Кто ты, шалунья, – я не знаю, Но милым песням на реке Я часто издали внимаю В моем убогом челноке. Они звенят, звенят и льются То с детской верой, то с тоской, И звонким эхом раздаются За неподвижною рекой. Но чуть меня ты замечаешь В густых прибрежных камышах, Ты вдруг лукаво замолкаешь И робко прячешься в кустах; И я, в глуши сосед случайный И твой случайный враг и друг, Люблю следить с отрадой тайной Твой полный грации испуг. Не долог он; пройдет мгновенье – И вновь из зелени густой Твое серебряное пенье Летит и тонет за рекой. Мелькнет кудрявая головка, Блеснет лукавый, гордый взор – И всё поет, поет плутовка, И песням вторит синий бор. Стемнело… Зарево заката Слилось с лазурью голубой, Туманной дымкой даль объята, Поднялся месяц над рекой; Кустов немые очертанья Стоят как будто в серебре, – Прощай, – до нового свиданья И новых песен на заре!..22 июня 1879
«Я заглушил мои мученья…»*
Я заглушил мои мученья, Разбил надежд безумный рой И вырвал с мукой сожаленья Твой образ из груди больной. Прощай! Мы с этих пор чужие, И если встанут пред тобой Былого призраки святые – Зови их бредом и мечтой… Гони их прочь! – не то, быть может, Проснется стыд в душе твоей, И грудь раскаянье загложет, И слезы хлынут из очей…Июнь 1879
Наедине*
Памяти Н. М. Д.
Когда затихнет шум на улицах столицы И ночь зажжет свои лампады вековые, Окутав даль серебряным туманом, Тогда, измученный волненьями дневными, Переступаю я порог гостеприимный Твоей давно осиротевшей кельи, Чтоб в ней найти желанное забвенье. Здесь всё по-старому, всё как в былые годы: Перед киотом теплится, мерцая, Массивная лампада; лик Христа Глядит задумчиво из потемневшей рамы Очами, полными и грусти и любви, – И так и кажется, что вот уста святые Откроет он – и в тишине ночной Вдруг прозвучит страдальца тихий голос: «Приди ко мне, усталый и несчастный, И дам я мир душе твоей больной…» Вокруг окна разросся плющ зеленый И виноград… Сквозь эту сеть глядит Алмазных звезд спокойное сиянье, И тонет даль, окутанная мглой. Раскрыто фортепьяно… На пюпитре Твоих любимых нот лежит тетрадь. На письменном столе букет увядший Из роз и ландышей; неконченный эскиз, Набросанный твоей неопытной рукою, Да Пушкин – твой всегдашний друг… Страница От времени успела пожелтеть, Но до сих пор хранит она ревниво Твои заметки на полях – и время Не смеет их коснуться… На стенах Развешаны гравюры и картины, И между ними привлекает взор Один портрет: лазурные, как небо, Глаза обрамлены ресницами густыми, Улыбка светлая играет на устах, И волны русые кудрей спадают На грудь… Как чудное виденье, Как светлый гость небесной стороны, Он дышит тихою, но ясной красотою, И, кажется, душа твоя живет В портрете этом, светится безмолвно В его больших, задумчивых глазах И шлет привет из стороны загробной Своей улыбкой… Бледное сиянье Лампады довершает грезу… Тихо Склоняю я пред образом колена И за тебя молюсь… Пусть там, за гробом, Тебя отрадно окружает всё, Чего ждала ты здесь, в угрюмом мире Земных страстей, волнений и тревог, И не могла дождаться… Спи, родная, В сырой земле… Пусть вечный ропот жизни Не возмутит твой непробудный сон, Пусть райский свет твои ласкает взоры И райский хор вокруг тебя звучит И ни один мятежный звук не смеет Гармонию души твоей смутить… В моих устах нет слов, – мои моленья Рождаются в душе, не облекаясь В земные звуки, и летят к престолу Творца, – и тихие, отрадные рыданья Волнуют грудь мою… Мне кажется, что небо Отверзлось для меня, что я несусь В струях безбрежного эфира к раю, Где ждет меня она, с улыбкой тихой И лаской братскою… Оживший, обновленный Вступаю я под сень его святую, И мир земной, мир муки и страданий, Мне чужд и жалок… Я живу иной, Прекрасной жизнью, полною блаженства И сладких снов… Но вот моя молитва Окончена. Святое вдохновенье Меня касается крылом своим, – и я Сажусь за фортепьяно… Звук за звуком Несется в тишине глубокой ночи, И льется стройная мелодия… В груди Встают минувших дней святые грезы, Звучат давно затихнувшие речи, – А со стены всё тем же ясным взором Глядит знакомый лик – и свет лампады Играет на его чертах. И мнится Порою мне, что тень твоя витает Вокруг меня в осиротелой келье И с ласкою безмолвной и горячей Склоняется неслышно надо мной. Пора: рассвет не ждет… Бледнеют звезды, И свод небес блеснул полоской алой Проснувшейся зари.Июнь 1879
В горах*
К тебе, Кавказ, к твоим сединам, К твоим суровым крутизнам, К твоим ущельям и долинам, К твоим потокам и рекам, из края льдов – на юг желанный, В тепло и свет – из мглы сырой Я, как к земле обетованной, Спешил усталый и больной. Я слышал шум волны нагорной, Я плачу Терека внимал, Дарьял, нахмуренный и черный, Я жадным взором измерял, И сквозь глухие завыванья Грозы – волшебницы седой – Звенел мне, полный обаянья, Тамары голос молодой. Я забывался: предо мною Сливалась с истиной мечта… Давила мысль мою собою Твоя немая красота… Горели очи, кровь стучала В виски, а бурной ночи мгла И угрожала, и ласкала, И опьяняла, и звала. Как будто с тройкой вперегонку Дух гор невидимо летел И то, отстав, смеялся звонко, То песню ласковую пел… А там, где диадемой снежной Казбек задумчивый сиял, С рукой подъятой ангел нежный, Казалось, в сумраке стоял… И что же? Чудо возрожденья Свершилось с чуткою душой, И гений грез и вдохновенья Склонился тихо надо мной. Но не тоской, не злобой жгучей, Как прежде, песнь его полна, А жизнью, вольной и могучей, Как ты, Кавказ, кипит она…Ноябрь 1879
Похороны*
Слышишь – в селе, за рекою зеркальной, Глухо разносится звон погребальный В сонном затишье полей; Грозно и мерно, удар за ударом Тонет в дали, озаренной пожаром Алых вечерних лучей… Слышишь – звучит похоронное пенье: Это апостол труда и терпенья – Честный рабочий почил… Долго он шел трудовою дорогой, Долго родимую землю с тревогой Потом и кровью поил. Жег его полдень горячим сияньем, Ветер знобил леденящим дыханьем, Туча мочила дождем… Вьюгой избенку его заметало, Градом на нивах его побивало Колос, взращенный трудом. Много он вынес могучей душою, С детства привыкшей бороться с судьбою. Пусть же, зарытый землей, Он отдохнет от забот и волненья – Этот апостол труда и терпенья Нашей отчизны родной.1879
За что?*
Любили ль вы, как я? Бессонными ночами Страдали ль за нее с мучительной тоской? Молились ли о ней с безумными слезами Всей силою любви, высокой и святой? С тех пор когда она землей была зарыта, Когда вы видели ее в последний раз, С тех пор была ль для вас вся ваша жизнь разбита И свет, последний свет, угаснул ли для вас? Нет!.. Вы, как и всегда, и жили, и желали; Вы гордо шли вперед, минувшее забыв, И после, может быть, сурово осмеяли Страданий и тоски утихнувший порыв. Вы, баловни любви, слепые дети счастья, Вы не могли понять души ее святой, Вы не могли ценить ни ласки, ни участья Так, как ценил их я, усталый и больной! За что ж в печальный час разлуки и прощанья Вы, только вы одни, могли в немой тоске Приникнуть пламенем последнего лобзанья К ее безжизненной и мраморной руке? За что ж, когда ее в могилу опускали И погребальный хор ей о блаженстве пел, Вы ранний гроб ее цветами увенчали, А я лишь издали, как чуждый ей, смотрел? О, если б знали вы безумную тревогу И боль души моей, надломленной грозой, Вы расступились бы и дали мне дорогу Стать ближе всех к ее могиле дорогой!1879
«Спи спокойно, моя дорогая…»*
Памяти Н. М. Д.
Во блаженном успении – вечный покой…
Спи спокойно, моя дорогая: Только в смерти – желанный покой, Только в смерти – ресница густая Не блеснет безнадежной слезой; Только там не коснется сомненье Милой, русой головки твоей; Только там – ни тревог, ни волненья, Ни раздумья бессонных ночей!.. Белый гроб твой закидан землею, Белый крест водружен над тобой… Освящен он сердечной мольбою, Окроплен задушевной слезой! Я давно так не плакал… Казалось, Что в груди, утомленной тоской, Всё святое опять просыпалось, Чтоб безумно рыдать над тобой!.. Вот вернется весна, и с весною Дальний гость – соловей прилетит, И в безмолвную ночь над тобою Серебристая песнь зазвенит; И зеленая липа, внимая Чудным звукам, замрет над тобой… Спи ж спокойно, моя дорогая: Только в смерти желанный покой.1879
«Где ты? Ты слышишь ли это рыданье…»*
Посвящается Н. М. Д.
Где ты? Ты слышишь ли это рыданье, Знаешь ли муку бессонных ночей?.. Где ты? Откликнись на стон ожиданья, Черные думы улыбкой рассей… Где ты? Откликнись – и песню проклятья Светлою песней любви замени… Страстной отравой и негой объятья Жгучее горе, как сон, прогони!.. Нету ответа… толпа без участья Мимо проходит обычной тропой, И на могиле разбитого счастья Плачу один я с глубокой тоской…1879
«Рыдать? – Но в сердце нет рыданий…»*
Рыдать? – Но в сердце нет рыданий. Молиться? – Для чего, кому? Нет, рой отрадных упований Чужд утомленному уму. Молитва мне не даст забвенья, Я жду любви, любви земной, Я жить хочу без размышленья, Всей юной силой, всей душой. Таить в душе свои страданья Я не могу – она полна И ждет хоть капли состраданья И молит хоть минуты сна. Кто ж облегчит немую муку, Кто осветит тот темный путь, Кто мне спасающую руку Захочет в горе протянуть?..1879
«В тине житейских волнений…»*
1
В тине житейских волнений, В пошлости жизни людской Ты, как спасающий гений, Тихо встаешь предо мной. Часто в бессонные ночи, Полный тоски и любви, Вижу я ясные очи, Чудные очи твои; Слышу я речи святые, Чувствую ласки родные, – И, утомленный, больной, Вновь оживаю душой, И, от борьбы отдыхая, Снова готовый к борьбе, Сладко молюсь я, рыдая, С светлой мечтой о тебе.2
Пусть ты в могиле зарыта, Пусть ты другими забыта – Да, ты для них умерла!.. Но для меня – ты живая, Ты из далекого рая К брату на помощь пришла. Сердце ль изноет от муки, Руки ль устанут в борьбе, – Эти усталые руки Я простираю к тебе. Где ты? Откликнись, родная! И на призыв мой больной Ты, как бывало, живая Тихо встаешь предо мной.3
Кудри упали на плечи, Щечки румянцем горят, Светлые, тихие речи Страстною верой звучат: «Милый, не падай душою, Знай, что настанет пора – И заблестит над землею Зорька любви и добра. Правда, свобода и знанье Станут кумиром людей, И в беспредельном сияньи Будет и сердцу теплей…»1879
«При жизни любила она украшать…»*
При жизни любила она украшать Тяжелые косы венками, И, верно, в гробу ей отраднее спать На ложе, увитом цветами… Торжественно яркое утро горит, Торжественно солнце сияет, Торжественно стройное пенье звучит И тихой мольбой замирает… И гроб ее белый, и яркий покров, И купол церковный над нами, И волны народа, и ряд образов – Всё ярко залито лучами… Как будто всей дивною негой своей, Всем чудным своим обаяньем Весна и природа прощаются с ней Последним горячим лобзаньем… К чему эти слезы? О ней ли жалеть С безумно упорной тоскою? О, если б и все мы могли умереть С такою же чистой душою! О, если б и все мы прощались с землей С такою ж надеждою ясной, Что ждет нас за гробом не сон вековой, А мир благодатно прекрасный!1879
В альбом («Когда в минуты вдохновенья…»)*
Когда в минуты вдохновенья Твой светлый образ предо мной Встает, как чудное виденье, Как сон, навеянный мечтой, И сквозь туман его окраски Я жадным взором узнаю Твои задумчивые глазки И слышу тихое «люблю», Я в этот миг позабываю, Что я мечтою увлечен, За счастье призрак принимаю, За правду принимаю сон. Нет и следа тоски и муки; Восторг и жизнь кипят в груди, И льются, не смолкая, звуки Горячей песнею любви. И грустно мне, когда виденье Утонет в сумраке ночном, И снова желчь и раздраженье Звучат в стихе моем больном. Яд тайных дум и злых сомнений Опять в груди кипит сильней, И мрачных песен мрачный гений Владеет лирою моей.1879
Ф. Ф. Стаалю*
Окончен скучный путь. От мудрости различной Освободились мы, хоть не на долгий срок. Вдали от скучных стен гимназии столичной Покой наш не смутит докучливый звонок. Мы разбредемся все – до нового свиданья; Надежды светлые кипят у нас в груди. Мы полны юных сил, и грез, и упованья, И призрак счастия манит нас впереди. Мы в будущность глядим без грусти и тревоги, В немую даль идем уверенной стопой, И будем всё идти, пока шипы дороги Нас не измучают сомненьем и тоской. Когда ж в груди у нас заговорят проклятья На жизнь, разбитую безжалостной судьбой, Мы вспомним, может быть, что все мы были братья, Что все мы выросли под кровлею одной, – Что в мире есть еще для нас душа родная, Что связывают нас предания одне… И вспыхнет на очах у нас слеза святая, Как дань минувшим снам и светлой старине.1879
Боярин Брянский*
Народное предание[23]
За зеленым лесом зорька золотая Гаснет, догорая алыми лучами; С вышины лазурной ночка голубая Смотрит вниз на землю звездами-очами, Над рекой клубятся легкие туманы, И бежит шалунья, нивы обвивая, Пробуждая плеском сонные поляны, Темный лес веселой струйкой оживляя. Некогда над этой речкой голубою Был боярский терем, мрачный и угрюмый. Он стоял одетый зеленью густою, Точно гордый витязь с затаенной думой. На заре нередко тишина немая Нарушалась песнью девичьей живою: В тереме угрюмом, юность вспоминая, Жил опальный кравчий с дочкой молодою. Занятый мечтою о минувшем счастье, Вспоминая сердцем прежние сраженья, Нелегко боярин выносил ненастье, Втайне ожидая царского прощенья. Но года бежали – из Москвы нет вести, Поседел боярин в горе и изгнаньи; Постарел он в думе о боярской чести И в глубоком, скрытом на душе, страданьи. Между тем из прежней розовой малютки Дочь его уж стала девушкой-красою. На устах лукавых вечный смех да шутки, Ясный взор сверкает жизнью молодою. Чуть блеснет, бывало, зорька золотая Над рекой, одетой утренним туманом, Уж звенит и льется песня, не смолкая, По лугам росистым и лесным полянам. День пройдет в работе. Вечером ведется Разговор про славу и былые брани. Оживет боярин… сердце встрепенется, Вспомнив про паденье и позор Казани. Слушает Мария – грезы молодые Битву ей рисуют яркими чертами… А в окошко смотрят звезды золотые, И луна сверкает бледными лучами. За окном деревья, будто великаны, Шевелят в раздумье темными ветвями; Словно дым от пушек, белые туманы Над рекой зеркальной носятся волнами. И в ночном затишье слышатся ей звуки: Стоны, плач, проклятья, страшный вопль страданья, И порой как будто крик последней муки За рекой раздастся в гробовом молчаньи. С утром вновь смеются розовые губки, И далёко слышны милый смех и шутки. С утром – снова песни льются, не смолкая. Так бежит неслышно молодость живая. Уж пора и замуж отдавать Марию; Загрустил боярин гордый и угрюмый И не спал нередко ночи голубые, Занятый всё той же неразлучной думой. Часто проникало тайное сомненье В грудь его больную злобною змеею: Полно, не напрасно ль жаждет он прощенья, Не забыт ли Брянский Русью и Москвою? Может быть, другие стали там у трона; Царский взор встречают, пьют из чаши царской; Может быть, другие, царству оборона, Сели в царской думе на скамье боярской? Нет, не позабыты прежние сраженья, Не забыт и Брянский, и гонец стрелою В терем одинокий вестником прощенья Прискакал однажды полночью глухою. Ожил мрачный терем, – принялись за сборы, Ожил и боярин и гонцу внимает: Царь-де забывает старые раздоры И тебя, боярин, снова призывает. Рад боярин. Только дочь его Мария, То узнав, поникла русой головою, Как огнем, сверкнули глазки голубые Горем и внезапной тайною тоскою. Сердце молодое облилось в ней кровью, Больно ей расстаться с тихою дубравой, А еще больнее – с первою любовью, С смелой, бесталанной головой кудрявой. Уж давно в соседстве мелким дворянином Жил Петруша Власов с матерью седою; Жил он одиноко, скромным селянином, Сам ходил по пашне за своей сохою. Как слюбилась с парнем гордая Мария, – Это знают только звезды золотые, Звезды золотые, ноченьки глухие, Да шалуньи-речки волны голубые. И не видит Брянский, что ночной порою Там, в светлице душной, тихо льются слезы, И не знает Брянский, за кого с тоскою В небеса несутся и мольбы и грезы. Утомился Брянский и уснул глубоко. Спит он и не знает, что его Мария Убежать решилась от отца далеко И покрыть позором волосы седые. Злобно воет ветер, тучи нагоняя; За угрюмым лесом дальний гром играет; Уж давно погасла зорька золотая, И седая полночь полог расстилает; Из окна Марии нитью золотою По волнам приветный огонек играет, И давно Мария с тайною тоскою Смотрит в сад и знака к бегству поджидает. Каждый легкий шорох, каждое движенье – Всё в ней вызывает муку ожиданья: «Вот он… вот…»; но снова пролетит мгновенье, И опять повсюду мертвое молчанье, Только ветер с плачем шевелит ветвями И кусты осоки над рекой качает, Да река о берег мутными волнами С безысходной грустью глухо ударяет. Чу… хрустят и гнутся камыши речные, Кто-то молодецки борется с волнами… «Ты, Петруша?..» – тихо молвила Мария, В темноту впиваясь робкими очами. – «Я… скорее, Маша…» И на всё готовый Ждал он, прислонившись. Жадно грудь дышала, Полон был отваги взор его суровый, И широкий ножик рученька сжимала. Вот она… раскрылись жаркие объятья, И уста слилися с нежными устами… Вдруг во мгле глубокой раздались проклятья, Глухо повторяясь дальними горами: «Здравствуй, дочь! Не ждала гостя дорогого?.. Принимай и потчуй из руки дворянской!.. Принимай с почетом старика седого!..» – Загремел, от злобы задыхаясь, Брянский. Но уж было поздно: беглецы сокрылись! Вот они безмолвно борются с волнами; Вот кусты осоки тихо расступились, И они исчезли, скрытые ветвями. Он плывет за ними… старческой рукою Волны-великаны смело рассекает… Не доплыл боярин – скрылся под водою, А над ним свой полог речка закрывает… Из кустов прибрежных беглецы взирали, Как погиб боярин, – но они и сами В беспощадной битве силы потеряли; Им не сладить снова с бурными волнами… Между тем, разбужен криками ночными, Ожил старый витязь – терем одинокий: Закипел повсюду толками людскими, Засиял огнями в темноте глубокой. Над рекой собравшись тесною толпою, Слуги рассуждали о беде великой: Как бы лучше сладить с мачехой-судьбою, Как поладить с речкой бурною и дикой. Вдруг дворецкий вспомнил древнее преданье: «Из воды возможно выкупить деньгами». И сейчас же отдал слугам приказанье Отворить подвалы ржавыми ключами. По волнам мятежным лунный луч дробится, И в кустах осоки гробовым рыданьем Резкий ветер стонет и угрюмо злится, Проносясь по листьям с тихим завываньем. Заскрипели двери, сундуки с деньгами Вынесли на берег; в волны голубые Серебро со звоном падает горстями… Глухо вторят звону струйки золотые… Буря умолкает… речка голубая Стихла понемногу грозными волнами, И над ней, качаясь, тихо выплывает Голова седая с мокрыми кудрями. Вот и плечи видно… руки обнажились, В серебристой пене борода мелькает… Но опять седые волны расступились, И река добычу скоро поглощает. «Денег не хватило… больше нет спасенья…» Над рекой рыдает бедная Мария, Грудь ее волнует горе и мученья, В голове мелькают мысли роковые: «Я всему виною… я тебя убила… – Шепчет дочь, поникнув в горе над водою. – Там, в пучине влажной, там твоя могила… Нет, я не расстанусь, мой отец, с тобою…» И глухим рыданьем замер голос нежный. Где ж она?.. Смотрите… вон она мелькает Над пучиной темной, в пене белоснежной, И в волнах угрюмых тихо исчезает. Нет ее… Погибла бедная Мария! Нет ее… Над нежной, русой головою Глухо захлебнулись волны голубые Влажной и холодной синей пеленою. С той поры нередко полночью глухою Над рекой слыхали тихие рыданья. То боярин Брянский с дочкой молодою, – Говорит народа робкое преданье, – То боярин Брянский просит погребенья… И спешит прохожий скорыми шагами Прочь от страшной речки в мирное селенье По тропинке, скрытой темными кустами.1879
«В тот тихий час, когда неслышными шагами…»*
В тот тихий час, когда неслышными шагами Немая ночь взойдет на трон свой голубой И ризу звездную расстелет над горами, – Незримо я беседую с тобой. Душой растроганной речам твоим внимая, Я у тебя учусь и верить и любить, И чудный гимн любви – один из гимнов рая – В слова стараюсь перелить. Но жалок робкий звук земного вдохновенья: Бессилен голос мой, и песнь моя тиха, И горько плачу я – и диссонанс мученья Врывается в гармонию стиха.1879
«Ты помнишь – ночь вокруг торжественно горела…»*
Ты помнишь – ночь вокруг торжественно горела И темный сад дремал, склонившись над рекой… Ты пела мне тогда, и песнь твоя звенела Тоской, безумною и страстною тоской… Я жадно ей внимал – в ней слышалось страданье Разбитой веры в жизнь, обманутой судьбой – И из груди моей горячее рыданье Невольно вырвалось в ответ на голос твой. Я хоронил мои разбившиеся грезы, Я ряд минувших дней с тоскою вспоминал. Я плакал, как дитя, и, плача, эти слезы Я всей душой тогда благословлял. С тех пор прошли года, и снова над рекою Рыдает голос твой во мраке голубом, И снова дремлет сад, объятый тишиною, И лунный свет горит причудливо на нем. Истерзанный борьбой, измученный страданьем – Я много вытерпел, я много перенес. Я б облегчить хотел тоску мою рыданьем, – Но… в сердце нет давно святых и светлых слез.1879
Томас Мюнцер*
Наперекор стремленьям века Железным словом и мечом Он встал за право человека На бой с неправдою и злом. Он массы темного народа Высокой верой вдохновлял И а. щите своем «свобода» Рукой бесстрашной начертал. Как гром, его призыв суровый Промчался по стране родной: «Народ, разбей свои оковы И встань на бой, на страшный бой! Сорви ярмо своих тиранов, Иди врагов своих судить, Пусть знает мир, каких титанов Он захотел поработить. Довольно ты страдал в неволе, Откинь же малодушный страх… Тебе ль, страдальцу, лучшей доли Не пожелать в своих цепях. Твой труд порабощен… селенья Разорены… твоих детей В грядущем ждут одни мученья Да кнут и цепи палачей… Не для того за нас спаситель Лил на кресте святую кровь, Нам проповедовал учитель Свободу, братство и любовь. Ты создан не рабом – свобода Тебя давно, как сына, ждет!» И море темного народа Ему ответило: «Вперед!» Бой закипел… Народ толпами К знаменам Мюнцера бежал, Повсюду кровь лилась волнами И гром орудий грохотал. [Пылали замки…]1879
«Горячее солнце так ласково греет…»*
Горячее солнце так ласково греет, Так мирно горит голубой небосвод, Что сердце невольно в груди молодеет И любит, как прежде, и верит и ждет.1879
«Когда душа твоя истерзана страданьем…»*
Когда душа твоя истерзана страданьем И грудь полна тоской, безумною тоской, – Склонись тогда пред тем с горячим упованьем, Кто – кротость и любовь, забвенье и покой. Откинь в уме твоем возникшие сомненья, Молись ему, как раб, с покорностью немой – И он подаст тебе и слезы примиренья, И силу на борьбу с безжалостной судьбой…1879
«Замолк последний звук. Как тихое рыданье…»*
Замолк последний звук. Как тихое рыданье, Звеня, пронесся он над сонною рекой. В нем вылилась тоска последнего свиданья, Последнее «прости» разлуки роковой! Не плачь… не возвратить безумною слезою Прошедших светлых дней, осмеянных судьбой… Они прошли, как сон, навеянный мечтою, Как эта песнь, допетая тобой.1879
«Пусть стонет мрачный лес при шуме непогоды…»*
Пусть стонет мрачный лес при шуме непогоды, Пусть в берег бьет река мятежною волной, С ночными звуками бушующей природы Сливаюсь я моей истерзанной душой. Я не один теперь – суровые страданья Со мною делит ночь, могучий друг и брат. В рыданиях ее – звучат мои рыданья, В борьбе ее – мои проклятия кипят.1879
«Порваны прежние струны на лире моей…»*
Порваны прежние струны на лире моей, Смолкли любви и надежд вдохновенные звуки. Новая песня звучит и рыдает на ней, Песня осмеянных слез и подавленной муки. Пусть же она раздается, как отзыв живой, Всем, кто напрасно молил у людей состраданья, Пусть утешает своей безобидной слезой Жгучую боль и отраву тоски и страданья.1879
Иуда*
1
Христос молился… Пот кровавый С чела поникшего бежал… За род людской, за род лукавый Христос молрнья воссылал; Огонь святого вдохновенья Сверкал в чертах его лица, И он с улыбкой сожаленья Сносил последние мученья И боль тернового венца. Вокруг креста толпа стояла, И грубый смех звучал порой… Слепая чернь не понимала, Кого насмешливо пятнала Своей бессильною враждой. Что сделал он? За что на муку Он осужден, как раб, как тать, И кто дерзнул безумно руку На бога своего поднять? Он в мир вошел с святой любовью, Учил, молился и страдал – И мир его невинной кровью Себя навеки запятнал!.. Свершилось!..2
Полночь голубая Горела кротко над землей; В лазури ласково сияя, Поднялся месяц золотой. Он то задумчивым мерцаньем За дымкой облака сверкал, То снова трепетным сияньем Голгофу ярко озарял. Внизу, окутанный туманом, Виднелся город с высоты. Над ним, подобно великанам, Чернели грозные кресты. На двух из них еще висели Казненные; лучи луны В их лица бледные глядели С своей безбрежной вышины. Но третий крест был пуст. Друзьями Христос был снят и погребен, И их прощальными слезами Гранит надгробный орошен.3
Чье затаенное рыданье Звучит у среднего креста? Кто этот человек? Страданье Горит в чертах его лица. Быть может, с жаждой исцеленья Он из далеких стран спешил, Чтоб Иисус его мученья Всесильным словом облегчил? Уж он готовился с мольбою Упасть к ногам Христа – и вот Вдруг отовсюду узнает, Что тот, кого народ толпою Недавно как царя встречал, Что тот, кто свет зажег над миром, Кто не кадил земным кумирам И зло открыто обличал, – Погиб, забросанный презреньем, Измятый пыткой и мученьем!.. Быть может, тайный ученик, Склонясь усталой головою, К кресту учителя приник С тоской и страстною мольбою? Быть может, грешник непрощенный Сюда, измученный, спешил И здесь, коленопреклоненный, Свое раскаянье излил? – Нет, то Иуда!.. Не с мольбой Пришел он – он не смел молиться Своей порочною душой; Не с телом господа проститься Хотел он – он и сам не знал, Зачем и как сюда попал.4
Когда на муку обреченный, Толпой народа окруженный На место казни шел Христос И крест, изнемогая, нес, Иуда, притаившись, видел Его страданья и сознал, Кого безумно ненавидел, Чью жизнь на деньги променял. Он понял, что ему прощенья Нет в беспристрастных небесах, – И страх, бессильный рабский страх, Угрюмый спутник преступленья, Вселился в грудь его. Всю ночь В его больном воображеньи Вставал Христос. Напрасно прочь Он гнал докучное виденье, Напрасно думал он уснуть, Чтоб всё забыть и отдохнуть Под кровом молчаливой ночи: Пред ним, едва сомкнет он очи, Всё тот же призрак роковой Встает во мраке, как живой!5
Вот он, истерзанный мученьем, Апостол истины святой, Измятый пыткой и презреньем, Распятый буйною толпой; Бог, осужденный приговором Слепых, подкупленных судей! Вот он!.. Горит немым укором Небесный взор его очей. Венец любви, венец терновый Чело спасителя язвит, И, мнится, приговор суровый В устах разгневанных звучит… «Прочь, непорочное виденье, Уйди, не мучь больную грудь!.. Дай хоть на час, хоть на мгновенье Не жить… не помнить… отдохнуть… Смотри: предатель твой рыдает У ног твоих… О, пощади! Твой взор мне душу разрывает… Уйди… исчезни… не гляди!.. Ты видишь: я готов слезами Мой поцелуй коварный смыть… О, дай минувшее забыть, Дай душу облегчить мольбами… Ты бог… Ты можешь всё простить! . . . . . . . . . . . . . . . А я? Я знал ли сожаленье? Мне нет пощады, нет прощенья!»6
Куда уйти от черных дум? Куда бежать от наказанья? Устала грудь, истерзан ум, В душе – мятежные страданья. Безмолвно в тишине ночной, Как изваянье, без движенья, Всё тот же призрак роковой, Стоит залогом осужденья… А здесь, вокруг, горя луной, Дыша весенним обаяньем, Ночь разметалась над землей Своим задумчивым сияньем, И спит серебряный Кедрон, В туман прозрачный погружен…7
Беги, предатель, от людей И знай: нигде душе твоей Ты не найдешь успокоенья: Где б ни был ты, везде с тобой Пойдет твой призрак роковой Залогом мук и осужденья. Беги от этого креста, Не оскверняй его лобзаньем: Он свят, он освящен страданьем На нем распятого Христа! . . . . . . . . . . . . . . . И он бежал!.. . . . . . . . . . . . . . . .8
Полнебосклона Заря пожаром обняла И горы дальнего Кедрона Волнами блеска залила. Проснулось солнце за холмами В венце сверкающих лучей. Всё ожило… шумит ветвями Лес, гордый великан полей, И в глубине его струями Гремит серебряный ручей… В лесу, где вечно мгла царит, Куда заря не проникает, Качаясь, мрачный труп висит; Над ним безмолвно расстилает Осина свой покров живой И изумрудного листвой Его, как друга, обнимает. Погиб Иуда… Он не снес Огня глухих своих страданий, Погиб без примиренных слез, Без сожалений и желаний. Но до последнего мгновенья Всё тот же призрак роковой Живым упреком преступленья Пред ним вставал во тьме ночной; Всё тот же приговор суровый, Казалось, с уст его звучал, И на челе венец терновый, Венец страдания, лежал!1879
По следам Диогена*
Посвящается В. Слабошевичу
Я зажег свой фонарь. Огоньком золотым Он во мгле загорелся глубокой. И по свету бродить я отправился с ним То тропой, то дорогой широкой. Я везде побывал – у подножья божков И любимцев прогресса и века, И под кровлей забытых, презренных рабов, – Я повсюду искал человека. Беспредельная, грозная мгла над землей Простирала могильные сени, И во мгле окровавленной, страшной толпой Шевелились и двигались тени. Исхудалые, бледные, в тяжких цепях Шли они трудовою дорогой И тельцов золотых на усталых руках Проносили с тоской и тревогой. Если двое столкнутся – безжалостный бой Начинают безумные братья… Льется кровь, разливаясь широкой волной, И гремят над толпою проклятья; И напрасно безумцев разнять я хотел, Говоря им о правде и боге: Этот бой беспощадный повсюду кипел На тернистой житейской дороге! И с улыбкой, исполненной злобы глухой, С высоты своего пьедестала Беспредельно царил над развратной толпой Гордый призрак слепого Ваала. Где же люди? Тоскующий взор не встречал Ни любви бескорыстной, ни ласки; Только стон над землей утомленной стоял, Да с безумным весельем повсюду звучал Дикий грохот вакхической пляски. Где же жизнь? Неужели мы жизнью зовем Этот мрак без лучей идеала?.. И ушел я поспешно с моим фонарем Из мятежного царства Ваала. Я хотел отдохнуть на просторе полей От бесплодных и долгих исканий, От разврата и злобы погибших людей, От жестокой борьбы и рыданий. Предо мной расстилалась туманная даль.. Ночь повсюду безмолвно дремала, И подруга раздумья – немая печаль На душе словно камень лежала. Грустно, грустно кругом. Никого – кто бы мог Облегчить накипевшую муку, Кто б в неравной борьбе мне участьем помог, Протянул бы по-дружески руку… Люди-братья! Когда же окончится бой У подножья престола Ваала И блеснет в небесах над усталой землей Золотая заря идеала!1879
«Заря лениво догорает…»*
Заря лениво догорает На небе алой полосой; Село беззвучно засыпает В сияньи ночи голубой; И только песня, замирая, В уснувшем воздухе звучит, Да ручеек, струей играя, С журчаньем по лесу бежит… Какая ночь! Как великаны, Деревья сонные стоят, И изумрудные поляны В глубокой мгле безмолвно спят.. В капризных, странных очертаньях Несутся тучки в небесах; Свет с тьмой в роскошных сочетаььях Лежит на листве и стволах.. С отрадой жадной грудь вдыхает В себя прохладные струи, И снова в сердце закипает Желанье счастья и любви…Облака («По лазури неба тучки золотые…»)*
1
По лазури неба тучки золотые На заре держали к морю дальний путь, Плыли, – зацепились за хребты седые И остановились на ночь отдохнуть. Целый чудный город, с башнями, с дворцами, С неподвижной массой дремлющих садов, Вырос из залитой мягкими лучами Перелетной стаи вешних облаков. Тут немые рощи замок окружили, Там через ущелье легкий мост повис. Вырос храм, и стройный портик обступили Мраморные группы, тяготя карниз; Высоко вознесся купол округленный И поник на кроны розовых колонн, И над всем сияет ярко освещенный Новый, чудный купол – южный небосклон!..2
Милый друг, не верь сияющим обманам! Этот город – призрак: он тебе солжет, – Он тебя пронижет ветром и туманом, Он тебя холодным мраком обоймет. Милый друг, не рвись усталою душою От земли – порочной родины твоей, – Нет, трудись с землею и страдай с землею Общим тяжким горем братьев и людей. Долог труд, зато глубоко будет счастье: Кровью и слезами купленный покой Не спугнет бесследно первое ненастье, Не рассеет первой легкою грозой! О, не отдавай же сердца на служенье Призрачным обманам и минутным снам: Облака красивы, но в одно мгновенье Ветер разметать их может по горам!..Май 1880
«Да, хороши они, кавказские вершины…»*
Да, хороши они, кавказские вершины, В тот тихий час, когда слабеющим лучом Заря чуть золотит их горные седины И ночь склоняется к ним девственным челом. Как жрицы вещие, объятые молчаньем, Они стоят в своем раздумье вековом, А там, внизу, сады кадят благоуханьем Пред их незыблемым гранитным алтарем; Там – дерзкий гул толпы, объятой суетою, Водоворот борьбы, страданий и страстей, – И звуки музыки над шумною Курою, И цепи длинные мерцающих огней!.. Но нет в их красоте знакомого простора: Куда ни оглянись – везде стена хребтов, – И просится душа опять в затишье бора, Опять в немую даль синеющих лугов; Туда, где так грустна родная мне картина, Где ветви бледных ив склонились над прудом, Где к гибкому плетню приникнула рябина, Где утро обдает осенним холодком… И часто предо мной встают под небом Юга, В венце страдальческой и кроткой красоты, Родного Севера – покинутого друга – Больные, грустные, но милые черты…Июнь 1880
Тифлис
«Томясь и страдая во мраке ненастья…»*
Друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?
Св. Евангелие Томясь и страдая во мраке ненастья, Горячее, чуткое сердце твое Стремится к блаженству всемирного счастья И видит в нем личное счастье свое. Но, друг мой, напрасны святые порывы: На жизненной сцене, залитой в крови, Довольно простора для рынка наживы И тесно для светлого храма любви!.. Но если и вправду замолкнут проклятья, Но если и вправду погибнет Ваал И люди друг друга обнимут, как братья, И с неба на землю сойдет идеал, – Скажи: в обновленном и радостном мире Ты, свыкшийся с чистою скорбью своей, Ты будешь ли счастлив на жизненном пире, Мечтавший о счастье печальник людей? Ведь сердце твое – это сердце больное – Заглохнет без горя, как нива без гроз: Оно не отдаст за блаженство покоя Креста благодатных страданий и слез. Что ж, если оно затоскует о доле Борца и пророка заветных идей, Как узник, успевший привыкнуть к неволе, Тоскует о мрачной темнице своей?Июль 1880
Отрывок («И вот, от ложа наслажденья…»)*
И вот, от ложа наслажденья И нег любви оторвана, Перед судилищем она Предстала с трепетом смущенья. Греха открытого позор К земле чело ее склоняет; Она молчит – и только взор Молить о милости дерзает… Напрасны были б оправданья: Еще греховные лобзанья, Казалось, жгли ее уста, Грудь сладострастно волновалась, И вся звала, вся отдавалась Ее нагая красота. Она виновна, нет сомненья; Но грозный час суда настал, И рокового обвиненья Никто промолвить не дерзал. Закон суров, и казнь ужасна, А эта падшая жена Так упоительно-прекрасна, Так беззащитно-смущена. И в первый раз греховным взором Смущен, бесстрастный круг судей Сидел, замедля приговором В немом волненьи перед ней..1880
«Я не тому молюсь, кого едва дерзает…»*
Я не тому молюсь, кого едва дерзает Назвать душа моя, смущаясь и дивясь, И перед кем мой ум бессильно замолкает, В безумной гордости постичь его стремясь; Я не тому молюсь, пред чьими алтарями Народ, простертый ниц, в смирении лежит, И льется фимиам душистыми волнами, И зыблются огни, и пение звучит; Я не тому молюсь, кто окружен толпами Священным трепетом исполненных духов И чей незримый трон за яркими звездами Царит над безднами разбросанных миров, – Нет, перед ним я нем!.. Глубокое сознанье Моей ничтожности смыкает мне уста, – Меня влечет к себе иное обаянье – Не власти царственной, но пытки и креста. Мой бог – бог страждущих, бог, обагренный кровью, Бог-человек и брат с небесною душой, – И пред страданием и чистою любовью Склоняюсь я с моей горячею мольбой!..1860
«Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат…»*
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, Кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят Над омытой слезами землей, Пусть разбит и поруган святой идеал И струится невинная кровь, – Верь: настанет пора – и погибнет Ваал, И вернется на землю любовь! Не в терновом венце, не под гнетом цепей, Не с крестом на согбенных плечах, – В мир придет она в силе и славе своей, С ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, Ни бескрестных могил, ни рабов, Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды, Ни меча, ни позорных столбов! О мой друг! Не мечта этот светлый приход, Не пустая надежда одна: Оглянись, – зло вокруг чересчур уж гнетет, Ночь вокруг чересчур уж темна! Мир устанет от мук, захлебнется в крови, Утомится безумной борьбой – И поднимет к любви, к беззаветной любви, Очи, полные скорбной мольбой!..1880
Поэзия («За много лет назад, из тихой сени рая…»)*
За много лет назад, из тихой сени рая, В венке душистых роз, с улыбкой молодой, Она сошла в наш мир, прелестная, нагая И гордая своей невинной красотой. Она несла с собой неведомые чувства, Гармонию небес и преданность мечте, – И был закон ее – искусство для искусства, И был завет ее – служснье красоте. Но с первых же шагов с чела ее сорвали И растоптали в прах роскошные цветы, И темным облаком сомнений и печали Покрылись девственно-прекрасные черты. И прежних гимнов нет!.. Ликующие звуки Дыханием грозы бесследно унесло, – И дышит песнь ее огнем душевной муки, И тернии язвят небесное чело!..1880
В альбом («Непрошеный стучусь я в ваш альбом…»)*
Е. А. Стобеус
Непрошеный стучусь я в ваш альбом, Как странник, на пути застигнутый грозою, Стучит в чужую дверь, под вьюгой и дождем, Окоченелою от холода рукою: «Пустите, – молит он, – не прогоняйте прочь! Я долго честно шел к своей заветной цели, Но грозен черный лес в разгневанную ночь, Суров и страшен путь – и силы ослабели…» Услышат ли его? Отворится ль пред ним Вход в дом, иль он прождет до света за оградой? И как отворится: с участьем ли живым, Иль с тайною, холодною досадой? И, оглядев его оборванный наряд – След тайных бурь и ранних испытаний, – Не бросят ли ему обидный взгляд Сомненья в святости его желаний?Мелодия*
Я б умереть хотел на крыльях упоенья, В ленивом полусне, навеянном мечтой, Без мук раскаянья, без пытки размышленья, Без малодушных слез прощания с землей. Я б умереть хотел душистою весною, В запущенном саду, в благоуханный день, Чтоб купы темных лип дремали б надо мною И колыхалась бы цветущая сирень. Чтоб рядом бы ручей таинственным журчаньем Немую тишину тревожил и будил И синий небосклон торжественным молчаньем Об райской вечности мне внятно говорил. Чтоб не молился б я, не плакал, умирая, А сладко задремал и снилось мне б во сне, Что я плыву… плыву и что волна немая Беззвучно отдает меня другой волне..1880
«О, спасибо вам, детские годы мои…»*
О, спасибо вам, детские годы мои, С вашей ранней недетской тоскою! Вы меня научили на слово любви Отзываться всей братской душою. Истомивши меня, истерзавши мне грудь, С глаз моих вы завесу сорвали, И блеснул предо мною неведомый путь – Путь горячей любви и печали..1880
«Если душно тебе, если нет у тебя…»*
Если душно тебе, если нет у тебя В этом мире борьбы и наживы Никого, кто бы мог отозваться, любя, На сомненья твои и порывы; Если в сердце твоем оскорблен идеал, Идеал человека и света, Если честно скорбишь ты и честно устал, – Отдохни над страницей поэта. В стройных звуках своих вдохновенных речей, Чуткий к каждому слову мученья, Он расскажет тебе о печали твоей, Но расскажет, как брат, без глумленья; Он поднимет угасшую веру в тебе, Он разгонит сомненья и муку И протянет тебе, в непосильной борьбе, Бескорыстную братскую руку… Но умей же и ты отозваться душой Всем, кто ищет и просит участья, Всем, кто гибнет в борьбе, кто подавлен нуждой, Кто устал от грозы и ненастья. Научись беззаветно и свято любить, Увенчай молодые порывы, – И тепло тебе станет трудиться и жить В этом мире борьбы и наживы.1880
«В мире были счастливцы…»*
В мире были счастливцы, – их гимны звучали, Как хвалебные арфы бесплотных духов; В этих гимнах эдемские зори сияли И струилось дыханье эдемских садов; В этих гимнах – как в зеркале сонного моря Отражается небо и склон берегов – Отразились и слезы блаженного горя, И мечты, и желанья их дивных творцов. Полюбить ли случалось им – сила искусства Помогала им в каждую душу влагать К их избранницам те же горячие чувства, Тем же сладким недугом весь мир волновать; Имена их избранниц хвалой становились И в ряду знаменитых и славных имен, Сквозь бессильную давность годов, доносились Невредимо и свято до наших времен. Милый друг, твой певец не прославлен хвалою И тебя не прославит любовью своей, Но зато и живет он и дышит тобою, И на славу не сменит улыбки твоей…1880
Мелодии («Погоди: угаснет день…»)*
1
Погоди: угаснет день, Встанет месяц над полями, На пруду и свет и тень Лягут резкими штрихами. В сладкой неге сад заснет, И к груди его, пылая, Полночь душная прильнет, Как вакханка молодая, – И умчится смутный рой Дум, страданья и сомненья, И склонится над тобой Этой ночи дух немой – Тихий гений примиренья…2
На западе хмурые тучи За хмурые горы ползут, И молнии черные кручи Мгновенным лобзанием жгут, А справа уж, чуждая бури, Над гранями снежных высот, В сияющей звездной лазури Душистая полночь плывет… Еще не затихли страданья В душе потрясенной моей, А счастье и мир упованья Уж робко ласкаются к ней; И после порывов мученья, Минувших с минувшей грозой, Ей вдвое дороже забвенье И вдвое отрадней покой…1880
«Вы смущены… такой развязки…»*
Вы смущены… такой развязки Для ежедневной старой сказки Предугадать вы не могли, – И, как укор, она пред вами Лежит, увитая цветами… Не плачьте ж – поздними слезами Не вырвать жертвы у земли!1880
На мгновенье*
Пусть нас давят угрюмые стены тюрьмы, – Мы сумеем их скрыть за цветами, Пусть в них царство мышей, паутины и тьмы, – Мы спугнем это царство огнями. Пусть нас тяжкая цепь беспощадно гнетет, Да зато нет для грезы границы: Что ей цепь?.. Цепь она, как бечевку, порвет И умчится свободнее птицы. Перед нею и рай лучезарный открыт, Ей доступны и бездны морские, И безбрежье степей, и пески пирамид, И вершины хребтов снеговые… В наши стены волшебно она принесет Всю природу, весь мир необъятный, – И в темнице нам звездное небо блеснет, И повеет весной ароматной! Нам прожить остается одну эту ночь, Но зато – это ночь наслажденья, Прочь же мрачные думы и слезы, – всё прочь, Что рождает тоску и сомненья!.. Мы на пир наш друзей и подруг созовем. Заглушив в себе стоны проклятий, И в объятьях любви беззаботно уснем, Чтоб проснуться для смертных объятий! И да будут позор и несчастье тому, Кто, осмелившись сесть между нами, Станет видеть упрямо всё ту же тюрьму За сплетенными сетью цветами; Кто за полным бокалом нам крикнуть дерзнет, К нам в слезах простирая объятья: «Братья, жадное время не терпит, не ждет! Утро близко!.. Опомнитесь, братья!»1880
«В роще зеленой, над тихой рекой…»*
В роще зеленой, над тихой рекой Веет и вьется дымок голубой И, от костра подымаясь, столбом Тихо плывет над соседним кустом. Белая полночь тиха и ясна, В воздухе вкрадчиво веет весна, Веет и нежит, и к жизни зовет, Нежит, ласкает и песню поет. Чудная песня! Прислушайся к ней: «Смолкните слезы и стоны людей, Я, как вакханка, вернулась к земле С чашей в руках и венком на челе…»1880
Поэзия («Прелестная, полунагая…»)*
Прелестная, полунагая, С венком на мраморе чела, Она, как пери молодая, В наш мир из тихой сени рая, Стыдясь и радуясь, сошла. За колесницей триумфальной Она, ликуя, шла вослед, Над прахом урны погребальной Роняла песню и привет, Любовь и радости венчала, Чаруя музыкой речей, И за столом, под звон бокала, Заздравным гимном оживляла Кружок пирующих друзей. Везде, где речь лилась людская, Ей было место и почет, И мир встречал, благословляя, Ее божественный приход; И фимиам, и лавр, и клики Народ нес в дар ее жрецам, И с тайной завистью владыки Внимали пламенным певцам!.. К чему даны ей власть и звуки – Она ответить не могла; Глубокой мысли рай и муки Бежали детского чела. В часы небесных вдохновений Она не ведала сомнений, Она не плакала за мир, – Она лишь по цветам ступала, И жизнь ей весело сияла, Как вечный праздник, вечный пир… А между тем века бежали, С веками – вянули цветы, И тень сомнений и печали Легла на светлые черты. В ее божественные звуки Больные ноты слез и муки. Страдая, Истина вплела; Растоптан в прах венец лавровый, И терн кровавый, терн суровый, Как змей, обвился вкруг чела!.. Вперед же, в новом обаяньи, С заветом без конца любить, Чтоб брата в горе и страданьи Участьем теплым оживить, Чтоб стать на бой с позором века Железом пламенных речей, Чтоб к идеалу человека Вести страдающих людей!..1880
«Море – как зеркало!..»*
Море – как зеркало!.. Даль необъятная Вся серебристым сияньем горит; Ночь непроглядная, ночь ароматная Жжет и ласкает, зовет и томит… Сердце куда-то далеко уносится, В чудные страны какие-то просится, К свету, к любви, к красоте!.. О, неужели же это стремление Только мечты опьяненной брожение? О, неужели же это стремление Так и замрет на мгновенной мечте? Море, ответь!.. И оно откликается: «Слышишь, как тихо струя ударяется В серые камни прибрежных громад? Видишь, как очерки тучек туманные Море и небо, звездами затканные, Беглою тенью мрачат!..»1880
Царевна Софья*
Начало трагедии
Действие первое
Терем царевны Софьи. В глубине сцены и направо – двери. На авансцене справа – стол, на столе – переплетенная рукопись. Царевна Софья сидит у стола в высоком резном кресле синего бархата. У ног, на полу – мамка. По стенам скамейки, обитые персидской камкой.
<Явление 1>
<Софья и мамка>
Мамка
Сидит он это, матушка-царевна, Час, и другой, и третий – нет как нет! Уж солнышко за синий лес спустилось И ночь идет, темнешенька-темна; Вдруг – ровно светом осияло сад: Глядит он – и свести очей не может – Из терема девичьего с крыльца Спускается заморская царевна, Красавица, какой и нет другой! Идет она, земли ногой не тронет, А по бокам – всё мамушки да няньки И стражники с секирами в руках. Наряд на ней – весь в камнях самоцветных, Так и горит, так и слепит глаза; Дугою бровь, медвяные уста, Коса как ночь, вся в жемчуг перевита; И, диво дивное, – во лбу горит звезда!.. Да ты никак не слушаешь, царевна?Софья не слышит.
Царевна-матушка, да что ты, бог с тобой!..Софья
А? что?..(Очнувшись)
Да, да… Ты что ж остановилась? Я слушаю: Димирий-королевич Убил царя Далмата!.. Продолжай.Мамка
И не убил! Как можно, чтоб убил! И сказку ту я кончила давно уж… За что убить? Отца-то, государя, И убивать?.. Нет, матушка-царевна, Не слушала меня ты!.. Ох, давно Я разумом холопским замечаю, Что ровно ты не по себе. Как тень. Печальная по терему ты бродишь. Всё думаешь о чем-то да грустишь. И то сказать, с пеленок не резва ты, Да всё-таки нет-нет и оживешь, Подымешь смех, и беготню, и игры, Затормошишь совсем меня, старуху, И не уймешь, бывало… А теперь?.. Нет чтоб зайти по-прежнему в светлицу, Чтоб посмотреть, не ленятся ль работать Золотошвейки <и> какой узор По бархату заморскому выводят; Нет чтоб позвать к себе убогих страшит. Послушать их речей благочестивых Да поспросить о дальних городах; Нет чтоб наряд примерить драгоценный …Софья
Ах, мамушка, постыли мне наряды! Не весь же век играть да наряжаться, Да и теперь не та, не та пора: Клобук – вот мой наряд!..Мамка (испуганно)
И, бог с тобою, Зачем клобук? Ты молода еще: Живи себе на счастье да на радость! Молельщиц, что ли, мало у тебя? Зачем тебе по службам и стояньям Трудить себя?.. Ты только прикажи – И вся Москва … что я, Москва!.. вся наша Русь-матушка, от мала до велика, Не разогнет спины в мольбе усердном!..Софья
Молельщиц много – и врагов не мало: Задумают – без спроса постригут! И то сказать – по мне хоть в монастырь: Какая радость в терему, в неволе, Какая жизнь и счастье под замком!Мамка (строго)
Ой, не греши! Ой, не гневи, царевна, Создателя строптивостью напрасной! И то везде дурные слухи ходят, Что честь свою ты мало бережешь И новшества по теремам заводишь,(таинственно)
Что будто ты, с Голицыным толкуя, Фату с лица отбросила пред ним!Софья (холодно)
Отбросила, ну да… так что ж такое?Мамка
Ах, грех какой!..Софья
Да что же тут за грех? Не ведьма ж я и не уродка тоже, Чтоб мне в лицо бояться посмотреть.Мамка
Кто говорит, красавица ты наша!Софья
Так что ж за грех?(Оживляясь)
Вон в греческой земле, Читала я, была одна царевна, Пульхерия, – такта у ног своих Не то бояр – посланников видала Из разных царств, от разных королей! За брата всей державой управляла, – А умер он – сама взошла на трон! А мы? Весь век сидим мы в теремах С холопками да с дурами своими! Не смей взглянуть, не смей поднять фаты, Всю жизнь тоскуй да плачь о лучшей доле!.. Ах, воля, воля, где ты, и когда Спадут они, тяжелые оковы, Рассыплются железные замкй!Мамка (разводя руками)
Н-ну!
Софья (вставая)
Господи, когда бы мне да власть, Когда б хоть миг, не в сказках и не в снах, А наяву побыть, как та царевна, Самодержавною владычицей. Тогда б Я знала бы, что делать мне: сумела б И обласкать заехавшего гостя, И в прах стереть лукавого раба!(Задумывается, потом говорит как бы в забытьи)
Толпа бояр, покорных и дрожащих, И там, над ней, над этою толпой, Со скипетром и в царском облаченьи…Мамка
Господь с тобой, о чем ты говоришь? Чего тебе недостает, царевна?Софья (Задумчиво)
Ах, воля, воля!..Мамка
Матушка-царевна, Послушай ты меня, свою холопку: Брось, не греши! Пусть в греческих землях Забыл и стыд и девичий обычай, – Так мы не греки, господи прости, У них и всё не по-людски… Неужто ж Порядки их и нам перенимать? А что у нас насчет царевен строго – И хорошо!.. Сидите вы себе Как у Христа за пазухой. До вас И ласточка коснуться не посмеет, На вас и день с опаскою глядит! А толковать с боярами в совете Да королей заморских принимать – Девичье ль это дело?.. Да у вас И разума на это недостанет, И голова от думы заболит!.. Нет, матушка, не впрок тебе ученье Пошло!..Ну что хорошего: придет К тебе монах, сидит тут да толкует – И то не так и это вот не так! В чужих землях куда обычай лучше! Ему-то что? Сболтнул – и прочь убрался, А ты потом тоскуешь целый день!Софья (в продолжение предыдущего монолога стоит, задумавшись, на авансцене)
Не от наук тоска, а от неволи!..Мамка
Да что за воля, господи прости! И родилась и век свой скоротала – А никогда не слышала о ней!..За сценой шаги.
Да вот никак боярин Милославский Сюда идет – ты лучше с ним толкуй, Прости меня, стара я ныне стала, Мне невдомек…(Уходит.)
<Явление 2>
<Софья и Милославский>
Милославский (входя)
Царевне бью челом!Софья
Присядь, боярин; ты от государя? Каков он?Милославский
Плох, не долго проживет! Мне давеча фон Годен говорил, Что дай-то бог, чтоб он до завтра дожил!Софья (вставая)
Ах, господи, а я-то тут сижу! Пойду к нему!Милославский
Пообожди, царевна, Есть дело до тебя. Его спасти Не сможешь ты, а о своем спасенье Давно тебе подумать бы не грех…Софья (осматриваясь)
Я что-то не пойму тебя, боярин.Милославский (понижая голос)
Как не попять! Не малое дитя! Господь тебя рассудком не обидел. А вот за то, что говоришь с опаской, – Хвалю!.. Теперь такие времена, Что без опаски ой… ой… ой!..Софья
Не знаю, К чему ведешь ты речь. Скажи прямее|Милославский
Ну, как не знать! Грешно со мной хитрить! Твои враги – мои враги, царевна, – Погибнешь ты – и мне несдобровать!Софья (нерешительно)
Ты о Нарышкиных?Милославский
О ком же больше!(понижает голос)
Одни они враги у нас с тобою, Одни они дышать нам не дают. И давеча – вхожу я к государю, Смотрю – они, как коршуны над трупом, Столпились там, дыханье затаив … В глаза глядят, подушки поправляют, А сами, чай, и ждут и не дождутся, Чтоб умер он да власть оставил им. Да, плох он, плох совсем! Идя к нему, Голицына я встретил ненароком …Софья делает движение.
Ты что вспорхнулась?Софья
Я?.. Я ничего!..
Милославский (тихо)
Он люб тебе – твое девичье дело, – И мне в него мешаться бы не стать! Я не в укор спросил тебя, царевна: Твой грех, – не мой! Мне что, я в стороне; И видел я – да ничего не видел, И слышал я – да слыхом не слыхал!Софья (вспылив)
Ты видел?.. Ты?.. Да что же мог ты видеть?.. И как ты смел …Милославский (перебивая)
Не буду, виноват! Не заикнусь. Мне, верно, показалось. Да и к тому ж тут нет большой беды: Ты у царя была в опочивальне И в терем шла – а он спешил к царю, Так диво ли, что вместе ненароком Сошлися вы? Да люди-то ведь злы! Вы, может быть, с ним просто говорили О том о сем, – а вороги сплетут И невесть что: Нарышкиным наскажут, Что князя ты крамолам научала, – Им и с руки!Царевна (в волнении)
Так ты слыхал?Милославский
Мне что? Я не доносчик на тебя, царевна: И видел я – да ничего не видел, И слышал я – да слыхом не слыхал!Софья
Ну, если так, таиться я не стану, Ты прав, мне люб Голицын, – и вчера … Но если ты хитришь со мной, боярин? Но если ты, укравши у меня Доверие и тайну, – мне изменишь?Милославский
Нет, продавать тебя мне не расчет! Не с тем я шел к тебе: перед тобою Я весь как есть, без хитрости и лжи. Ведь мы с тобой одной семьи, мы оба Нарышкиным – помеха и укор. Повремени, царевна, – будет время, И я припомню им старинный счет. Я расплачусь за всё, за все их ласки, За всю любовь – и щедро расплачусь, Кровавою, боярскою расплатой! Дай только срок, – а я не позабыл Ни взглядов их косых, ни оговоров Перед царем покойным. Из-за них Не раз видал я взор его суровый, Не раз слыхал разгневанную речь!.. Мне не впервой теперь тягаться с ними: Мы – старые, заклятые враги! Когда скончался Алексей Михайлыч, Кто помешал им на престол взвести Помимо двух наследников законных Царевича Петра? Кто грудью встал За Федора? – Боярин Милославский! С тех самых пор они и спят и видят, Чтоб весь наш род сломить и извести!Софья (в раздумье)
Да, это так…Милославский
Вражда моя – не тайна, И будь их власть – мне плохо бы пришлось: Не щеголять бы мне боярской шапкой, Не разъезжать с толпою челядинцев И не сидеть, как я сижу, с тобой!.. Да и тебя б едва ли пощадили… А жаль тебя! Не в келье б под замком Тебе сидеть!Софья (решительно)
Прочь хитрости, боярин! Мы – заодно, – ударим по рукам! Ну, слушай же: с Голицыным не даром Шепталась я… не о любви моей Я говорила … Пусть минуют смуты – И я любовь на деле докажу! Ты угадал, – его я научала Шепнуть царю, чтоб он бы завещал Престол отцов – царевичу Ивану.Милославский (в раздумье)
Да, вот в чем дело!Софья
Ты, я чай, Сам ведаешь…Милославский (Перебивая)
Нехорошо, царевна, Ох, как нехорошо! Уж быть беде!Софья
Какой беде? Голицын не изменник, Нарышкиным об этом не узнать.Милославский
Опасную затеяла игру ты, И пахнет то как раз монастырем!Софья
Монастырем? Не ошибись, боярин, Уж не венцом ли царским!Милославский встает.
Ты куда ж?Милославский (кланяясь)
Уж я пойду … Мне тут сидеть некстати. Я человек подвластный, небольшой, Где мне с тобой бить по рукам, холопу? Уж ты одна…Софья (быстро подходя к нему)
Да что ты, очумел? Смотри, с собой шутить я не позволю, Наплачешься!Милославский
До шуток ли теперь? Уж я пойду…Софья (вспыльчиво)
Ни с места!..(Тихо)
Образумься, Иван Михайлович! Ведь сам ты говорил… Милославский Я говорил?.. Грешно тебе, царевна, Взводить поклеп на верного слугу! Я стар; не мне за козни приниматься, Мне только бы до гроба дотянуть.(Кланяется)
Будь ласкова, пусти меня, царевна! Мне дело есть…Софья
Ага, так вот ты как! Так ты пришел смеяться надо мною! Ты думаешь предательством купить Прощение за старые крамолы? Нет, лжешь, холоп!.. Ты плохо рассчитал: Ведь я еще царевна и сумею Зажать тебе продажные уста!(хлопает в ладоши)
Эй!..Милославский
Тс! Постой!.. Постой одну минуту! Не убегу, успеешь захватить!(Качает головой)
Горячна ты, как посмотрю, царевна, А сметлива, – всё мигом разочла. Хвалю, хвалю…. Вот то-то мне и любо, Что братцу ты и сестрам не чета.Софья
Ой, не хитри, не проведешь, боярин!Милославский
К чему хитрить? Я дело говорю. Тебе служить не страшно, ты не выдашь; Да неужели ж поверить ты могла, Чтоб я, Иван Михайлыч Милославский, Мог честь свою изменой запятнать? Иль не боярин я? Иль мы друг дружке Чужие? Нет, не знаешь ты меня: Нарышкинских подачек мне не надо. <И к>ак бы им не ползать предо мной! <Я ис>пытать хотел тебя, царевна. <Узнать> хотел, в чьи руки отдаю <Свою су>дьбу – и вижу, что с тобою <Быть> заодно – не страшно… Сам к тебе <Я> подхожу теперь с поклоном низким И говорю – ударим по рукам!..(Низко кланяется и протягивает руку. Софья отстраняется.)
Что ж ты молчишь? Не веришь мне?Софья
Боярин! Тогда ли ты хитрил и притворялся Или теперь лукавишь – я не знаю. Но крепко знаю я одно: что я Не девочка и что шутить со мною Так, как сейчас ты пошутил, – опасно! Советую я это навсегда Тебе запомнить, – и запомнить крепче, Чтоб на меня не плакаться потом! На этот раз тебе я отпускаю Твою вину – но после не взыщи: Щадить своих врагов я не умею. [И жалости в моей душе к ним нет!]1880
«Сейчас только песни звучали…»*
Сейчас только песни звучали В саду над уснувшей рекой И светлые звуки бежали В погоню за светлой волной. И там, где высокие ели Беседкой сплелись над столом. Беспечные гости сидели Веселым и шумным кружком. И вдруг всё уснуло глубоко, Задумалась ночь над землей, И в сад я схожу одиноко И тихо брожу над рекой.1880
«Есть страданья ужасней, чем пытка сама…»*
Есть страданья ужасней, чем пытка сама, – Это муки бессонных ночей, Муки сильных, но тщетных порывов ума На свободу из тяжких цепей. Страшны эти минуты душевной грозы: Мысль немеет от долгой борьбы, – А в груди ни одной примиренной слезы, Ни одной благодатной мольбы!.. Тайна, вечная, грозная тайна томит Утомленный работою ум, И мучительной пыткою душу щемит Вся ничтожность догадок и дум… Рад бежать бы от них, – но куда убежать? О, они не дадут отдохнуть И неслышно закрадутся в душу, как тать, И налягут кошмаром на грудь; Где б ты ни был, – они не оставят тебя И иссушат бесплодной тоской, Если ты как-нибудь не обманешь себя Или разом не кончишь с собой!..1880
Старая беседка*
Вся в кустах утонула беседка; Свежей зелени яркая сетка По стенам полусгнившим ползет, И сквозь зелень в цветное оконце Золотое весеннее солнце Разноцветным сиянием бьет. В полумраке углов – паутина; В дверь врываются ветви жасмина, Заслоняя дорогу и свет; Круглый стол весь исписан стихами, Весь исчерчен кругом вензелями, И на нем позабытый букет..1880
«Еще чертог залит огнями…»*
Еще чертог залит огнями, Еще не смолкнул за дверями Прощальный говор голосов И ярко убраны цветами Немые статуи богов; Еще, мелодию кончая, Рыдает арфа, замирая, И ей устало вторит хор.. Но кончен пир… Два-три мгновенья – И раб сорвет без сожаленья С богов цветущий их убор; Погаснет люстра золотая, Шум смолкнет, музыка замрет, И знойной ночи мгла немая Чертог неслышно обоймет…1880
«Случалось ли тебе бессонными ночами…»*
Случалось ли тебе бессонными ночами, Когда вокруг тебя всё смолкнет и заснет И бледный серп луны холодными лучами Твой мирный уголок таинственно зальет, И только ты в тиши томишься одиноко, Ты да усталая, больная мысль твоя, – Случалось ли тебе задуматься глубоко Над неразгаданным вопросом бытия? Зачем ты призван в мир? К чему твои страданья, Любовь и ненависть, сомненья и мечты В безгрешно-правильной машине мирозданья И в подавляющей огромности толпы?..1880
«Тихо замер последний аккорд над толпой…»*
Тихо замер последний аккорд над толпой, С плачем в землю твой гроб опустили; Помолились в приливе тоски над тобой, Пожалели тебя и забыли… Ты исчезла для них, этих добрых людей, Навсегда – без следа и возврата, Но живешь ты в груди утомленной моей, В скорбном сердце усталого брата …1880
«День что-то хмурится…»*
День что-то хмурится… Над пасмурной землею Повисли облака туманною грядою, Но в чутком воздухе царят теплынь и тишь: Не колыхнется лист черемухи душистой, Не вздрогнет озеро струею серебристой, Не прошуршит над ним береговой камыш. [И в сердце та же тишь: ни скорби, ни сомненья, – Жизнь точно замерла в измученной груди, И ангел тихих снов и светлого забвенья Мне шепчет голосом любви и примиренья: «Не рвись, дитя, вперед– не лучше впереди!» Мне сладко дремлется … Как люльку колыхает Волна кристальная отплывший мой челнок.. Я уронил весло… Грудь тихо отдыхает.. И слышу я, как рябь за рябью набегает, Как черный шмель, жужжа, садится на цветок.]1880
Братьям*
О, не отказывайте, братья, Певцу, уставшему душой, Когда призывные объятья Он простирает к вам с мольбой И в песне, дышащей слезами, Как нищий, с жаждою любви, Готов открыть он перед вами Все язвы гнойные свои! Он ваших слез не отвергает, Он отзыв всем дает, любя, И знайте – он за вас страдает, Когда страдает за себя… Как волны рек, в седое море Сойдясь, сплотились и слились, Так ваша боль и ваше горе В его душе отозвались. О, он достоин состраданья, Ведь он за вас скорбит душой, И, осмеяв его страданья, Вы посмеетесь над собой!1880
«Мелкие волненья, будничные встречи…»*
Мелкие волненья, будничные встречи, Длинный ряд бесцветных и бесплодных дней, Ни одной из сердца прозвучавшей речи, Что ни слово – ложь иль глупый бред детей! И равно всё жалко – счастье и страданья, Роскошь богача и слезы бедняков… Не кипи ж в груди, порыв негодованья, Не вдохнешь ты жизнь в бездушных мертвецов.1880
«Ты дитя… жизнь еще не успела…»*
Ты дитя… жизнь еще не успела В этом девственном сердце убить Жажду скромного, честного дела И святую потребность любить. Дела много – не складывай руки, – Это дело так громко зовет! Сколько жгучих страданий и муки, Сколько слез облегчения ждет!.. Между нищими всякого рода, Между членами робкой семьи, Над которой судьба и природа Шутят злобные шутки свои, В этом мире под вечным ненастьем, В море слез, в нищете и в крови, Всех беднее – кто беден участьем, Всех несчастнее – нищий любви… Друг мой, ты так сильна и богата Детски чуткой душою своей, – Не ищи же несчастного брата. У дверей многолюдных церквей: Этим нищим, просящим у храма, Все помогут: степенный купец, И слезливая, нервная дама, И успевший нажиться делец… Это рынок, достойный презренья, Где ты парою лишних грошей Покупаешь себе убежденье В доброте бесконечной своей. Это рынок тщеславья людского, И не встретят тут взоры твои Выраженья участья живого И слезу беззаветной любви.1880
«Христос!.. Где ты, Христос, сияющий лучами…»*
Христос!.. Где ты, Христос, сияющий лучами Бессмертной истины, свободы и любви?.. Взгляни – твой храм опять поруган торгашами, И меч, что ты принес, запятнан весь руками, Повинными в страдальческой крови!.. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то И ты учил его под тяжестью креста! Как ярко их клеймо порока и разврата, Какие лживые за страждущего брата, Какие гнойные открылися уста!.. О, если б только зло!.. Но рваться всей душою Рассеять это зло, трудиться для людей, – И горько сознавать, что об руку с тобою Кричит об истине, ломаясь пред толпою, Прикрытый маскою, продажный фарисей!..1880
«Душа наша – в сумраке светоч приветный…»*
Душа наша – в сумраке светоч приветный, Шел путник, зажег огонек золотой, – И ярко горит он во мгле беспросветной, И смело он борется с вьюгой ночной. Он мог бы согреть, – он так ярко сияет, Мог путь озарить бы во мраке ночном, Но тщетно к себе он людей призывает, – В угрюмой пустыне всё глухо кругом…1880
Полдороги*
Путь суров… Раскаленное солнце палит Раскаленные камни дороги; О горячий песок и об острый гранит Ты изранил усталые ноги; Исстрадалась, измучилась смелая грудь, Истомилась и жаждой и зноем, Но не думай с тяжелой дороги свернуть И забыться позорным покоем! Дальше, путник, всё дальше – вперед и вперед! Отдых после, – он там, пред тобою… Пусть под тень тебя тихая роща зовет, Наклонившись над тихой рекою; Пусть весна расстелила в ней мягкий ковер И сплела из ветвей изумрудный шатер, И царит в ней, любя и лаская, – Дальше, дальше и дальше, под зноем лучей, Раскаленной, безвестной дорогой своей, Мимолетный соблазн презирая! Страшен сон этой рощи, глубок в ней покой: Он так вкрадчив, так сладко ласкает, Что душа, утомленная скорбью больной, Раз уснув, навсегда засыпает. В этой чаще душистой дриада живет. Чуть склонишься на мох ты, – с любовью Чаровница лесная неслышно прильнет В полумгле к твоему изголовью… И услышишь ты голос: «Усни, отдохни!.. Прочь мятежные призраки горя! Позабудься в моей благовонной тени, В тихом лоне зеленого моря!.. Долог путь твой – суровый, нерадостный путь… О, к чему обрекать эту юную грудь На борьбу, на тоску и мученья?! Друг мой! вверься душистому бархату мха: Эта роща вокруг так свежа и тиха, В ней так сладки минуты забвенья!..» Ты, я знаю, силен: ты бесстрашно сносил И борьбу, и грозу, и тревоги, – Но сильнее открытых, разгневанных сил Этот тайный соблазн полдороги… Дальше ж, путник!.. Поверь, лишь ослабит тебя Миг отрады, миг грез и покоя – И продашь ты всё то, что уж сделал любя, За позорное счастье застоя!..1880–1881
Святитель*
Народное преданье
Издалёка, отцы, к вам в обитель я шла, Как дошла – и сама уж не знаю; Видно, божия сила меня провела По безлюдному вашему краю. Глушь-то, глушь-то какая!.. Идешь целый день Ни души на дороге не встретишь, Рада-рада, коль дальний дымок деревень Или крест колокольни заметишь. Об обители вашей далёко идут Между темным народом рассказы: В старину сам угодник нашел в ней приют, Укрываясь от светской заразы… Сам, своими руками, на храм ваш принес Первый камень смиренный святитель, И сподобил его за смиренье Христос Чудесами прославить обитель. Не собраться бы к вам, да нужда помогла; Отпросись, помолилась я богу, Попрощалась с селом и пошла, в чем была, По рассказам да спросам в дорогу… Сам Христос вам, отцы, даровал благодать Врачевать нас, объятых скорбями, – Уврачуйте ж меня вы, бессчастную мать! – Припадаю я к вам со слезами. Был сынок у меня; грех промолвить упрек, Жили с ним мы без ссор и без брани, – Тих да ласков, меня он, как душу, берег, И души я не чаяла в Ване! Вырос парень на диво: красавец собой, Статный, рослый, везде поспевает… Точно шутит, бывало, идет за сохой, Точно обруч подкову ломает… Да случилась беда с ним: прошедшей зимой Снарядился он в лес за дровами, – А навстречу наш барин опушкой лесной Едет с псовой охоты с гостями. Загляделся мой парень – сосед-генерал, Егеря, доезжачие-хваты, – Загляделся, – шапчонки-то сдуру не снял – И попал, горемычный, в солдаты. Что ж, бог дал, бог и взял, – я не стала роптать, Обнялась с ним, кручину скрывая, И пошел он, мой сокол, с полком воевать На чужбину из нашего края… Где он, что с ним – не знаю; слыхать стороной, Будто враг одолел нас сначала, А потом мы сошлись с ним под Белой Москвой, И Москва, как свеча, запылала… И как будто бежал он за море от нас, И за ним мы в погоню погнали; Только где ж это море, спрошу я у вас? Вы учены, чай, вы и слыхали… Правда всё это, нет ли, – но в сердце моем Нет покоя: встает предо мною, Как живой, мой Ванюша и ночью и днем, В ратном поле, под Белой Москвою… Снится мне, что лежит он, обнявшись с врагом, А в груди его тяжкая рана… Дым от вражьих пищалей нависнул кругом, Словно полог ночного тумана… Крики, стоны, рыданья, стук конских копыт, Барабаны гремят не смолкая, А вверху, над страдальческим полем, кружит Черных воронов хищная стая… И лежит он и стонет… Померкнул в очах Ясный свет от томительной муки, Запеклась богатырская кровь на устах, Разбросались могучие руки; И как будто меня он, родной мой, зовет, Будто просит он пить, изнывая; И копытом промчавшийся конь его бьет, Оглушает гроза боевая… Нет отбою от дум!.. Не отгонишь их прочь, Не сомкнешь утомленные очи, Не сомкнешь напролет всю осеннюю ночь, – А длинны они, темные ночи! Без сынка-то так пусто, так глухо в избе!.. Чуть приметно лучина мигает… Тишь, да черные думы, да ветер в трубе, Как над мертвым, немолчно рыдает!.. И надумалась я… Запылало огнем…1880–1882
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…»*
Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно Гибну от нахальной тучи комаров, От друзей, любивших слишком осторожно, От язвивших слишком глубоко врагов; Оттого, что голос мой звучал в пустыне, Не рассеяв мрака, не разбив оков; Оттого, что светлый гимн мой в честь святыни Раздражал слепых язычников-жрецов; Оттого, что крепкий щит мой весь иссечен И едва я в силах меч поднять рукой; Оттого, что я один и изувечен, А вокруг – всё жарче закипает бой!.. Говорят, постыдно предаваться сплину, Если есть в душе хоть капля прежних сил, – Но что ж делать – сердце вполовину Ни страдать, ни верить я не научил… И за то, чем ярче были упованья, Чем наивней был я в прежние года, Тем сильней за эти детские мечтанья Я теперь томлюсь от боли и стыда… Да, мне стыдно, муза, за былые грезы, За восторг бессонных, пламенных ночей, За святые думы и святые слезы, За святую веру в правду и людей!.. Муза, погибаю – и не жду спасенья, Не хочу спасенья… Пусть ликует тот, Кто от жизни просит только наслажденья, Только личным счастьем дышит и живет…19 января 1881
Памяти Ф. М. Достоевского («Когда в час оргии…»)*
Когда в час оргии, за праздничным столом Шумит кружок друзей, беспечно торжествуя, И над чертогами, залитыми огнем, Внезапная гроза ударит, негодуя, – Смолкают голоса ликующих гостей, Бледнеют только что смеявшиеся лица, И, из полубогов вновь обратясь в людей, Трепещет Валтасар и молится блудница. Но туча пронеслась, и с ней пронесся страх… Пир оживает вновь: вновь раздаются хоры, Вновь дерзкий смех звучит на молодых устах, И искрятся вином тяжелые амфоры; Порыв раскаянья из сердца изгнан прочь, Все осмеять его стараются скорее, – И праздник юности, чем дальше длится ночь, Тем всё становится развратней и пошлее! Но есть иная власть над пошлостью людской, И эта власть – любовь!.. Создания искусства, В которых теплится огонь ее святой, Сметают прочь с души позорящие чувства; Как благодатный свет, в эгоистичный век Любовь сияет всем, все язвы исцеляет, И не дрожит пред ней от страха человек, А край одежд ее восторженно лобзает! И счастлив тот, кто мог и кто умел любить: Печальный терн его прочней, чем лавр героя, Святого подвига его не позабыть Толпе, исторгнутой из мрака и застоя. На скорбь его везде откликнутся друзья, И смерть его везде смутит сердца людские, И в час разлуки с ним, как братская семья, Над ним заплачет вся Россия!..20 января 1881
Памяти Ф. М. Достоевского («Как он, измученный…»)*
Как он, измученный, влачился по дороге, Бряцая звеньями страдальческих цепей, И как томился он, похоронен в остроге, Под стражею штыков и ужасом плетей, – Об этом пели вы, но из его страданий Вы взяли только то на песни и цветы, Что и без пошлых фраз и лживых восклицаний Сплело ему венок нетленной красоты… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Но между строк его болезненных творений Прочли ли вы о том, что тягостней тюрьмы И тягостней его позора и лишений Был для него ваш мир торгашества и тьмы? Прочли ли вы о том, как он страдал душою, Когда, уча любви враждующих людей, Он слышал, как кричал, ломаясь пред толпою, С ним рядом о любви – корыстный фарисей? Сочтите ж, сколько раз вы слово продавали, И новый, может быть прекраснейший цветок, И новый, может быть острейший терн печали Вплетете вы в его страдальческий венок!..Январь 1881
Грезы («Мне снилось вечернее небо…»)*
Мне снилось вечернее небо И крупные звезды на нем, И бледно-зеленые ивы Над бледно-лазурным прудом, И весь утонувший в сирени Твой домик, и ты у окна, Вся в белом, с поникшей головкой, Прекрасна, грустна и бледна… Ты плакала… Светлые слезы Катились из светлых очей, И плакали гордые розы, И плакал в кустах соловей. И с каждою новой слезою Внизу, в ароматном саду, Мерцая, светляк загорался И небо роняло звезду.20 сентября 1881
«О любви твоей, друг мой, я часто мечтал…»*
О любви твоей, друг мой, я часто мечтал, И от грез этих сердце так радостно билось, Но едва я приветливый взор твой встречал – И тревожно и смутно во мне становилось. Я боялся за то, что минует порыв, Унося прихотливую вспышку участья, И останусь опять я вдвойне сиротлив, С обманувшей мечтой невозможного счастья; Точно что-то чужое без спроса я взял, Точно эта нежданная, светлая ласка – Только призрак: мелькнул, озарил и пропал, Мимолетный, как звук, и солгавший, как сказка; Точно взгляд твой случайной ошибкой на мне Остается так долго, лазурный и нежный, Или грезится сердцу в болезненном сне, Чтоб бесследно исчезнуть с зарей неизбежной… Так, сжигаемый зноем в пустыне скупой, Путник видит оазис – и верить боится: Не мираж ли туманный в дали голубой Лживо манит под тень отдохнуть и забыться?..20 сентября 1881
«Сколько лживых фраз, надуто-либеральных…»*
Сколько лживых фраз, надуто-либеральных, Сколько пестрых партий, мелких вожаков, Личных обличений, колкостей журнальных, Маленьких торжеств и маленьких божков!.. Сколько самолюбий глубоко задето, Сколько уст клевещет, жалит и шипит, – И вокруг, как прежде, сумрак без просвета, И, как прежде, жизнь и душит и томит!.. А вопрос так прост: отдайся всей душою На служенье братьям, позабудь себя И иди вперед, светя перед толпою, Поднимая павших, веря и любя!.. Не гонись за шумом быстрого успеха, Не меняй на лавр сурового креста, И пускай тебя язвят отравой смеха И клеймят враждой нечистые уста!.. Видно, не настала, сторона родная, Для тебя пора, когда бойцы твои, Мелким, личным распрям сил не отдавая, Встанут все во имя правды и любви! Видно, спят сердца в них, если, вместо боя С горем и врагами родины больной, Подняли они, враждуя меж собою, Этот бесконечный, этот жалкий бой!..Ноябрь 1881
«Как белым саваном, покрытая снегами…»*
Как белым саваном, покрытая снегами, Ты спишь холодным сном под каменной плитой, И сосны родины ненастными ночами О чем-то шепчутся и стонут над тобой; А я – вокруг меня, полна борьбы и шума, Жизнь снова бьет ключом, отдаться ей маня, Но жить я не могу: мучительная дума, Неотразимая, преследует меня… Гнетущий, тяжкий сон!.. С тех пор как я, рыдая, Прильнул к руке твоей и звал тебя с тоской, И ты, недвижная и мертвенно-немая, Ты не откликнулась на мой призыв больной; С тех пор как слово «смерть» – когда-то только слово – Мне в сердце скорбное ударило, как гром, – Я в жизнь не верую – угрюмо и сурово. Смерть, только смерть одна мне грезится кругом!.. Недуг смущенного былым воображенья Кладет печать ее па лица всех людей, И в них не вижу я, как прежде, отраженья Их грез и радостей, их горя и страстей; Они мне чудятся с закрытыми очами, В гробу, в дыму кадил, под флером и в цветах, С безжизненным челом, с поблеклыми устами И страхом вечности в недвижимых чертах… И тайный голос мне твердит не умолкая: «Безумец! не страдай и не люби людей! Ты жалок и смешон, наивно отдавая Любовь и скорбь – мечте, фантазии твоей… Окаменей, замри… Не трать напрасно силы! Пусть льется кровь волной и царствует порок: Добро ли, зло ль вокруг, – забвенье и могилы – Вот цель конечная и мировой итог!..»1881
«Завеса сброшена: ни новых увлечений…»*
Завеса сброшена: ни новых увлечений, Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди; Покой оправданных и сбывшихся сомнений, Мгла безнадежности в измученной груди… Как мало прожито – как много пережито! Надежды светлые, и юность, и любовь… И всё оплакано… осмеяно… забыто, Погребено – и не воскреснет вновь! Я в братство веровал, но в черный день невзгоды Не мог я отличить собратьев от врагов; Я жаждал для людей познанья и свободы, А мир – всё тот же мир бессмысленных рабов; На грозный бой со злом мечтал я встать сурово Огнем и правдою карающих речей, – И в храме истины – в священном храме слова Я слышу оргию крикливых торгашей!.. Любовь на миг… любовь – забава от безделья, Любовь – не жар души, а только жар в крови, Любовь – больной кошмар, тяжелый чад похмелья – Нет, мне не жаль ее, промчавшейся любви! Я не о ней мечтал бессонными ночами, И не она тогда явилась предо мной, Вся – мысль, вся – красота, увитая цветами, С улыбкой девственной и девственной душой!.. Бедна, как нищая, и, как рабыня, лжива, В лохмотья яркие пестро наряжена – Жизнь только издали нарядна и красива, И только издали влечет к себе она. Но чуть вглядишься ты, чуть встанет пред тобою Она лицом к лицу – и ты поймешь обман Ее величия под ветхой мишурою И красоты ее под маскою румян.1881
«Пока свежо и гибко тело…»*
Пока свежо и гибко тело И, как гранит, тверда рука, Не страшно никакое дело Для силача и смельчака. – Невзгод и бурь он не боится, Смеясь идет на смертный бой, И не нужда к нему стучится, А радость, счастье и покой! В здоровом теле – дух здоровый, Здоровый духом – не падет В борьбе с невзгодою суровой Под игом горя и забот; И, разогнав трудом ненастье, Развеяв с бою мрак ночной, Он ускользающее счастье Возьмет добычей боевой!..1881
«С каждым шагом вокруг всё черней и черней…»*
С каждым шагом вокруг всё черней и черней Рать суровых врагов надвигается, С каждым шагом всё меньше надежд и друзей, Всё мучительней сердце сжимается… Я еще не сдаюсь: стоны братьев звучат Мне призывом в разгаре сражения, Но… иссечен мой щит, мои ноги скользят, И близка уж минута падения! Злую шутку сыграла ты, жизнь, надо мной, – Ты, не дав мне ни злобы карающей, Ни меча, – безоружного кинула в бой С светлым гимном любви всепрощающей. Не умев ненавидеть, я думал любить, Думал скрежет вражды и проклятия Примиряющей песнью моей заглушить И протягивал… камням объятия!..1881
Бедуин*
Из Словацкого
Так десять дней прошло, и только небо знало, Как были тягостны нам эти десять дней: То на душе у нас надежда расцветала, То жгучий страх вставал за остальных детей. Но смерть щадила нас… смолкали опасенья, Смолкала скорбь в груди – и ангел утешенья В печальный мой шатер с улыбкою слетел. И снова вечером вокруг меня с женою, Когда наш огонек едва блистает с мглою, Беспечный детский смех струился и звенел… Но, видно, божий гнев, как вихрь неукротимый, Как смерч губительный, карать не уставал; Я помню страшный час, когда мой сын любимый, Мой младший сын, как брат, бледнел и угасал. Еще смеялся он, – а смерть уже летала Над ним и холодом дышала на него, И гнойные уста с насмешкою вонзала В дрожащие уста малютки моего!.. Я первый увидал на нем ее лобзанья… Я крикнул: «Смерть в шатре!» – и сына я схватил И вынес в степь, и там, безумный от страданья, На землю знойную, рыдая, опустил. Спасенья не было… охваченный недугом, Уж задыхался он – и задыхался я… Верблюды умные, столпившись тесным кругом, Смотрели на меня и на мое дитя. А из-за пальм луна торжественно вставала, Сверкая, как всегда, бездушной красотой, И мягким отблеском с лазури озаряла И пальмы, и пески, и труп его немой…1881
В толпе*
Памяти Ф. М. Достоевского
Не презирай толпы: пускай она порою Пуста и низменна, бездушна и слепа, Но есть мгновения, когда перед тобою Не жалкая раба с продажною душою, – А божество-толпа, титан-толпа!.. Ты к ней несправедлив: в часы ее страданий Не шел ты к ней страдать… Певец ее и сын, Ты убегал ее проклятий и рыданий, Ты издали любил, ты чувствовал один!.. Приди же слиться с ней: не упускай мгновенья, Когда болезненно-отзывчива она, Когда от пошлых дел и пошлого забвенья Утратой тягостной она пробуждена. Не презирай толпы: пускай она бывает Пошла и низменна, бездушна и слепа, Но изучи ее, когда она страдает, И ты поймешь, гордец, как велика толпа.1881
Dornroschen[24]*
В детстве слышал я старую сказку о том, Как когда-то, давно, за лазурью морей, За глухими лесами и диким хребтом, Было целое царство оковано сном С молодой королевой своей. Белый замок ее, утонувший в садах, Точно вымер – ни звука нигде; Всё недвижно стояло в горячих лучах Золотистого дня, как в немых зеркалах, Отражаясь в озерной воде… А когда-то нередко ночною порой Там пестрели наряды гостей, И с крыльца под стемневшие своды аллей, Извиваясь, сбегали одна за другой Разноцветные цепи огней. Или утром душистым, под темный каштан, Молода и светла, как весна, Королева без свиты сходила одна Помечтать и послушать, как плачет фонтан И как дышит тревожно волна… И мгновенно всё стихло: объятые сном, Онемели и терем и сад, Смолкнул говор людской, и не слышно кругом Ни рогов егерей в полумраке лесном, Ни обычных ночных серенад… Злые чары свершились – высокой стеной Вкруг поднялся терновник густой, И не смели туда от далекой земли, Мимо рифов и мелей, доплыть корабли И раздаться там голос живой…1881
Сонет*
В альбом А. К. Ф.
Не мне писать в альбом созвучьями сонета – Отвык лелеять слух мой огрубелый стих. Для гимна стройного, для светлого привета Ни звуков нет в груди, ни образов живых; Но вам я буду петь… С всеведеньем пророка Я угадал звезду всходящей красоты И, ясный свет ее завидя издалека, На жертвенник ее несу мои цветы. Примите ж скромный дар безвестного поэта И обещайте мне не позабыть о том, Кто первый вам пропел в честь вашего рассвета И, как покорный жрец, на славные ступени В священном трепете склонив свои колени, Богиню увенчал торжественным венком…1881
В альбом («Простите безумца за прошлые звуки…»)*
Е. А. С.
Простите безумца за прошлые звуки, За дерзкие звуки, пропетые вам: В них не было правды, – то праздные руки Просились опять к позабытым струнам… С людьми не схожусь я давно уж – и с вами Не ближе душой, чем с другими, я был, – Я лгал вам: как мальчик, я тешился снами, Как мальчик, святынею дружбы шутил! Как мог я мгновенный обмен впечатлений И светскую ласку за близость принять? Как мог я так скоро, без дум и сомнений, По первому слову всю душу отдать? И мало ли, сердце, такие обманы И в прошлые годы владели тобой? Еще и теперь не зажившие раны Горячею кровью сочатся порой!.. А вы…. в вас не стану искать я причину Моей настоящей тоски и тревог; Не вы виноваты, что я вполовину Быть близким – ни с кем приучиться не мог. Прошел мимолетный порыв ослепленья, И в вас узнаю я всё ту же толпу… Простите ж меня, – не ищите сближенья И дайте уйти мне в мою скорлупу.1881
«Я плакал тяжкими слезами…»*
Я плакал тяжкими слезами, Слезами грусти и любви, Да осияет свет лучами Мир, утопающий в крови, – И свет блеснул передо мною И лучезарен и могуч, Но не надеждой, а борьбою Горел его кровавый луч. То не был кроткий отблеск рая – Нет, в душном сумраке ночном Зажглась зарница роковая Грозы, собравшейся кругом!..1881
Герою*
Тебя венчает лавр… Дивясь тебе, толпится Чернь за торжественной процессией твоей, Как лучшим из сынов, страна тобой гордится, Ты на устах у всех, ты – бог последних дней! Вопросов тягостных и тягостных сомнений Ты на пути своем безоблачном далек, Ты слепо веруешь в свой благодатный гений И в свой заслуженный и признанный венок. Но что же ты свершил?.. За что перед тобою Открыт бессмертия и славы светлый храм И тысячи людей, гремя тебе хвалою, Свой пламенный восторг несут к твоим ногам? Ты бледен и суров… Не светится любовью Холодный взор твоих сверкающих очей; Твой меч опущенный еще дымится кровью, И веет ужасом от гордости твоей! О, я узнал тебя! Как ангел разрушенья, Как смерч, промчался ты над мирною страной, Топтал хлеба ее, сжигал ее селенья, Разил и убивал безжалостной рукой. Как много жгучих слез и пламенных проклятий Из-за клочка земли ты сеял за собой; Как много погубил ты сыновей и братии Своей корыстною, безумною враждой! Твой путь – позорный путь! Твой лавр – насмешка злая! Недолговечен он… Едва промчится мгла И над землей заря забрезжит золотая – Увядший, он спадет с бесславного чела!..1881
«Везде, сквозь дерзкий шум самодовольной прозы…»*
Везде, сквозь дерзкий шум самодовольной прозы, Любовь, мне слышится твой голос молодой… Где ты – там лунный свет, и соловьи, и розы, Там песни звучные и пламенные грезы, И ночи, полные блаженною тоской… Еще ты царствуешь над низменной толпою, Но скоро, может быть, померкнет твой венец И не придут, как встарь, склониться пред тобою С надеждой светлою и страстною мольбою И пылкий юноша, и опытный мудрец.1881
«Я не зову тебя, сестра моей души…»*
Я не зову тебя, сестра моей души, Источник светлых чувств и чистых наслаждений, Подруга верная в мучительной тиши Ночной бессонницы и тягостных сомнений… Я не зову тебя, поэзия… Не мне Твой светлый жертвенник порочными руками Венчать, как в старину, душистыми цветами И светлый гимн слагать в душевной глубине. Пал жрец твой… Стал рабом когда-то гордый царь… Цветы увянули… осиротел алтарь…1881
«Стройный хор то смолкал, то гремел, как орган…»*
Стройный хор то смолкал, то гремел, как орган, Разрастаясь могучей волною; От душистого ладана легкий туман, Колыхаясь, стоял над толпою, И, как в дымке, над массой склоненных людей Подымался, увитый цветами, Белый гробик ее, ненаглядной моей, Убаюканной вечными снами. Дорогая головка, вся в русых кудрях, Так отрадно, так чинно лежала, И так строго на девственно нежных чертах Затаенная дума сияла!.. Окна в сад были настежь открыты – ив них Изумрудная тень колебалась, И душистая зелень ветвей молодых В сумрак душного храма врывалась.1881
В альбом («Мы – как два поезда…»)*
Мы – как два поезда (хотя с локомотивом Я не без робости решаюсь вас равнять) На станции Любань лишь случаем счастливым Сошлись, чтоб разойтись опять. Наш стрелочник, судьба, безжалостной рукою На двух различных нас поставила путях, И скоро я умчусь с бессильною тоскою, Умчусь на всех моих парах. Но, убегая вдаль и полный горьким ядом Сознания, что вновь я в жизни сиротлив, Не позабуду я о станции, где рядом Сочувственно пыхтел второй локомотив. Мой одинокий путь грозит суровой мглою, Ночь черной тучею раскинулась кругом, – Скажите ж мне, собрат, какою мне судьбою И в память вкрасться к вам, как вкрался я в альбом?1881
«Напрасные мечты!.. Тяжелыми цепями…»*
Напрасные мечты!.. Тяжелыми цепями Навеки скован ты с бездушною толпой: Ты плакал за нее горячими слезами, Ты полюбил ее всей волей и душой. Ты понял, что в труде изъязвленные руки, Что сотни этих жертв, загубленных в борьбе, И слезы нищеты, и стоны жгучей муки – Не книжный бред они, не грезятся тебе… Ты пред собой не лгал, – на братские страданья, Пугаясь, как дитя, не закрывал очей, И правду ты познал годами испытанья, И в раны их вложил персты руки, своей; И будешь ты страдать и биться до могилы, Отдав им мысль твою, и песнь твою, и кровь. И знай, что в мире нет такой могучей силы, Чтоб угасить она смогла в тебе любовь!1881
Певец*
Посвящается Н. Л. Ханыкову
С непокрытым челом, изнуренный, босой, Полный скорби и жгучей тревоги, Шел однажды весною, в полуденный зной, Мимо рощи тенистой певец молодой, По горячей, кремнистой дороге. Роща, словно невеста, в весенних лучах Обновленным убором сияла, И роскошно пестрела в нарядных цветах, И душистой прохладой ласкала. И казалось, в ней кто-то с любовью шептал: «Путник, путник, ко мне! Ты так долго страдал, Прочь же черные призраки горя: Я навею тебе лучезарные сны!.. Отдохни на груди ароматной весны, В тихом лоне зеленого моря!.. У меня ль не цветист изумрудный ковер, У меня ль не узорен высокий шатер! Я приникну, любя, к изголовью И больному весеннюю песню спою, – Эту вкрадчиво-сладкую песню мою, Песню, полную светлой любовью! Путь суров… Раскаленное солнце палит Раскаленные камни дороги, О горячий песок и об острый гранит Ты изранил усталые ноги, А под сводами девственной листвы моей Бьется с тихим журчаньем холодный ручей: Серебристая струйка за струйкой бежит, Догоняет, целует и тихо звенит… Не упорствуй же, путник, и, чуткой душой Отозвавшись на зов наслажденья, Позабудься, усни!..» Но певец молодой Не поддался словам искушенья. Не на пир и не с пира усталый он шел: С страдных нив и из изб голодающих сел, Из углов нищеты и разврата Он спешил в золотые чертоги принесть Молодою любовью согретую весть О страданьях забытого брата. Он спешил, чтоб пропеть о голодной нужде, О суровой борьбе и суровом труде, О подавленных, гибнущих силах, О горячих, беспомощных детских слезах, О бессонных ночах и безрадостных днях, О тюрьме и бескрестных могилах… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эта песня его и томила и жгла, И вперед, всё вперед неустанно звала!..1881
«Позабытые шумным их кругом – вдвоем…»*
Позабытые шумным их кругом – вдвоем Мы с тобой в уголку притаились, И святынею мысли и чувства теплом, Как стеною, от них оградились. Мы им чужды с тех пор, как донесся до нас Первый стон, на борьбу призывая, И упала завеса неведенья с глаз, Бездны мрака и зла обнажая… Но взгляни, как беспечен их праздник, – взгляни, Сколько в лицах их смеха живого, Как румяны, красивы и статны они – Эти дети довольства тупого! Сбрось с их девушек пышный наряд, – вязью роз Перевей эту роскошь и смоль их волос, И, сверкая нагой белизною, Ослепляя румянцем и блеском очей, Молодая вакханка мифических дней В их чертах оживет пред тобою… Мы ж с тобой – мы и бледны и худы; для нас Жизнь – не праздник, не цепь наслаждений, А работа, в которой таится подчас Много скорби и много сомнений… Помнишь?.. – эти тяжелые, долгие дни, Эти долгие, жгучие ночи. Истерзали, измучили сердце они, Утомили бессонные очи… Пусть ты мне еще вдвое дороже с тех пор, Как печалью и думой зажегся твой взор; Пусть в святыне прекрасных стремлений И сама ты прекрасней и чище, – но я Не могу отогнать, дорогая моя, От души неотступных сомнений! Я боюсь, что мы горько ошиблись, когда Так наивно, так страстно мечтали, Что призванье людей – жизнь борьбы и труда, Беззаветной любви и печали… Ведь природа ошибок чужда, а она – Нас к открытой могиле толкает, А бессмысленным детям довольства и сна – Свет, и счастье, и розы бросает!..1881–1882
«Осень, поздняя осень!.. Над хмурой землею…»*
Осень, поздняя осень!.. Над хмурой землею Неподвижно и низко висят облака; Желтый лес отуманен свинцового мглою, В желтый берег без умолку бьется река… В сердце – грустные думы и грустные звуки, Жизнь, как цепь, как тяжелое бремя, гнетет, Призрак смерти в тоскующих грезах встает, И позорно упали бессильные руки… Это чувство – знакомый недуг: чуть весна Ароматно повеет дыханием мая, Чуть проснется в реке голубая волна И промчится в лазури гроза молодая, Чуть в лесу соловей про любовь и печаль Запоет, разгоняя туман и ненастье, – Сердце снова запросится в ясную даль, Сердце снова поверит в далекое счастье… Но скажи мне, к чему так ничтожно оно, Наше сердце, – что даже и мертвой природе Волновать его чуткие струны дано, И то к смерти манить, то к любви и свободе?.. И к чему в нем так беглы любовь и тоска, Как ненастной и хмурой осенней порою Этот белый туман над свинцовой рекою Или эти седые над ней облака?1881–1882
Мечты королевы*
На мотив из Тургенева
Посвящается М. А. Р.
Шумен праздник, – не счесть приглашенных гостей! Море звуков и море огней… Сад, и замок, и арки сверкают в огнях, И, цветной их каймой, как венком, окружен, Пруд и спит и не спит, и смеется сквозь сон, И чуть слышно журчит в камышах… Шумен праздник и весел, – и только грустна Королева одна: Что ей в льстивых речах восхищенных гостей И в стихах серенад знаменитых певцов! Эти речи – продажные речи рабов, В этой музыке слышатся звуки цепей!.. С колыбели ее появленье встречал Общий рокот корыстных похвал, – И наскучила ложь ей, и сердце в груди Сжалось грустью, – ив эту душистую ночь Страстно шепчет ей сердце: «Не верь им… уйди, Убеги от них прочь! Брось свой пышный престол и венец золотой Жадной стае шутов и льстецов: Здесь так душно, – а в роще, над тихой рекой Так живителен воздух, согретый весной, Так пристал бы к головке твоей молодой Ароматный венок из цветов!.. Пусть под сводами зал и в затишье аллей Веют перья беретов и шпоры звенят, – Там, за садом, в тени наклоненных ветвей Статный юноша ждет: волны русых кудрей Упадают на грудь, и в лазури очей Одинокие слезы горят!»1881–1882
Весенняя сказка*
Посвящается Екатерине Ильиничне Мамонтовой
Чудный, светлый мир… Ни вьюг в нем, ни туманов, Вечная весна в нем радостно царит… Розы… мрамор статуй… серебро фонтанов, Замок – весь прозрачный, из хрустальных плит… У подножья скал – сверкающее море… Тихо льнет к утесам сонная волна И, отхлынув, тонет в голубом просторе, И до дна прозрачна в море глубина… А за светлым замком и его садами, От земли, нахмурясь, в небосклон ушли Великаны горы снежными цепями И по темным кручам лесом заросли. И лесная чаща да лазурь морская, Как в объятьях, держат дивную страну, Тишиной своею чутко охраняя И в ее пределах – ту же тишину. Чудный светлый мир, – но злобой чародея Он в глубокий сон от века погружен, И над ним, как саван, высится, синея, Раскаленный зноем, мертвый небосклон. Не мелькнет в нем чайка снежной белизною, Золотому солнцу подставляя грудь; Не промчатся тучки дымчатой грядою К отдаленным скалам ласково прильнуть. Всё оцепенело, всё мертво и глухо, Как в могиле глухо, как в могиле спит: Ни одно дыханье не встревожит слуха, Ни один из чащи рог не прозвучит. В воздухе, сверкая, замер столб фонтана, Замер мотылек над чашечкой цветка, Пестрый попугай – в густых ветвях каштана, В чаще леса – лань, пуглива и дика. Точно этот замок, рощи и долины, Пурпур этих роз и белизна колонн – Только полотно сверкающей картины, Воплощенный в красках, вдохновенный сон. Точно тот, кто создал этот рай прекрасный, Жизнь и разрушенье в нем остановил, Чтоб навек свой блеск, и девственный и ясный Он, как в день созданья, свято б сохранил… Посмотри: как змейка, лестница витая Поднялась в чертог, и тихо у окна Спит в чертоге том царевна молодая, Словно ночь прекрасна, словно день ясна. До земли упали косы золотые, На щеках – румянец, и порой, чуть-чуть Вздрогнув, шевельнутся губки молодые, Да тревожный вздох подымет слабо грудь. Темный бархат платья резко оттеняет Белизну плеча и нежный цвет ланит, Знойный день в уста красавицу лобзает, Яркий луч отливом на кудрях горит… Сон ее тревожат тягостные грезы – Посмотри: печаль и страх в ее чертах, Посмотри: как жемчуг, тихо льются слезы, Словно сжечь хотят румянец на щеках! Снится ей, что там, за этими хребтами, Истомлен путем и долгою борьбой, Молодой красавец с темными кудрями Силится пробиться через лес густой… Плащ его в лохмотьях и окрашен кровью, А в лесу – что шаг, то смерть ему грозит, Но на трудный подвиг призван он любовью, – И его нога по кручам не скользит… О, как он устал!.. Какой прошел далекий. Бесконечно тяжкий и суровый путь!.. Хватит ли отваги для борьбы жестокой. Выдержит ли битву молодая грудь? Но – победа!.. В мраке тягостных сомнений Светлый луч блеснул, окончен долгий спор, – И уже гремит по мрамору ступеней, Всё слышней, всё ближе, звук шагов и шпор Словно вихрь коснулся сонного чертога, Словно дождь весной по листьям пробежал – И, светлей и краше молодого бога, Гость давно желанный перед ней предстал. И предстал, и обнял, и прильнул устами – Жаркими устами к трепетным устам, И ответа молит страстными речами, И тяжелый меч сложил к ее ногам. «Милая! – он шепчет, – я рассеял чары, Я развеял власть их, этих темных сил; Грозно и сурово сыпал я удары, Оттого, что много верил и любил! О, не дли ж напрасно муки ожиданья! Милая! проснися, смолкнула гроза!» – Долгое, любовью полное лобзанье – И она открыла ясные глаза!..* * *
Старое преданье… Чудное преданье… В нем надежда мира… Мир устал и ждет, Скоро ль день во мгле зажжет свое сиянье, Скоро ли любовь к страдающим сойдет? И она сойдет, и робко разбегутся Тучи с небосклона – и в ее лучах Цепи сна, как нити, ржавея, порвутся, И затихнут слезы и замолкнет страх! Светел будет праздник – праздник возрожденья, Радостно вздохнут усталые рабы, И заменит гимн любви и примиренья Звуки слез и горя, мести и борьбы!1881–1882
Женщина*
Жизнь мало мне дала отрадных впечатлений, И в прошлом не на чем мне взор остановить; Жизнь одиночества, жизнь горя и сомнений… Что пожалеть мне в ней и что благословить? Но, нищий радостью, я был богат мечтами! С младенчества, в часы медлительных ночей, Сверкая надо мной бесшумными крылами, Они являлись мне и сыпали цветами На ложе дум моих, томленья и скорбей… То были странные, недетские мечтанья: Не снилась слава мне за подвиги войны, И строй стальных дружин в пылу завоеванья Я не бросал за грань враждебной стороны; В одежде странника и с лютней за плечами Из замка в замок я беспечно не бродил И к чуждым берегам, за бурными волнами, Сквозь мглу ночной грозы корабль не проводил; Я царской дочери, томившейся в темнице, От злобы темных сил отважно не спасал, У старой яблони не сторожил жар-птицы, Ключей живой воды по свету не искал. Мой мир был мир иной – не мир волшебной сказки И первых детских книг, – в полуночной тиши Он создан был в груди безумной жаждой ласки, Он вырос и расцвел из слез моей души!.. И помню, снилось мне, что, сладко отдыхая, Лежу в истоме я, глаза полузакрыв… Уютно в комнатке… едва горит, мерцая, Лампадки бледный свет, киот озолотив; Докучных школьных стен нет больше предо мною, Затих беспечный смех резвящихся детей, – Я дома, я в семье, и нежною рукою Мать разбирает шелк густых моих кудрей… Угасла рано ты; мои воспоминанья Не сберегли в груди твой образ молодой; Но в годы черных дум, тоски и испытанья Я создал вновь его болезненной мечтой…. Вложив в уста твои ласкающие речи, Вложив огонь любви во взгляд твоих очей, Я каждой ночи ждал, как благодатной встречи, Я призрак полюбил всей силою моей…1881–1883
«Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами…»*
Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами Бежит в морской туман за валом новый вал, И часто их прибой под хмурыми скалами Мне в ночи душные забыться не давал. Мрачна моя тюрьма; лишь изредка проглянет Луч солнца в щель окна и свод озолотит, Но я не рад ему, – при нем виднее станет Могильный мрак кругом и сырость старых плит. Со мной товарищ мой, мой брат… Когда-то оба Клялись мы – как орлы, могучи и сильны, – Врагам земли родной не уступать до гроба Священной вольности родимой стороны. Я песнею владел, – и каждый стон народа В лицо врагов его с проклятьями бросал, А он владел мечом и с возгласом: «Свобода!» За каждую слезу ударом отомщал… И долго бились мы, – чем дальше, тем грознее… Но нам не удалось рассеять ночь и тьму: Друзья нас продали с улыбкой фарисея, Враги – безжалостно нас бросили в тюрьму; И песен чудный дар, и молодость, и сила Угасли навсегда для нас в ее стенах, И мир для нас – обман, и жизнь для нас – могила, Насмешка злобная на вражеских устах… Петь? Для кого, о чем?.. Молить ли сожаленья? Слагать ли льстивый гимн ликующим врагам? Нет, лира истины, свободы и отмщенья Не служит трепету, позору и слезам!.. Нет, малодушный стон не омрачит той славы, Что ждет нас – светлая, с торжественным венком – За жизни честный путь, тернистый и кровавый, И гибель на пути, в бою с гнетущим злом!..17 января 1882
Из дневника («Хоть бы хлынули слезы горячей волною…»)*
Хоть бы хлынули слезы горячей волною, – Я б желанной грозы их стыдиться не стал; Как дитя бы к подушке прильнул головою И рыдал бы, так горько, так сладко б рыдал!.. Я рыдал бы о том, что и тесно, и душно, И мучительно жить, что на горе других Я и сам начинаю смотреть равнодушно, Не осиливши личных страданий своих; Что я глупое сердце мое презираю, Что смеюсь я над жалкою мыслью моей И что жизнь и людей так глубоко я знаю, Что не верю уж больше ни в жизнь, ни в людей…8 марта 1882
Из тьмы времен*
В ночь, когда родился Александр Македонский, безумец Герострат, томимый жаждой славы, сжег знаменитый храм Дианы в Эфесе, за что и поплатился жизнью.
Учебник древней историиФантазия
Герои древности, с торжественной их славой, Отзывных струн души во мне не шевелят: По тяжким их стопам дорогою кровавой Вступали в мир вражда, насилье и разврат… За грозным шествием победной колесницы, За радужным дождем приветственных цветов Мне стоны слышатся из длинной вереницы Угрюмых, трепетных, окованных рабов; Мне видятся поля с сожженными хлебами, Позор прекрасных дев, и слезы матерей, И стая воронов, кружащих над костями, – И стыдно мне тогда и больно за людей!.. Но в мраке прошлого, в ряду его преданий Есть тень, покрытая бесславьем и стыдом, Но близкая душе огнем своих страданий, Своим падением и грозным торжеством. Передо мной встают – больной и изможденный, Суровый лик и взор загадочных очей, И мрачно-строгий лоб, в безмолвьи дум склоненный, И волны черные отброшенных кудрей… И снится мне, что ночь нависла, над Элладой, Что тихо в море спит лазурная волна, И цепь далеких гор неясною громадой В прозрачном сумраке едва-едва видна; И будто эта ночь и нежит, и ласкает, И жжет, опьянена дыханием цветов, И будто в эту ночь на землю прилетает Рой вдохновенных грез и благодатных снов… О, счастлив тот, кому во мраке этой ночи, В пустынной улице или в саду немом, Яснее, звезд горят возлюбленные очи И руку жмет рука в порыве молодом!.. О, счастлив тот, кто мог приветными огнями Спугнуть душистый мрак под сводами аллей И весело возлечь за шумными столами, В ликующей толпе красавиц и друзей!.. Но если ты один… но если ты судьбою На жизненном пиру, как нищий, обойден, Но если, как туман, развеянный грозою, Бегут твоих очей забвение и сон, – О, бойся их – ночей ласкающих и нежных: Суровый твой недуг в затишье их слышней, И вдвое тяжелей отрава слез мятежных, Когда от сладких слез томится соловей!.. Мне снится эта ночь, и снится он… Угрюмый, Без цели он бредет по площади глухой, Сжигаемый своей мучительною думой, Страдающий своей непонятой тоской… Спокоен шаг его: никто его лобзаний Не ждет в ночной тиши, и не к кому на грудь С отрадой горькою нахлынувших рыданий И с братской жалобой во мгле ему прильнуть… И если б даже в дверь к гетере беззаботной Ударил он, любви желанием объят, – Она ответила б с боязнью безотчетной: «Уйди – ты страшен мне, безумный Герострат!..» Безумный?.. Да, умам ребячески пугливым И мелочным сердцам его не оценить: Как свет исчадьям тьмы, он страшен всем счастливым, Всем детски верящим и рвущимся любить… Он их покой смутил безжалостным сомненьем, Открыл им тайный яд в дыхании цветов И бросил, не страшась, насмешкой и презреньем И в них, объятых сном, и в мертвых их богов!.. Он юноше сказал: «Когда перед тобою, Стыдливо опустив мерцающий свой взгляд, Пройдет красавица медлительной стопою И вдруг украдкою оглянется назад, И, уловив ее невольное движенье, Прочтет в чертах ее восторженный твой взор И робость детскую и трепет восхищенья, – Забрезжившей любви безмолвный разговор, – Беги и не ищи отрадного свиданья: Любовь – безумный звук… Любви на свете нет: Есть только ложь одна, есть жгучие страданья, Да кровь кипучая, да юношеский бред!..» И деве он сказал: «Не верь в его лобзанья: Он лгал, когда клялся навеки быть твоим; Он твой, пока к тебе влекут его желанья; Ударит час – и страсть развеется, как дым…» Он говорил жрецам: «Смешны мольбы каменьям…» Он воину сказал: «Стыдись, – ты не герой…» Он их отвергнул всех, исполненный презреньем, – И сам отвергнут был невнемлющей толпой… По звонкой площади далеко раздаются Во мгле шаги его… Навстречу, из садов, К нему томительно и радостно несутся И звуки пения и говор голосов… Но он на их призыв чела не подымает. Пред ним – старинный храм; холодный луч луны, Скользя по мрамору, из мрака вырывает Лепной узор колонн и выступы стены… Он тихо входит внутрь… Глубокой ночи тени Стоят, таинственно сгустившись по углам. Вот и алтарь… Пред ним курится фимиам… Гирлянда алых роз упала на ступени, И, полною луной в окно озарена, Стоит, божественной сверкая наготою, Диана строгая, нема и холодна, На лань покорную облокотясь рукою… У ног богини жрец уснул глубоким сном, На мрамор статуи склонясь седым челом. И мысль внезапная безумца озарила: Жить, чтоб потом не жить!.. Томиться и страдать, Чтоб всё взяла с собой безмолвная могила И чтоб о том никто вовек не мог узнать!.. А если стон души, исторгнутый мученьем, Заставить прозвучать в грядущих временах, Чтоб пробуждать в слепцах, объятых опьяненьем, – Как встарь я пробуждал, – сомнения и страх?.. Сияньем истины слепить глаза разврату, Ничтожество людей сурово озарять И сквозь позор веков страдающему брату Могучий отклик свой торжественно подать?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И вспыхнул гордый храм, как факел погребальный, И не угас еще доныне этот свет, – А в ту же ночь другой безумец гениальный Безвестно в мир вступал для крови и побед!..16 сентября 1882
«Всё это было, – но было как будто во сне…»*
Всё это было, – но было как будто во сне: Были и нежные ласки, и тайные встречи… Личико девушки кротко склонялось ко мне, Тонкие, бледные ручки ложились на плечи… В сумерках вечера глухо рыдала рояль, Лампа светила на книгу родного поэта… Как хороша была даже печаль, Как тогда верилось в ясную даль, В близость блаженства, в победу желанного света!.. О, мне не больно, что жизнь мне солгала: она Всем, кто ее обещаньям поверил, солгала! Пусть она будет, как прежде, темна и душна, – Лишь бы вдали не угаснул маяк идеала. Если он светит, – что значит холодная мгла, Буйные волны и ветер? Пловец утомленный, Светом его озаренный, Малодушно не бросит весла!.. Но мне мучительно больно, мне стыдно до жгучей тоски, Что мое сердце мне лгало… Прости мне, моя дорогая, Лживые слезы, на мрамор могильной доски Тяжко упавшие, память твою оскорбляя. Нету любви, если годы похитить могли Чистый твой образ из сердца! Без вечности чувства – Смысла в нем нет!.. Если ж нету любви, – нет искусства, Правды, добра, красоты, – нет души у земли!..16 октября 1882
«Здесь всё, что я сберег от суетного света…»*
Здесь всё, что я сберег от суетного света И что перестрадал один в ночной тиши, Здесь перлы лучшие со дна моей души. [Здесь я на высоте призвания поэта.]1882
«Сбылося всё, о чем за школьными стенами…»*
Сбылося всё, о чем за школьными стенами Мечтал я юношей, в грядущее смотря. Уютно в комнате… в углу, пред образами, Лампада теплится, о детстве говоря; В вечерних сумерках ко мне слетает Источник творчества – заветная печаль, За тонкою стеной, как человек, рыдает Певучая рояль. Порой вокруг меня беспечно светят глазки И раздается смех собравшихся детей, И я, послушно им рассказывая сказки, Сам с ними уношусь за тридевять морей; Порою, дверь мою беззвучно отворяя, Войдет хозяйский кот, старинный друг семьи, И ляжет на диван, и щурит, засыпая, Зрачки горящие свои… Покой и тишина… Минуты вдохновенья С собою жгучих слез, как прежде, не несут, И битвы жизненной тревоги и волненья Не смеют донестись в спокойный мой приют. Гроза умчалась вдаль, минувшее забыто, И голос внутренний мне говорит порой: Да уж не сон ли всё, что было пережито И передумано тобой?1882
«Милый друг, я знаю, я глубоко знаю…»*
Милый друг, я знаю, я глубоко знаю, Что бессилен стих мой, бледный и больной; От его бессилья часто я страдаю, Часто тайно плачу в тишине ночной… Нет на свете мук сильнее муки слова: Тщетно с уст порой безумный рвется крик, Тщетно душу сжечь любовь порой готова: Холоден и жалок нищий наш язык!.. Радуга цветов, разлитая в природе, Звуки стройной песни, стихшей на струнах, Боль за идеал и слезы о свободе, – Как их передать в обыденных словах? Как безбрежный мир, раскинутый пред нами, И душевный мир, исполненный тревог, Жизненно набросить робкими штрихами И вместить в размеры тесных этих строк?.. Но молчать, когда вокруг звучат рыданья И когда так жадно рвешься их унять, – Под грозой борьбы и пред лицом страданья… Брат, я не хочу, я не могу молчать! Пусть я, как боец, цепей не разбиваю, Как пророк – во мглу не проливаю свет: Я ушел в толпу и вместе с ней страдаю, И даю что в силах – отклик и привет!..1882
«Чуть останусь один – и во мне подымает…»*
Чуть останусь один – и во мне подымает Жизнь со смертью мучительный спор, И, как пытка, усталую душу терзает Их старинный, немолчный раздор; И не знает душа, чьим призывам отдаться. Как честнее задачу решить: То болезненно-страшно ей с жизнью расстаться. То страшней еще кажется жить!.. Жизнь твердит мне: «Стыдись, малодушный! Ты молод, Ты душой не беднее других, – Встреть же грудью и злобу, и бедность, и голод, Если любишь ты братьев своих!.. Или слезы за них – были слезы актера? Или страстные речи твои Согревало не чувство, а пафос фразера, Не любовь, но миражи любви?..» Но едва только жизнь побеждать начинает, Как, в ответ ей, сильней и сильней Смерть угрюмую песню свою запевает, И невольно внимаю я ей: «Нет, ты честно трудился, ты честно и смело, С сердцем, полным горячей любви, Вышел в путь, чтоб бороться за общее дело, – Но разбиты усилья твои! Тщетны были к любви и святыне призывы: Ты слепым и глухим говорил, – И устал ты… и криком постыдной наживы Рынок жизни твой голос покрыл… О, бросайся ж в объятья мои поскорее: Лишь они примиренье дают, – И пускай, в себялюбьи своем, фарисеи Малодушным тебя назовут!..»1882
«Я вчера еще рад был отречься от счастья…»*
Я вчера еще рад был отречься от счастья… Я презреньем клеймил этих сытых людей, Променявших туманы и холод ненастья На отраду и ласку весенних лучей… Я твердил, что, покуда на свете есть слезы И покуда царит непроглядная мгла, Бесконечно постыдны заботы и грезы О тепле и довольстве родного угла… А сегодня – сегодня весна золотая, Вся в цветах, и в мое заглянула окно, И забилось усталое сердце, страдая, Что так бедно за этим окном и темно. Милый взгляд, мимолетного полный участья, Грусть в прекрасных чертах молодого лица – И безумно, мучительно хочется счастья, Женской ласки, и слез, и любви без конца!1882
«Кто ты, – пускай они не знают…»*
Кто ты, – пускай они не знают, Пусть толки суетных людей Своей заразой не пятнают Святыни памяти твоей.1882
«Не я пишу – рукой моею…»*
Не я пишу – рукой моею, Как встарь, владеешь ты, любя, И каждый лживый звук под нею В могиле мучил бы тебя…1882
«Если любить – бесконечно томиться…»*
Если любить – бесконечно томиться Жаждой лобзаний и знойных ночей, – Я не любил – я молился пред ней Так горячо, как возможно молиться. Слово привета на чистых устах, Не оскверненных ни злобой, ни ложью, – Всё, что, к ее преклоненный подножью, Робко желал я в заветных мечтах… Может быть, тень я любил: надо мной, Может быть, снова б судьба насмеялась И оскверненное сердце бы сжалось Новым страданьем и новой тоской. Но я устал… Мне наскучило жить Пошлою жизнью; меня увлекала Гордая мысль к красоте идеала, Чтоб, полюбив, без конца бы любить…1882
«Ах, этот лунный свет! Назойливый, холодный…»*
Ах, этот лунный свет! Назойливый, холодный. Он в душу крадется с лазурной вышины, И будит вновь порыв раскаянья бесплодный, И гонит от меня забвение и сны. Нет, видно, в эту ночь мне не задуть лампады! Пылает голова. В виски стучится кровь, И тени прошлого мне не дают пощады, И в сердце старая волнуется любовь…1882
«Одни не поймут, не услышат другие…»*
Одни не поймут, не услышат другие, И песня бесплодно замрет, – Она не разбудит порывы святые, Не двинет отвалено вперед. Что теплая песня для мертвого мира? Бездушная звонкость речей, Потеха в разгаре позорного пира, Бряцанье забытых цепей! А песне так отдано много!.. В мгновенья, Когда создавалась она, В мятежной душе разгорались мученья, Душа была стонов полна. Грозою по ней вдохновение мчалось, В раздумье пылало чело, И то, что толпы лишь слегка прикасалось, Певца до страдания жгло! О сердце певца, в наши тяжкие годы Ты светоч в пустыне глухой; Напрасно во имя любви и свободы Ты борешься с черною мглой; В безлюдье не нужны тепло и сиянье, – Кого озарить и согреть? О, если бы было возможно молчанье, О, если бы власть не гореть!1882
«Что дам я им, что в силах я им дать?..»*
Что дам я им, что в силах я им дать? Мысль?.. О, я мысль мою глубоко презираю: Не ей в тяжелой мгле дорогу указать, Не ей надеждою блеснуть родному краю. Что значит мысль моя пред этим властным злом, Пред стоном нищеты, пред голосом мученья. Она изнемогла под тягостным крестом, Она истерзана от скорби и сомненья.1882
Из дневника («Сегодня всю ночь голубые зарницы…»)*
Сегодня всю ночь голубые зарницы Мерцали над жаркою грудью земли; И мчались разорванных туч вереницы, И мчались, и тяжко сходились вдали… Душна была ночь, – так душна, – что порою Во мгле становилось дышать тяжело; И сердце стучало, и знойной волною Кипевшая кровь ударяла в чело. От сонных черемух, осыпанных цветом И сыпавших цветом, как белым дождем, С невнятною лаской, с весенним приветом Струился томительный запах кругом. И словно какая-то тайна свершалась В торжественном мраке глубоких аллей, И сладкими вздохами грудь волновалась, И страсть, трепеща, разгоралася в ней… Всю ночь пробродил я, всю ночь до рассвета, Обвеянный чарами неги и грез; И страстно я жаждал родного привета, И женских объятий, и радостных слез… Как волны, давно позабытые звуки Нахлынули в душу, пылая огнем, И бились в ней, полные трепетной муки, И отклика ждали в затишье ночном… А демон мой, демон тоски и сомненья, Не спал… Он шептал мне: «Ты помнишь о том, Как гордо давал ты обет отреченья От радостей жизни – для битвы со злом? Куда ж они скрылись, прекрасные грезы? Стыдись, эти жгучие слезы твои – Трусливой измены позорные слезы, В них – дума о счастье, в них – жажда любви!..»1882
«Любовь – обман, и жизнь – мгновенье…»*
Любовь – обман, и жизнь – мгновенье, Жизнь – стон, раздавшийся, чтоб смолкнуть навсегда! К чему же я живу, к чему мои мученья, И боль отчаянья, и жгучий яд стыда? К чему ж, не веруя в любовь, я сам так жадно, Так глупо жду ее всей страстною душой, И так мне радостно, так больно и отрадно И самому любить с надеждой и тоской? О сердце глупое, когда ж ты перестанешь Мечтать и отзыва молить? О мысль суровая, когда же ты устанешь Всё отрицать и всё губить? Когда ж мелькнет для вас возможность примиренья? Я болен, я устал… Из незаживших ран Сочится кровь и <нрзб> прокляты сомненья! Я жить хочу, хочу любить, – и пусть любовь – обман.1882
«Ах, довольно и лжи и мечтаний!..»*
Ах, довольно и лжи и мечтаний! Ты ответь мне, презренья ко мне не тая: Для кого эти стоны страданий, Эта скорбная песня моя? Да, я пальцем не двинул – я лишь говорил. Пусть то истины были слова, Пусть я в них, как сумел, перелил, Как я свято любил, Как горела в работе за мир голова, Но что пользы от них? Кто слыхал их – забыл…1882
«Ровные, плавные строки…»*
Ровные, плавные строки, Словно узор, ласкающий глаз!.. О мои песни, как вы стали далеки На страницах печатной книги от сердца, создавшего вас! Вы ли это, безумные, жгучие звуки? Вас ли, бледный от страстного чувства, в бессонную ночь Призывал я, ломая бессильные руки И мечтая хоть вами измученным братьям помочь? Но едва вы в слова выливались, могучая сила Отлетала от вас… вы бледнели, как звезды с зарею… Никого ваша жгучая правда собой не смутила, Никого вы к святыне любви не склонили собою. Язвы прикрылись цветами, Мелодией скрыт диссонанс бесконечных мучений… Вы, родясь, умирали и, в сердце пылая слезами, Над толпой пронеслись только тенью тревог и сомнений!..1882
«В открытое окно широкими снопами…»*
В открытое окно широкими снопами Струится лунный свет с лазурной вышины, И бьет в глаза мои холодными лучами, И гонит от меня встревоженные сны. А за окном, внизу, вся в блеске, вся сияя, Столица шумная и дышит и кипит, И смутный гул над ней от края и до края, Как моря смутный гул, недвижимо стоит! К чему таиться мне? В лучах и в мраке ночи Один я, и ничьи в безмолвии ночном Чужие, дерзкие, докучливые очи Не осмеют меня с нахальным торжеством. Ни друг, ни злобный враг бессмысленным укором Не заклеймят мою незримую печаль, И я могу один и несмущенным взором Окинуть прошлое и заглядеться в даль. Больное прошлое! За школьными стенами, За мертвой книгою, без ласки, без семьи, Как нищий, я молил с недетскими слезами Тепла и радости, участья и любви. Дни одиночества среди толпы веселой, Дни отвержения от игр их и затей, И первой мысли труд, бесплодный и тяжелый, В немой бессоннице мучительных ночей.1882
«Не упрекай меня за горечь этих песен…»*
Не упрекай меня за горечь этих песен: Не я виной тому, что мир ваш – мир цепей, Мир горя и борьбы – и душен мне и тесен, Что я иного жду от жизни и людей… Нет лжи в стихе моем, – не призрачные муки Пою я, как фигляр, ломаясь пред толпой, Мне стоят многих слез мои больные звуки, И стон мой – стон живой… Не упрекай меня, но пожалей, как брата, Я задыхаюсь здесь, я болен, я устал, Еще мгновение – и в сердце без возврата Угаснет . . . . . . . . . . . . . . .1882
«Я слышу их, я вижу их… Страдая…»*
Я слышу их, я вижу их… Страдая Под гнетом нищеты и тяжестью борьбы, Они идут, ко мне объятья простирая, Бойцы усталые – и дети <и> рабы. Вот комната… И мгла и холод… Чуть мерцает Огарок, может быть, последний; и пред мим За книгой – юноша. Склонившись, он читает, А смерть стоит над ним, и книгу закрывает, И обдает его дыханьем ледяным. А рядом комната еще… Здесь – мир разврата: Объятья грубые, пролитое вино… О, не входи сюда с горячим словом брата: Он не поймет тебя, а ей уж нет возврата, Она оценена – и продана давно! Тюрьма… За крепкими гранитными стенами Бесплодно гаснет жизнь… Сияние огней И грохот улицы – и личики детей, Затерянных в толпе и с робкими слезами Молящих помощи сочувственной твоей… И эта мгла вокруг – не бред солгавшей книги, Не фразы пышные, а жизнь, – и тяготят Тебя призвания тяжелые вериги, И жжет огнем тебя святое слово: «брат»! Что дашь ты им, как брат?.. Мысль, песню, состраданье? Всю жизнь твою?.. О нет, не лги перед собой И не мечтай унять, бессильный и больной, Ничтожной жертвою величие страданья. Да и не в силах ты отречься от себя, Не сменишь ты весны на грозы и ненастье, Еще зовет тебя сверкающее счастье, Еще ты жаждешь жить, волнуясь и любя!1882
«Для отдыха от бурь и тяжких испытаний…»*
Для отдыха от бурь и тяжких испытаний, Для долгих вечеров наедине с собой Я не сберег в ряду моих воспоминаний, Сестра души моей, твой образ дорогой… Прекрасные черты, любимые когда-то, Затушевала жизнь чертами чуждых лиц, И то, что было мне так дорого и свято, – Из книги прошлого ряд вырванных страниц!.. Но, и бесплотная, ты всё еще со мною, И всё еще, сквозь даль безжалостных годов, Из тайника души ты светишь мне звездою И говоришь из строк заветных дневников. Пусть я твой взор забыл, – но ласки, в нем сиявшей, И чистых слез его не мог я позабыть; Пусть смолкнул голос твой, любовью мне звучавший, Но смысл речей твоих не перестанет жить!.. Мне каждый новый день тебя напоминает, Как мгла угрюмая напоминает свет, Как горе жгучее на сердце вызывает Невольную мечту о счастье прошлых лет… И в скучной суете вседневных встреч с толпою, Среди ее тупых и чуждых мне детей, Я весь живу в любви, сиявшей чистотою, Как снег на высях гор, под золотом лучей. Напрасно с временем боролся я любовью, Напрасно от небес я чуда ожидал И в ночи жгучих слез, прильнувши к изголовью, Тебя, угасшую, из гроба призывал!.. Ты не пришла… земля, – ты в землю обратилась… Я уставал страдать, изнемогал молить, Разбитая душа затихла и смирилась, И вновь звала меня бороться и любить!.. Таков закон судьбы… Но полное забвенье Мне было не дано, и каждый новый день Вновь призывал к тебе мое воображенье И вновь будил тебя, возлюбленная тень! И чем сильней во мне росло негодованье Ко лжи, торгашеству и пошлости людей, Тем было о тебе живей воспоминанье, Тем ты казалась мне прекрасней и светлей! Так в жаркий день слепец, с открытой головою Бредущий с вожаком полдневного порой, Не видя, узнает по хлынувшему зною, Что только что прошел он рощею густой. В раздумье тяжкое глубоко погруженный, Он не услышал птиц, гнездившихся в ветвях, Но небосклон, с утра лучами раскаленный, Так беспощадно жжет в сверкающих полях!..1882
«Верь в великую силу любви!..»*
Верь в великую силу любви!.. Свято верь в ее крест побеждающий, В ее свет, лучезарно спасающий, Мир, погрязший в грязи и крови, Верь в великую силу любви!1882
«Мне не больно, что жизнь мне солгала…»*
Мне не больно, что жизнь мне солгала, – о нет. В жизни, словно в наскучившей сказке, Как бы ни был прекрасен твой юный расцвет, Не уйти от избитой развязки. Не уйти от отравы стремлений и дум, От усталости, желчи и скуки, И изноет душа, и озлобится ум, И больные опустятся руки!1882
«Умер от чахотки, умер одиноко…»*
Умер от чахотки, умер одиноко, Как и жил на свете, – круглым сиротою; Тяжело вздохнул, задумался глубоко И угас, прильнув к подушке головою. Кое-кто о нем припомнил… отыскались Старые друзья… его похоронили Бедно, но тепло, тепло с ним попрощались, Молча разошлись – и вскоре позабыли.1882
«…И крики оргии и гимны ликованья…»*
…И крики оргии и гимны ликованья В сияньи праздничном торжественных огней, А рядом – жгучий стон мятежного страданья, И кровь пролитая, и резкий звон цепей… Разнузданный разврат, увенчанный цветами, – И труд поруганный… Смеющийся глупец – И плачущий в тиши незримыми слезами, Затерянный в толпе, непонятый мудрец!.. И это значит жить?.. И это – перл творенья, Разумный человек?.. Но в пошлой суетне И в пестрой смене лиц – ни мысли, ни значенья, Как в лихорадочном и безобразном сне… Но эта жизнь томит, как склеп томит живого, Как роковой недуг, гнетущий ум и грудь, В часы бессонницы томит и жжет больного – И некуда бежать… и некогда вздохнуть! Порой прекрасный сон мне снится: предо мною Привольно стелется немая даль полей, И зыблются хлеба, и дремлет над рекою Тенистый сад, в цветах и в золоте лучей… Родная глушь моя таинственно и внятно Зовет меня прийти в объятия свои, И всё, что потерял я в жизни невозвратно, Вновь обещает мне для счастья и любви. Но не тому сложить трудящиеся руки И дать бездействовать тревожному уму, Кто понял, что борьба, проклятия и муки – Не бред безумных книг, не грезятся ему; Как жалкий трус, я жизнь не прятал за обманы И не рядил ее в поддельные цветы, Но безбоязненно в зияющие раны, Как врач и друг, вложил пытливые персты; Огнем и пыткою правдивого сомненья Я всё проверил в ней, боясь себе солгать, – И нету для меня покоя и забвенья, И вечно буду я бороться и страдать!..1882
«Счастье, призрак ли счастья…»*
Счастье, призрак ли счастья – не всё ли равно? Клятв не нужно, моя дорогая… Только было б усталое сердце полно, Только б тихой отрадой забылось оно, Как больное дитя, отдыхая. Я вперед не смотрю – и покуда нежна, И покуда тепла твоя ласка, Не спрошу у тебя я, надолго ль она, Не капризом ли женским она рождена, Не обманет ли душу, как сказка?.. Но зато и себя я не стану пытать, Чтоб не вызвать сомнений невольно; Я люблю твои песни и речи слыхать, Мне с тобою легко и свободно дышать, Мне отрадно с тобой – и довольно… А наскучу тебе я, скажи… Не жалей Отравить мою душу тоскою; Мне не нужно неволи и жертвы твоей, В жизни много и так бесполезных цепей – Что за радость быть вечно рабою? И простимся с тобой мы… И крепко тебе Я пожму на прощание руку, Как сестре в пережитой житейской борьбе, – И сумею, без слез и упреков судьбе, Неизбежную встретить разлуку…1882
«Темно грядущее… Пытливый ум людской…»*
Темно грядущее… Пытливый ум людской Пред тайною его бессильно замирает: Кто скажет – день ли там мерцает золотой Иль новая гроза зарницами играет? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Напрасно человек в смятеньи и тоске Грядущие века пытливо вопрошает. Кто понял этот свет, блеснувший вдалеке, – Заря ли там зажглась, зарница ли мерцает?1882
«С пожелтелых клавиш плачущей рояли…»*
С пожелтелых клавиш плачущей рояли, Под ее больными, дряхлыми руками, Поднимались звуки, страстно трепетали И вились над ней заветными тенями… Чудные ей в звуках виделись картины!.. Вся отдавшись им, она позабывала, Что ее чело изрезали морщины, Что прожитой жизни не начать сначала… В жалком, старом теле силою искусства, Как в цветке, ожившем с солнцем и весною, Пылко разгорались молодые чувства, Проходя по сердцу лаской и грозою… И мечтался зал ей, блещущий огнями, И в толпе, объятой мертвой тишиною, Он, ее избранник, с темными кудрями, С ясною улыбкой, с любящей душою… И мечталось ей, что вновь к ней возвратились Красота и свежесть…1882
«Ни звука в угрюмой тиши каземата…»*
Ни звука в угрюмой тиши каземата, Уснул у тяжелых дверей часовой. Нева, предрассветной дремотой объята, Зеркальною гладью лежит за стеной. По плитам сырого, как склеп, коридора Не слышно привычных дозорных шагов, И только с белеющей башни собора Доносится бой отдаленных часов. Внимая им, узник на миг вспоминает, Что есть еще время, есть ночи и дни, Есть люди, которым и солнце сияет И звезды свои зажигают огни; Что он еще жив, хоть сознанье и силы Слабеют в нем с каждым угаснувшим днем, И что эти плиты – не плиты могилы, А плиты тюрьмы, позабывшейся сном. Кого ж стерегут эти тихие воды, Гремящая сталь заостренных штыков, И крепкие двери, и душные своды, И тяжкие звенья позорных оков? Ответьте, не мучьте… Душа изнывает! И пусть – если люди бездушно молчат – Мне плеском и шумом Нева отвечает И мертвые камни проклятьем гремят… Кровавая повесть! Позорная повесть! На суд перед гневной отчизной твоей, Холопская наглость, продажная совесть И зверская тупость слепых палачей! И ты, повелитель, как заяц трусливый, Дрожащий на дедовском троне своем, На суд беспощадный, на суд справедливый С руками в крови и…1882
«Ты, для кого еще и день в лучах сияет…»*
Ты, для кого еще и день в лучах сияет, И ночь в венце из звезд проходит в небесах, Кому дышать и жить ни ужас не мешает, Ни низкий свод тюрьмы, ни цепи на руках, – Из каменных гробов, и душных и зловонных, Из-под охраны волн, гранита и штыков Прими, свободный брат, привет от осужденных, Услышь, живущий брат, призывы мертвецов! Да, мы погребены, мы отняты врагами У нашей родины, у близких и друзей, Мы клеймены огнем, изорваны кнутами, Окружены толпой злорадных палачей… Пускай же эта песнь, как звук трубы сигнальной, От нас домчится в мир и грянет по сердцам, И будет нам она – молитвой погребальной, А вам – еще живым – ступенью к лучщим дням!1882
Ночью («Пусть плачет и стонет мятежная вьюга…»)*
Пусть плачет и стонет мятежная вьюга И волны потока угрюмо шумят: В них скорбное сердце почуяло друга, В них те же рыданья и стоны звучат. Мне страшно затишье… В бессонные ночи. Когда, как могила, природа молчит, Виденья минувшего смотрят мне в очи И прошлая юность со мной говорит, О, эти виденья!.. Сурово, жестоко Они за измену былую казнят И в бедную душу глубоко-глубоко Своим негодующим взором глядят. Она беззащитна!.. Слова оправданья – Бессильны пред правдой немых их речей, И некому высказать эти страданья, И некуда скрыться от этих очей! Когда же осенняя вьюга бушует И бьется поток беспокойной волной, Мне кажется – мать надо мною тоскует И нежно мне шепчет: «Усни, дорогой!»1882
«О, если б только власть сказать душе…»*
О, если б только власть сказать душе: «Молчи! Не рвись вперед, не трепещи любовью, За братьев страждущих в удушливой ночи Не исходи по капле кровью! Не стоит жалкий мир ни жертв, ни слез… Бессильна мысль твоя, и лгут твои стремленья, – Ищи ж и для себя благоуханных роз, Забудься же и ты в позоре наслажденья». Но чуткая душа не слушает ума, Не верит выводам, проверенным годами, И ждет – всё ждет, что дрогнут ночь и тьма И хлынет мощный свет горячими волнами!..1882
«Мы спорили долго – до слез напряженья…»*
Мы спорили долго – до слез напряженья… Мы были все в сборе и были одни; А тяжкие думы, тоска и сомненья Измучили всех нас в последние дни… Здесь, в нашем кругу, на свободное слово Никто самовластно цепей не ковал, И слово лилось и звучало сурово, И каждый из нас, говоря, отдыхал… Но странно: собратья по общим стремленьям И спутники в жизни на общем пути, – С каким недоверьем, с каким озлобленьем Друг в друге врага мы старались найти!.. Не то же ли чувство нас всех согревало – Любовь без завета к отчизне родной, Не то же ли солнце надежды сияло Нам в жизни, окутанной душною мглой?.. Печально ты нашему спору внимала… Порою, когда я смотрел на тебя, Казалось мне, будто за нас ты страдала И что-то сказать нам рвалася, любя; Ночь мчалась… За белым окном разгорался Рассвет… Умирала звезда за звездой… Свет лампы, мерцая, краснел и сливался С торжественным блеском зари золотой. И молча тогда подошла ты к рояли, Коснулась задумчиво клавиш немых, И страстная песня любви и печали, Звеня, из-под рук полилася твоих… Что было в той песне твоей, прозвучавшей Упреком и грустью над нашим кружком И сердце мое горячо взволновавшей И чистой любовью и жгучим стыдом, – Не знаю… Бессонная ночь ли сказалась, Больные ли нервы играли во мне, – Но грудь от скопившихся слез подымалась, Минута – и хлынули страстно оне… Как будто бы кто-то глубоко правдивый Вошел к нам, озлобленным, жалким, больным, И стал говорить – и воскресший, счастливый Кружок наш в восторге замолк перед ним. Поддельные стоны, крикливые фразы, Тщеславье, звучавшее в наших речах, – Всё то, что дыханьем незримой заразы Жизнь сеет во всех, даже в лучших сердцах, Всё стихло – и только одно лишь желанье, Один лишь порыв запылал в нас огнем – Отдаться на крест, на позор, на страданье, Но только бы дрогнула полночь кругом!.. О друг мой, нам звуки твои показали Всю ложь в нас, до них – незаметную нам, И крепче друг другу мы руки пожали, С зарей возвращаясь, к обычным трудам. –1882
Грезы («Когда, еще дитя, за школьною стеною…»)*
Посвящается Алексею Николаевичу Плещееву
1
Когда, еще дитя, за школьною стеною, С наивной дерзостью о славе я мечтал, Мне в грезах виделся пестреющий толпою, Высокий, мраморный, залитый светом зал… Был пир – веселый пир в честь юной королевы, И в замке ликовал блестящий круг гостей: Сюда собрались все прекраснейшие девы И весь железный сонм баронов и князей… День промелькнул в чаду забав и развлечений: Рога охотников звучали по лесам, И много горных серн и царственных оленей Упало жертвами разгоряченным псам. А ночью дан был бал… Сияющие хоры Гремели музыкой… меж мраморных колонн Гирлянды зелени сплеталися в узоры, И зыблилась парча девизов и знамен… Всю ночь один другим сменялись менуэты, Под звуки их толпа скользила и плыла, И отражали шелк, и фрезы, и колеты С карниза до полу сплошные зеркала… Но близок уж рассвет, и гости утомились: «Певца, – зовут они, – пусть выйдет он вперед! Чтоб пир наш увенчать, чтоб всем мы насладились, Пусть песню старины пред нами он споет!» И, робкий паж, вперед я выступил… Смиренно Пред королевой я колено преклонил, Поднялся, звонких струн коснулся вдохновенно, И юный голос мой чертоги огласил… Вначале он дрожал от тайного смущенья, Но уж слетел ко мне мой благодатный бог, Уж осенил меня крылами вдохновенья, И звукам гибкость дал, и взор огнем зажег, И вот, безвестный паж, я властвую толпою!.. Я покорил ее… Я вижу с торжеством, Как королева ниц склонилась головою, Как жадно рыцари внимают мне кругом, Я вижу очи дев, горящие слезами, Полузакрытые в волненьи их уста, И льется песнь моя широкими волнами, Как горная река – кристальна и чиста. И льется песнь моя, и мощною грозою Гремит, рассыпавшись, на стонущих струнах… Не гром ли божьих туч ударил над землею, Не стрелы ль молнии сверкнули в небесах?.. Как грозен был удар!.. Казалось, своды зала Внезапно дрогнули, и дрогнула земля, И люстра из сквозных подвесок хрусталя На серебре цепей, померкнув, задрожала… Но буря пронеслась, и струны недвижимы… И вновь звучат они под беглою рукой, Как будто крыльями трепещут серафимы, Как будто дальний звон несется над толпой… Молитвенный напев чарует и ласкает, И вот последний звук, как легкий фимиам, Как чистый аромат, сквозь окна отлетает К дрожащим звездами бездонным небесам! Я кончил. Все уста окованы молчаньем, Все груди поднял вздох… Но вот к моим ногам Упал венок, и нет конца рукоплесканьям, И нет числа меня осыпавшим цветам!.. Гремит и стонет зал, волнуясь предо мною; Растет приветный гул несчетных голосов: Так хмурый лес шумит, взволнованный грозою, Так море в бурю бьет о скалы берегов. Гремит и стонет зал; но гром рукоплесканий Я слышу как во сне… Душа моя полна Иных заветных дум и пламенных желаний, Иной награды ждет в смущении она. Ты, чей приветный взгляд звездою путеводной Сиял передо мной., чья красота зажгла Во м>не восторг певца, могучий и свободный, О, неужели ты меня не поняла?.. Безумец! Отгони напрасные мечтанья! Священен трон ее!.. Молись… благоговей! Не дерзостной любви тревоги и желанья, А раболепный страх повергни перед ней! Но верить ли очам: она встает!.. Мгновенно Затихшая толпа ей очищает путь… Глаза ее горят светло и вдохновенно, Под золотом парчи высоко дышит грудь… Она идет ко мне – идет легка, как греза, Чаруя прелестью улыбки и лица, И вот с ее груди отколотая роза Трепещет уж в руке счастливого певца!.. Так в детстве я мечтал….2
С тех пор умчались годы, И нет их, ярких снов фантазии моей: Я стал в ряды борцов поруганной свободы, Я стал певцом труда, познанья и скорбей! Во славу красоты я гимнов не слагаю, Побед и громких дел я в песнях не пою, Я плачу с плачущим, со страждущим страдаю, И утомленному я руку подаю! И пусть мой крест тяжел, пусть бури и сомненья, Невзгоды и борьбу принес он мне с собой, – Он мне дарил зато и светлые мгновенья, Мгновенья радости высокой и святой! Я помню ночь: бледна, как тяжело больная, Она слетала к нам с лазурной вышины, С несмелой ласкою серебряного мая, С приветом северной задумчивой весны. Все окна в комнате мы настежь отворили И, с грохотом колес по звонкой мостовой, К себе и эту ночь радушно мы впустили На скромный праздник наш, в наш угол трудовой… А чуть вошла она – чуть аромат сирени Повеял в комнате – и тихо вслед за ней Вошли какие-то оплаканные тени, Каких-то звуков рой из мглы минувших дней… Тем, кто закинут был в столицу издалека, Невольно вспомнились родимые края, Убогое село, и церковь, и поля, И над немым прудом недвижная осока; Припомнился тот сад, знакомый с колыбели, Где в невозвратные, младенческие дни Скрипели весело подгнившие качели И звонкий смех стоял в узорчатой тени; Крутой обрыв в саду, беседка над обрывом, Тропинка, в темный лес бегущая змеей, И полосы хлебов с их золотым отливом, И мирный свет зари за сонною рекой… И наш кружок примолк… Суровые лишенья, Нужда, тяжелый труд и длинный ряд забот Томили долго нас… мы жаждали забвенья – И с тихой песнею любви и примиренья, Как в детских снах моих, я выступил вперед. Не пышный зал горел огнями предо мною: Здесь, в бедной комнатке, тонувшей в полумгле, Сияла только мысль нетленной красотою В венце из терниев на царственном челе! И голос мой звучал не для пустой забавы Пресыщенной толпы земных полубогов: Не требуя похвал, не ожидая славы, Как брат я братьям пел, усталым от трудов. Я пел сплотившимся под знаменем науки, Я пел измученным тяжелою борьбой, Чтоб не упали их натруженные руки, Чтоб не рассеялся союз их молодой; Я пел им светлый гимн, внушенный упованьем, Что только истине победа суждена, Что ночь не устоит перед ее сияньем, Что даль грядущего отрадна и ясна; И всё, что на душе от черного сомненья Я сам, как ценный клад, в ненастье сохранил – Все лучшие мечты, все смелые стремленья – Всё в звуки песни той я вольно перелил!.. Я смолк… Мне не гремят толпы рукоплесканья, Не падают к ногам душистые венки! Наградою певцу минутное молчанье Да чье-то теплое пожатие руки. Но что со мной?.. О чем, откуда эти слезы?.. Как горд, как счастлив я, как ожил я душой!.. О родина моя, прими меня – я твой!.. И блекнут яркие младенческие грезы, И осыпаются их призрачные розы Пред счастьем, наяву блеснувшим предо мной!..1882–1883
«Когда бы я сердце открыл пред тобою…»*
Когда бы я сердце открыл пред тобою, Ты, верно, меня бы безумным сочла: Так радость близка в нем с угрюмой тоскою, Так с солнцем слита в нем глубокая мгла…1882, 1883
«Верь, – говорят они, – мучительны сомненья!..»*
«Верь, – говорят они, – мучительны сомненья! С предвечных тайн не сиять покровов роковых, Не озарить лучом желанного решенья Гнетущих разум наш вопросов мировых!» Нет, – верьте вы, слепцы, трусливые душою!.. Из страха истины себе я не солгу, За вашей жалкою я не пойду толпою – И там, где должен знать, – я верить не могу!.. Я знать хочу, к чему с лазури небосвода Льет солнце свет и жизнь в волнах своих лучей, Кем создана она – могучая природа, – Твердыни гор ее и глубь ее морей; Я знать хочу, к чему я создан сам в природе, С душой, скучающей бесцельным бытием, С теплом любви в душе, с стремлением к свободе, С сознаньем сил своих и с мыслящим умом! Живя, я жить хочу не в жалком опьяненьи, Боясь себя «зачем?» пытливо вопросить, А так, чтоб в каждом дне, и в часе, и в мгновеньи Таился б вечный смысл, дающий право жить. И если мой вопрос замолкнет без ответа, И если с горечью сознаю я умом, Что никогда лучом желанного рассвета Не озарить мне мглы, чернеющей кругом, – К чему мне ваша жизнь без цели и значенья? Мне душно будет жить, мне стыдно будет жить, – И, полный гордости и мощного презренья, Цепь бледных дней моих, без слез и сожаленья, Я разом оборву, как спутанную нить!..Январь 1883
«Я не щадил себя: мучительным сомненьям…»*
Я не щадил себя: мучительным сомненьям Я сам навстречу шел, сам в душу их призвал… Я говорил «прости» всем светлым убежденьям, Все лучшие мечты с проклятьем погребал. Жить в мире призраков, жить грезами и снами, Без думы плыть туда, куда несет прилив, Беспечно ликовать с рабами и глупцами – Нет, я был слишком горд, и честен, и правдив. И боги падали, и прежние светила Теряли навсегда сиянье и тепло, И ночь вокруг меня сдвигалась, как могила, Отравой жгучих дум обвеяв мне чело, – И скорбно я глядел потухшими очами, Как жизнь, еще вчера сиявшая красой, Жизнь – этот пышный сад, пестреющий цветами, – Нагой пустынею лежала предо мной!.. Но первый вихрь затих, замолкнул в отдаленьи Глухой раскат громов – и ожил я опять: Я стал сбирать вокруг обломки от крушенья И на развалинах творить и созидать. Из уцелевших грез, надежд и упований Я создал новый мир, воздвигнул новый храм И, отдохнув душой от бурь и испытаний, Вновь стал молиться в нем и жечь мой фимиам!.. И в тягостной грозе, прошедшей надо мною, Я высший смысл постиг – она мне помогла, Очистив душу мне страданьем и борьбою, Свет отличить от мглы и перлы от стекла. «Вперед же! – думал я, – пусть старая тревога В твоей груди, боец, заглохнет и замрет, Ты закалил себя, ты истинного бога Прозрел в угрюмой мгле – не медли ж, и вперед!» Напрасная мечта!.. Уходят дни за днями, И каждый новый день, отмеченный борьбой, С бессильным ужасом, с безумными слезами, Раскаты новых гроз я слышу над собой! Святилище души поругано… сомненья Внесли уж и в него мертвящий свой разлад И в мой священный гимн, в смиренный гимн моленья, Кощунственных речей вливают тайный яд!.. Отверстой бездне зла, зияющей мне в очи, Ни дна нет, ни границ – и на ее краю, Окутан душной мглой невыносимой ночи, Бессильный, как дитя, в раздумье я стою: Что значу я, пигмей, со всей моей любовью, И разумом моим, и волей, и душой, Пред льющейся века страдальческою кровью, Пред вечным злом людским и вечною враждой?!.Апрель 1883
«Я пришел к тебе с открытою душою…»*
Я пришел к тебе с открытою душою, Истомленный скорбью, злобой и недугом, И сказал тебе я: «Будь моей сестрою, Будь моей заботой, радостью и другом. Мы одно с тобою любим с колыбели И одной с тобою молимся святыне, – О, пойдем же вместе к лучезарной цели, Вместе в людном мире, как в глухой пустыне!» И в твоих очах прочел я те же грезы: Ты, как я, ждала участья и привета, Ты, как я, в груди таить устала слезы От докучных взоров суетного света; Но на зов мой, полный теплого доверья, Так же беззаветно ты не отозвалась, Ты искать в нем стала лжи и лицемерья, Ты любви, как злобы, детски испугалась… И, сокрыв в груди отчаянье и муку И сдержав в устах невольные проклятья, Со стыдом мою протянутую руку Опускаю я, не встретивши пожатья. И, как путник, долго бывший на чужбине И в родном краю не узнанный семьею, Снова в людном мире, как в глухой пустыне, Я бреду один с поникшей головою…Апрель 1883
«Оба с тобой одиноко-несчастные…»*
Оба с тобой одиноко-несчастные, Встретясь случайно, мы скоро сошлись; Слезы, упреки и жалобы страстные В наших беседах волной полились. Сладко казалось нам скорбь накипевшую Другу и брату, любя, изливать; Ново казалось нам грудь наболевшую Тихою лаской его врачевать!.. Только недолго нас счастье желанное Грело в своих благодатных лучах, – Что-то холодное, что-то нежданное Брату послышалось в братских речах: Точно друг другу мы сразу наскучили, Точно судьба нас в насмешку свела, Точно друг друга мы только измучили Повестью наших невзгод без числа… И разошлись мы со злобой мучительной. Полно, товарищ, кого тут винить? Нищий у нищего лепты спасительной Вздумал, безумный, от горя молить! Мертвый у мертвого просит лобзания! Где нам чужие вериги поднять, Если и личные наши страдания Нам не дают ни идти, ни дышать!Май 1883
«Долго в ясную ночь я по саду бродил…»*
Долго в ясную ночь я по саду бродил, Бледный месяц в лазури кусты серебрил И качался на зыби реки; А вдали, где заря, догорая, легла, Чуть виднелись убогие избы села И мерцали, дрожа, огоньки. Этот сад, с перекрестною сетью аллей, Эту реку, село и безбрежье полей – Всё вокруг я с младенчества знал. Здесь, на шатких качелях, в прохладной тени, В невозвратные дни, в незабвенные дни, Детский смех мой беспечно звучал. Здесь прочитана первая книга была, Здесь впервые стыдливо любовь расцвела В пробудившемся сердце моем. Этим звездам я милое имя твердил И на этом стволе в старину начертил Милый вензель дрожавшим ножом. Помню, как я в столице, за школьной стеной, Ждал весны с замиравшей от неги душой, Чтоб родимую глушь повидать, Ранним утром с ружьем по полям побродить, В ясный вечер веслом гладь реки бороздить, Душный полдень – в лесу переждать… Я природу тогда, как невесту, любил, Я с природой тогда, как с сестрой, говорил, И скорбел за нее я душой С каждым желтым листом, облетавшим с ветвей С каждым легким морозом осенних ночей, С каждой с неба упавшей звездой… А теперь?.. Отчего эта ночь мне страшна?.. Что в разбитой душе подымает она Из-под пепла остывшей любви, Из-под блеклых цветов ожиданий и грез?.. Я не ждал, не хотел этих хлынувших слез, Сладких грез, говорящих: «Живи!» Я страданьем купил мой холодный покой. Что же этою ночью вдруг сталось со мной? Оживает, трепещет душа; Снова детски хочу я любить и страдать, И не в силах я снова в груди удержать Детских слов: «Ах, как жизнь хороша!» Я давно уж привык никого не любить, Ничего не желать, ни о чем не просить, – И моей безнадежной тоской И пытливой работою мысли моей Я мечтал оградить от тревог и страстей Мою душу, как крепкой броней! И в раздумье стою я, – и сам не пойму, Верить чуткой душе или верить уму? И со страхом я слышу, что вновь В это сердце, больное от скорби и ран, [В это мертвое сердце свой сладкий обман Заронили мечты и любовь!..]Весна 1883
«Прежде белые ночи весны я любил…»*
Прежде белые ночи весны я любил, – Эти годы еще так недавни, – А теперь я пугливо от них затворил, Как от недруга, окна и ставни. Грустно лампу зажег я и книгу открыл; Пред глазами мелькают страницы, Но их смысл уловить нет ни воли, ни сил: Тени прошлого вновь восстают из могил, Прошлых грез вновь летят вереницы… Ах, весна, не томи ты меня, отойди!.. Прежде, в дни моей юной свободы, На призыв твой в ответ находил я в груди Звучный гимн в честь ожившей природы, – Но тогда моим песням я сам был судьей, И лились они вольно и страстно, И я верил, я верил всей чуткой душой, Что прекрасное – вечно прекрасно!.. «Даже, – думал я, – в годы борьбы и тревог, В годы смут и народных волнений, Красота – это мощь, это сила и бог, Бог, достойный и жертв и молений!» Но теперь уж не властен я в, песнях своих, Я на рынок принес вдохновенье, Я к запросам толпы приурочил мой стих, Чтоб купить бы ее поклоненье. И пусть к братьям во мне неподдельна любовь, Но себе и за то уж я жалок, Что я буду им петь только муки и кровь И, боясь их насмешек, не в силах уж вновь Петь им прелесть весенних фиалок!..Весна 1883
«Раздалась и оборвалась…»*
Раздалась и оборвалась Песня за рекою. Чья-то тень в кустах промчалась Низко над водою… Ей навстречу тень другая. Вот звучит лобзанье, – И стыдливо ночь немая Скрыла их свиданье. Ночь немая вся объята Негою и снами. Отблеск знойного заката Гаснет за лесами. Неостывшим зноем дышит Грудь земли безмолвной, И речной тростник колышут, Набегая, волны!Весна 1883
«Давно в груди моей молчит негодованье…»*
Давно в груди моей молчит негодованье. Как в юности, не рвусь безумно я на бой. В заветный идеал поблекло упованье, И, отдаленных гроз заслышав громыханье, Я рад, когда они проходят стороной. Их много грудь о грудь я встретил, не бледнея. Я прежде не искал, – я гордо ждал побед. Но ближе мой закат – и сердце холоднее, И встречному теперь я бросить рад скорее Не дерзкий зов на бой, а ласковый привет. Я неба на земле искать устал… Сомненья Затмили тучею мечты минувших дней. Мне мира хочется, мне хочется забвенья. Мой меч иззубрился, и голос примиренья Уж говорит со мной в безмолвии ночей.Весна 1883
«Неужели сейчас только бархатный луг…»*
Неужели сейчас только бархатный луг Трепетал позолотой полдневных лучей? Неуклюжая туча ползет, как паук, И ползет – и плетет паутину теней!.. Ах, напрасно поверил я в день золотой, Ты лгала мне, прозрачных небес бирюза: Неподвижнее воздух, томительней зной, И всё ближе гремит, надвигаясь, гроза!.. Встанут серые вихри в дорожной пыли, Заволнуется зыбкое море хлебов, Дрогнет сад, наклоняясь челом до земли, Облетят лепестки недоцветших цветов… Сколько будет незримых, неслышных смертей, Сколько всходов помятых и сломанных роз!.. Долго солнце огнем благодатных лучей Не осушит пролитых природою слез!.. А не будь миновавшие знойные дни Так безоблачно тихи, светлы и ясны, Не родили б и черную тучу они – Эту черную думу на лике весны!..Лето 1883
Над могилой И. С. Тургенева*
Тревожные слухи давно долетали; Беда не подкралась к отчизне тайком, – Беда шла открыто, мы все ее ждали, Но всех взволновал разразившийся гром: И так уж немного вождей остается, И так уж безлюдье нас тяжко гнетет, Чье ж сердце на русскую скорбь отзовется, Чья мысль ей укажет желанный исход?.. Больной и далекий, в последние годы Немного ты дал нам, учитель и друг: Понять наши стоны и наши невзгоды Тебе помешал беспощадный недуг. Но жил ты – и верилось в русскую силу, И верилось в русской души красоту, – Сошел, побежденный страданьем, в могилу – И нет тебе смены на славном посту. Не здесь, не в мерцаньи свечей погребальных, Не в пестрой толпе, не при громе речей, Не в звуках молитв заунывно-печальных Поймем мы всю горечь утраты своей, – Поймем ее дома, поймем над строками Высоких и светлых творений твоих, Заслышав, как сердце трепещет слезами – Слезами восторга и чувств молодых!.. И долго при лампе вечерней порою, За дружным и тесным семейным столом, В студенческой келье, в саду над рекою, На школьной скамейке и всюду кругом – Знакомые будут мелькать нам страницы, Звучать отголоски знакомых речей И, словно живые, вставать вереницы Тобою воссозданных русских людей!..Сентябрь 1883
Цветы*
Я шел к тебе… На землю упадал Осенний мрак, холодный и дождливый… Огромный город глухо рокотал, Шумя своей толпою суетливой; Загадочно чернел простор реки С безжизненно-недвижными судами, И вдоль домов ночные огоньки Бежали в мглу блестящими цепями… Я шел к тебе, измучен трудным днем, С усталостью на сердце и во взоре, Чтоб отдохнуть перед твоим огнем И позабыться в тихом разговоре; Мне грезился твой теплый уголок, Тетради нот и свечи на рояли, И ясный взгляд, и кроткий твой упрек В ответ на речь сомненья и печали, – И я спешил… А ночь была темна… Чуть фонарей струилося мерцанье… Вдруг сноп лучей, сверкнувших из окна, Прорезав мрак, привлек мое вниманье: Там, за зеркальным, блещущим стеклом, В сияньи ламп, горевших мягким светом, Обвеяны искусственным теплом, Взлелеяны оранжерейным летом, – Цвели цветы… Жемчужной белизной Сияли ландыши… алели георгины, Пестрели бархатцы, нарциссы и левкой, И розы искрились, как яркие рубины… Роскошные, душистые цветы, – Они как будто радостно смеялись, А в вышине латании листы; Как веера, над ними колыхались!.. Садовник их в окне расставил напоказ. И за стеклом, глумясь над холодом и мглою, Они так нежили, так радовали глаз, Так сладко в душу веяли весною!.. Как очарованный стоял я пред окном: Мне чудилось ручья дремотное журчанье, И птиц веселый гам, и в небе голубом Занявшейся зари стыдливое мерцанье; Я ждал, что ласково повеет ветерок, Узорную листву лениво колыхая, И с белой лилии взовьется мотылек, И загудит пчела, на зелени мелькая… Но детский мой восторг сменился вдруг стыдом: Как! В эту ночь, окутанную мглою, Здесь, рядом с улицей, намокшей под дождем, Дышать таким бесстыдным торжеством, Сиять такою наглой красотою!.. К чему бессилен ты, осенний вихрь? К чему Не можешь ты сломить стекла своим дыханьем, Чтоб в этот пошлый рай внести и смерть и тьму И разметать его во прах с негодованьем? Ты помнишь, – я пришел к тебе больной… Ты ласк моих ждала – и не дождалась: Твоя любовь казалась мне слепой, Моя любовь – преступной мне казалась!..1883
«Опять вокруг меня ночная тишина…»*
Опять вокруг меня ночная тишина. Опять на серебро морозного окна Бросает лунный свет отлив голубоватый, И в поздний час ночной, перед недолгим сном, Сижу я при огне, склонясь над дневником, Тревогою, стыдом и ужасом объятый. Таких, как этот день, минувший без следа, Растратил много я в последние года, – Но их в мою тетрадь я заносить боялся: Больную мысль страшил растущий их итог… Так медлит счет свести неопытный игрок, С отчаяньем в груди сознав, что проигрался… Сегодня совесть мне отсрочки не дает… За что, что сделал я?.. За что меня гнетет Мое минувшее, как память преступленья? Я жил, как все живут, – как все, я убивал Бесцельно день за днем и рабски отгонял Укоры разума, и думы, и сомненья! Я жил, как все живут, – а в этот час ночной, Быть может, я один с мучительной тоской В тайник души моей спускаюсь беспристрастно. И тихо всё вокруг, и за моим окном, Окованный луны холодным серебром, Недвижный город спит глубоко и бесстрастно.1883
Муза*
Посвящается Д. С. Мережковскомуперед взором моим
Долго муза, таясь, перед взором моим Не хотела поднять покрывала И за флером туманным, как жертвенный дым, Чуждый лик свой ревниво скрывала; Пылкий жрец, я ни разу его не видал, И в часы вдохновенья ночного Только голос богини мне нежно звучал Из-под траурных складок покрова; Но под звуки его мне мечта создала Яркий образ: за облаком флера Я угадывал девственный мрамор чела И огонь вдохновенного взора; Я угадывал темные кольца кудрей, Очерк уст горделивый и смелый, Благородный размах соболиных бровей И ресниц шелковистые стрелы… И взмолился я строгой богине: «Открой, О, открой мне черты дорогие!.. Я хочу увидать тот источник живой, Где рождаются песни живые; Не таи от меня молодого лица, Сбрось покров свой лилейной рукою И, как солнцем, согрей и обрадуй певца Богоданной твоей красотою!..» И богиня вняла неотступным мольбам И, в минуту свиданья, несмело Уронила туманный покров свой к ногам, Обнажая стыдливое тело; Уронила – и в страхе я прянул назад… Воспаленный, завистливый, злобный, – Острой сталью в глаза мне сверкнул ее взгляд, Взгляд, мерцанью зарницы подобный!.. Было что-то зловещее в этих очах, Отененных вокруг синевою… Серебрясь, седина извивалась в кудрях, Упадавших на плечи волною; На прозрачных щеках нездоровым огнем Блеск румянца, бродя, разгорался, – И один только голос дышал торжеством И над тяжким недугом смеялся… И звучал этот голос: «Певец, ты молил, Я твои услыхала молитвы: Вот подруга, с которой ты гордо вступил На позорище жизненной битвы! О, слепец!.. Красотой я сиять не могла: Не с тобой ли я вместе страдала? Зависть первые грезы твои родила, Злоба первую песнь нашептала… Одинокой печали непонятый крик, Слезы горя, борьбы и лишенья – Вот моя колыбель, вот кипучий родник, Блеск и свет твоего вдохновенья!..»1883
«Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней…»*
Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней, Сын раздумья, тревог и сомнений: Я не знаю в груди беззаветных страстей, Безотчетных и смутных волнений. Как хирург, доверяющий только ножу, Я лишь мысли одной доверяю, – Я с вопросом и к самой любви подхожу И пытливо ее разлагаю!.. Ты прекрасна в порыве твоем молодом, С робкой нежностью первых признаний, С теплой верой в судьбу, с детски ясным челом И огнем полудетских лобзаний; Ты сильна и горда своей страстью, – а я… О, когда б ты могла, дорогая, Знать, как тягостно борется дума моя С обаяньем наставшего рая, Сколько шепчет она мне язвительных слов, Сколько старых могил разрывает, Сколько прежних, развеянных опытом снов В скорбном сердце моем подымает!..1883
«Окрыленным мечтой сладкозвучным стихом…»*
Окрыленным мечтой сладкозвучным стихом Никогда не играл я от скуки. Только то, что грозой пронеслось над челом, Выливал я в покорные звуки. Как недугом, я каждою песнью болел, Каждой творческой думой терзался; И нередко певца благодатный удел Непосильным крестом мне казался. И нередко клялся я навек замолчать, Чтоб с толпою в забвении слиться, – Но эолова арфа должна зазвучать, Если вихрь по струнам ее мчится. И не властен весною гремучий ручей Со скалы не свергаться к долине, Если солнце потоками жгучих лучей Растопило снега на вершине!..1883
На кладбище*
На ближнем кладбище я знаю уголок: Свежее там трава, не смятая шагами, Роскошней тень от лип, склонившихся в кружок, И звонче пенье птиц над старыми крестами. Я часто там брожу, пережидая зной… Читаю надписи, грущу, когда взгрустнется, Иль, лежа на траве, смотрю, как надо мной, Мелькая сквозь листву молочной белизной, Цепь белых облаков стремительно несется. Сегодня крест один склонился и упал; Он падал медленно, за сучья задевая, И, подойдя к нему, на нем я прочитал: «Спеши, – я жду тебя, подруга дорогая!» Должно быть, вешний дождь вчера его подмыл… И я задумался с невольною тоскою, Задумался о том, чей прах он сторожил И кто гниет под этою землею… «Спеши, – я жду тебя!..» Заветные слова! Услышала ль она загробный голос друга?.. Пришла ль к тебе на зов, иль всё еще жива Твоя любимая и нежная подруга?.. Я имени ее не нахожу кругом… Ты тлеешь, окружен чужой тебе толпою, Забыт и одинок, – и ни одним венком Ее любовь к тебе не говорит с тобою… Жизнь увлекла ее в водоворот страстей И жгучую печаль, как рану, исцелила, И не придет она под тень густых ветвей Поплакать над твоей размытою могилой. И только этот крест, заботливой рукой Поставленный тебе когда-то к изголовью, Храня с минувшим связь, смеется над тобой, Над памятью людской и над людской любовью!1883
«Упали волнистые кудри на плечи…»*
Упали волнистые кудри на плечи, Улыбка горит на лице молодом, И пылко звучат ее милые речи, Звучат о любви и о счастье вдвоем. А я, я на грудь к ней припал головою, И бледные ручки целую, любя, И тоже мечтаю, объятый тоскою, Но только мечтаю один, про себя. Она говорит: «День для честной работы, А вечером вместе сойдемся мы вновь, – Сойдемся, отгоним от сердца заботы, И пусть нам, как солнце, сияет любовь. При лампе, за нашим столом соберется Кружок дорогих нам, немногих друзей; Тут смех, там запутанный спор заведется, Всё весело, просто, без лжи и затей… Все братья, все сестры!.. Часы, как мгновенья, Бесшумно несутся в уютных стенах… Во взглядах доверье, в речах оживленье, И тихое счастье в спокойных сердцах; А жизнь – пусть она посылает нам грозы, Мы будем смеяться над ними в тиши!» Наивные, милые, детские грезы: Бред пылкой головки и юной души… Ты просишь не мало, моя дорогая, А я в моих грезах, я счастья не жду. Но мне бы хотелось лежать, умирая, В бессильной истоме, в жару и бреду, Чтоб с мыслью затихли в мозгу и сомненья, Затих и вопрос неотступный: «К чему?» Чтоб два-три неверных сердечных биенья, И смерть унесла меня в вечную тьму… И в это мгновенье хочу я, родная, Чтоб ты наклонилась на миг надо мной И кудри мои чтоб, любя и лаская, С чела отвела ты холодной рукой. И речь бы твоя надо мною звучала, Сияли лазурные очи твои, И тихая смерть чтоб меня укачала, Как старая няня, под ласки любви!..1883
Бред*
Скончался поэт… Вдохновенные звуки Грозой не ударят по чутким сердцам; Упали без жизни усталые руки, Привыкшие бегло летать по струнам. Скончался поэт… Невозвратно увяли Душистые розы младого венца, И облако жгучей, застывшей печали Туманит немые черты мертвеца! Вы знали ль его?.. Он был честен душою; Не славы он в жизни корыстно искал, – Он в песнях боролся с угрюмою мглою, Он в песнях с измученным братом страдал. Он сам был суровой судьбой обездолен, Сам с детства тяжелые цепи носил, Сам был оскорблен, и унижен, и болен, Сам много страдал и безумно любил. И в песнях не лгал он; красивым нарядом Он взоров толпы за собой не манил, И если свой стих он напитывал ядом, Тот яд и его беспощадно убил. И если порой его песня звучала Тяжелой, как ночь, беспросветной тоской, То та же тоска и его истерзала, Окутав рассвет его черной грозой…1883
«Я их не назову врагами…»*
Я их не назову врагами, Но часто в страхе я готов От них, с их смехом и слезами, Бежать, как узник от оков. Я жить хочу, – хочу волнений, Кипучих дум, мятежных гроз, Хочу безумных наслаждений, Борьбы и тернов, мук и роз. Я жажду подвигов и дела, – А жизнь – их жизнь – вокруг меня И замерла и онемела, Как сонный лес под зноем дня!.. О, как мне жалки их тревоги И боль их гнева, и любви, Как наторенной их дороги Скучны и узки колеи! Как мало чувствам их простора, Как повесть жизни их проста, Как ширину их кругозора Стеснила мысли нищета! Кипит незримая работа Во имя истины святой. Потоки крови, слез и пота Поят простор земли родной, Вулкан бурлит уж под ногами…1883
«Уходит день за днем… На ряд пустых забот…»*
Уходит день за днем… На ряд пустых забот Бесплодно тратятся порывы и усилья; Редеет круг друзей, врагам потерян счет, Ум изнемог в борьбе, и одряхлели крылья.1883
«Не сравнивай с грозой души моей страданье…»*
Не сравнивай с грозой души моей страданье… Гроза б умчалась прочь: ее мятежный гром Сменило бы опять дубрав благоуханье И солнца мирный свет на небе голубом. Гроза – мгновение: суровы и могучи, Над миром воцарив томительную ночь, С разбега налетят разгневанные тучи, Просыплют гром и блеск – и разлетятся прочь. И как хорош покой остынувшей природы, Когда гроза сойдет с померкнувших небес! Как ожили цветы, как влажно дышат воды, Как зелен и душист залитый солнцем лес! Нет, я бы рад сойтись лицом к лицу с грозою, Но жизнь вокруг меня так буднично пошла, Что даже нет вокруг врагов, могущих к бою Позвать меня, – и враг язвит из-за угла!..1883
«Ночь медленно плывет… Пора б и отдохнуть…»*
Ночь медленно плывет… Пора б и отдохнуть От дня тревог и дум, печали и волнений; Пора б, как скучный сон, с больной души стряхнуть Весь этот хмель и чад недавних впечатлений. Как было б хорошо услышать над собой Из братских уст слова участья и привета, – Но я за дневником – один с моей тоской, И нет на оклик мой желанного ответа… Столица чутко спит… В полуночной тени Встают домов ее стоокие громады; Кой-где дрожат еще последние огни, – Рабочей лампы свет или огонь лампады…1883
«Омывшись на заре душистою росою…»*
Омывшись на заре душистою росою, Сегодня ясный день, как девушка, румян. Едва колышется дремотною волною Морская гладь, вдали переходя в туман… В сияньи солнечном сады благоухают, Прозрачна глубь небес – ни облачка кругом; И только чайки в ней и вьются и мелькают, Блестят снежинками в просторе голубом.1883
Грезы («В бессонницу, когда недуг моей души…»)*
В бессонницу, когда недуг моей души, Пугая, гонит прочь ночные сновиденья, Порой мечтаю я в томительной тиши, Чтоб хоть отрадой грез унять мои мученья; Но блага бытия, влекущие людей На жаркий спор за них, в разгар житейской битвы, Чужды и далеки больной души моей, Как сердца мертвеца – желанья и молитвы… Пусть слава мне блеснет, пусть женская любовь Прильнет к стопам моим послушною рабою, – Хмель жизни отбродил, и не увлечь им вновь, Прекрасным этим снам, души моей собою… Я в них не верую, – я труп: в груди моей Ни искры жизни нет, я жду лишь погребенья, – И в грезах одного молю я у людей, Молю, измученный, святыни сожаленья…1883
«С тех пор как я прозрел, разбуженный грозою…»*
С тех пор как я прозрел, разбуженный грозою, С тех пор как детских грез проникнул я обман И жизнь сверкнула мне позорной наготою И жалкой дряхлостью сквозь радужный туман, С тех пор как, оттолкнув соблазны наслажденья, Мой стих я посвятил страданью и борьбе, Не раз переживал я тяжкие сомненья, Сомненья в будущем, и в братьях, и в себе… Я говорил себе: «Не обольщайся снами; Что дашь ты родине, что в силах ты ей дать? Твоей ли песнею, твоими ли слезами Рассеять ночь над ней и скорбь ее унять? Что значишь ты, пигмей, со всей твоей любовью, И все, одним путем идущие с тобой, Пред льющейся века неудержимой кровью, Пред вечным злом людским и вечною враждой? А между тем молчать в бездействии позорном, Есть хлеб, отравленный слезами нищеты, Носить ярмо раба в смирении покорном, – Так жить не можешь ты, так жить не хочешь ты! Где ж свет и где исход?..» И понял я душою, Что мысль не прояснит мучительный хаос И что порыв ее мне принесет с собою Лишь мрак уныния да злобу жгучих слез… И проклял я тогда бесплодные сомненья, И сердце я спросил, – и сердцем я решил, Услышав братский стон, без дум и размышленья Идти и помогать, насколько станет сил. [Я божеством избрал любовь и всепрощенье; Святым ее огнем я каждый стих зажег, И ту же песнь любви, печали и забвенья С собою я принес в наш дружеский кружок.]1883
«Сегодняшняя ночь одна из тех ночей…»*
Сегодняшняя ночь одна из тех ночей, Которых я боюсь и робко избегаю. От них, как от врагов, я в комнате моей Сурово ставни закрываю. Я, как беды, страшусь, что темный этот сад Повеет на меня прохладой благодатной, Что бедный угол мой наполнит аромат И грудь стеснится вновь тоскою непонятной!..1883
«Стряхнув угар и хмель промчавшегося дня…»*
Стряхнув угар и хмель промчавшегося дня, От лжи напыщенной, от злобы ядовитой, От мелочных забот, измучивших меня, Я ухожу в мой мир, мне одному открытый. Я ухожу к моим покинутым трудам, К моим задумчивым и грустным вдохновеньям, К тетрадям нот моих, к заветным дневникам, К воспоминаниям, мечтам и сожаленьям. И, долгий, смутный день проживши для других, Прожив его в толпе и заодно с толпою, В затишье вечеров спокойных и немых Я для себя живу воскресшею душою. Я разбиваю гнет наскучивших оков И в тихих сумерках вечернего досуга Из выцветших страниц забытых дневников Опять зову тебя, угасшая подруга… Есть сны, – они порой бессмысленны, как бред, Но что-то чудное в них дышит и сияет, Что согревает грудь, что после многих лет Ее неведомым блаженством наполняет. Ты для меня была таким же светлым сном, Таким же, как они, таинственным намеком, Такой же сказкою о чем-то неземном, О чем-то мне родном, но смутном и далеком…1883
«Не завидуй им, слепым и беззаботным…»*
Не завидуй им, слепым и беззаботным, Что твоим они не мучатся мученьем, Что живут они мгновеньем безотчетным, Пошлой суетой и детским обольщеньем… Не считай с упреком слез, за них пролитых, И обид, от них услышанных тобою: Тяжесть жгучих мук и песен ядовитых Скажется тебе бессмертия зарею.1883
«Пусть смятенья и грома полны небеса…»*
Пусть смятенья и грома полны небеса, Пусть над черною бездной морскою Чайкой носится буря, и рвет паруса, И вздымает волну за волною. Не рыдай, как дитя, на своем корабле, – Встанет утро – и стихнет волненье, И помчит тебя снова к желанной земле Вечно мощною силой теченья…1883
«Распахнулись тяжелые двери тюрьмы…»*
Распахнулись тяжелые двери тюрьмы И, согретый цветущей весною, В царство слез и неволи, позора и тьмы День ворвался победной волною. «Ты свободен, иди!» – сторожа говорят, С рук и ног моих цепи снимая, И нежданному счастью безумно я рад, Как дитя, и смеясь и рыдая. «О, скажите, молю я, не лживый ли сон Обманул мою душу мечтою? Неужели я вправду отныне прощен, Не смеетесь ли вы надо мною?..» Но у ног моих звенья разбитых цепей, А в лазурной дали, за дверями, Чуть виднеется берег отчизны моей, Там, где море слилось с небесами! Завтра парус косматый, по бурным волнам Легче чайки летя и мелькая, Унесет меня вновь к незабвенным полям Дорогого родимого края! Но… что сталось с проснувшимся сердцем моим? Отчего на тюремном пороге Вдруг поник я челом и стою, недвижим, В непонятной душевной тревоге?.. Что за сила влечет меня снова назад? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О, прости меня, бедный товарищ! Прости, Что в восторге забыл о тебе я, Что забыл я о том, с кем на общем пути Шел я, злобой к врагу пламенея. Нет, не сдамся я царству позора и тьмы, – Верь, о брат, не изменит рука мне, И над морем, где высились стены тюрьмы, Не останется камня на камне! Я иду, но иду не один, и с собой Уношу я с тоской затаенной Твой страдальческий образ, твой кашель глухой И рыданья души оскорбленной…1883
«Не гони ее, тихую гостью, когда…»*
Не гони ее, тихую гостью, когда, Отуманена негою сладкой, В келью тяжких забот, в келью дум и труда Вдруг она постучится украдкой; Встреть ее на пороге, в рабочих руках Отогрей ее нежные руки; Отыщи для нее на суровых устах Тихой лаской манящие звуки. Позабудь для ее беззаботных речей Злобу дня, и борьбу, и тревоги, И вздохни на груди ненаглядной твоей От пройденной тобою дороги… Нет, не стыдно любить и не страшно любить! Как светло, как отрадно живется, Если смог ты в подругу свою перелить Всё, чем грудь твоя дышит и бьется!..1883
«Завтра, чуть лениво глазки голубые…»
Завтра, чуть лениво глазки голубые Милая откроет, пробудясь от сна, Не докучный шум, не звуки городские С улицы услышит за окном она. За окном раздастся птичек щебетанье, Тихий говор сада, плеск речной волны, И широко солнца кроткое сиянье Золотым потоком хлынет с вышины… Как цветок, омытый вешнею росою, Девственной красы и свежести полна, В ароматный сад, склоненный над рекою, С резвою улыбкой убежит она. Обежит дорожки, скрытые кустами, С вышины обрыва глянет в даль полей, И угрюмый город с душными домами Там, вдали, как призрак, встанет перед ней!..1883
«Сегодня как-то я особенно устал…»*
Сегодня как-то я особенно устал: Блеск радостного дня мне жег и резал очи, Веселый шум толпы мне душу раздражал, И я как избавленья ждал Безмолвной ночи. И ночь сошла с небес; в открытое окно Пахнуло ласкою и сонной тишиною, И вот вокруг меня всё спит давным-давно, А я – я не могу уснуть, и вновь полно Больное сердце старою тоскою…1883
Письмо*
Когда я шел от вас, – холодный ветерок, Днем резавший лицо, замолк к безмолвной ночи Еще алел зарей поблекнувший восток, И светлый день весны как будто не протек, А лишь полузакрыл сияющие очи… Из сада музыка в вечерней тишине Далеко слышалась… Под такт ее ступая, Я тихо шел, мой стих задумчиво слагая; Я шел, а сердце плакало во мне. Да, сердце плакало… Мертвец похороненный Очнулся вновь, в своем удушливом гробу, И рвется из земли на воздух благовонный, И плачет, и клянет бездушную судьбу…1883
Ночь и день*
Зачем-то шли года, сменялись впечатленья, Гремела буря чувств в отзывчивой груди, Жгли и томили мысль тревожные сомненья, И тот же смутный чад грозит и впереди. Что ж это? Пошлый фарс?.. К чему ж я в нем актером? Я не рожден шутом, – пусть тешит он шутов! А мне он надоел своим бессвязным вздором, Докучной пестротой и звоном лживых слов!.. Прочь, без раздумья прочь с подмостков балагана!.. Мне душно, тяжело! Пусть с моего лица Сотрет немая смерть позорные румяна И даст ему покой разумного конца! Пусть жизнь во мне убьет не мертвая природа, Не тягостный недуг, случайный и слепой, А ум, свободный ум, не видящий исхода И не смирившийся пред жалкою судьбой!.. Напрасная мечта, – я буду жить! Блистая Игрой своих цветов и вечной красотой, Жизнь вновь меня умчит, мой ропот заглушая, Вновь опьянит меня, глумяся надо мной. Я знаю, минет ночь; румяный и прекрасный Рассвет мое окно лучами озарит, И голос черных дум и истины бесстрастной, Как бред, безумный бред, замрет и замолчит. Я скорбь мою сочту болезненной мечтою, Я насмеюсь над ней с глупцами заодно И, полн кипучих сил, спокойною рукою Широко распахну закрытое окно; И хлынет из него благоуханье сада, Домчится звонкий плеск весеннего ручья, И знойное чело обвеет мне прохлада, И сердце озарит блаженство бытия!..1883
«Блажен, кто в наши дни родился в мир бойцом…»*
Блажен, кто в наши дни родился в мир бойцом. Пусть жизнь ему грозит нуждою и мученьем, – Погибель встретит он с безоблачным челом, С уверенной душой, с насмешкой над врагом И с гордым, полным сил презреньем. Потомства строгий суд его не упрекнет Ни в слабости раба, ни в трусости позорной. И если с родины ярма он не сорвет, Зато и сам пред ним во прах не упадет Трепещущий, безмолвный и покорный. Но горе в дни борьбы тому, кто рук в крови Не в силах обагрить, кто одарен с рожденья Душой, согретою огнем святой любви, Душой, сознавшею блаженство всепрощенья!.. Родной народ его своим не назовет, Он, скажут, праздновал за чашей с палачами, Он в песнях воспевал насилие и гнет, Он был в одних рядах с бездушными врагами.1883
«Под звуки музыки, струившейся волною…»*
Под звуки музыки, струившейся волною, Один среди толпы, пестреющей кругом, Я вдруг задумался, поникнув головою. Задумался – бог ведает о чем. Печали не было в той думе мимолетной, Но чуть очнулся я – и на своих чертах Сознал я темный след тревоги безотчетной И влагу тихих слез, сияющих в очах. То тайные мои недуги и страданья, Глубоко скрытые от чуждых мне очей, Укравши у меня минуту невниманья, Как тени поднялись со дна души моей. И в час, когда на миг от оживленья бала В безвестный мир меня мечта моя умчала, Они смутили вновь поддельный мой покой. Так горная река из-под снегов обвала Вновь рвется на простор мятежною волной.1883
Reverie*
Посвящается артистке г-же Зейпт
Затих блестящий зал и ждет, как онемелый… Вот прозвучал аккорд под опытной рукой, И вслед за ним, дрожа, неясный и несмелый, Раздался струнный звук – и замер над толпой. То был родной мне звук: душа моя узнала В нем отзвук струн своих, – и из моих очей, Как отлетевший сон, исчезли стены зала, И пестрота толпы, и яркий блеск огней! Широко и светло объятья распахнувший Иной, прекрасный мир открылся предо мной, И только видел я смычок; к струнам прильнувший, Да бледное лицо артистки молодой. Как чудотворный жезл волшебницы могучей, Он, этот трепетный и вкрадчивый смычок, За каждой нотою, и нежной и певучей, Ответных грез будил в груди моей поток: И шли передо мной в лучах воспоминанья, Под звуки reverie, бежавшей, как ручей, И светлая любовь, и яркие мечтанья, И тихая печаль минувших, юных дней.1883
«В солнечный день мы скользили по глади реки…»*
В солнечный день мы скользили по глади реки. Перегнувшись к воде, ты со звонкой струею играла И точеные пальчики нежной атласной руки Серебром обвивала. Перед нами раскинулась даль: там синели леса, Колыхались, пестря васильками, роскошные нивы, И краснели крутых берегов роковые обрывы, И горели в лучах небеса…1883
«Пугая мысль мою томящей тишиною…»*
Пугая мысль мою томящей тишиною, Из глубины аллей, мучительно душна, Она идет, идет, овладевая мною, Ночь злобы и тоски, глухая ночь без сна. Открыв мое окно, я бодрствую… Уснувший, Беззвучен темный сад… Всё реже огоньки В замолкнувшем селе… Серп месяца, блеснувший Над тихой рощею, колеблется в реке. Безбрежные поля слилися с небесами, А там, где чуть горит поблекнувший закат, Как привидения с простертыми руками, Застывши в воздухе взмахнувшими крылами, Немые мельницы недвижимо стоят… Родные, милые места!.. Воспоминанья Глядят в лицо мое из каждого куста…1883
«Только утро любви хорошо: хороши…»*
Только утро любви хорошо: хороши Только первые, робкие речи, Трепет девственно-чистой, стыдливой души, Недомолвки и беглые встречи, Перекрестных намеков и взглядов игра, То надежда, то ревность слепая; Незабвенная, полная счастья пора, На земле – наслаждения рая!.. Поцелуй – первый шаг к охлажденью: мечта И возможной и близкою стала; С поцелуем роняет венок чистота, И кумир низведен с пьедестала; Голос сердца чуть слышен, зато говорит Голос крови и мысль опьяняет: Любит тот, кто безумней желаньем кипит, Любит тот, кто безумней лобзает… Светлый храм в сладострастный гарем обращен. Смолкли звуки священных молений, И греховно-пылающий жрец распален Знойной жаждой земных наслаждений. Взгляд, прикованный прежде к прекрасным очам И горевший стыдливой мольбою, Нагло бродит теперь по открытым плечам, Обнаженным бесстыдной рукою… Дальше – миг наслажденья, и пышный цветок Смят и дерзостно сорван, и снова Не отдаст его жизни кипучий поток, Беспощадные волны былого… Праздник чувства окончен… погасли огни, Сняты маски и смыты румяна; И томительно тянутся скучные дни Пошлой прозы, тоски и обмана!..1883
«Гаснет жизнь, разрушается заживо тело…»*
Гаснет жизнь, разрушается заживо тело, Злой недуг с каждым днем беспощадней томит, И в бессонные ночи уверенно, смело Смерть в усталые очи мне прямо глядит. Скоро труп мой зароют могильной землею, Скоро (высохнет мозг мой и сердце замрет, И поднимется густо трава надо мною, И по мертвым глазам моим червь поползет… И решится загадка, томившая душу, – Что там ждет нас за тайной плиты гробовой… Скоро, скоро!.. Но я малодушно не трушу И о жизни не плачу с безумной тоской. Что дала ты мне жизнь, чем меня приласкала, Что ты можешь еще мне сулить впереди? Ты все лучшие думы мои осмеяла, Ты все лучшие чувства убила в груди.1883
Дурнушка («Бедный ребенок…»)*
Бедный ребенок, – она некрасива! То-то и в школе и дома она Так несмела, так всегда молчалива, Так не по-детски тиха и грустна! Зло над тобою судьба подшутила: Острою мыслью и чуткой душой Щедро дурнушку она наделила, – Не наделила одним – красотой… Ах, красота – это страшная сила!..1883
«Да, это было всё… Из сумрака годов…»*
Да, это было всё… Из сумрака годов Оно и до сих пор мне веет теплотою С измявшихся страниц забытых дневников И с каменной плиты, лежащей над тобою… Да, это было всё: горел твой ясный взор, Звенел твой юный смех, задорный и беспечный, И смерть всё отняла, подкравшись к нам, как вор, Всё уничтожила с враждой бесчеловечной. [Года прошли, – но я не в силах оторвать Души моей больной от старины заветной! Угасший, бедный друг, где мне тебя искать? Как снова услыхать твой голос мне приветный? Ведь я люблю еще, ведь я, как прежде, твой! Откликнись, отзовись… томиться нету силы, – Откликнись, отзовись, иль пусть и надо мной Опустится плита зияющей могилы. От тяжких дум моя пылает голова, От скорби рвут мне грудь свинцовые рыданья… Кому их высказать?.. Как жалки вы, слова, Как ты безжалостна, змея воспоминанья!]1883
«Нет, я больше не верую в ваш идеал…»*
Нет, я больше не верую в ваш идеал, И вперед я гляжу равнодушно: Если б мир ваших грез наконец и настал, – Мне б в нем было мучительно душно: Столько праведной крови погибших бойцов, Столько светлых созданий искусства, Столько подвигов мысли, и мук, и трудов, – И итог этих трудных, рабочих веков – Пир животного, сытого чувства! Жалкий, пошлый итог! Каждый честный боец Не отдаст за него свой терновый венец…1883
Из дневника («Я долго счастья ждал…»)*
Я долго счастья ждал – и луч его желанный Блеснул мне в сумерках: я счастлив и любим; К чему ж и а рубеже земли обетованной Остановился я, как робкий пилигрим? За мной – глухая ночь и годы испытаний, Передо мной – весна, и ласка, и привет, А я… мне точно жаль умчавшихся страданий, И с грустью я смотрю минувшему вослед… Не называй меня безумным, дорогая, Не говори, что я солгал перед тобой; Нет, я люблю тебя, как мальчик, отдавая Всю душу, все мечты, всю жизнь – тебе одной. Но отголоски гроз недавнего ненастья, Как голос совести, твердят душе моей: «Есть дни, когда так пошл венок любви и счастья И так прекрасен терн страданья за людей!..»1883
«Серебрясь переливами звездных лучей…»*
Серебрясь переливами звездных лучей, Тихо летняя полночь плывет Над шатрами дубрав, над цветами полей И над зеркалом дремлющих вод. Ни дыханья, ни звука… Затихла волна, Не колышет листы плаунов, И далеко, далеко по взморью видна [В лунном блеске кайма] берегов…1883
«Так вот она, страна без прав и без закона!..»*
Так вот она, «страна без прав и без закона»! Страна безвинных жертв и наглых палачей, Страна владычества холопа и шпиона И торжества штыков над святостью идей! О нет, не может быть!.. Вы лжете мне, вы лжете, Апостолы борьбы!.. Неправою враждой Вы сердца моего корыстно не зажжете – Я верю в мой народ и верю в край родной! Он не унизился б до робкого смиренья, Не стал молчать года с покорностью раба И гордо б встал на бой, могуч, как ангел мщенья, Неотразим, как вихрь, и страшен, как судьба; Пока в нем слышен смех…1883
Вавилон*
(Отрывок)
Брошены торжище, стадо и пашня, Заняты руки работой иной: Камень на камень – и стройная башня Гордо и мощно встает над землей… Ласточка, рея в лазури бездонной, Кажется точкой для смертных очей. Или мы, с нашей мечтой окрыленной, Кроткой, воздушной певуньи слабей? К небу, где тучи играют и мчатся, Сыпля громами у ног божества, К небу, где райские реки струятся, Стелется райских лугов мурава; К жизни блаженства от жизни страданья, К звездам, сверкающим ярким огнем… Высьтесь же, стены гранитного зданья! Будьте нам к вечному небу путем! Полно, безумцы! Взгляните: чернеет Грозная туча на грани небес; В трепетном ужасе мир цепенеет, Отблеск зарницы мелькнул и исчез…1883
«Быть может, их мечты – безумный, смутный бред…»*
Быть может, их мечты – безумный, смутный бред И пыл их – пыл детей, не знающих сомнений, Но в наши дни молчи, неверящий поэт, И не осмеивай их чистых заблуждений; Молчи иль даже лги: созрев, их мысль найдет И сквозь ошибки путь к сияющей святыне, Как путь найдет ручей с оттаявших высот К цветущей, солнечной, полуденной долине. Довольно жалких слез!.. И так вокруг тебя Отчаянье и стон… И так тюремной двери Не замолкает скрип, и родина, любя, Не может тяжкие оплакивать потери…1883
«Сжав чело горячими руками…»*
Сжав чело горячими руками, У окна, открытого широко, В душный мрак усталыми очами Я гляжу, томяся одиноко… В синей бездне бархатного неба Нет конца мерцающим светилам… Над волнами вызревшего хлеба Веет полночь вздохом легкокрылым; В тишине глубокой и безбрежной Не слыхать ни звука, ни движенья, А в труди, в груди моей мятежной, Гром и буря, слезы и мученья…1883
Поэзия («Нет, не ищи ее в дыхании цветов…»)*
Нет, не ищи ее в дыхании цветов, В мерцаньи ярких звезд полуночной порою, В святых словах молитв, в тиши родных лесов И в песнях соловья, гремящих за рекою… Там умерла она для черствых наших дней, Прошло владычество безжизненной природы: Поэзия теперь – поэзия скорбей, Поэзия борьбы, и мысли, и свободы; Поэзия в стенах кипучих городов, Поэзия в труде за лампою ночною…1883
«Тоска гнетет меня и жжет неутомимо…»*
Тоска гнетет меня и жжет неутомимо, Что день – то всё душней, всё тягостней дышать, И с пестрой суетой, мелькающею мимо, Не властен я души, изверившись, связать. Я жизни чужд давно… Всего, что увлекает, Всего, что манит вдаль, проникнул я обман, Хмель отбродил в крови, тревога остывает, И только скорбь жива да боль недавних ран…1883
«Ты полюбишь меня… Как искусный игрок…»*
Ты полюбишь меня… Как искусный игрок, Я все карты заранее знаю И забрезживший в сердце твоем огонек В безграничный пожар раздуваю. И тебе ли, с твоею открытой душой И с правдивым, доверчивым взглядом, Не сломиться под вихрем – былинке степной, Не упиться хмельным моим ядом? Я, как клавиши, трогаю чувства твои, И я знаю, что робкие звуки Скоро выльются мощною песнью любви, Полной счастья, сомненья и муки!..1883
Из песен любви*
Не гордым юношей с безоблачным челом, С избытком сил в груди и пламенной душою, – Ты встретила меня озлобленным бойцом, Усталым путником под жизненной грозою. Не торопись же мне любовь свою отдать, Не наряжай меня в цветы твоих мечтаний, – Подумай, в силах ли ты без конца прощать, Не испугаешься ль грядущих испытаний? Дитя мое – ведь ты еще почти дитя, Твой смех так серебрист и взор так чудно ясен, – Дитя мое, ты в мир глядишь еще шутя, И мир в очах твоих и светел и прекрасен; А я, – я труп давно… Я рано жизнь узнал, Я начал сердцем жить едва не с колыбели, Я дерзко рвался ввысь, где светит идеал, – И я устал… устал… и крылья одряхлели. Моя любовь к тебе – дар нищего душой, Моя любовь полна отравою сомненья; И улыбаюсь я на взгляд твой, как больной, Сознав, что смерть близка, – и а речи ободренья. Позволь же мне уйти, не поднимая глаз На чистый образ твой, стоящий предо мною, – Мне стыдно заплатить за царственный алмаз Стеклом, оправленным дешевой мишурою!..1883
«Нет, легче мне думать, что ты умерла…»*
Нет, легче мне думать, что ты умерла, Чем знать, что тебя с каждым днем покоряет Всесильная пошлость глухого угла, Где бледная юность твоя доцветает; Чем знать, что могла б ты всей грудью дышать, Могла бы любить всей душой пробужденной, – И гибнешь бесплодно, не в силах порвать С бессмысленным гнетом среды зачумленной! Об этой ли призрачной жизни слепцов Мечтали с тобою мы в наших беседах, Об этих ли мелких уколах врагов, Об этих ли жалких над ними победах? Куда ж они скрылись, заветные сны, Зачем оттолкнула ты лучшую долю? На что променяла ты солнце весны, И воздух, и силу, и вольную волю?.. Мне, жалко тебя до страданья, до слез; С какой бы любовью я бедного друга С собой на руках, как ребенка, унес Из этого затхлого, тесного круга!.. Но тщетно зову я тебя: предо мной Стоишь ты с поникшими грустно очами И мне отвечаешь пугливой мольбой, Да горькой улыбкой стыда, да слезами!..Май 1884
Грядущее*
Будут дни великого смятенья: Утомясь бесцельностью пути, Человек поймет, что нет спасенья И что дальше некуда идти; Всё вокруг открыто для познанья, Гордый ум не ведает оков; Больше нет преград и расстоянья, Больше нет мгновений и веков. Мир цветет бессмертною весною; Глубь небес горит бессмертным днем; Не дерзают грозы над землею Рассыпать рокочущий свой гром; Миг желанья – миг осуществленья, Воплощен заветный идеал: И на смену вечности мученья Вечный рай счастливцам просиял! Что ж ты стал, печально размышляя? Рви плоды и пышные цветы! Где твоя подруга молодая? Осени венком ее черты! Утопай в блаженном наслажденья, Заглядись во мрак ее очей И в согласном, стройном песнопеньи Жар души восторженно излей. Твой покой не возмутят заботы, Ты не раб, – ты властелин судьбы. Или вновь ты захотел работы, Слез и жертв, страданья и борьбы? Или всё, к чему ты шел тревожно, Шел путем лишений и скорбей, Стало вдруг и жалко и ничтожно Роковой бесцельностью своей? И поник ты в думах головою, И стоишь глубоко потрясен, – А в былом встают перед тобою Кровь и мрак промчавшихся времен. Вот кресты распятых за свободу, Вот бичи в руках у палачей, Вот костры, где идолам в угоду Люди жгли пророков и вождей! Море крови, к сердцу вопиющей, Море слез, неотомщенных слез, – И звучит и жжет тебя гнетущий, Как ножом пронзающий вопрос: Для чего и жертвы и страданья?.. Для чего так поздно понял я, Что в борьбе и смуте мирозданья Цель одна – покой небытия?Июнь 1884
«Как каторжник влачит оковы за собой…»*
Как каторжник влачит оковы за собой, Так всюду я влачу среди моих скитаний Весь ад моей души, весь мрак пережитой И страх грядущего, и боль воспоминаний Бывают дни, когда я жалок сам себе: Так я беспомощен, так робок я, страдая, Так мало сил во мне в лицо моей судьбе Взглянуть без ужаса, очей не опуская… Не за себя скорблю под жизненной грозой: Не я один погиб, не находя исхода; Скорблю, что я не мог всей страстью, всей душой Служить тебе, печаль родимого народа! Скорблю, что слабых сил беречь я не умел, Что, полон святостью заветного стремленья, Я не раздумывал, я не жил, – а горел, Богатствами души соря без сожаленья; И в дни, когда моя родная сторона Полна уныния, смятенья и испуга, – Чтоб в песне вылиться, душа моя должна Красть редкие часы у жадного недуга. И больно мне, что жизнь бесцельно догорит, Что посреди бойцов – я не боец суровый, А только стонущий, усталый инвалид, Смотрящий с завистью на их венец терновый…27 июля 1884
«Нет, муза, не зови!.. Не увлекай мечтами…»*
Нет, муза, не зови!.. Не увлекай мечтами, Не обещай венка в дали грядущих дней!.. Певец твой осужден, и жадными глазами Повсюду смерть следит за жертвою своей… Путь слишком был тяжел… Сомненья и тревоги На части рвали грудь… Усталый пилигрим Не вынес всех преград мучительной дороги И гибнет, поражен недугом роковым… А жить так хочется!.. Страна моя родная, Когда б хоть для тебя я мог еще пожить!.. Как я б любил тебя, всю душу отдавая На то, чтоб и других учить тебя любить!.. Как пел бы я тебя! С каким негодованьем Громил твоих врагов!.. Твой пес сторожевой, Я б жил одной тобой, дышал твоим дыханьем, Горел твоим стыдом, болел твоей тоской! Но – поздно!.. Смерть не ждет… Как туча грозовая, Как вихрь несется смерть… В крови – палящий жар, В бреду слабеет мысль, бессильно угасая… Рази ж, скорей рази, губительный удар!..Август 1884
«Бывают дни, когда над хмурою землей…»*
Бывают дни, когда над хмурою землей Сплошные облака стоят, не пролетая, Туманной дымкою, как серой пеленой, И рощи и луга тоскливо одевая; Нет в воздухе игры причудливых лучей, Рельефы сглажены, оттенки мутно слиты, Даль как-то кажется и площе и тесней, И волны озера дремотою повиты. И вдруг как будто вздох раздастся и замрет, И ветер налетит порывистый и крепкий, И крылья мельницы со скрипом повернет, И бросит пыль в глаза, и заволнует ветки… Разорван полог туч!.. Каким-то волшебством Природа красками мгновенно расцветилась, И в вышине, в просвет, и блеском и теплом Небесная лазурь, сверкая, заструилась… Так в дни уныния и будничных забот Порывом в грудь певца слетает вдохновенье И озаряет мир, и будит, и зовет, – Зовет идти во храм и совершить служенье. Разорван полог туч. Душа потрясена, И жизнь уж не томит бесцветной пустотою, – Нет, в ней открылась мысль, блеснула глубина И веет истиной, добром и красотою!..Сентябрь 1884
«Дитя столицы, с юных дней…»*
Дитя столицы, с юных дней Он полюбил ее движенье, И ленты газовых огней, И шумных улиц оживленье. Он полюбил гранит дворцов, И с моря утром ветер влажный, И перезвон колоколов, И пароходов свист протяжный. Он не жалел, что в вышине Так бледно тусклых звезд мерцанье, Что негде проливать весне Своих цветов благоуханье; Что негде птицам распевать, Что всюду взор встречал границы, – Он был поэт и мог летать В своих мечтах быстрее птицы. Он научился находить Везде (Поэзию – в туманах, В дождях, не устающих лить, В киосках, клумбах и фонтанах Поблекших городских садов, В узорах инея зимою, И в дымке хмурых облаков, Зажженных [зимнею] зарею…Сентябрь 1884
В. П. Г-вой*
Итак, я должен вас приветствовать стихами… Пред кем-нибудь другим в тупик бы я не стал: Не трудно расцветить красивыми словами Бездушный и пустой салонный мадригал. Не отличит толпа порывов вдохновенья От мертвой беглости ремесленной руки И всё простит певцу за гладкое теченье, За звон и пестроту рифмованной строки. Но вам – что вам сказать? Нет, вас не отуманит Ни лести сладкий чад, ни плавность звучных строф; Искусственный цветок лукаво не обманет Того, кто раз дышал прохладою садов. Простой лесной жасмин, – но свежий и росистый, – Он предпочтет всегда сработанным нуждой Гирляндам пышных роз, из кисеи душистой Сплетенным в сумрачной и пыльной мастерской. Вот почему твердить обычных пожеланий Я не хочу… Зачем? Не властен мой привет Спасти от тяжких бурь, невзгод и испытаний Ваш полный юных сил и радостный расцвет. Но для себя зато теперь я пожелаю, Чтоб на моем пути, на поприще певца, Тем песням, что, любя, я родине слагаю, Такие ж чуткие внимали бы сердца!Сентябрь 1884
«Испытывал ли ты, что значит задыхаться…»*
Испытывал ли ты, что значит задыхаться И видеть над собой не глубину небес, А звонкий свод тюрьмы, – и плакать, и метаться, И рваться на простор – в поля, в тенистый лес? Что значит с бешенством и жгучими слезами, Остервенясь душой, как разъяренный зверь, Пытаться оторвать изнывшими руками Железною броней окованную дверь? Я это испытал, – но был моей тюрьмою Весь мир, огромный мир, раскинутый кругом. О, сколько раз его горячею мечтою Я облетал, томясь в безмолвии ночном! Как жаждал я – чего? – не нахожу названья: Нечеловечески величественных дел, Нечеловечески тяжелого страданья, – Лишь не делить с толпой пустой ее удел!.. С пылающим челом и влажными очами Я отворял окно в дремавший чутко сад И пил, и жадно пил прохладными волнами С росистых цветников плывущий аромат. И к звездам я взывал, чтоб тишиной своею Смирила б эта ночь тревогу юных сил, И уходил к пруду, в глубокую аллею, И до рассвета в ней задумчиво бродил. И, лишь дыханьем дня и солнцем отрезвленный, Я возвращался вновь в покинутый мой дом, И крепко засыпал, вконец изнеможенный, Тяжелым, как недуг, и беспокойным сном. Куда меня влекли неясные стремленья, В какой безвестный мир, – постигнуть я не мог; Но в эти ночи дум и страстного томленья Ничтожных дел людских душой я был далек: Мой дух негодовал на власть и цепи тела, Он не хотел преград, он не хотел завес, – И вечность целая в лицо мое глядела Из звездной глубины сияющих небес!1884
«Червяк, раздавленный судьбой…»*
Червяк, раздавленный судьбой, Я в смертных муках извиваюсь, Но всё борюсь, полуживой, И перед жизнью не смиряюсь. Глумясь, она вокруг меня Кипит в речах толпы шумящей, В цветах весны животворящей, И в пеньи птиц, и в блеске дня. Она идет, сильна, светла, И, как весной поток гремучий, Влечет в водоворот кипучий, В водоворот добра и зла… А я – я бешеной рукой За край одежд ее хватаюсь И удержать ее стараюсь Моей насмешкой и хулой. «Остановись, – я ей вослед Кричу в бессильном озлобленьи, – В твоих законах смысла нет, И цели нет в твоем движеньи! О, как пуста ты и глупа! Раба страстей, раба порока, Ты возмутительно слепа И неосмысленно жестока!..» Но, величава и горда, Она идет, как шла доныне, И гаснет крик мой без следа, – Крик вопиющего в пустыне! И задыхаюсь я с тоской, В крови, разбитый, оглушенный, – Червяк, раздавленный судьбой, Среди толпы многомилльонной!..1884
Отрывок («Ложились сумерки…»)*
Ложились сумерки. Таинственно мерцая, Двурогий серп луны в окно мое глядел… Над мирным городом, дрожа и замирая, Соборный колокол размеренно гудел… Вдоль темной улицы цепочкой золотою Тянулись огоньки. Но лампу на столе Я медлил зажигать, объятый тишиною, И сладко грезил в полумгле. Я грезил, как дитя, причудливо мешая Со сказкой – истину, с отрадою – печаль, То пережитое волшебно оживляя, То уносясь мечтой в загадочную даль… Но, что б ни снилось мне, какие бы виденья Ни наполняли мрак, стоящий предо мной, – Везде мелькала ты – твой взгляд, твои движенья, Твои черты, твой голос молодой. И видел я, что смерть летает надо мною, Что я лежу в бреду, – а ты ко мне вошла И нежной, тонкою, холодною рукою Коснулась моего горячего чела…1884
В глуши*
Горячо наше солнце безоблачным днем: Под лучами его раскаленными Всё истомой и негой объято кругом, Всё обвеяно грезами сонными… Спит глухой городок: не звучат голоса, Не вздымается пыль под копытами; Неподвижно и ярко реки полоса, Извиваясь, сквозит за ракитами; В окнах спущены шторы… безлюдно в садах, Только ласточки с криками носятся, Только пчелы гудят на душистых цветах, Да оттуда, где косы сверкают в лугах, Отдаленные звуки доносятся… Я люблю эту тишь… Я люблю над рекой, Где она изогнулась излучиной, Утонувши в траве, под тенистой листвой, Отдохнуть в забытьи утомленной душой, Шумной жизнью столицы измученной… Я лежу я смотрю… Я смотрю, как горит Крест собора над старыми вязами, Как река предо мною беззвучно бежит, Загораясь под солнцем алмазами; Как пестреют стада на зеленых лугах, – Как луга эти с далью сливаются, С ясной далью, сверкающей в знойных лучах, С синей далью, где взоры теряются; И покой – благодатный, глубокий покой Осеняет мне грудь истомленную, Точно мать наклонилась в тиши надо мной С кроткой лаской, любовью рожденною… И готов я лежать неподвижно года, В блеске дня золотисто-лазурного – И не рваться уж вновь никуда, никуда Из-под этого неба безбурного!1884
«Не знаю отчего, но на груди природы…»*
Не знаю отчего, но на груди природы – Лежит ли предо мной полей немая даль, Колышет ли залив серебряные воды, Иль простирает лес задумчивые своды, – В душе моей встает неясная печаль. Есть что-то горькое для чувства и сознанья В холодной красоте и блеске мирозданья: Мне словно хочется, чтоб темный этот лес И вправду мог шептать мне речи утешенья, И, будто у людей, молю я сожаленья У этих ярких звезд на бархате небес. Мне больно, что, когда мне душу рвут страданья И грудь мою томят сомненья без числа, – Природа, как всегда, полна очарованья И, как всегда, ясна, нарядна и светла. Не видя, не любя, не внемля, не жалея, Погружена в себя и в свой бездушный сон, – Она – из мрамора немая Галатея, А я – страдающий, любя, Пигмалион.1884
«Наше поколенье юности не знает…»*
Наше поколенье юности не знает, Юность стала сказкой миновавших лет; Рано в наши годы дума отравляет Первых сил размах и первых чувств рассвет. Кто из нас любил, весь мир позабывая? Кто не отрекался от своих богов? Кто не падал духом, рабски унывая, Не бросал щита перед лицом врагов? Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем, Нас томит безверье, нас грызет тоска… Даже пожелать мы страстно не умеем, Даже ненавидим мы исподтишка!.. О, проклятье сну, убившему в нас силы! Воздуха, простора, пламенных речей, – Чтобы жить для жизни, а не для могилы, Всем биеньем нервов, всем огнем страстей! О, проклятье стонам рабского бессилья! Мертвых дней унынья после не вернуть! Загоритесь, взоры, развернитесь, крылья, Закипи порывом, трепетная грудь! Дружно за работу, на борьбу с пороком, Сердце с братским сердцем и с рукой рука, – Пусть никто не может вымолвить с упреком: «Для чего я не жил в прошлые века!..»1884
«Последняя ночь… Не увижу я больше рассвета…»*
Последняя ночь… Не увижу я больше рассвета; Встанет солнце, краснея сквозь мутную рябь облаков, И проснется столица, туманом одета, Для обычных забот и трудов. Но ни свист пароходов, ни уличный гул и движенье Не разбудит меня. С торжествующим, бледным лицом Буду гордо вкушать я покой и забвенье, И безмолвная смерть осенит меня черным крылом… Яд промчится огнем по мускулам дряблого тела, Миг страданья – и я недоступен страданью, как бог. И жизнь отлетела, И замер последний, агонией вырванный вздох.1884
«Мне снился вещий сон: как будто ночью темной…»*
Мне снился вещий сон: как будто ночью темной, В каком-то сумрачном, неведомом краю, На страшной высоте, над пропастью бездонной, На выступе скалы недвижно я стою… Вокруг шумит гроза… Скрипят седые ели, Гремят, свергаясь вниз, каменья из-под ног, А где-то глубоко, на дне гранитной щели, Как дикий зверь, ревет бушующий поток… Страшна глухая мгла, – но робкого смятенья Я чужд… Окаменев измученной душой, Я жажду одного – бесстрастного забвенья, Я смерть к себе зову, – зову ее покой. Какое дело мне, что труп мой разобьется На тысячи кусков о зубья этих скал И завтра досыта и допьяна напьется Из теплых вен моих прожорливый шакал! Привет тебе, о смерть! Довольно ожиданий, Довольно жертв и мук, сомнений и стыда!.. Уснуть!.. уснуть от всех бесчисленных терзаний, Глубоким сном уснуть навеки, навсегда!.. Но чу!.. Что там звучит и эхом отдается, И грудь мою теснит волненьем и тоской? То дальний колокол… медлительно несется Сквозь бурю звон его в полуночи глухой…1884
«Тревожно сегодня мятежное море…»*
Тревожно сегодня мятежное море – В раздумье я долго над ним простоял. Как мощный орган в величавом соборе, Оно беспокойно гудело у скал. Поднимется вал, набежит, разобьется И в жемчуге пены отхлынет назад… И кажется, кто-то безумно смеется, И кажется, чьи-то угрозы звучат!1884
«Не упрекай себя за то, что ты порою…»*
Не упрекай себя за то, что ты порою Даешь покой душе от дум и от тревог, Что любишь ты поля с их мирной тишиною, И зыбь родной реки, и дремлющий лесок; Что песню любишь ты и, молча ей внимая, Пока звучит она, лаская и маня, Позабываешь ты, отрадно отдыхая, Призыв рабочего, не медлящего дня; Что не убил в себе ты молодость и чувство, Что не принес ты их на жертвенник труда, Что властно над тобой мирящее искусство И красота тебе внятна и не чужда!1884
Отрывок («Как звери, схватившись с отважным врагом…»)*
…Как звери, схватившись с отважным врагом, Мы бились весь день напролет: Мы гибли без счета, мы шли напролом На кручи враждебных высот, Как будто гроза нас на крыльях несла. Но враг нам не отдал вершин, И мирно глубокая ночь развела Железные тучи дружин. Белея в долине, тянулся наш стан Рядами уснувших шатров; Вокруг чуть светились сквозь млечный туман Багровые пятна костров; Во мгле раздавалось то ржанье коней, То шепот молитвы ночной, И чутко мы ждали рассветных лучей, Чтоб ринуться снова на рой…1884
«К вам, бедняки, на грудь родных полей…»*
К вам, бедняки, на грудь родных полей, Под сень лесов я возвращаюсь вновь… Румяный май с теплом своих лучей Несет опять свободу и любовь… Я утомлен неволей городов, А здесь, в глуши, так ясны небеса, – Долой же гнет бессмысленных оков, – В цвету сирень и в зелени леса! Моя заря омрачена борьбой. Я дни губил в безумии страстей И изнемог, – и мертвенный покой Царит в душе измученной моей. Но вот опять с синеющих холмов Родной земли блеснула мне краса, – И <я>, ожив, как прежде петь готов В цвету сирень и в зелени леса!..1884
«Чтоб вы всё поняли, – начну издалека…»*
Чтоб вы всё помяли, – начну издалека… Привет вам, детских дней святые впечатленья! Я родилась в семье простого рыбака, В лачужке, на краю убогого селенья… Мне живо помнится лазурный наш залив, Кайма садов над ним, и там, где, умирая, Вечерняя заря свой палевый отлив Бросает, знойный день с улыбкою сменяя. Там цепь далеких гор под дымкой голубой, Их мшистые зубцы, их снежные вершины, И башни города меж зелени густой, У их подножия, на скатерти долины. Моя семья была убога и бедна; Отец и брат с утра на ловлю отплывали, И что дарила им морская глубина, Мы только тем одним и жили и дышали. Не раз с угрозою стучалась к нам нужда И в очаге у нас огня не разводили, Но слезы и печаль в те светлые года По сердцу детскому бесследно проходили. Смуглянка резвая, небрежно за плечо Закину косу я беспечною рукою И к морю убегу, и льется горячо Мой звонкий голосок, несясь над глубиною; А море тоже мне без умолку поет, Синея предо мной простором горделивым, И на хребтах валов, взволнованных приливом, И пену и траву к ногам моим несет…1884
«Довольно я кипел безумной суетою…»*
Довольно я кипел безумной суетою, Довольно я сидел, склонившись за трудом. Я твой, родная глушь, я снова твой душою, Я отдохнуть хочу в безмолвии твоем! Не торопись, ямщик, – дай надышаться вволю!.. О, ты не испытал, что значит столько лет Не видеть ни цветов, рассыпанных по полю, Ни рощи, пеньем птиц встречающей рассвет! Не радостна весна средь омута столицы, Где бледный свод небес скрыт в дымовых клубах, Где задыхаешься, как под плитой гробницы, На тесных улицах и в каменных домах! А здесь – какой простор! Как весело ныряет По мягким колеям гремящий наш возок, Как нежно и свежо лесок благоухает, Под золотом зари березовый лесок… Вот спуск… внизу ручей. Цветущими ветвями Душистые кусты поникли над водой, А за подъемом даль, зелеными полями Раскинувшись, слилась с небесной синевой.1884
«Мы были молоды – и я, и мысль моя…»*
Мы были молоды – и я, и мысль моя… Она являлась мне бестрепетною жрицей Желанной истины, – и шел за нею я, Как верный паж идет за гордою царицей… «Вперед! – шептали мне порой ее уста. – Не бойся тяжких мук, не бойся отрицанья! Знай: лишь тогда любовь могуча и чиста, Когда она прошла через огонь страданья!..» И всюду были мы… мы посетили с ней Дворцы и торжища, вертепы и темницы, Дышали свежестью синеющих полей И чадом каменной столицы; Сливаясь в городах с ликующей толпой, Мы видели пиров и роскоши картины, И в избах слушали осенней бури вой И треск полуночной лучины…1884
«Слишком много любви, дорогие друзья…»*
Слишком много любви, дорогие друзья, Слишком много горячих забот!.. Непривычно участье тому, кто, как я, С детских дней одиноко бредет… Я, как нищий, – я дрогнул вчера под дождем, Я был болен, и зол, и суров, А сегодня я нежусь за пышным столом В ароматном венке из цветов. Смех, и говор, и звонкие песни звучат, И сверкают ночные огни, А в душе – незажившие раны болят, Вспоминаются темные дни…1884
Последнее письмо*
Расчетливый актер приберегает силы, Чтоб кончить с пафосом последний монолог… Я тоже роль сыграл, но на краю могилы Я не хочу, чтоб мне рукоплескал раек… Разжалобить толпу прощальными словами И на короткий миг занять ее собой – Я знаю, я б сумел, – но жгучими слезами Делиться не привык я с суетной толпой! Я умереть хочу с холодным убежденьем, Без грома и ходуль, не думая о том, Помянут ли меня ненужным сожаленьем Иль оскорбят мой прах тупым своим судом. Я умереть хочу, ревниво охраняя Святилище души от чуждых, дерзких глаз, И ненавистно мне страданье напоказ, Как после оргии развратница нагая!.. Но я бы не хотел, чтоб заодно с толпой И ты, мой кроткий друг, меня бы обвинила…1884
Из песен о невольниках*
Лонгфелло
Когда заносчиво над стонущим рабом Поднимет гибкий бич властитель разъяренный, И вспыхнет стыд в рабе, и, корчась под бичом, Глядит он на врага со злобой затаенной, – Я рад: в грядущем я уж вижу палача Под львиной лапою восставшего народа: Нет в воинстве твоем апостолов, свобода, Красноречивее подъятого бича!..1884
«Снилось мне, что я болен, что мозг мой горит…»*
Снилось мне, что я болен, что мозг мой горит И от жажды уста запеклись, А твой голос мне нежно и грустно звучит: «Дорогой мой, очнись, отзовись…» Жизнь едва только тлеет во мне, но тебя Так мне жаль, ненаглядный мой друг, – И в тревожной тоске я стараюсь, любя, Пересилить на миг мой недуг. И на миг я глаза открываю… Кругом Полумрак; воспаленный мой взор На обоях, при свете лампадки, с трудом Различает знакомый узор. Где-то хрипло часы завывают и бьют… По стенам от цветов на окне Прихотливые тени, как руки, ползут, Простираясь отвеюду ко мне. Ты стараешься ближе в лицо мне взглянуть И мучительно отклика ждешь, И горячую руку свою мне на грудь, На усталое сердце кладешь. Я проснулся… Был день, мутный день без лучей; Низко белые тучи ползли… Фортепьянные гаммы и крики детей Доносились ко мне издали… Осень веяла в душу щемящей тоской, (Сеял дождь, и, с утра раздражен, Целый день, как в чаду, проходил я больной, Вспоминая печально мой сон… Ах, зачем он был сном, лишь обманчивым сном, И зачем наяву ты меня Снова, пошлая жизнь, обступила кругом Суетой и заботами дня?!.1884
«Беспокойной душевною жаждой томим…»*
Беспокойной душевною жаждой томим, Я беречь моих сил не умел; Мне противен был будничный, мелкий удел, И, как светоч, колеблемый ветром ночным, Я не жил, – я горел! Целый мир порывался я мыслью обнять, Целый мир порывался любить, Даже ночь я боялся забвенью отдать, Чтоб у жизни ее не отнять, Чтоб две жизни в одну мне вместить! И летели безумные, знойные дни То за грудами книг, то в разгаре страстей… Под удары врагов и под клики друзей, Как мгновенья, мелькали они. Для лобзаний я песню мою прерывал, Для труда оставлял недопитый бокал, И для душных оград городских Покидал я затишье родимых полей, И бросался в кипучее море скорбей, И тревог, и сомнений людских! И бессильная старость еще далека, И еще не грозит мне могильной плитой… Отчего ж в моем сердце глухая тоска, Отчего ж в моих думах мертвящий застой, Зной недуга в очах, безнадежность в груди? Или жизнь я исчерпал до дна, – И мне нечего ждать от нее впереди? Где ж ты, вождь и пророк?.. О, приди И стряхни эту тяжесть удушья и сна! Дай мне жгучие муки принять, Брось меня на страданье, на смерть, на позор, Только б полною грудью дышать, Только б вспыхнул отвагою взор! Только б верить, во что-нибудь верить душой, Только б в жизни опять для меня Распахнулись затворы темницы глухой В даль и блеск лучезарного дня!..1884
«Если в лунную ночь, в ночь, когда по уснувшему саду…»*
Если в лунную ночь, в ночь, когда по уснувшему саду Ходят волны тепла и струится дыханье цветов И вдали, за рекой, открываются жадному взгляду Широко-широко озаренные дали лугов; Если в лунную ночь ты в глубокой аллее терялся, И глядел, и дышал, и внимал, как струится волна, – Знай: ее ты видал! То не белый туман расстилался, То, легка и стройна, пред тобой пролетала она… Если в зимнюю ночь, в ночь, когда, словно зверь, завывает, Сыпля снегом, метель и в закрытые ставни стучит, И глубокая мгла, точно саван, поля одевает, И седая сосна за окном, нагибаясь, скрипит; Если в зимнюю ночь ты сидел пред горящим камином, – Знай; ее ты видал!1884
В деревне*
Сцена
Отец (входя)
Ты болен?Сын
Нет, здоров.Отец
Здоров, а сам лежит, И даже окна в комнате закрыты; Какой скучающий, какой бесстрастный вид! А вечер так хорош, так пышно он горит. Луга и лес зарей, как золотом, облиты… Сойди хоть в сад…Сын
К чему?Отец
Да просто подышать… Как чудно дышится такими вечерами! Посмотришь вдаль – и глаз не в силах оторвать. Где ты найдешь, лентяй, такую благодать Там, в ваших городах, за душными стенами? Черемуха в цвету, сирень уж отцвела. И тишь и сон вокруг; не прожужжит пчела, Не шевельнется лист, – всё мирно отдыхает, Всё нежится в волнах душистого тепла И звездной ночи ждет и день благословляет!Сын
Отец, да ты – поэт!Отец
А как тебя назвать, О мой премудрый сын? Иль, может быть, Опять Из пыли прошлых лет вы воскресили моду С плеча трунить над всем, всё гордо отрицать, Звать бредом красоту и презирать природу? Когда-то в юности и сам я был таков: Носились в воздухе тогда идеи эти, – Но мог ли думать я, что старый прах отцов В упорной слепоте наследуют и дети.1884
«Мертва душа моя: ни грез, ни упованья!..»*
Мертва душа моя: ни грез, ни упованья! Как степь безводная, душа моя мертва, И только, как и встарь, над тайной мирозданья В работе тягостной пылает голова. Вопросы жгут меня, и нет им разрешенья И нет конца. Как цепь, звено вслед за звеном, Кипят в груди они, и тяжкие сомненья Встают в мозгу моем усталом и больном.1884
«Смирись, – шептал мне ум холодный…»*
Смирись, – шептал мне ум холодный, – Ты сын толпы – живи с толпой… К чему в темнице гимн свободный, К чему вакханке стон больной?.. Ты проповедуешь в пустыне, Ты от языческих богов К иной, враждебной им святыне Зовешь фанатиков-жрецов…1884
«Мы выплыли в полосу лунного света…»*
Мы выплыли в полосу лунного света, И весла невольно упали из рук, Так чудно дышала природа вокруг Всей прелестью ночи, всей негою лета! Знакомое место едва мы узнали; Как в сказке, волшебно горела река, Как в сказке, о чем-то пугливо шептали, Дрожа и колеблясь, кусты лозняка, А там, в отдаленьи, мелькало огнями Село сквозь прозрачную зелень садов, И мельница резко чернела крылами, И слышались песни и гул голосов, – Был праздник… Чу! низко, над самой водою Кулик просвистал – и опять тишина. Что ж смолкнул наш хор? Пусть широкой волною Прокатится песня, тиха и стройна.1884
«Есть у свободы враг опаснее цепей…»*
Есть у свободы враг опаснее цепей, Страшней насилия, страданья и гоненья; Тот враг неотразим, он – в сердце у людей, Он – всем врожденная способность примиренья. Пусть цепь раба тяжка… Пусть мощная душа, Тоскуя под ярмом, стремится к лучшей доле, Но жизнь еще вокруг так чудно хороша, И в ней так много благ и кроме гордой воли!1884
«Ты сердишься, когда я опускаю руки…»*
Ты сердишься, когда я опускаю руки, Когда, наскучивши напрасною борьбой, Я сознаю умом, как бесполезны звуки, Рожденные моей страдальческой душой. Ты говоришь мне: мысль не может дать спасенья: Давно бессильная и смолкнуть и сиять, Мысль – цепь невольной лжи, круговорот сомненья, И ей из хаоса пути не указать. Да, ты права, мой друг. Пойти на зов страданья, Смотря в лицо ему, свой ужас превозмочь И молвить без тревог, без дум и колебанья: «Ты знаешь истину и должен ей помочь!» Не веря в гордый ум и тщетно не стараясь Решить вопрос «к чему», жить чувством и душой, Всей силою любви, всей страстью отзываясь На каждый братский зов, на каждый стон больной!1884
«Певец, восстань! Мы ждем тебя – восстань!..»*
Певец, восстань! Мы ждем тебя – восстань! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не бойся, что вокруг – глухая тишина, То – тишина перед грозою… Она не спит, твоя родная сторона, Она готовится к решительному бою! Все честные сердца кругом потрясены… Растет народный гнев, как буря в океане… И пусть пока враги беспечны и сильны, Их пир – безумцев пир на пышущем вулкане! Пускай же песнь твоя, как отдаленный гром, Грядущую грозу свободно возвещает, Звучит пророчеством и с гордым торжеством Врага язвит и поражает!..1884
«В больные наши дни, в дни скорби и сомнений…»*
В больные наши дни, в дни скорби и сомнений, Когда так холодно и мертвенно в груди, Не нужен ты толпе – неверующий гений, Пророк погибели, грозящей впереди. Пусть истина тебе слова твои внушает, Пусть нам исхода нет, – не веруй, но молчи… И так уж ночь вокруг свой сумрак надвигает, И так уж гасит день последние лучи… Пускай иной пророк, – пророк, быть может, лживый, Но только верящий, нам песнями гремит, Пускай его обман, нарядный и красивый, Хотя на краткий миг нам сердце оживит…1884
«Нет, я лгать не хочу – не случайно тебя…»*
Нет, я лгать не хочу – не случайно тебя Я суровым упреком моим оскорбил; Я обдумал его – но обдумал любя, А любя глубоко – глубоко и язвил. Пусть другие послушно идут за толпой, Я не стану их звать к позабытым богам, Но тебя, с этой ясной, как небо, душой, О, тебя я так скоро толпе не отдам!.. Ты нужна… Не для пошлых и низких страстей Ты копила на сердце богатства свои, – Ты нужна для страдающих братьев-людей, Для великого, общего дела любви.1884
У кроватки*
Часто ты шепчешь, дитя, засыпая В теплой и мягкой кроватке своей: «Боже, когда же я буду большая?.. О, если б только расти поскорей! Скучных уроков уж я б не учила, Скучных бы гамм я не стала играть: Всё по знакомым бы в гости ходила, Всё бы я в сад убегала гулять!» С грустной улыбкой, склонясь за работой, Молча речам я внимаю твоим… Спи, моя радость, покуда с заботой Ты не знакома под кровом родным… Спи, моя птичка! Суровое время – Быстро летит, – не щадит и не ждет. Жизнь – это часто тяжелое бремя, Светлое детство как праздник мелькнет… Как бы я рад был с тобой поменяться, Чтобы, как ты, и резвиться и петь, Чтобы, как ты, беззаботно смеяться, Шумно играть и беспечно глядеть!1884
«Он к нам переехал прошедшей весною…»*
Он к нам переехал прошедшей весною, Угрюмый и бледный лицом, как мертвец… «У вас, говорит, отдохну я душою, – Здесь тихо…» И зажил наш новый жилец. Был май, кое-где уж сирень зацветала… Тенистый наш садик давно зеленел; И, глядя, как в небе заря догорала, Он в нем по часам неподвижно сидел. Сидит, да порой про себя напевает, Да смотрит вперед с просветленным лицом. А ветер ему волоса колыхает И кротко его обвевает теплом. Покой, тишина… Ни столичного грома, Ни крика торговцев кругом не слыхать; За садом, почти что от самого дома, Раскинулась взморья спокойная гладь. Порой заглядишься – и жаль оторваться… А воздух-то, воздух душистый какой! А зелень, а солнце!.. И стал поправляться И стал оживать наш отпетый больной. Я скоро, как сына, его полюбила, – Так кроток был звук его тихих речей, Такая всегда задушевность сквозила Во взгляде его темно-карих очей…1884
«Тихо дремлет малютка в кроватке своей…»*
Тихо дремлет малютка в кроватке своей, Мягким блеском луны озаренной, И плывут вереницы туманных теней Над головкой его утомленной… Целый сказочный мир развернулся пред ним: Вот на птице стрелою он мчится, Вот под ним перекинулась волком седым И по лесу несет его птица. Вот он входит на звездный, ночной небосвод И в коралловый замок русалки идет По жемчужным пескам океана… И везде он герой, и везде он мечом Путь-дорогу себе пролагает, И косматых чудовищ, кишащих кругом, Гордой силе своей покоряет.1884
«Любви, одной любви! Как нищий подаянья…»*
Любви, одной любви! Как нищий подаянья, Как странник, на пути застигнутый грозой, У крова чуждого молящий состраданья, Так я молю любви с тревогой и тоской.1884
Старый дом*
Посвящается А. Я. Надсон
Как уцелел ты здесь, деревянный старый дом, Одноэтажный дом, убогий и невидный? Чертоги и дворцы, стоящие кругом, Глядят в лицо твое с брезгливостью обидной: Им стыдно за тебя… Твой простодушный вид И странен и смешон в семье их франтоватой. И им как будто жаль, что солнце золотит Равно своим лучом красу их карьятид И твой фасад с его недавнею заплатой. Взгляни: прильнув к тебе гранитною стеной, Но высясь над тобой, как над цветком стыдливым, Дуб высится в лесу косматой головой, – Стоит гигант-дворец в величьи горделивом. На строй колонн его лег мраморный портал; Смеясь, из ниш глядят амуры, как живые; А там, за окнами, – там роскошь пышных зал, Цветы, и зеркала, и ткани дорогие. Как чудно он хорош, твой чопорный сосед, Когда румяная, как дева молодая, Вечерняя заря коралловый отсвет Бросает на него, в лазури угасая! Как чудно ой хорош и в тихий час ночной, Весь, сверху донизу осыпанный огнями, Гремящий музыкой, наполненный толпой, Манящий издали зеркальными дверями… А ты?.. Глубокой мглой окутан, как плащом, Ты крепко спишь у ног блистательной громады; И лишь одно окно трепещет огоньком, Неверным огоньком полуночной лампады. Под шум чужих пиров ненарушим твой сон; Ты равнодушен к ним, ты полон мглой обычной, И кажется, что ты лишь чудом занесен Из дремлющей глуши в водоворот столичный!..1884
«В минуты унынья, борьбы и ненастья…»*
В минуты унынья, борьбы и ненастья, За дружбу и свет ободряющих слов, Всю душу, не знавшую с детства участья, Отдать, как ребенок, я страстно готов. Под ласку их в сердце смолкают тревоги И снова в нем вера сияет тепло, И тернии трудной и знойной дороги, Как свежие розы, ласкают чело. И рад я страданью за то, что страданье Сказалось любовью, – и в силах опять Я песнью моею людское сознанье К свободе, к любви и к труду пробуждать. Но ласки иной, беззаветней, нежнее, Чем братская ласка, – у жизни порой Прошу я всей страстью и волей моею, С надеждою робкой и жгучей тоской…1884
«Чу, кричит буревестник!.. Крепи паруса!..»*
Чу, кричит буревестник!.. Крепи паруса! И грозна, и окутана мглою, Буря гневным челом уперлась в небеса И на волны ступила пятою. В ризе туч, опоясана беглым огнем Ярких молний вкруг мощного стана, Грозно сыплет она свой рокочущий гром На свинцовый простор океана. Как прекрасен и грозен немой ее лик! Как сильны ее черные крылья! Будь же, путник, как враг твой, бесстрашно велик.1884
«Когда вокруг меня сдвигается теснее…»*
Когда вокруг меня сдвигается теснее Гнетущий круг борьбы, сомнений и невзгод, И громче слышится мне голос фарисея, И стон страдающих внятней меня зовет; Когда с смирением, как нищий подаянья, Я о любви молю – и нахожу кругом Злорадный смех слепца над святостью страданья, Глумленье пошлости над светом и добром, – Я мир вдвойне люблю, и не огонь презренья, Не малодушный гнев мою волнует кровь, А пламенный порыв святого сожаленья, Святая, чистая, прекрасная любовь. Мне жалко их, больных, окованных цепями, Враждой безжалостной озлобленных людей…1884
«Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине…»*
Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине. Весь облит серебром потонувший в тумане залив; Синих гор полукруг наклонился к цветущей долине, И чуть дышит листва кипарисов, и пальм, и олив. Я ушел бы бродить, – и бродить и дышать ароматом, Я б на взморье ушел, где волна за волною шумит, Где спускается берег кремнистым, сверкающим скатом И жемчужная пена каменья его серебрит; Да не тянет меня красота этой чудной природы, Не зовет эта даль, не пьянит этот воздух морской, И, как узник в тюрьме жаждет света и жаждет свободы, Так я жажду отчизны, отчизны моей дорогой!9 (21) января 1885
Ницца
«Жалко стройных кипарисов…»*
Жалко стройных кипарисов – Как они зазеленели! Для чего, дитя, к их веткам Привязала ты качели? Не ломай душистых веток, Отнеси качель к обрыву, На акацию густую И на пыльную оливу. Там и море будет видно: Чуть доска твоя качнется, А оно тебе сквозь зелень В блеске солнца засмеется, С белым парусом в тумане, С белой чайкой, в даль летящей, С белой пеною, каймою Вдоль по берегу лежащей.Начало 1885
Ницца
«Умерла моя муза!.. Недолго она…»*
Умерла моя муза!.. Недолго она Озаряла мои одинокие дни; Облетели цветы, догорели огни, Непроглядная ночь, как могила, темна!.. Тщетно в сердце, уставшем от мук и тревог, Исцеляющих звуков я жадно ищу: Он растоптан и смят, мой душистый венок, Я без песни борюсь и без песни грущу!.. А в былые года сколько тайн и чудес Совершалось в убогой каморке моей: Захочу – и сверкающий купол небес Надо мной развернется в потоках лучей, И раскинется даль серебристых озер, И блеснут колоннады роскошных дворцов, И подымут в лазурь свой зубчатый узор Снеговые вершины гранитных хребтов!.. А теперь – я один… Неприютно, темно Опустевший мой угол в глаза мне глядит; Словно черная птица, пугливо в окно Непогодная полночь крылами стучит… Мрамор пышных дворцов разлетелся в туман Величавые горы рассыпались в прах – И истерзано сердце от скорби и рай, И бессильные слезы сверкают в очах!.. Умерла моя муза!.. Недолго она Озаряла мои одинокие дни; Облетели цветы, догорели огни, Непроглядная ночь, как могила, темна!..Март 1885
У моря*
Так вот оно, море!.. Горит бирюзой, Жемчужною пеной сверкает!.. На влажную отмель волна за волной Тревожно и тяжко взбегает… Взгляни, он живет, этот зыбкий хрусталь, Он стонет, грозит, негодует… А даль-то какая!.. О, как эта даль Усталые взоры чарует! Сын края метелей, туманов и вьюг, Сын хмурой и бледной природы, Как пылко, как жадно я рвался на юг, К вам, мерно шумящие воды!..Первая половина 1885
«Закралась в угол мой тайком…»*
Закралась в угол мой тайком, Мои бумаги раскидала, Тут росчерк сделала пером, Там чей-то профиль набросала; К моим стихам чужой куплет Приписан беглою рукою, А бедный, пышный мой букет Ощипан будто саранчою!.. Разбой, грабеж!.. Я не нашел На месте ничего: всё сбито, Как будто ливень здесь прошел Неудержимо и сердито. Открыты двери на балкон, Газетный лист к кровати свеян… О, как ты нагло оскорблен, Мой мирный труд, и как осмеян! А только встретимся, – сейчас Польются звонко извиненья: «Простите, – я была у вас… Хотела книгу взять для чтенья… Да трудно что-то и читать: Жара… брожу почти без чувства…. А вы к себе?.. творить?.. мечтать?.. О бедный труженик искусства!» И ждет, склонив лукавый взгляд, Грозы сурового ответа, – А на груди еще дрожат Цветы из моего букета!..Первая половина 1885
«Кипит веселье карнавала!..»*
Кипит веселье карнавала! На мостовой, на площадях, (Везде земля, как после бала, В кокардах, лентах и цветах. Bataille des fleurs!..[25] Летят букеты… Не молкнет хлопанье бичей, – Тут тамбурин, там кастаньеты… Огонь улыбок, блеск очей… А вот и ты, моя смуглянка, – В толпе, шумящей как поток, Вся разгоревшись, как вакханка, Ты мне бросаешь твой цветок. Благодарю, – ты им спугнула Больную мысль: под смех и крик, Под эхо пушечного гула Я был далеко в этот миг. Я был на родине печальной, Под снежным дремлющей ковром; И видел я в деревне дальней Знакомый пруд, забытый дом, В саду под инеем березы, Двора разрушенный забор… А здесь – здесь солнце, зелень, розы И моря ласковый простор. О, пусть и я хоть раз мгновенью Отдамся всей моей душой!.. Вот снова в светлом отдаленьи Мне улыбнулся образ твой. Из-под венка лукавым взглядом В толпу ты смотришь… я готов, Я жду, – и чуть сошлись мы рядом, Как хлынул свежий дождь цветов!Первая половина 1885
«Шипя, взвилась змеей сигнальная ракета…»*
Шипя, взвилась змеей сигнальная ракета, И целый дождь огней пролился в вышину; Вот яркая волна пурпурового света Ворвалась в нежную, лазурную волну. Вот мечут искрами колеса золотые, И под водой пруда и в сумраке аллей Блестят, звено к звену, гирлянды огневые Мгновенно вспыхнувших несчетных фонарей. Весь озарился сад; в причудливом сияньи Мелькают статуи, как будто смущены, Что дерзкая толпа в крикливом ликованьи Спугнула с их очей полуночные сны. Клубами вьется дым… Гремит, не умолкая, Зовущий, томный вальс. А в ясных небесах, Свой вечный, гордый путь над миром совершая Плывет немая ночь в серебряных лучах… Плывет немая ночь и, полная презренья, Глядит, как в глубине, зияющей под ней, Бессильный человек, ничтожный раб мгновенья, Пытается затмить лучи ее огней…Первая половина 1885
Страничка прошлого*
Из одного письма
Вчера, старинный хлам от скуки разбирая, Я бегло перечел забытый мой дневник. О детство светлое, о юность золотая, Как показался свеж мне чудный ваш язык! Толпою поднялись знакомые виденья, И из поблекших строк отрывочных листов Повеяли мне вновь былые впечатленья, Раздался вновь аккорд замолкших голосов. Я вспомнил и о вас. Мы целыми годами Теперь не видимся: у вас своя семья, А я, – я, как челнок, подхваченный волнами, Судьбою занесен в далекие края; Скитаюсь здесь и там, бесстрастно наблюдаю, Брожу у чуждых скал, внемлю чужим волнам И тихой грезою порою улетаю Под сень родных лесов, к покинутым полям. Но что бы ни было, а я надеюсь свято, Что счастье наконец столкнет нас с вами вновь. Вы так мне дороги! Я отдал вам когда-то Впервые грудь мою согревшую любовь… В тот год у вас в семье я лето проводил. Вы, только что простясь со школьною скамьею, Дышали свежестью нерасточенных сил, Весельем юности и нежной красотою. Свет, этот душный свет, с тоской его балов, С моралью узкою и черствостью холодной, Не наложил еще стесняющих оков На ваш душевный мир, беспечный и свободный. Вы были веселы – без злости, хороши – Без вычурных прикрас и милы – без кокетства; Поэзия едва проснувшейся души Соединялась в вас с неведением детства; Но и тогда ваш взгляд нередко поражал В минуты тихих дум своею глубиною, А я – ребенком был и тщательно искал Хоть признака усов над верхнею губою. Я жаждал их для вас!.. О, как я вас любил, Как я завидовал мучительно и больно Всем, кто на вас смотрел, кто с вами говорил И с кем встречались вы иль вольно, иль невольно! Мне живо помнится ваш голос, смех грудной, Блеск голубых очей, ресницами прикрытый, Румянец нежных щек и бледно-золотой Пленительный загар, поверх его разлитый… Как много я о них элегий написал! Как много пышных лип в аллеях полутемных Без сожаления ножом я истерзал, Ваш вензель выводя в приливе грез влюбленных! Но мысль признаться вам иль робко поднести Плоды моих немых и тайных вдохновений – Тогда и в голову не смела мне прийти, – Так нерешителен и скромен был мой гений… В те дни охотнее о смерти я мечтал, Но тщетно вдоль ручья я омутов искал: Везде каменья дна в нем явственно сквозили, А в летние жары он так пересыхал, Что даже куры вброд его переходили… А то иные сны мне грезились порой: Как будто ночь вокруг… Угрюмо ветер злится… Наш дом безмолвно спит, окутан темнотой… Всё глухо, всё мертво, – и только мне не спится. Вдруг голоса, шаги… Всё ближе… В дверь стучат Дымятся факелы… ножи в руках сверкают…. Все в масках бархатных, все шпорами гремят, И вот уж ворвались, разят и убивают!.. Их атаман, грозя железною рукой, Схватил вас за косу и «демонски» смеется… Но… «О моя любовь! он здесь, защитник твой!» Удар… еще удар – и враг уж не проснется! Потом… Но вам самим не трудно угадать Всех этих ужасов счастливую развязку. Кто избежал из нас страстишки превращать Порой свою судьбу в трагическую сказку?.. Однако день за днем спокойно уходил, А подвига свершить мне всё не удавалось… Уж август наступал и тихо золотил Поля, и сад, и лес… Печально обнажалась Густая глушь его. Короче стали дни, По зорям над ручьем туманы колыхались, И падающих звезд мгновенные огни Всё чаще в небесах, как искры, загорались… Угрюмая пора! Она вдвойне тяжка Тому, кому грозят, как тесные вериги, В бездушном городе вседневная тоска И школьной мудростью напичканные книги. Однажды – это был бесцветный, мутный день – Я по саду бродил. Вдруг предо мной мелькнула Полувоздушная, знакомая мне тень И в смутном сумраке беседки потонула… То были вы, – да, вы!.. Я сразу вас узнал… Вас ждали… В шепоте привета разгадал Я скоро молодой, певучий бас соседа… Потом опять ваш смех… Он обнял вас рукой… Вот поцелуй звучит, за ним вослед другой, – И тихо полилась влюбленная беседа… О, верьте, – я ее подслушать не хотел! Но я был так смущен, что в этот миг проклятый Не только двигаться, но и дышать не смел, Безмолвным ужасом и горестью объятый. Он грустно говорил, что в шуме городском Вы позабудете его простые речи И в этом уголке, уютном и немом, По теплым вечерам условленные встречи; Что вы – красавица, что впереди вас ждут Толпы поклонников и сотни наслаждений, – А он – бедняк-студент, его дорога – труд, Его судьба – нужда да тяжкий крест лишений… Вы в верности клялись, он снова возражал, Потом над чем-то вдруг вы оба рассмеялись, Потом он обнял вас, опять поцеловал, Промолвил вам: «Прости», вздохнул, – и вы расстались.. Как этот страшный день тогда я дотянул – Не помню… Кажется, я наглупил немало… В ушах моих стоял какой-то смутный гул, А сердце от тоски, как птица, трепетало. Я плакал, проклинал, хотел его убить, Потом себя убить, а вам письмо оставить, В котором я б молил «простить и позабыть» И подавал совет «не лгать и не лукавить». И весь нелепый вздор романов прежних дней, Смешавшись с искренним, вдруг вспыхнувшим страданьем, Забушевал в груди обиженной моей И пищу дал мольбам, упрекам и стенаньям… За чаем, вечером, мы встретились. На вас, Пунцовый от стыда, я долго не решался Поднять заплаканных и покрасневших глаз, Потом взглянул на миг – и громко разрыдался… Пошли расспросы, шум: «Не болен ли?», «О чем?» Вы с милой ласкою воды мне предлагали, – Я успокоился, затихнул, – и потом Мой взрыв все нервности согласно приписали. Я им не возражал, – но долго я не мог Спокойно видеть вас, тоскуя втихомолку… К несчастью, в будущем суровый ваш урок Принес душе моей не очень много толку, Но – это в сторону. Вот мой простой рассказ. Я был бы рад, когда б повеял он на вас Отрадой прошлого.Первая половина 1885
Ницца
«Я пригляделся к ней, к нарядной красоте…»*
Я пригляделся к ней, к нарядной красоте, Которой эта даль и этот берег полны, И для меня они теперь уже не те, Чем были некогда, задумчивые волны; Не тот и длинный ряд синеющих холмов, И пальм развесистых зубчатые короны, И мрамор пышных вилл, и пятна парусов, И вкруг руин – плюща узоры и фестоны. Я больше не дивлюсь, я к ним уже привык; Но чуть в груди моей замолкло восхищенье, – Природы снова стал понятен мне язык, И снова жизни в ней услышал я биенье. Я не спешу теперь разглядывать ее, Как незнакомую красавицу при встрече, Но, словно друг, в ее вникаю бытие И слушаю давно знакомые мне речи – Те речи, что слыхал на родине моей, Когда один, с ружьем, бывало, в полдень мглистый Бродил в болотах я, терялся средь полей Иль лесом проходил по просеке тенистой.Первая половина 1885
Ментона
«Всё та же мысль, всё те же порыванья…»*
Всё та же мысль, всё те же порыванья К былым годам, к любви пережитой! Усни в груди, змея воспоминанья, Не нарушай печальный мой покой!.. От этих глаз, под жизненной грозою Теплом любви светивших мне тогда, В сырой земле, под каменной плитою, Я знаю, нет давно уже следа…Первая половина 1885
Отрывок («Пишу вам из глуши украинских полей…»)*
Из письма к М. В. Ватсон
Пишу вам из глуши украинских полей, Где дни так солнечны, а зори так румяны, Где в воздухе стоят напевы кобзарей И реют призраки Вакулы и Оксаны; Где в берег шумно бьет днепровская волна, А с киевских холмов и из церковных сводов Еще глядит на вас седая старина Казацкой вольности, пиров их и походов. Я много странствовал… Я видел, как закат Румянит снежных Альп воздушные вершины, Как мирные стада со склонов их спешат Вернуться на ночлег в цветущие долины; Вокруг меня кипел шумливый карнавал, Всё унося в поток безумного веселья, И реву Терека пугливо я внимал, Затерянный в стенах Дарьяльского ущелья. Но то, чем я теперь в деревне окружен, Мне ново, добрый друг… В глуши я не скучаю, Напротив – я влюблен, как юноша влюблен В свободу и покой, и сладко отдыхаю. О, если б вы могли из моего окна Взглянуть туда, в поля, в разбег их безграничный, Какая зависть бы вам сердце сжать должна, Как стало б холодно вам в суете столичной! Ваш Петербург – он был недавно и моим – В дни поздней осени почти невыносим: Какая-то тоска незримо в нем разлита – Тупая, мертвая, гнетущая тоска… А этот мелкий дождь, идущий как из сита, А эти низкие на небе облака?! Здесь осень чудная: леса еще хранят Уже поблекнувший, но пышный свой наряд; Дни ясны, небеса прозрачны и глубоки; Природа так светла, что вам ее не жаль, И кажется, вокруг не воздух, а хрусталь, И резвый утренник чуть колет ваши щеки… Как весело бродить под сводами аллей!.. Чу! резкий крик… Гляжу: в лазури утопая, Несется надо мной белеющая стая Ширококрылых журавлей; Высоко поднялся к сквозящим облакам, Мелькая в вышине, их треугольник стройный… – Снесите мой привет полуденным волнам! Я помню – я любил их ропот беспокойный… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Октябрь 1885
С. Носковицы
«Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»*
Не принесет, дитя, покоя и забвенья Моя любовь душе проснувшейся твоей: Тяжелый труд, нужда и горькие лишенья – Вот что нас ждет в дали грядущих наших дней! Как сладкий чад, как сон обманчиво-прекрасный, Развею я твой мир неведенья и грез, И мысль твою зажгу моей печалью страстной, И жизнь твою умчу навстречу бурь и гроз! Из сада, где вчера под липою душистой Наш первый поцелуй раздался в тишине, Когда румяный день, и кроткий и лучистый, Гас на обрывках туч в небесной вышине, Из теплого гнезда, от близких и любимых, От мирной праздности, от солнца и цветов Зову тебя для жертв и мук невыносимых В ряды истерзанных, озлобленных борцов. Зову тебя на путь тревоги и ненастья, Где меры нет труду и счета нет врагам!.. Тупого, сытого, бессмысленного счастья Не принесу я в дар сложить к твоим ногам. Но если счастье – знать, что друг твой не изменит Заветам совести и родине своей, Что выше красоты в тебе он душу ценит, Ее отзывчивость к страданиям людей, – Тогда в моей груди нет за тебя тревоги, Дай руку мне, дитя, и прочь минутный страх: Мы будем счастливы, – так счастливы, как боги На недоступных небесах!..Декабрь 1885
«О, неужели будет миг…»*
О, неужели будет миг, Когда и эти дни страданья Я помяну, уже старик, Теплом в часы воспоминанья, И, под тяжелой ношей дней, Согбенный над плитой могильной, Я пожалею и о ней – Об этой юности бессильной? Не может быть!.. Что мне дала Ее бесцельная тревога? К каким итогам привела Меня пройденная дорога? Я разве жил?.. Не так живут! Я спал, и все позорно спали… Что мы свершили, где наш труд? Какое слово мы сказали?.. Нет, не зови ты нас вперед. Назад!.. Там жизнь полней кипела, Там роковых сомнений гнет Не отравлял святого дела! Там Петр в Клермонте говорил И жег огнем сердца народу, И на костер там Гус всходил, И Телль боролся за свободу… Там страсть была, – не эта мгла Унынья, страха и печали; Там даже темные дела Своим величьем поражали… А мы?.. Ничтожен перед ней, Пред этой древностью железной, Наш муравейник бесполезный, Наш мир пигмеев, – не людей!..1885
«На юг, говорили друзья мне, на юг…»*
На юг, говорили друзья мне, на юг, Под небо его голубое! Там смолкнет, певец, твой гнетущий недуг, Там сердце очнется больное! Я внял их призывам – и вот предо мной, Синея в безгранном просторе, Блестит изумрудом, горит бирюзой. И плещется теплое море. Привет, о, привет тебе, синяя даль, Привет тебе, ветер свободный! Рассейте на сердце глухую печаль, Развейте мой мрак безысходный! О, сколько красы окружает меня!.. Как дальние горы сияют! Как чайки в лучах золотистого дня Над серым прибрежьем мелькают! Теряются виллы в зеленых садах, Откуда-то музыка льется, Природа вокруг, как невеста в цветах, Лазурному утру смеется… Но что это? В свадебном хоре звучат Иные, суровые звуки, В них громы вражды, затаенный разлад, Угрозы, и стоны, и муки!.. То море, то синее море поет; Разгневано синее море! Напев величавый растет и растет, Как реквием в мрачном соборе!..1885
«Это не песни – это намеки…»*
Это не песни – это намеки: Песни невмочь мне сложить; Некогда мне эти беглые строки В радугу красок рядить; Мать умирает, – дитя позабыто, В рваных лохмотьях оно… Лишь бы хоть как-нибудь было излито, Чем многозвучное сердце полно!..1885
«За что? – с безмолвною тоскою…»*
«За что?» – с безмолвною тоскою Меня спросил твой кроткий взор, Когда внезапно над тобою Постыдной грянул клеветою Врагов суровый приговор. За то, что жизни их оковы С себя ты сбросила, кляня; За то, за что не любят совы Сиянья радостного дня; За то, что ты с душою чистой Живешь меж мертвых и слепцов; За то, что ты цветок душистый В венке искусственных цветов!..1885
«Художники ее любили воплощать…»*
Художники ее любили воплощать В могучем образе славянки светлоокой, Склоненною на меч, привыкший побеждать, И с думой на челе, спокойной и высокой. Осенена крестом, лежащим на груди, С орлом у сильных ног и радостно сияя, Она глядит вперед, как будто впереди Обетованный рай сквозь сумрак прозревая. Мне грезится она иной: томясь в цепях, Порабощенная, несчастная Россия, – Она не на груди несет, а на плечах Свой крест, свой тяжкий крест, как нес его Мессия. В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками, В тоске, она на грудь поникнула челом, А из груди, дымясь, <струится кровь ручьями…> О лесть холопская! ты миру солгала!1885
«Красавица девушка чудную вазу держала…»*
Красавица девушка чудную вазу держала; Румяные вишни ее до краев наполняли; Но сердце той девушки было ничтожно и мелко; Змеистая трещина вазы хрусталь разъедала, А в вишнях созревших таились и ели их черви.1885
«Не хочу я, мой друг, чтоб судьба нам с тобой…»*
Не хочу я, мой друг, чтоб судьба нам с тобой Всё дарила улыбки да розы, Чтобы нас обходили всегда стороной Роковые житейские грозы; Чтоб ни разу не сжалась тревогою грудь И за мир бы не стало обидно… Чем такую бесцветную жизнь помянуть?.. Да и жизнью назвать ее стыдно!.. Нашим счастьем пусть будет – несчастье вдвоем…1882
Певица*
Затих последний звук, и занавесь упала… О, как мучителен, как страшен был конец! Конец! Но вся толпа вокруг еще рыдала, И всюду слышалось: «О, как она играла! Как пела вату ночь владычица сердец!» Ее, ее! Явись, сверкни своей красою! Дай нам увериться, что ты еще жива, Что это был обман, навеянный тобою, Красивый вымысел, нарядные слова! И снова занавесь взвилась! Перед глазами Всё тот же мрачный храм. Благоговейно ниц Склонялась тут толпа, и хор гремел мольбами, И таял фимиам душистыми струями, И арфы плакали под вздохи юных жриц… Теперь безмолвно всё… На сцене сумрак синий, Рабы, и витязи, и жрицы разошлись, И только чуждою и грозною святыней Темнеет в глубине гранитный Озирис…1885
«Да, только здесь, среди столичного смятенья…»*
Да, только здесь, среди столичного смятенья, Где что ни миг, то боль, где что ни шаг, то зло, – Звучат в моей груди призывы вдохновенья И творческий восторг сжигает мне чело; В глуши, перед лицом сияющей природы, Мой бог безмолвствовал… Дубравы тихий шум, И птиц веселый хор, и плещущие воды Не пробуждали грудь, не волновали ум. Я только нежился беспечно, безотчетно, Пил аромат цветов, бродил среди полей Да в зной мечтал в лесу, где тихо и дремотно Журчал в тени кустов серебряный ручей…1885
«Если ночь проведу я без сна за трудом…»*
Если ночь проведу я без сна за трудом, Ты встречаешь меня с неприветным лицом, Без обычной, застенчивой ласки, И блестят твои глазки недобрым огнем – Эти кроткие, нежные глазки. Ты боишься, чтоб бедный твой друг Не растратил последних слабеющих сил И чтоб раньше бы часом его не убил Пересиленный волей недуг. Милый, добрый мой друг, не печалься о мне: Чем томиться на медленном, тяжком огне, Лучше сразу блеснуть и сгореть…1885
«Прощай, туманная столица!..»*
Прощай, туманная столица! Надолго, может быть, прощай! На юг, где синий Днепр струится, Где весь в цветах душистый май! Как часто уносила дума Из бедной комнатки моей Под звуки уличного шума Меня в безбрежие степей! Как часто от небес свинцовых И душных каменных домов Я рвался в тень садов вишневых И в тишь далеких хуторов. И вот сбылись мои желанья: Пусть истомил меня недуг, Пусть полумертв я от страданья, Зато я твой, румяный юг! Я бросил всё без сожаленья: И труд, и книги, и друзей, И мчусь с надеждой исцеленья В тепло и свет твоих лучей!1885
Три ночи Будды*
Индийская легенда
В стране, где солнце не скупится На зной и блеск своих лучей, Где мирно синий Ганг струится В затишье рисовых полей, Где Гималайские вершины Над пестрой скатертью долины Горят в нетающих снегах, – Был замок в древности глубокой: Весь обнесен стеной высокой, Тонул он в рощах и садах. Он весь был мраморный; колонны В резьбе… вдоль лестниц шелк ковров, Вокруг – террасы и балконы, У входа белые драконы, И в нишах статуи богов. Пред ним листва благоухала, Блестел реки крутой извив, И крыша пагоды мелькала Меж кипарисов и олив. А дальше, скученный и темный, В бойницы замковой стены Виднелся город отдаленный, Столица знойной той страны – Капилаваста. Жизнь неслышно И мирно в замке том текла; И лишь одна природа пышно Вокруг дышала и цвела: Что год – тенистее бананы Сплетали темный свой намет; В ветвях их с криком обезьяны Резвились… Розы круглый год Цвели… Жасмин и плющ ползущий, Окутав пальмовые кущи, К земле спускались сетью роз; Повсюду ярких тубероз Венцы огнистые алели, И винограда кисти рдели На бархате террас. Ручей Тонул весь в лилиях душистых, И день, огонь своих лучей Гася на кручах гор кремнистых, Цветы вечернею зарей Кропил холодною росой. А в ночи, полные прохлады, В густой траве, то здесь, то там Кричали звонкие цикады, Прильнувши к трепетным листам; И сотни дремлющих растений Струили волны испарений; И у мерцающей реки, Над полусонною волною, Переливались бирюзою, В траве мелькая, светляки… Порою в зелени мелькала Тень отрока. Он был высок И строен. Мягко упадала Его одежда с плеч до ног. Загар наметом золотистым Румянец щек его покрыл; Избыток юности и сил Сквозил в сложеньи мускулистом Его груди и рук. Один Всегда он был. То он ложился Под тень развесистых маслин И что-то думал, – то резвился… Порой он припадал лицом К ручью и наблюдал пытливо, Как там сплетались прихотливо, На дне, усыпанном песком, Растенья в мраке голубом; То вдруг на зов к нему на плечи Послушно попугай слетал, И тихо ласковые речи Крикливой птице он шептал, И весь дрожал и разгорался, И вновь в раздумье уходил Куда-то в глушь, и там грустил Или загадочно смеялся… Кто был он, – он и сам не знал. Мрак строгой тайны покрывал Всегда его существованье, Но здесь ребенком он играл И здесь проснулось в нем сознанье. Он жил, рабами окружен, Его желанья, как закон, Всегда покорно исполнялись; Неслышно яства появлялись Обильно за его столом, И полон пальмовым вином Его был кубок. Без стесненья Он жил и делал что хотел, И только никогда не смел Он стену перейти – предел Его скитаний и владенья. Запрета он не нарушал… Ему сказали, что свершал Он чью-то волю…1885
Три встречи Будды*
1
Я вас призвал, старейшины Непала, Как властелин и любящий отец. Бесценный перл судьба мне даровала На склоне дней в мой царственный венец. Расцвел цветок, прекрасней и пышнее Пурпурных роз Гангесских берегов, Взошла звезда небесных звезд светлее, Взлетел орел отважней всех орлов! Как кедр, высок и строен Сидората; Он наделен и меткою стрелой, И медом уст курильщиц аромата, И силой мышц, и гордой красотой. Но тайный страх мне сердце угнетает: Он всё грустит, возлюбленный мой сын; Забав дворца, дичась, он убегает, Угрюм и тих, он любит быть один; В моих садах, как лань в глуши, он бродит, И смотрит вдаль, и всё чего-то ждет, И, всё томясь, ответа не находит На ту печаль, что грудь его гнетет… Не раз смущен тоской его упорной, Я у него пытался расспросить, Какая грусть своею тенью черной Его чело дерзнула омрачить. Я говорил: «Полны конюшни наши Как вихрь степей могучих скакунов, Я прикажу вином наполнить чаши, Я созову танцовщиц и рабов; В глуши лесов рассыпем мы облаву, А ты учись стрелою и конем Приобретать воинственную славу: Не забывай – ты призван быть царем!» Но он в ответ: «Отец, меня не манит Веселый звук охотничьих рогов; Моя душа в тяжелой скорби вянет, Мой дух изныл под бременем оков! Прости, отец!.. Иной я полн заботой!.. Я жажду знать, кто синий свод небес В час тихих зорь румянит позолотой? Кто. создал мир, кто создал степь и лес? И много ль звезд рассеяно в лазури? И есть ли жизнь на дальних облаках? И чей призыв я слышу в шуме бури, Чью вижу тень в полуночных тенях?» И он стоял, как светом озаренный, Смотря туда, где догорал закат, И был глубок, как океан бездонный, Его очей задумчивый агат, И мрак кудрей тяжелою волною, Прильнув к плечам, сбегал с его чела. И мнилось мне, что за его спиною Горят, как жар, два огненных крыла… И с той поры тяжелое сомненье Меня гнетет и мучит без конца: Что, если он свое уединенье Вдруг предпочтет величию венца И, позабыв высокое призванье, Свой древний род и сан своих отцов, Пойдет искать безвестного познанья В глуши пустынь и в сумраке лесов.1885
«Да, молодость прошла!.. Прошла не потому…»*
Да, молодость прошла!.. Прошла не потому, Что время ей пройти, что время есть всему; Увянула не так, как роза увядает; Угаснула не так, как гаснет звездный луч, Когда торжественен, прекрасен и могуч Встает румяный день и тени разгоняет! Нет, молодость прошла до срока, замерла, Как прерванный напев!.. Она не умерла – Она задушена, поругана, убита! В могилу темную, под камень гробовой, – Жестоких палачей бездушною толпой Она еще живой и сильною зарыта! Не время унесло с собой ее расцвет, Жизнь унесла его, развеял опыт жадный, Яд затаенных слез, боль незаживших ран, Подслушанная ложь, подмеченный обман, – Весь мрак последних дней, глухой и безотрадный!1885
«Дурнушка! Бедная, как много унижений…»*
Дурнушка! Бедная, как много унижений, Как много горьких слез судьба тебе сулит! Дитя, смеешься ты… Грядущий ряд мучений Пока твоей души беспечной не страшит. Но он придет, твой час… И грудь стеснят желанья, И ласк захочется, и негой вспыхнет взгляд, Но первые слова стыдливого признанья Из робких уст твоих бесплодно прозвучат. Семья, ее очаг и мир ее заветный Не суждены тебе… Дорогою своей Одна ты побредешь с тоскою безответной И с грустью тихою в лучах твоих очей!1885
«Напрасно я ищу могучего пророка…»*
Напрасно я ищу могучего пророка, Чтоб он увлек меня – куда-нибудь увлек, Как опененный вал гремучего потока, Крутясь, уносит вдаль подмытый им цветок… На что б ни бросить жизнь, мне всё равно… Без слова Я тяжелейший крест безропотно приму, Но лишь бы стихла боль сомненья рокового И смолк на дне души безумный вопль: «К чему?» Напрасная мечта! Пророков нет… Мельчая, Не в силах их создать ничтожная среда; Есть только хищников недремлющая стая, Да пошлость жалкая, да мелкая вражда. А кто и держит стяг высоких убеждений, Тот так устал от дум, гонения и мук, Что не узнаешь ты, кто говорит в нем – гений Или озлобленный, мучительный недуг!..1885
«Посмотри в глаза мне, милый, веселее…»
Посмотри в глаза мне, милый, веселее! Эта ночь пьяна, пьяна и ароматна. Сквозь намет деревьев на песок аллеи Бросила луна серебряные пятна. Дремлют тополя… дрожат и млеют звезды; Встал туман, бродя над озером зеркальным; Медлят соловьи вернуться на ночь в гнезды, Только ты остался бледным и печальным!1885
«Когда, спеша во мне сомненья победить…»*
Когда, спеша во мне сомненья победить – Неутолимые и горькие сомненья, – Мне говорят о том, как много совершить Уже успели поколенья; Когда на память мне приводят длинный ряд Побед ума над тайнами природы И вдалеке меня манят Волшебным призраком блаженства и свободы, – Их гордость кажется мне детской и смешной, Их грезы кажутся мне бредом, И не хочу кадить я робкой похвалой Всем этим призрачным победам. Да, гордый человек, ты мысли подчинил Всё, что вокруг тебя когда-то угрожало, Ты недра крепких скал туннелями прорыл, Ветрам открыл причину и начало, Летал за облака, переплывал простор Бушующих морей, взбирался на твердыни Покрытых льдом гранитных гор, Исследуя, прошел песчаные пустыни, Движение комет ты проследил умом, Ты пролил свет в глубокой мгле – И всё-таки ты будешь на земле Бессильным, трепетным рабом!..1885
«По смутным признакам, доступным для немногих…»*
1
По смутным признакам, доступным для немногих, По взгляду вдумчивых, тоскующих очей, По очертанью уст, загадочных и строгих, По звуку теплому ласкающих речей, – Я разгадал тебя… Я понял: ты страдала, Ты суетной толпе душой была чужда; Иная скорбь тебя над нею возвышала, Иная даль звала, иная жгла вражда… И луч участия и горечь сожаленья Мне тихо сжали грудь… Несчастная, к чему, К чему не кукла ты, без смысла и значенья, Без гордых помыслов – рассеять эту тьму? Он мне знаком, твой путь… Лишения, тревоги, В измученной груди немолчный стон: «За что?» А после, как сведешь последние итоги, Поруганная жизнь и жалкое ничто. И всё-таки иди – и всё-таки смелее Иди на тяжкий крест, иди на подвиг твой, И пусть бесплоден он, но жить другим светлее, Молясь пред чистою, возвышенной душой!2
И твой я понял путь из этих глазок ясных, Где думам места нет под стрелками ресниц, Из этих ярких губ, и дерзких и прекрасных, И смеха звонкого, как щебетанье птиц. Не бойся вешних гроз: они тебя минуют, Их вихрь не для тебя, и если иногда Печали грудь твою нечаянно взволнуют, Они сбегут опять, как вешняя вода. Ты лилия: когда, обрызгана зарею, Она алмаз росы на дне своем таит, Ее цветок пленит мгновенной красотою, Но жаждущей груди ничьей не утолит. Ей, вечно внемлющей созвучьям песни льстивой С покорной ласкою прильнувшей к ней волны, Ей, ярко блещущей, душистой и красивой. Природой не дано одной лишь глубины. И часто, за тобой следя влюбленным взором, Когда ты весело щебечешь и поешь, Я всё-таки готов сказать тебе с укором: Что людям ты дала и для чего живешь?1885
Дурнушка («Дурнушка! С первых лет над нею…»)*
Дурнушка! С первых лет над нею, Как несмываемый позор, Звучал всей горечью своею Бездушный этот приговор. Дурнушка! Прочь, тебя не нужно! За шумным, радостным столом, Где молодежь пирует дружно, Ты будешь сумрачным пятном. Другим любовь, другим признанья, Пожатья рук, цветы венков; Тебе улыбка состраданья Иль смех назойливых глупцов. Отрада жгучих наслаждений – Не для тебя: как тяжкий гнет, Как крест непонятых мучений, Любовь в душе твоей пройдет… . . . . . . . . . . . . . . . Гляди ж вперед светло и смело; Верь, впереди не так темно, Пусть некрасиво это тело, Лишь сильно было бы оно; Пусть гордо не пленит собою Твой образ суетных очей, Но только мысль живой струею В головке билась бы твоей…1885
«Вольная птица, – люди о нем говорили…»*
Вольная птица, – люди о нем говорили, – Вольная птица, молод, свободен, один. Вдаль ли его пылкие думы взманили, – Кто его держит? Сам он себе господин: Короб за плечи и без запрету в дорогу, Сильные руки хлеба добудут везде; Цепью заботы он не прикован к порогу, Не замурован в душном семейном гнезде. Горе ль нагрянет, – что одинокому горе? Где полюбилось – там он себе и живет; Хочет – пойдет слушать гульливое море, Чуждые страны, чуждый, далекий народ. Много увидит, много узнает нечайно, Смелым отпором встретит печаль и нужду; Тут он на праздник вдруг натолкнется случайно, Там поцелуй звонко сорвет на ходу… Вольная птица… Только о чем же порою Тайно грустит он? . . . . . . . . . .1885
«Лазурное утро я встретил в горах…»
Лазурное утро я встретил в горах. Лазурное утро родилось в снегах Альпийской вершины И тихо спускалось кремнистой тропой Осыпать лучами залив голубой И зелень долины. В долине бродил серебристый туман. Бессонное море, как мощный орган, Как хор величавый, Под сводами храма гремящий мольбой, Гудело, вздымая волну за волной, Глухою октавой. Над морем раскинулась зелень садов: Тут пальмы качались, там в иглах шипов Желтели алоэ, И облаком цвета дымился миндаль, И плющ колыхал, как узорная шаль, Шитье кружевное. И в рощах лимонов и пыльных олив, По склонам холмов, обступивших залив Зубчатой стеною, Белели роскошные виллы кругом, И били фонтаны живым серебром, Алмазной струею. И, нежась в потоках рассветных лучей, Горели на зелени темных ветвей Шары апельсинов, И сладко дышал пробужденный жасмин, И розы алели, блестя, как рубин, Как сотни рубинов!.. И каплями чистых, сверкающих слез Роса серебрилась на венчиках роз, В цветах бальзаминов…1885
«Какая-то печаль мне душу омрачает…»*
Какая-то печаль мне душу омрачает, Когда, кончая день, и шумный и пустой, Я возвращаюсь вновь в мой угол трудовой. Уединение мне грез не навевает: Оно язвит меня, оно меня пугает, Оно гнетет меня своею тишиной. Мне хочется бежать от дум моих тяжелых, В толпу мне хочется, где яркий блеск огней, И шум, и суета, и голоса людей! Я жажду смеха их, напевов их веселых, Румяных уст, цветов и радостных речей! Друзья, сказал бы я, я ваш. Я с покаяньем Пришел на праздник ваш… Налейте мне бокал… Друзья, я был слепцом! Несбыточным мечтаньем Я долго разум мой болезненно питал. Я долго верил в то, во что, как в бред, и дети Не верят в наши дни . . . . . . . . . .1885
«Я рос тебе чужим, отверженный народ…»*
Я рос тебе чужим, отверженный народ, И не тебе я пел в минуты вдохновенья. Твоих преданий мир, твоей печали гнет Мне чужд, как и твои ученья. И если б ты, как встарь, был счастлив и силен, И если б не был ты унижен целым светом, – Иным стремлением согрет и увлечен, Я б не пришел к тебе с приветом. Но в наши дни, когда под бременем скорбей Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья, В те дни, когда одно название «еврей» В устах толпы звучит как символ отверженья, Когда твои враги, как стая жадных псов, На части рвут тебя, ругаясь над тобою, – Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов, Народ, обиженный судьбою!1885
«В кругу твоих подруг одна ты не смеялась…»*
В кругу твоих подруг одна ты не смеялась… Печально возвратись с их праздника домой, Ты села у окна и горько разрыдалась, Упав на кисти рук усталой головой… Ночь медленно плыла… Над городом мерцали Огни несчетных звезд… Остывшая земля Томилась негой сна, и чутко трепетали, Вдоль улицы теснясь, густые тополя… Весна одела их нарядом серебристым. Весна была во всем – ив шорохе садов, И в говоре реки, и в воздухе душистом, И в раннем блеске зорь, и в песнях соловьев. Весна, весна пришла!.. Не мучь себя тоскою, Взгляни смелей туда, в загадочную даль!.. Я убаюкаю, развею, успокою Твою гнетущую, тяжелую печаль!..1885
«Видишь, – вот он! Он гордо проходит толпой…»*
Видишь, – вот он! Он гордо проходит толпой, И толпа расступилась безмолвно пред ним. О, сегодня, дитя, он доволен собой, – Он себя обессмертил успехом своим. Сколько было венков! Я видал, как следил Он за пьесой своей! Он глубоко страдал! Каждый промах его, как ребенка, сердил, Каждый выход его до тоски волновал. И тогда лишь, когда весь театр, потрясен, Разразился грозою восторга и слез, Там, в тревожной груди его, был разрешен Тяготивший его молчаливый вопрос. Да, не жалкий позор угрожает ему, А несет ему слава цветы и привет, То, что дорого было ему одному, То полюбит теперь, как святыню, весь свет. Но, дитя, не завидуй ему, – он пройдет, В гордом сердце его, этот гордый порыв. Острый ум его скоро и горько поймет, Что не так, как казалось ему, он счастлив И что, может, он даже несчастней их всех. Всех, гремевших ему в этот вечер хвалой, У кого вырывал он то слезы, то смех И над чьей, как владыка, царил он душой. Что толпа? Для толпы был бы пышен цветок, – Ей нет дела до темных, невидных корней. Для толпы он велик, для толпы он пророк; Для себя он – ничто, для себя он – пигмей! Не молись на него: пред тобой не герой – Нет героев в наш жалкий, скудеющий век, – Пред тобою несчастный, усталый, больной, Себялюбием полный, мертвец-человек… Он мертвец, потому что он с детства не жил, Потому что не будет до гроба он жить, Потому что он каждое чувство спешил, Чуть оно возникало, умом разложить! Он – художник! И верь мне, не зависть они, А одно сожаленье должны возбуждать… Вот те боги, которых в печальные дни. В наши дни, мы привыкли цветами венчать!..1885
«Нет, видно, мне опять томиться до утра…»
Нет, видно, мне опять томиться до утра! Расстроили ль меня сегодня доктора Ненужной мудростью советов запоздалых, Иль это ты, мой бич, знакомая хандра, Спугнула грезы сна с ресниц моих усталых, – Но только сон нейдет! Как быть? Как скоротать Глухую эту ночь? Когда б я мог мечтать, Я б занял праздный ум сверкающим обманом Нарядных вымыслов. Но я мечтать отвык, И только истины немой и грозный лик В грядущем вижу я за мглою и туманом… Ложь книг наскучила… Я знаю наизусть И лживый пафос их и деланную грусть, А нового давно не слышно и не видно; Я мог бы оживить преданья прошлых дней И отдохнуть на них больной душой моей, – Но жизнь моя прошла и горько и обидно. А между тем лежать в гнетущей тишине, И слышать кашель свой, и слышать на стене Немолчный стук часов – несносно, нестерпимо… Прочь думы черные о смерти роковой, О том, что ждет меня за гробовой доской! Прочь тени грозные, – неситесь мимо, мимо!.. Ты, только ты одна могла бы мне помочь, Ты эту долгую, страдальческую ночь Сумела б и согреть и озарить любовью… Приди, о милая! Сядь ближе здесь со мной, Склонись головкою, как солнце, золотой К измокшему от слез больного изголовью. О, если в жизни я кого-нибудь любил, Знай, это ты была… Как долго я носил Твой образ в глубине души моей тревожной, Но сохранить его навеки я не мог: Шли годы долгие, и тихо он поблек… И вот я чувствую, я слышу, как в груди Какая-то струна заплакала украдкой; Вот чей-то нежный взгляд блеснул передо мной, И сердце вновь трепещет стариной, И сердце вновь в груди пылает болью сладкой…1885
«Надо жить! Вот они, роковые слова!..»*
Надо жить! Вот они, роковые слова! Вот она, роковая задача! Кто над ней не трудился, тоскуя и плача, Чья над ней не ломилась от дум голова?1885
«Как долго длился день!.. Как долго я не мог…»*
Как долго длился день!.. Как долго я не мог Уйти от глаз толпы в мой угол одинокий, Чтоб пошлый суд глупцов насмешкою жестокой Ни, горьких дум моих, ни слез не подстерег… И вот я наконец один с моей тоской: Спешите ж, коршуны, – бороться я не стану, – Слетайтесь хищною и жадною толпой Терзать моей души зияющую рану!.. Пусть из груди порой невольно рвется крик, Пусть от тяжелых мук порой я задыхаюсь, – Как новый Прометей, к страданьям я привык. Как новый мученик, я ими упиваюсь!.. Они мне не дадут смириться пред судьбой, Они от сна мой ум ревниво охраняют И над довольною и сытою толпой, Как взмах могучих крыл, меня приподымают!..1885
Шествие*
(Сон)
То было шествие народов и племен: Гремела сталь мечей, стучали барабаны, Вихрь, налетая, рвал лоскутья от знамен, И ночь, глухая ночь, на путь со всех сторон Сдвигала душный мрак, миазмы и туманы… Стоустый вопль не молк над пестрою толпой. Но люди шли и шли, враждуя и страдая, Огнистым заревом, кровавою рекой И трупами бойцов свой путь обозначая. Тут в сердце их толпы врывалася война, Там чахлая нужда, язвя, торжествовала, А здесь, таинственна, незрима и мрачна, Мильоны бледных жертв зараза похищала. Смерть побеждала жизнь, жизнь нарождалась вновь, И рядом с мрачными картинами мучений Дарила поцелуй стыдливая любовь, Звенели стройные созвучья песнопений, И длилось шествие… Далеко пред толпой, Светя на путь ее дрожащими огнями, Шли сильные умом и чуткие душой, Шли тяжко, медленно, неверными шагами… Немного было их… Ни суетный напев, Ни беззаботный смех средь них не раздавался; Вихрь разбивал о них свой первый мощный гнев И дальше над толпой уж ослабелый мчался… Суровой думы след на лицах их лежал, Суровой грусти след, глубоко-человечной; И шли они туда, где вдалеке сиял, Сиял и звал вперед какой-то отблеск млечный… То был неясный свет загадочного дня… И длилось шествие… Чу! гул толпы народной! Взгляни: они идут, они зовут меня, Зовут меня к себе, к семье своей свободной! Как ясны взгляды их, как поступь их смела, Как безбоязненны их речи и сужденья! Здесь, во главе толпы, светлей и реже мгла, И реже слышен крик печали и мученья! Порадуйся за них и молви им вослед: «Благословен ваш путь, счастливые народы, Вас озарил уже познанья кроткий свет, Для вас настал рассвет божественной свободы!» Они прошли… И вот, сгибаясь под ярмом, Идет еще толпа… Слова негодованья – Зерно грядущих гроз, – как отдаленный гром, Слышны уже над ней сквозь звуки ликованья… Вулкан готовится извергнуть на врагов Свой гнев, накопленный позорными веками, И скоро цепь спадет с воскреснувших рабов… Но сколько будет слез, и крови, и крестов, И сколько жертв падет безвинно с палачами! Еще толпа!.. Но здесь не слышно даже слов: Здесь сон, тяжелый сон… Не многие дерзают Тайком роптать на гнет мучительных оков И, падая в борьбе, безмолвно погибают…1885
«Лицом к лицу, при свете дня…»*
Лицом к лицу, при свете дня С врагом на бой сойтись отважный – О, это б тешило меня! Но биться с клеветой продажной, Язвящей тайно, за углом, – Не знаю хуже я мучений. Так под оптическим стеклом Ты в капле влаги мир творений Увидишь – и не знаешь ты, Что яд их, чуть заметный глазу, Отраву вносит и заразу В твой хлеб, под кровом темноты…1885
«Не хотел он идти, затерявшись в толпе…»
Не хотел он идти, затерявшись в толпе, Без лишений и жертв, по избитой тропе. С детских лет он почувствовал в сердце своем, Что на свет он родился могучим орлом. «День за днем бесполезно и слепо влачить, Жить, как все, – говорил он, – уж лучше не жить!.. Пусть же рано паду я, подломлен грозой, Но навеки оставлю я след за собой. Над людьми и землей, как стрела, я взовьюсь, Как вином, я простором и светом упьюсь, И вдали я обещанный рай разгляжу И дорогу к блаженству толпе укажу!..»1885
«Чего тебе нужно, тихая ночь?..»*
Чего тебе нужно, тихая ночь? Зачем ты в открытые окна глядишь И веешь теплом, и из комнаты прочь Под звездное небо манишь? Нет времени мне любоваться тобой! Ты видишь, – я занят заветным трудом. Я песню слагаю о скорби людской И страданьи людском…1885
На могиле А. И. Герцена*
Посвящается Н. А. Белоголовому
1
На полдень от нашего скудного края, Под небом цветущей страны, Где в желтые скалы стучит, не смолкая, Прибой средиземной волны, Где лес апельсинов изломы и склоны Зубчатых холмов осенил И Ницца на солнце купает балконы Своих беломраморных вилл, – Есть хмурый утес: словно чуткая стая На отдых слетевшихся птиц, Белеет на нем, в цветниках утопая, Семья молчаливых гробниц.2
Едва на востоке заря просияет За синею цепью холмов, Туда она первый свой отблеск роняет – На мрамор могильных крестов. А ночью там дремлют туманы и тучи Волнами клубящейся мглы, Как флером, окутав изрытые кручи Косматой и мрачной скалы. И видно оттуда, как даль горизонта Сливается с зыбью морской И как серебрится на Альпах Пьемонта В лазури покров снеговой. И город оттуда видать: под ногами Он весь, как игрушка, лежит, Теснится к волнам, зеленеет садами, И дышит, и жизнью кипит!..3
Шумна многолюдная Ницца зимою: Движенья и блеска полна, Вдоль стройных бульваров нарядной толпою За полночь пестреет она; Гремят экипажи, снуют пешеходы, Звенят мандолины певцов, Взметают фонтаны жемчужные воды В таинственном мраке садов. И только скалистый утес, наклоненный Над буйным прибоем волны, Как сказочный витязь, стоит, погруженный В свои одинокие сны… Стоит он – и мрачные тени бросает На радостно-светлый залив, И знойный мистраль шелестит и вздыхает В листве ее пышных олив.4
Пришлец, северянин, – еще с колыбели Привыкнув в отчизне моей К тоскливым напевам декабрьской метели И шуму осенних дождей, – На роскошь изнеженной южной природы Глядел я с холодной тоской, И город богатства, тщеславья и моды Казался мне душной тюрьмой… Но был уголок в нем, где я забывался: Бессильно смолкая у ног, Докучливым шумом туда не врывался Веселья и жизни поток. То был уголок на утесе угрюмом: Под сень его мирных могил Я часто, отдавшись излюбленным думам, От праздной толпы уходил.5
Среди саркофагов и урн погребальных, Среди обветшалых крестов И мраморных женщин, красиво-печальных В оградах своих цветников, – Там ждал меня кто-то, как я, одинокий. Как я, на чужих берегах Страдальческий образ отчизны далекой Хранивший в заветных мечтах. Отлитый из меди, тяжелой пятою На мраморный цоколь ступив, Как будто живой он вставал предо мною Под темным наметом олив. В чертах – величавая грусть вдохновенья, Раздумье во взоре немом, И руки на медной груди без движенья Прижаты широким крестом…6
Так вот где, боец, утомленный борьбою, Последний приют ты нашел! Сюда не нагрянет жестокой грозою Терзавший тебя произвол. Из скорбной отчизны к тебе не домчится Бряцанье позорных цепей. Скажи ж мне: легко и спокойно ли спится Тебе меж свободных людей? Тебя я узнал. Ты в минувшие годы Так долго, так гордо страдал! Как колокол правды, добра и свободы, С чужбины твой голос звучал. Он совесть будил в нас, он звал на работу, Он звал нас сплотиться тесней, И был ненавистен насилью и гнету Язык твоих смелых речей!..1885–1886
Весной*
Опять меня томит знакомая печаль, Опять меня зовет с неотразимой властью Нарядная весна в заманчивую даль, К безвестным берегам, к неведомому счастью… Волшебница, молчи!.. Куда еще спешить, Чего еще искать?.. Пред бурей испытаний Изжита жизнь до дна! Назад не воротить Заносчивых надежд и дерзких упований! В минувшие года я верил в твой призыв, Я отдавался весь твоим безумным чарам… Как горд я был тогда, как был нетерпелив, Как слепо подставлял я грудь мою ударам! Я, как Икар, мечтал о ясных небесах!.. Напрасные мечты!.. Неопытные крылья Сломились в вышине, и я упал во прах, С сознанием стыда, печали и бессилья! Довольно!.. Догорай неслышно, день за днем, Надломленная жизнь! Тяжелою ценою Достался опыт мне! За ярким мотыльком Не брошусь я теперь, не увлекусь мечтою! Пускай венки – побед других к себе влекут, Тех, кто еще кипит отвагою орлиной, А мне хватило б сил на мой заветный труд, На незаметный труд, упорный, муравьиный!..10 марта 1886
Олаф и Эстрильда*
1
«Кто он, – молвил Гаральд, – тот певец-чародей, Тот избранник, отмеченный божьим перстом, Чьи напевы звучат по отчизне моей, Зажигая сердца непонятным огнем? Их поет поселянин, трудясь за сохой, И поет их рыбак, выплывая в залив, Белый парус над лоном волны голубой Горделиво навстречу заре распустив; Я слыхал их под грохот железных мечей, На кровавых полях в беспощадном бою, Я внимал им в лесу, у бивачных огней Торжествуя с дружиной победу мою; И хочу я услышать их в замке моем!.. Призовите ж певца!.. Пусть, спокоен и смел, Он споет предо мной, пред своим королем, То, что с дивною силой народу он пел!..»2
Льют хрустальные люстры потоки лучей, Шелк, алмазы и бархат блистают кругом, И Гаральд, окруженный толпою гостей, Восседает на троне своем золотом… Распахнулась завеса – и вводят певца: Он в крестьянском наряде и с лютней в руках; Вьются кудри вокруг молодого лица, Пышет знойный загар на румяных щеках… Поклонился певец королю и гостям, Огляделся вокруг – и смутился душой: Слышит юный Олаф: пробежал по рядам Тихий смех, словно моря далекий прибой; Видит юный Олаф: сотни чуждых очей На него любопытно и зорко глядят… Льют хрустальные люстры потоки лучей, Шелк, алмазы и бархат повсюду горят…3
И взглянул он вперед, – оглушен, ослеплен И испуган богатством, разлитым кругом… Боже, что с ним такое?.. То явь или сон? Кто там рядом, на троне, с его королем? То Эстрильда-краса, королевская дочь… Ярче вешних небес на Эстрильде наряд… И не в силах волненья Олаф превозмочь, И не в силах отвесть очарованный взгляд. Как зеленая ель в заповедных лесах, Молодая царевна гибка и стройна; Как сверкающий снег на норвежских горах, Молодая царевна печально-бледна. По плечам разметались душистой волной Золотистые кольца упрямых кудрей, И, как море темно перед близкой грозой, – Так темна глубина ее синих очей…4
Не смеются они над смущенным певцом; Нет, они говорят: «Я грустна… я больна… Ах, зажги мое скорбное сердце огнем, Разбуди мое скорбное сердце от сна! Что мне роскошь дворца? Что мне пышный наряд? Что мне льстивые речи корыстных рабов? Я хотела бы в лес, где деревья шумят, Я хотела б в поля, на ковер из цветов!.. Позабытая всеми, свободна, одна, – Убежать я хотела б на берег морской, Чтоб послушать, как дышит в тумане волна И как ветер, ласкаясь, играет с волной… Ненавистен и тяжек мне царский венец, – Ненавистней тюрьмы и тяжеле цепей!.. Исцели ж мое бедное сердце, певец, Исцели его сладкою песней своей!..»5
И ударил Олаф по струнам и запел, – Так запел, как доныне еще не певал: Юный голос слезами печали звенел, Зноем страсти и негой желаний дрожал. Пел о солнце Олаф и о ясной весне, О манящих улыбках и нежных очах; Пел о том, как в весеннюю ночь, при луне, Пляшут эльфы, резвясь на душистых цветах; Пел о громких деяньях могучих вождей, Пел о славных сраженьях и ранах бойцов, О печали их жен, о любви матерей, О смятеньи и страхе сраженных врагов, – И была его песнь словно буря дика, Словно буря ночная в родимых горах, И была его песнь как молитва сладка, Как молитва на детских, невинных устах!..6
Не вернется Олаф. Как в былые года, Из конца и в конец по отчизне своей Не пройдет он опять никогда, никогда, Не вернется Олаф из-за чуждых морей… Не звучать его песне ни в царском дворце, Ни в рыбачьем челне, ни в углу бедняка… Плачь, родная страна, об угасшем певце! Погубили Олафа любовь и тоска!.. Там, где жгучее солнце на море песков С раскаленных небес беспощадно глядит; Там, где пальмы качают короны листов И гремучий ручей по корням их бежит, – Там навеки затих наш родной соловей, Там навеки затмилась Олафа звезда. Плачь, родная страна! Из-за чуждых морей Не вернется Олаф – никогда, никогда!..1886
Мать («Тяжелое детство мне пало на долю…»)*
Тяжелое детство мне пало на долю: Из прихоти взятый чужою семьей, По темным углам я наплакался вволю, Изведав всю тяжесть подачки людской. Меня окружало довольство; лишений Не знал я, – зато и любви я не знал, И в тихие ночи тревожных молений Никто над кроваткой моей не шептал. Я рос одиноко… я рос позабытым, Пугливым ребенком, – угрюмый, больной, С умом, не по-детски печалью развитым, И с чуткой, болезненно-чуткой душой… И стали слетать ко мне светлые грезы, И стали мне дивные речи шептать И детские слезы, безвинные слезы, С ресниц моих тихо крылами свевать!.. Ночь… В комнате душно… Сквозь шторы струится Таинственный свет серебристой луны… Я глубже стараюсь в подушки зарыться, А сны надо мной уж, заветные сны!.. Чу! Шорох шагов и шумящего платья… Несмелые звуки слышней и слышней… Вот тихое «здравствуй», и чьи-то объятья Кольцом обвилися вкруг шеи моей! «Ты здесь, ты со мной, о моя дорогая, О милая мама!.. Ты снова пришла! Какие ж дары из далекого рая Ты бедному сыну с собой принесла? Как в прошлые ночи, взяла ль ты с собою С лугов его ярких, как день, мотыльков, Из рек его рыбок с цветной чешуею, Из пышных садов – ароматных плодов? Споешь ли ты райские песни мне снова? Расскажешь ли снова, как в блеске лучей И в синих струях фимиама святого Там носятся тени безгрешных людей? Как ангелы в полночь на землю слетают И бродят вокруг поселений людских, И чистые слезы молитв собирают И нижут жемчужные нити из них?.. Сегодня, родная, я стою награды, Сегодня – о, как ненавижу я их! – Опять они сердце мое без пощады Измучили злобой насмешек своих. Скорей же, скорей!..» И под тихие ласки, Обвеян блаженством нахлынувших грез, Я сладко смыкал утомленные глазки, Прильнувши к подушке, намокшей от слез!..1886
С. Носковицы, Подольской губернии
«Когда в вечерний час схожу я в тихий сад…»*
Когда в вечерний час схожу я в тихий сад, И мгла вокруг меня пьяна и ароматна, И на песке аллей причудливо горят, Разбросаны луной серебряные пятна, – Я отдаюсь во власть чарующим мечтам, И пусть моя судьба темна и безотрадна, Поэзия меня ведет, как Ариадна, Сквозь лабиринт скорбей в сияющий свой храм И снится мне, что я и молод и любим. Любовь и молодость!1886
К морю*
(Монолог)
С вопросом на устах и с горечью во взоре, Как глупое дитя, обманутый тобой, Широкошумное, разгневанное море, Стоял я над твоей кипучей глубиной. Вокруг лежала ночь. Сплошною вереницей Холодный ветер гнал по небу облака; На мысе пристани подстреленною птицей Метался яркий свет на башне маяка; Усталый город спал, – лишь ты одно не спало И, грозно уходя в клубящийся туман, Отхлынув от скалы, зловеще замолкало, Прихлынув снова к ней, гудело, как орган. О, как я рвался к вам, полуденные воды, Как страстно рвался к вам из родины моей Забыть мою печаль на празднике природы, Согреть больную грудь теплом ее лучей!..1886
Икар*
На Крите жил чудак, по имени Икар. Для дерзких дум его земля казалась тесной. Он с завистью смотрел, как солнца яркий шар Торжественно плывет дорогою небесной И как в вечерний час, когда в борьбе со мглой Смежит усталый день лазоревые взоры, В эфирной вышине, как бисер золотой, Горят лучистых звезд далекие узоры… Был праздник. Критяне спеша сходились в храм. С утра алтарь богов увенчан был цветами, И пели арфы жриц, и синий фимиам С курильниц тихо плыл душистыми струями. Вдруг, голову склоня и с луком за спиной, Наперерез толпе сограждан суетливой, Бесцельно устремив свой взгляд перед собой, Скользнул Икар, как тень, как призрак молчаливый. Его окликнул жрец: «Куда ты в этот час, К чему ты взял твой лук? Убийство и охота Преступны в день молитв!..» Но он не поднял глаз, Направя шаг за вал, чрез старые ворота. Пред ним сквозь чащу пальм, платанов и олив, В лазурном блеске дня волнуясь и сверкая, Синел и рокотал ушедший вдаль залив, Хрусталь прозрачных волн о скалы разбивая. Икар спешил туда. Там выбрал он стрелу И снял с плеча свой лук. Запела, застонала Тугая тетива, и чайка на скалу, Пронзенная в крыло, к ногам его упала. И долго, наклонясь над птицей, он сидел, Строенье крыл ее прилежно изучая, И было тихо всё, – один залив шумел, Хрусталь прозрачных волн о скалы разбивая… Опять в волненьи Крит… По острову прошла Безумная молва!.. Качают головами, Не верят, но спешат, – без счета, без числа, Как шумный вешний дождь, потоками, волнами! С вершин и до земли уступы желтых скал Унизаны толпой… По ветру шумно бьются Клочки цветных одежд и ткани покрывал. <. . . . . . . . . . . . . . .> Пусть это только миг, короткий, беглый миг, И после гибель без возврата, Но за него – так был он чуден и велик – И смерть – не дорогая плата!1886
«Завтра вновь полумрак этой комнаты хмурой…»*
Завтра вновь полумрак этой комнаты хмурой, Где так редко беспечная радость гостит, Тонкий абрис головки твоей белокурой, Точно ласковый солнечный луч, озарит. Ты войдешь – и, как фея ребяческой сказки, Всё вокруг оживишь ты: заблещет камин, Просветлеют мгновенно поблекшие краски На узорах ковра и полотнах картин; И на полках зашепчутся книги поэтов, И на скрипке приветный аккорд задрожит, И в бесстрастных глазах пробужденных портретов Молчаливый, но внятный восторг заблестит. После долгой, мучительно долгой разлуки Я опять отдохну от печали моей, Я опять их услышу, знакомые звуки Серебристого смеха и звонких речей…1886
«Гнетущая скорбь!.. Как кипучий поток…»*
Гнетущая скорбь!.. Как кипучий поток Она в мою грудь приливает, Как волны потока качают челнок, Она мое сердце качает! Довольно, безумец, бороться с судьбой, Душа утомленьем объята… О демон неверья, отныне я твой, Я твой навсегда, без возврата! Пусть жизнь – эта старая лгунья – других, Довольных, тупых и бездушных, Прельщает игрою миражей своих И блеском их красок воздушных…1886
«Наперекор грозе сомнений…»*
Наперекор грозе сомнений И тяжким ранам без числа, Жизнь пестрой сменой впечатлений Еще покуда мне мила. Еще с любовью бесконечной Я рвусь из душной темноты На каждый оклик человечный, На каждый проблеск красоты. Чужие стоны, скорбь чужая [Еще мне близки, как свои…]1886
«Итак, сомненья нет, – разлука решена…»*
Итак, сомненья нет, – разлука решена, И легкий парус мой, обветренный ненастьем, Готова вновь умчать житейская волна К безвестным берегам, на поиски за счастьем. Не странно ли?.. Любить спокойный уголок, Туманы севера и плач его метели, Заветный труд, друзей сплотившийся кружок, – И вечно странствовать без отдыха и цели, И вечно чувствовать, что всюду ты чужой, Что нету у тебя ни очага, ни крова…1886
«Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась…»*
Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась… Спите, тревожные думы, в сердце моем!.. Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась… Вон одинокая звездочка с неба скатилась… В темных кустах дрогнула птица крылом… Спите, тревожные думы! Покоя, покоя! Полосы лунного света лежат на пруду… Спите, тревожные думы.1886
«Ты разбила мне сердце, как куклу ребенок…»*
Ты разбила мне сердце, как куклу ребенок, И права, и горда, и довольна собой! Резвый смех твой, как прежде, задорен и звонок, И как ясное небо – твой взгляд голубой. Но постой, – этот праздник любви и свободы Скоро тучи душевной грозы омрачат: За меня отомстят беспощадные годы, – Беспощадные годы так быстро летят! Как змея, подползет к тебе старость с клюкою, Чернь волос серебром перевьет седина, И проснешься ты вдруг с безысходной тоскою От минувшего счастья, как будто от сна. Что вернешь ты тогда из блаженных свиданий, Из душистых ночей, из чарующих грез? Кто поможет забыть тебе в неге лобзаний Горечь старческих дум и мучительных слез? Чем наполнишь ты дни? Как дерзнешь, не бледнея, Наступающей смерти в глаза заглянуть? Он угас, – обольстительный взгляд твой, Цирцея, И поблекла твоя сладострастная грудь! Я же всё сберегу, ничего не растрачу Из сокровищ любви, схороненных во мне: Пусть сегодня в тоске как ребенок я плачу, – Завтра я запою сладкозвучней вдвойне. Из отрады и горя разбитого чувства, Сколько в нем ни сияло лучей красоты, Всё смиренно внесу я в обитель искусства, Всё в созвучья стихов я вплету, как цветы! И когда о тебе навсегда позабудут, Может быть, над твоею могильной плитой Люди петь мои песни по-прежнему будут, И любя, и страдая, и плача со мной!..1886
У океана*
Еще издалека, из-за косматых скал, Дымящихся в клубах багряного тумана, Там, где-то впереди, я смутно услыхал Однообразный плеск и рокот океана… Стрелою я взбежал на острый перелом – И замер, онемев, без мысли и без слова: Во всем торжественном величии своем Гудел он подо мной, как отдаленный гром, В сверкающих лучах рассвета золотого!.. И руки я к нему в порыве протянул, И грудь стеснили мне восторженные слезы, Но буйных волн его неутихавший гул Не ласки полон был, а гнева и угрозы… Он на заветный труд меня не ободрял, Он воли не будил в душе моей смущенной: Нет, он как реквием мечтам моим звучал, И гибель мне сулил с враждою непреклонной. Он пел: «Я помню дни, когда твоя нога – О дерзкий человек! – еще не попирала Мои пустынные, глухие берега, Где только волк бродил да серна пробегала… Безлюден и суров был синий мой простор, И дики были надо мною Ущелья и хребты лесистых этих гор, Загромоздивших даль гранитною стеною. Но ты пришел сюда и мир мой возмутил, И внес с собой борьбу, и смерть, и разрушенье; В дремучей мгле лесов пути ты проложил, В долинах выстроил цветущие селенья; От очагов своих искусно ты отвел Зубчатую стрелу громовой непогоды, И вот слепых стихий окован произвол И взнуздан мощный зверь природы. И на моих волнах, где только небеса, Да тучи вольные, да звезды отражались, Отважных кораблей косые паруса Победоносно закачались!.. Гордись! Ты – царь всего, что взором и умом Ты можешь охватить, природу изучая; Гордись, слепец, своим минутным торжеством, Обетованный рай в грядущем прозревая!..»1886
«Весна, весна идет!.. Как ожила с весною…»*
Весна, весна идет!.. Как ожила с весною, Как расцвела, как загорела ты!.. Ты целый день в саду, где робкой красотою Блеснули первые весенние цветы… Вчера ты принесла мне ландыш. Ты сияла Такою радостью, что даже у меня Забытая струна на сердце задрожала, В заманчивую даль усталого маня… А между тем, дитя, я жил, и жизнь я знаю, Я вижу многое, чего не видишь ты: Встречая ясный май, я вместе с ним встречаю Не только соловьев, и песни, и цветы, – Я знаю, что весной и змеи оживают И из своих подземных нор В залитый солнцем сад погреться выползают, На мягкий воздух и простор; И если ландыш твой так пышно развернулся, Обрызган влагой теплых рос, Знай – и червяк зато в корнях его проснулся Под шумный ливень вешних гроз. Верь жизни и весне! Пусть верует кто может, Но я им верить не могу: Неугомонный червь живет в моем мозгу, И грудь мою змея неутомимо гложет!..1886
Песни Мефистофеля*
Пролог
Как он вошел, – я не видал. Был вечер… За моим столом При свете лампы я писал; Вдруг странный трепет пробежал По мне морозом и огнем. Я поднял от бумаги взгляд И встретил взгляд его в ответ; На нем был пурпурный наряд И черный бархатный берет… Высокий, стройный и худой, В тени стоял он предо мной Так просто, как обычный гость. И лишь в глазах его грозой Лежали ненависть и злость… Пришлец молчал… Я был смущен, Но не испуган. Я не стал Его расспрашивать, кто он И как в мой угол он попал. Я медленно закрыл тетрадь, Перо подальше отложил И начал терпеливо ждать, Чтоб мрачный гость заговорил… И гость заговорил, едва Цедя бесстрастные слова, Пиявки выпуклых бровей Надвинув низко на зрачки И кистью жилистой руки Касаясь до руки моей… Он говорил: «С тобою связь Нам закрепить давно пора; Я гений зла, я мрака князь, А ты – ты Дон-Кихот добра… Но – les extremites se touchent:[26] Не бойся ж!.. я тебя не съем, Я только в приторную чушь Твоих элегий и поэм Волью моей печали яд, Зажгу их мощью и огнем, И о тебе заговорят Как о звезде в краю родном!.. Послушай, я всегда любил Литературу…С давних лет В моей груди, таяся, жил Полумудрец-полупоэт; Я Байрона водил пером, Когда он „Каина“ писал, И Гете в грезах я мелькал, И Гейне навещал тайком. Конечно, друг мой, ты червяк В сравненьи с ними. Кое-как Слагая свой бесцветный стих, Ты вряд ли дух речей моих Сумеешь людям передать. Но негде мне искать других: Храм опустел… Парнас затих, Пегас стал чахнуть и хромать… Итак, вперед, дитя, вперед! Я буду петь, а ты внимай! И как вино из кубка бьет, Кипя и пенясь через край, – Пусть в рамках этих мерных строф Так бьет родник моих стихов! Еще два слова… Если ты, Скучая в школе, милый друг, Вкусил от мудрой нищеты Людских познаний и наук И отрицать привык чертей, Я помогу беде твоей… Не я стою перед тобой, В мой плащ пурпуровый одет, Я – сказка, я – полночный бред, Созданье старины седой… То тень чернильницы твоей На штору вычурно легла, А мерный звук моих речей – Дрожанье зыбкого стекла И плач метели за окном, Стенящей в сумраке ночном!..»1886
Жизнь*
Меняя каждый миг свой образ прихотливый, Капризна, как дитя, и призрачна, как дым, Кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой, Великое смешав с ничтожным и смешным. Какой нестройный гул и как пестра картина! Здесь – поцелуй любви, а там – удар ножом; Здесь нагло прозвенел бубенчик арлекина, А там идет пророк, согбенный под крестом. Где солнце – там и тень! Где слезы и молитвы – Там и голодный стон мятежной нищеты; Вчера здесь был разгар кровопролитной битвы, А завтра – расцветут душистые цветы. Вот чудный перл в грязи, растоптанный толпою, А вот душистый плод, подточенный червем; Сейчас ты был герой, гордящийся собою, Теперь ты – бледный трус, подавленный стыдом! Вот жизнь, вот этот сфинкс! Закон ее – мгновенье, И нет среди людей такого мудреца, Кто б мог сказать толпе – куда ее движенье, Кто мог бы уловить черты ее лица. То вся она – печаль, то вся она – приманка, То всё в ней – блеск и свет, то всё – позор и тьма; Жизнь – это серафим и пьяная вакханка, Жизнь – это океан и тесная тюрьма!1886
В ответ*
Из случайных песен
Нам часто говорят, родная сторона, Что в наши дни, когда от края и до края Тобой владеет гнет бессилия и сна, Под тяжкое ярмо чело твое склоняя, Когда повсюду рознь, всё глохнет и молчит, Унынье, как недуг, сердцами овладело, И холод мрачных дум сомнением мертвит И пламенный порыв и начатое дело, – Что в эти дни рыдать постыдно и грешно, Что наша песнь должна звучать тебе призывом, Должна святых надежд бросать в тебя зерно, Быть ярким маяком во мраке молчаливом!.. Слова, слова, слова!.. Не требуй от певцов Величия души героев и пророков! В узорах вымысла, в созвучьях звонких строф Разгадок не ищи и не ищи уроков!.. Мы только голос твой, и если ты больна – И наша песнь больна!.. В ней вопль твоих страданий, Виденья твоего болезненного сна, Кровь тяжких ран твоих, тоска твоих желаний… Учить не властны мы!.. Учись у мудрецов, На жадный твой вопрос у них ищи ответа; Им повторяй свой крик голодных и рабов: «Свободы, воздуха и света!.. Больше света!» Мы наши голоса с твоим тогда сольем; Как медный благовест, как мощный божий гром, Широко пронесем тот крик мы над тобою! Мы каждую твою победу воспоем, На каждую слезу откликнемся слезою. Но указать тебе спасительный исход Не нам, о родина!.. Исхода мы не знаем: Ночь жизни, как тебя, и нас собой гнетет, Недугом роковым, как ты, и мы страдаем!..1886
«Все говорят: поэзия увяла…»*
Все говорят: поэзия увяла, Увял венок ее небесного чела, И отблеск райских зорь – тот отблеск идеала, Которым песнь ее когда-то чаровала, – В ее очах сменили грусть и мгла. Не увлекают нас в волшебный мир мечты, В них горечь тайных слез и стон душевной муки: В них жизнь вседневная, жизнь пошлости и скуки, Без ореола красоты. – Нет, не бессильны мы, и нас неотразимо Порой зовет она, святая красота, И сердце бьется в нас, любовью к ней томимо, Но мы, печальные, проходим строго мимо, Не разомкнув уста!1886
«Печальна и бледна вернулась ты домой…»*
Печальна и бледна вернулась ты домой. Не торопясь в постель и свеч не зажигая, Полураздетая, с распущенной косой, Присела ты к окну, облитому луной, И загляделась в сад, тепло его вдыхая… То был запущенный, убогий, чахлый сад; Как узник между стен безжизненной темницы, Он был затерт на дне средь каменных громад, В пыли и суете грохочущей столицы; Аллея жидких лип, едва дававших тень, Беседка из плюща да пыльная сирень – Вот бедный уголок, излюбленный тобою Для отдыха от дум, печали и трудов И для заветных грез о зелени лесов И солнечных полях над тихою рекою!1886
«Не говорите мне „он умер“. Он живет!..»*
Не говорите мне «он умер». Он живет! Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает, Пусть роза сорвана – она еще цветет, Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает!..1886
«Мучительно тянутся дни бесполезные…»*
Мучительно тянутся дни бесполезные. Темно в пережитом, темно впереди. Тоска простирает объятья железные И жмет меня крепко к гранитной груди. О, если бы дело гигантски огромное, Гроза увлеченья, порывы страстей, В холодное сердце, больное и темное, Огонь исцеляющих, ярких лучей! О, если б раздался <глагол> увлекающий, Пришел бы могучий фанатик пророк И стыд разбудил своей речью карающей И верой своей бы на подвиг увлек! Напрасные грезы… Среда измельчавшая Дает только слабых и жалких людей. И грустна, безмолвна страна, задремавшая Под гнетом позорных и тяжких цепей! Проснитесь, о братья, проснитесь, пора! Не верь и нейди к ним под знамя, алкающий Свободы и света, любви и добра! Их лозунг – убийство, их цель – преступленье, Их руки повинны в горячей крови. Их черствое, полное мести ученье Далеко и чуждо добра и любви, Святой, всепрощающей, кроткой.1886
«Прочь от меня – я проклинаю…»*
Прочь от меня – я проклинаю Любовь безумную мою, Я всё минувшее сжигаю, Я всё забвенью предаю! Ты ждешь раскаянья, рыданий, – Ты ошибаешься – не жди: Весь жгучий яд моих страданий Я гордо затаю в груди… Я не люблю тебя… довольно! Я всё прошедшее забыл, Мне стыдно за него… мне больно, Что я так сильно полюбил… Я не вернусь в твои объятья, Я не унижусь пред тобой, И знай – не слёзы, но проклятья Кипят в душе моей больной.«Дураки, дураки, дураки без числа…»*
Дураки, дураки, дураки без числа, Всех родов, величин и сортов, Точно всех их судьба на заказ создала, Взяв казенный подряд дураков. Если б был бы я царь, я б построил им дом И открыл в нем дурацкий музей, Разместивши их всех по чинам за стеклом В назиданье державе моей.Шуточные стихотворения
В. Мамонтову*
Что, милый Васенька, с тобою? Где б ни был ты – всегда, везде Чертишь рассеянной рукою Две милых буквы Н и Д.[27] Знать, в грудь зазнобушка запала, Значенье букв сих тяжело: Н – значит, что надежды мало, Д – что другому повезло.1878
Родительское благословение*
Драматическая сценка
Мать
Кто <он>: химик, землемер, Может быть, писатель?Дочь
Инженерный офицер.Мать
Только? Ах, создатель! Вот пассаж!.. Так как же быть? Рассуди же строго…Дочь
Нет, жених, жених, жених, Свадьбу, ради бога!Мать
Маня, ангел, он богат?Дочь
Мне какое дело? Будет всё равно рогат.Мать (качая головой)
Как ты это смело. Ну к чему тебе спешить? Ты свежа, прекрасна, Можешь лучших уловить.Дочь
Нет, я не согласна! Этот сам и без сетей В руки мне дается. Клюнул, так тащи скорей, А не то сорвется. Это клад, а не супруг, Я вас уверяю.Мать
Так и быть, мой милый друг, Я благословляю.1878
Послание к Российскому*
Из глубины моих владений, Из царства булок и котлет Мой робкий, мой смущенный гений, Фельдфебель, шлет тебе привет!.. Фельдфебель, где ты? Я страдаю, Сойди, как солнце, в мой Аид, И станет он подобен раю, И ангел сменит эвменид!.. Приди! Любви и дружбы рана С тобой в разлуке так жива, – И я велю левиафана Тебе подать для торжества!..1880
Сон*
(На мотив похоронного марша)
Сегодня тревожный мой сон на заре Смущали больные виденья: Мне снилось, что жгли на огромном костре Ученых и все их творенья. Огромные кипы записок и книг Пылали роскошней пожара, И я ощутил в голове своей вмиг Тревожное чувство угара. Как бочка, наш толстый топограф горел, Как факел, пылал Борановский, И с грустью на это бесчинство глядел Мудрейший полковник Павловский. Заркевич горевших крестом осенял И кланялся всем благосклонно, А стряпчий Бакшеев вопил и кричал, Что это совсем незаконно. Со звоном и шиком истлел Энгельгардт, Берг что-то считал и сбивался, И долго Пашкевича резкий дискант Над скорбной толпой раздавался.1881
«Если был бы я Агарков…»*
Если был бы я Агарков, Я б оркестр соорудил, И мильонами огарков Все пюпитры озарил. И на флейте, на тромбоне И фаготах всех времен Нежно б пел в минорном тоне: «Милый ангел, я влюблен!»1881
«Что ж, начнем слагать любовные посланья!..»*
Что ж, начнем слагать любовные посланья! То-то вдохновенный зададим концерт… После едких песен, слез и отрицанья Эти побрякушки кстати на десерт. Ведь шаблон не сложен..: шейка – чародейка, Ножка – крошка, взгляд – лазурная эмаль, «Милая, родная… ангел мой, злодейка!.. (Тут поднять крещендо и нажать педаль.) Я люблю вас страстно, я люблю вас вечно (О, конечно, вечно, – каждый миг сильней), Не терзайте ж грудь мне так бесчеловечно И откройте рай мне, сделавшись моей…» Соловьи и розы, лунный свет и грезы, В голове угар, пожар и яд в крови, Клокотанье страсти, слезы и угрозы – И готова песня пламенной любви. Перероем кстати старые тетради, В них лиризм так глуп, но так горяч в стихах, И преподнесем ей милых глазок ради Из минувших ахов самый длинный ах… Можно даже будет кое-что у Фета Призанять, – он мастер, сладкозвучный Фет, И сразить ее мелодией сонета, Где бы каждый стих был трель или букет!.. И смешно и больно!..1882
«Два нежных друга как-то жили…»*
Два нежных друга как-то жили Вдвоем под кровлею одной, – В полк на занятия ходили, Мечтали, верили, любили И ели сайки с колбасой. Казалось, жизнь их пронесется Без потрясающих невзгод И каждый мирно в свой черед Отставки с пенсией дождется. Но рок иначе им судил И под тужуркою армейской В сердцах их юных возбудил О славе замысел злодейский.1883
«Горя вчера одним стремленьем…»*
Горя вчера одним стремленьем – Вам угодить, насколько в мочь, Я ждал с тревожным нетерпеньем, Чтоб на Кронштадт спустилась ночь. И чуть огни сквозь мглу тумана Зажглись на сумрачной земле, Я в Петербург пустился рьяно Прямой дорогой, на метле. Путь был отличный; крылья бури Порывом вихрей снеговых Меня несли в ночной лазури Быстрее дрожек беговых. И, глядя на картину эту, Своей науки верный раб, Меня, как новую комету, Уж мерил взором Глазенап. Плоды поездки перед вами: Вот пряник – только что спечен, Приправлен скверными стихами И вам смиренно поднесен…1883
«Пр'чтя только что твое п'сланье…»*
Пр'чтя только что твое п'сланье, Я пр'ник в значенье беглых строк И на желанное свиданье Готов я пр'течь в недолгий срок. В'бще я всегда с тобой душою, Тобой, В. Гаршин, дорожа, И в Кр'нштадте, окружен водою, Живу я, лыжи настр'жа. У нас здесь мрак непросвещенья, У вас же конки и прогресс; Вы даже в ночь для освещенья Огни украли у небес! Рвясь вечно к вам в глухой тревоге, Как рвется узник из оков, В твоем блистающем чертоге Я буду в среду, в шесть часов!..1883
Ее Н'дсон
«На мызе Куза муза мызы…»*
На мызе Куза муза мызы Сидит и смотрит в небосклон, И блеском неба синей ризы Взор юной музы восхищен. А в душной каменной столице, Ни муз, ни мыз где нет как нет, При грустной мысли о больнице Клянет свой век один поэт. И грезится душе поэта, Что сбросил он печали груз И мчится быстро, как комета, На мызу Кузу, мызу муз…1884
«Шутить стихом, играть словами…»*
Шутить стихом, играть словами Мне нипочем, – я рад писать. Я даже вам доклад стихами Хочу сегодня набросать. И хоть солидная контора, Где я серьезным быть привык, Внушать и не должна бы вздора, – Но слаб мой мелющий язык: До смерти рифмы одолели!.. Внимайте ж беглым сим строкам: Четыре номера «Недели» Я продал разным господам. Один из них купил и книжку Романов за минувший год. Счастливец!.. Чудную коврижку Он в умственный отправит рот! Когда б всегда он так обедал, Мудрей Эдипа он бы стал… Морозов был… Что он поведал, Вам скажет Витя: он слыхал. Еще я создал план сраженья Для оловянных двух дружин – И вам в порыве вдохновенья Испек сей стихотворный блин…1884
«Грязна харчевня Кишинев…»*
Грязна харчевня «Кишинев», Ее бранить язык устанет, И, верно, страшен и суров, На пыльный ряд ее столов Градоначальник громом грянет. Но хорошо порой и в ней, Смеясь бессилию недуга, Справлять, шумя, кружку друзей Возврат воскреснувшего друга!..1884
«О, не молчи, кукуевец бездушный…»*
О, не молчи, кукуевец бездушный, Пиши скорей из северных снегов! Твоим строкам всегда прием радушный В моей душе заранее готов. Я так люблю твои иероглифы, Хотя порой их трудно разобрать… Забудь на миг расчеты и тарифы, Пиши скорей, – пиши, я буду ждать!1884
«Я вам пообещал когда-то…»*
Я вам пообещал когда-то В альбом ваш дать мой скромный вклад. Ну что ж? Что Лев сказал – то свято: Львы только правду говорят! Итак, начну! Моим веленьям Пегас служить готов всегда, – И вот, запасшись вдохновеньем, Я храбро влез на «mon dada».[28] Боюсь лишь, чтоб за эти строки Мне не пришлось потом от вас Услышать резкие упреки, – Как это было уж не раз. Боюсь, – их пробежав глазами, Вы мне не скажете merci, – Ведь я сумею и стихами Слегка монтировать вам си. Но что б меня ни ожидало, – От жаб, гнездящихся в земле, Не страшно Льву обиды жало, – Итак, vorauf!..[29] Allez, allezf![30] Он льстить не станет им в угоду! Не хочет он, чтоб был для них, Как нефли в жаркую погоду, Приятен гордый львиный стих! – Нет, пусть он их язвит насмешкой, Громит их, как небесный гром, Пускай он сделает их пешкой Пред всепобедным королем! Однако, кажется, довольно, – И так слуга покорный ваш, Гонясь за рифмой своевольной, Уж причинил вам амбетаж. Не знаю, как-то вы простите Мне это море ерунды! Я даже покраснел – смотрите: «Пожар, пожар!.. Воды, воды!..»1885
«Меняя каждый миг наряды, как красотка…»*
Меняя каждый миг наряды, <как красотка>, Пуста, бесформенна, как самоварный пар, Нам муза Надсона, нелепая трещотка, Опять преподнесла свой скороспелый дар; Как жалок замысел, как грубо исполненье, Дубовые стихи как бревна тяжелы; Чтоб, выслушав, снести такое песнопенье – Не люди нужны бы, но крепкие волы. Пусть Академия тебя и увенчала, Но я тебе скажу, прославленный певец…1886
Июль*
Кругопев
Июль. Жара. Но местию палимый Не покидал он едкого пера, Казня врагов с враждой неумолимой. Июль… Жара! Был адский зной, но он строчил с утра… Певец, «Зарей» как сикофант гонимый, Он закричать уж был готов «ура», В свой пасквиль вливши яд неуловимый, Но не пришла торжествовать пора; О Аспид, о боец неумолимый, Усни, усни, июльским днем палимый. Июль. Жара!1886
«Да, ты один, о Фаусек…»*
Да, ты один, о Фаусек, Чист и лишен постыдных пятен, И, что так дорого в наш век, Ты в переписке аккуратен.Незавершенные произведения, отрывки и наброски
Светоч*
Мир утопал во мгле глубокой, В цепях метался и стонал, И лишь вдали звездой далекой Отрадный свет во тьме сверкал. Тот свет – надежда искупленья, И жадно ожидал народ, Когда великий вождь спасенья Свой светоч над землей зажжет. И он пришел, Христос-спаситель, Он жил с людьми, он их учил, И что ж – божественный учитель [Людьми слепыми распят был. Мир жаждал…]1878
Шалунья*
Поэма
1
Алым блеском заря разгорается На лазури небес; Звонко песнь соловья разливается, Призадумался лес. Ярко вспыхнула звездочка ясная Высоко над землей И капризно мерцает прекрасная В вышине голубой. На холме, над рекою, играющей Серебристой струей, Барский домик, как гриб вырастающий, Весь окутан листвой. В светлых окнах заря золотистая, Отражаясь, горит, И откуда-то песнь серебристая, Не смолкая, звенит. И внимает ей лес очарованный, Полный летнею мглой, И недвижно стоит заколдованный Над зеркальной рекой.2
Где же скрылась певунья счастливая? Вон, смотрите, в кустах. Чуть головка видна шаловливая В бледно-синих цветах. Улыбается личико нежное, Песня льется звучней; Упадают на плечико снежное Волны русых кудрей. На щеках, как заря, разгорается Блеск румянца живой, В мягких складках с плеча извивается Сарафан голубой. Взгляд яснее лазури, сверкающей В заходящих лучах, И улыбки огонь вызывающий На веселых устах.3
[Песня звонкой волной разливается, Юной силой кипит, Эхом леса вдали повторяется, Над рекою звенит. Чу, замолкла певунья! Нахмурилась; Гаснет пламя очей… Не о доле ль девичьей задумалась, Трудной доле своей? Есть о чем призадуматься, Мать – зарыта землей…]1878
«Вот он: взгляни – безобразный, худой…»*
Вот он: взгляни – безобразный, худой, Платье в лохмотьях на нем, Тихо бредет он пугливой стопой, Робко глядит он кругом…1878
«Куда уйти от размышленья…»*
Куда уйти от размышленья, Куда бежать от дум больных, От слов людского сожаленья, От слез и радостей людских? Мне душен мир… Свободы, света! Я изнемог… Я утомлен! Напрасный крик: ни вам ответа…1879
«Друзья, близка моя могила…»*
Друзья, близка моя могила, Окончен безотрадный путь – И с каждым днем и жизнь и сила Больную покидают грудь. Ударит грозный час разлуки…1879
«Прощай, мелькнувший мир любви и наслаждений…»*
Прощай, мелькнувший мир любви и наслаждений, Исчезнул ты, как сон, навеянный мечтой, И вновь душа полна безжалостных сомнений [И грустный взор горит] непрошеной слезой. Осмеяны судьбой надежды и желанья…1879
«Поэзия! Святое слово…»*
Поэзия! Святое слово – Но где поэзия у нас? Наш Аполлон давно сурово Ушел на гордый свой Парнас. Была пора – святые звуки Нас жгли восторгом и огнем…1879
«К чему мне шум похвал <и> гром рукоплесканий…»*
К чему мне шум похвал <и> гром рукоплесканий, Когда никто из них всем чувством и душой Не пережил со мной былых моих страданий И не измучился житейской пустотой…1879
«Я безумно рыдал, – как дитя я рыдал…»
Я безумно рыдал, – как дитя я рыдал В трудный час неизбежной разлуки, И холодные руки твои целовал, И ломал свои бледные руки… И тебя схоронили… И крест над тобой Покривился, и пышные розы На могиле твоей заглушило травой…1880
«Постой, говорил он, моя дорогая…»*
Постой, говорил он, моя дорогая, Постой, не целуй, не ласкай! Измучился ум мой, в потемках блуждая, И сердце полно через край. Так жить не могу я…1880
«Я верю: ты велик! – Велик не потому…»*
Я верю: ты велик! – Велик не потому, Что благ и вездесущ и создал человека, Что страшен чувству ты и странен ты уму, Что был от века – ты и будешь ты до века; Я в том готов твое величие признать, Что этот мир, с его комедией и драмой, Ты смог из ничего божественно создать…1880
«Случай свел нас и случай опять разведет…»*
Случай свел нас и случай опять разведет. Мы пойдем по различным дорогам: Вы – к отраде и горю семейных забот, Я – к казенной больнице и дрогам. Вновь уж наши пути не сойдутся – ни тут, В этой жизни, с ее мишурою, Ни на небе, где рая блаженный приют Не откроет дверей предо мною. О, я слишком был честен, чтоб верить в того…1880
«Гор больше нет. Открытый кругозор…»*
Гор больше нет. Открытый кругозор В лучах зари торжественно сияет, И только там, за мной, залитый блеском бор С гранитной вышины привет мне посылает. Прощай, Кавказ! Прощай до нового свиданья, Когда на грудь твою я вновь вернусь больной Из мира пошлых дум и пошлого страданья…1880
«Без разрешенья и цензуры…»*
Без разрешенья и цензуры За данью смеха и похвал На скользкий путь литературы Вступает юный наш журнал И вместо сладкозвучной лиры…1880
«Я так долго напрасно молил о любви…»*
Я так долго напрасно молил о любви, Грудь мою так измучили грозы, Что теперь даже самые грезы мои Всё больные какие-то грезы!1880
«Не гонись за высотой призванья…»*
Не гонись за высотой призванья, Не ищи заметного пути – Верь, везде, где только есть страданья, Честный труд немудрено найти.1880
«Живи – говорили мне звезды ночные…»*
Живи – говорили мне звезды ночные, И яркое солнце, и лес, и ручей, Живи – мне шептали цветы полевые…1880
Музе*
Долой с чела венец лавровый, – Сорви и брось его к ногам: Терн обагренный, терн суровый Один идет к твоим чертам. Оставь же лавр мечу…1880
«Я встретил Новый год один… Передо мною…»*
Я встретил Новый год один… Передо мною Не искрился бокал сверкающим вином, Лишь думы прежние, с знакомой мне тоскою, Как старые друзья, без зова, всей семьею Нахлынули ко мне с злорадным торжеством…Январь 1881
«Во мраке жизненном, под жизненной грозою…»*
Во мраке жизненном, под жизненной грозою, Когда, потерянный, я робко замолчал, О милый брат, какой нежданной теплотою, Какой отрадой мне привет твой прозвучал! [Не часто на пути светило мне участье, И не из роз венок ношу я на челе. И тем дороже мне, тем необъятней счастье С душою родственной сойтись в томящей мгле.]1881
«Я вам пишу, хотя тревожные сомненья…»*
Я вам пишу, хотя тревожные сомненья Мешают мне писать… Я вам пишу больной, В горячечном жару больного вдохновенья, В порыве горького, слепого озлобленья, С челом пылающим и трепетной рукой. Я знаю, что ничем не заслужил я права Вам так писать.1881
«Откуда вы, старинные друзья…»*
Откуда вы, старинные друзья, Святые слезы упованья? Как жадно вас ждала душа моя В года сомненья и страданья!1881
«Ты прав: печальны наши звуки…»*
Ты прав: печальны наши звуки, В них стон и вопль, в них желчь и яд, В них диссонансы тяжкой муки И грозы тайные звучат. Они не увлекут с собою Из мира мрака и цепей…1881
«И музе молвил я: приди и выручай…»*
И музе молвил я: приди и выручай. Приди, чтоб что-нибудь осталось бы мне в мире, Чтоб хоть в тебе, мой друг, и в позабытой лире Я б отыскал на миг обетованный край.1881
«Нет-нет – и охватит весенней истомой…»*
Нет-нет – и охватит весенней истомой, И голос какой-то, чужой, но знакомый, К любви и блаженству зовет И шепчет: «Отдайся на зов наслажденья, Поверь мне… Прочь злоба, прочь злые сомненья, Прочь горя тяжелого гнет…»1881
Весенняя зорька*
Над прудом и садом, рощей и полями Знойно разметалась ночка голубая, И во мраке ночи бледными лучами Тихо догорает зорька золотая. Приглядись: в ней, кроткой, тихой и отрадной, Узенькой полоске в море небосклона, – Красота и прелесть ночи непроглядной, Тайна мягких красок и прозрачность тона. С нею мрак не страшен – он не мрак могилы Без надежд и мысли, радости и муки, – С ней яснее видны жизненные силы, С ней яснее слышны жизненные звуки. Что была б без зорьки эта даль немая, Этот пруд, неровно тронутый сияньем?..1881
«Чернила выцвели, и пожелтел листок…»*
Чернила выцвели, и пожелтел листок, Но юн, как в старину, и будет юн всегда Смысл этих пламенных, наивно-нежных строк, Вдруг мне напомнивших минувшие года: «Я вас ждала вчера, мой мальчик дорогой, Я ни на миг вчера окна не покидала, Пока не поняла с бессильною тоской, Что тщетно верила и тщетно ожидала. Вы не пришли… О, как была на вас я зла, Как плакала… всю ночь уснуть я не могла, И чуть затихло всё – в слезах, полуодета, Украдкою от всех я в садик наш сошла И думала о вас до самого рассвета. Я поняла теперь, что тут, как и всегда, Вы были правы… я себя держала с вами Как девочка….»1881
«Не разлука горька мне, мой друг дорогой…»*
Не разлука горька мне, мой друг дорогой, – Всё равно – не уйти от разлуки, Всё равно – не на счастье сошлись мы с тобой, Не на радость друг другу под тяжкой грозой Протянули мы братские руки. Голод, холод, нужда, дни забот и труда…1881
Счастье*
Весенняя сказка
<1>
В ночь, когда вдохновленный весной соловей Сладко пел в ароматном саду И отливы серебряных лунных лучей Колыхались на сонном пруду, Когда ивы склоняли к горячей земле Молодые объятья свои И цветы, распускаясь, томились во мгле Безответною жаждой любви, В ночь, воспетую в сказках, в ночь пламенных грез, Беспричинных восторгов и радостных слез, В неприютной каморке моей Вдруг блеснуло сиянье – и встал предо мной Чудный призрак, сияя небесной красой, В серебристом венце из лучей… «Ты звал счастье, – сказал он, – оно пред тобой…»<2>
Ты счастье звал – оно перед тобою. На страстный зов души твоей больной Явилась я, сияя красотою, Чтоб стать твоей подругой и рабой. Проси всего… Моей могучей власти Пределов нет… Тебе я принесла И золото, и упоенье страсти, И гордый лавр для гордого чела. Я вся твоя…1881
«Сердце сжимается: столько страдания…»*
Сердце сжимается: столько страдания, Столько свинцового горя кругом!..1881
«Словно в склепе лежу я под тяжкой плитою…»*
Словно в склепе лежу я под тяжкой плитою, Словно я, схороненный, очнулся в земле И кричу, задыхаясь бессильной тоскою, И зову безнадежно во мгле. Там, над этой плитою – весна золотая, Ясный солнечный день и душистая тень, Там, узор на чугун и на мрамор бросая, Колыхается, дышит сирень. Там и краски, и звуки, и жизнь, и сиянье…1882
«Что было до тебя – то не было, родная…»*
Что было до тебя – то не было, родная, То мрак какой-то был, холодный и глухой; Ты руку мне дала, к сознанью пробуждая, И я прозрел тогда, – и я пошел с тобой. Почти дитя еще, с лазурными очами, С звенящим голосом, ты говорила мне О правде и любви…1882
«Святое, чистое, прекрасное страданье…»*
Святое, чистое, прекрасное страданье, Стон, с кровью вырванный из искренней души, Мне больно за тебя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . торгаши…1882
«Моя любовь к тебе объятий не ждала…»*
Моя любовь к тебе объятий не ждала И сладострастных грез во мне не подымала. Как ясный день весны, прекрасна и светла, Она о небе мне собой напоминала. Не блеск очей твоих в тебе я полюбил, А мысль, в очах твоих горевшую спокойно…1882
«Порой мне кажется, что жизнь не начиналась…»*
Порой мне кажется, что жизнь не начиналась, Что пережитое – какой-то смутный сон, Что впереди еще всё светлое осталось…1882
«Сердце мое еще просит забвенья…»*
Сердце мое еще просит забвенья – Наших свиданий и наших речей. Хочется думы мои и сомненья – Всё ей поведать, голубке моей! Хочется чувствовать ручки родные, Руки сестры на горячем челе, Верить, как верилось в годы былые…1882
«Ты помнишь, воздух гор дышал отравой зноя…»*
Ты помнишь, воздух гор дышал отравой зноя И были рады мы, когда ночная тень Спокойной ласкою забвенья и покоя Сменила солнечный и раскаленный день. И окна в комнате мы настежь распахнули, И книгу мертвую отбросили мы прочь, И резкий блеск свечей у зеркала задули, Чтоб в наш кружок впустить просящуюся ночь. А наш кружок был ты, да я, да мать-старушка, Давно дремавшая над начатым чулком…1882
«Нет, не верится мне, чтоб и тут ты лгала…»*
Нет, не верится мне, чтоб и тут ты лгала, Жизнь моя, жизнь борьбы и страданий. Слишком много ты грез у меня отняла И разбила святых упований. Я стою как в пустыне – пески и пески, Знойный полдень горит над песками, И не видно вокруг благодатной реки Или пальм с их немыми ветвями.1882
«Когда мою слезу улыбка их встречает…»*
Когда мою слезу улыбка их встречает, Когда на страстный зов души моей больной Пиров их пьяный шум мне дерзко отвечает, – Я прохожу тогда безмолвно стороной. На них ли тратить мне огонь негодованья? Они слепцы, – их жизнь ошибка с первых лет…1882
«Не на время любить, – а безумно любить…»*
Не на время любить, – а безумно любить, Беззаветно любить, до могилы; За любовь – свою юность и жизнь погубить, Все надежды, все грезы, все силы – Вот блаженство…1882
«В минуты тяжкого душевного страданья…»*
В минуты тяжкого душевного страданья, Когда, уставши звать, бороться и любить, Я горько сознаю, что тщетны все старанья, Что жизнь – позор и зло и ей иной не быть, Мне говорят: беги отчаянья глухого…1882
«Когда я говорю о смерти – а о ней…»*
Когда я говорю о смерти – а о ней Молчать я не могу: она уж надо мною, – Не нарушай покой больной души моей, Не ободряй меня надеждою пустою.1882
«Не в пошлом шуме дня и в жалком опьяненьи…»*
Не в пошлом шуме дня и в жалком опьяненьи Обычной суеты и тягостных забот, – Наедине с собой, в минуты отрезвленья, В минуты чистых снов и слез и вдохновенья Тебя, о милая, душа моя зовет.1882
«Весенний тихий день: по небу пробегают…»*
Весенний тихий день: по небу пробегают Ряды разорванных, туманных облаков, И то лучи порой в просветы их сияют, То стелет тень опять бесцветный свой покров. Челнок мой чуть скользит над тихою струею, И с близких берегов вослед за челноком Несется птичий гам, и дышит лес весною, И стрекоза кружит над темной глубиною, И трудится пчела над <…> цветком…1882
«Нет больше сил! Под тень, куда-нибудь под тень!..»*
Нет больше сил! Под тень, куда-нибудь под тень! Вот над дорогою – нависшая олива. Присядем. Чудный день! Горячий, страстный день! А что за даль вокруг, и что за вид с обрыва!1882
«В тот полный счастья миг, когда передо мной…»*
В тот полный счастья миг, когда передо мной Ты в первый раз, о мысль, из сумрака предстала И руку мне дала и позвала с собой К сиянью истины и к блеску идеала, – Как чудно ты была прекрасна!..1882
Легенда о елке*
Весь вечер нарядная елка сияла Десятками ярких огней, Весь вечер, шумя и смеясь, ликовала Толпа беззаботных детей. И дети устали… потушены свечи, – Но жарче камин раскален; [Загадки и хохот] веселые речи Со всех раздаются сторон. И дядя тут тоже: над всеми смеется И всех до упаду смешит; Откуда в нем только веселье берется, – Серьезен и строг он на вид: Очки, борода серебристо-седая, В глубоких морщинах чело, – И только глаза его, словно лаская, Горят добродушно-светло. «Постойте, – сказал он, и стихло в гостиной… – Скажите, кто знает из вас, – Откуда ведется обычай старинный Рождественских елок у нас? Никто?.. Так сидите же смирно и чинно, – Я сам расскажу вам сейчас… Есть страны, где люди от века не знают Ни вьюг, ни сыпучих снегов; Там только нетающим снегом сверкают Вершины гранитных хребтов… Цветы там душистее, звезды – крупнее, Светлей и нарядней весна, И ярче там перья у птиц, и теплее Там дышит морская волна… В такой-то стране ароматною ночью, При шепоте лавров и роз, Свершилось желанное чудо воочью: Родился младенец Христос; Родился в убогой пещере, – чтоб знали…»1882
«Я сегодня в кого-то как мальчик влюблен…»*
Я сегодня в кого-то как мальчик влюблен, Но в кого – разгадать не сумею: В эту даль, или в звездный ночной небосклон, Или в полную мрака аллею. Знаю только, что жаль мне покинуть окно И что здесь, на груди у природы, Так свободно дышать мне теперь, как давно Не дышал я в последние годы. Но и в этом покое есть тень… Так порой С потемневшей от зноя лазури Уж томительно веет сквозь день золотой Отдаленным предчувствием бури. И я знаю, что завтра…1882
«Нет, вам в лице моем не прочитать страданья…»*
Нет, вам в лице моем не прочитать страданья. Я скрыл в груди его, чтоб кто-нибудь не смел Опошлить грубыми словами состраданья Мой тяжкий, горестный, но мой святой удел.1882
«Мне снился страшный сон, – мне снилось, что над миром…»*
Мне снился страшный сон, – мне снилось, что над миром Я поднят, как листок, размахом мощных крыл И мчусь всё вверх и вверх, объят ночным эфиром И озарен огнем бесчисленных светил. Внизу лежит земля, закутавшись в туманы, И между мной и ей, сливаясь и клубясь, Проходят облаков седые караваны, То утонув во мгле, то вдруг осеребрясь. Порой, сквозь их просвет, мне видятся вершины Крутых, скалистых гор и блеск их ледников, И голубых морей зеркальные равнины, И мертвый мрак пустынь, и пятна городов. Мне слышен слитный гул, стоящий над землею, Стихающий внизу, как отдаленный [гром,] И я всё мчусь и мчусь с ужасной быстротою, И мчусь всё вверх и вверх в безмолвии ночном; И вот уж нет Земли…1882
«Неужели всю жизнь суждено мне прожить…»*
Неужели всю жизнь суждено мне прожить, Отдаваясь другим без завета, Без конца, всем безумством любви их любить И не встретить ответа?..1882
«Среди убогих стен чужого городка…»*
Среди убогих стен чужого городка, Закинут в нем случайною судьбою, Там, где в излучину согнулася река, Набрел на садик я, повисший над водою. Он взоров не ласкал ни стройностью аллей, Ни рядом пышных клумб, пестреющих цветами, Но много светлого из дали прошлых дней Напомнил он душе тоскующей моей И слуху нашептал дрожащими листами. Как дорогим друзьям, я был глубоко рад Дорожкам, в зелени сирени утопавшим, И радостно вдыхал я сладкий аромат, Ступая по цветам опавшим; И радостно глядел, как пестрый мотылек Купался в солнечном сияньи И как, гудя, пчела спускалась на цветок… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 мая 1883
«По душной улице столицы раскаленной…»*
По душной улице столицы раскаленной В пыли, клубящейся над людною толпой, Движеньем, грохотом я шумом окруженный, Мелькает мотылек над знойной мостовой. Как ты попал сюда, сын леса и свободы? К чему ты променял душистые цветы, Густых берез и лип развесистые своды И звонкого ручья серебряные воды На пыль и тесноту столичной суеты? Лети скорее прочь! Тебя не приковали Нужда и тяжкий труд к гранитам городским.Весна 1883
«Задыхаюсь, – томит, убивает…»*
Задыхаюсь, – томит, убивает Этот воздух, миазмами полный. Где та жизнь, что свободно вздымает К небесам опьяненные волны? Где святые борцы без упрека…Весна 1883
«Это ли мощные песни свободы…»*
Это ли мощные песни свободы, Это ль напутствие вышедшим в бой? Стыдно рыдать в наши трудные годы, В тяжкие годы работы святой. Тысячи жертв за любовь погибают…Весна 1883
«Ах, эти детские лазоревые глазки!..»*
Ах, эти детские лазоревые глазки!.. Как много власти в них таится надо мной, Как много дышит в них доверия и ласки Ко мне, усталому под жизненной грозой!.. Стряхнув угар и хмель дневного треволненья, От скучных встреч с людьми, от лжи и клеветы Я часто в них ищу отрадного забвенья И часто в них молюсь святыне красоты: Пред ней бессилен стих и бледны описанья, Не от земли она, – в ней сердцу говорит Румяных райских зорь спокойное мерцанье, В ней чистая душа сияет и сквозит… И больно станет мне, когда умчусь порою Я в даль грядущего и силою мечты В ребенке, весело лепечущем со мною, Увижу девушку в расцвете красоты. Приду ли я тогда искать успокоенья В лазури этих глаз, светящих мне теперь? Найду ли в них привет, любовь и примирение За годы жгучих дум и тягостных потерь? Не отвернусь ли сам в немом негодованья Я от прекрасных черт? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1883
«Как совы таятся от света и шума…»*
Как совы таятся от света и шума Меж темных расселин упавшей стены, Так в сердце моем безотрадная дума Таясь ожидает ночной тишины. Напрасно, усталый, я сон призываю, Напрасно неверным мерцаньем свечи Я хмурый мой угол в тоске озаряю, – Насмешливый голос не молкнет в ночи. [«И вот, говорит он, сбылись твои грезы, Ты признан певцом… Боль страданий твоих, Твои упованья, надежды и слезы Покорно ложатся в свободный твой стих. Из сердца толпы на крылах вдохновенья Ты поднят высоко над этой толпой…»]1883
«Ночь сегодня была бесконечно длинна…»*
Ночь сегодня была бесконечно длинна, И всю ночь на страдальческом ложе своем Ты в жару и бреду прометалась без сна, С искаженным от муки, пылавшим челом. Спать не мог я… Я сел у постели твоей И рыдал, и кому-то молитвы твердил, И кому-то в безумной печали моей, Как ребенок, бессмысленно-детски грозил… Тяжело погибать, но видать, как недуг Беспощадно уносит любимых тобой… Но видать, как усталый, измученный друг Уж готов уступить, обессилен борьбой!.. Тщетно ум свой пытать – и не верить уму, И, не веря, молитвы шептать небесам, И бояться дать волю безумным слезам, – Нет, уж лучше погибнуть стократ самому!.. Но под утро, устав, ты заснула… Рассвет Смотрит в окна, на утренний воздух маня… У киота лампады мерцающий свет Тонет в ярком сияньи встающего дня. Сон твой чуток, – и чутко слежу я за ним… Я сижу без движенья, бояся вздохнуть, Чтоб тревожным, тяжелым дыханьем моим Твой покой, твой минутный покой не спугнуть… Милый, кроткий, страдальческий лик… Шелк кудрей Разметался по белой подушке…1883
«Сегодня ночь была душна… Зловещий гром…»*
Сегодня ночь была душна… Зловещий гром Сопровождал игру мерцающей зарницы, А к утру стаи туч ударили дождем На мрамор и гранит томящейся столицы. Нежданный гнев небес был краток, но могуч. Вихрь мчался над землей, как грозный ангел мщенья, Трубя в победный рог, и солнца первый луч Повсюду озарил картины разрушенья: В садах поломаны деревья и цветы, Дерн прихотливых клумб помяло и размыло; На крышах погнуты железные листы, Тут сорван в прах карниз, там статую разбило…1853
«Еще не исчерпана сила в груди…»*
Еще не исчерпана сила в груди, Еще не иссякнули звуки, И вещее сердце мне шепчет: иди, Иди на страданья и муки. Но чаще и чаще в безмолвьи ночей Румяного ясного мая Мне слышится: полно, усни от скорбей, Беги от бесстыдных врагов и друзей, В объятьях любви отдыхая. Ты вся в моем сердце, мой друг дорогой…1883
«То порыв безнадежной тоски, то опять…»*
То порыв безнадежной тоски, то опять, Встрепенувшись, вдруг я оживаю, Жадно дела ищу, рвусь любить и страдать, Беззаветно и слепо прощаю… То старик, искушенный в житейских…1883
«Нет, в этот раз недуг мне не солжет…»*
Нет, в этот раз недуг мне не солжет, Я чувствую, как отлетают силы; Смерть надо мной, она стоит и ждет… И я – на рубеже могилы… Разбита жизнь, обмануты мечты, Последний свет бессильно угасает…1883
«Им казалось, весь мир изменился с тех пор…»*
Им казалось, весь мир изменился с тех пор, Как друг друга они полюбили; Всю природу в сверкающий чудный убор В эти дни их мечты нарядили. Темный сад их свиданья, любя, сторожил, Соловей помогал их признаньям, Бледный месяц на лица их кротко светил Серебристым и нежным сияньем…1883
«Мертва была земля: торжественно сияли…»*
Мертва была земля: торжественно сияли Над нею небеса бездушной красотой… В урочный срок цветы цвели и отцветали, В урочный час звезда всходила за звездой. Дышал морской простор, в снегах дремали горы, Вихрь колыхал пески безжизненных степей, И серебристых рек извивы и узоры Струились по коврам пестреющих полей. И всё, как в наши дни, цвело и улыбалось; Но никогда еще к сверкающим волнам, Врезаясь в их кристалл, весло не прикасалось И плуг не проходил по девственным полям!..1883
«Есть скорбь прекрасная… Она, как пламя, жжет…»*
Есть скорбь прекрасная… Она, как пламя, жжет И, как любовница, в объятиях сжимает, И сколько гордых дум в душе тогда встает, Как горячо она, как страстно презирает!..1883
«Боже мой, боже, куда ж это скрылось?..»*
Боже мой, боже, куда ж это скрылось? Только что смолк мой мучительный стон, Только что сердце на миг позабылось, – Всё разлетелось, как призрак, как сон!..1883
«От пошлой суеты земного бытия…»*
От пошлой суеты земного бытия Я душу оградил сомненьем и страданьем, И, как в былые дни, не вспыхнет грудь моя Ни гневом праведным, ни пламенным желаньем. Мне всё равно теперь, как ни шути судьба И чем мне ни грози житейская дорога, – Я молча всё приму с покорностью раба И с дерзостным величьем полубога. Но не успел еще я сердце отучить От тайных грез, друзей [ночей моих бессонных…]1883
«Неопытной душой о подвигах тоскуя…»*
Неопытной душой о подвигах тоскуя, Я долго звонких слов от дел не отличал, И каждый фарисей, крикливо негодуя, Вслед за собой меня послушно увлекал; Пророки чудились мне всюду… кто сурово Громил вражду и ложь, насилье и порок…1883
«Не лги перед собой, не тешь себя мечтаньем…»*
Не лги перед собой, не тешь себя мечтаньем, Что много нас, борцов за истину и свет, Что чисты сердцем мы и крепки упованьем…1883
«Опять перед лицом родных моих полей…»*
Опять перед лицом родных моих полей, Теряясь в их дали и свежесть их вдыхая, Без сна провел я ночь, как в юности моей, Любя и веруя, надеясь и прощая. Я всё любил: любил беззвездный блеск небес, И полосу заря, не гасшую до света, И яблони в цвету, и озеро, и лес, И предрассветный шум, и молнию рассвета. Я всем прощал: прощал озлобленным врагам, Прощал судьбе ее обиды и обманы…1883
«Из сказок матери, вечернею порою…»*
Из сказок матери, вечернею порою Баюкавших мой слух мелодией своей, Из строгих слов молитв и книг, прочтенных мною, Отвсюду слышал я: «Люби, люби людей!» И стал я всех любить… На братский зов печали Спешил на помощь я и руку подавал, И если камнями глупцы в меня бросали, Я им прощеньем отвечал. Так шел за годом год… Безумные, больные, Счастливые года! Как много жгучих ран…1883
«Я раньше вышел в путь, чем сверстники мои…»*
Я раньше вышел в путь, чем сверстники мои; Я на заре моей разбужен был грозою, И с песнью благостной надежды и любви Пошел я далеко вперед перед толпою. И назвала меня толпа своим вождем…1883
«Лги, – людям ложь нужна… Рисуйся перед ними…»*
Лги, – людям ложь нужна… Рисуйся перед ними, Крикливо негодуй, сурово обличай, Громи людской позор упреками своими И доблестью своей нахально щеголяй. Пусть отойдет любовь от твоего порога, Возьми оружьем гнев, карая и губя, И робкая толпа в тебе увидит бога, И робкая толпа превознесет тебя. Но если ты правдив, но если, обличая Других, ты и себя не хочешь пощадить…1883
«Не налагай оков на вдохновенье…»*
Не налагай оков на вдохновенье, Свободный стих не сдерживай в устах; Что скорбь родит, что будит восхищенье – Пусть всё звенит на искренних струнах. Нет старых песен…1883
«Не раз во мгле томительных ночей…»*
Не раз во мгле томительных ночей Я спрашивал себя, люблю ли я людей, Люблю, иль только лгу пред ними и собою, Но слезы чистые страдающей души…1883
«В окно залетел мотылек и мелькает…»*
В окно залетел мотылек и мелькает, Пугливо и тупо кружась над огнем… Незримо, неслышно нас ночь обступает, И вновь мы с тобою одни и вдвоем. Мне грустно сегодня, моя дорогая, О, дай хоть с тобой мне свободно вздохнуть, Дай жарким мятежным челом, отдыхая, К тебе на холодную руку прильнуть.1883
«Она была славная девушка, – смело…»*
Она была славная девушка, – смело Ты мог бы ей братскую руку подать, Чтоб вместе бороться за общее дело, И вместе трудиться, и вместе страдать… Она развивалась спокойно на воле, В затишье привольных полей и лесов, – А свежий цветок, распустившийся в поле, Душистее пышных, тепличных цветов.1883
«В ежедневных встречах с пестрою толпою…»*
В ежедневных встречах с пестрою толпою Отрезвленный жизнью от недавних снов, Я уж не ищу их, пламенных душою, Закаленных духом, истины бойцов…1883
«Иди, зовут они, – для братьев, для отчизны…»*
Иди, зовут они, – для братьев, для отчизны Иди на трудный бой с отвагою в груди. В тебя ли нам бросать наш гнев и укоризны, Когда всегда ты был бесстрашно впереди? Что сделалось с тобой – когда-то так безумны…1883
«Прекрасный, как пророк в пылу негодованья…»*
Прекрасный, как пророк в пылу негодованья, Не зная радостей и не страшась цепей, Учил он забывать про личные страданья И жить для родины, для мира, для людей. И шла за ним толпа, восторженно внимая Самоотверженным и пламенным речам, И падала пред ним блудница молодая, И мытарь обращал моленья к небесам. Один мудрец сурово-непреклонный…1883
«Увлеки ты меня, отведи меня прочь…»*
Увлеки ты меня, отведи меня прочь От моих безотрадных сомнений, Озари моих дум непроглядную ночь Райским блеском твоих сновидений! Дай мне верить так свято, как веруешь ты…1883
«В старом домике соседки…»*
В старом домике соседки И уютно и тепло. Мирно дремлет чижик в клетке, Скрыв головку под крыло. Печка весело пылает; На столе, горя как жар, Звонко песню распевает Запотевший самовар. Светит лампа.1883
«Мне места не было за праздничным столом…»*
Мне места не было за праздничным столом, Но, посылая мне невзгоды и лишенья, Жизнь мне дала мечты в безмолвии ночном, И звуки сладкие, и счастье вдохновенья…1883
«Не слетайте ко мне, лучезарные сны…»*
Не слетайте ко мне, лучезарные сны, Не будите в груди вдохновенья, Дайте спать мне под стоны родимой страны, Спать безжизненным сном утомленья! Что спою я отчизне? О чем ей спою?1883
«Сойтись лицом к лицу с врагом в открытом поле…»*
Сойтись лицом к лицу с врагом в открытом поле И пасть со славою и именем бойца, – Нет выше на земле, желанней в мире доли, И нет венца честней тернового венца! Но если жизнь душна, как склеп, но если биться Ты должен с пошлостью людскою и с собой…1883
«Толпа вокруг меня и дышит и живет…»*
Толпа вокруг меня и дышит и живет, Во что-то верует, чего-то пылко ждет, Чему-то отдает желанья и стремленья; Порой и я иду куда-то за толпой, Волнуюсь, мучаюсь, бросаюсь дерзко в бой.1883
«Когда порой толпа совлечена с дороги…»*
Когда порой толпа совлечена с дороги Миражем детских грез или игрой страстей, Я в сердце не таю смятенья и тревоги, Я верю в соль земли – в пророков и вождей: Я знаю – их умы не спят! Уйдя сурово От общей суеты…1883
«Бери меня таким, каков я есть…»*
Бери меня таким, каков я есть… Я знаю, Что за любовь твою плачу я как скупой, Что я безжалостно и тяжко истерзаю Тебя сомненьями и ревностью слепой, Что буду, как шпион, я изучать тревожно Твой каждый взгляд…1883
«Сегодня долго я огня не зажигал…»*
Сегодня долго я огня не зажигал; Склонившись на руку усталой головою, Я бессознательно и тупо наблюдал, Как медленно закат бледнел и угасал, Сменяя сумерки глубокой темнотою. . . . . . . . . . . . . . . . Устав от суеты промчавшегося дня И снова возвратясь в мой угол одинокий, – Я сбросил маску прочь, я стал самим собой, И скорбь, весь день во мне дремавшая змеей, Проснулась с силою и властной и жестокой. Глухой наш городок спокойно отдыхал; В морозном воздухе гудел и замирал Соборный колокол, ко всенощной сзывая… Голубоватый свет поднявшейся луны Бил в окна, и полет вечерней тишины…1883
«Не умирай, – с тоской уста ее шептали…»*
«Не умирай, – с тоской уста ее шептали, – О ненаглядный мой! Хороший мой, живи, Ведь мы так молоды, так мало нам сияли Лучи отзывчивой и радостной любви. Суров и грозен мрак зияющей могилы…»1883
«Ты мне напомнила про молодость мою…»*
Ты мне напомнила про молодость мою, Ты ласками любви мне сердце оживила, И, робко мне сказав стыдливое «люблю», «Живи и радуйся» ты им мне говорила.1883
«Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи…»*
<1>
Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи, Отбою нет от дум, и скорби, и тревог… О, в этот миг я весь живу в одном желаньи, Я весь – безумный вопль: «Приди, приди, пророк!» Приди, – я жду тебя… Чему б ты ни учил, Я, как дитя, пойду послушно за тобою! Один искать пути я выбился из сил, И жизнь томит меня своею пустотою. О, мне не истина в речах твоих нужна – Огонь мне нужен в них, горячка исступленья, Призыв фанатика, безумная волна Больного, дерзкого, слепого вдохновенья… Прислушайся вокруг, чья проповедь звучит…<2>
Приди, пророк!.. Душа изныла ожиданьем, Нет больше сил влачить бессмысленные дни. Повей в могильный склеп живительным дыханьем, Могильный душный мрак сияньем разгони. Учи чему-нибудь, – веди меня к паденью…<3>
Я жду тебя, пророк, всем сердцем истомленным! Я жду тебя, – явись и скорбь мою развей! Явись в безумии, со взором исступленным, С грозой горячечных и пламенных речей. Чему б ты ни учил, куда б ни звал с собою, Мне всё равно, пророк . . . . . . . . Больной душе моей, измученной тоскою, Ей нужен вихрь грозы, волнующий до дна.<4>
Пора, явись, пророк! Всей силою печали, Всей силою любви взываю я к тебе! Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали, Как мы беспомощны в мучительной борьбе! Теперь – иль никогда!.. Сознанье умирает, Стыд гаснет, совесть спит. Ни проблеска кругом. Одно ничтожество свой голос возвышает…1883–1885
«Жить, полной жизнью жить!..»*
Жить, полной жизнью жить!.. Пусть завтра оборвется Последняя струна в груди моей больной, Но день сегодня мне так радостно смеется, Так чудно дышит сад и негой и весной!.. Где ты? Скорей ко мне на грудь, о дорогая, О милая моя!1884
«Я не знаю, за что ты меня полюбила…»*
Я не знаю, за что ты меня полюбила: За страданье – но кто же вокруг не страдал? Только пошлых и глупых невзгода щадила, Только мертвый не видел, не ждал, не желал. Правда, я был с тобою не то, что с другими…1884
«Он спал, разметавшись в своей колыбели…»*
Он спал, разметавшись в своей колыбели, И тихо две тени к нему подошли, И долго стояли, и долго глядели В раздумье на нового гостя земли. И взоры одной просияли любовью, И, вся озарившись небесным огнем, Она наклонилась к его изголовью И тихо его осенила крылом…1884
Дурнушка («Что сталось с голубкой моей дорогой…»)*
Что сталось с голубкой моей дорогой, С веселою птичкой моей? Как жемчуг, по щечкам слеза за слезой Бежит из поникших очей; Вся книга закапана в горьких слезах, Конца им, непрошеным, нет. Не стыдно ли плакать, как дети впотьмах, Невестой, в пятнадцать-то лет! Кто, дерзкий, родную мою оскорбил?..1884
«Я видел сон: мне снилась ночь глухая…»*
Я видел сон: мне снилась ночь глухая, Безлюдный край и дикая скала… Со всех сторон прильнула к ней немая, Как океан разлившаяся мгла. Я был один на сумрачной вершине, И вдруг внизу, глубоко подо мной, Какой-то гул пронесся по долине, Как стон грозы, как волн морских прибой. Он рос и креп, нестройный и могучий, И сквозь хаос несчетных голосов Я различал то арфы звон певучий, То стук мечей, то звяканье оков…1884
«Что я скажу тебе, мой бедный, бедный друг?..»*
Что я скажу тебе, мой бедный, бедный друг? Какой ответ я дам на речь твою больную? Он и меня грызет, тяжелый твой недуг, И я не верю в день, и я о нем тоскую! О, если б вновь вернуть минувшие года! Сильны и молоды, как пылко мы любили!..1884
«Мне приснилось, что ночью, истерзан тоской…»*
Мне приснилось, что ночью, истерзан тоской, Я стою на отвесе скалы, И глубокая бездна кишит подо мной Черным морем безжизненной мглы. Только шаг – и с судьбою я кончу расчет… Утомленную грудь не страшит, Что ее, как хрустальный сосуд, разобьет Об зубчатый и мшистый гранит; Не страшит, что истерзанный труп мой с зарей Зорким оком завидит орел, И завидит, и спустится легкой стрелой Из гнезда на проснувшийся дол. И шепчу я…1884
«Долго ли, жизнь, суждено мне по свету скитаться?..»*
Долго ли, жизнь, суждено мне по свету скитаться? Где же та пристань, где мог бы и я отдохнуть? Где же тот взгляд, на который я б мог любоваться? Где же та грудь, на которую б мог я прильнуть! Вечно один…1884
«Тяжелых жертв я не считал…»*
Тяжелых жертв я не считал, Кипучих сил я не жалел И всё, что только я имел, Всё в песне братьям отдавал. Искусство было для меня…1884
«Проснись, проснись, певец…»*
«Проснись, проснись, певец, – мне слышится кругом, – Есть дни, когда молчать нечестно и позорно, Когда один холоп безмолвствует покорно, Склоненный в прах под тягостным ярмом!» И слыша этот зов, и слыша этот стон, Стоустый, общий стон, стоящий над отчизной, Хочу развеять я гнетущий душу сон И грянуть над врагом правдивой укоризной. Хочу и не могу… Когда под мирный кров Семьи ворвется смерть нежданною грозою…1884
«В узком овраге прохлада и тень…»*
В узком овраге прохлада и тень, Звонко по камням струится ручей, Чуть пробивается блестками день Сквозь кружевные покровы ветвей. Вьются стрекозы над свежей водой, И в полумраке, царящем кругом, Пахнет какой-то душистой травой…1884
«Как неприглядна ты, родная сторона…»*
Как неприглядна ты, родная сторона, В дни хмурой осени! С утра, не умолкая, Стучит холодный дождь о переплет окна И глухо ропщет сад, в тумане утопая.1884
«Прошлого времени тени туманные…»*
Прошлого времени тени туманные, Светлые слезы о лучшем былом, О, для чего вы проснулись, нежданные, В скорбном и стонущем сердце моем? Прочь! Не дразните своим обаянием Мертвую душу, уставшую жить…1884
«Прозрачна и ясна осенняя заря…»*
Прозрачна и ясна осенняя заря; Как свечи, теплятся кресты монастыря Под заходящими багровыми лучами; И ночь, в слезах росы и трепете луны, С дождем падучих звезд с лазурной вышины Идет, повитая сияньем и тенями…1884
«Вечерело… Солнце в блеске лучезарном…»*
Вечерело… Солнце в блеске лучезарном Медленно садилось за зубцами леса; С отблеском заката трепетно-янтарным Уж боролась ночи хмурая завеса. Набегали тучи. Глухо рокотало Озеро, волнуя вспененные воды, И у скал прибрежных тяжело вздыхало, Словно чуя близость гневной непогоды!..1884
«Лунным блеском озаренная…»*
Лунным блеском озаренная, Синих вод равнина сонная Далеко ушла в туман… Дремлет, дышит, колыхается, И блестит, и разгорается Неоглядный океан…1884
«Эти думы не новы; когда-то они…»*
Эти думы не новы; когда-то они Только лучших земли посещали, В наши ж черные дни, в безотрадные дни Чье раздумье они не смущали? Это – вечная скорбь человека о том, Что не видит из мглы он исхода, Что не знает, к чему он живет, что как гром…1884
«Весенние ночи!.. В минувшие годы…»*
Весенние ночи!.. В минувшие годы С какой вдохновенной и сладкой тоской На гимн возрожденья ожившей природы Я весь отзывался, всей чуткой душой!.. Весенние ночи с их сумраком белым, С волнистым туманом, с дыханьем цветов, С их девственной грустью, с их зовом несмелым, С безбрежною далью полей и лугов…1884
«Ни к ранней гибели, ни к ужасу крушений…»*
Ни к ранней гибели, ни к ужасу крушений Тебя не приведет спокойный твой удел, Ты огражден от них ничтожеством стремлений, Бессилием души и мелочностью дел. Ты сын последних дней… Едва не с колыбели Ты уж впитал в себя расчетливость купца, И в жизни для тебя желанней нету цели, Как счастье сытого, здорового самца. С оглядкой любишь ты и молча ненавидишь…1884
«Ах, не много молю у судьбы я, мой друг…»*
Ах, не много молю у судьбы я, мой друг, Я устал увлекаться мечтами: Было б только пред кем свой сердечный недуг Облегчить на мгновенье слезами! А уж как бы любил я, как свято б любил, Без раздумья любил, без завета…1884
«Не думай, – шепчет лес зелеными ветвями…»*
– Не думай, – шепчет лес зелеными ветвями. – Не думай, – серебрясь, лепечет мне ручей. – Пусть даль тебе грозит нерадостными днями, Лови летучий миг забвения скорбей! Взгляни, как хорошо! Сбегая по обрыву, Горят под блеском дня душистые кусты…1884
«Нет, я не понесу в чертоги вдохновенья…»
Нет, я не понесу в чертоги вдохновенья, Не стану песен петь за ласку богачей…1884
«Нет, не потонешь ты средь мертвого забвенья…»*
Нет, не потонешь ты средь мертвого забвенья, Ночь, напоенная дыханием цветов, Ночь, даровавшая мне счастье вдохновенья И радость тихих грез и тени светлых снов.1884
«Робко притаившись где-нибудь с игрушкой…»*
Робко притаившись где-нибудь с игрушкой, Или в сад забившись с книжкою в руках, Ты растешь неловкой, смуглою дурнушкой, Дикой, словно зайчик, дома – как в гостях. Дом ваш – целый замок: пышные покои, По стенам портреты дедовских времен, Знатные бояре, громкие герои, Вереница славных княжеских имен. Что ни шаг – повсюду барские затеи: Темный парк, фонтаны, тихие пруды… Дышат и растут в стенах оранжереи Редкие цветы и пышные плоды. Анфилады комнат устланы коврами, Окна в пышных складках шелковых гардин. В длинной галерее тянутся рядами Пыльные полотна выцветших картин. Отовсюду веют старые преданья Шумной, барской жизни миновавших дней, Отовсюду слышны длинные сказанья Праздничных собраний, шумных ассамблей…1884
«Есть бездна мрачная, та бездна – отрицанье…»*
Есть бездна мрачная, та бездна – отрицанье; Не опускай пред ней испуганных очей И с твердостью спустись со светочем познанья В холодный, мертвый мрак, блуждающий по ней Ты много ужасов увидишь пред собою И много светлых грез навеки разобьешь, И, может быть, не раз, поникнув головою, Ты миг рождения сурово проклянешь! Но не робей, – иди до дна, не уставая, Забыв, что над тобой, нарядна и ясна, Царит в цветах весна, я жизнь шумит, играя, И движется толпа, и шепчется волна… И вот уж ты на дне… Как грустны, как унылы Отвесы черных скал, стоящие кругом, Как мрак вокруг глубок – свинцовый мрак могилы..1884
«С берега тихой реки, озаренной закатом…»*
С берега тихой реки, озаренной закатом, Из-под душистой листвы серебристых берез, В сердце, кипевшем огнем, в сердце, восторгом объятом, Светлую песню домой, в стены столицы, я нес. Смутно звучала она, но я знал, что порыв вдохновенья Звукам даст силу и строй, краскам даст блеск и тепло, И прозвучит она братьям как тихий напев утешенья…1884
«Что день, то тяжелей бороться и дышать…»*
Что день, то тяжелей бороться и дышать. Трусливые друзья в любви так осторожны, Нечестные враги не устают терзать, Прекрасные слова так призрачны и ложны…1884
Облако («День ясен…»)*
День ясен… Свод небес и дышит и сияет. Зной отуманил даль… У топких берегов Дремотная струя в истоме колыхает Широкие листы зеленых плаунов. Гудя, промчался шмель, – как искра, потухая, Блеснул и потонул… В затоне, где, к волне Склонясь, поник жасмин, свой цвет в нее роняя, Плеснулся сонный лещ и скрылся в глубине. Затишье и покой… Беспомощно и пышно Природа спит вокруг, с улыбкой на устах; Такой немой покой, что издалёка слышно Жужжание косы в синеющих лугах!.. Но что за тень легла над рощею зубчатой? То облако… Сквозя под золотом лучей, Как сказочный дракон, огромный и косматый, Оно плывет, плывет, чем дальше, тем быстрей!..1884
Октябрьская ночь*
Из Альфреда Мюссе
Поэт
Печаль моей души исчезла, как туман, Как серебро росы при солнечном сияньи, И зной мятежных слез, и боль глубоких ран Теперь едва живут в моем воспоминаньи.Муза
Певец! Какой недуг в груди твоей царил, Какая скорбь твой взгляд туманила слезою? Ты лютню звонкую надолго позабыл, И тщетно в дверь твою стучалась я с тоскою. Откройся мне, певец, и, может быть, любя, Я усыплю змею, грызущую тебя.Поэт
То жалкий был недуг, знакомый всем, кто жил; То пошлый был недуг, но мучивший жестоко. А я, глупец, мечтал, что я один любил, Что я один страдал так страстно и глубоко.Муза
Утешься! Для того, кто сам не пошл душой, Печалей пошлых нет и жалких нет страданий. Откройся ж мне, певец, – перед своей сестрой Не сдерживай в груди ни жалоб, ни рыданий!1884
<Из Бодлера>*
Жилищем для себя мансарду изберу я И буду с вышины, в соседстве облаков, Внимать, как вихрь несет, над городом бушуя, Печальный перезвон его колоколов. И на руку склонясь со вдумчивым вниманьем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Отрадно сквозь туман звезды видать рожденье, И отблеск мирных ламп за окнами домов, И черный дым из труб, и улиц оживленье, И мягкий лунный свет на дымке облаков; Отрадно наблюдать немую жизнь природы И в ночи зимние, портьеры спустя, Под дикий вой и стон вечерней непогоды В чаду нарядных грез забыться, как дитя… И будут сниться мне полуденные страны, И ласки; девушек, и птиц веселый хор, И в зелени садов журчащие фонтаны, И снежные хребты нахмурившихся гор… И на призыв певца весна меня обвеет, Весна волшебных грез и солнце чистых дум… [И пусть глухая ночь за окнами чернеет…]1884
«О мысль, проклятый дар!..»*
О мысль, проклятый дар!.. Мысль, в дерзком ослепленьи Весь мир мечтавшая сияньем озарить И стихшая теперь в больном изнеможеньи, Когда так тяжело и так постыдно жить, – К чему кипела ты в работе неустанной, Что людям ты дала и что дала ты мне? Не указала ты из мглы исход желанный, Не помогла родимой стороне! А сердце чуткое, горевшее отрадно Любовью чистою и верою святой…1884
«Настанет грозный день – и скажут нам вожди…»*
Настанет грозный день – и скажут нам вожди, Исполнены тоски, смятенья и печали: «Кто знает верный путь, тот выйди и веди, А мы – мы этот путь давно уж потеряли». И мы сорвем венки с поникших их голов, Растопчем светочи, сиявшие веками, Воздвигнем вновь ряды страдальческих крестов И насмеемся вновь над нашими богами – Мы грубо соль земли сотрем с лица земли…1884
В лунную ночь*
Серебристо-бледна и кристально ясна Молчаливая ночь над широкой рекой. И трепещет волна, и сверкает волна, И несется и вьется туман над волной. Чутко дремлют сады, наклонясь с берегов, Ярко светит луна с беспредельных небес, Воздух полн ароматом весенних цветов, Мгла полна волшебством непонятных чудес. Что там видно вдали, что в тумане скользит, Чьи дрожащие крылья блестят над водой? То не чайка белеет, то лодка летит, Вьется лентою след за высокой кормой. Вдоль бортов протянулись гирлянды цветов, Стройно движутся весла в девичьих руках, И торжественный хор молодых голосов Замирает и гаснет в воздушных струях… Громче, песня! [В ней слышен не страсти] призыв, Не мятежные стоны греховных людей, – В ней восторги молитвы и чистый порыв В царство вечного счастья и вечных лучей! Кто ж вы, чудные девы? Откуда ваш путь? Все вы в белых нарядах и в ярких цветах! Та поникла в раздумье к подруге на грудь, А другая – со звонкою лютней в руках… Вдруг согласный напев оборвался и стих, В светлых взглядах певиц отразился испуг, И замолкли созвучия струн золотых, И упали послушные весла из рук. Там, где выдался берег отлогой косой…1885
«Я понял, о чем, как могучий орган…»*
Я понял, о чем, как могучий орган, Гремящий в угрюмом соборе, У скал, убегая в свинцовый туман, Шумишь ты, мятежное море: «Когда-то, – звучит мне в прибое валов, – Когда-то, в старинные годы, Не знали косматых людских парусов Мои величавые воды. Один буревестник парил надо мной, Да чайка белела, мелькая, Да по небу тучи ненастной порой Носились от края до края. Безлюдный мой берег был дик и суров…»1885
«Я белой Ниццы не узнал!..»*
Я белой Ниццы не узнал! Она поблекла, потускнела… Морская глубь у желтых скал Так неприветливо шумела; Далеких гор резной узор Тонул в клубящемся тумане…1885
«В такие дни и песня не поется…»*
В такие дни и песня не поется, И дело валится из рук; И только чувствуешь, что грудь на части рвется От тяжких дум и тяжких мук!.. Ни проблеска кругом…1885
«Снилось мне, что в глубокую полночь один…»*
Снилось мне, что в глубокую полночь один Я затерян в каком-то безлюдном краю… Чащи темных лесов, кручи горных вершин Обошли, заслонили дорогу мою… Долго брел я на ощупь, но вот изнемог И присел… Вдруг вдали, между темных ветвей, Засверкал, заблистал огонек… Чу, далекое ржанье коней! Чу, звучат голоса! Ближе, громче… Весь лес Словно ожил… –1885
Эмир и его конь*
Не слыхать победных кликов по рядам, Не звучат [над ними] флейты и литавры; Молчаливо к барцелонским воротам Возвратились опечаленные мавры. Кончен бой. Бегут дружины христиан! Как гроза на них нагрянет победитель; Недвижим изнемогающий от ран На своем плаще пурпурном повелитель! Встань, эмир! Взгляни, твой верный конь Тихо ржет, склонясь печально над тобою. Где очей твоих сверкающий огонь, Где твой меч, покрытый славой боевою? Помертвелый на носилках из…1885
«Ты угадала: страдает твой друг…»*
Ты угадала: страдает твой друг, Тяжко, глубоко страдает. Носит в груди он смертельный недуг, – Сердце его угасает… Прежде, бывало, – заря ли блеснет, Музыка ль льется, чаруя, Грусть ли взволнует, иль туча найдет – Отклик на всё нахожу я: Дрогнут могучие струны в груди, Звуки, как волны, нахлынут…1885
«Бледнеет летний день… Над пышною Невою…»*
Бледнеет летний день… Над пышною Невою, Вдоль строгой линии гранитных берегов Еще освещены янтарного зарею Немые мраморы покинутых дворцов. Но уж сады полны прохладой и тенями, И к зыбкой пристани, по синей глади вод, Как сказочный дракон, сверкающий глазами, С огнями вдоль бортов причалил пароход. Я этот час люблю. В столице опустелой Есть грусть какая-то в такие вечера.1885
«В саду, куда люблю спасаться я порой…»*
В саду, куда люблю спасаться я порой От вечной суеты и грохота столицы, Чтоб шепот пышных лип услышать над собой Да мирно помечтать, о чем щебечут птицы, – Нередко в зелени густых его аллей, Вкруг берега пруда идущих полукругом, Встречаю я толпу играющих детей, И кое с кем из них уж стал горячим другом. Меж них есть у меня любимица одна, Подросток-девочка; мы с ней толкуем много… Боюсь, что бедная едва ли не больна, – Уж слишком взгляд ее горит не детски строго И слишком грустен он. Задумчива, бледна, Она веселых игр и шума избегает…1885
«Когда порой я волю дам мечтам…»*
Когда порой я волю дам мечтам – Мне снится лес. Над ним – ночная мгла. Гляжу вперед и вижу – здесь и там Чернеется отверстие дупла. Мильоны птиц, головки подвернув Под перья крыльев, спят во мгле ночной, А я лечу, разинув жадный клюв, Свободною и гордою совой.1885
«Много позорного в сердце людском…»*
Много позорного в сердце людском: Кровью страницы истории пишутся, Стоны, проклятья и слезы кругом, Не умолкая ни ночью, ни днем… . . . . . . . . слышатся.1885
«Опять передо мной таинственной загадкой…»*
Опять передо мной таинственной загадкой Лежит далекий путь и в край родной зовет; Опять знакомый гость – змея тоски украдкой Вползла в больную грудь и сердце мне сосет. Мне жаль покинуть вас, полуденные страны, Жаль средиземных волн, и солнца, и холмов, И вас, тенистые оливы и платаны!..1885
«Нищенским рубищем скудно прикрытая…»*
Нищенским рубищем скудно прикрытая, С страшною раной на сильной груди, Строгая, бледная, терном увитая, Ты, не смолкая, мне шепчешь: «Иди!» – «О, подожди, подожди, беспощадная! Жаль мне расстаться с минувшим моим…»1885
«В городе стало и душно и пыльно…»*
В городе стало и душно и пыльно, Манит на волю, куда-нибудь вдаль; Розовым цветом осыпан обильно В тихом саду моем свежий миндаль. Улицы в полдень молчат, как могилы, В море от зноя нагрелась волна; Пышно-безмолвны высокие виллы В темных.1885
«Не бесплодно века пронеслись над усталой землей…»*
Не бесплодно века пронеслись над усталой землей, Много славных побед человеческий ум одержал…1885
«Есть странные дети: веселья и шума…»*
Есть странные дети: веселья и шума Бегут, как заразы, они; Какая-то старчески тихая дума Туманит их ясные дни; Ничто их не тешит – на всё равнодушно Их грустные глазки глядят, И кажется жить им и тесно и душно… . . . . . . . . . . . . . . . Им тяжко бывает за школьной скамьею, Их манит куда-то вперед, Где девственный лес, над безлюдной рекою, В угрюмом молчаньи растет…1885
«К себе, скорей к себе, в свой угол одинокий…»*
К себе, скорей к себе, в свой угол одинокий, К любимому труду, к излюбленным мечтам! Чего искать в толпе, бездушной и жестокой?1885
«Если друг твой собрался на праведный бой…»*
Если друг твой собрался на праведный бой, Не держи его цепью любви у порога!..1885
«Мне снилось, что иду куда-то я с толпой…»*
Мне снилось, что иду куда-то я с толпой, С толпой, но одинок… Ночь омрачили тучи, Наш узкий путь повис над бездною глухой, Лепясь к отвесам скал и громоздясь на кручи. Мерцают факелы, то выхватив из мглы Суровое лицо со сжатыми бровями, То мшистый перелом нахмуренной скалы, То ель, склоненную над пропастью ветвями, В толпе – молчание: сердца напряжены, – Один неловкий шаг, неверное движенье – И путнику грозит с отвесной вышины Неудержимое и страшное паденье… Но общий страх мне чужд.1885
«Мне кажется, что я схожу с ума…»*
Мне кажется, что я схожу с ума. Да, я схожу с ума и не стыжусь признанья! Томит меня, томит, как цепи, как тюрьма, Бессмысленная жизнь без цели и призванья. Кто мне укажет путь? Чей голос усыпив Крик сердца моего? Жить без любви, без бога – Нет, лучше уж не жить; а на душе кипит Какая-то тяжелая тревога. Уединение мне тяжко… Я бегу В толпу, где голоса, и звуки, и движенье; Чего-то всё ищу и жду.1885
«Опустился туман и от взоров сокрыл…»*
Опустился туман и от взоров сокрыл Пестроту суетливого дня. Не поднять моей мысли опущенных крыл, Я во мраке брожу без огня…1886
«Как мощный враг страны иноплеменной…»*
Как мощный враг страны иноплеменной, Как буйный вихрь, прошла по мне любовь, И думал я, грозой ее сраженный, Что слабых крыл мне не расправить вновь, Что я навек утратил вещий голос, Что мой алтарь повергнут в дольний прах, И я лежу, надломленный, как колос, У милых ног в уныньи и в цепях. Но мчались дни, и тихо угасала Моя печаль…1886
«Он мне не брат – он больше брата…»*
Он мне не брат – он больше брата: Всю силу, всю любовь мою, Всё, чем душа моя богата, Ему я пылко отдаю. Кто он – не знаю….1886
«Если ты друг – дай мне руку, отрадней вдвоем…»*
Если ты друг – дай мне руку, отрадней вдвоем Честно бороться за общее братское дело. Если ты враг – будь открытым и смелым врагом; Грозный твой вызов приму я открыто и смело. Если же ты равнодушен…1886
«Прости безвестному, что с именем твоим…»*
Прости безвестному, что с именем твоим Сливает он свое ничтожное названье И что звучит мой стих, когда, непробудим, Ты, отстрадав, хранишь священное молчанье. Прости, что я служу пред тем же алтарем, Пред той же красотой колени преклоняю, Какой и ты служил…1886
«Напрасно, дитя, ты мечтаешь горячими ласками…»*
Напрасно, дитя, ты мечтаешь горячими ласками Меня исцелить от моих незакрывшихся ран. Давно между жизнью, сверкающей яркими красками, И другом твоим – опустился угрюмый туман. Я слышу оттуда напевы, отрадно манящие, Но тщетно я руки вперед простираю с тоской, – Они обнимают какие-то тени скользящие, Неверные тени, рожденные смутною мглой…«Глядит! он с ума меня сводит – бесстрастный…»*
Глядит! он с ума меня сводит – бесстрастный, Холодный, пытливо-внимательный взор. Порой позабудешься грезой прекрасной, Припомнишь родимого поля простор, Деревню родную, над дремлющей нивой…Ранние редакции и варианты
НА РАЗЛУКУ («В последний раз я здесь, с тобой…»)
Автограф
Вся грудь моя надорвана тоской, Полна огнем невыносимой муки. В последний раз сижу я здесь, с тобой, И близок час, тяжелый час разлуки. Истерзанный, усталый и больной, Я не знавал ни ласки, ни участья. Кругом меня сгущался мрак ночной, Царило неприглядное ненастье. А между тем мне так хотелось жить, В душе кипела сила молодая, Больная грудь так жаждала любить!.. Кого ж любить?.. Кругом лишь мгла чужая. Ты поняла страдания мои, Несчастного, как сына, приласкала И светлым словом ласки и любви В душе моей сомненья разогнала. И выплакал я на груди твоей Всё то, что жизнь на сердце накопила, Всё то, что ряд моих прошедших дней Клеймом тоски и грусти заклеймило. Волшебный рой несбыточных мечтаний! Судьба опять разводит нас с тобой, И жгучий яд непонятых страданий Мне давит грудь мучительной тоской. Седая мгла, холодное ненастье Надвинулись безжалостно кругом, И я один без ласки и участья Остался на пути моем.Другой автограф После 16[31]
Прощай навек… счастливый путь, Я вновь один. Глухой тоскою, Как камнем, мне сдавило грудь, И поплетусь я как-нибудь Своею жизненной тропою. Быть может, скоро смерть придет, Мои страдания уймет, Я успокоюсь под землей, Зарытый чуждою рукой.ИДЕАЛ
#Автограф Между 24 и 25 С ним правда, нравственность и знанье, С ним свет религии святой, И широко его сиянье Легло над сонною землей. Его лишь тот видать не может, Кто мишурою ослеплен, Чью душу жажда денег гложет, Кто в тину жизни погружен.НОЧЬЮ («Хороша эта ночка, безмолвная, ясная…»)
Автограф Начало
Ночь, прозрачная летняя ночь над землей, С дальней зорькой сливаясь, горит. Где-то в сонном саду [над зеркальной рекой] Серебристая песня звенит; За уснувшим селом в полумгле голубой Чуть виднеется лес-великан; Над простором полей невысокой волной, Колебаясь, клубится туман. Мой челнок, убаюканный звонкой струей, Притаился в густых камышахЗАБЫТЫЙ ПЕВЕЦ
Автограф Начало
Он умирал забытый, одинокий, Надломленный неравною борьбой, И яд тоски тяжелой и глубокой Кипел огнем в его груди больной. Была пора – увенчанный толпою, Он гордо пел, прославленный певец, И мир кадил восторгом и хвалою На гения сияющий венец. Была пора – его творений звуки, Как чудный гимн, носились над землей, И забывал страдания и муки, Внимая им, придавленный судьбой. Была пора – и сгинула лукаво. Он позабыт беспечною толпой, И, отвернувшись, прихотница слава Горит венцом над головой другой.ПРИЗНАНИЕ УМИРАЮЩЕГО ОТВЕРЖЕНЦА
Автограф тетр. 1
Я не был ребенком – я с детства узнал Тяжелое бремя лишений И с детства в душе одиноко скрывал Огонь затаенных сомнений. Я с детства не верил в судьбу и людей И в прочность капризного счастья, И шел я угрюмо дорогой своей Один, без любви и участья. Я рос сиротой, под надзором чужих В угрюмых стенах заведенья, А мысль уносилась далеко от книг, В родные поля и селенья. Мне помнится домик над сонной рекой, Разливы зари в небосклоне И лес, отдаленный, как призрак немой, Встающий на огненном фоне. Мне грезится мать, с утомленным лицом, С улыбкой любви и страданья, И няня-старушка с обычным чулком, И солнцем пригретый Барбос под окном, Все милые сердцу мечтанья. И вдруг серебристый туман набегал И прошлое дымкой густой одевал, И новые сцены неслись предо мной: Ночь тихо горит над землею #Автограф тетр. 4 После 36 Кто детские грезы безбожно разбил, Лишив меня света участья, И зависть и злобу в душе пробудил На баловней глупого счастья. Я в бездне угрюмой разврата убил Мои непочатые силы И вот в нищете и позоре дожил До мрака холодной могилы.ВО МГЛЕ
«Свет» 21-29
Не грызла нас сомнений мука, И веры свет в груди пылал. Девиз для нас была – «наука» И «человек» – наш идеал. Мы честность глупостью не звали, Наш смех не попусту звучал: Мы им безжалостно карали Того, кто нас не понимал. Мы твердо шли своей дорогой, Желая пользу принести, И доходили понемногу До края нашего пути. Давно те годы миновалисьХРИСТИАНКА
Автограф 5-я часть После 24
Не долги были их мученья – Господь им скоро смерть послал И души их в свои селенья, В сонм светлых ангелов принял. Предание народа свято Их продолжает почитать. Так люди верили когда-то И так умели умиратьПРИЗЫВ
Автограф
Призвание певца
Покуда всюду ночь немая Нависла, гордо над землей И лишь вдали заря златая Горит отрадной полосой, Покуда мысль в оковах дремлет, Покуда видят стыд в труде, Покуда человек не внемлет Призыву к свету и борьбе, Мы бросим петь «луну и деву», Мы бросим лирою своей Вторить старинному иапеву Людских страданий и страстей. Нет, нас зовут мечты иные, Зовут туда, где льется кровь За свет, за истины святые, За правду, знанье и любовь. Мы там нужны. Там наши звуки Борцов уставших оживят И в их сердцах тоску и муки Надеждой светлой заменят. Будить уснувшее сознанье, Поднять упавшего борца – Вот наше высшее призванье, Вот светлый идеал певца. Когда ж повсюду мысль и чувство, Как дивный свет, блеснут кругом, Тогда искусство для искусства Мы все оценим и поймем.В ТИХОЙ ПРИСТАНИ
Автограф Начало
1
Я живу, отдаваясь житейской волне, Без борьбы, без тревог, без сомнений, Словно гений покоя царит в тишине Этих мирных полей и селений; Будто гриб притаился запущенный дом Над спокойной зеркальной рекою, Сад на вольном просторе разросся кругом И шумит говорливой листвою, За рекой голубой перспективы лугов Утопают в лазури безбрежной Да гречиха на скатах далеких холмов Полосою белеется снежной.2
Погасает заря. Высоко в небесах Серебристые звезды мерцают, Из-за речки, глядясь в озаренных струях, Над полями луна выплывает. В дивном блеске горит и сверкает рекаДВА ГОРЯ
Автограф
У гроба
Взгляни, как спокойно уснула она, Как мирно она отдыхает – В чертах не борьба роковая видна, Но тихое счастье сияет. Улыбка на алые губки легла, Рассыпались косы густые, Опущены веки – и мрамор чела Целуют цветы полевые. Горячее солнце потоком лучей Головку ее обливает, И тень от душистых жасминных ветвей На нежные щечки бросает. Горячее солнце прощается с ней – Любимою дочерью света, Как будто бы думает вызвать у ней Улыбку любви и привета. Смерть! Сон непробудный, безмолвный покой! Напрасны мольбы и рыданья – Она не откликнется чуткой душой На жгучие слезы страданья.СОН ИОАННА ГРОЗНОГО
Автограф тетр. 5
Спит Москва в серебристом сияньи луны, От тревожного дня отдыхая; Начало Терема и сады тишиною полны, В полумгле голубой утопая. Опустел эшафот… Не теснится народ У помоста, залитого кровью… Ночь, глубокая ночь, как царица, идет И, как мать, и покой и забвенье несет С тихой лаской и кроткой любовью. Спит Москва – только Грозный не может уснутьАвтограф ПД Фрагмент
Полн затаенною тоской, Князь никогда не унывал, Почти ни с кем не говорил; Боярский круг его боялся, И царь за то его любил. И что ж, свое расположенье На деле Грозный доказал: Как высший знак благоволенья Ему прозванье «Коршун» дал. И князь, казалося, гордился Кровавой славою своей, И удовольствием светился Глубокий блеск его очей.ЖЕЛАНИЕ
Автограф После 20
Ни счастья, ни отдохновенья В пути ей не дает судьба, А впереди – опять сомненья, Опять страданья и борьба!Другой автограф После 24
[Вокруг везде кипят страданья И слышен вечный звон цепей, Везде сливаются рыданья С безумным смехом палачей; Везде разврат, борьба и слезы, Проклятья и людская кровь, Осмеяны святые грезы И неподкупная любовь.] Здесь царство мрака и мученья, Здесь мир рабов и палачейПОХОРОНЫ
Автограф тетр. 1 Фрагмент
Встанет, бывало, до зорьки росистой, Выйдет в луга – и косой серебристой Скудные травы кладет. Спинушку ломит от трудной работы, Сердце болит от тяжелой заботы, Хлебушко в горло нейдет.БОЯРИН БРЯНСКИЙ
#«Свет» Между 11 и 12 строфами Сколько раз под липой полночью немою Их уста сливались в поцелуе страстном И сердца кипели силой молодою, Наслаждаясь счастьем, шатким и опасным. Не простит боярин, если он узнает, Не простит боярин – и, сверкнув очами, Проклянет он дочку, а его поймает, Заклеймит позором, окует цепями.«ТЫ ПОМНИШЬ – НОЧЬ ВОКРУГ ТОРЖЕСТВЕННО ГОРЕЛА…»
Автограф тетр. 4 Начало
Глухая ночь безмолвно догорала Огнями бледными в лазури голубой, Заря далекая свой светоч зажигала Над сонною зеркального рекой. Ты пела мне. Лились покорно звуки И вдаль неслись широкою волной, И вновь любви страдания и муки Сжимали грудь мою знакомою тоской.«ТОМЯСЬ И СТРАДАЯ ВО МРАКЕ НЕНАСТЬЯ…»
Автограф тетр. 6 После 24
Тяжелой борьбою рассеять ненастье, Трудиться так долго и горько сознать, Что счастье, желанное, светлое счастье, Прошло – и не может вернуться опять. Что ты не заметил в упорных исканьях Его благодатных и кротких лучей, Что тайна его – в пережитых страданьях И в чистой работе <на> благо людей!..ОТРЫВОК («И вот, от ложа наслажденья…»)
РБ После 26
Не блеск небес, не краски рая На смуглый лик ее легли; Она стояла, обольщая Греховной прелестью земли. Неутолимой жаждой счастья В ней билась каждая черта, И к знойной неге сладострастья Манили алые уста. О, ей ли, полной юной силы, За час любви во тьме ночной Уснуть в безмолвии могилы, Проститься с жизнью и землей? Ее ли осудить на муку? Кто святотатственную руку Дерзнет на красоту поднять, Чтоб безвозвратно и навеки Глубокий взор закрыли веки, Чтоб на уста легла печать?В АЛЬБОМ («Непрошеный стучусь я в ваш альбом…»)
Автограф После 6
Но страшен черный лес в разгневанную ночь, Суров и грозен путь – и силы ослабели. Я к вам вхожу как брат – душа моя чиста, В ней нет коварных дум и замыслов опасных. Пустите ж странника во имя слов Христа, Во имя лучших чувств, во имя всех несчастных! И настежь дверь открыта перед ним, И видит он с сердечною тревогой Всё то, о чем, тоской глубокою томим, Так часто он мечтал тяжелою дорогой«ЕСЛИ ДУШНО ТЕБЕ, ЕСЛИ НЕТ У ТЕБЯ…»
Автограф После 4
Ты мне брат, брат по общей суровой борьбе Против пошлости, зла и ненастья. Ты мне брат по тяжелой и грустной судьбе Жить без ласк, без любви, без участья«ВЫ СМУЩЕНЫ… ТАКОЙ РАЗВЯЗКИ…»
Автограф После 3
Вам жаль, что вы его терзали, И вы бы дорого бы дали, Чтоб вырвать жертву у земли. Но поздноНА МГНОВЕНЬЕ
Автограф Перед 1
Все мы – узники смерти, и счастлив лишь тот, Кто забыл про позор заключенья, Кто убил в себе трезвую мысль и живет Мимолетною жизнью мгновенья.«В РОЩЕ ЗЕЛЕНОЙ, НАД ТИХОЙ РЕКОЙ…»
Автограф После 12
[Очи мои наслажденьем горят, Ночи – блаженною негой томят, Звуки – волнуют желанья в крови, Сны – заражают недугом любви.]ЦАРЕВНА СОФЬЯ
Автограф Сцена из 1-й ред.
Явление 2
Софья (одна)
Гроза близка – и первые раскаты Уже гремят над головой моею Как вестники борьбы и непогод. Гроза близка, но нет в душе смятенья: Я час ее предвидела давно. Что мне терять? Весь этот хлам неволи! Почет рабов и ласка государя – Ничто в сравненья с тем, чего я жду! За миг один, миг власти и свободы Я всё отдам, я всех продать готова, И – горе тем, кто встал мне на пути! С ребячества уж я рвалась душою Из этих стен постылых на свободу, Я задыхалась здесь!.. Во мраке ночи Мне грезились роскошные палаты, Залитые в бесчисленных огнях; Мне снился трон, и там, на этом троне Стояла я, всех выше над толпою, Со скипетром в бестрепетных руках! От этих грез кружилась голова, Кипела кровь и сердце замирало! Недаром я наукой укрепляла Свой слабый ум для подвигов тяжелых, К минувшему возврата больше нет! Пора сорвать гнетущие оковы, Пора разбить железные запоры И встать во всем величьи пред толпой!(Задумавшись)
Боярин Милославский поневоле Мне предан! Ненависть его к царице Порукой мне за верность. Чернь – тупа. Кто ласков с ней да больше обещает, Тому она и служит. Князь Голицын Умен, хитер, расчетлив, остроумен И, главное, любим народом. Он – Единственный, пред кем я преклоняюсь И кто в душе моей сумел поднять Невнятное и сладкое волненье – Блаженный трепет девственной любви. Но если он задумает измену – Я и его сумею не щадить?СВЯТИТЕЛЬ
Автограф тетр. 6
Угодник
Народное предание
Не с пути и не с дороженьки – Не стоят больные ноженьки, Не с вина качает старую, Как избенку обветшалую, Не от ветра плачут оченьки, Горько плачут – не наплачутся, – От глухой тоски-кручинушки Нет мне мочи, сиротинушке! Помолилась я создателю И пошла в дорогу дальнюю. Шла я темною дубравою, Шла отрогами да балками, Шла я в изморозь осеннюю, Шла я в непогодь туманную, – А со мной глухая думушка Шла попутчицей незваною. Ох уж эта мне попутчица: Ни души в ней нет, ни жалости, Вырывает корку изо рта, Подымает ночью на ноги, Шепчет речи мне зловещие, Кровью сердца упиваючись, Над годами и недугами Ядовито надсмехаючись! Долго шла я; вся измаялась, Изболелась, исстрадалася… Шла семь ясных зорек утренних, Семь седых, ненастных сумерек; На восьмую зорьку алую Дали мне отцы-святители Увидать кресты далекие Вашей ласковой обители. Не отриньте, православные, Вы мольбу мою сиротскую, Не обидьте бесталанную, Не гоните неимущую: Был бы грош – не пожалела я, Принесла б вам с упованием, – Но живу я божьим именем, Доброхотным подаянием. С той поры как взяли Васеньку На войну, на службу царскую, И угнали в даль далекую, На сторонку бусурманскую, Я, как ивушка поречная, Как березка надмогильная, Всё тоскую, безутешная, Всё хвораю, слабосильная. Без работника рассыпалась Хата осенью дождливою, Без сохи поля заглохнули Коноплею да крапивою, Пес подохнул без хозяина, – И осталось мне имения Только палка сучковатая Да ширинка полосатая. Не побрезгайте ж даянием, Ради нищенства и немощи, Вот ширинка вам сиротская, Хоть не много – да последнее: Помолитесь вы угоднику, Да хранит родной он Васеньку, Да поможет сиротинушке На далекой на чужбинушке. Ведь один он, ясный сокол мой, Мне остался в утешение. Злые люди всё расхитили – И здоровье и имение, И сынка… сынка последнего – Видно, нет в них сострадания… И, кряхтя, старушка хворая Трижды в землю ноклони. чася, Л монахи над старушкою Потешались да глумилися: «Эй, княгиня тороватая, Что ж не всё несешь обители, Ты и палку сучковатую Не жалей уж для святителя. То-то светлый праздник, братия, То-то вклады нам боярские. Что ж вы встали словно мертвые: Растворяйте двери царские, Надевайте облачение Для народного служения За ширинку полосатую Да дубинку сучковатую!» Закат ли над сонной волной разгорается, Росистое ль утро встает«КАК БЕЛЫМ САВАНОМ, ПОКРЫТАЯ СНЕГАМИ…»
Автограф тетр. 10 После 8
С тех пор как в душный гроб ты унесла с собою Всё то, чем дорога была мне жизнь моя, И я в чертах твоих со страхом и тоскою Прочел печать небытия, С тех пор как в первый раз с загадкой мирозданья Я встал лицом к лицу, измучен и смущен, И горько проклял я бессилие познанья И проклял жизнь, как лживый сон, – Мне снится сон иной: мое воображенье, Еще не отдохнув от мук недавних дней, Всё то же мертвое немое выраженье Кладет на лица всех людей. Я вижу их в гробу, с закрытыми очами«ЗАВЕСА СБРОШЕНА: НИ НОВЫХ УВЛЕЧЕНИЙ…»
«Голос минувшего»
Как мало прожито, как много пережито, Давно ли верил я, любил, негодовал – И всё оплакано, осмеяно, забыто, И только чувствуешь, что болен и устал. Еще я жив, но жизнь закрыла надо мною Спуск в склеп – и душный мрак надвинулся кругом. И уничтоженный могильной тишиною, Я сплю томительным и безотрадным сном. Я жив, но грудь моя мертва: ни упованья, Ми знойных радостей, ни благотворных грез. Покой холодного, немого отрицанья, Позор бессилия, безверия и слез…Автограф тетр. 10 Фрагмент
Темно минувшее – разбитые стремленья, Обманутых надежд невозвратимый рой, Года раскаянья за миг самозабвенья, Борьба с неправдою, с судьбою и с собой… Завеса сдернута… Сомненья и страданья Спугнули прошлого несбыточные сны… Жизнь не зовет вперед улыбкой обаянья, И не прельщает даль загадкой новизны. Я знаю наизусть, что ждет меня… Усталый, К концу желанному я ускоряю шагАвтограф ЦГАЛИ После 28
Не приближайся ж к ней, чтоб свежесть впечатлений Сберечь нетронутой на сердце до конца, И не дерзай вблизи, сын мысли и сомнений, Взглянуть в черты ее поблеклого лица: В нем всё подкрашено: белилы и румяны, Как в падшей женщине, едва прикрыли в ней Недуга тайный след, – гноящиеся раны И утомление вакхических ночей!..В ТОЛПЕ
Автограф Начало
Не презирай толпы: есть светлые мгновенья И для ее больных, уродливых детей, Узнай ее тогда – и, полный удивленья, Как пред титаном ты склонишься перед ней! Душа твоя больна… она еще страдает От грез обманутых и незаживших ран, Не верь же ей, когда она тебе внушает, Что всё вокруг – позор, безумство и обман.«ВЕЗДЕ, СКВОЗЬ ДЕРЗКИЙ ШУМ САМОДОВОЛЬНОЙ ПРОЗЫ…»
22-е изд. После 5
Смех отрицания бессилен над тобою, От давности годов не меркнет твой венец, И пред тобой, как встарь, склоняются с мольбою И пылкий юноша и опытный мудрец.«СТРОЙНЫЙ ХОР ТО СМОЛКАЛ, ТО ГРЕМЕЛ, КАК ОРГАН…»
Автограф ПД
Я молился сегодня о ней. Утро тихим покоем дышало И снопы золотистых лучей В окна тихого храма бросало. [Хор то стройно гремел, то стихал, И под эти священные звуки Я молился и сладко рыдал… Но рыдал без страданья и муки]«ОСЕНЬ, ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ!.. НАД ХМУРОЙ ЗЕМЛЁЮ…»
«Северный вестник» 1-я ред.
Хмурый лес… Над сырой и холодной землею Низко мчатся одно за другим облака; В желтый берег угрюмой, свинцовой волною От зари до зари ударяет река; Солнце ль выглянет – ласка его не сгоняет Скорби с сердца, – как будто страдающий друг, Пересилив любовью смертельный недуг, Взор твой слабой ответной улыбкой встречает… Старо это, всё старо… Настанет весна – И природа под лаской душистого мая Оживет и проснется от долгого сна, Как невеста нарядным убором сияя; В скорбном сердце затихнет глухая печаль, День и солнце спугнут и рассеют ненастье, И потянет опять в лучезарную даль, И поверится снова в далекое счастье… Но скажи мне, зачем так ничтожно оно, Это сердце, – что даже и мертвой природе Волновать его чуткие струны дано, И то к смерти манить, то к любви и свободе? Отчего в нем так беглы любовь и тоска, Как ненастной и скучной осенней порою Этот легкий туман над свинцовой рекою Или эти седые над ней облака?Автограф ПД 1-я ред. После 24
Всё мгновенно в нем, друг мой, надежды и силы Невозвратно уносит глухая борьба, Гаснет пламя любви под землею могилы, Глохнет жажда свободы в груди у раба… Всё мгновенно – но жалкие люди боятся Эту правду признать и, не глядя назад, Всё к чему-то иному упорно стремятся, Всё какого-то вечного счастья хотят!..Другой автограф ПД 2-я ред. После 4
Умирает природа… Снега и морозы Не далеко… Они уж грозят и идут И готовят оковы – и тяжкие слезы По лицу ее тихо бегут. Я люблю это время… Морозной зарею Я люблю наблюдать лучезарный восход, Лес, сквозящий на солнце поблекшей листвоюМЕЧТЫ КОРОЛЕВЫ
Автограф ПД Начало
Уронивши ресницы на пламенный взор, С ароматным венком на челе, Сходит знойная ночь с отуманенных гор К полной неги и мрака земле… Расплелись ее косы… С нагого плеча Дымка звездной одежды скользит, Веет страстью с лица, и, как страсть горяча, На устах чуть улыбка дрожит… Здравствуй, ночь, молодая вакханка!.. Взгляни: Мир заждался объятий твоих; Сколько роз тебя жаждет в душистой тени, Сколько ждет тебя лилий речных!.. Протяни ж серебристые нити лучей В этой, дышащей негою, мгле… Но бледна ты… бледна от несчетных огней, Словно яркие звенья блестящих цепей, Запылавших на темной земле. Вся долина в огнях, – и роскошней других Старый замок сияньем залит, Старый замок, зарывшись в аллеях густых, Многолюдной толпою шумит. Веют перья беретов и шпоры звенят, Зал плющом и цветами увит, И веселый гавот, оглашая весь сад, Из готических окон гремит.Автограф тетр. 10
Как вакханка, склонясь над горячей землей, Дышит полночь желаньем и негой любви, Начало И ласкает, и жжет, и зовет за собой, И дарит молодые лобзанья свои. Старый замок, и сад, и на тихих водах Грациозные тени скользящих челнов – Всё залито вокруг в разноцветных огнях, Всюду говор и смех и дыханье цветов. В замке – настежь и окна, и двери… Гремит Опьяняющий танец звучней и звучней, И за парою новая пара скользит, Исчезая в толпе разряженных гостей.На мотив из «Первой любви» Тургенева
Другой автограф тетр. 10
Map. Ал. Рос
1
Шумен праздник; не счесть приглашенных гостей; Море звуков и море огней… Их цветною каймой, как гирляндой, обвит, Пруд – и спит, и как будто не спит… А из сада над замком и светлым прудом, Замирая в затишье ночном, Долетая до звезд и до горных громад, Звуки флейт и литавров гремят… Шумен праздник и весел, и только грустна На пиру королева одна.2
День прошел как в чаду, и во весь этот день Оживленных торжеств без конца Не сбегала с чела ее грустная тень, Не сходило раздумье с лица. И когда на охоте, за шумным столом, Из блестящего круга гостей Встал прекраснейший рыцарь и чашу с вином Поднял в честь королевы своей, И раздался в лесу вдохновенный привет, Светлый гимн красоте и венцу, – Королева едва улыбнулась в ответ, Не промолвив ни слова певцу.3
Но настала душистая ночь – и кругом, По карнизам и в мраке аллей, Вкруг фонтанов и ниш и над тихим прудом, Засверкали мильоны огней… Веют перья беретов, и шпоры звенят, Зал плющом и цветами обвит, И веселый гавот, оглашая весь сад, Из готических окон звучит. А над садом встает золотая лупа Из-за граней далеких высот… Ароматная ночь, как вакханка, пьяна, Как лобзанья, ласкает и жжет!4
Королева одна, королева грустит… Высоко под цветною парчой Поднимается грудь, и, как жемчуг, скользит По ланитам слеза за слезой. В душной нише окна полумрак голубой; Сладко плачет в кустах соловей, И как будто сквозь сон долетают порой Звуки танца и шумных речей. А назавтра опять тот же шум и огни, Ложь восторгов и ложь серенад… [Так бесследно промчатся все лучшие дни] И потом не вернуть их назад!..5
Сбросить прочь бы скорей этот пышный наряд, Потушить бы огни – и одной, Без докучливой свиты, уйти в этот сад, Убежать в этот сумрак ночной… А в саду чтоб прекрасный бы юноша ждал, Чтоб навстречу он бросился к ней, И лобзал, без конца и без счета лобзал И уста бы и кольца кудрей… Без конца бы лобзал, без конца бы любил, Жег ответных объятий огнем, – И чтоб молодость, полная страсти и сил, В нем кипела б горячим ключом…6
И сказать бы ему: «Целый день, дорогой, От придворных лжецов и шутов Я рвалась к тебе всей наболевшей душой, Как на волю от тяжких оков. О, ты знаешь, с каким бы блаженством всех их Я б тебе одному предпочла,[32] Но, раба твоя, я – королева для них, И к тебе я уйти не могла… Крепче, жарче целуй… Ночь не будет нас ждать, Ночь весной так досадно быстра! День не может с тобой королеву застать, – Мы проститься должны до утра!»ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА
Автограф
Сказка
I
Глухо стонет вьюга, стонет и рыдает, И в окно стучит костлявою рукой… Жгучий страх мне сердце детское сжимает: «Мама, дорогая, сядь, побудь со мной!..» И она прильнула нежно к изголовью, Нежно лоб мой гладит, в очи мне глядит, И под голос вьюги лаской и любовью, Грустью и заботой речь ее звучит… Как она прекрасна!.. В трепетном сияньи Ночника она склонилась надо мной, Словно белый ангел в белом одеяньи, – Только не трепещут крылья за спиной!.. Что-то бесконечно кроткое сияет В бесконечно милых, дорогих чертах, И горит в улыбке, и в очах ласкает, И звенит, чаруя, в одержанных речах… Только отчего ж так грустны эти глазки? Отчего дрожит и холодна рука? Отчего в словах старинной этой сказки Слышится такая правда и тоска? «Мама, что с тобой?» Но мама заглушает Мой вопрос тревожный ласкою своей… И так близко-близко надо мной сияет, И так чудно-нежен взор ее очей!.. Детский ум недолго мучится сомненьем, Сказка расцветает, искрится, растет, – И я всей душой и всем воображеньем Унесен в тот мир, куда она зовет!..II[33]
III
Снова стонет вьюга, стонет и рыдает, И в окно стучит костлявою рукой, И ночник неверным светом озаряет Бледный лик, склоненный нежно надо мной… И звенит мне голос: «В долгой, в горькой жизни Много встретит спящих твой усталый взгляд, Не клейми ж их словом едкой укоризны, Полюби их, милый, полюби, как брат!.. Позабыв себя и не боясь глумленья, Протяни им руку и вперед зови, – И блеснет во мгле им счастье обновленья, И поймешь ты счастье братства и любви!..»ИЗ ТЬМЫ ВРЕМЕН
Автограф тетр. 9 Начало
Когда в минувшее я погружен душою И величавою могучею толпой Герои древности с их славой мировою Проходят медленно и гордо предо мной, Когда я вижу их, увенчанных цветамиИЗ ДНЕВНИКА («Сегодня всю ночь голубые зарницы…»)
Автограф После 32
Да, смейся, мой демон, но грезы былого Не трогай язвительным смехом своим!.. Ты смейся над тем, что я сердца больного Еще не осилил сознаньем святым, Что мне еще тяжки борьба и ненастье. Что трудно порою мне спорить с тобой, Что мне, малодушному, хочется счастья, Как путнику – тени в томительный зной… Но знай, что я твердо сознал, что, покуда Так душны покровы ночной темноты, Так много на свете бездольного люда, – О личном блаженстве постыдны мечты. И знаю я твердо, что скоро с тобою Я слажу, мой демон, изгнав тебя прочь, И сердце, как встарь, не сожмется тоскою, Тоскою о счастье в весеннюю ночь!..«АХ, ДОВОЛЬНО И ЛЖИ И МЕЧТАНИЙ!..»
Автограф После 4
Брось в глаза мне упрек беспощадный, Что бессильны слова и что в жизни моей Лишь слова приносил я«В ОТКРЫТОЕ ОКНО ШИРОКИМИ СНОПАМИ»
Автограф После 24
[А после – жизнь борьбы, жизнь скорби и сомнений!]ГРЕЗЫ («Когда, еще дитя, за школьною стеною…»)
Автограф ПД
Бедная комнатка, келья святая Девственных дум н заветных трудов, – Дай тебе боже, отчизна родная, Больше таких уголков!.. Точно пред узником дверь растворилася И на пороге стоит он в слезах, – Так мое сердце отрадно забилося В этих убогих стенах. Точно в тюремные окна повеяло Свежестью сада и негой весны, – Так это братское слово рассеяло Черные сны… В детские годы, когда за стенами Школы о славе я детски мечтал, Снился мне ярко залитый огнями, Полный толпою, сверкающий зад. Между колонн, извиваясь, пестрели Длинные цепи душистых цветов, В окна с карниза до пола глядели Белые звезды и тени кустов… И окруженная свитой, на троне, Юная, словно весенняя ночь, Молча сидела в блестящей короне В думе немой королевская дочь. И перед ней, и пред этой толпою Пел я… я пел им о счастье любви, О соловье, что над тихой рекою Льет серебристые трели свои, Пел о турнирах, где рыцари бились, Пел об охотах и шумных пирах, Пел я – и звуки свободно струились И откликались восторгом в сердцах. В бедную комнатку песни иные, Скорбные песни принес я с собой, – Слышались в песнях тех слезы людские, Стоны нужды и борьбы роковой. В зале, залитом сияньем огней, – Дети труда и науки внимали Звукам правдивой печали моей. Но я так горд был и счастлив словами Ласки, – будто в весеннюю ночь Вправду меня увенчала цветами В замке своем королевская дочь.Автограф Начало
Когда, прозрев обман прекрасных сновидений, На утре юности разбуженный грозой, В отрадные часы заветных вдохновений Я трудный путь борьбы увидел пред собой, Два светлых ангела передо мной предстали: Один вручил мне меч…Автограф Начало
Когда грядущих дней таинственная даль Лежала предо мной неведомой загадкой, Когда в минуты дум и самая печаль Не жгла, а нежила своею болью сладкой, Когда еще таил, стыдясь, я от людей Плоды младенческих туманных вдохновенийАвтограф Начало
Когда-то мой венец печали и сомненья, Беспечный юноша, я с гордостью носил. Ему обязан был я даром песнопенья, В нем видел я расцвет моих душевных сил«КОГДА БЫ Я СЕРДЦЕ ОТКРЫЛ ПРЕД ТОБОЮ…»
Автограф тетр. 9 После 4
Любовь и презренье, любовь до забвенья, Презренье – до желчи, до злобы слепой, Пыл детских мечтаний и прах охлажденья, Покорность раба и порывы на бой – Всё это кипит в вей«ВЕРЬ, – ГОВОРЯТ ОНИ, – МУЧИТЕЛЬНЫ СОМНЕНЬЯ!..»
Автограф После 20
Не красть трусливо жизнь для пошлых наслаждений, А гордо брать ее, как собственность свою, Как долг пред братьями грядущих поколений, Как первый тяжкий шаг к бессмертному бытью.«Я НЕ ЩАДИЛ СЕБЯ: МУЧИТЕЛЬНЫМ СОМНЕНЬЯМ…»
Автограф тетр. 9
Я думал, жизнь, что ты открыла предо мною Все язвы гнойные, всю нищету свою, – Всё, всё, чему с такой горячею тоскою Я труд мой, песнь мою и душу отдаю; Я думал, что прозрел за лживыми цветами И ярким трепетом искусственных огней Немую ночь с ее мучительными снами, С ее отчаяньем и звуками цепей; Что нет позорных тайн, с которых покрывала Я б не сорвал рукой бестрепетной моей, И если грудь моя от прошлых слез устала, То новых слез тебе не вырвать уж у ней. Во имя истины тяжелым подозреньям Я сам навстречу шел, сам жег свои мечты, И грубо отравлял безжалостным сомненьем Твои последние и лучшие цветы. И вот – всё сожжено душевною грозою, И ночь вокруг меня томительно душна, – А в бездне той, куда спускаюсь я с тоскою, Чтоб глубь ее узнать, – всё та же глубь без дна!.. Дно было лишь обман, – не в силах мысль людская Измерить глубину падения людей!..«ОБА С ТОБОЙ ОДИНОКО-НЕСЧАСТНЫЕ…»
6-е изд.
Оба – бездомные, оба – несчастные, Встретясь случайно, мы скоро сошлись. Слезы, упреки и жалобы страстные Жгучей волной из души полились. Сладко казалось нам скорбь накипевшую Другу и брату любя рассказать; Ново казалось нам грудь наболевшую Чуткою лаской его врачевать. Но мы не долго – как дети счастливые – Тешились хрупкою дружбой своей: Скоро какие-то звуки фальшивые Вкрались в аккорд наших стройных речей… Брату усталого брата страдания Тягостным камнем на сердце легли, – Грудь нам обоим душили рыдания, Слушать же оба мы их не могли. И разошлись мы со злобой мучительной… Полно, – к чему нам друг друга винить: Нищий у нищего лепты спасительной Вздумал, безумный от горя, молить! Мертвый от мертвого молит лобзания! Где же нам чуждую ношу поднять, Если и личные наши страдания Нам не дают ни идти, ни дышать!..«ДОЛГО В ЯСНУЮ НОЧЬ Я ПО САДУ БРОДИЛ…»
«День» Между 42 и 43
После голос иной в эту глушь меня звал. Он мне речи о сладком забвеньи шептал, Он немолчно шептал мне: «Скорей! Прочь из пошлой толпы, – прочь от жалких слепцов, От незримо язвящих бесчестных врагов И трусливо любивших друзей. Сбереги свою веру в затишье моем, Чтоб никто тебе бросить не мог бы потом За позорную слабость упрек. Отдохни, – и опять, с новой силой на бой!» И я шел отдыхать, утомленный борьбой, Но я веры моей не сберег. Я не верю себе и не верю другим. Я не верю ни светлым порывам моим, Ни моим затаенным слезам. Ложь везде и во мне… Нет, заря не блеснет! Нет, толпа, как один человек, не придет Поклониться ожившим богам! Жертвы больше не нужны и терны смешны. Отдавайся теченью могучей волны И послушно иди за толпой. Каждый сам за себя! Брось свой светоч певца. Век иной наступил – век вражды без конца, Век расчета и злобы глухой.«ДАВНО В ГРУДИ МОЕЙ МОЛЧИТ НЕГОДОВАНЬЕ…»
«День» После 8
И ближнему теперь я бросить рад скорее Не вызов на борьбу, а ласку и привет. Я понял многое, за что карал когда-то, Я многое простил, за что негодовал. Я неба на земле отыскивать устал. И сам не рад тому, что дорого и свято, Пред неизбежностью трусливо изменял… И если вижу я, как нагло торжествует Румяный, радостный, пресыщенный порок…[34] Таких, как этот день, прошло не мало дней, Но я их не считал, я их считать боялся. В толпе слепцов найти старался я друзей, В безумной суете я цель найти старался. Измучен и смущен, я лживо руки жал Тому, к кому в груди питал одно презренье. И, призрак возводя в заветный идеал, Я отдавал ему все силы на служенье. О, как хотелось мне и верить и любить, Как жадно к подвигу душа моя стремилась!.. Но мысли голоса не смог я заглушить. Мечты развеялись, и правда обнажилась. Не смог солгать себе«УХОДИТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ… НА РЯД ПУСТЫХ ЗАБОТ…»
Автограф После 4
И так вся жизнь пройдет, – как тысячи других, Едва оконченных и в тот же час забытых!..ГРЕЗЫ («В бессонницу, когда недуг моей души…»)
Автограф ПД
Глубокой полночью, когда недуг души С горячих век моих свевает сновиденья, – Пытаюсь я мечтать в томительной тиши И в мире грез моих ищу себе забвенья; Но блага бытия, влекущие людей На жаркий спор за них, в разгар житейской битвы. Давно уж далеки больной души моей – Как сердца мертвеца – желанья и молитвы, Хмель жизни отбродил… Осыпались цветы, Скрывавшие скелет, – и встал он предо мною Во всем величии ужасной наготы, Смеяся над моей безумною тоскою. Его ли вновь любить, о нем ли вновь мечтать? Обман рассеялся… угаснули желанья, – Я долго тщетно ждал и утомился ждать – И тайной мукою полны мои мечтанья!«СТРЯХНУВ УГАР И ХМЕЛЬ ПРОМЧАВШЕГОСЯ ДНЯ…»
«День» Начало
Стряхнув угар и хмель промчавшегося дня, В вечерней тишине, наедине с собою, За пережитое с тоской себя казня, В тайник души моей спускаюсь я судьею. И много темных дел, себялюбивых дум, Уступок пошлости и лжи неуловимой, Незримых для других, приходит мне на ум.Автограф Фрагмент
Из выцветших страниц забытых дневников, Вновь перечитанных минутами досуга, Ты часто в сумерках печальных вечеров Встаешь передо мной, угасшая подруга. Но ты мне грезишься не в блеске красоты, А в те мгновения пред скорбною разлукой, Когда недуг, дыша на ясные черты, Уж исказил их ужасом и мукой… Я помню, – ночь была ненастна и темна… Ты мучалась всю ночь, и лишь перед зарею На миг забылась сном, борьбой утомлена, Склонясь мне на руку пылавшей головою.«СЕГОДНЯ КАК-ТО Я ОСОБЕННО УСТАЛ…»
6-е изд.
Сегодня как-то я особенно устал; С утра во мне росло глухое раздраженье, С утра вокруг себя я злобно подмечал Всё, что поднять в душе способно отвращенье. В чужой веселости я пошлость находил, В печали – ханжество, в спокойствии – трусливость, А в сердце у себя – упадок лучших сил, Гнетущую тоску да детскую брезгливость…ИЗ ДНЕВНИКА
(«Я долго счастья ждал – и луч его желанный…»)
Автограф
Я снова жить хочу, – я счастлив и любим, Настал заветный миг, так пламенно желанный, К чему ж на рубеже земли обетованной Остановился я, усталый пилигрим? Вперед! В минувшем ночь и годы испытаний. А там, вдали – весна, и ласка, и привет. Вперед! Напрасный зов: ни сил, ни воли нет, – Мне жаль, мне горько жаль промчавшихся страданий. О, не зови меня безумным, дорогая, Не говори, что я солгал перед тобой, Нет, я люблю тебя, всей силой, всей душой, Как мальчик о тебе моляся и мечтая«ТОСКА ГНЕТЕТ МЕНЯ И ЖЖЕТ НЕУТОМИМО…»
РБ После 4
Я в стороне стою от жизненной тревоги, Я чужд всему вокруг, – я, словно пилигрим, Отстав от спутников, упал на край дороги И им вослед смотрю с отчаяньем глухим.«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ… НЕ УВИЖУ Я БОЛЬШЕ РАССВЕТА…»
РБ После 4
Дверь каморки моей будет долго стоять затворенной. Кто-нибудь из друзей переступит потом за порог И окликнет меня… и отступит назад потрясенный, Увидав бездыханный мой труп распростертым у ног. В луже крови я буду лежать, неподвижный и бледный; Нож застынет в руке… нестерпимая боль искривит Посиневшие губы…«МНЕ СНИЛСЯ ВЕЩИЙ СОН: КАК БУДТО НОЧЬЮ ТЕМНОЙ…»
Автограф 9-12
Ночь плачет, как дитя, ночь мечется и злится, Сдвигая мглу кругом в свинцовое кольцо, И словно черная испуганная птица Крылами влажными мне плещется в лицо. Но нет в моей душе тревоги и смятенья; Бесстрашно я стою под вьюгой и грозой, Я замер весь в тоске угрюмого решенья: Свести последний счет с безжалостной судьбой.«ТРЕВОЖНО СЕГОДНЯ МЯТЕЖНОЕ МОРЕ…»
Автограф ПД
В ненастную ночь я у моря стоял… Теряясь в тумане свинцовом, Как зверь, оно глухо рычало у скал, Объято молчаньем суровым. По небу, клубяся, ползли облака, И ярко блистала зарница, Колеблемый ветром огонь маяка Метался и бился, как птица.Другой автограф ПД
Как гром отдаленный, как в старом соборе Мольбой похоронной гремящий орган, – И мрачно и грозно тревожное море Гудит, уходя в непроглядный туман. Ненастна и сумрачна ночь; по лазури Сплошной вереницей бегут облака; Как птица, колеблем дыханием бури, Трепещет далекий огонь маяка. Ночные виденья, летучие грезы Бегут от очей, – и в прибое валов Мне слышатся чьи-то глухие угрозыОТРЫВОК («…Как звери, схватившись с отважным врагом…»)
Автограф ПД
…Властитель отдыхал. По берегу морскому, Песчаною каймой ушедшему в туман, Не в силах превозмочь полдневную истому, Белел, как пена вод, замолкнувший наш стан. Несчетные шатры теснились за шатрами: Тут, словно жаждая, сползли они к волнам, А там ушли под тень, простертую ветвями Лимонов и дубов, растущих по холмам…Автограф тетр. 14
Ночь гасла… Вставал предрассветный туман. По взморью, над буйным прибоем, Белея, как пена, тянулся наш стан И чутко дремал перед боем. В тумане чуть искрились пятна костров, А в мутной дали перед нами Синели зубчатые горы врагов«БЕСПОКОЙНОЙ ДУШЕВНОЮ ЖАЖДОЙ ТОМИМ…»
Автограф 1-5
Нет, я не жил, – я таял как воск, я горел, Как светильник, колеблемый ветром ночным! Я беречь и рассчитывать сил не умел, Беспокойной и вечною жаждой томим)«В МИНУТЫ УНЫНЬЯ, БОРЬБЫ И НЕНАСТЬЯ…»
Автограф После 16
Та ласка – не смелая речь одобренья, И сердцу она говорит, не уму, Та ласка слепа и полна сожаленья, Как матери ласка, ко мне одному…«УМЕРЛА МОЯ МУЗА!.. НЕДОЛГО ОНА…»
Автограф ГБЛ
И напрасно я пламенных звуков ищу, И напрасно я светлые грезы зову, – Предо мной не сбываются сны наяву, – Я без песни тружусь и без песни грущу. Мрамор пышных дворцов разлетелся в туман, Величавые горы рассыпались в прах, И измучилось сердце от скорби и ран, И бессильные слезы сверкают в очах. Умерла моя Муза. С последним лучом Догоревшей любви и с последней мечтой Закатилась она мимолетной звездой, Мимолетной звездой в небосклоне ночном. И порой только призрак подруги моей Предо мною во мраке, белея, встает И глядит мне в лицо, и куда-то зовет, И уходит при блеске рассветных лучей…«ВСЁ ТА ЖЕ МЫСЛЬ, ВСЕ ТЕ ЖЕ ПОРЫВАНЬЯ…»
Автограф После 8
Смешно любить мечту воображенья, Но я люблю… Я не могу забыть. Ей – каждый шаг, ей – каждое мгновенье«О, НЕУЖЕЛИ БУДЕТ МИГ…»
Автограф Фрагмент
Вперед!.. О, жалкое, безумное стремленье! Куда еще вперед? Что ждет нас впереди? И так уж жизнь скудна, и так уж пресыщенье Царит везде вокруг, куда ни погляди! Дряхлеет жалкий мир, как человек дряхлеет; Жизнь людям всё дала, что дать она могла, И не весна надежд над нашей долей веет, А близкой гибели таинственная мгла. Кто хочет жить еще, в ком кровь еще пылает, – Назад! Во мрак былых умчавшихся времен. Пусть Петр Пустынник вновь дружины созывает На подвиг доблестный, под сень святых знамен. Пусть Лютер вновьПСС После 32
Как душно в нем, как тесно в нем, Как много сил он убивает, Каким мучительным стыдом Порою сердце закипает!..«„ЗА ЧТО?“ – С БЕЗМОЛВНОЮ ТОСКОЮ…»
ПСС
Ты хочешь знать, за что с презрением суровым Тебя язвит враждой злорадный суд людей? За то, мой друг, за что нетопырям и совам Так ненавистен блеск полуденных лучей. За то, что для тебя дороже блеск и воля, Чем золотой позор тяжелых их оков, За то, что дышишь ты всем ароматам поля Среди безжизненных, искусственных цветов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Да, бедный друг, ты виновата Пред их карающим судом, Зачем душа твоя богата Свободой, правдой и теплом.ТРИ НОЧИ БУДДЫ
Автограф тетр. 16 Начало
Разлетайся, туман отдаленных веков, Просыпайся, легенда седая, Оживай в переливах певучих стихов, По ответным сердцам ударяя! Чу! Какие-то тени плывут предо мной, Возникают из мрака картины, Дышит лаской и негой полуденный зной Из садов Кашемирской долины. Протянулся на север старик Гималаи, Льет Гангес тихоструйные воды… Чудный край! Благодатный, чарующий край, Вечный праздник нарядной природы!НА МОГИЛЕ А. И. ГЕРЦЕНА
НП 4-я строфа Перед ст. 1
Грустил я на юге… Душа тосковала О вьюгах и бурях родных. Как злая насмешка, ее раздражала Улыбка небес голубых.МАТЬ («Тяжелое детство мне пало на долю…»)
Автограф тетр. 12 Фрагмент
Не склонялась с молитвою мать надо мной, Мой младенческий сон охраняя, И бесхитростных сказок вечерней порой Не шептала мне няня седая. Грустно шло мое детство: чужая семья, Одиночество, слезы, попреки… И я вырос, глубоко в душе затая Первых лет роковые уроки. Но, чего мне суровая жизнь не дала, То в сверкающих грезах душа создала. Помню вас я, мечты золотые. Ночь… мерцающим блеском лампада горит, Всё затихло – столица примолкла и спит, Но не спят мои думы ночные. Чу – таинственный шорох знакомых шагов, Шелест платьяАвтограф ГБЛ После 40
Чтоб сетью тех нитей, как звезды горящих, Украсить лазурный небесный чертог, Чтоб не было в мире напрасно молящих, Чтоб, видя печаль их, – услышал их бог.ИКАР
#Автограф Начало Был в древности чудак по имени Икар. Земля ему казалась тесной. Он рвался всё туда, где солнца знойный жар Плывет дорогою небесной И где, когда сменит под дымкою теней Заря сияющие взоры, В эфире теплятся мильонами огней Созвездий яркие узоры. Упрямый, с низким лбом, с большою головой, В толпе сограждан суетливой Он проходил, как призрак молчаливыйПЕСНИ МЕФИСТОФЕЛЯ
Автограф
Монологи Мефистофеля
Прелюдия
Недавно он ко мне явился и сказал: «Я Мефистофель – дух разлада и сомненья! В былые дни тебя не раз я посещал, Но ты не узнавал, чьи это посещенья; Я приходил к тебе неведомый, тайком, Пугал твой детский ум, играл с тобою в прятки, Шутя водил твоим неопытным пером И задавал тебе недетские загадки. Ты был почти дитя и маску пред тобой Открыто снять с лица мне гордость помешала, Бес робких юных дум, бес мелкого журнала, Бес музы трепетной и хриплой и хромой, – Нет, в юности моей я знал удел иной, И эта честь меня, понятно, не прельщала. Кто Гете „Фауста“ когда-то диктовал, Кто Пушкину внушил суровую страницу, Кто в „Сказке для детей“ глубокий взор кидал На спящую у ног бездушную столищу, Тому беседовать с неведомым певцом, В чьем сердце желчь еще таилась и дремала, Казалось пошлостью, обидой и стыдом, – Кто стал бы нам внимать, что критика б сказала? Теперь ты всё-таки поэт, хотя твой стих И неуклюж и сух… Зато угомонился Твой глупый пыл, зато ты сжался и притих И на душе твоей червяк зашевелился…»ЖИЗНЬ
Автограф тетр. 16 Фрагмент
Проснись от мелких дел и будничных волнений, Проснись для жгучих слез, родная сторона, Растет итог потерь, замолк твой вещий гений, Осиротел алтарь, оборвалась струна. Как знал он твой народ, как жизнь он знал глубоко!Автограф ПД После 24
Усопший милый брат, как жизнь он знал глубоко! Проснись для слез о нем, родная сторона! Слепая смерть разит бездушно и жестоко. Угас горячий луч!.. Оборвалась струна!.. Пусть лавром перевьют чела его седины… Как он умел читать в сердечных тайниках! Вот бледное лицо погибшей Катерины, А вот Любим Торцов в отрепьях и в слезах. Вот поцелуй любви и шепот нежной ласки, И темный сад кругом, и яркая луна. А вот и чудный мир живой, нарядной сказки: Царь Берендей, Бобыль, Снегурочка, Весна… В лохмотьях и парче, со смехом и слезами, Рождались сотни лиц из-под его пера, И мнилось, жизнь сама проходит перед нами, Прекрасна и мрачна, туманна и пестра…Комментарии
Настоящее издание является наиболее полным собранием стихотворений С. Я. Надсона и первым опытом научной публикации его произведений.
До 1917 г. С. Я- Надсон печатался почти ежегодно, начиная с первого собрания его стихотворений, вышедшего в марте 1885 г. В январе 1886 г. появилось второе издание с немногими и незначительными стилистическими исправлениями и с несколько измененным составом. Третье издание, без исправлений, с дополнениями вышло в марте 1886 г., четвертое и пятое печатались одновременно, повторяя третье, и вышли в начале 1887 г. Когда эти книги печатались, тяжело больной Надсон находился в Ялте и вряд ли мог держать корректуру, поэтому они появились с некоторым количеством опечаток и ошибок, искажающих текст. Все прижизненные. сборники посвящены памяти Н. М. Дешевовой (Н. М. Д), умершей в марте 1879 г.
В первом издании помимо основного раздела, оставленного без названия, был второй раздел под названием «Из старых тетрадей» и цикл из двух стихотворений, озаглавленный «На чужбине». В дальнейших изданиях (вплоть до пятого) было пять разделов: первый – также без названия, второй – «Из дневника», третий – «Отдельные листки», четвертый – «Лирические поэмы» и пятый – «Из старых тетрадей».
Свое поэтическое наследие Надсон завещал Литературному фонду, который в 1887 г. выпустил собрание его стихотворений (шестое издание), опубликовав в нем впервые значительное количество новых стихотворений, оставшихся в рукописях. Ежегодно появлявшиеся затем сборники выходили под редакцией М. В. Ватсон, близкого друга поэта, которой он поручал наблюдение и за всеми его прижизненными изданиями. Посмертные издания периодически дополнялись новыми текстами. В особенности существенно было дополнено издание двадцать второе (1906;); в девятнадцатом (1902) впервые были восстановлены многие цензурные изъятия. Наиболее полным является издание: Полное собрание сочинений С. Я. Надсона, под ред. М. В. Ватсон, Пг., 1917. В советские годы стихотворения С. Я. Надсона были напечатаны трижды в Малой серии «Библиотеки поэта» – в 1937, 1949 и 1957 гг.
Произведения, включенные поэтом в сборники, печатаются нами в последней авторской редакции, то есть в большинстве случаев по первым трем изданиям. Стихотворения, опубликованные Надсоном в журналах и не вошедшие в прижизненные издания, печатаются, как правило, по этим журнальным публикациям. Стихотворения, не печатавшиеся при жизни Надсона, воспроизводятся по первым публикациям, либо по наиболее авторитетным изданиям – девятнадцатому, двадцать второму и Полному собранию сочинений 1917 г. с проверкой и исправлениями по автографам Допечатки в примечаниях не оговариваются}. Для публикации выбирается по возможности последняя, наиболее завершенная редакция. Ссылка на первую публикацию без дальнейших указаний на источник текста означает, что стихотворение вовсе не перепечатывалось или при перепечатке не подвергалось какой-либо правке.
В бумагах Надсона часто, кроме выбранного для публикации автографа, содержится множество отрывков, набросков, ранних и незавершенных последующих редакций того же стихотворения. В примечаниях отмечается местонахождение беловых и черновых автографов (при наличии лишь черновых автографов слово «черновой» для краткости опускается). Первым указывается автограф, совпадающий с публикуемым текстом или близкий к нему, затем – другие автографы (сначала беловой, затем – черновые).
В архиве С. Я. Надсона в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится 18 рукописных тетрадей и 1 рукописный альбом. В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР хранится большое количество рукописей Надсона в разных собраниях и в числе отдельных поступлений. В библиотеке Пушкинского дома имеется экземпляр первого издания, в котором восстановлены автором строки, не напечатанные по цензурным соображениям. Оба основных архива С. Я. Надсона, хранящиеся в Ленинграде, не описаны, не имеют сплошной нумерации листов в тетрадях, материалы в них не систематизированы. Небольшое количество автографов находится в Москве – в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина и Центральном государственном архиве литературы и искусства.
Часть рукописей Надсона утеряна. Об этом еще в 1900 г. писал поэт П. Ф. Якубович в статье «Надсон и его неизданные стихотворения» («Русское богатство», 1900, № 9, стр. 149). Одна тетрадь рукописей Надсона, принадлежавшая Е. А. Гончаровой (родственнице И. А. Гончарова), до сих пор не обнаружена. Не найдена и записная книжка Надсона, подаренная им поэту Н. М. Минскому, опубликовавшему некоторые тексты из нее («День», 1914, № 94, 6 апреля). Отсутствуют также рукописи многих стихотворений, опубликованных впервые П. Ф. Якубовичем, сначала в упомянутой выше статье, а затем в сборнике: С. Я. Надсон. Недопетые песни (Из посмертных бумаг). СПб., 1902. По-видимому, эти рукописи погибли вместе с большей частью архива П. Ф. Якубовича в 1919 г. в Петрограде. По сохранившимся рукописям видно, что, издавая стихотворения Надсона, П. Ф. Якубович правил их, иной раз весьма существенно (например, «Царевна Софья»). Включая затем эти произведения в собрания стихотворений Надсона, М. В. Ватсон печатала их с правкой Якубовича. В настоящем издании правка Якубовича снимается.
Следует оговорить, что и другие стихотворения часто печатались М. В. Ватсон в контаминированной редакции, с произвольными исправлениями, сокращениями, перестановками слов или стихов, с восстановлением без оговорок зачеркнутого автором текста (см., например, стихотворения: «Я сегодня в кого-то, как мальчик, влюблен.,», «Прости безвестному, что с именем твоим…», «Отрывок» («Пишу вам из глуши украинских полей…»}, «Из Бодлера», «Розы щечек, чудных глазок…» (Из Гейне), «Гаснет жизнь, разрушается заживо тело…», «Я их не назову врагами…», «Чернила выцвели, и пожелтел листок…»).
Иной раз М. В. Ватсон публиковала ранние редакции как самостоятельные произведения. В настоящем издании они отнесены в раздел «Ранние редакции и варианты» (см.: «Бедная комнатка, келья святая…» (Грезы), «Уронивши ресницы на пламенный взор…» (Мечты королевы), «Глухо стонет вьюга, – стонет и рыдает…» (Весенняя сказка) и др.) наряду с другими вариантами и ранними редакциями, публикуемыми впервые (таких большинство). В этом разделе приведены только избранные редакции и варианты, наиболее далекие от окончательного текста.
Стихи, восстановленные в настоящем издании по зачеркнутому тексту автографа, заключены в квадратные скобки. Зачеркнутые стихи печатаются лишь в случаях, когда без них теряется смысл или нарушается цельность замысла. Пропущенные слова, восстановленные предположительно, заключены в угловые скобки. Строки отточий в незавершенных стихотворениях, принадлежащие Надсону, оговариваются в примечаниях.
За основу датировки приняты даты Полного собрания сочинений 1917 г., заново проверенные и уточненные, там, где это возможно, по тем же материалам, которыми в свое время пользовалась М. В. Ватсон, то есть по автографам, переписке Надсона, его дневникам и другим документам. Даты, совпадающие с этим изданием, в примечаниях не отмечаются; случаи расхождения оговариваются. При уточнении датировки (например; «3 июня 1878» вместо «1878») указывается источник этого уточнения. Стихотворения, публикуемые впервые, а также не включавшиеся в собрания сочинений, датируются по источнику текста. Двойные даты (через тире;) означают период работы над произведением.
Рукописные тетради в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина датируются: стихотворения 1-й тетради – 1879 годом, тетрадь 4-я – 1878, 5-я – 1879, 6-я – 1880, 7-я – 1881, 8-я – 1882, 9-я 1882, 10-я – 1881, 11-я – августом 1882 – январем 1883, 12-я и 13-я начаты 24 февраля 1883 г., 14-я датируется 1884 годом, 16-я – апрелем 1885 – маем 1886, 17-я – 1882, 18-я – 1885; альбом начат в апреле 1884 г. Тетради 2-я и 3-я – дневники. В большинстве тетрадей на обложке или первом листе проставлены авторские даты; в иных случаях тетради датированы составителем настоящего издания. Следует иметь в виду, что иногда новые стихотворения Надсон записывал и в старых тетрадях.
Подпись в журнальных публикациях отмечается в тех случаях, когда она была неполной (например, «Семен Н.») или заменялась псевдонимом.
В книге два основных раздела: «Стихотворения» и «Незавершенные произведения, отрывки и наброски». Первый раздел представляет собой полное собрание законченных произведений, а также некоторых незавершенных стихотворений, значительных по содержанию, 32 стихотворения публикуются здесь впервые. В составе этого раздела выделены шуточные стихотворения и переводы, выполненные совместно с М. А, Российским, Во втором разделе помещены избранные отрывки и наброски; 38 из них публикуются впервые, В каждом из разделов произведения располагаются в хронологическом порядке, без подразделения по жанрам.
Условные сокращения, принятые в примечаниях:
1-е изд. – Стихотворения. СПб., 1885.
2-е изд. – Стихотворения. Изд. 2-е, СПб., 1886.
3-е изд. – Стихотворения. Изд. 3-е, СПб., 1886.
6-е изд. – Стихотворения. Изд. 6-е, М., 1887.
7-е изд. – Стихотворения. Изд. 7-е, СПб., 1888.
19-е изд. – Стихотворения. Изд. 19-е, СПб., 1902.
22-е изд. – Стихотворения. Изд. 22-е, СПб., 1906.
Альбом – альбом стихотворений Надсона 1884–1885 гг. в Собрании рукописной книги ГПБ.
Варианты – раздел «Ранние редакции и варианты».
ГБЛ – Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
ГПБ – Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
КН – «Книжки Недели».
НП – С. Я. Надсон. «Недопетые песни» (Из посмертных бумаг). СПб., 1902.
ОЗ – «Отечественные записки».
ПД – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.
ПСС – Полное собрание сочинений С. Я. Надсона, под ред. М. В. Ватсон. Пг., 1917, тт. 1–2.
РБ – «Русское богатство».
РМ – «Русская мысль».
Собр. соч. – все посмертные издания стихотворений.
Тетр. (с указанием номера) – тетрадь в Рукописном отделе ГПБ.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР в Москве.
ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.
Стихотворения
На заре*
Впервые – «Свет», 1878, № 4, стр. 117, с посвящением В. Мамонтову. С изм. – 1-е изд., стр. 121. Печ. по 2-му изд., стр. 144. Беловой автограф – тетр. 18. Первое напечатанное произведение Надсона. (См. Дневники – ПСС, т. 2, стр. 150–151, 157159.) Положено на музыку А. Т. Гречаниновым.
Кругом легли ночные тени*
Впервые – «Свет», 1878, № 5, стр. 155. Печ, по 1-му изд., стр. 134. В последующие издания не входило. Бедовой автограф – тетр. 18; черновой автограф – тетр. 3, среди датированных дневниковых записей.
Вперед!*
Впервые – «Свет», 1878, № б, стр. 196, с датой. В прижизненные издания не входило. Печ. по беловому автографу в тетр. 18, заведенной, очевидно, в 1885 г, во время подготовки 1 – го изд., с надписью: «Полное собрание стихотворений С. Надсона».
«Не весь я твой – меня зовут…»*
Впервые – «Свет», 1878, № 9, стр. 297, с датой. Печ. по 1-му изд., стр. 111. Беловые автографы – тетр. 18 и ПД. Положено на музыку В. И. Ребиковым.
На разлуку («В последний раз я здесь…»)*
Печ. впервые по беловому автографу ПД с пометой: «Дидвино». Заголовок и посвящение здесь оторваны; они восстановлены по черновым автографам тетр. 4. С. С. Д. – Софья Степановна Дешевова, мать Натальи Михайловны Дешевовой (см. о ней вступит, статью, стр. 6). С семейством Дешевовых Надсон познакомился в ноябре 1877 г. через Михаила Дешевова, вместе с которым учился в петербургской военной гимназии. Восторженное отношение Надсона к С. С. Дешевовой отражено в его дневниках (ПСС, т. 2, стр. 125, 127, 150, 151, 157). В дальнейшем Надсон разочаровался в С. С. Дешевовой, что и послужило, вероятно, причиной того, что М. В. Ватсон не включала это стихотворение в посмертные издания. «С. С. умерла – и я до сих пор не могу простить ее», – писал Надсон в дневнике (ПСС, т. 2, стр. 166).
Идеал*
Впервые – «Свет», 1878, № 9, стр. 297. В прижизненные издания не входило. В тетр. 4 Надсон записал: «По совету… Вагнера и даже им самим изменен „Идеал“. Именно: выпущен предпоследний куплет и заменены 2–3 банальные выражения более подходящими». Выпущенную строфу приводим в Вариантах по беловому датированному автографу в ПД.
Н. П. Вагнер (1829–1907) – зоолог и писатель, редактор журнала «Свет».
Ночью*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. Автограф ранней редакции – там же. Тигода – река в Новгородской губернии, приток Волхова.
«Блещут струйки золотые…»*
Впервые – КН, 1892, № 11, стр. 139. Беловой автограф с датой – тетр. 4.
Забытый певец*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. Другие автографы – там же. Среди черновиков запись Надсона: «Мысль такая: к нему является ангел, говорит, что за его страданья бог разрешит ему просить какую угодно награду: жизнь, богатство, счастье, славу и т. д. Он просит только одного: участья и ласки и желает умереть. На его слова обратить особенное внимание».
Признание умирающего отверженца. Печ. впервые по автографу тетр. 4, с пометой: «Дидвино», Другие автографы – тетр. 1 и 4.
Во мгле*
Впервые – «Свет», 1878, № 11–12, стр. 387, без подписи, с датой. Печ. по 6-му изд., стр. 5, с исправлением по беловому автографу тетр. 18. Подготавливая 1-е изд. к печати, Надсон переработал первопечатный текст. В прижизненные издания не вошло. Автограф первой редакции с датой и пометой «Мыза Дидвино» – тетр. 4.
«Минуло время вдохновений…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 4.
Романс*
Печ. впервые по беловому автографу тетр. 4, с пометой: «Дидвино». Черновые автографы – там же.
Христианка*
Впервые – «Свет», 1878, № 10, стр. 332, с посвящением Петру Александровичу Лебедеву. Печ. по 1-му изд., стр. 112. Многочисленные автографы, среди которых один с датой, – тетр. 4. По свидетельству Надсона, окончание стихотворения после стиха «О Рим, – и я христианин» изменено по совету Н. П. Вагнера (тетр. 4). В письме к сестре, А. Я. Мокеевой, Надсон писал: «Дела мои идут хорошо. В журнале „Свет“ по-прежнему печатаются мои стихотворения, и одно из них, а именно поэма „Христианка“, посвященная нашему гимназическому священнику <П. А. Лебедеву>, в гимназии просто фурор произвела» (ПСС, т. 2, стр. 454). См. о «Христианке» также в автобиографии Надсона (ПСС, т. 2, стр. 6). Нерон Клавдий Тиберий (37–68) – римский император, отличавшийся крайней жестокостью.
«Ты уймись, кручинушка, смолкните, страдания…»*
Впервые – КН, 1892, № 11, стр. 138. Беловой автограф с датой – тетр. 4. Набросок начала – там же. Стихотворение предназначалось для журнала «Свет», но было запрещено цензурой (см. след. примечание).
Призыв*
Впервые во вступит, статье А. Л. Дымшица к книге: С. Надсон. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Малая серия, 1949, стр. 26, без последних 12 стихов. Печ. по беловому автографу тетр. 4, с датой и пометой «В окончательном виде», где последние 12 стихов (зачеркнуты крестом), очевидно, были исключены автором с целью провести стихотворение в печать. Автографы ранних редакций – тетр. 4. В авторском списке стихотворений 1878–1879 гг. (тетр. 4) против названия «Призыв» помета: «Запрещено цензурой». Стихотворение предназначалось для журнала «Свет», но вместе с предшествующим было задержано С.-Петербургским цензурным комитетом «по неопределенности их содержаний, которые в то же время возбуждают в читателе крайне тяжелое чувство» (ЦГИАЛ. Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1876, № 85, л. 57).
Мать («Спите, ребятки; умаялись ноженьки…»)*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. Первоначальные наброски – там же.
Поэт и прозаик*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. В стихотворении содержатся элементы автопародии с использованием характерной для Надсона лексики. Многие обороты взяты им из стихотворения «Во мгле», рядом с которым в рукописи находится «Поэт и прозаик». Возможно, что впоследствии монолог Прозаика послужил основой для монолога Мефистофеля (см. «Песни Мефистофеля», стр. 305.
«Я чувствую и силы и стремленье…»*
Впервые – «Свет», 1879, № 4, стр. 166, с подписью: Семен Н. Печ. по 1-му изд., стр. 110. Беловой автограф – тетр. 18.
В тихой пристани*
Впервые – «Свет», 1879, № 6, стр. 254, с подписью: С. Н. Печ. по 1-му изд., стр. 143. Начиная с 6-го изд. текст печатался с незначительными изменениями, восходящими, очевидно, к не дошедшей до нас рукописи. Черновые автографы, один из которых с заглавием «Из воспоминаний детства», – тетр. 4. Стихотворение носит автобиографический характер и навеяно воспоминаниями детства, проведенного частично в Киеве. Эпиграф взят из предисловия А. С. Пушкина к «Отрывкам из путешествия Онегина».
«Терпи… Пусть взор горит слезой…»*
Впервые – «Свет», 1879, № 4, стр. 166, с подписью: Семен Н. Беловой автограф – тетр. 18.
Над свежей могилой*
Впервые – «Свет», 1879, № 4, стр. 166, с датой и подписью: Чужой. Печ. по 1-му изд., стр. 149. Н. М. Д. – Наталья Михайловна Дешевова (см. вступит, статью, стр. 6). Положено на музыку С. М. Блуменфельдом, В. А. Золотаревым, С. В. Рахманиновым, В. И. Ребиковым.
Слово*
Впервые – «Мысль», 1881, № 9, стр. 305, с датой и подписью: Семен Н. В прижизненные издания не входило. Начиная с 6-го изд. печаталось без посвящения. Н. Л. Ханыков (род. 1862) – товарищ Надсона по Кадетскому корпусу.
Поэт*
Впервые – «Слово», 1879, № 7, стр. 218. Беловой автограф – тетр. 18, черновые – тетр. 5 и ПД (с датой). По первоначальному замыслу стихотворение должно было иметь продолжение, о чем свидетельствуют наброски:
Но если ты, певец, в угоду сильным мира Поешь тельцов толпы и жжешь им фимиам, Не тронет нас Но если ты поешь ничтожные страданья(Тетр. 5)
Два горя*
Впервые – 6-е изд., стр. 175. Печ. по автографу ПД с датой. Другие автографы – тетр. б.
На разлуку («Прощайте, папочка…»)*
Впервые – «Кадет-Петровец», 1912, № 9, стр. 16, с редакторским примечанием к посвящению: «Подполковник Никандр Петрович Померанцев был воспитателем и преподавателем географии в военной гимназии. Кадеты его любили и звали „папашей“. Рассказывают, что на его приветствие малышам-кадетам: „Здорово, поросята!“ – они дружно отвечали: „Здравствуйте, папаша!“» В собр. соч. не входило.
Сон Иоанна Грозного*
Печ. впервые по автографу тетр. 5. Другие автографы – там же и ПД. В автографе после публикуемого текста стоит цифра 3, обозначающая начало новой главы. Стихотворение заново написано на тему одноименного детского произведения Надсона (см. его – КН, 1891, № 1, стр. 46). Кравчий – придворный чин в Московском государстве; первоначально – боярин, услуживавший царю за столом. Про грозный бой у белых стен Казани. Имеется в виду взятие Казани Иваном Грозным в 1552 г.
Желание*
Впервые – КН, 1892, № 11, стр. 137, без 4-й строфы и заглавия. С 4-й строфой, без заглавия – Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Малая серия, 1957, стр. 61. Печ. по автографу с датой тетр. 5. Другие автографы – там же.
В тени задумчивого сада*
Впервые – «Свет», 1879, № 10, стр. 156, с заглавием «В сумерках», датой и пометой: «Мыза Дидвино». Печ. по 1-му изд., стр. 103. Беловой автограф – тетр. 18. Черновые автографы – тетр. 5, где один с заглавием «Под звуки песни».
«Я заглушил мои мученья…»*
Впервые – КН, 1892, № 12, стр. 85. Беловой с датой и черновые автографы – тетр. 5. Обращено, по-видимому, к С. С. Дешевовой (см. примечание к стихотворению «На разлуку», стр. 421). Положено на музыку В. И. Ребиковым.
Наедине*
Впервые – 6-е изд., стр. 192. Беловой автограф с пометой «Сергиево» – тетр. 5. В собр. соч. датировалось 1880 г. Стихотворение навеяно впечатлением от посещения Дешевовых в Сергиеве после смерти Н. М. Дешевовой. В той же тетради, где находится стихотворение, записан адрес: «По Балтийской железной дороге на станцию Сергиево, дача Худынцева». См. также письмо Надсона В. И. Мамонтову 1880 г. (ПСС, т. 2, стр. 458).
В горах*
Впервые – 6-е изд., стр. 181. Автограф – ПД. Ст. 9-12 и 29–32, объединенные в одну строфу, были использованы потом в незавершенной повести «К тихой пристани» (неопубликованная редакция, автографы – тетр. 8 и ПД), где приписаны ее герою Сергею Полозову, в образе которого есть автобиографические черты (см. примечание к стихотворению «Ты помнишь – ночь вокруг торжественно горела…», стр. 426). О впечатлении, которое произвел на Надсона Кавказ, он писал в письме к сестре – А. Я. Мокеевой: «Твой почтенный братец то и дело лазает по горам и взбирается на страшные крутизны, отыскивая прекрасные виды – и виды действительно стоят того, чтобы на них любоваться без конца: какая-то глубоко-могучая и бесконечно суровая мысль залегла в седых горах Кавказа. Так вот и кажется, что сдвинутся они, эти суровые великаны, н раздавят дерзкого червяка-человека, решившегося взобраться на их крутые хребты» (ПСС, т. 2, стр. 455–450).
Похороны*
Впервые – «Слово», 1879, № 6, стр. 125. Беловой автограф – тетр. 18, черновые – тетр. 1. Зачеркнутая строфа (см. Варианты) в автографе записана дважды: после 2-й строфы и в другой редакции – после 3-й. В собр. соч. датировалось 1878 г. В авторском списке стихотворений оно стоит в рубрике: «1879, окончены» (тетр. 1). Черновая запись сделана среди вариантов стихотворения «Где ты? Ты слышишь ли это рыданье…», посвященного смерти Н. М. Дешевовой, умершей 13 марта 1879 г. В 1892 г. была запрещена как Московским, так и С.-Петербургским цензурными комитетами публикация стихотворения «Похороны» в качестве текста к музыкальному сочинению Дмитриева. На докладе по этому делу поставлена резолюция рукой председателя Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова: «Московский комитет поступил правильно. Если стихотворение это и было уже напечатано, то из этого не следует, чтобы было пригодно распевать его в концертах» (ЦГИАЛ. Дело Главного управления по делам печати, 1892, № 1251, л. 1).
За что?*
Впервые – 1-е изд., стр. 106. Беловой и черновые автографы – тетр. 5. В посмертных изданиях, начиная с 7-го, ст. 5 печатался с редакторской поправкой: «С тех пор, когда она в земле была зарыта». Стихотворение обращено к родным Н. М. Дешевовой. О своей любви к Н. М. Дешевовой Надсон записывал в дневнике уже после ее смерти, 10 июня 1880 г.: «Какие же, в самом деле, были мои отношения к Наташе? Я не был в нее влюблен, но я любил ее так, как и не подозревал, что могу любить. Я любил в ней сестру, любил чистую и безгрешную девушку, любил идеал свой. Я знаю, что другой Наташи я не встречу!» (ПСС, т. 2, стр. 168). Положено на музыку В. И. Ребиковым.
«Спи спокойно, моя дорогая…»*
Впервые – КН, 1895, № 2, стр. 69, с заглавием «На свежей могиле». Печ. по изд. 13. СПб., 1895, стр. 127. Эпиграф взят из заупокойной молитвы. Положено на музыку С. М. Блуменфельдом. Это и следующие четыре стихотворения являются откликом на смерть Н. М. Дешевовой.
«Где ты? Ты слышишь ли это рыданье…»*
Печ. впервые по беловому автографу тетр. 1. Черновые автографы тетр. 1 и 5.
«Рыдать? – Но в сердце нет рыданий…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5; другие автографы – там же.
«В тине житейских волнений…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 177. Автограф – тетр. 5.
«При жизни любила она украшать…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 184.
В альбом («Когда в минуты вдохновенья…»)*
Впервые – КН, 1892, № 12, стр. 84. Автограф – тетр. 5.
Ф. Ф. Стаалю*
Впервые – КН, 1895, № 2, стр. 70. Написано по случаю окончания Надсоном военной гимназии в 1879 г. В журнале 2-го кадетского корпуса было перепечатано с комментарием: «По поводу окончания гимназии Надсон написал стихотворение, посвященное выпускным товарищам, на которых оно произвело большое впечатление. Почти все „однокашники“ поэта списали его себе „на память“» («Кадет-Михайловец», 1908, № 2, стр. 18). Стааль Фридрих Федорович (род. 1861) – товарищ Надсона по Кадетскому корпусу.
Боярин Брянский*
Впервые – «Свет», 1879, № 6, стр. 245, с подписью: С. Н. Печ. по 1-му изд., стр. 123, где исключена 12-я строфа. В дальнейшем в прижизненные издания не входило. Кравчий – см. примечание к стихотворению «Сон Иоанна Грозного», стр. 424.
«В тот тихий час, когда неслышными шагами…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 182. Положено на музыку В. И. Ребиковым.
«Ты помнишь – ночь вокруг торжественно горела…»*
Впервые – «Синий журнал», 1912, № 3, стр. 14. В тетр. 5, где находится автограф начала стихотворения с заглавием «Над рекой», после 8-го стиха помета: «Дальше, как и прежде (у Ханыкова)», т. е. «рукопись у Ханыкова». Возможно, что эта помета относится к записанному в тетр. 1 стихотворению «Замолк последний звук. Как тихое рыданье…». Другие автографы с тем же заглавием – ПД. Автограф начала другой редакции – тетр. 4. Стихотворение с некоторыми разночтениями вошло в состав незаконченной повести Надсона «К тихой пристани», где приписано Сергею Полозову (ПСС, т. 2, стр. 339).
Томас Мюнцер*
Печ. впервые по автографу тетр. 5. Томас Мюнцер (ок. 1490–1525) – немецкий революционер, вождь и идеолог крестьянско-плебейского лагеря в период Реформации и Крестьянской войны 1525 г. в Германии. Мюнцер обращался к крестьянскому и плебейскому населению с призывами к объединению для общей борьбы против князей, к решительному уничтожению замков и монастырей как средоточия феодального гнета. Эти призывы и легли в основу написанной части поэмы.
«Горячее солнце так ласково греет…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5.
«Когда душа твоя истерзана страданьем…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5.
«Замолк последний звук. Как тихое рыданье…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 1. Возможно, по замыслу связано со стихотворением «Ты помнишь – ночь вокруг торжественно горела…» (см. примечание к нему, стр. 426).
«Пусть стонет мрачный лес при шуме непогоды…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5. Другие автографы – тетр. 5 и 1.
«Порваны прежние струны на лире моей…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 1. Другой автограф – там же.
Иуда*
Впервые – «Мысль», 1881, № 9, стр. 300, с подписью: Семен Н. Печ. по 1-му изд., стр. 136. Автограф начала стихотворения – тетр. 6. В тетр. 10 содержатся заметки с надписью: «Для „Иуды“». Подготавливая 2-е изд. стихотворений, Надсон имел в виду исключить «Иуду» из сборника, затем передумал, и стихотворение вошло во все прижизненные издания (см. письма к М. В. Ватсон от 10 октября 1885 г. и 10 февраля 1886 г. – ПСС, т. 2, стр. 545, 553). В первой публикации стихотворение печаталось с посвящением Митрофану Яковлевичу Лаврову и эпиграфом: «И возлюбиша человеки паче тьму, неже свет. Ев. от Иоанна, 3-19». В этой публикации были помещены еще 6 строк, не принадлежащие Надсону:
Но если он способен был Поверить даже на мгновенье, Что тот, кто целый мир простил, Молил и за его прощенье?.. Что совершилося тогда С его истерзанной душою?с примечанием редакции: «Последние шесть строк этого стихотворения не принадлежат его автору, г. Семену Н., а прибавлены впоследствии другим лицом. Редакция нашла возможным напечатать в таком виде стихотворение, сделав эту оговорку. Последним строкам она придает значение, ибо они ярко характеризуют сущность учения Христа, а следовательно, должны обрисовать гораздо ближе к действительности и предсмертные чувства Иуды, знавшего, конечно, как учение Христа, так и то, что он на кресте молился за врагов своих». Можно предполагать, что эти строки написаны Леонидом Егоровичем Оболенским, регулярно печатавшим свои стихи в «Мысли». С 1882 г. Оболенский стал официальным редактором, а фактически руководил журналом и раньше. В автобиографии Надсон сообщает: «В следующем году (1879) я испытал первое литературное торжество, читая на концерте в гимназии… свое стихотворение „Иуда“, имевшее шумный успех (его впоследствии без моего позволения напечатали в „Мысли“ Оболенского)» (ПСС, т. 2, стр. 6).
Голгофа – холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по евангельскому рассказу, был распят Христос.
Кедрон – долина близ Иерусалима.
По следам Диогена*
Впервые – КН, 1895, № 2, стр. 71. Диоген (ок. 414–323 до н. э.) – древнегреческий философ. Имеется в виду предание о том, как Диоген, расхаживая с фонарем в руках, на вопрос, что он ищет, ответил: «Человека ищу».
В<ладислав> Слабошевич (род… 1861) – товарищ Надсона по Кадетскому корпусу.
Ваал – древневосточное божество, которому поклонялись в Финикии, Сирии и Палестине. В литературе обычно иносказательное обозначение политической реакции, грубой власти, иной раз власти денежной.
«Заря лениво догорает…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 183. Автограф ст. 9-12 – тетр. 4. Положено на музыку Ц. А. Кюи, Э. Ф. Направником, А. А. Спендиаровым, Терещенко, А. Таскиным.
Облака («По лазури неба тучки золотые…»)*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 795. Печ. по автографу ПД с датой, надписью «Окончательно» и пометой: «Тифлис». В одной из черновых тетрадей Надсон записал: «Стихотворение „Облака“ вчера показал нашему преподавателю словесности Незеленову. Показал не сам, а просил Лозинского. Сегодня, после четвертой лекции мы окружили его и спросили его мнение, сказав, что автора между нами нет. „Облака“, в случае благоприятного с его стороны ответа, собираюсь послать в „Вестник Европы“. Тяжелая вещь – сомнения в своем таланте! 23 января 1881 г. Незеленов принялся ценить это стихотворение, подгоняя его под литературные законы, и сказал, что по его мнению – хорошо: образы есть, мысль есть, стих правильный. В „Вестник Европы“ посылать не советовал: там, говорит, печатаются только установившиеся литературные репутации. Но, несмотря на это, я все-таки послал его в „Вестник“. 24 января 1881 г.». Затем приписка: «И не получил ответа. Да!!!»
«Да, хороши они, кавказские вершины…»*
Впервые – «Слово», 1881, № 1, стр. 148. Беловой автограф – тетр. 18. Во 2-м изд. напечатано с пометой: «Тифлис».
«Томясь и страдая во мраке ненастья…»*
Впервые – «Русская речь», 1880, № 12, стр. 297, с подписью: П. Иванов. Печ. по 1-му изд., стр. 108. Беловой автограф – тетр. 18. Многочисленные черновые автографы с датами и варьирующимся заглавием («Вопрос», «Счастье», «Ищущему») – тетр. 6. 24 октября 1880 г. Надсон записал в дневнике: «Отдал Иванову свое стихотворение „Томясь и страдая“, которое и будет помещено в „Русской речи“ за декабрь под его фамилией» (ПСС, т. 2, стр. 180). Это стихотворение было подарено Надсоном его товарищу по Павловскому училищу для получения гонорара, как бы в оплату за сделанные тем для Надсона чертежи (см. воспоминания П. Иванова – «Сибирский наблюдатель», 1901, № 10, стр. 1040. Эпиграф взят из евангельской притчи о человеке, который явился на брачный пир к царю в неподобающей одежде, за что был наказан.
Отрывок («И вот, от ложа наслажденья…»)*
Впервые – 1-е изд., стр. 147. Продолжение стихотворения, не включенное в окончательный текст, – РБ, 1900, № 10, стр. 7. Автографы с вариантами заглавия – «Весталка», «Падшая весталка» – тетр. 6 и ПД. В стихотворении речь идет о весталке (жрице Весты, богини домашнего очага и огня в Древнем Риме), нарушившей обет целомудрия и обреченной за это, по римским обычаям, на смерть.
«Я не тому молюсь, кого едва дерзает…»*
Впервые – «Слово», 1880, № 8, стр. 138. Беловой автограф – тетр. 18. В собр. соч. датировалось 1881 г.
«Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат…»*
Впервые – «Слово», 1881, № 1, стр. 76. Печ. по 2-му изд., стр. 85. Беловые автографы – тетр. 18 и ПД (в экз. 1-го изд., подаренном Надсоном М. В. Ватсон). В собр. соч. датировалось 1881 г. Это стихотворение положило начало широкой популярности Надсона. П. Ф. Якубович указывает: «Первое его стихотворение, „ударившее по сердцам“ (и по моему в том числе), появилось в январской книжке „Слова“ за 1881 г.» (П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1960, стр. 390).
Поэзия («За много лет назад, из тихой сени рая…»)*
Впервые – «Слово», 1880, № 8, стр. 138. Печ. по 1-му изд., стр. 7. Положено на музыку А. С. Аренским и Г. Конюсом.
В альбом («Непрошеный стучусь я в ваш альбом…»)*
Впервые – Стихотворения. Изд. 8-е, СПб., 1888, стр. 122, без посвящения. Печ. по беловому автографу ПД. Черновые автографы – тетр. 6. В собр. соч. датировалось 1879 г. Екатерине Александровне Стобеус посвящено также стихотворение «В альбом» («Простите безумца за прошлые звуки…») и, вероятно, «В альбом» («Мы – как два поезда…»).
Мелодия*
Впервые – 6-е изд., стр. 189. Печ. по автографу с пометой «Тифлис» тетр. 6. Положено на музыку С. В. Рахманиновым.
«О, спасибо вам, детские годы мои…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 6. Печ. по автографу ПД.
«Если душно тебе, если нет у тебя…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 190. Автографы ранних редакций – ПД.
«В мире были счастливцы…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 191. Автограф – ПД. В этих гимнах эдемские зори сияли.
Эдем – мифическая страна, где, по библейскому рассказу, находился рай – местопребывание «первых людей», Адама и Евы.
Мелодии («Погоди: угаснет день…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 202. Автограф с надписью «В Ниву» и пометой «Тифлис» – ПД, там же – автограф варианта 2-й и 3-й частей с заглавием «На смену».
«Вы смущены… такой развязки…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 5. Печ. по автографу ПД. Автографы двух других редакций – тетр. 6.
На мгновенье*
Впервые – 6-е изд., стр. 210, с заглавием «Мгновенье». Печ. по автографу ПД. Другой автограф – там же.
«В роще зеленой, над тихой рекой…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 209. Автограф – ПД. Положено на музыку Ф. Ф. Кенеманом и А. Г. Рубинштейном.
Поэзия («Прелестная, полунагая…»)*
Впервые – НП, стр. 11. Печ. по автографу ПД, со снятием правки, сделанной рукой М. В. Ватсон. Другой автограф – там же. В рукописи помета: «Тифлис».
«Море – как зеркало!..»*
Впервые – 6-е изд., стр. 228, Датируется по положению автографа в тетр. ПД. Положено на музыку А. Таскиным.
Царевна Софья*
Впервые – НП, стр. 121, в контаминированной редакции и с правкой П. Ф. Якубовича. Автографы трех редакций – ПД. Печ. по последней редакции с добавлением отсутствующих в ней двух последних монологов из второй редакции. В ломаные скобки заключен текст, утраченный в рукописи и предположительно восстановленный П. Ф. Якубовичем. Среди черновиков пьесы содержится следующий «План 1-го действия»:
Две картины:
1) Терем царевны Софьи.
2) Пир у Милославского.
Картина I.
Явление I. Софья и мамка.
Явление II. Софья и Милославский.
Явление III. Софья и мамка.
Явление IV. Софья одна.
Явление V. Наталья Нарышкина и Софья.
Явление VI. Софья одна.
Картина II.
Явление I. Милоелавский, Семен Волынский, Василий Голицын, Иван Андреевич Хованский, князь Воротынский. Слуги.
Явление II. Семен Волынский, Василий Голицын, Иван Милославский. (Колокольный звон.)
Пьеса датировалась 1881 г., но на обороте автографа «Царевны Софьи» записан один из набросков стихотворения «Отрывок» («И вот, от ложа наслажденья…»), другие автографы которого находятся в тетр. 6, 1880 г. Царевна Софья (1657–1704)) – дочь царя Алексея Михайловича, правительница Русского государства в 1682–1689 гг., добившаяся власти с помощью московских стрельцов и правившая при малолетних царях – Иване и Петре. Для своего времени была хорошо образована, обладала незаурядным умом и большой энергией. Умерла в заточении, в Новодевичьем монастыре, низложенная Петром I. Голицын Василий Васильевич (1643–1714) – князь, государственный деятель, выдвинувшийся при царе Федоре Алексеевиче. При Софье Алексеевне, будучи ее фаворитом, сосредоточил в своих руках все нити управления государством. Милославский Иван Михайлович (ум. 1685) – сторонник Софьи и активный участник Стрелецкого бунта 1682 г. Род бояр Милославских враждовал с дворянским родом Нарышкиных, выдвинувшимся благодаря браку царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью Петра I. В правление Софьи Нарышкины были отстранены от власти. Ты от государя. Имеется в виду царь Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича, наследовавший ему 14-летним юношей в 1676 г. и умерший в апреле 1682 г. С его смертью особенно обострилась борьба придворных группировок за власть. Перед царем покойным. Речь идет об Алексее Михайловиче (1629–1676;), вступившем на престол в 1645 г. Помимо двух наследников законных. Имеются в виду сыновья Алексея Михайловича от первого брака с М. И. Милославской – Иван и Федор. Царевич Петр – Петр I.
«Сейчас только песни звучали…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 6.
«Есть страданья ужасней, чем пытка сама…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 198. 10 июня 1880 г. Надсон записал в дневнике: «И день и ночь – все те же тяжелые думы. Я становлюсь страшен самому себе: я похож на доктора, который прислушивается к ходу собственной болезни и наблюдает, как мало-помалу пред- смертная агония охватывает его тело. Так продолжаться не может: все это должно разрешиться чем-нибудь» (ПСС, т. 2, стр. 168). На следующий день, 11 июня 1880 г., по поводу этой записи он заметил: «Вчера я сильно погорячился. Такие мучительные минуты нередки в моей жизни, и попадись мне в руки револьвер – я, наверно, не задумался бы кончить с собой, несмотря на неудовлетворенную жажду жизни» (там же, стр. 169).
Старая беседка*
Впервые – 6-е изд., стр. 206. Автограф – ПД. В автографе есть цифра 3, обозначающая новую, ненаписанную строфу; сбоку записана, очевидно, 2-я часть этой строфы, по всей вероятности финал стихотворения:
Отдохни ж от страданья и горя Здесь, на лоне зеленого моря, На груди ароматной весны.«Еще чертог залит огнями…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 207. Автограф – ПД.
«Случалось ли тебе бессонными ночами…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 208. Положено на музыку Н. Н. Черепниным.
«Тихо замер последний аккорд над толпой…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 212. Навеяно воспоминаниями о Н. М. Дешевовой.
«День что-то хмурится…»*
Впервые – КН, 1894, № 3, стр. 45. Автограф – ПД. Другие автографы – тетр. 10.
Братьям*
Впервые – 6-е изд., стр. 213. Автограф-ПД.
«Мелкие волненья, будничные встречи…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 162.
«Ты дитя… жизнь еще не успела…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 214, без последних восьми стихов. Печ. по автографу ПД. Другие автографы – там же.
«Христос!.. Где ты, Христос, сияющий лучами…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 215. Автографы других редакций первых двух строф – тетр. 17 и ПД.
«Душа наша – в сумраке светоч приветный…»*
Впервые – КН, 1894, № 3, стр. 45. Автограф, где записаны еще два стиха: «Немое безлюдье, глухое молчанье, Кто в эту суровую даль забредет?» – ПД.
Полдороги*
Впервые – «Русская речь», 1882, № 4, стр. 290, с подписью: Ф. Юрьев. В прижизненные издания не входило. Ряд автографов – тетр. 6 и 10. В собр. соч. датировалось 1881 г. Ст. 1–4, 28–30 были использованы в стихотворении «Певец»; см. примечание к нему, стр, 436.
Дриады (греч. миф.) – лесные нимфы.
Святитель*
Впервые – 6-е изд., стр. 257. Печ. по автографу тетр. 11. Другой автограф этой же редакции – ПД. Другие автографы – тетр. 6. Наброски начала – тетр. 17. Другие редакции – см. ПСС, т. 1, стр. 152–153. В черновиках вариант заглавия: «Молебен». В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 199, без последней строфы. Печ. по автографу ПД с датой. Автограф последней строфы содержится в рукописях также и на отдельном листке (ПД). В собр. соч. датировалось 19 января 1880 г.
Памяти Ф. М. Достоевского («Когда в час оргии…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 220. Печ. по автографу тетр. 10. Другие автографы – там же.
Валтасар (VI в. до н. э.) – последний вавилонский царь, погибший, по библейскому сказанию, во время пира при взятии Вавилона персами. Перед смертью Валтасара на стене его дворца появились таинственные письмена, возвещавшие близкую гибель царя. Впоследствии выражение «Валтасаров пир» стало обозначать беззаботное веселье, прерванное катастрофой.
Амфоры – сосуды, применявшиеся в Древней Греции для хранения вина и масла.
Печальный терн его прочней, чем лавр героя – очевидно, намек на генерала М. Д. Скобелева, который прославлялся правительством и реакционной прессой (см. примечание к стихотворению «Герою», стр. 436, первоначально называвшемуся «Лавр и терн»).
Памяти Ф. М. Достоевского («Как он, измученный…»)*
Впервые – 1-е изд., стр. 150, с цензурным пропуском 4-го стиха и с искажением в 9-м стихе («Но между строчками…»). Печ. по кн. – Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Малая серия, 1957, стр. 101. Беловой автограф – тетр. 9, черновые автографы – там же.
Грезы («Мне снилось вечернее небо…»)*
Впервые – «Всемирная иллюстрация», 1887, № 949, стр. 250. В собр. соч., начиная с 6-го изд., публиковалось без заглавия. Печ. по автографу тетр. 10 с датой. Другой автограф – там же. Положено на музыку В. А. Золотаревым, С. М. Ляпуновым, П. Чесноковым, А. С. Аренским.
«О любви твоей, друг мой, я часто мечтал…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 1, стр. 148. В посмертных собр. соч., начиная с 19-го изд., печаталось с редакторским исправлением 4-го стиха по совету П. Ф. Якубовича (см. его статью «Надсон и его неизданные стихотворения» – РБ, 1900, № 10, стр. 4), Беловые автографы – тетр. 10 с датой и ПД. Черновые автографы – тетр. 10 с той же датой и ЦГАЛИ. Положено на музыку А. А. Спендиаровым.
«Сколько лживых фраз, надуто-либеральных…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 235. Автографы других редакций – ПД.
«Как белым саваном, покрытая снегами…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 1, стр. 149. Многочисленные автографы – тетр. 10 и ПД. В собр. соч. датировалось 1882 г. Следует считать его законченным в 1881 г., так как в одной из черновых тетрадей Надсона есть запись от 2 января 1882 г.: «Стихи мои: „О любви твоей“, „Завеса сброшена“ и „Как белым саваном, покрытая снегами“ – будут напечатаны в январе 1882 в „Отеч. записках“» (ПСС, т. 2, стр. 181). Стихотворение навеяно смертью Н. М. Дешевовой. 14 декабря 1882 г. Надсон писал А. Н. Плещееву: «Читали ли вы стихотворения в прозе Тургенева? Некоторые замечательны, если вчитаешься. Меня обрадовало и поразило в особенности одно: „Черепья“, сюжет которого и самый образ схож с мыслью моего стихотворения в январской книжке „Отеч. зап.“ – „Как белым саваном“» (ПСС, т. 2, стр. 473).
«Завеса сброшена: ни новых увлечений…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 1, стр. 147. Ранняя редакция – «Голос минувшего», 1916, № 11, стр. 205, где опубликовано по рукописи. Многочисленные автографы других ранних редакций – тетр. 7, тетр. 10, ПД (где один из них с заглавием «На полдороге»), ЦГАЛИ. В собр. соч. датировалось 1882 г. (см. предыдущее примечание). 7 февраля 1886 г. Надсон писал Ф. Ф. Фидлеру: «Мне кажется, что пьеса „Завеса сброшена“ может до некоторой степени характеризовать мое миросозерцание» (ГБЛ). Стихотворение Надсона вызвало отклик П. Якубовича, поместившего в ОЗ, 1882, № 12 стихотворение «Рассеян мрак, завеса поднята!..», в котором есть строки, являющиеся как бы ответом на стихи Надсона «И всё оплакано… осмеяно… забыто, Погребено – и не воскреснет вновь!»:
Что нам до мертвых? Разбудить, Воззвать их к жизни мы не в силах. Пока есть капля крови в жилах, Не будем плакать на могилах – Идем бороться, мыслить, жить!См. примечания Б. Н. Двинянинова к этому стихотворению Якубовича (П. Якубович. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1960, стр. 396). Положено на музыку Г. Конюсом.
«Пока свежо и гибко тело…»*
Впервые – «Кадет-Михайловец», 1908, № 2, стр. 10, с редакторским примечанием: «Это недавно найденное стихотворение нигде не было напечатано и появляется в нашем журнале впервые. Как предполагают, стихотворение это написано поэтом в последний год <1879> пребывания его во 2-й СПб. военной гимназии». В собр. соч. датировалось 1879 г. Написано в 1881 г., во время пребывания Надсона в Павловском училище, и в тетр. 10, где имеются и другие автографы этого стихотворения, первая часть его занесена с авторской пометой: «По просьбе Шмидта, для его руководства гимнастики». В ПД, в архиве Литературного фонда (1908, № 6), хранятся письма М. В. Ватсон и Н. Жерве к председателю Литературного фонда Н. И. Карееву относительно первой публикации стихотворения. В письме М. В. Ватсон (от 7 марта 1908 г.) – копия рукописи стихотворения, переданной в музей 2-го кадетского корпуса, совпадающая с публикуемым текстом.
«С каждым шагом вокруг всё черней и черней…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 6. Автограф с пометой М. В. Ватсон: «Все переделать» и правкой П. Ф. Якубовича – ПД. В первой публикации и собр. соч. печаталось с правкой Якубовича. Печ. по автографу с восстановлением авторского текста. В собр. соч. датировалось 1880 г. Датируется по положению автографа в тетр. ПД.
Бедуин*
Перевод отрывка (ст. 86-115) из поэмы польского Поэта Юлиуша Словацкого (1809–1849) «Ojciec zadzumionych» (1837). Впервые – 6-е изд., стр. 226, в контаминированной редакции. Печ. по автографу ПД. Там же другие автографы, один из которых с заглавием «Чума», а также сделанный кем-то для Надсона подстрочный перевод другой части этой поэмы Ю. Словацкого с припиской в конце: «Затем следуют известные уже вам стихи», т. е. переведенные Надсоном. Первый полный перевод поэмы на русский язык сделан X. Яшуржинским («Славянский ежегодник», вып. 5. Киев, 1882).
В толпе*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 1, без заглавия, посвящения и последней строфы. Печ. по автографу тетр. 10. Другие автографы – там же. На одном из них авторская помета: «В „Слово“».
Dornroschen*
Впервые – 6-е изд., стр. 230, с заглавием «Царство сна». Печ. по последнему из многочисленных автографов тетр. 7. В тетр. 10 есть другие автографы стихотворения с заглавиями «Окаменелое царство» и «Поцелуй». По замыслу связано с «Весенней сказкой», написанной на ту же тему и в одном из черновых автографов (тетр. 9) имеющей вариант заглавия «Dornroschen».
Сонет*
Впервые – 6-е изд., стр. 237. Автограф – тетр. 10.
В альбом («Простите безумца за прошлые звуки…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 242. Автограф с пометой «Любань» – тетр. 10. Е. А. С. – Екатерина Александровна Стобеус.
«Я плакал тяжкими слезами…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 14. Автографы – тетр. 10. Положено на музыку В. И. Ребиковым.
Герою*
Впервые – РБ, 1900, № 11, стр. 10. Многочисленные автографы ранних редакций – тетр. 10. В черновиках озаглавлено «Лавр и терн». В собр. соч. датировалось 1882 г. Обращено к генералу М. Д. Скобелеву (1843–1882) и является откликом на Ахалтекинскую военную экспедицию и занятие Ашхабада в 1880–1881 гг., которыми Скобелев руководил. См. примечание к стихотворению «Памяти Ф. М. Достоевского» («Когда в час оргии, за праздничным столом…»), стр. 433.
«Везде, сквозь дерзкий шум самодовольной прозы…»*
Впервые (более ранняя редакция) – 22-е изд., стр. 338. Печ. по автографу тетр. 10. Другие автографы – там же. В собр. соч. датировалось 1886 г.
«Я не зову тебя, сестра моей души…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 10.
«Стройный хор то смолкал, то гремел, как орган…»*
Печ. впервые по беловому автографу ПД. Другие автографы – тетр. 10 и ПД. Ранняя редакция «Я молился сегодня о ней…» без последней строки печаталась М. В. Ватсон в собр. соч. как самостоятельное стихотворение под 1880 г. (ПСС, т. 1, стр. 99). Навеяно смертью Н. М. Дешевовой.
В альбом («Мы – как два поезда…»)*
Впервые – КН, 1887, № 6, стр. 5. Вероятно, посвящено Е. А. Стобеус.
«Напрасные мечты!.. Тяжелыми цепями…»*
Впервые – Стихотворения. Изд. 10-е, СПб., 1890, стр. 158.
Певец*
Впервые – 6-е изд., стр. 238. Автограф – ПД. В «Певце» (ст. 11–32) использована тема стихотворения «Полдороги» и взяты оттуда стихи 12, 15, 22–25. Н. Л. Ханыков – см. стр. 423.
«Позабытые шумным их кругом – вдвоем…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 2, стр. 403. Датируется по беловому и черновому автографам ПД. В собр. соч. датировалось 1880 г.
«Осень, поздняя осень!.. Над хмурой землею…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 197. Первая редакция стихотворения, существенно отличающаяся от текста 6-го изд., была опубликована в том же году (1887) как самостоятельное стихотворение в «Северном вестнике» (№ 4, стр. 200). Беловой автограф второй редакции с припиской И. Л. Щеглова: «Написано для меня в Павловске на даче Абрамсон, где я жил с Надсоном по выпуске его в офицеры» и датой: 1 сентября 1882 г. – ГБЛ. Черновые автографы обеих редакций – ПД. В черновиках, датируемых 1881 г., стихотворение имело заглавия: «Осенняя немочь», «Осенний недуг», «На смену» и посвящение В. П. Мартынову, В собр. соч. датировалось 1880 г.
Мечты королевы*
Впервые – КН, 1893, № 2, стр. 115. Другая редакция, значительно большая по объему, но более ранняя (см. ее в Вариантах), без последних четырех стихов – РМ, 1887, № 3, стр. 15. Другая ранняя редакция с заглавием «Бал королевы» была опубликована в КН, 1896, № 1, стр. 12. Ранняя редакция «Уронивши ресницы на пламенный взор…», без последних четырех стихов, в собр. соч. публиковалась как самостоятельное стихотворение. Печ. по беловому автографу в письме Надсона от 27 февраля 1882 г. к секретарю 03 поэту А. Н. Плещееву (ПД, собр. А. Е. Бурцева!). Многочисленные черновые автографы – тетр. 6, 7, 9, 10 и ПД. В собр. соч. отдельные отрывки датировались 1881 и 1882 гг. В письме Плещееву Надсон писал: «В старых моих тетрадях отыскал я прилагаемое стихотворение, но положительно не знаю, какого оно качества и годно ли для помещения в „Записках“. На всякий, впрочем, случай присылаю Вам его. Если Вы найдете возможным его напечатать, мне хотелось бы, чтобы сохранилось и посвящение. Написана пьеска на мотив из „Первой любви“ Тургенева». М. А. Р. – Мария Александровна Российская, сестра Михаила Александровича Российского, близкого товарища Надсона по юнкерскому училищу. Текст «Уронивши ресницы на пламенный взор…» положен на музыку Василенко.
Весенняя сказка*
Впервые – ОЗ, 1882, № 5, стр. 31, с датой: 1881. По первоначальному замыслу «Весенняя сказка» являлась частью поэмы «Сказка». Из этой поэмы Надсон выделил для публикации в ОЗ ее среднюю часть, отбросив обрамление и дав поэме новое заглавие – «Весенняя сказка». Отброшенные части «Сказки» (см. Варианты) были опубликованы посмертно как самостоятельное произведение в «Вестнике Европы», 1887, № 4, стр. 800, с ошибочной датой – 1886 г. Выделенный автором текст «Весенней сказки» был здесь пропущен. Так же печаталась «Сказка» (под заглавием «Старая сказка») в собр. соч., где датировалась 1881 г. Многочисленные автографы – тетр. 9, один из них с датой 13 января 1881 г. А. Н. Плещеев, получив от Надсона рукопись «Весенней сказки», в ответном письме от 20 марта 1882 г., одобрительно отозвавшись о поэме в целом, советовал исправить в ней некоторые стихи (ЦГАЛИ). О замысле поэмы см. примечание к стихотворению «Dornroschen», стр. 435. Мамонтова Екатерина Ильинична – двоюродная сестра поэта.
Женщина*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 4. Без первых трех строф – «Еженедельное обозрение», 1887, № 169, 5 апреля. В собр. Соч., начиная с 6-го изд., печаталась сводка различных редакций. Поэма не была закончена. Сохранились многочисленные черновики отрывков, набросков и вариантов поэмы – ПД и ГПБ (см. тетр. 6, 7, 9, 10, 11, 13). Некоторые из них печатались в собр. соч. в составе поэмы «Женщина» (см. ПСС, т. I, стр. 163–166}, иные – как самостоятельные стихотворения (ПСС, т. 1, стр. 110, 1SS, 157). Один из отрывков («И помню церковь я, залитую огнями…») появился в КН, 1891, № 1, стр. 147 как самостоятельное стихотворение и затем так же публиковался в собр. соч. В настоящем издании печатается одна из наиболее полных редакций по автографу тетр. 11. Поэма задумана как автобиографическое произведение. Среди черновиков имеется вариант заглавия: «Призраки» и посвящение Н. М. Дешевовой.
«Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами…»*
Впервые – «Дело», 1882, № 9, стр. 178, с заглавием «Из Джакометти» и без последних четырех стихов. Печ. по 19-му изд., стр. 49, где эти четыре стиха, изъятые из журнального текста по цензурным соображениям, были восстановлены после их публикации в статье П. Ф. Якубовича «Надсон и его неизданные стихотворения» (РБ, 1900, № 10, сто. 3 |). Беловой автограф с заглавием «Из Джованни» – тетр. 9. Черновой автограф с датой, заглавием «С испанского» и пометой внизу: «„Миф“ – оригинальное» – тетр. 10. В авторском списке напечатанных стихотворений к варианту заглавия «С итальянского» есть заметка: «Помечено „с итальянского“ в цензурных видах. Стихотворение оригинально». О нем Надсон писал А. Н. Плещееву: «Со Страхом и трепетом повергаю я на Ваш суд прилагаемое стихотворение. Хотя оно и озаглавлено „Из песен Джованни“, но Вы, конечно, знаете, что никакого такого Джованни не существовало на белом свете, и имя это – миф. Я поставил его в заголовке для того, чтобы содержание стихотворения не ввело кого-нибудь в недоумение, в которое оно вводит самого автора. В самом деле, мне положительно неизвестно, почему в кухне, в клубах пара от котлов и под стук поварских ножей пригрезилась мне эта тюрьма и заключенные в ней, но писал я его с горячностью вдохновенья – если не самонадеянно с моей стороны верить в то, что у меня может быть вдохновение» (ПСС, т. 2, стр. 464).
Из дневника («Хоть бы хлынули слезы горячей волною…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 251. Автограф с датой – тетр. 9. Другие автографы – там же.
Из тьмы времен*
Впервые – «Дело», 1882, № 10, стр. 189. В 1-е изд. не вошло (см. примечание к стихотворению «Жалко стройных кипарисов…», стр. 456). Печ. по 2-му изд., стр. 130. Автографы – тетр. 9, с заглавием «Герострат», и тетр. 11, с заглавием «Фантазия». Вариант начала печ. по автографу тетр. 9 с пометой: «Мотив». А. Н. Плещеев сообщил Надсону, что об этом произведении М. Е. Салтыков-Щедрин отозвался неодобрительно, Н. К. Михайловский не согласился с ним и нашел стихотворение прекрасным, а К. М. Станюкович и А. Н. Плещеев пришли от него в восторг (см. письмо А. Н. Плещеева к Надсону от сентября 1882 г. – «Невский альманах», вып. 2. Пг., 1917, стр. 114).
Герострат – грек, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской, чем хотел обессмертить свое имя. Диана (римск. миф.) – богиня луны н охоты, соответствует греческой Артемиде. Есть тень, покрытая бесславьем и стыдом. Имя Герострата, по преданию, в ионийских городах Малой Азии было запрещено упоминать; впоследствии оно стало нарицательным названием для человека, стремящегося добиться славы даже ценою преступления.
Гетера – у древних греков женщина, ведущая свободный образ жизни. Безумец гениальный – Александр Македонский (356–323 до н. э.).
«Всё это было, – но было как будто во сне…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 6. Беловой с датой и черновые автографы- тетр. 11. Другой беловой автограф с той же датой – ГБЛ.
«Здесь всё, что я сберег от суетного света…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 8, без последнего стиха. Печ. по автографу тетр. 9, к которой стихотворение взято эпиграфом. Другой автограф с пометой «Мотив» – тетр. 7.
«Сбылося всё, о чем за школьными стенами…»*
Впервые – «Театр», 1883, январь, № 2, стр. 14. Многочисленные автографы – тетр. 11. Стихотворение навеяно впечатлениями первых дней жизни Надсона в Кронштадте. Он записал в дневнике 18 сентября 1882 г.: «Все так, как я об этом мечтал когда-то; я совершенно независим, у меня уютная комната, на столе – любимые книги. Я живу в семье. Ясные детские глазки сверкают предо мной. Десятилетняя девочка Маня, очень хорошенькая, рассказывает теперь за дверью сказку Вагнера „Дядя Пуд“, которую только что прочел я ей и ее маленьким брату и сестре при мерцающем блеске свечи. Заперты ставни; налево от стола – полка с книгами. В углу, перед образами, теплится лампадка, а на этажерке – карточка незабвенной Наташи. Только что отшумел самовар и смолк. Старшая дочь Краснова сейчас кончила урок на фортепьяно» (ПСС, т. 2, стр. 181–182). Почти те же впечатления заносил Надсон в дневник через несколько дней: «Маленький приморский городок К. с его деревянными домами, карикатурными вывесками и патриархальными нравами повеял на меня светом и теплотой моего раннего детства, которое тоже прошло в провинции… Люблю старого и ленивого хозяйского кота, который иногда, беззвучно отворив мою дверь, входит ко мне подремать пред теплящейся печкой, люблю пение самовара на столе и звонкий детский смех вокруг меня» (там же, стр. 184). Ср. с письмом А. Н. Плещееву от 22 сентября 1882 г. (там же, стр. 469).
«Милый друг, я знаю, я глубоко знаю…»*
Впервые – «Дело», 1882, № 11, стр. 211, без последних четырех стихов, не печатавшихся по цензурным соображениям и замененных рядами точек в прижизненных изданиях. Печ. по 6-му изд., стр. 72. Автограф – тетр. 9. Автографы ранних редакций – там же. Последние два стиха были взяты эпиграфом – к 13-й тетр.
«Чуть останусь один – и во мне подымает…»*
Впервые – «Устои», 1882, № 3, стр. 152. Печ. по 1-му изд., стр. 51. Автографы – тетр. 10.
«Я вчера еще рад был отречься от счастья…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 9, стр. 112. Беловой автограф – ЦГАЛИ. Черновые – тетр. 9 и 10. Стихотворение обращено к Марии Александровне Терновской, с которой Надсон познакомился во время службы в Кронштадте, в 1882 г. Об отношениях с М. А. Терновской Надсон записал в дневнике 18 мая 1883 г.: «Счастливые, благодатные дни! Не думал я, что и мне выпадет на долю какое-нибудь счастье. Ожило мертвое сердце. Как рассказать обо всем, что случилось? В словах – все будет жалко и смешно. Скажу только, что Маня меня любит… Надолго ли меня осветило счастье?» (ПСС, т. 2, стр. 193). Почти все лирические стихотворения кронштадтского периода (1882–1883) связаны с М. А. Терновской. П. Ф. Якубович отметил сходство своих ранних опытов с произведениями Надсона, в частности с данным. Он писал о своих стихотворениях «Битва жизни», «В театре», «В час веселья и шумной забавы…», «Весенняя сказка»: «Они были написаны и даже впервые напечатаны… еще в ту пору, когда о Надсоне еще никто ничего не слышал… Не только дух, но и самая форма этих пьес поразительно напоминает Надсона (ср., например, „В час веселья…“ и „Я вчера еще рад был отречься от счастья…“). Очевидно о каком-либо подражании не могло быть речи. Но дело в том, что поэзия Надсона и моя, несомненно, питались одним и тем же настроением эпохи, вытекали из одного источника. Только Надсон был несравненно крупнейший поэт, и, главным образом, поэт, и… я скоро потонул в лучах его быстро нараставшей известности, да к тому же поток революционный унес меня…» (П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1960, стр. 390–391).
«Кто ты, – пускай они не знают…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 9. Один из двух эпиграфов, намечавшихся для 1-го изд. Над четверостишием помета: «Посвящение всех моих стихотворений памяти [Наташи]». Вслед за ним – второй эпиграф: «Не я пишу – рукой моею…», который и был избран Надсоном.
«Не я пишу – рукой моею…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 5. Печ. по 2-му изд., стр. 5. Автографы – тетр. 9 и ПД. Эпиграф к прижизненным собраниям стихотворений, посвященным памяти Н. М. Дешевовой (см. предыдущее примечание!). После смерти Н. М. Дешевовой Надсон записал в своем дневнике 31 марта 1879 г.: «У меня есть талант, в этом я, наконец, убедился – и ее именем я обещаю не допускать ни одного фальшивого и неискреннего звука в моих песнях, ни одного подкупного слова» (ПСС, т. 2, стр. 162).
«Если любить – бесконечно томиться…»*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 2. Печ. по автографу тетр. 11. Другие автографы – там же.
«Ах, этот лунный свет! Назойливый, холодный…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 9. Автограф – тетр. 9. В декабре 1882 г. Надсон записывает в дневнике: «Что мне делать с моим прошлым, с памятью о Наташе? Воспоминание о ней мучает меня!» (ПСС, т. 2, стр. 190).
«Одни не поймут, не услышат другие…»*
Впервые (ранняя редакция) – 6-е изд., стр. 248. Печ. по сб. «Звенья», т. 6. М.-Л., 1936, стр. 803–804, где опубликовано по корректурному оттиску в цензурном деле. В корректуре стихотворение озаглавлено «С итальянского» из опасения цензурных преследований. Автографы без заглавий – тетр. 11. Надсон предложил стихотворение в ОЗ, но получил от А. Н. Плещеева следующий ответ: «Присланное Вами стихотворение – прекрасно, говорю без фразы и без лести, но, несмотря на то, что оно с итальянского, напечатать его никак нельзя…» (ЦГАЛИ). Стихотворение было отдано в «Дело» для апрельской книжки 1882 г., но и здесь не появилось, так как, по отзыву цензора, оно оказалось совершенно неудобно к печати «по мотивам гражданской скорби, проникшей стихотворение» (ЦГИАЛ. Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1866, № 76, ч. VIII, л. 27).
«Что дам я им, что в силах я им дать?..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 20, в контаминированной редакции, составленной из двух автографов. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу тетр. 9. Другие автографы – там же и тетр. 11.
Из дневника («Сегодня всю ночь голубые зарницы…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 1, в контаминированной редакции: к тексту последней редакции были добавлены две отмененные строфы одной из предшествующих редакций (см. Варианты). Так же – в собр. соч. Печ. по беловому автографу ПД. Многочисленные черновые автографы – тетр. 9.
«Любовь – обман, и жизнь – мгновенье…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 10, с исправлениями, сделанными в рукописи П. Ф. Якубовичем. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу тетр. 9. 20 ноября 1882 г. Надсон записывал в дневнике: «Ведь я все отрицаю, ведь жизнь для меня пустой и глупый звук, а я между тем влюблен. Что же после этого все мои наблюденья и все убежденья? Где ложь: в сердце или в уме? Отчего жизнь для меня (и мне это совершенно ясно) пустая и глупая шутка, а во мне между тем копошится самолюбие, жажда любви, жажда наслажденья этой самой жизнью? Сердце мое, – о, какая ты странная и загадочная вещь!..» (ПСС, т. 2, стр. 188).
«Ах, довольно и лжи и мечтаний!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 9. Автограф – тетр. 8. В марте 1883 г. Надсон писал в дневнике: «Печатанье мне принесло вред: мне трудно теперь писать что-нибудь, не зная ясно, к чему я пишу; печатанье говорило мне – для того, чтобы прочли другие, – дневник к чему? Для себя?» (ПСС, т. 2, стр. 191). См. примечание к стихотворению «Темно грядущее… Пытливый ум людской…», стр. 443.
«Ровные, плавные строки…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 15. Печ. по автографу тетр. 11.
«В открытое окно широкими снопами…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 8, где есть еще одна строка, зачеркнутая в рукописи. Печ. по автографу тетр. 9, с авторской пометой: «Для себя». Там же – набросок начала.
«Не упрекай меня за горечь этих песен…»*
Впервые – «День» (приложение к газете «Еженедельное обозрение»!), 1887, № 11, стр. 414. Печ. по автографу тетр. 9. Там же – наброски начала.
«Я слышу их, я вижу их… Страдая…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 20. Печ. по автографу тетр. 9. Другой автограф – там же.
«Для отдыха от бурь и тяжких испытаний…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 794. Печ. по автографу тетр. 11. Другие автографы – там же. В собр. соч. датировалось 1883 г. 30 сентября 1882 г. Надсон записал: «Сейчас я разобрал мои старые дневники, – и снова дрогнуло мое сердце, снова встал предо мною образ Наташи и повеяло прошлым. Господи, что ж это? Все святое уходит, – остается одна проза, одна скука жизни. Сливаешься с толпой, идеал бледнеет, перестает быть необходимым как воздух, становится чем-то отдельным от жизни, каким-то миражем… А в прошлом – какие святые мгновенья, какая святая любовь! Наташа, Наташа, если б я мог кровью сердца написать тебе этот возглас, я бы написал: приди и спасай! Все струны души зовут к тебе, о моя дорогая!.. Где ты, где ты? слышишь ли ты меня? К чему любовь?.. Любить кости, труп, съеденный червями? О, жизнь, насмешка над человеком!» (ПСС, т. 2, стр. 185–186). Ср. с письмом А. Н. Плещееву от 16 декабря 1883 г. (там же, стр. 473–474).
«Верь в великую силу любви!..»*
Впервые – 6-е изд., стр. 328. Автограф – тетр. 9. В собр. соч. датировалось 1884 г. Положено на музыку Ц. А. Кюи.
«Мне не больно, что жизнь мне солгала…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 9. Ряд других автографов- там же. Первый стих почти совпадает с 10-м стихом в стихотворении «Всё это было, – но было как будто во сне…».
«Умер от чахотки, умер одиноко…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11. Другой автограф «» там же.
«…И крики оргии и гимны ликованья…»*
Впервые – ОЗ, 1882, № 9, стр. 111. В прижизненных и посмертных изданиях, вплоть до 19-го, 4-й стих заменялся строкой точек по цензурным соображениям. Автограф – тетр. 9. В собр. соч. датировалось 1881 г.
«Счастье, призрак ли счастья…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 254. Автограф – ПД. Другие автографы – тетр. 7, 9, 10.
«Темно грядущее… Пытливый ум людской…»*
Впервые (1-я строфа|) – НП, стр. 47, с пометой: «Вариант». То же – 22-е изд., где по ошибке печаталось как вариант стихотворения «Ах, довольно и лжи и мечтаний!..». Печ. по ПСС, т. 1, стр. 149.
«С пожелтелых клавиш плачущей рояли…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 11, без двух последних стихов. Печ. по 6-му изд., стр. 261.
«Ни звука в угрюмой тиши каземата…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 21, без ст. 13–16 и 26–32, изъятых по цензурным соображениям, с заменой в 3-м и 23-м ст. («волна» вместо «Нева»), под вымышленным заглавием «Из поэмы „Узник“», приписанной Джакометти. В несколько дополненном виде, но без ст. 13–16, 29, 30, 32, - 22-е изд., стр. 218. Печ. по автографу ПД.
«Ты, для кого еще и день в лучах сияет…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 21, как второй отрывок из поэмы Джакометти «Узник» (см. предыдущее примечание). Печ. по беловому автографу ПД (на отдельном листке). Черновой автограф – там же.
Ночью («Пусть плачет и стонет мятежная вьюга…»)*
Впервые – 7-е изд., стр. 279, без ст. 9-16 и заглавия. Эти стихи впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 17, с некоторыми искажениями. Ст. 5-16 были напечатаны как самостоятельное стихотворение в НП, стр. 30. Печ. по беловому автографу ПД.
«О, если б только власть сказать душе…»*
Впервые- РБ, 1900, № 10, стр. 12.
«Мы спорили долго – до слез напряженья…»*
Впервые – ОЗ, 1883, № 1, стр. 215, с цензурным смягчением в 7-м ст. последней строфы («Всю душу отдать на борьбу и страданье») по инициативе А. Н. Плещеева (см. его письмо Надсону от 30 ноября 1882 г. – «Невский альманах», вып. 2. Пг., 1917, стр. 118). Печ. по 19-му изд., стр. 66, где ст. 7 исправлен после указания П. Ф. Якубовича в статье «Надсон и его неизданные стихотворения» (РБ, 1900, № 10, стр. 2), и с исправлением ст. 2 второй строфы. Беловой автограф – тетр. 13. Многочисленные черновые автографы – тетр. 11. В собр. соч. датировалось январем 1883 г. (по первой публикации).
По поводу этого стихотворения 14 декабря 1882 г. Надсон писал А. Н. Плещееву: «Вторую строку второй строфы можно изменить так: „И спутники в трудном житейском пути“. Хотелось бы и последние две строки изменить для большей гармоничности и строгости метра, поставив вместо них следующие две строки:
Не то же ли солнце нам ярко сияло За черною тучей – зарей золотой?В случае, если прежние лучше, – можно их оставить. Что же касается роковых строк о „кресте“ – у меня на них рука не подымается. Лучше всю строчку заменить точками» (ПСС, т. 2, стр. 472). Плещеев поправок Надсона не принял, и поэт, согласившись с ним, печатал во всех изданиях первоначальный текст. П. Ф. Якубович отметил идейное сходство этого стихотворения Надсона со своим стихотворением «Спор», напечатанным в том же 1883 г. в «Деле», № 2 (П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1960, стр. 398).
Грезы («Когда, еще дитя, за школьною стеною…»)*
Впервые – ОЗ, 1883, № 9, стр. 268. С испр. – 1-е изд., стр. 87. 3-й ст. второй части («Я стал в ряды борцов поруганной свободы») в прижизненных изданиях и в собр. соч. (до 19-го изд.) заменялся строкой точек. Печ. по 19-му изд., стр. 73, где этот стих был восстановлен после указания П. Ф. Якубовича в его статье «Надсон и его неизданные стихотворения» (РБ, 1900, № 10, стр. 3). Первая строфа ранней редакции («Бедная комнатка, келья святая…») печаталась в собр. соч., начиная с 6-го изд., как самостоятельное стихотворение. Вариант отрывка из поэмы («Гремит и стонет зал, – но гром рукоплесканий…») – «Север», 1903, № 1, стр. 30. Беловой автограф – тетр. 13; многочисленные черновые – тетр. 9, 11, 12, 13 и ПД. Автографы вариантов начала поэмы, первый и третий из которых в собр. соч. печатались как самостоятельные незаконченные стихотворения, – ПД. Датировалось мартом 1883 г. В тетр. 13 имеется запись Надсона, помеченная 26 июля 1883 г.: «„Грезы“ стоили мне порядочного труда, а тут еще Салтыков со своими цензурными соображениями. Просто хоть клади перо и заваливайся спать…». П. Ф. Якубович, цитируя это высказывание, ошибочно указывает, что оно извлечено из письма А. Н. Плещееву. За год до смерти Надсон писал: «Лучшим из моих стихотворений я считаю „Грезы“, хотя не знаю, насколько мой авторский взгляд справедлив» (из письма Ф. Ф. Фидлеру. ГБЛ). О работе над поэмой см. письма Надсона за 1883 г. (ПСС, т. 2, стр. 478–480, 484, 486) и дневник (там же, стр. 194). С А. Н. Плещеевым, которому посвящена поэма, Надсон познакомился в конце 1881 г. и сохранил к нему благоговейное отношение на всю жизнь. Плещеев первым из крупных литераторов заметил талант Надсона и привлек его в ОЗ, где Надсон печатался вплоть до закрытия журнала. Закончив работу над «Грезами», Надсон спрашивал у Плещеева: «Прежде всего, разрешаете ли Вы посвятить Вам мою белиберду и таким образом хотя отчасти выразить Вам мою признательность за то, что Вы были моим крестным отцом на литературном поприще?» (ПСС, т. 2, стр. 478). Колеты – короткая форменная куртка в кирасирских полках,
«Когда бы я сердце открыл пред тобою…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 308. Автограф – тетр. 13. Автографы ранних редакций – тетр. 9.
«Верь, – говорят они, – мучительны сомненья!..»*
Впервые – РМ, 1883, № 10, стр. 330. Печ. по 1-му изд., стр. 69. Беловой автограф с заглавием «Зачем?» – тетр. 11. Многочисленные черновые автографы – там же. Это стихотворение Надсон предложил первоначально в ОЗ, но Щедрин отказался его напечатать. «„К чему? Кем? Зачем? – передразнивал он своим сердитым басистым голосом, – что за чепушистые вопросы! Кифа Мокиевич, да и полно“…» (П. Ф. Якубович. «Надсон и его неизданные стихотворения». – РБ, 1900, № 10, стр. 27). Надсон пытался напечатать стихотворение в журнале «Дело», но оно было задержано цензурой «по материалистическому характеру и даже кощунству» (ЦГИАЛ. Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1866, № 76, ч. VIII, л. 27). Советуясь с А. Н. Плещеевым относительно публикации стихотворения, Надсон спрашивал его: «Что вы решили насчет моей „философии“? Посылать или нет в „Русскую мысль“?» (ПСС, т. 2, стр. 481). А. Н. Плещеев отозвался о стихотворении одобрительно (см. его письмо Надсону от 20 января 1883 г. – «Невский альманах», вып. 2. Пг., 1917, стр. 120).
«Я не щадил себя: мучительным сомненьям…»*
Впервые – ОЗ, 1883, № 5, стр. 241. Печ. по 1-му изд., стр. 63. Ранняя редакция, близкая к приведенной в Вариантах, – РБ, 1900, № 10, стр. 28. Беловой автограф с пометой «Кронштадт» – тетр. 13. Многочисленные черновые автографы – тетр. 9 и 13. Последние четыре стиха в несколько измененном виде вошли в стихотворение «С тех пор как я прозрел…». Положено на музыку В. И. Ребиковым.
«Я пришел к тебе с открытою душою…»*
Впервые – «Дело», 1883, № 4, стр. 34. Беловой автограф – тетр. 13, с пометой Надсона: «Стихотворение посвящено Марье Александровне Терновской».
«Оба с тобой одиноко-несчастные…»*
Впервые (ранняя редакция, с первой строкой: «Оба – бездомные, оба – несчастные…») – 6-е изд., стр. 278. То же – в последующих собр. соч. Печ. по автографу тетр. 13, с пометой: «Кронштадт». Другие автографы – там же. Стихотворение обращено, по-видимому, к Д. С. Мережковскому (см. примечание к стихотворению «Муза», стр. 447).
«Долго в ясную ночь я по саду бродил…»*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 10, без предпоследней строфы. Эта строфа в составе пяти других строф стихотворения опубликована Н. Минским в статье «Записная книжка Надсона» («День», 1914, № 94, 6 апреля). Публикуя текст по записной книжке, подаренной ему Надсоном, Минский утверждал, что эти пять строф были умышленно исключены из стихотворения душеприказчиками поэта. Минскому возражали М. В. Ватсон в статье «Ответ Н. Минскому» (там же, № 96, 10 апреля) и Ф. Д. Батюшков в статье «К установлению текста стихотворений Надсона» («Речь», 1914, № 120, 5 ноября). Записная книжка, из которой извлечен приведенный Н. Минским текст, до нас не дошла. В каком месте находились эти строфы в тексте записной книжки, Минский не указывает. Можно предположить, что они следовали после 7-й строфы, так как последняя из пяти строф содержится в тексте сохранившейся редакции и следует после 7-й строфы. Печ. по автографу тетр. 13. Многочисленные другие автографы – там же. Датируется, как и следующие три стихотворения, по записной книжке Надсона, которую Минский относит к весне 1883 г.
«Прежде белые ночи весны я любил…»*
Впервые (ст. 1-13) – Стихотворения. Изд. 10-е, СПб., 1890, стр. 189. Впоследствии, начиная с 19-го изд., в собр. соч. печатались первые две строфы. Полностью – «День», 1914, № 94, 6 апреля, в статье Н. Минского «Записная книжка Надсона» (см. предыдущее примечание). Печ. по беловому автографу в письме Надсона к неизвестному лицу (ПД). В этом письме поэт просит показать стихотворение А. П. Плещееву.
«Раздалась и оборвалась…»*
Впервые – «День», 1914, № 94, 6 апреля, в статье Н. Минского «Записная книжка Надсона». В собр. соч. не входило.
«Давно в груди моей молчит негодованье…»*
Впервые (начало ранней редакции, с первой строкой: «В груди моей давно молчит негодованье…») – РБ, 1900, № 10, стр. 9. Так же – в собр. соч. Печ. по публикации Н. Минского в статье «Записная книжка Надсона» – «День», 1914, № 94, 6 апреля. Вариант приведенного финала – там же. Автографы начала ранней редакции – тетр. 13. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Неужели сейчас только бархатный луг…»*
Впервые – ОЗ, 1883, № 8, стр. 498. Многочисленные черновые автографы – тетр. 12 и ПД.
Над могилой И. С. Тургенева*
Впервые – «Кронштадтский вестник», 1883, № 115, 28 сентября. Печ. по 1-му изд., стр. 42. Тургенев умер 3 сентября 1883 г. Надсон был на его похоронах.
Цветы*
Впервые – «Еженедельное обозрение», 1884, № 11, стр. 349, без предпоследнего четверостишия, исключенного редакцией по цензурным соображениям и замененного строкой отточий. Так же печаталось во всех прижизненных и посмертных изданиях, вплоть до 19-го. Печ. по 19-му изд., стр. 68, где эти 4 стиха были восстановлены после опубликования их в статье П. Ф. Якубовича «Надсон и его неизданные стихотворения» (РБ, 1900, № 10, стр. 3). В этом издании была сохранена и строка отточий. Н, Минский в рецензии на 1-е изд. писал: «Цитируемое стихотворение („Цветы“) любопытно и тем, что в нем поэт не только говорит, что ему грустно, что его терзают сомнения, безнадежное отчаяние, воспоминания, страх, раскаяние, – но вместе с тем указывает и на ближайшую, реальную причину, породившую в его сердце этих фурий… Он, как пролетарий, смотрит на безумную роскошь века с злобной завистью» («Новь», 1885, № 11, стр. 488). Отзыв был воспринят в демократических кругах как враждебный по отношению к Надсону. В. М. Гаршин после этой рецензии прервал дружеские отношения с Минским. «Цветы» упоминаются в докладе цензора С. И. Кассовича о 2-м изд. стихотворений Надсона: «Это же болезненное настроение заставляет поэта забывать иногда о художественной правде. Так, напр., в стихотворении „Цветы“, изображая роскошный зимний сад у богача, автор, без всякой видимой причины, приходит неожиданно в ярость…» (ЦГИАЛ. Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1885, № 98, л. 2).
«Опять вокруг меня ночная тишина…»*
Впервые – «Еженедельное обозрение», 1885, № 56, стр. 14.
Муза*
Впервые – «Иллюстрированный мир», 1884, № 1, стр. 7. Печ. по 1-му изд., стр. 10. Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – писатель и критик; с 1920 г. – белоэмигрант. О нем Надсон сообщил А. Н. Плещееву в апреле 1883 г.: «Мережковскому я писал потому, что он мне прислал полное отчаяния письмо; вообще, он мой брат по страданию: у нас с ним есть на душе одно общее горе, и я рад был бы, если б мог хоть немножко его поддержать» (ПСС, т. 2, стр. 479). Дебют Мережковского в ОЗ осуществился благодаря Надсону (см. воспоминания о Надсоне И. Л. Щеглова – «Слово», 1907, № 52, 19 января).
«Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней…»*
Впервые – «Еженедельное обозрение», 1883, № 1, стр. 12. Печ. по 1-му изд., стр. 34.
«Окрыленным мечтой сладкозвучным стихом…»*
Впервые – КН, 1885, № 10, стр. 66. В 1-е изд. не вошло. Эолова арфа – струнный музыкальный инструмент, звучащий от дуновения ветра. Положено на музыку В. И. Ребиковым.
На кладбище*
Впервые – «Еженедельное обозрение», 1884, № 19, стр. 603. С изм. – 1-е изд., стр. 48. Печ. по 2-му изд., стр. 49. Многочисленные автографы – тетр. 12. В собр. соч. датировалось 1884 г.
«Упали волнистые кудри на плечи…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 272, в контаминированной редакции. Печ. по автографу тетр. 13. Другие автографы – там же. Стихотворение обращено к М. А. Терновской.
Бред*
Впервые – КН, 1887, № 3, стр. 10, без заглавия. Печ. по автографу тетр. 13. Стихотворение автобиографично: это как бы эпитафия самому себе в предчувствии близкой смерти. Ср. запись в дневнике 16 марта 1883 г.: «Вся эта канитель все равно долго тянуться не может, и смерть у меня на носу» (ПСС, т. 2, стр. 191).
«Я их не назову врагами…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 10, без последних 5 стихов, быть может не печатавшихся по цензурным соображениям. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу тетр. 13. Автографы предшествующих редакций – там же.
«Уходит день за днем… На ряд пустых забот…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 12, в контаминированной редакции. В собр. соч. – так же. Печ. по автографу тетр. 13. Другие автографы – там же.
«Не сравнивай с грозой души моей страданье…»*
Впервые – «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 208. Печ. по автографу тетр. 13. Другие автографы – там же.
«Ночь медленно плывет… Пора б и отдохнуть…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 11, без последних четырех стихов. Печ. по 6-му изд., стр. 289. Автограф – тетр. 13.
«Омывшись на заре душистою росою…»*
Впервые – «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 209. Печ. по автографу тетр. 13. Ряд других автографов – там же. Положено на музыку Ц. А. Кюи.
Грезы («В бессонницу, когда недуг моей души…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 8, без заглавия. В собр. соч. с произвольным заглавием «Из дневника». Печ. по беловому автографу тетр. 11. Черновые автографы – там же и ПД.
«С тех пор как я прозрел, разбуженный грозою…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 5, без ст. 13–16. В собр. соч. – так же. Печ. по автографу тетр. 13. Другие автографы – там же. По замыслу связано, по-видимому, со стихотворением «Я не щадил себя: мучительным сомненьям…» (см. примечание к нему, стр. 445), которому непосредственно предшествует в тетради.
«Сегодняшняя ночь одна из тех ночей…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 12.
«Стряхнув угар и хмель промчавшегося дня…»*
Впервые (1-я строфа) – «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 210. Печ. по кн. – Стихотворения. Изд. 9-е, СПб., 1889, стр. 207, где текст впервые опубликован полностью по не дошедшей до нас рукописи. Вариант начала – Н. Минский. «Записная книжка Надсона». – «День», 1914, № 94, 6 апреля. Автограф приведенного фрагмента – тетр. 11. Стихотворение навеяно воспоминаниями о Н. М. Дешевовой.
«Не завидуй им, слепым и беззаботным…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 311. Печ. по автографу тетр. 13, где есть еще стих: «В дни, когда их кости будут тлеть в могиле».
«Пусть смятенья и грома полны небеса…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 4. Автограф – тетр. 13. Положено на музыку Ц. А. Кюи.
«Распахнулись тяжелые двери тюрьмы…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 15, где напечатано по не дошедшей до нас рукописи с цензурным пропуском ст. 30, замененного отточием. Печ. по 22-му изд., стр. 265. Многочисленные автографы предшествующих редакций – тетр. 12 и 13.
«Не гони ее, тихую гостью, когда…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 318. Автограф – тетр. 12.
«Завтра, чуть лениво глазки голубые…». Впервые- 6-е изд., стр. 320. Автограф – тетр. 12. Автографы набросков начала – там же.
«Сегодня как-то я особенно устал…»*
Впервые – КН, 1893, № 1, стр. 57. Автограф – тетр. 13. Другие автографы – там же. Ранняя редакция в собр. соч., начиная с 6-го изд., печаталась как самостоятельное стихотворение. В собр. соч. датировалось 1884 г.
Письмо*
Впервые – 6-е изд., стр. 339. Печ. по автографу тетр. 13. Там же автограф с заглавием «Из письма». В собр. соч. датировалось 1884 г.
Ночь и день*
Впервые (1-я строфа в ранней редакции, без заглавия) – РМ, 1887, № 3, стр. 13. Печ. по 6-му изд., стр. 350, с исправлением по автографу тетр. 12. Другие автографы – там же. В собр. соч. датировалось 1884 г.
«Блажен, кто в наши дни родился в мир бойцом…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 12. Автографы незаконченных последующих редакций – там же.
«Под звуки музыки, струившейся волною…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 74. Беловой автограф – ПД.
Reverie*
Впервые – 1-е изд., стр. 40. Reverie (франц.) – греза, мечтание; служит названием музыкальных пьес соответственного характера.
«В солнечный день мы скользили по глади реки…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 23.
«Пугая мысль мою томящей тишиною…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 256. Автограф – ПД. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Только утро любви хорошо: хороши…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 279.
«Гаснет жизнь, разрушается заживо тело…»*
Впервые – «День» (приложение к газете «Еженедельное обозрение»), 1887, № 10, стр. 379, без последних четырех стихов. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу тетр. 13. Там же предшествующий набросок начала. В этом произведении отразились те же настроения, что и в стихотворениях «Бред» и «Мне не больно, что жизнь мне солгала, – о нет…». 22 января 1883 г. Надсон записал в дневнике: «В жизни дело совсем швах: недуг все растет и растет…» (ПСС, т. 2, стр. 190).
Дурнушка («Бедный ребенок…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 16, без заглавия. Печ. по 6-му изд., стр. 301. Та же тема варьируется в стихотворениях «Робко притаившись где-нибудь с игрушкой…», «Дурнушка» («Что сталось с голубкой моей дорогой…»), «Дурнушка» («Дурнушка! С первых лет над нею…»), «Дурнушка! Бедная, как много унижений…».
«Да, это было всё… Из сумрака годов…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 203. Автограф – ПД. По теме и настроению близко к стихотворениям «Для отдыха от бурь и тяжких испытаний…» и «Стряхнув угар и хмель промчавшегося дня…» (см. примечания к ним, стр. 442 и 448).
«Нет, я больше не верую в ваш идеал…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 302. Печ. по автографу ПД. В апреле 1883 г. Надсон писал А. Н. Плещееву: «Не верьте вообще моим „светлым“ песням, – они пишутся, чтобы уверить самого меня в том, что не все вокруг и во мне безотрадно и темно. Я ими, по выражению Гейне, разгоняю свой собственный страх и отчаяние. Гроза на заре моей жизни разбудила меня раньше, чем моих сверстников, – мудрено ли, что вначале я шел впереди их? Но я же раньше и состарелся, чем они, раньше и устал» (ПСС, т. 2, стр. 479).
Из дневника («Я долго счастья ждал…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 5. Автограф варианта – тетр. 11. На рубеже земли обетованной – цитата из стихотворения А. А. Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней…» (1845). Земля обетованная – Палестина, куда, по библейскому преданию, иудеи пришли из Египта, где жили в рабстве.
«Серебрясь переливами звездных лучей…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 205. Автограф – ПД. Положено на музыку В. И. Ребиковым и Андевым.
«Так вот она, страна без прав и без закона!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 13, с пропуском ст. 2, 3 и 4, замененных по цензурным соображениям строкой точек. Печ. по 22-му изд., стр. 258.
Вавилон*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 9. Вавилон – крупнейший город древней Месопотамии, столица Вавилонского царства в IX–VI вв. до н. э. Здесь имеется в виду Вавилонская башня. По библейскому рассказу, потомки Хама решили в знак своего могущества выстроить башню «вышиною до небес», которая стала бы центром всемирной власти. Такой умысел был противен божественному установлению, поэтому бог покарал строителей, смешав их языки и лишив их возможности продолжать постройку.
«Быть может, их мечты – безумный, смутный бред…»*
Впервые – «Северный вестник», 1887, № 3, стр. 145, без последних четырех стихов. До слов «Отчаянье и сон» – 6-е изд., стр. 309. Печ. по 22-му изд., стр. 261, с исправлением опечатки в ст. 10: «стон» вместо «сон».
«Сжав чело горячими руками…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 13. Первая строфа в этой публикации переставлена в конец. Так же – 6-е изд., стр. 314. Печ. по 7-му изд., стр. 211, где порядок строф соответствует автографу ЦГАЛИ. Положено на музыку Ф. С. Акименко.
Поэзия («Нет, не ищи ее в дыхании цветов…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 1.
«Тоска гнетет меня и жжет неутомимо…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 13, с другим текстом после стиха 4. Печ. по ПСС, т. 1, стр. 195.
«Ты полюбишь меня… Как искусный игрок…»*
Впервые – 22-е изд., стр… 268. Автограф – ПД. Обращено, по-видимому, к М. А. Терновской. 16 марта 1883 г. Надсон записал в дневнике: «М. А. Т. я не люблю, это более, чем верно, и только из тщеславия добиваюсь ее любви, из тщеславия и опять ради поэзии быть любимым. Последнего, кроме того, мне хочется еще для того, чтобы доказать себе, что и я человек еще, что я – как другие, и что не все отнял у меня проклятый недуг» (ПСС, т. 2, стр. 191).
Из песен любви*
Впервые – 6-е изд., стр. 173. Стихотворение датировалось 1879 г., однако по настроению и стилю оно близко к стихотворениям 1883 г., связанным с М. А. Терновской. Набросок последнего двустишия записан в тетр. 13 после стихотворения «Я пришел к тебе с открытою душою…», посвященного ей же.
«Нет, легче мне думать, что ты умерла…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 32. Печ. по 2-му изд., стр. 32. Автограф – альбом.
Грядущее*
Впервые – 1-е изд., стр. 78. Автограф – альбом. Другие автографы – ПД.
«Как каторжник влачит оковы за собой…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 94. В ст. 16-м была опечатка, отмеченная автором в письме к А. Н. Плещееву (1885): «Нарушен размер и в другом стихотворении, где вместо „богатствами души соря без сожаленья“ напечатано: „богатствами моей души сорил без сожаленья“» (ПСС, т. 2, стр. 524). Печ. по 2-му изд., стр. 91. Автограф с датой – альбом.
«Нет, муза, не зови!.. Не увлекай мечтами…»*
Впервые – «Неделя», 1884, № 33, 12 августа, стр. 1096. Автограф – тетр. 14. Стихотворный ответ А. В. Круглова на это произведение см. в книге: А. В. Круглов. С. Я. Надсон. Биография и характеристика. СПб., 1914, стр. 47.
«Бывают дни, когда над хмурою землей…»*
Впервые – «Неделя», 1884, № 39, 23 сентября, стр. 1286. Печ. по 1-му изд., стр. 19.
«Дитя столицы, с юных дней…»*
Впервые – КН, 1887, № 7, стр. 403. Автограф – ЦГАЛИ.
В. П. Г-вой*
Впервые – КН, 1887, № 2, стр. 104. Обращено к Вере Павловне Гайдебуровой, дочери П. А. Гайдебурова, издателя газеты «Неделя», в редакции которой в 1884 г. Надсон служил секретарем. Ей же посвящено стихотворение «Я вам пообещал когда-то…».
«Испытывал ли ты, что значит задыхаться…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 52. Беловой автограф – ГБЛ, черновой – альбом.
«Червяк, раздавленный судьбой…»*
Впервые – РМ, 1884, № 5, стр. 136. Печ. по 1-му изд., стр. 81. Ранняя редакция – РБ, 1900, № 10, стр. 29. Многочисленные автографы – тетр. 12 и альбом.
Отрывок («Ложились сумерки…»)*
Впервые – 1-е изд., стр. 154. Печ. по 2-му изд., стр. 154. Автограф – альбом. Надсон имел намерение продолжить работу над стихотворением, о чем свидетельствует начало еще одного стиха в автографе: «То будто мы вдвоем…».
В глуши*
Впервые – ОЗ, 1884, № 3, стр. 185. Печ. по 1-му изд., стр. 21.
«Не знаю отчего, но на груди природы…»*
Впервые – «Неделя», 1884, № 25, 17 июня, стр. 841. Автографы первоначальных набросков – ПД. Пигмалион (греч. миф.) – скульптор, влюбившийся в созданную им статую прекрасной девушки Галатеи.
«Наше поколенье юности не знает…»*
Впервые – «Живописное обозрение», 1884, № 49, стр. 355. Автограф – ЦГАЛИ. Другие автографы – ПД.
«Последняя ночь… Не увижу я больше рассвета…»*
Впервые (ранняя редакция) – РБ, 1900, № 10, стр. 18. Здесь же (стр. 19) ст. 5-12 напечатаны как вариант. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу тетр. 14. Автограф ранней редакции- там же. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Мне снился вещий сон: как будто ночью темной…»*
Впервые (первые 12 стихов|) – РМ, 1887, № 5, стр. 16. Полный текст – 6-е изд., стр. 325, в контаминированной редакции. Печ. по автографу ПД. Другие автографы – альбом.
«Тревожно сегодня мятежное море…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 18, в контаминированной редакции, с первой строкой: «Как гром отдаленный, как в старом соборе…». Так же – в собр. соч. Ранняя редакция «В ненастную ночь я у моря стоял…» печаталась в собр. соч. как самостоятельное стихотворение. Печ. по автографу тетр. 14. Многочисленные другие автографы – там же и ПД.
«Не упрекай себя за то, что ты порою…»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 4. Автограф – альбом.
Отрывок («Как звери, схватившись с отважным врагом…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 333. Другая редакция («Властитель отдыхал. По берегу морскому…») была опубликована как самостоятельное произведение в РБ, 1900, № 10, стр. 23, и в собр. соч. Начало еще одной редакции («Ночь гасла… Вставал предрассветный туман…»), в контаминированной виде – РБ, 1900, № 10, стр. 22, и в собр. соч., где датировалось 1882 г. Автографы – тетр. 14 и ПД.
«К вам, бедняки, на грудь родных полей…»*
Впервые – КН, 1892, № 1, стр. 40. Печ. по автографу ПД. В стихотворении отразились впечатления от пребывания Надсона на ст. Сиверской под Петербургом, где он жил на даче в семье А. Н. Плещеева летом 1884 г. В письме М. В. Ватсон от 16 июля 1884 г. он писал: «Шуму здесь нет, все очень скромно и тихо; место очаровательное, стоит Швейцарии по удивительной своей красоте» (ПСС, т. 2, стр. 493).
«Чтоб вы всё поняли, – начну издалека…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 6. Автограф – тетр. 14. Другой автограф – там же.
«Довольно я кипел безумной суетою…»*
Впервые (первые 13 стихов) – РМ, 1887, № 5, стр. 17. Полностью – 6-е изд., стр. 354. Печ. по беловому автографу альбома. Черновые автографы – там же и ПД. Стихотворение связано с поездкой Надсона на Сиверскую летом в 1884 г. (см. выше примечание к стихотворению «К вам, бедняки, на грудь родных полей…»).
«Мы были молоды – и я, и мысль моя…»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 3. Автограф – альбом.
«Слишком много любви, дорогие друзья…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 796. Автограф – ПД. Положено на музыку В. И. Ребиковым.
Последнее письмо*
Впервые – КН, 1887, № 3, стр. 26. Автограф – альбом. Последние строки обращены, очевидно, к М. В. Ватсон.
Из песен о невольниках*
Печ. впервые по беловому автографу ГБЛ. Стихотворение оригинально; очевидно, навеяно стихами американского поэта Г. Лонгфелло (1807–1882) в переводах М. Л. Михайлова. Наиболее близко оно к «Предостережению» Лонгфелло, замыкающему цикл «Песен о невольничестве».
«Снилось мне, что я болен, что мозг мой горит…»*
Впервые – КН, 1886, № 1, стр. 167. Автограф – ПД.
«Беспокойной душевною жаждой томим…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 96. Автографы – ПД.
«Если в лунную ночь, в ночь, когда по уснувшему саду…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 22. Печ. по автографу ПД. В собр. соч. датировалось 1882 г. Записано рядом с наброском начала «На могиле Герцена», относящимся к 1884 г.
В деревне*
Впервые – КН, 1892, № 1, стр. 37, без последних 8 стихов. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу ПД.
«Мертва душа моя: ни грез, ни упованья!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 17.
«Смирись, – шептал мне ум холодный…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 218.
«Мы выплыли в полосу лунного света…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 329. Автограф – ПД. Другие автографы – там же.
«Есть у свободы враг опаснее цепей…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 219.
«Ты сердишься, когда я опускаю руки…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 19. Печ. по автографу ПД.
«Певец, восстань! Мы ждем тебя – восстань!..»*
Впервые – НП, стр. 94. Строка точек заменяет, очевидно, подцензурный текст в несохранившемся автографе.
«В больные наши дни, в дни скорби и сомнений…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 340.
«Нет, я лгать не хочу – не случайно тебя…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 343. Автограф – ПД.
У кроватки*
Впервые – «Детское чтение», 1884, № 3, стр. 225. В прижизненные издания не входило. В собр. соч. ошибочно помещалось в разделе «Посмертные стихотворения».
«Он к нам переехал прошедшей весною…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 347. Автограф – ПД.
«Тихо дремлет малютка в кроватке своей…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 348. Автографы других редакций – ПД.
«Любви, одной любви! Как нищий подаянья…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 355. Автограф – ПД.
Старый дом*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 14. Надсон Анна Яковлевна – сестра поэта (в замужестве Мокеева). Карьятиды – статуи, поддерживающие своды здания.
«В минуты унынья, борьбы и ненастья…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 12, в контаминированной редакции. Так же – в собр. соч. Печ. по автографу ПД. Другой автограф – там же.
«Чу, кричит буревестник!.. Крепи паруса!..»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 1. Другой текст – РБ, 1900, № 10, стр. 4. Автографы начала – альбом и ПД.
«Когда вокруг меня сдвигается теснее…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 365. Автограф – ПД.
«Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине…»*
Впервые – I – е изд., стр. 158. См. след. примечание,
«Жалко стройных кипарисов…»*
Впервые – 1-е изд., стр. 157. В связи с выходом в свет 1-го изд. Надсоя сообщал 25 марта 1885 г. в письме В. К. Губаревич-Радобишьской: «Хуже всего то, что, кроме обыкновенной цензуры, я имел еще дело с частной – суворинской. Он, например, своей властью издателя выкинул у меня „Герострата“, и вместо него для пополнения книги нужно было включить те два отчаянные блина комом <„Жалко стройных кипарисов…“ и „Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине…“>, которые там красуются под заглавием „На чужбине“ и которые были испечены с юмористической приправой, отнюдь не для печати, и явились с урезанными концами, в которых заключалась шутка. Обидно!» (ПСС, т. 2, стр. 522). Датируется началом 1885 г., так как 1-е изд., где стихотворение было напечатано, вышло в марте 1885 г.
«Умерла моя муза!.. Недолго она…»*
Впервые – «Северный вестник», 1885, № 1, стр. 42. В 1-е изд. не вошло. Автографы – ПД и ГБЛ. В 1885 г. Надсон писал А. Н. Плещееву, выражая настроения, отразившиеся в* стихотворении «Умерла моя муза!..»: «Боюсь, чтобы о всех семидесятниках не пришлось сказать: „Не расцвел и отцвел В утре пасмурных дней“. Что-то роковое висит над ними и не дает даже бесспорно талантливым расправить крылья. Время, что ли, такое (я, разумеется, не делаю исключения и для себя)» (ПСС, т. 2, стр. 525). Цитата в письме Надсона – из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».
У моря*
Впервые – журнал «День» (приложение к «Еженедельному обозрению»), 1887, № 12, стр. 457. Многочисленные автографы – тетр. 16 и ПД. Написано, как и следующие пять стихотворений, за границей, где Надсон пробыл с осени 1884 до лета 1885 г.
«Закралась в угол мой тайком…»*
Впервые – КН, 1885, № 9, стр. 101. Автограф – ПД.
«Кипит веселье карнавала!..»*
Впервые – «Всемирная иллюстрация», 1887, № 952, стр. 311, с заглавием «Ницца». Печ. по 6-му изд., стр. 380. Автограф другой редакции – ПД.
«Шипя, взвилась змеей сигнальная ракета…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 9. Автограф – ПД. Датировалось 1884 г. В стихотворении отразились впечатления от карнавала, который Надсон наблюдал в Ницце. В письме своей сестре А. Я. Мокеевой от 1885 г., подробно описывая карнавальный праздник, он сообщает: «Последний акт праздника – сожжение фигуры Карнавала, начиненной 3000 ракет, и кроме того – блестящий фейерверк» (ПСС, т. 2, стр. 520).
Страничка прошлого*
Впервые – КН, 1885, № 11, стр, 49. Печ. по 2-му изд., стр. 116. Посылая это стихотворение на отзыв А. Н. Плещееву, Надсон писал ему 3 мая 1885 г.: «В присылаемых мною теперь стихах, я знаю сам, кое-что не ладно, но, право, мне кажется, что только „кое-что“, а не все. Впрочем, если вы их и обругаете, я очень огорчен не буду, и даже совсем не буду огорчен…» (ПСО, т. 2, стр. 536). 13 мая 1885 г. А. Н. Плещеев писал в ответ: «Стихотворение „Страничка прошлого“ слабо, но, конечно, и в нем встречаются стихи хорошие и даже очень хорошие, еще больше банальных, а несколько есть даже совсем плохих. Наконец, оно слишком длинно. Эпизод о разбойниках плох, но всего хуже окончание „я над ними трудился…“. Это уже совсем не годится… Я очень рад, что стихотворение это в настоящем его виде не попало в печать…» (ГБЛ), В связи с этим отзывом Надсон переработал стихотворение.
«Я пригляделся к ней, к нарядной красоте…»*
Впервые – «Еженедельное обозрение», 1885, № 92, стр. 23, с заглавием «На чужбине». В 1-е изд. не вошло. Печ. по 2-му изд., стр. 28.
«Всё та же мысль, всё те же порыванья…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 18. Автограф, где приведенные в Вариантах стихи отменены, – ПД. В стихотворении отразились воспоминания о Н. М. Дешевовой (см. примечание к стихотворению «Ах, этот лунный свет! Назойливый, холодный…», стр. 441). В собр. соч. датировалось 1885 г.
Отрывок («Пишу вам из глуши украинских полей…»)*
Впервые – КН, 1886, № 2, стр. 83. В 1-е и 2-е изд. не вошло. В посмертных собр. соч., начиная с 19-го изд., печаталось с редакторской правкой 8-го стиха по предложению П. Ф. Якубовича (см. его статью «Надсон и его неизданные стихотворения» – РБ, 1900, № 10, стр. 45). Автограф – ПД. Вакула и Оксана – герои повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством».
«Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»*
Впервые – РМ, 1886, № 1, стр. 282. В 1-е и 2-е изд. не входило. Печ. по 3-му изд., стр. 45. Беловой автограф в альбоме М. В. Ватсон (с датой записи – 17 января 1886) – Морозовский фонд Архива АН СССР (Москва). Черновые автографы – тетр. 16. О том, что стихотворение должно появиться в № 1 РМ, Надсон сообщал сестре А. Я. Мокеевой в письме от 6 января 1886 г.
«О, неужели будет миг…»*
Впервые – КН, 1885, № 9, стр. 100. Автографы – ПД. Там Петр в Клермонте говорил. Имеется в виду Петр Амьенский (Петр Пустынник; ок. 1050–1115), французский монах-проповедник, призывавший к крестовому походу и возглавивший ополчение бедноты в 1096 г, Гус Ян (1369-14151) – профессор Пражского университета, вдохновитель народного движения против католической церкви и немецкого влияния в Чехии. Был сожжен по приговору церковного собора. Телль Вильгельм – герой швейцарской народной легенды, предводитель швейцарцев в их борьбе против австрийских феодалов в XIV в. Длительное время считался историческим лицом.
«На юг, говорили друзья мне, на юг…»*
Впервые – «Северный вестник», 1887, № 3, стр. 144. Автограф – альбом. Другие автографы – там же. В стихотворении отразились впечатления поездки Надсона в Ниццу и Ментону в 1884–1885 гг.
«Это не песни – это намеки…»*
Впервые – КН, 1885, № 9, стр. 100. В прижизненные издания не входило (см. письмо, к М. В. Ватсон от 10 октября 1885 г. – ПСС, т. 2, стр. 545).
«За что? – с безмолвною тоскою…»*
Впервые – «Живописное обозрение», 1885, № 38, стр. 183. Ранняя редакция этого стихотворения («Ты хочешь знать, за что с презрением суровым…») публиковалась как самостоятельное произведение (ПСС, т. 1, стр. 227). Там же – ее вариант.
«Художники ее любили воплощать…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 17, без последних 9 стихов, которые появились в НП (стр. 31) с цензурными изъятиями. Печ. по 22-му изд., стр. 220. Автограф с недописанной предпоследней строкой (в тексте дана в чтении П. Ф. Якубовича) – ЦГАЛИ. В собр. соч. датировалось 1882 г., между тем стихотворение записано на том же листе, что и стихотворение 1885 г. «Певица». Мессия – спаситель; здесь имеется в виду Христос.
«Красавица девушка чудную вазу держала…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 397. Печ. по автографу ПД. Положено на музыку Виноградовым.
«Не хочу я, мой друг, чтоб судьба нам с тобой…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 801. Печ. по автографу ПД. Обращено к М. В. Ватсон (ср. стихотворение «Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»).
Певица*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 797. Автограф первоначального наброска – ЦГАЛИ. Имеется в виду представление оперы Верди «Аида», в которой заглавную партию с большим успехом исполняла Мария Александровна Славина, дебютировавшая в этой опере на сцене Мариинского театра в 1879 г. Озирис (егип. миф.) – верховное божество, бог солнца и плодородия.
«Да, только здесь, среди столичного смятенья…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 797, Автограф – ПД.
«Если ночь проведу я без сна за трудом…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 798, без ст. 3–5. Печ. по 6-му изд., стр. 411.
«Прощай, туманная столица!..»*
Впервые – 6-е изд., стр. 413. Написано в связи с отъездом из Петербурга в Подольскую губ., где Надсон провел зиму 1885–1886 гг.
Три ночи Будды*
Впервые – 6-е изд., стр. 384. Там же, (стр. 388) – другая редакция. Начало еще одной редакции, близкой к приведенной в Вариантах, печаталось в собр. соч. как самостоятельное стихотворение («Разлетайся, загадочный сумрак веков…»). Автограф основного текста – ПД. Другие автографы – тетр. 12 и 16. Стихотворение является частью задуманной поэмы о Будде (см. примечание к стихотворению «Песни Мефистофеля», стр. 463). О своем замысле Надсон писал в 1885 г. М. О. Меньшикову: «Никаких мировых вопросов в „Будде“ я не намерен разрешать, да и как вообще можно разрешать „мировые вопросы“, но что поэма их коснется – это неизбежно, коснется настолько, насколько касается их легенда о Будде, – и что это будет современно – это тоже верно» (ПСС, т. 2, стр. 531). Товарищ Надсона М. А. Российский в своих воспоминаниях пишет: «Поэме „Три встречи Будды“ <см. следующее стихотворение> он придавал огромное значение и старательно изучал и собирал материал. От нее сохранились только три отрывка, три разных начала. Мысль эта очень занимала его, и он очень опасался, что за тот же сюжет возьмется кто-нибудь другой» («Север», 1903, № 3, стр. 187). Будда – см. следующее примечание. Капилаваста – по преданию, столица сакьев, одного из двух племен, которыми правил отец Будды.
Три встречи Будды*
Впервые (ранняя редакция) – 6-е изд., стр. 422. Печ. по последнему, наиболее завершенному автографу в альбоме, с исправлением описки в ст. 11: «курильщиц» вместо «курильниц». Другие автографы – там же и тетр. 16. В собр. соч. датировалось 1886 г. Датируется по положению автографов в альбоме. Является частью задуманной поэмы о Будде (см. предыдущее примечание). Будда – буквально: «просветленный», титул Сиддхартхи Гаутамы, легендарного основателя буддийского религиозного учения. По преданию, отцу Будды, владетельному индийскому князю, было предсказано, что его сын отречется от мира, после того как встретит старика, больного, мертвеца и отшельника. Несмотря на все старания отца, эти четыре встречи (а не три, как у Надсона) произошли. Будда покинул дворец и стал проповедником нового учения, призывавшего к аскетизму, непротивлению злу и уходу от активной общественной жизни. Непал – государство в Азии, в центральной части южного склона Гималаев. Сидората – Сиддхартха.
«Да, молодость прошла!.. Прошла не потому…»*
Впервые – КН, 1887, № 5, стр. 16. Печ. по беловому автографу ПД, вырезанному из альбома ГПБ, где имеются черновые автографы предшествующих и наброски последующих редакций. В собр. соч. датировалось 1886 г. О настроении, близком к отразившемуся в этом стихотворении, Надсон писал в 1885 г. М. О, Меньшикову: «А знаете что: ведь вы, наверное, пытаетесь чем-нибудь объяснить эту одолевшую хандру, – службой, что ли, или другими неудачами. Не объясняйте ее ничем, иначе вы ошибетесь; это – просто в воздухе и в эпохе, и будет все хуже и хуже…» (ПСС, т. 2, стр. 530).
«Дурнушка! Бедная, как много унижений…»*
Впервые – НП, стр. 93. Печ. по автографу ПД. Стихотворение датировалось 1884 г., между тем в рукописи оно записано рядом со стихотворением 1885 г. «Кипит веселье карнавала…». См. примечание к стихотворению «Дурнушка» («Бедный ребенок, – она некрасива!..»), стр. 450.
«Напрасно я ищу могучего пророка…»*
Впервые – «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 209.
«Посмотри в глаза мне, милый, веселее!..». Впервые (вариант, с первой строкой: «Милый мой, взгляни в глаза мне веселее…»*) – 6-е изд., стр. 374. Печ. по автографу ПД.
«Когда, спеша во мне сомненья победить…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 244. Автограф ст. 1-13 – ПД.
«По смутным признакам, доступным для немногих…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 375, где напечатано по не дошедшей до нас рукописи. Другая редакция, с заглавием «Два портрета», – НП, стр. ПО; ее автограф – ПД. Печ. по ПСС, т. 1, стр. 225. Первая часть стихотворения навеяна процессом Веры Николаевны Фигнер (1852–1942), известной деятельницы народовольческого движения, приговоренной в сентябре 1884 г. к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.
Дурнушка («Дурнушка! С первых лет над нею…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 383. См. примечание к стихотворению «Дурнушка» («Бедный ребенок, – она некрасива!..»), стр. 450.
«Вольная птица, – люди о нем говорили…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 390. Автограф другой, менее полной редакции – ПД.
«Лазурное утро я встретил в горах…». Впервые (строфы 1–3) – РМ, 1887, № 5, стр. 7. Печ. по 22-му изд., стр. 318. Автографы другой редакции – ПД.
«Какая-то печаль мне душу омрачает…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 393.
«Я рос тебе чужим, отверженный народ…»*
Впервые – сб. «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», СПб., 1901, стр. 63. Автографы других редакций – ПД.
«В кругу твоих подруг одна ты не смеялась…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 15, без последних четырех стихов, напечатанных как самостоятельное стихотворение – НП, стр. 108. Печ. по 19-му изд. стр. 275. Автограф неполной редакции – ПД.
«Видишь, – вот он! Он гордо проходит толпой…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 398. Автограф – ПД. Ст. 29–32 в рукописи утрачены.
«Нет, видно, мне опять томиться до утра!..». Впервые (другая редакция) – 6-е изд., стр. 400. Печ. по 7-му изд., стр. 260.
«Надо жить! Вот они, роковые слова!..»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 19.
«Как долго длился день!.. Как долго я не мог…»*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 12. Прометей (греч. миф.) – титан, похитивший с неба божественный огонь и принесший его людям. В наказание, по приказу царя богов Зевса, был прикован к скале, где огромный орел каждый день клевал его печень.
Шествие*
Впервые – 7-е изд., стр. 269, со вторым подзаголовком – «Из Джакометти», данным, по-видимому, редактором. Автограф – ПД. Другие автографы-там же, тетр. 12 и 13. Автограф первой части до слов «И длилось шествие» вклеен в экземпляр книги «Стихотворения», изд. 21-е, СПб., 1905, хранящийся в библиотеке ПД. См. вступит, статью (стр. 42).
«Лицом к лицу, при свете дня…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 415.
«Не хотел он идти, затерявшись в толпе…». Впервые- «Северный вестник», 1887, № 3, стр. 145.
«Чего тебе нужно, тихая ночь?..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 24. Автограф – ПД.
На могиле А. И. Герцена*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 7, без последней строфы, напечатанной впервые – НП, стр. 112. Первые пять строф печ. по автографу альбома, последняя строфа – по автографу тетр. 16, где она записана отдельно и обозначена цифрой 6. Другие автографы – тетр. 16, альбом и ПД. Приведенные в Вариантах четыре стиха в собр. соч. ошибочно включались в окончательный текст. Датировалось 1886 г. Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) – врач, лечивший Надсона за границей. См. письма Надсона к нему (ПСС, т. 2). Как колокол правды, добра и свободы и т. д. Имеется в виду газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Колокол» (1857–1867), издававшаяся в Лондоне, затем в Женеве.
Весной*
Впервые – «Заря» (Киев), 1886, № 174, 6 сентября, н статье Надсона «Литературно-журнальные очерки (Короленко. „Слепой музыкант“)», без заглавия. Печ. по 6-му изд., стр. 163. В прижизненные издания, не входило, Икар- см. ниже.
Олаф и Эстрильда*
Впервые – там же, № 99, 4 июня, в статье Надсона «Литературно-журнальные очерки (О г-не Буренине)», без последней строфы. Печ. по 6-му изд., стр. 164. В прижизненные издания не входило. Автограф 1-й, части 2-й и 6-й строф – тетр. 16. Другие автографы – ПД. Первые пять строф этой баллады представляют собой «состязание» с реакционным критиком и беллетристом В. П. Бурениным, поносившим молодых поэтов, которые, как он писал, «пищат» и «мяукают» в своих стихах. В своей статье Надсон привел отрывок из прозаической баллады Буренина на туже тему и переложил ее в стихи, «предоставив читателям решить, выиграет или проиграет она <баллада> от этого „писка“ и „мяуканья“» (ПСС, т. 2, стр. 237).
Мать («Тяжелое детство мне пало на долю…»)*
Впервые – «Всемирная иллюстрация», 1886, № 897, 22 марта, стр. 251. Первый набросок стихотворения впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 27. В прижизненные издания не входило. Автограф окончательного текста – тетр. 16. Другие автографы – тетр. 12, ПД, ГБЛ. Стихотворение носит автобиографический характер.
«Когда в вечерний час схожу я в тихий сад…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 414. Печ. по автографу тетр. 16. В собр. соч. датировалось 1885 г. Ариадна (греч. миф.) – дочь критского царя Миноса, вручившая афинскому герою Тесею клубок нитей, с помощью которого тот смог выбраться из лабиринта.
К морю*
Впервые – 6-е изд., стр. 426. Автограф – ГБЛ. Стихотворение связано с заграничной поездкой Надсона в 1884–1885 гг.
Икар*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 799. Печ. по автографу тетр. 16. Автографы предшествующих редакций – там же. Икар (греч. миф.) – сын строителя и художника Дедала. Пытаясь вместе с отцом перелететь море на крыльях, сделанных Дедалом из перьев и воска, Икар поднялся слишком близко к солнцу, воск растопился, и он упал в море. Надсон в разработке этого сюжета отступает от легенды.
«Завтра вновь полумрак этой комнаты хмурой…»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 2. Автограф – тетр. 16.
«Гнетущая скорбь!.. Как кипучий поток…»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 12. Автограф – тетр. 16, где имеется еще один стих: «Я больше не верю, – я верить устал».
«Наперекор грозе сомнений…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 18. Автограф – тетр. 16.
«Итак, сомненья нет, – разлука решена…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 8. Автограф – тетр. 16.
«Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 436. Автограф – тетр. 16.
«Ты разбила мне сердце, как куклу ребенок…»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 1. Беловой и черновые автографы – тетр. 16. Цирцея (греч; миф.) – волшебница, удерживавшая на своем острове греческого героя Одиссея. Здесь – в значении: соблазнительница.
У океана*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 2. Печ. по автографу тетр. 16, где есть еще полстиха: «Я знаю жребий твой». Автографы предшествующих редакций, одна. из которых с заглавием «Реквием», – там же,
«Весна, весна идет!.. Как ожила с весною…»*
Впервые – КН, 1887, № 3, стр. 74. Беловой автограф – тетр. 16. Черновые автографы – там же. Беловой автограф другой редакции – ПД.
Песни Мефистофеля*
Впервые – 6-е изд., стр. 419. Печ. по автографу тетр. 16. Другие автографы – там же. По всей вероятности, стихотворение связано по замыслу с поэмой о Будде (см. примечание к стихотворению «Три ночи Будды», стр. 459) и должно было являться ее началом. В тетр. 16 сохранилась запись: «Пролог. Песнь первая. Три ночи Будды». Мефистофель говорит поэту: «Я буду петь, а ты внимай»; по-видимому, части поэмы о Будде – это и есть «песни» Мефистофеля. Парнас – гора в Греции, считавшаяся местопребыванием Аполлона и муз. В переносном смысле – сообщество поэтов. Пегас (греч. миф.) – крылатый конь, символ поэтического вдохновения.
Жизнь*
Впервые – КН, 1886, № 11, стр. 141. Беловой и черновой автографы – тетр. 16. Другие автографы – ПД. В прижизненные издания не входило. По первоначальному замыслу продолжением стихотворения «Жизнь» должен был быть текст, приведенный в Вариантах («Усопший милый брат, как жизнь он знал глубоко…»), посвященный памяти А. Н. Островского. Этот текст, не публиковавшийся поэтом, был произвольно присоединен в собр. соч. к отрывку «Прости безвестному, что с именем твоим…», возможно, также посвященному Островскому. Автопародией на «Жизнь» является стихотворение «Меняя каждый миг наряды, <как красотка>…» (стр. 321). Серафим – шестикрылый ангел.
В ответ*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 11, стр. 357, в статье К. Арсеньева «Посмертные стихотворения Надсона», без ст. 5–8. Печ. по 22-му изд., стр. 340. Стихотворение является ответом на статью в киевской газете «Заря», 1886, №№ 35 и 36 от 11 и 12 марта, подписанную М. N. W. (В. Малинин). Что в эти дни рыдать постыдно и грешно. Автор статьи отмечает «плаксивость» музы Надсона, мрачность настроения и бессилие воли поэта. «Мы у г. Надсона, – пишет он, – находим источник тоскливого и расслабляющего настроения нашего общества, а местами н самого автора».
«Все говорят: поэзия увяла…»*
Впервые – НП, стр. 114. Печ. по автографу ПД. См. примечание к стихотворению
«Умерла моя муза!.. Недолго она,», стр. 456.
«Печальна и бледна вернулась ты домой…»*
Впервые – КН, 1887, № 4, стр. 4. Автограф – альбом.
«Не говорите мне „он умер“. Он живет!..»*
Впервые – КН, 1887, № 5, стр. 16. Написано под влиянием стихотворения А. Н. Апухтина «Будущему читателю» (А. Н. Апухтин. Стихотворения. СПб., 1886, стр. 179). Стихи Апухтина Надсон читал в рукописях и журнале «Русская мысль» (см. его письмо 1885 г. А. Н. Плещееву – ПСС, т. 2, стр. 528). Положено на музыку Ц. А. Кюи и А. Г. Рубинштейном.
«Мучительно тянутся дни бесполезные…»*
Впервые – «Вестник литературы», 1921, № 2, стр. 9. В собр. соч. не входило.
«Прочь от меня – я проклинаю…»*
Впервые – «Солнце России», 1912, № 3, стр. 2, без даты. В публикации ст. 8 читается: «Я гордо затаю в моей груди», однако такое чтение явно ошибочно, ибо в строке оказывается лишний слог. В собр. соч. не входило.
«Дураки, дураки, дураки без числа…»*
Печ. впервые по автографу ПД без даты.
Шуточные стихотворения
В. Мамонтову*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. Мамонтов Василий Ильич – двоюродный брат Надсона.
Родительское благословение*
Печ. впервые по автографу тетр. 4.
Послание к Российскому*
Впервые – РМ, 1912, № 1, стр. 38, в статье М. А. Российской-Кожевниковой «Воспоминания о С. Я. Надсоне». Имеется в виду дежурство по кухне Надсона в период его обучения в Павловском военном училище. На эти стихи шуточный ответ Российского см. – там же. Российский Михаил Александрович (1862–1910) – товарищ Надсона по Павловскому военному училищу. Эвмениды (греч. миф.) – богини-мстительницы.
Сон*
Впервые – «Кадет-Петровец», 1913, № 10, стр. 28, с примечанием Ник. Жерве – преподавателя Кадетского корпуса и автора книги «Кадетские, юнкерские и офицерские годы С. Я. Надсона» (СПб., 1907): «Это шуточное стихотворение С. Я. Надсона относится ко времени пребывания его в Павловском военном училище… Нечего и говорить, что упомянутые в стихотворении „ученые“ – это были лекторы училища, а „творенья“ их – учебники. Стихи Надсона на „злобу дня“ юнкерской жизни обыкновенно быстро расходились по рукам его товарищей. Шуточные стихотворения Надсон писал очень часто, острые словечки любил, а юмора у него было много. Вообще не проходило недели, чтобы Надсон не написал что-нибудь, касающееся внутренней жизни училища. Неизвестно, сохранились ли где-либо шутливые стихотворения Надсона, но были, по словам его товарищей, презабавные. Напечатанное здесь стихотворение „Сон“ мне удалось получить через бывшего офицера Павловского военного училища, ныне генерал-лейтенанта и известного военного писателя Н. Н. Защука». Печ. по автографу ПД, который значительно отличается от текста первой публикации, сделанной, очевидно, по списку. В рукописи помета Надсона: «Заношу стихотворение, доставившее мне популярность в училище. Заношу не потому, что признаю за ним какое-нибудь значение, а просто для памяти».
«Если был бы я Агарков…»*
Впервые – в кн. Н. Жерве «Кадетские, юнкерские и офицерские годы С. Я. Надсона». СПб., 1907, стр. 50. Агарков – полуротный командир Надсона в Павловском военном училище, большой любитель музыки. О нем Надсон писал М. А. Российскому: «Агарков со мной матерински нежен» («Север», 1903, № 1, стр. 29).
«Что ж, начнем слагать любовные посланья!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 26. Печ. по автографу тетр. 9. Автограф другой редакции – тетр. 17, с пометой: «Юмористика». Стихотворение является пародией на поэзию чистого искусства. В начале 2-й строфы пародийно использована лексика известного стихотворения А. Фета «Шепот, робкое дыханье…».
«Два нежных друга как-то жили…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13. Два нежных друга – С. Надсон и В. Абрамов, полковой товарищ Надсона, с которым он вместе жил в Кронштадте.
«Горя вчера одним стремленьем…»*
Впервые – КН, 1887, № б, стр. 1. Глазенап Сергей Павлович (1848–1937) – астроном.
«Пр'чтя только что твое п'сланье…»*
Впервые – КН, 1887, № б, стр. 5, с примечанием: «Письмо к В. М. Гаршину, написанное в подражание одному стихотворению, где было употреблено сокращенное слово „настр'жа“». Печ. по беловому автографу тетр. 13. С В. М. Гаршиным Надсон познакомился в марте 1883 г. у А. Н. Плещеева.
«На мызе Куза муза мызы…»*
Впервые – КН, 1887, № 6, стр. 2. Послание Лидии Эрнестовне Ватсон (Лике), жившей летом 1884 г. на мызе Куза в Финляндии.
«Шутить стихом, играть словами…»*
Впервые – КН, 1887, № 6, стр. 3. Автограф – тетр. 14, Адресовано заведующей редакцией газеты «Неделя», где Надсон в 1884 г. служил секретарем.
«Грязна харчевня Кишинев…»*
Впервые – КН, 1887, № 6, стр. 3. Автограф – ПД. Вошло в текст письма Надсона В. А. Фаусеку (см. ниже примечание к стихотворению «Да, ты один, о Фаусек…») из Висбадена от 12 октября 1884 г. После этого стихотворения в письме замечание: «А я вот непременно воскресну, – только дайте срок» (ПСС, т. 2, стр. 500).
«О, не молчи, кукуевец бездушный…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 27. Обращение к В. М. Гаршину, включенное в текст письма к В. А. Фаусеку из Ниццы от 6 ноября 1884 г. К стихотворению примечание Надсона: «Строки эти надлежит петь на мотив: „Скажите ей“» (ПСС, т. 2, стр. 506). Кукуевцами называли железнодорожных служащих после катастрофы в 1882 г. около деревни Кукуевка. В. М. Гаршин служил секретарем съезда железных дорог.
«Я вам пообещал когда-то…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 16. Автограф предшествующей редакции – там же. Стихотворение адресовано, по всей вероятности, В. П. Гайдебуровой, дочери издателя газеты «Неделя» П. А. Гайдебурова. Ср. стихотворение с письмом ей на французском языке (ПСС, т. 2, стр. 549) и стихотворением «В. П. Г-вой», стр. 233. Монтировать вам си – от франц. monter une cie: поддевать вас. Нефли – от франц. nefle: мушмула (плод). Амбетаж – от франц. embetant: надоедливый, назойливый.
«Меняя каждый миг наряды, как красотка…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 16. Последнее слово первого стиха в рукописи утрачено. Скороспелый дар – по всей вероятности, стихотворение «Жизнь», на которое данное является пародией. Записано на обороте листа с автографом стихотворения «Жизнь». Ср. также первый стих пародии с первым стихом «Жизни». Пусть Академия тебя и увенчала. Осенью 1886 г. Надсону была присуждена Академией наук Пушкинская премия.
Июль*
Печ. впервые по автографу тетр. 16. В стихотворении имеется в виду Аспид (С. А. Бердяев), выпустивший пасквильную брошюру «Надсониада» (Киев, 1886), в которой содержатся резкие выпады против Надсона. Сикофант – шпион, доносчик.
«Да, ты один, о Фаусек…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 26. Обращено к Виктору Андреевичу Фаусеку, известному зоологу, с которым Надсон познакомился у В. М. Гаршина в 1883 г. Фаусек ездил к Надсону в Ниццу и пробыл там с ним полтора месяца.
Незавершенные произведения, отрывки и наброски
Светоч*
Печ. впервые по автографу тетр. 4. Там же – автограф другой редакции.
Шалунья*
Печ. впервые по автографу тетр. 4.
«Вот он: взгляни – безобразный, худой…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 4.
«Куда уйти от размышленья…»*
Печ. впервые по автографу ПД с пометой: «Тифлис».
«Друзья, близка моя могила…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5.
«Прощай, мелькнувший мир любви и наслаждений…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 1.
«Поэзия! Святое слово…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5.
«К чему мне шум похвал <и> гром рукоплесканий…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 5.
bВпервые-22-е изд., стр. 236. Печ. по автографу ПД. Отклик на смерть Н. М. Дешевовой. В собр. соч. датировалось 1883 г. Положено на музыку С. М. Блуменфельдом.
«Постой, говорил он, моя дорогая…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 7. Автограф – ПД.
«Я верю: ты велик! – Велик не потому…»*
Печ. впервые по автографу ПД.
«Случай свел нас и случай опять разведет…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 6.
«Гор больше нет. Открытый кругозор…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 6.
«Без разрешенья и цензуры…»*
Печ. впервые по автографу ПД. Другой автограф – там же. Имеется в виду рукописный журнал, который начал выходить в Павловском военном училище. Главным редактором и сотрудником журнала был Надсон. После выхода двух номеров журнал прекратился «под давлением внутренней цензуры», по словам М. А. Российского. См. его воспоминания о Надсоне – «Север», 1903, № 1, стр. 60.
«Я так долго напрасно молил о любви…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 5. Автограф – ПД.
«Не гонись за высотой призванья…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 6.
«Живи – говорили мне звезды ночные…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 163.
Музе*
Впервые – 6-е изд., стр. 201, без последнего стиха. Печ. по автографу ПД.
«Я встретил Новый год один… Передо мною…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 219. Автограф – ПД.
«Во мраке жизненном, под жизненной грозою…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 7, где в качестве продолжения напечатан отрывок того же стихотворения: «Я вам пишу, хотя тревожные сомненья…». В собр. соч. эти отрывки печатались отдельно. Печ. по автографу тетр. 7. Другие автографы – там же. В собр. соч. датировалось 1880 г. Стихотворение посвящено, вероятно, А. Н. Плещееву.
«Я вам пишу, хотя тревожные сомненья…»*
Впервые – там же (см. предыдущее примечание). Печ. по 22-му изд., стр. 156. Автографы – тетр. 7. В собр. соч. датировалось 1880 г.
«Откуда вы, старинные друзья…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 10. Автограф – тетр. 10. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Ты прав: печальны наши звуки…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 343. Автограф – тетр. 10. В собр. соч. датировалось 1886 г.
«И музе молвил я: приди и выручай…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 7.
«Нет-нет – и охватит весенней истомой…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 10. Другой автограф – ПД.
Весенняя зорька*
Впервые – 22-е изд., стр. 171. Автограф – ПД.
«Чернила выцвели, и пожелтел листок…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 18, без начальных четырех стихов. Также печаталось в собр. соч., очевидно, по автографу ПД, начинающемуся пятым стихом. На отдельном листке в архиве ПД есть автограф начала. Автограф без трех последних стихов – тетр. 10. Печ. по автографам ПД. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Не разлука горька мне, мой друг дорогой…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 10.
Счастье*
Печ. впервые по автографу тетр. 10.
«Сердце сжимается: столько страдания…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 10. Автографы – тетр. 10. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Словно в склепе лежу я под тяжкой плитою…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 9, с исправлениями, сделанными в автографе П. Ф. Якубовичем. Печ. по автографу тетр. 9. Другой автограф – там же.
«Что было до тебя – то не было, родная…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 5. В собр. соч. датировалось 1884 г. Печ. по автографу тетр. 11.
«Святое, чистое, прекрасное страданье…»*
Впервые – РБ, 1900, № 9, стр. 147. Автограф – тетр. 11. В рукописи на месте точек оставлены пустые места.
«Моя любовь к тебе объятий не ждала…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11. Другой автограф – там же.
«Порой мне кажется, что жизнь не начиналась…»*
Впервые – РБ, 1900, № 9, стр. 147. Автограф – тетр. 8.
«Сердце мое еще просит забвенья…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 5. Автограф – тетр. 11. Ошибочно датировалось 1884 г. (П. Ф. Якубовичем) и 1885 г. (М. В. Ватсон).
«Ты помнишь, воздух гор дышал отравой зноя…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 9.
«Нет, не верится мне, чтоб и тут ты лгала…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 9, с пометой: «Для себя».
«Когда мою слезу улыбка их встречает…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11.
«Не на время любить, – а безумно любить…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11.
«В минуты тяжкого душевного страданья…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11.
«Когда я говорю о смерти – а о ней…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11.
«Не в пошлом шуме дня и в жалком опьяненьи…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 11.
«Весенний тихий день: по небу пробегают…»*
Впервые (первые 4 стиха с первой строкой: «Осенний свежий день… по небу пробегают…») – 22-е изд., стр. 270. Печ. по автографу тетр. 9.
«Нет больше сил! Под тень, куда-нибудь под тень!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 22.
«В тот полный счастья миг, когда передо мной…»*
Впервые – НП, стр. 50.
Легенда о елке*
Впервые – 6-е изд., стр. 298. Печ. по автографу тетр. 11. Другие автографы – там же. В собр. соч. датировалось 1883 г.
«Я сегодня в кого-то как мальчик влюблен…»*
Впервые (ранняя редакция) – 6-е изд., стр. 262. Другой текст, составленный из частей разных редакций, печатался во всех собр. соч., начиная с 10-го изд. Печ. по автографу тетр. 8. Другие автографы – там же.
«Нет, вам в лице моем не прочитать страданья…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 9.
«Мне снился страшный сон, – мне снилось, что над миром…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 23. Печ. по автографу ПД.
«Неужели всю жизнь суждено мне прожить…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 18.
«Среди убогих стен чужого городка…»*
Впервые – Стихотворения. Изд. 9-е, СПб., 1889, стр. 195, в контаминированной редакции, с первой строкой: «Бродя в весенний день с бесцельною тоскою…». Так же – в последующих собр. соч. Печ. по автографу тетр. 13, где в конце имеется 2 строки отточий и помета: «После прогулки в Летнем саду. Кронштадт, 1883, 13 мая». Там же – набросок начала.
«По душной улице столицы раскаленной…»*
Впервые – «День», 1914, № 94, 6 апреля, в статье Н. Минского «Записная книжка Надсона». В собр. соч. не входило.
«Задыхаюсь, – томит, убивает…»*
Впервые – «День», 1914, № 94, 6 апреля, в статье Н. Минского «Записная книжка Надсона». В собр. соч. не входило.
«Это ли мощные песни свободы…»*
Впервые – «День», 1914, № 94, 6 апреля, в статье Минского «Записная книжка Надсона». В собр. соч. не входило.
«Ах, эти детские лазоревые глазки!..»*
Впервые – РМ, 1887, № 4, стр. 10. Автограф с отточием – тетр. 13.
«Как совы таятся от света и шума…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 290, в контаминированной редакции, В последующих собр. соч. – так же. Печ. по автографу тетр. 13. Другие автографы – там же и тетр. 12.
«Ночь сегодня была бесконечно длинна…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 292. Автографы набросков начала – тетр. 11, 13 и ПД.
«Сегодня ночь была душна… Зловещий гром…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 319. Печ. по автографу тетр. 12.
«Еще не исчерпана сила в груди…»*
Впервые – КН, 1893, № 1, стр. 57. Печ. по автографу тетр. 13. В собр. соч. датировалось 1884 г.
«То порыв безнадежной тоски, то опять…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 295. Печ. по автографу тетр. 13.
«Нет, в этот раз недуг мне не солжет…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 430, с произвольно присоединенным последним стихом «Прощай! Прощай», записанным в рукописи в низу листа. Так же – в последующих собр. соч. Печ. по автографу ПД. Другой автограф – тетр. 11. В собр. соч. датировалось 1886 г.
«Им казалось, весь мир изменился с тех пор…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 304. Положено на музыку Ф. Ф. Кенеманом и Ф. С. Акименко.
«Мертва была земля: торжественно сияли…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 310.
«Есть скорбь прекрасная… Она, как пламя, жжет…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 14.
«Боже мой, боже, куда ж это скрылось?..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 17.
«От пошлой суеты земного бытия…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 15. Автограф – тетр. 11.
«Неопытной душой о подвигах тоскуя…»*
Впервые (ранняя редакция с первой строкой: «На утре дней моих о подвигах, мечтая…») – 6-е изд., стр. 240. Печ. по автографу тетр. 13. В собр. соч. датировалось 1881 г.
«Не лги перед собой, не тешь себя мечтаньем…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 12. Автограф – тетр. 11. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Опять перед лицом родных моих полей…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 312. Автограф – тетр. 13. Там же – автограф предшествующей редакции.
«Из сказок матери, вечернею порою…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 321. Автограф – тетр. 12. Другой автограф – там же.
«Я раньше вышел в путь, чем сверстники мои…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 219. Печ. по автографу ГБЛ. Записано на обороте письма А. Н. Плещеева от начала 1883 г.
«Лги, – людям ложь нужна… Рисуйся перед ними…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 297. Автограф – тетр. 13. Другой автограф – там же.
«Не налагай оков на вдохновенье…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 303. Печ. по автографу тетр. 13.
«Не раз во мгле томительных ночей…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 12.
«В окно залетел мотылек и мелькает…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«Она была славная девушка, – смело…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«В ежедневных встречах с пестрою толпою…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«Иди, зовут они, – для братьев, для отчизны…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«Прекрасный, как пророк в пылу негодованья…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«Увлеки ты меня, отведи меня прочь…»*
Впервые – НП, стр. 62.
«В старом домике соседки…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 24.
«Мне места не было за праздничным столом…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 14.
«Не слетайте ко мне, лучезарные сны…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 14.
«Сойтись лицом к лицу с врагом в открытом поле…»*
Впервые – НП, стр. 78.
«Толпа вокруг меня и дышит и живет…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 14.
«Когда порой толпа совлечена с дороги…»*
Впервые – НП, стр. 59. Печ. по 22-му изд., стр. 240. По замыслу, вероятно, связано с отрывком «Настанет грозный день – и скажут нам вожди…».
«Бери меня таким, каков я есть…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 16.
«Сегодня долго я огня не зажигал…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 268.
«Не умирай, – с тоской уста ее шептали…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 14.
«Ты мне напомнила про молодость мою…»*
Печ. впервые по автографу тетр. 13.
«Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи…»*
Ст. 1–4 впервые – 6-е изд., стр. 300; ст. 5-12 – РБ, 1900, № 10, стр. 14, оба отрывка – как самостоятельные стихотворения. В собр. соч. эти отрывки печатались также отдельно, в связи с тем, что они записаны в разных тетрадях. Печ. по автографам тетр. 12 и 13, заведенных одновременно: 24 февраля 1883 г. Следующие за этим три отрывка являются разными фрагментами того же неосуществленного замысла; из них 2-й и 3-й печ. впервые по автографам тетр. 13, 4-й впервые – 6-е изд., стр. 444, автограф – тетр. 16. О теме пророка в стихотворениях Надсона см. вступит. статью, стр. 20–21.
«Жить, полной жизнью жить!..»*
Впервые – 6-е изд., стр. 283. Автограф – ПД. В собр. соч. стихотворение датировалось 1883 г., между тем в рукописи оно записано рядом со стихотворением 1884 г. «Мне снился вещий сон…». Положено на музыку Р. М. Глиэром.
«Я не знаю, за что ты меня полюбила…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 16. Автограф – тетр. 14. В собр. соч. датировалось 1883 г.
«Он спал, разметавшись в своей колыбели…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 222. Печ. по автографу альбома. Положено на музыку А. А. Спендиаровым и Э. Ф. Направником.
Дурнушка («Что сталось с голубкой моей дорогой…»)*
Впервые – 6-е изд., стр. 334, без заглавия. Печ. по автографу тетр. 14. См. примечание к стихотворению «Дурнушка» («Бедный ребенок, – она некрасива!..»), стр. 450.
«Я видел сон: мне снилась ночь глухая…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 336. Автограф – тетр. 14.
«Что я скажу тебе, мой бедный, бедный друг?..»*
Впервые – 7-е изд., стр. 223. Автограф – ПД.
«Мне приснилось, что ночью, истерзан тоской…»*
Впервые – НП, стр. 95. Печ. по автографу ПД. По замыслу связано со стихотворением «Мне снился вещий сон: как будто ночью темной…».
«Долго ли, жизнь, суждено мне по свету скитаться?..»*
Впервые – 7-е изд., стр. 225.
«Тяжелых жертв я не считал…»*
Впервые – Стихотворения. Изд. 9-е, СПб., 1889, стр. 225. Автограф – ПД. Автограф другой редакции – там же.
«Проснись, проснись, певец…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 12, без последних двух стихов. Там же – вариант финала, печатавшийся в собр. соч. как самостоятельный отрывок («Сердца возмущены… Незримо для очей…»). Печ. по автографу тетр. 13. Другой автограф – ПД.
«В узком овраге прохлада и тень…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 233. Автограф – в альбоме.
«Как неприглядна ты, родная сторона…»*
Впервые (другая редакция, с первой строкой: «И без того душа унынием полна…») – 7-е изд., стр. 255. Печ. по автографу альбома. Автограф другой редакции – там же.
«Прошлого времени тени туманные…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 326.
«Прозрачна и ясна осенняя заря…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 23.
«Вечерело… Солнце в блеске лучезарном…»*
Впервые – Стихотворения. Изд. 9-е, СПб., 1889, стр. 220.
«Лунным блеском озаренная…»*
Впервые – «День» (приложение к газете «Еженедельное обозрение»), 1887, № 10, стр. 379, Положено на музыку Ц. А. Кюи.
«Эти думы не новы; когда-то они…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 341. Автограф – ПД.
«Весенние ночи!.. В минувшие годы…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 342.
«Ни к ранней гибели, ни к ужасу крушений…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 352. Автограф – ПД.
«Ах, не много молю у судьбы я, мой друг…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 353. Автограф – ПД.
«Не думай, – шепчет лес зелеными ветвями…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 361.
«Нет, я не понесу в чертоги вдохновенья…». Печ. впервые по автографу альбома.
«Нет, не потонешь ты средь мертвого забвенья…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 22. Автограф – тетр. 14. В собр. соч. датировалось 1882 г.
«Робко притаившись где-нибудь с игрушкой…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 313. Автограф другой редакции – тетр. 14. В собр. соч. датировалось 1883 г. См. примечание к стихотворению «Дурнушка» («Бедный ребенок, – она некрасива!..»), стр. 450.
«Есть бездна мрачная, та бездна – отрицанье…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 14. Автограф – альбом.
«С берега тихой реки, озаренной закатом…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 332. Автограф – альбом.
«Что день, то тяжелей бороться и дышать…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 344. Автограф – тетр. 14.
Облако («День ясен…»)*
Впервые – РМ, 1887, № 3, стр. 3.
Октябрьская ночь*
Перевод части поэмы французского поэта-романтика Альфреда Мюссе (1810–1857) «La nuit d'octobre» из книги «Les nuits et souvenir». Впервые – НП, стр. 91, где напечатано по не дошедшей до нас рукописи. Автографы других редакций – ПД, О книге Мюссе Надсон писал: «Его „Ночи“ привели меня в совершенный восторг» (ПЕСС, т. 1, стр. XXXIII).
<Из Бодлера>*
Перевод стихотворения французского поэта Ш. Бодлера (1821–1867) «Paysage» из цикла «Tableaux parisiens» в книге «Les fleurs du mal». Впервые – KH, 1892, Mi 1, стр. 39, с изменением последовательности текста (первые четыре стиха отнесены в финал) и без стихов пятого и последнего. В собр. соч. – так же. Печ. по автографу ПД. Перевод не закончен, в рукописи оставлен пробел для трех непереведенных стихов (отмечены в тексте строками точек).
«О мысль, проклятый дар!..»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 19.
«Настанет грозный день – и скажут нам вожди…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 288.
В лунную ночь*
Впервые – 6-е изд., стр. 402. Печ. по автографу ПД.
«Я понял, о чем, как могучий орган…»*
Впервые – Стихотворения. Изд. 10-е, СПб., 1890, стр. 266. По замыслу связано со стихотворением «Тревожно сегодня мятежное море…».
«Я белой Ниццы не узнал!..»*
Впервые – НП, стр. 104. Автограф – ПД.
«В такие дни и песня не поется…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 19. Автограф – ПД. Автографы других редакций – там же и в альбоме. В собр. соч. было объединено с другим отрывком того же стихотворения.
«Снилось мне, что в глубокую полночь один…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 382. Автограф – тетр. 16.
Эмир и его конь*
Печ. впервые по автографу альбома. Эмир – владетельный княжеский титул в некоторых мусульманских странах Востока.
«Ты угадала: страдает твой друг…»*
Впервые – «Вестник Европы», 1887, № 4, стр. 798.
«Бледнеет летний день… Над пышною Невою…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 17. Автограф – ПД.
«В саду, куда люблю спасаться я порой…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 13.
«Когда порой я волю дам мечтам…»*
Печ. впервые по автографу ПД.
«Много позорного в сердце людском…»*
Впервые – 22-е изд., стр. 304. Печ. по ПСС, т. 1, стр. 223.
«Опять передо мной таинственной загадкой…»*
Впервые – НП, стр. 106.
«Нищенским рубищем скудно прикрытая…»*
Впервые – НП, стр. 102.
«В городе стало и душно и пыльно…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 394.
«Не бесплодно века пронеслись над усталой землей…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 17.
«Есть странные дети: веселья и шума…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 262.
«К себе, скорей к себе, в свой угол одинокий…»*
Впервые – РБ, 1900, № 10, стр. 13.
«Если друг твой собрался на праведный бой…»*
Впервые – НП, стр. 109.
«Мне снилось, что иду куда-то я с толпой…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 410. Автограф – ПД.
«Мне кажется, что я схожу с ума…»*
Впервые – 6-е изд., стр. 396. Автограф – ПД; в последнем стихе после точки начало новой фразы: «На берегу».
«Опустился туман и от взоров сокрыл…»*
Впервые – НП, стр. 109. Автограф – тетр. 16. В собр. соч. датировалось 1885 г.
«Как мощный враг страны иноплеменной…»*
Впервые – РМ, 1887, № 5, стр. 17. Автограф – тетр. 16.
«Он мне не брат – он больше брата…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 283.
«Если ты друг – дай мне руку, отрадней вдвоем…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 284.
«Прости безвестному, что с именем твоим…»*
Впервые – 7-е изд., стр. 285, Печ. по автографу на отдельном листе без даты, вклеенном в тетр. 16. См. примечание к стихотворению «Жизнь», стр. 463.
«Напрасно, дитя, ты мечтаешь горячими ласками…»*
Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, без даты.
«Глядит! он с ума меня сводит – бесстрастный…»*
Печ. впервые по автографу ПД, без даты. Автограф варианта – там же.
Примечания
1
Автобиография, дневники, письма и статьи С. Я. Надсона цитируются по изданию: С. Я. Надсон. Полное собрание сочинений, т. 2. Пг., 1917.
(обратно)2
В. Г. Короленко. Избранные письма, т. 3. М., 1936, стр. 17.
(обратно)3
В. М. Гаршин. Сочинения. М., 1955, стр. 193.
(обратно)4
В. Г. Короленко. Собрание сочинений, т. 6. М, 1954, стр. 200.
(обратно)5
В. Г. Короленко. Собрание сочинений, т. 2. М., 1954, стр. 388.
(обратно)6
И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 6. М., 1955, стр. 93.
(обратно)7
Из воспоминаний Н. А. Панова. – «Литературное наследство», № 49–50. М., 1946, стр. 602.
(обратно)8
Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 2. М., 1935, стр. 244.
(обратно)9
Поэты «Искры», т. 1. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1955, стр. 527–528.
(обратно)10
См., например, его стихотворение «Он шел безропотно тернистою дорогой…» (1858).
(обратно)11
В. М. Гаршин. Сочинения. М., 1935, стр. 325.
(обратно)12
Сочинения Н. К. Михайловского, т. 4, СПб., 1897, стр. 345.
(обратно)13
Там же, стр. 347.
(обратно)14
И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 4. М., 1954, стр. 405–406.
(обратно)15
И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 3. М., 1954, стр. 92.
(обратно)16
Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1939, стр. 418.
(обратно)17
Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 12. М.-Л., 1953, стр. 488.
(обратно)18
В. Г. Короленко. Избранные письма, т. 3. М., 1936, стр. 15.
(обратно)19
См. его стихотворное предисловие к «Колоколу» (1857).
(обратно)20
П. Ф. Якубович. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», Большая серия, 1960, стр. 61, 62, 85, 129–131.
(обратно)21
В. Г. Короленко. Собрание сочинений, т. 7. М., 1955, стр. 281.
(обратно)22
В. М. Гаршин. Полное собрание сочинений, т. 3. М.-Л., 1934, стр. 356 (письмо к В. М. Латкину).
(обратно)23
Это предание распространено в Тверской губернии, в деревне Лакотцы.
(обратно)24
Спящая красавица (нем.). – Ред.
(обратно)25
Битва цветов (франц.). – Ред.
(обратно)26
Крайности сходятся (франц.). – Ред.
(обратно)27
Н. Д. – Наталья Михайловна Дешевова.
(обратно)28
Моя лошадка (франц.). – Ред.
(обратно)29
Вперед! (нем.). – Ред.
(обратно)30
Вперед, вперед!! (франц.). – Ред.}
(обратно)31
Помета «после» означает, что ранняя редакция заканчивалась приведенным здесь текстом. Счет стихов – по окончательной редакции.
(обратно)32
Недосмотр автора, очевидно хотевшего сказать: «всем им я тебя одного предпочла» (примечание М. В. Ватсон в ПСС).
(обратно)33
Здесь следует текст, напечатанный Надсоном под заглавием «Весенняя сказка». См. стр. 159.
(обратно)34
В этом месте Н. М. Минский, вероятно, допустил ошибку: либо пропустил два стиха, либо восстановил два отмененных (16 и 17).
(обратно)
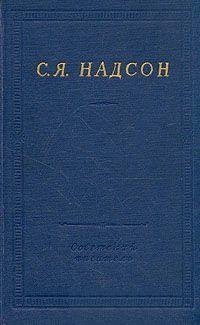

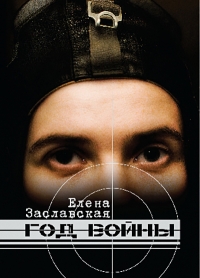


Комментарии к книге «Полное собрание стихотворений», Семен Яковлевич Надсон
Всего 0 комментариев