Лирика 30-х годов
О лирике 30-х годов Вступительная статья П. С. Выходцева
Сейчас уже трудно сказать, кто первым бросил тень на поэзию 30-х годов. Но случилось так, что в последние 10–15 лет все чаще стали раздаваться голоса о некоей неполноценности ее по сравнению с поэзией 20-х и особенно 60-х годов. Высказывались даже мнения, например, Н. Асеевым, что после 20-х годов в поэзии наступил период, когда она «стала просто рифмованной информацией о событиях» и вернулась «к тем средствам выразительности, какие были в ходу в восьмидесятых годах прошлого столетия»[1]. Критик Б. Рунин шел дальше, утверждая, что именно в 30-е годы стало даже поощряться «бесскрылое подражательство, самое откровенное эпигонство», «поэзию стали подменять под один вкус» и т. д. и т. п.[2]
Получается, что поэзия перестала быть поэзией. Оказалось почти перечеркнутым целое десятилетие ее истории.
Эти и подобные антинаучные и антиисторические и попросту необъективные суждения, к сожалению, оказали влияние на восприятие значительной частью читателей 50-60-х годов (особенно молодых) поэзии 30-х годов. Сказалось это обстоятельство и в ослаблении интересов исследователей к поэзии этого периода: при сравнительно интенсивном изучении ранних ее этапов за последние годы не появилось ни одной значительной работы о лирике 30-х годов.
Предлагаемая читателю антология — первое, в сущности, издание лирики 30-х годов, — по глубокому убеждению составителя, поможет развязать скептические и нигилистические мнения о поэзии этого периода. Стихи скажут сами за себя — и читатель увидит подлинные богатства поэзии и многообразие творческих индивидуальностей. Однако, не ставя задачи обстоятельной характеристики поэзии тех лет, хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями и выводами.
* * *
Когда речь идет о поэзии 30-х годов, мы прежде всего не должны забывать, что эти годы были периодом рождения, творческого взлета (а для некоторых поэтов и завершением пути) таких ярких и самобытных талантов, как Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Павел Васильев, Александр Прокофьев, Борис Корнилов, Дмитрий Кедрин, Алексей Сурков, Ярослав Смеляков, Николай Рыленков, Петр Комаров, Александр Яшин, Леонид Мартынов, Николай Дементьев, Борис Ручьев, Николай Заболоцкий, Василий Лебедев-Кумач, Александр Решетов, Сергей Смирнов, Александр Чуркин и другие.
Когда мы говорим о творческих поисках поэзии этого периода, мы не можем игнорировать того факта, что для многих поэтов старшего поколения (Н. Тихонов, Н. Асеев, Вс. Рождественский, Э. Багрицкий, В. Инбер, А. Ахматова, П. Орешин, М. Светлов, С. Щипачев, B. Луговской, Н. Ушаков и др.) это были годы интенсивного развития, новых открытий, а для некоторых из них — годы «второго рождения».
В 30-е годы начали определяться поэтические голоса таких поэтов, как Алексей Недогонов, Сергей Поделков, Ольга Берггольц, Константин Симонов, Михаил Дудин, Сергей Наровчатов, Алексей Фатьянов, Сергей Васильев, Маргарита Алигер и др.
Словом, как и в любое другое время, в 30-е годы поэзия жила напряженной жизнью, искала, открывала, испытывала трудности. Как и в любой другой период, в ней были свои противоречия и недостатки. Но, как всегда, она несла в себе неповторимую печать эпохи.
В чем же своеобразие развития поэзии, в частности лирики, этих лет? Что нового внесла она по сравнению с предшествующим десятилетием?
Тридцатые годы были, как принято называть их в истории, временем бурных строительных пятилеток, индустриального развития страны, покорения природы, годами крутого и сложного преобразования деревни, то есть периодом развернутого социалистического строительства. Все эти процессы существенно влияли на духовную жизнь общества, на социально-нравственные устремления личности. Активно формировался новый тип трудового коллектива и новый человек.
Советская литература буквально во всех родах и жанрах была обращена прежде всего к современности. Писатели были захвачены пафосом общенародных дел и событий.
Все это, естественно, не могло не повлиять на многие стороны как творческой деятельности отдельных писателей, так и литературы в целом. Изменения коснулись не только тематики (преимущественное внимание к коренным вопросам современности), не только изображения недавнего революционного прошлого (тяготение к более широкомасштабному воспроизведению исторических судеб народных масс), но и самих творческих принципов освоения новой действительности и человека новой эпохи. А это в свою очередь повлияло на характер типизации в лирике и эпосе, на жанровые особенности произведений и даже на поэтический стиль поэтов, разных поколений.
Тот факт, что многие старшие поэты, пережившие в 20-е годы известные трудности в художественном осмыслении социалистических преобразований (Н. Асеев, В. Луговской, Н. Тихонов, Н. Заболоцкий, В. Инбер, И. Сельвинский и мн. др.), как и прозаики, стали более активно и непосредственно изучать реальную действительность, сложные процессы, происходившие в жизни трудовых масс, — нельзя считать ни случайным, ни чисто внешним. Поездки по стране, участие в производственной практике народных масс, конкретные наблюдения над меняющимся духовным миром человека-труженика способствовали сближению творчества поэтов с потребностями времени, с жизнью страны в целом. Это благотворно влияло на их художественные поиски.
Николай Тихонов, начавший успешно преодолевать отвлеченно-революционную романтику уже в книге «Поиски героя» (1927), в конце 20-х годов еще немало блуждал в «словесных джунглях» и нередко приходил к абстрактному решению важнейших вопросов времени. В результате конкретного знакомства с жизнью страны, особенно республик Советского Востока (поездки в Туркмению, Грузию и т. п.), а также европейских стран Н. Тихонов создает такие значительные книги стихов, как «Юрга» (1930), «Стихи о Кахетии» (1935), «Тень друга» (1936) и другие, в которых воспевает простых и мужественных людей, преобразующих жизнь и природу. В их дерзких мечтах и упорном труде поэт видит проявление тех процессов раскрепощения человеческой личности, которые начались в Октябре 1917 года. Особый интерес обнаруживает Тихонов к теме пробуждения ранее угнетенных «малых» народов, к идее интернационализма как одной из главных идей социалистических преобразований. Сопоставление процессов, происходящих в нашей стране, и тех, которые он наблюдал за рубежом, порождает страстную и тревожную антивоенную книгу поэта — «Тень друга». В этих темах в дальнейшем укрепляется и развивается талант Тихонова.
Для Николая Асеева 30-е годы были периодом творческого подъема и освоения новых жизненно важных тем. С трудом преодолевая различного рода влияния, Асеев уже в 20-е годы стал автором ряда значительных произведений («Марш Буденного», «Синие гусары», «Русская сказка», «Семен Проскаков» и др.). Но только в 30-е годы ему удалось «сдуть со стихов постороннюю примесь». Решительное сближение с большими делами эпохи (посещение крупнейших строек — Магнитогорска, Кузбасса, Днепростроя и т. п.), новое ощущение собственных задач помогали ему не только успешнее освобождаться от формалистических увлечений и ложных концепций (лефовская «теория факта»), но и найти тот синтез политической тенденциозности и лирических интонаций, которые он безуспешно искал в начале революции (сб. «Бомба») и позже в агитстихах и агитпоэмах. Наиболее полно обнаружились эти особенности поэзии Асеева в поэме «Маяковский начинается» (1938).
Пожалуй, еще более значительным было воздействие новой действительности на творческую эволюцию Владимира Луговского. Романтически настроенный поэт долгое время не мог обрести твердой жизненной почвы. «Ветер революции», ворвавшийся, по выражению самого Луговского, уже в ранние его стихи, но не обогащенный серьезным знанием его внутренних течений и завихрений, был слабой защитой для поэта от разного рода внешних увлечений кажущейся новизной и свежестью. В книге «Сполохи» (1928), подытоживавшей поиски поэта 20-х годов, больше было молодого задора, формального эксперимента, сомнительных новшеств, чем серьезного стремления понять и воспроизвести многообразный и сложный мир нового человека и новой действительности. Порвав с конструктивизмом, Луговской с жадностью устремляется в живую жизнь. Поездки по стране, которые он неоднократно предпринимал начиная с 1930 года, знакомство с жизнью и трудом строителей и первопроходчиков помогают поэту острее и глубже ощутить пульс страстей и чувств современников, он находит выход своим романтическим устремлениям в воспевании напряженной и неспокойной жизни рядовых преобразователей земли. «Гром тракторов той весны, — вспоминал Луговской свою поездку в Туркмению в 1930 году, — героика колхозных будней Туркмении, тысячи лиц, море красок навсегда остались в моей памяти и определили целый этап в моем творчестве — эпопею «Пустыня и весна», которую я, то отходя от этой книги, то снова возвращаясь к ней, писал в продолжении почти четверти века»[3]. Книга Луговского «Большевикам пустыни и весны» была характерным явлением поэзии 30-х годов и важным этапом поэта на пути к его главной книге — книге философских поэм «Середина века».
30-е годы были переломными и в творчестве других поэтов старшего поколения: Н. Заболоцкого, преодолевавшего в своей «Второй книге стихов» (1937) формалистические тенденции и отвлеченные антимещанские идеалы первой книги «Столбцы» (1928); В. Инбер, которая, по существу, только в 30-е годы обратилась к жизненно содержательной, гражданской поэзии (поэма «Путевой дневник» (1938) и др.); П. Антокольского, долгое время пребывавшего в замкнутом кругу книжных реминисценций и тем из западноевропейской истории, а теперь загоревшегося современностью (сб. «Большие расстояния», 1936) и другие.
Очень хорошо сказал о значении социалистических преобразований конца 20-х — начала 30-х годов для творчества писателей П. Антокольский: «Жизнь раскрывала перед советскими поэтами свое первозданное богатство. Мы видели воочию труд тысяч и тысяч советских людей, ломавших горную породу, возводивших плотины будущих ГЭС… Все это зрелища небывалой значимости, они растили и воспитывали нас»[4].
Было бы, однако, ошибочно думать, что интерес к текущей современности и даже практическое участие поэта в процессе трудовой деятельности масс автоматически обеспечивало и более высокий уровень его произведений, и более легкий путь для глубокого познания жизни. Увлечение «производственной тематикой» в начале 30-х годов нередко приводило к серьезным художественным потерям, к голому описательству. Но отдельные неудачи не могут поставить под сомнение факт благотворного воздействия усилившихся связей поэтов с трудовой деятельностью масс на поэзию в целом. Особенно показательно в этом отношении творчество молодого поколения поэтов, сформировавшихся уже в новых условиях социальных преобразований в деревне и городе.
Появление произведений и первых поэтических книг М. Исаковского, А. Прокофьева, Б. Корнилова, П. Васильева, Я. Смелякова, Н. Дементьева, В. Саянова, А. Суркова, Б. Ручьева, А. Твардовского, Д. Кедрина, Л. Мартынова, Н. Рыленкова, С. Смирнова, П. Комарова, А. Яшина, А. Софронова, А. Решетова, В. Гусева и других поэтов практически означало вступление поэзии в новый этап развития. Эти поэты вносили в поэзию не только новые темы, новый жизненный опыт, но и во многом новые принципы воспроизведения действительности. Именно творчество этих поэтов как бы положило конец антагонизму «пролетарской» и «крестьянской» поэзии и окончательно утвердило наличие единой советской поэзии. В характеристике, данной в 1928 году М. Горьким Михаилу Исаковскому в связи с выходом его книги стихов «Провода в соломе», довольно точно определено то новое, что привело в советскую поэзию его поколение поэтов в целом. Горький не случайно сопоставил творчество Исаковского с поэзией Есенина. Он писал, что Исаковский, вышедший, как и Есенин, из деревни, в самом главном — в отношении к новому миру, новому герою — народным массам — идет совсем другой дорогой, чем Есенин, и вносит в нее иные идеи и образы. Горький подчеркнул, что Исаковский поэт «не деревенский», а тот новый человек, «который знает, что город и деревня — две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну, необоримую творческую силу, — слиться так плотно, как до сей поры никогда и нигде не сливались»[5].
То, что Горький увидел в «крестьянине» Исаковском, пишущем о деревне, не деревенского, а просто советского поэта, хорошо понявшего и органически воспринявшего новую действительность, имело принципиальное значение и определило не только идейную направленность его стихов, но и особенности его поэзии в целом. Для Исаковского, Прокофьева, Суркова, Твардовского, Корнилова, Смелякова и близких им поэтов уже не существовало проблемы «применения», как любили говорить в те годы, «стального коня» (паровоза, трактора) и жеребенка, подсолнуха и домны. И это оказывалось в прямой связи с характером лиризма их поэзии. Уже тогда некоторые критики верно почувствовали то новое, что несло в советскую литературу их творчество. Одни говорили о том, что, например, в поэзии Исаковского уже нет различия между «агиткой» и «не агиткой», отчего поэзия «остается только в выигрыше». Другие называли А. Прокофьева поэтом «лирической агитки» в отличие от предшествующих поэтов. Третьи видели новое качество стихов А. Суркова в стремлении показать рядового героя революции как человека с широким духовным миром, в преодолении схематизма ранней пролетарской поэзии. В творчестве Я. Смелякова усматривали (и совершенно верно) свежесть и новизну в том, что поэт, будучи по плоти и крови представителем нового общества, дает в стихах полную волю своим личным и коллективистским чувствам, и они ни в чем не расходятся с мироощущением миллионов.
Это поколение поэтов действительно нашло, по меткому слову Твардовского об Исаковском, «для насущной политической, часто непосредственно агитационной темы средства выражения лирические, задушевные, располагающие сердца к тому, о чем идет речь в произведении»[6].
Отмеченные особенности поэзии на новом этапе не были частными, они существенно повлияли на весь арсенал поэтических средств. Они же определили и своеобразие преломления литературных и народно-поэтических традиций. Однако как само формирование этих качеств, так и освоение классического наследия и художественного опыта народных масс протекали в острой борьбе, порой с издержками и перехлестами. Правда, борьба эта имела уже другие основы и другие формы, чем раньше. Теперь уже не был дискуссионным вопрос о том, нужно или не нужно осваивать классические традиции. Споры в основном сосредоточились вокруг вопроса: как осваивать их. Задача оказалась достаточно сложной и трудной, хотя теперь, в отличие от предшествующего десятилетия, изучение и пропаганда классических традиций заняли большое место в литературно-общественной жизни. Ведь речь шла о месте традиций в создании социалистической лирики. Поэзия 20-х годов развивалась главным образом в поисках единства «социалистического» и «индивидуально-человеческого», но редко достигалось глубокое «сочетание» одного с другим. Поэтому в критике нередко сталкивались мнения, не находившие верного разрешения: либо мало «индивидуальные», но «идейные» стихи Жарова и Безыменского, либо не идейные, но «психологичные» стихи Пастернака.
Новое поколение поэтов достаточно хорошо ощущало неправильность самой постановки такой дилеммы. Социалистическое все более становилось самим воздухом поэзии и органическим качеством духовного мира нового человека, выразителями которого осознавали себя молодые поэты, Они формировались в новых исторических условиях, вплотную знали сложные явления, которые происходили в реальной действительности в среде широких народных масс. Переход от воспевания революционного энтузиазма и романтики гражданской войны (начавшийся еще в 20-х годах) к осмыслению героя с иной психикой, иным складом натуры становился определяющим в поисках нового качества лиризма. Шла борьба за утверждение нового типа романтики и новых средств раскрытия мироощущения современника. Изменения в психологии труженика охватывали весь комплекс переживаний человека. Условно говоря, для поэтов нового поколения наиболее важным было найти синтез поэтического пафоса и творческих принципов В. Маяковского, Д. Бедного и С. Есенина. Речь шла о новом качестве народности, где бы слились сила и страстность активной социалистической личности, мироощущений рядового, «массового» героя новой действительности и многообразие психологически индивидуальных путей формирующегося сознания нового человека. И не случайно представители этого поколения поэтов впервые заговорили о необходимости освоения (одновременно!) традиций и Некрасова и Маяковского, народной лирической песни и революционной поэзии, тогда как раньше решение этого вопроса сводилось в основном к альтернативе «либо-либо».
Движение поэзии по этому пути не было гладким, оно было осложнено как своеобразием классовой борьбы, остротой международной обстановки, так и противоречиями, связанными с «культом личности». Вульгарно-социологическая критика нанесла немалый вред литературе. В лирике это сказалось на развитии так называемых «величальных» мотивов, на увлечении одическими стихами. Однако трудности эти отнюдь не обескровили поэзию. Она весьма плодотворно развивалась во всех жанрах, особенно в жанре поэмы и массовой лирической песни.
Стремление поэтов глубже узнать и осмыслить героя эпохи, и прежде всего рядового строителя жизни, обусловило такую особенность лирической поэзии, как внимание поэтов к объективным характерам, к анализу психологии типичного представителя народных масс. Наиболее распространенными стали стихотворения так называемого «жанрового» содержания, стихотворения-портреты. «Ивушка», «Поля Казакова», «Рассказ Матрены» (А. Твардовский), «Катюша», «Ваня Грай», «Провожанье» (М. Исаковский), «Любушка», «Песенка Тони», «Развернись, гармоника…» (А. Прокофьев), «Елена Прекрасная», «Тюнино» (Н. Рыленков), «Стихи в честь Натальи», «Товарищ Джурбай», «Рассказ о деде» (П. Васильев), «Кукла», «Строитель» (Д. Кедрин), «Она в энском уезде», «Рассказ моего товарища», «Дед» (Б. Корнилов), «Смерть бригадира», «Про товарища» (Я. Смеляков), «Нянька», «Пастух» (Н. Дементьев) и т. п. — вот типические названия лирических стихов тех лет. Причем это было характерно не только для поэтов молодого поколения, особенно остро ощущавших потребности времени, но и для поэтов-лириков старшего поколения («Стихи о Кахетии» Н. Тихонова, «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского, «Вторая книга стихов» Н. Заболоцкого, «Удивительные вещи» Н. Асеева и другие сборники). Как правило, стихи такого рода не были ни описательными, ни «информационными». Они способствовали преодолению узко-личных эгоистических настроений, выходу к большим объективно значительным темам. Внутренний мир героев этих стихов вбирал авторскую лирическую взволнованность, отношение к жизни, понимание социально-философских и нравственных проблем. Достаточно вспомнить такие чудесные лирические стихотворения, как «Не стареет твоя красота» и «Ивушка» Твардовского, «Спой мне, спой, Прокошина» и «Ореховые палки» Исаковского, «Кукла» Д. Кедрина, «Стихи в честь Натальи» П. Васильева и многие другие, чтобы увидеть, как обогащалась лирика за счет раскрытия внутреннего мира современников. Особенно ценным в этом движении лирической поэзии к объективным темам было активное освоение нравственного и эстетического опыта масс. Фольклор играл не только роль достоверного психологического и этнографического материала в передаче духовного мира героев, но и был хорошей школой художественного мастерства. Широко использовались песенные принципы раскрытия характеров, богатства образно-поэтической системы пословиц, поговорок, и преданий, сказок. Все это обогащало словесно-изобразительные средства поэзии, расширяло возможности лирики в воспроизведении большого мира и социальной жизни людей.
Лирика 30-х годов запечатлела основные процессы духовного переустройства человека. Стремление поэтов создать цельные характеры, подчеркнуть новые качества личности, рождающиеся в борьбе за социалистические принципы общежития, было естественным и закономерным. Поэтому их внимание сосредоточивалось прежде всего на нравственных проблемах, связанных с трудовой деятельностью современников. Наиболее значительные книги стихов были созданы на материале повседневной жизни трудовых масс с ее радостями и невзгодами, большими и малыми делами, неброским героизмом и мечтами о будущем: «Мастера земли» (1931) М. Исаковского, «Сельская хроника» (1939) А. Твардовского, «Работа и любовь» (1932) Я. Смелякова, «Полдень» (1930) А. Прокофьева, «Родина мужественных» (1935) А. Суркова, «Шоссе энтузиастов» (1930) Н. Дементьева, «Золотая Олекма» (1934) В. Саянова и другие. При этом у каждого поэта определились не только свой герой, хорошо знакомый жизненный материал, но и особенности лирической интонации.
Герой лирики М. Исаковского — человек[7] исключительной скромности, душевного негромкого голоса и нежных чувств ко всему, что связано с крестьянским трудом, природой, чистотой нравственных отношений. Прошедший тяжелую жизнь, он испытывает искреннюю радость от благотворных перемен в жизни деревни: появления молотилки («Ореховые палки»), радио («Радиомост»), электричества («Вдоль деревни») и т. п. Но самое главное — это человек нового мироощущения, которому родная деревенская околица не заслоняет просторы страны и перспективы жизни. Он умеет не только хорошо трудиться, но и тонко чувствовать красоту окружающего мира, нежно любить, ему присущи чувство собственного достоинства, «мастера земли» и незлобный юмор («География жизни», «И кто его знает», «Провожанье», «Любушка», «Четыре желания» и мн. др.). Ощущение себя хозяином жизни, своей судьбы — вот наиболее характерное качество героя лирики Исаковского:
Ты по стране идешь. И, по твоей поруке, Земля меняет русла древних рек, И море к морю простирает руки, И море с морем дружится навек.Чаще же всего эти чувства выражены в стихах Исаковского не прямо, не декларативно, а в самих поступках героев, в его помыслах — как органическое свойство натуры. Типичны в этом смысле такие известные стихотворения-песни, как «Любушка», «Катюша», «Прощание» и другие, в которых с большим художественным тактом, без всякого нажима глубоко интимные чувства и переживания героев раскрываются как высокие гражданские:
В том краю, откуда всходят зори, Где обманчив по ночам покой, Он стоит с товарищем в дозоре Над Амуром — быстрою рекой. Он стоит и каждый кустик слышит, Каждый камень видит впереди… Ничего он Любушке не пишет, Только пишет: «Люба, подожди».И потому так логично завершение стихотворения о грустных и светлых переживаниях девушки:
Ой, напрасно ходят к ней ребята, Ой, напрасно топчут сапоги!Одной из особенностей лирики Исаковского является органическое сочетание повествовательных сюжетов с лирической проникновенностью и песенными интонациями. Именно потому огромное количество его стихотворений (более пятидесяти) положено на музыку, и многие из них превратились в подлинно массовые, подлинно народные песни.
Талант А. Твардовского, тематика его стихов во многом близки Исаковскому. Сближает этих поэтов и нравственная атмосфера их лирики, и высокая простота поэтического стиля, и связь с народно-поэтическими литературными традициями. Однако каждый из них в те годы выступил как оригинальный художник.
Лирика Твардовского 30-х годов часто недооценивается в критике потому, что иным она кажется слишком «прозаичной», лишенной романтики. Да, лирик и эпический поэт Твардовский уже в 30-е годы выступил как последовательный реалист. Его интересуют прежде всего человеческие характеры, особенно люди трудной судьбы. Он всегда озабочен их реальными делами и нуждами, а себя осознает как своеобразного летописца их жизни, потому и все стихи тех лет объединил в один большой цикл «Сельская хроника». В его лирических стихах нашли отражение различные стоны жизни деревни той поры. Но как поэт-психолог, Твардовский умеет в простых будничных делах своих героев вскрыть такие глубинные процессы формирования новой личности, что сами эти характеры оказываются как бы вобравшими в себя лирический пафос поэта. Лиризм таких стихотворений внешне очень сдержанный, но внутренне сильный.
Когда, например, поэт рассказывает о переживаниях много и и трудно думавшего над жизнью крестьянина, с тревогой приехавшего на своей лошадке к другу посоветоваться, как быть в этом мире, перевернувшем все его понятия о жизни («Гость»); когда мы читаем незатейливый, с долей грусти и юмора, рассказ о забитом ранее мужичке, которому теперь доверили охрану колхозного добра и который с гордостью носит выданный ему новый зипун («Сторож»); когда мы знакомимся с веселой и душевно открытой к людям натурой бескорыстного труженика печника Ивушки, смерть которого осиротила всю деревню («Ивушка»), — мы везде чувствуем взволнованный голос самого автора, для которого жизнь и заботы этих людей — часть его собственной жизни. Поэтому-то Твардовский и не ощущает необходимости в каких-либо дополнительных авторских признаниях и характеристиках.
Не стареет твоя красота, Разгорается только сильней, Пролетают неслышно над ней, Словно легкие птицы лета. Не стареет твоя красота. А росла ты на жесткой земле, У людей, не в родимой семье, На хлебах, на тычках, сирота. Не стареет твоя красота. И глаза не померкли от слез И копна темно-русых волос У тебя тяжела и густа…Этот рассказ о простой крестьянке, вынесшей «горькие беды» и муки, воспитавшей семерых сыновей и не потерявшей душевной и внешней красоты, в сущности, — волнующая лирическая песня во славу женщины-труженицы, женщины-матери. В самой характеристике героини скрыто восхищение и преклонение автора перед такой красотой человека, его выносливостью и жизненным упорством: «словно легкие птицы» пролетают над нею годы, перед ней «расступается, кланяясь рожь», и, как раньше, молодая березка в лесу с завистью смотрит на нее, а для девушек — великая честь стать рядом на полевых работах. И песня, которую она поет, уподобляется ей самой: «Потому так поешь, что ты песня сама». Этот опоэтизированный образ пожилой женщины довольно полно отражает народный взгляд на человека и красоту его жизненного подвига. При этом Твардовский очень тонко дает почувствовать духовное возрождение героини в новых социальных условиях.
Даже в «чисто» лирических стихах Твардовского («Друзьям», «Поездка в Загорье», «За тысячу верст» и др.) думы и переживания поэта неизменно связаны с жизнью его односельчан, его народа:
За тысячу верст От любимого края Я все мои думы Ему поверяю.Эта абсолютная нераздельность чувств, забот и мыслей поэта от жизни своих героев свойственна и другим молодым поэтам 30-х годов: А. Прокофьеву, Я. Смелякову, Б. Ручьеву, Б. Корнилову, А. Суркову, Н. Рыленкову, Н. Дементьеву и другим. Поэтому в их лирических стихах почти отсутствует столь драматически звучавший у многих поэтов 20-х годов мотив разлада с народом, неприкаянности и напряженных поисков своего места в жизни. Этим поэтам присуще чувство хозяина и созидателя, уверенности в своей необходимости и причастности к общенародным делам. Поэтому преобладающие мажорные интонации в их лирике не были искусственными. Однако общность мироощущения вовсе не делала их поэзию однообразной и однолинейной.
Сразу же после выхода первых стихотворных сборников Прокофьева («Полдень» и «Улица Красных зорь» — 1931) критика заметила свежий, задорный тон поэтического голоса молодого поэта, щедрую земную многоцветность красок и высокий эмоциональный накал его стихов. Героическая, революционная тема, радостное чувство обновленной земли, на которой поэт ощущает себя хозяином, обнаруживались в его стихах в таком обильном потоке народных речений, оборотов, припевок, картин, сельских праздников, бытовых сцен, занятных историй и т. п., что, казалось, сама жизнь сильных, крепких, озорных, жизнерадостных людей ворвалась на страницы его стихов. Мир поэта и объективный мир его однокашников и односельчан переплелись, их невозможно отличить.
Над моей окраиной небо ниже. День — суров, а светлый вечер — тих. Я живу вдали. Когда увижу Великолепных родичей своих? Младших братьев — токарей по хлебу, Незнакомых с горькою молвой, Дядю, подпирающего небо Мертвой, непоклонной головой. Вот он, древний идол из Олонца, Красногубый, темный и сырой. У него в гостях сегодня солнце Село в красный угол как герой.Прокофьев щедро, легко и свободно «включает» в стихи богатый народно-поэтический репертуар северной русской деревни: песню, частушку, прибаутку, поговорку, сказку, былину, каламбур. «Как во нашей, во деревне», «Песня», «Ой, шли ли полки», Песни о Громобое, «Не ковыль-трава стояла», «Сказание о премудром попе», Песни о Ладоге, «Развернись, гармоника», «Былинная», «Матросы пели «Яблочко», — одни эти и многие другие названия стихов Прокофьева говорят сами на себя. Подавляющее большинство его стихотворений — либо несет в себе песенно-частушечные ритмы и образы, либо является по существу своему песнями. Не только внешние признаки (песенные зачины, повторы, размеры) дают основания относить их к песням, но вся художественная структура, образная содержательность. Причем в отличие, например, от песен Исаковского, идущих чаще всего от лирической протяжной народной песни, или в отличие от песен Суркова, связанных с героическими революционными песнями, песенность стихов Прокофьева опирается на малые, так сказать, полулирические (чаще всего юмористические) песенные жанры — частушку, припевку, речитатив, анекдот, прибаутку. Благодаря глубокому освоению частушечно-песенных традиций поэзия Прокофьева приобрела ту неповторимую оригинальную окраску, которая позволяет по первым строкам произведения почти безошибочно узнавать его автора.
Прокофьев отнюдь не стилизатор, как иногда считают критики: он настолько широко и виртуозно владеет богатствами народной поэзии, так переплавляет ее образы, мотивы, так трансформирует ее художественные принципы, что часто невозможно выделить те или иные элементы фольклора и в то же время невозможно представить себе иное решение темы, чем то, которое дает поэт. Поэтика народной лирики, особенно частушки, близка Прокофьеву прежде всего по причине органической народности его таланта и своеобразия творческой индивидуальности.
Одна из отличительных особенностей лирики Прокофьева состоит в том, что в ней, как правило, нет обстоятельно выписанных характеров (подобно тому, как это мы видим в лирике Твардовского, Исаковского, Васильева, Корнилова). Он озабочен не столько полнотой изображения героя, сколько точностью и выразительностью передачи его прежде всего эмоционального восприятия окружающей действительности. Даже в таких стихотворениях, где в центре образ отдельного человека («Невеста», «Любушка», «Парни» и др.), мы бы напрасно пытались обнаружить (как и требовать от поэта) ту развернутость психологической характеристики, которая свойственна многим стихотворениям названных поэтов. Здесь запечатлевается, главным образом, наиболее бросающаяся в глаза особенность облика героя, один из моментов его настроения, причем представляется читателю как бы схваченным одним-двумя резкими штрихами.
Экспрессивная, чрезвычайно сжатая, контурная манера характеристики («У ней губы — сурик, подбровье — дуга» и т. п.) свойственна и описанию обстановки, рассказу о событиях:
Что-то Маши не слышно, Где же брови вразлет? Маша вышла, повышла, Маша в гости идет. И над ней словно тает Неба синий поток, И горит, и летает, И смеется платок.И по характеру поэтических образов, и по принципам лирического обобщения к даже по интонации поэзия Прокофьева органична частушечной традиции. В отличие от лирической песни частушка никогда не дает развернутого, лирического образа, углубленной психологической характеристики. Она, по удачному выражению фольклориста Л. Шептаева, «только легкий набросок душевного движения и состояния» и всякий раз в силу своей импровизации выражает конкретное эмоциональное настроение, вдруг возникшее чувство, мысль. Она очень отзывчива на душевные запросы современников, обладает исключительно экономными средствами выразительности. Картинность, жест — ее законные приемы. Именно эти ее качества и вобрала лирика Прокофьева.
Вместе со стихами Прокофьева в советскую лирику входил живой, многоцветный реальный мир широких масс, людей, живущих своей, духовно полноценной жизнью, богатой своеобразной поэзией, красотой. Сам поэт — плоть от плоти этих героев, прошедший вместе с ними через бурю революции и гражданской войны, восхищенный и радостный, насмешливый и влюбленный, задорный и нежный, выражал настроение и мироощущение людей этого большого мира. Его лирика освободилась от той назидательности, авторского обязательного комментирования и авторской «защиты» своих героев как людей нового мира, что так характерно было для поэтов первых поколений. Герои Прокофьева просто живут своей жизнью, сами собою утверждают истинность и красоту новой действительности и новых отношений. Духовный мир поэта и его героев в стихах Прокофьева во всех своих проявлениях обнаружился как нечто единое, гармоническое. Это было важным завоеванием советской лирики на пути углубления ее народности.
Близкий прокофьевскому по силе экспрессивно-эмоционального чувствования мира талант Павла Васильева представляет собой одно из самых ярких и самобытных поэтических явлений 30-х годов. Его поэзия сочетает в себе романтически возвышенные и драматически напряженные переживания, сюжеты и конфликты.
Лирика Павла Васильева — это лирика страстного отношения к жизни, лирика восторга и гнева, открытой любви и нескрываемой ненависти. По своей искренности она родственна есенинской поэзии. Но в отличие от лирики Есенина с ее «половодьем чувств», психологических нюансов, воспоминаний и предчувствий, в стихах Павла Васильева господствует половодье красок, звуков, буйство жизненной плоти. Это поэзия упруго пульсирующей жизненной силы, поэзия энергичного действия и физиологически полноценных ощущений. Если поэт рисует «портрет» животного, то он приобретает черты осязаемой скульптурности, физически зримой картины:
Чиста вороная, атласная масть. Горячая пена на бедрах остыла, Под тонкою кожей — тяжелые жилы. Чеканная поступь граненых копыт…(«Конь»);
или:
Захлебываясь пеной слюдяной, Он слушает кочевничий и вьюжный, Тревожный свист осатаневшей стужи, И азиатский, туркестанский зной Отяжелел в глазах его верблюжих.(«Верблюд»).
Если Васильев рисует пейзаж, то он наполнен густыми красками и запахами, звуками и светом; мы слышим табунный топот по «стертым» степным дорогам, ощущаем «тяжелое солнце», повисшее над степью, «горячий и суровый» ветер, горький полынный запах, видим, как «Степной саранчой» на юг пролетают дикие кони… («Киргизия»).
Если это портрет любимой женщины, то он предстает в его стихах во всей своей естественной живой плоти:
И еще прошеньем прибалую — Сшей ты, ради бога, продувную Кофту с рукавом по локоток, Чтобы твое яростное тело С ядрами грудей позолотело, Чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток, От бровей широких и сердитых До ступни, до ноготков люблю, За ночь обескрылевшие плечи, Взор, и рассудительные речи, И походку важную твою.(«Стихи в честь Натальи»).
В этой увлеченности П. Васильева «натурой» в умении передать ее почти зримо и осязаемо — одно из характернейших и сильнейших свойств его поэзии. Однако было бы совершенно несправедливым, как делала вульгарно-социологическая, ханжеская критика, видеть в этой физиологической полнокровности образов, картин и портретов Павла Васильева признаки грубого натурализма, лишенного духовного начала, нравственно возвышенного содержания. Так, в стихотворении, только что процитированном, поэт не только лепит реалистически сочно очерченный образ любимой женщины, не только передает чувственность натуры, но и создает обобщенный образ русской красавицы, в известной мере идеал женщины, каким он предстаёт, например, в многочисленных народных песнях:
Прогуляться ль выйдешь, дорогая, Все в тебе ценя и прославляя, Смотрит долго умный наш народ. Называет «прелестью» и «павой» И шумит вослед за величавой: «По стране красавица идет». Так идет, что ветви зеленеют, Так идет, что соловьи чумеют, Так идет, что облака стоят. Так идет, пшеничная от света, Больше всех любовью разогрета, В солнце вся от макушки до пят.Этот типично Васильевский образ многими своими чертами близок народно-поэтическому. У васильевской, героини и «взор и рассудительные речи», и «величавость», и «походка важная» и другие черты — не внешние, они передают идеал зрелой земной красоты, женщины, способной и в любви, и в труде быть сильной и красивой, — той, которую воспел еще Некрасов: «Пройдет — словно солнце осветит; Посмотрит — рублем подарит!». Именно такой идеал женщины «с красивою силой в движениях» и «спокойною важностью» во взгляде, походке и вместе с тем с решительностью («Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!») воспевает Васильев. И совершенно не случайно он далее, вспомнив Некрасова и «Калинушку», противопоставляет этот идеал «шлюхам из фокстротных табунов».
Так почти везде у Павла Васильева. «Натура», плотность и весомость поэтического образа не заслоняют нравственный идеал, нравственную оценку, но с огромной силой подчеркивают авторскую позицию, пишет ли он о степных просторах, о любимой или о схватке социальных сил. Васильев не любит расплывчатые, неуловимые поэтические образы, отвлеченные пейзажи, обтекаемых героев. «Люди у Васильева всякие, — справедливо замечает Сергей Залыгин, — диковатые, жадные и алчные, жестокие и свирепые, благородные и увлеченные, нет только среди них людей пустячных, безликих, двойных и тройных. Люди, у которых даже внешность полностью соответствует их внутреннему складу»[8]. Это относится и к эпосу, и к лирике поэта.
Лирический пафос стихов П. Васильева определяется не только повышенной, часто обнаженной предметностью образов, но и не менее обостренной социальностью. Мироощущение и миропонимание поэта, при всей их порой противоречивости, неотделимы и обнаруживаются в его произведениях всегда определенно, резко, энергично.
П. Васильев был буквально полонен грандиозностью масштабов и интенсивностью энергии, с какими страна переделывала свой облик. Ему по душе была наступательная сила нови. Особенно увлеченно писал Васильев о преобразовании природы, строительстве городов, о мужественных и сильных людях («Турксиб», «Путь в страну», «Павлодар», «Повествование о реке Кульдже», «К портрету Р.» и др.). Прошлое и настоящее в лирике П. Васильева всегда в борении — пишет ли он об открытых схватках социальных сил или о внутренних переживаниях героя. Это придает особую напряженность его пейзажной и любовной лирике («Анастасия», «Сердце», «Расставанье» и др.).
Рядом с П. Васильевым лирический голос Н. Рыленкова или Д. Кедрина кажется слишком тихим и скромным. Их пейзажная и бытовая лирика чаще всего лишена резких социальных примет. Однако характер раздумий над обновляющейся жизнью, исторических аналогий, устремленность в будущее делает их поэзию очень современной и актуальной. Великолепен графический рисунок их стиха.
Большое место в лирике 30-х годов заняла тема революционного прошлого. Она была естественной не только потому, что многие поэты были участниками революции и гражданской войны, но и потому, что для людей 30-х годов она остро осознавалась как тема, соединяющая вчерашний день с современностью и будущим страны. Пожалуй, наиболее последовательно и успешно решал эту проблему А. Сурков. Через все стихотворения и песни поэта этих лет проходит образ его современника — героя Октября и гражданской войны. Поэт стремится прежде всего осмыслить исторический путь поколения, к которому принадлежал он сам, т. е. того поколения, которое в боях отстаивало завоевания Октября. Поэтому даже тогда, когда в его поэзию начинает все настойчивее входить новая, современная тематика (сб. «Родина мужественных»), Сурков остается верен главному своему герою, который продолжает хранить в сердце «отзвуки бури». Многие стихотворения связаны с воспоминаниями о гражданской войне, а многие герои оказываются вчерашними участниками революционных боев («Над картой родины», «Утро на заставе» и др.). Образ современника-патриота, труженика как бы сливается с образом солдата «при большой революции». Своеобразие своего главного героя тех лет хорошо передал поэт в стихах:
Идет по стихам мой армейский герой Знакомой тебе молодою походкой. Идет он, И поступь его легка. Идет он в шинели своей дырявой, Но резкие грани его штыка Овеяны нашей бессмертной славой.Поэт постоянно говорит от имени своего поколения:
Мы в вихре свинца и стали Мужали и подрастали.Это обобщенное лирическое «мы» очень характерное для поэзии Суркова. Образ современника-солдата, патриота остается главным и в лирических любовных стихах и песнях Суркова.
Все это определило публицистичность стиля поэзии Суркова. Поэт нередко обращается к политическому языку газеты. В стихах часто слышны открытые призывы, обращения, риторические вопросы. Однако Сурков в большинстве случаев избегает декларативности и абстрактности благодаря тому, что через все произведения проходит единый, скрепляющий и лирику и публицистику его стихов глубоко лично пережитый поэтом образ первого пролетарского поколения борцов. Большое и непосредственное влияние на поэта оказал Маяковский.
Вместе с тем, как автор большого количества лирических и военно-походных песен, Сурков широко обращается к традициям фольклора, и не только к лирической народной песне, как это, главным образом, свойственно Исаковскому, но и к революционной песне-гимну, что также наложило отпечаток на язык и стиль его песен. Для поэзии Суркова 30-х годов характерно слияние двух линий — лирико-публицистической и народно-поэтической, песенной. Эта же особенность относится и к своеобразию созданных им образов: ярко выраженные качества передовых, политически сознательных людей революционной эпохи, сочетаются у героев Суркова с чертами героев песенной народной лирики.
Иной жизненный опыт при общности мироощущения несла поэзия таких талантливых молодых поэтов, вышедших из рабочей среды, как Я. Смеляков («Работа и любовь», 1932), Б. Ручьев («Вторая родина», 1933), Н. Дементьев («Мать, 1931) и др. Иные присущи их лирике и поэтические краски. Поэты-комсомольцы второго призыва, они развивали гражданские мотивы поэзии своих предшественников. Но, обогащенные опытом Маяковского и Есенина, эти поэты пошли несравненно дальше А. Жарова, А. Безыменского и других комсомольских поэтов 20-х годов. Их лирике чужды декларативность, лозунговость, безобразная публицистичность.
Героям этих стихов — простым рабочим парням, рабфаковцам, комсомольским вожакам — свойственны некоторая суровость, сдержанность и высокое чувство гордости своей принадлежностью к рабочему классу. Они живут естественно и просто: трудятся, влюбляются, страдают и веселятся. Ни одна из этих сторон жизни не приглушается, но определяющим всегда выступает обостренное чувство коллективизма, чувство долга. Благодаря тому, что эти поэты всегда стремятся к точности воспроизведения даже бытовых явлений, но всегда соизмеряют поведение и чувствования своих героев главными критериями строителя социалистического общества, они сумели передать правдиво и неподдельно коренные черты человека нового мира. При этом если Н. Дементьев стремится в подчеркнуто заурядных, будничных фактах «производственных» отношений героев найти теплоту истинно человеческих связей («Мать», «Инженер»), а Б. Ручьев более склонен к выявлению сильных, волевых качеств своих героев («Магнитгора», «Проводы Валентины»), то Я. Смеляков озабочен прежде всего социально-нравственными вопросами рабочего человека.
Очень органическая и вместе с тем у каждого различная разговорная, повествовательная интонация стихов этих поэтов отражала общую тенденцию поэзии 30-х годов к простоте и естественности стиля.
Большее, чем обычно предполагают, место в поэзии 30-х годов занимала интимная и пейзажная лирика. Нередко поэты этим вечным темам посвящали целые сборники, как бы полемизируя с декларативно-публицистической поэзией (сборники А. Прокофьева «В защиту влюбленных», С. Щипачева «Лирика», В. Саянова «Лирика», М. Исаковского «Стихи и песни» и другие). Причем в стихах часто строгие реалистические образы уступали взволнованно романтическим:
Вся весна закидана венками, Свитыми из счастья и утрат, Где ты, где, с полынными руками, Светлая отрада из отрад? Над землей, раздолья не убавив, Вечные пылают небеса… Где ты, где, с весенними губами, Неумолчная моя краса?(А. Прокофьев)
Особенно примечательно, что не только пейзажная лирика, но и вся поэзия 30-х годов приобрела более насыщенный, чем в предшествующее десятилетие, географический и национально-этнографический колорит, что несомненно обогащало ее многоцветными красками и образами, разных краев России: Смоленщины (Исаковский, Твардовский, Рыленков), северной русской деревни (Прокофьев, Чуркин, Яшин), с берегов Дона (Софронов), Сибири (П. Васильев и П. Комаров), Урала (Ручьев) и т. п.
Мы, таким образом, видим, что и с точки зрения жизненной проблематики, и с точки зрения многообразия жанров, стиля, творческих индивидуальностей поэзия 30-х годов — явление исключительно интересное и значительное. Но, как было замечено вначале, особые заслуги она имеет в создании массовой песни.
Без преувеличения можно сказать, что ни одна эпоха до этого и после не дала за столь короткий срок такого количества подлинно народных песен. Почти все поэты и композиторы работали над массовой песней.
Главной причиной столь активного развития массовой песни была потребность выразить в новых социальных условиях мироощущение народных масс. Боевая массовая песня-гимн, господствовавшая в предшествующие годы, не могла полностью удовлетворить духовные запросы современника.
Буквально в течение нескольких лет советскими поэтами было написано огромное количество песен самого разнообразного характера — от маршевой до лирической. Получившие широчайшую популярность и ставшие на долгие годы основным песенным репертуаром советского народа, песни поэтов 30-х годов — особенно М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова — охватывали большой круг чувств, мыслей, переживаний и настроений современников.
Задача создания новой массовой песни была чрезвычайно трудной. Русский народ имел к тому времени богатейшие традиции народной лирической и революционной песни. Но поэты и композиторы хорошо понимали, что ни подражание старым образцам, ни эксплуатация поэтики народной песни не могут дать должного результата. Они стремились создать такие песни о современности, которые бы, учитывая многовековой опыт песенной культуры народа, были по своей основной настроенности не столько похожими, сколько непохожими на старые лирические песни и вместе с тем передавали более интимные стороны духовной жизни советских людей, чем революционная гимническая песня. Это были в полном смысле слова новаторские поиски.
Торжественно-патетическая и историко-революционная массовые песни 30-х годов развивались в направлении синтеза двух традиций — лирической и гимнической песни. Наиболее характерными в этом смысле являются «Песня о Родине» В. Лебедева-Кумача, «Конармейская» А. Суркова, «Каховка» М. Светлова, «Орленок» Я. Шведова, «Песня о Щорсе» М. Голодного, «Прощание» («Дан приказ: ему — на запад…») М. Исаковского и др. Эти песни, продолжая традиции боевой революционной песни гражданской войны, существенно отличались от них. Если раньше, при всем своеобразии и могучей красоте мелодий, мотивов и образов, в революционных песнях преобладал пафос открыто-агитационного призыва, боевого декларативно-политического лозунга («Смело мы в бой пойдем за власть Советов», «Штыками и картечью проложим путь себе», «Карьером, карьером, — давай, давай, давай!», «Смело, товарищи, в ногу!», «Наш паровоз, вперед лети» и т. п.), то в песнях 30-х годов идея революционности утверждается значительно более многообразными и более «очеловеченными» поэтическими образами. Вместо слишком общих, коллективных героев («мы», «наш», «армия труда», «товарищи», «рабочие и крестьяне» и т. д.) главными становятся индивидуализированные герои — участники и творцы революции… На «этапах большого пути» проходит горящей Каховкой девушка в «походной шинели»… «Загорелый, запыленный пулеметчик молодой» мчится в тачанке-ростовчанке… Полудетский облик еще неокрепшего, но гордого и смелого Орленка, которому «не хочется думать о смерти «в шестнадцать мальчишеских лет», наводит страх на врагов… Именно эти образы простых и милых, сильных и нежных, непреклонных и отчаянных людей чаще всего воплощают в песне 30-х годов всю мощь революционного энтузиазма и самоотверженности.
Совершенно невозможное для 20-х годов раскрытие темы гражданской войны — через сугубо лирическую песню — стало типичным для массовой песни 30-х годов: «Девичья печальная» А. Суркова, «Прощание» («Дан приказ: ему — на запад…») М. Исаковского, «Я на подвиг тебя провожала» В. Лебедева-Кумача, «Песня о казачке» С. Алымова. Причем очень многие поэтические образы этих песен, и даже нередко сюжеты и главные герои, как в «Девичьей печальной» А. Суркова, навеяны народно-песенными мотивами.
Революция предстает в песнях этих лет более жизненно-конкретной и более драматичной. Лирика властно проникает даже в героическую песню, рассказывающую о выдающихся полководцах гражданской войны, благодаря чему образы борцов выглядят более отепленными дыханием живого человеческого чувства (ср., например, «Конницу Буденного» Н. Асеева (1923) и «Чапаевскую» А. Суркова (1932) и др.).
Этот процесс в еще большей мере охватывает массовую песню о современности, которая в подавляющем большинстве своем — лирическая или лирико-патетическая («Вдоль деревни» и «Спой мне, спой, Прокошина» М. Исаковского, «Тайга золотая» А. Прокофьева, «Песня о встречном» Б. Корнилова, «Поволжанка» и «Расставание» А. Суркова, «Песня о Волге» В. Лебедева-Кумача, «Песня о Москве» В. Гусева, «Новый Днепр» С. Алымова и многие другие). Своеобразной эмблемой массовой лирической песни стала «Катюша» М. Исаковского.
Если же взять, например, красноармейскую песню 30-х годов как разновидность героической, то нетрудно заметить, как органически впитала она и традицию гимнической революционной песни с ее раздольным и мужественным напевом («Казачья» А. Чуркина, «Краснофлотский марш» В. Лебедева-Кумача), и принцип ритмической организации стиха старой солдатской походной песни («Полюшко-поле» В. Гусева, «Конармейская» А. Суркова, «Как у дуба старого» А. Софронова), и мотивы лирической народной песни о встречах и расставаниях («Шел со службы пограничник» М. Исаковского). Чаще всего эти разнородные поэтические традиции осваиваются нераздельно.
Таким образом, проблематика и формы массовой советской песни 30-х годов становятся гораздо многообразнее и богаче, чем в 20-е годы.
Существенно обогащается и поэтика песни.
Опыт развития поэзии 30-х годов оказался очень важным в решении больших и сложных общенародных задач, которые выпали на её долю в годы Великой Отечественной войны.
П. С. Выходцев.
Михаил Исаковский
Догорай, моя лучина…
В эту ночь молодые отменили любовь и свидания, Старики и старухи отказались от сна наотрез. Бесконечно тянулись часы напряженного ожидания Под тяжелою крышей холодных осенних небес. Приглашенья на праздник вчера до последнего розданы, Приготовлено все от машин и до самых горячих речей… Ты включаешь рубильник, осыпая колхозников звездами В пятьдесят, в полтораста и больше свечей. Ты своею рукою — зажигаешь прекрасного века начало, Здесь, у нас, поднимаешь ты эти сплошные огни, Где осенняя полночь слишком долго и глухо молчала, Где пешком, не спеша, проходили усталые дни; Где вся жизнь отмечалась особой суровою метой, Где удел человека — валяться в грязи и пыли. Здесь родилися люди под какой-то злосчастной планетой, И счастливой планеты нигде отыскать не могли. Революция нас непреклонной борьбе научила, По широким дорогам вперед за собой повела. До конца, до предела догорела сегодня лучина, И тоскливая русская песня с лучиной сгорела дотла. Мы еще повоюем! и, понятно, не спутаем хода, — Нам отчетливо ясные дали видны: Под счастливой звездою, пришедшей с электрозавода, Мы с тобою вторично на свет рождены. Наши звезды плывут, непогожую ночь сокрушая, Разгоняя осеннюю черную тьму. Наша жизнь поднялась, словно песня большая-большая, — Та, которую хочется слушать и хочется петь самому.Первое письмо
Ваня, Ваня! За что на меня ты в обиде? Почему мне ни писем, ни карточек нет? Я совсем стосковалась и в письменном виде Посылаю тебе нерушимый привет. Ты уехал, и мне ничего неизвестно, Хоть и лето прошло и зима… Впрочем, нынче я стала такою ликбезной, Что могу написать и сама. Ты бы мог на успехи мои подивиться, Я теперь — не слепая и глупая тварь: Понимаешь, на самой последней странице Я читаю научную книгу — букварь. Я читаю и радуюсь каждому звуку, И самой удивительно — как удалось, Что такую большую мудреную штуку Всю как есть изучила насквозь. Изучила и знаю… Ванюша, ты слышишь? И такой на душе занимается свет, Что его и в подробном письме не опишешь, Что ему и названия нет. Будто я хорошею от каждого слова, Будто с места срывается сердце мое. Будто вся моя жизнь начинается снова И впервые, нежданно, я вижу ее. Мне подруги давно говорят на учебе, Что моя голова попросторнее всех… Жалко, нет у меня ненаглядных пособий, — Я тогда не такой показала б успех!.. Над одним лишь я голову сильно ломаю, Лишь одна незадача позорит мне честь: Если все напечатано — все понимаю, А напишут пером — не умею прочесть. И, себя укоряя за немощность эту, Я не знаю, где правильный выход найти: Ваших писем не слышно, и практики нету, И научное дело мне трудно вести. Но хочу я, чтоб все, как и следует, было, И, конечно, сумею свое наверстать… А тебя я, Ванюша, навек полюбила И готова всю душу и сердце отдать. И любой твоей весточке буду я рада, Лишь бы ты не забыл меня в дальней далú… Если карточки нет, то ее и не надо, — Хоть письмо, хоть открытку пришли.Осень
Расправив широкие крылья, Над желтым простором полей Плывет в небесах эскадрилья Спешащих на юг журавлей. Осенний старательный ветер Листву по дорогам разнес. И в город вчера на рассвете Отправлен последний обоз. Густая зеленая озимь Торжественно вышла на свет, И в честь урожая в колхозе Готовится званый обед. Билеты колхозникам на дом Разносит ватага детей. Скамейки со стульями рядом Стоят в ожиданье гостей. Разложены ложки и вилки, И, кажется, нет им числа. Несет председатель бутылки Для полной нагрузки стола. И два гармониста заране Себе нагоняют ценŷ: Один и другой на баяне Персидскую топит княжну. И настежь раскрыты чуланы, В которых стоят сундуки, И мягко шуршат сарафаны, И жарко пылают платки. И всюду — на улице, в хате — На песни повышенный спрос. И дождь, безусловно, некстати, Доводит березу до слез.Любушка
Понапрасну травушка измята В том саду, где зреет виноград. Понапрасну Любушке ребята Про любовь, про чувства говорят. Семерых она приворожила, А сама не знает — почему, Семерым головушку вскружила, А навстречу вышла одному. То была не встреча, а прощанье У того ль студеного ключа. Там давала Люба обещанье, Что любовь навеки горяча. До рассвета Люба говорила, Расставаясь, слезы не лила, Ничего на память не дарила, А лишь только сердце отдала. Мил уехал далеко-далече, Улетел веселый соловей. Но, быть может, в этот самый вечер Вспомнит он о Любушке своей. В том краю, откуда всходят зори, Где обманчив по ночам покой, Он стоит с товарищем в дозоре Над Амуром — быстрою рекой. Он стоит и каждый кустик слышит, Каждый камень видит впереди… Ничего особого не пишет, Только пишет: «Люба, подожди». Люба ждет назначенного срока, Выйдет в поле, песню запоет: Скоро ль милый с Дальнего Востока Ей обратно сердце привезет? Всходит месяц, вечер пахнет мятой, В черных косах не видать ни зги… Ой, напрасно ходят к ней ребята, Ой, напрасно топчут сапоги!Ой, вы, зори вешние
Ой, вы, зори вешние, Светлые края! Милого нездешнего Отыскала я. Он приехал пó морю Из чужих земель. Как тебя по имени? — Говорит: — Мишель. Он пахал на тракторе На полях у нас. — Из какого края ты? — Говорит: — Эльзас. — Почему ж на родине Не хотел ты жить? — Говорит, что не к чему Руки приложить. Я навстречу милому Выйду за курган… Ты не шей мне, матушка, Красный сарафан, — Старые обычаи Нынче не под стать, — Я хочу приданое Не такое дать. Своему хорошему Руки протяну, Дам ему в приданое Целую страну. Дам другую родину, Новое житье, — Все, что есть под солнышком, Все кругом — твое! Пусть друзьям и недругам Пишет в свой Эльзас — До чего богатые Девушки у нас!Прощание
Дан приказ: ему — на запад Ей в другую сторонŷ… Уходили комсомольцы На гражданскую войну. Уходили, расставались, Покидая тихий край, — Ты мне что-нибудь, родная, На прощанье пожелай. И родная отвечала: — Я желаю всей душой — Если смерти, то мгновенной, Если раны, — небольшой. А всего сильней желаю Я тебе, товарищ мой, Чтоб со скорою победой Возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, Глянул в девичье лицо: — А еще тебя прошу я Напиши мне письмецо. Но куда же напишу я? Как я твой узнаю путь? — Все равно, — сказал он тихо, — Напиши… куда-нибудь.Ты по стране идешь
Ты по стране идешь. И нет такой преграды, Чтобы тебя остановить могла. Перед тобой смолкают водопады, И отступает ледяная мгла. Ты по стране идешь. И, по твоей поруке, Земля меняет русла древних рек, И море к морю простирает руки, И море с морем дружится навек. Ты по стране идешь. И все свои дороги Перед тобой раскрыла мать-земля, Тебе коврами стелются под ноги Широкие колхозные поля. И даже там, где запах трав неведом, Где высохли и реки, и пруды, — Проходишь ты — и за тобою следом, Шумя, встают зеленые сады. Твои огни прекрасней звезд и радуг, Твоя дорога к солнцу пролегла. Ты по стране идешь. И нет такой преграды, Чтобы тебя остановить могла.Настасья
Ой, не про тебя ли пели скоморохи, Пели скоморохи в здешней стороне: «Завяла березонька при дороге, Не шумит, зеленая, по весне»? Ой, не ты ль, Настасья, девкой молодою Думала-гадала — любит или нет? Не тебя ль, Настасья, с горем да с нуждою Обвенчали в церкви в зимний мясоед? Не тебе ль, Настасья, говорили строго, Что на белом свете все предрешено, Что твоя дорога — с печки до порога, Что другой дороги бабам не дано? Расскажи ж, Настасья, про свою недолю, Расскажи, Настасья, про свою тоску, — Сколько раз, Настасья, ты наелась вволю, Сколько раз смеялась на своем веку; Сколько лет от мужа синяки носила, Сколько раз об землю бита головой, Сколько раз у бога милости просила, Милости великой — крышки гробовой? Расскажи, Настасья, как при звездах жала, Как ночей не спала страдною порой, Расскажи, Настасьи, как детей рожала На жнивье колючем, на земле сырой. Сосчитай, Настасья, сколько сил сгубила, Сколько слез горячих выплакала здесь… Говори, Настасья, обо всем, что было, Говори, Настасья, обо всем, что есть. То не ты ль, Настасья, по тропинке росной Ходишь любоваться, как хлеба шумят? То не ты ль, Настасья, на земле колхозной Отыскала в поле заповедный клад? Не твои ль поймали руки золотые Сказочную птицу — древнюю мечту? Не перед тобой ли старики седые С головы снимают шапку за версту? И не про тебя ли говорят с почетом В городе далеком и в родном селе? За твою работу, за твою заботу Не тебя ли Сталин принимал в Кремле? И не ты ль, Настасья, говорила бабам, Что родней на свете человека нет: — Дал он хлеб голодным, дал он силу слабым, Дал народу счастье да на тыщи лет. Он своей рукою вытер бабьи слезы, Встал за нашу долю каменной стеной… Больше нет, Настасья, белой той березы, Что с тоски завяла раннею весной.Песня о революции
На заре, на зорюшке туманной, По скупым неласковым полям Это я — оратай безымянный — Сеял хлеб с тоскою пополам. Это я по городам и селам Ощупью искал твоих следов; Звал тебя я песней невеселой, Ждал тебя я тысячу годов. Это я холодными ночами Думу передумывал твою, Это я с винтовкой за плечами Шел сражаться за тебя в бою. Сквозь леса, сквозь дебри вековые Ты мою услышала тоску, Ты одна — за тыщу лет впервые — Руку протянула мужику. Под его нечесаную крышу Принесла счастливое житье. От тебя, от первой, я услышал Имя настоящее свое. И, твоим дыханием согретый, Ласкою обласканный твоей, Прохожу я по Стране Советов Как хозяин суши и морей. Я не знаю, чрез какие реки, По каким пройду еще местам, Только знаю, что тебя вовеки Никому в обиду я не дам.В лесном поселке
(Письмо девушки)
Среди лесов, в кольце берез и елок, На берегу безвестного ручья, Дымит завод, раскинулся поселок, — И здесь мой дом и родина моя. Завяли травы. Лето миновало. Лесные тропы осень замела… И мы живем. А нам и горя мало. А наша радость мимо не прошла. Леса шумят о жизни стародавней, Разносит ветер желтую тоску, А мы смеемся, ходим на свиданья, Читаем книги, слушаем Москву. И каждый день по-своему чудесен, И каждый вечер чем-нибудь хорош, И нет в округе лучше наших песен, И рук в цеху быстрее не найдешь. Проворны мы на всякую работу, Умеем дело делать и гулять. Бывает даже — ходим на охоту: Пока что в зайцев учимся стрелять. И знаю я, когда придет, непрошен, Заклятый враг в советские края, Нас много встанет — девушек хороших, И, может статься, первой буду я. Так мы живем. И угол наш не тесен, И плечи нам не давит небосклон, И много есть еще не спетых песен, И много есть не названных имен. И я хожу спокойной и веселой И всей стране хочу послать привет. Мне хорошо, что есть такой поселок, Где я когда-то родилась на свет.Береза
Вот здесь, вдали от любопытных глаз, Береза шелестела молодая. Сюда весной я приходил не раз, У той березы встречи ожидая. И том стихов в обложке голубой Носил с собою целые недели. Его мы вместе начали с тобой, Его вдвоем и дочитать хотели. Я думал — ты придешь. Но дни за днями шли, А ты прийти сюда не догадалась… Теперь березы нет: срубили и сожгли, И книжка недочитанной осталась.Провожанье
Дайте в руки мне гармонь — Золотые планки! Парень девушку домой Провожал с гулянки. Шли они — в руке рука — Весело и дружно. Только стежка коротка — Расставаться нужно. Хата встала впереди — Темное окошко… Ой, ты стежка, погоди, Протянись немножко! Ты потише провожай, Парень сероглазый, Потому что очень жаль Расставаться сразу… Дайте в руки мне гармонь, Чтоб сыграть страданье. Парень девушку домой Провожал с гулянья. Шли они — рука в руке, Шли они до дому, А пришли они к реке, К берегу крутому. Позабыл знакомый путь Ухажор-забава: Надо б влево повернуть, — Повернул направо. Льется речка в дальний край — Погляди, послушай… Что же, Коля-Николай, Сделал ты с Катюшей?! Возвращаться позже всех Кате неприятно, Только ноги, как на грех, Не идут обратно. Не хотят они домой, Ноги молодые… Ой, гармонь, моя гармонь, — Планки золотые!Земля
Земля, земля — родная мать! Поговори с любимым сыном… Конца и края не видать Твоим пригоркам и равнинам. Твоим богатствам меры нет, Они лежат неисчислимы… Земля, земля! А сколько ж бед Из-за тебя перенесли мы! Не ты ли долгие века Была для нас мечтой несмелой? В потемках доля бедняка Не про тебя ли песни пела? Не ты ли заставляла нас Сбывать последние гнилушки? Не ты ли отправляла нас В переселенческой теплушке? Не за тебя ли каждый год Богатым кланялись мы в ноги? Не за тебя ли шел народ По той Владимирской дороге? Не ты ль весь век была в плену, Родная мать — земля сырая? Не за тебя ль мы всю страну Прошли от края и до края? Земля, земля! Горит рассвет, И ты для нас — кругом открыта… Земля, земля! А сколько ж бед, А сколько ж горя пережито!Зимний вечер
За окошком в белом поле — Сумрак, ветер, снеговей… Ты сидишь, наверно, в школе, В светлой комнатке своей. Зимний вечер коротая, Наклонилась над столом: То ли пишешь, то ль читаешь, То ли думаешь о чем. Кончен день — и в классах пусто, В старом доме тишина, И тебе немножко грустно, Что сегодня ты одна. Из-за ветра, из-за вьюги Опустели все пути, Не придут к тебе подруги Вместе вечер провести. Замела метель дорожки, — Пробираться нелегко. Но огонь в твоем окошке Виден очень далеко.И кто его знает
На закате ходит парень Возле дома моего, Поморгает мне глазами И не скажет ничего. И кто его знает, Чего он моргает. Как приду я на гулянье, Он танцует и поет, А простимся у калитки — Отвернется и вздохнет. И кто его знает, Чего он вздыхает. Я спросила: — Что не весел? Иль не радует житье? — Потерял я, — отвечает, — Сердце бедное свое. И кто его знает, Зачем он теряет. А вчера прислал по почте Два загадочных письма: В каждой строчке — только точки, — Догадайся, мол, сама. И кто его знает, На что намекает. Я разгадывать не стала, — Не надейся и не жди, — Только сердце почему-то Сладко таяло в груди. И кто его знает, Чего оно тает.Катюша
Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет, Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой.Шел со службы пограничник
Шел со службы пограничник, Пограничник молодой. Подошел ко мне и просит Угостить его водой. Я воды достала свежей, Подала ему тотчас. Только вижу — пьет он мало, А с меня не сводит глаз. Начинает разговоры: Дескать, как живете здесь? А вода не убывает, — Сколько было, столько есть. Не шути напрасно, парень, — Дома ждут меня дела… Я сказала: «До свиданья!» — Повернулась и пошла. Парень стал передо мною, Тихо тронул козырек: Если можно, не спешите, — Я напьюсь еще разок. И ведро с водой студеной Ловко снял с руки моей, — Что же, пейте, — говорю я, — Только пейте поскорей. Он напился, распрямился, Собирается идти: — Если можно, пожелайте Мне счастливого пути. Поклонился на прощанье, Взялся зá сердце рукой… Вижу — парень он хороший И осанистый такой. И чего — сама не знаю — Я вздохнула горячо И сказала почему-то: — Может, выпьете еще? Улыбнулся пограничник, Похвалил мои слова… Так и пил он у колодца, Может, час, а может, два.В родном краю
Тихо в поле, тихо в роще, Солнце гаснет за рекой. Не спеша проходит летчик По дорожке полевой. Летчик с Дальнего Востока, Бивший недруга в бою, — Он приехал издалека Погостить в родном краю, Посмотреть на эти хаты, Где живут его друзья, На широкие закаты, На березы у ручья. Он приехал наглядеться На поля и на леса И на все, что помнил с детства И чего забыть нельзя. Летчик с Дальнего Востока, Пограничник боевой — Он идет во ржи высокой По дорожке полевой. И бежит, бежит дорожка, И горит, горит закат… Где-то пробует гармошку Беспокойный музыкант; Где-то ласково и звонко Голос девичий запел: «На родимую сторонку Ясный сокол прилетел».Спой мне, спой, Прокошина[9]
Памяти моей матери
Спой мне, спой Прокошина, Что луга не скошены, Что луга не скошены, Стежки не исхожены. Пусть опять вспомянется Все, что к сердцу тянется, Пусть опять почудится Все, что не забудется: Сторона далекая, Хата в два окна, В поле рожь высокая, Теплая весна, Ельники, березняки И друзья-ровесники… Под отцовской крышею Здесь я жил и рос, Здесь ребячье первое Слово произнес. И отсюда в юности Начал долгий путь, Чтоб судьбу счастливую Встретить где-нибудь; Чтоб свое законное Место отыскать. И меня за росстани Проводила мать. Обняла, заплакала… — Ну, сынок, иди!..— И осталась, бедная, Где-то позади. И осталась, горькая, На закате дня — Думать и надеяться, Ожидать меня. И мне часто чудится, Что сидит она И глазами блеклыми Смотрит из окна, Смотрит — не покажется ль Пыль на большаке, Смотрит — не появится ль Путник вдалеке. Может быть, появится, Может, это я… И опять мне хочется В дальние края. В дальние, смоленские, К матери родной, Будто не лежит она В поле под сосной, Будто выйдет, старая, Встретит у ворот И со мною под вечер На поля пойдет; Станет мне рассказывать Про вчерашний сон, Про дожди весенние, Про колхозный лен; Станет мне показывать Все места подряд, Где мальчишкой бегал я Много лет назад; Где луга зеленые Вместе с ней косил И куда ей завтраки Я в жнитво носил… Все опять припомнится, Встанет предо мной, Будто не лежит она В поле под сосной; Будто теплым вечером Смотрит из окна, А кругом — широкая, Дружная весна… Спой же, спой, Прокошина, Что трава не скошена…Морячка
Уезжал моряк из дóму, Стал со мною говорить: — Разрешите вам на память Свое сердце подарить. И, когда я плавать буду Где-то в дальней стороне, Хоть разочек, хоть немножко Погрустите обо мне. Я ответила шутливо, Что приятна эта речь, Но такой большой подарок — Неизвестно, где беречь. И к тому ж, товарищ милый, Разрешите доложить: Чтобы девушка грустила — Это надо заслужить. Он обиделся, наверно, Попрощался кое-как: Шутки девичьей не понял Недогадливый моряк. И напрасно почтальона Я встречаю у ворот: Ничего моряк не пишет, Даже адреса не шлет. Мне и горько, и досадно, И тоска меня взяла, Что не так ему сказала, Что неласковой была. А еще того досадней, Что на людях и в дому Все зовут меня морячкой, Неизвестно почему.Вишня
В ясный полдень, на исходе лета, Шел старик дорогой полевой; Вырыл вишню молодую где-то И довольный, нес ее домой. Он глядел веселыми глазами На поля, на дальнюю межу И подумал: «Дай-ка я на память У дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, Пусть идет и вширь, и в высоту И, дорогу нашу украшая, Каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, Отдохнут в прохладе, в тишине И, отведав сочных, спелых ягод, Может статься, вспомнят обо мне. А не вспомнят: — экая досада, — Я об этом вовсе не тужу: Не хотят — не вспоминай, не надо, — Все равно я вишню посажу!»На горе — белым-бела
На горе — белым-бела — Утром вишня расцвела. Полюбила я парнишку, А открыться не могла. Я по улице хожу, Об одном о нем тужу. Но ни разу он не спросит, Что на сердце я ношу. Только спросит — как живу, Скоро ль в гости позову… Не желает он, наверно, Говорить по существу. Я одна иду домой, Вся печаль моя со мной. Неужели ж мое счастье Пронесется стороной?Александр Прокофьев
Товарищ
А. Крайскому
Я песней, как ветром, наполню страну О том, как товарищ пошел на войну. Не северный ветер ударил в прибой, В сухой подорожник, в траву зверобой, — Прошел он и плакал другой стороной, Когда мой товарищ прощался со мной. И песня взлетела. И голос окреп. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб! И ветер — лавиной, и песня — лавиной… Тебе — половина, и мне — половина! Луна словно репа, а звезды — фасоль… «Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль! Еще тебе, мамка, скажу поновей: Хорошее дело взрастить сыновей, Которые тучей сидят за столом, Которые могут идти напролом. И вот скоро сокол твой будет вдали, Ты круче горбушку ему посоли. Соли астраханскою солью. Она Для крепких кровей и для хлеба годна. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, — Мы хлеба горбушку — и ту пополам! Коль ветер — лавиной, и песня — лавиной, Тебе — половина, и мне — половина! От синей Онеги, от громких морей Республика встала у наших дверей!Разговор по душам
Такое нельзя не вспомнить. Встань, девятнадцатый год! Не армии, скажем прямо, — народы ведут поход! Земля — по моря в окопах, на небе — ни огонька. У нас выпадали зубы с полуторного пайка. Везде по земле железной железная шла страда… Ты в гроб пойдешь — не увидишь, что видели мы тогда. Я всякую чертовщину на памяти разотру, У нас побелели волосы на лютом таком ветру. Нам крышей служило небо, как ворон, летела мгла, Мы пили такую воду, которая камень жгла. Мы шли от предгорий к морю, — нам вся страна отдана, Мы ели сухую воблу, какой не ел сатана! Из рук отпускали в руки окрашенный кровью стяг. Мы столько хлебнули горя, что горе земли — пустяк! И все-таки, все-таки, все-таки прошли сквозь огненный шквал. Ты в гроб пойдешь — и заплачешь, что жизни такой не знал! Не верь ни единому слову, но каждое слово проверь, На нас налетал ежечасно многоголовый зверь. И всякая тля в долине на сердце вела обрез. И это стало законом вечером, ночью и днем, И мы поднимали снова винтовки наперевес, И мы говорили: «Ладно, когда-нибудь отдохнем». Бери запоздалое слово и выпей его до дна, Коль входит в историю славы единственная страна. Ты видишь ее раздольный простор полей и лугов… Но ненависть ставь сначала, после веди любовь! Проверьте по документам, которые не солгут, — Невиданные однолюбы в такое время живут. Их вытянула эпоха, им жизнь и смерть отдана. Возьми это верное слово и выпей его до дна. Стучи в наше сердце, ненависть! Всяк ненависть ощетинь! От нас шарахались волки, когда, мертвецы почти, Тряслись по глухому снегу, отбив насмерть потроха. Вот это я понимаю, а прочее — чепуха! Враги прокричали: «Амба!» «Полундра!» — сказали мы. И вот провели эпоху среди ненавистной тьмы. Зеленые, синие, белые — сходились друг другу в масть, Но мы отстояли, товарищ, нашу Советскую власть.«Громкая пора…»
Громкая пора… Огонь, атака, Вся моя вселенная в огне. «Не плакать! Не плакать, Не плакать!» — Кричала Республика мне. Это было так во время оно, Временем, не шедшим в забытье, Так она кричала миллионам, Всюду заселяющим ее. Локоть к локтю в непогодь и стужу, Все законы бури полюбя, Мы прошли, приказа не нарушив, Чтобы стать достойными тебя. Наш поход кому дано измерить? Мы несли до океана гнев И прошли сквозь ветер всех империй, Всех объединенных королевств! Вейте, ветры молодые, Вейте Над просторами родных полей… Сосчитай нас, вырванных от смерти, По великой милости твоей… В Прионежье, Ладоге и Вятке О тебе, страна моя, поем, И скрестились руки, как на клятве, На железном имени твоем…Маяковскому
…Я ни капли в песне не заумен. Уберите синий пистолет! Командармы и красноармейцы, Умер Чуть ли не единственный поэт! Я иду в друзьях. И стих заметан. Он почти готов. Толкну скорей, Чтобы никакие рифмоплеты Не кидали сбоку якорей! Уведите к богу штучки эти. Это вам не плач пономаря! Что вы понимаете в поэте, Попросту — короче говоря. Для чего подсвистывание в «Лютце», Деклараций кислое вино? Так свистеть во имя Революции Будет навсегда запрещено! Никогда эпоха не простит им Этот с горла сорванный галдеж… Поднимая руку на маститых, Я иду с тобою, молодежь! Боевая! Нападу на след твой И уйду от бестолочи той — Принимать законное наследство До последней запятой. Я ни капли в песне не заумен. Уберите синий пистолет! Командармы и красноармейцы, Умер Чуть ли не единственный поэт! И, кляня смертельный вылет пули, Вековую ненависть свинца, Встань Земля, в почетном карауле Над последним берегом певца!О знаменах
Полземли обхожено в обмотках, Небеса постигнуты на треть. Мы тогда, друзья и одногодки, Вышли победить иль умереть. Выступили мы подобно грому, А над нами, ветром опален, Полыхал великий и багровый, Яркий цвет негаснущих знамен. Пули необычные с надрезом, Спорили с просторами полей. Мы гремели кровью и железом Лютой биографии своей. Умирая, падал ветер чадный, Все испепеляя, гибла медь, Но знаменам нашим беспощадным Не дадим, товарищи, истлеть. Все они проходят в лучших песнях, Достигая звездной высоты. Если их поставить разом, вместе, Не было б истории чудесней, Не было б сильнее красоты!Вступление
Года растут и умирают в этом Растянутом березовом краю. Года идут. Зима сменяет лето И низвергает молодость мою. Я стану горьким, как горька рябина, Я облюбую место у огня. Разрухою основ гемоглобина Сойдет лихая старость на меня. И, молодость, прощай. Тяжелой пылью Полки ветров сотрут твои следы, И лирики великие воскрылья Войдут в добычу ветра и воды. И горечь трав и серый дым овина Ворвутся в область сердца. И оно, Распахнутое на две половины, Одним ударом будет сметено. Мы на земле большое счастье ищем, И, принимая дольную красу, Я не хочу, друзья, остаться нищим И лирики немножко запасу.«Задрожала, нет — затрепетала…»
Задрожала, нет — затрепетала Невеселой, сонной лебедой, Придолинной вербой-красноталом, Зорями в полнеба и водой. Плачем в ленты убранной невесты, Днями встреч, неделями разлук, Песней золотой, оглохшей с детства От гармоник, рвущихся из рук! Чем еще? Дорожным летним прахом, Ветром, бьющим в синее окно. Чем еще? Скажи, чтоб я заплакал, Я тебя не видел так давно…«Мне этот вечер жаль до боли…»
Мне этот вечер жаль до боли. Замолкли смутные луга, Лишь голосила в дальнем поле В цветах летящая дуга. Цветы — все лютики да вейник — Шли друг на друга, как враги, И отрывались на мгновенье, Но не могли сойти с дуги. Я видел — полю стало душно От блеска молний и зарниц, От этих рвущихся, поддужных, На серебре поющих птиц. А у меня пришла к зениту Моя любовь к земле отцов, И не от звона знаменитых, В цветах летящих бубенцов. И я кричу: «Дуга, названивай, Рдей красной глиной, колея, Меня по отчеству назвали Мои озерные края».«Лучше этой песни нынче не найду…»
Лучше этой песни нынче не найду. Ты растешь заречною яблоней в саду. Там, за частоколом, вся земля в цветах. Ты стоишь — как яблоня в молодых летах. Ты цветешь, как яблоня, — белым цветком. Ты какому парню машешь платком? Улыбнулась ласково, ты скажи — кому? Неужель товарищу — другу моему? Я его на улице где-нибудь найду, Я его на правую руку отведу. «Что ж, — скажу, — товарищ, что ж, побратим, За одним подарком двое летим?»«Здесь тишина. Возьми ее, и трогай…»
Здесь тишина. Возьми ее, и трогай, И пей ее, и зачерпни ведром. Выходит вечер прямо на дорогу. И месяц землю меряет багром. Высоких сосен бронзовые стены Окружены просторами долин, И кое-где цветут платки измены У одиноко зябнущих рябин. И мне видны расплавленные смолы И перелесок, спящий на боку, За рощей — лес, а за лесами — долы И выход на великую реку. Все голубым окутано покоем, И виден день, заброшенный в траву… Вы спросите: да где ж это такое? А я не помню и не назову. Оправдываться буду перед всеми И так скажу стареющим друзьям: «Товарищи! Земля идет на север, К зеленым океанам и морям!» Не знаю я, когда такое встречу, Отправимся за ним и не найдем, А я хочу, чтоб милое Заречье Еще звенело в голосе моем.Песня
То веселая и светлая, То грустная, Широка ты, глубока ты, Песня русская! Высоко ты залетаешь: В бой идешь, в поход. Ведь сложил тебя и славил Весь родной народ. Ты летишь страной раздольной, И тебе дано Пронести на крыльях вольных Гром Бородино, Ветер нашей русской славы, Взвитый над Днепром, Свет немеркнущей Полтавы, Измаила гром! Дальше ярко, как зарницы, На веки веков Встали Киев и Царицын, Дон и Перекоп! Над лесами, над полями Радуй и томи, Над советскими краями, Русская, греми! Лучше нет тебя на свете, Всем ты хороша, Песня вольная, как ветер, Русская душа!«Не боюсь, что даль затмилась…»
Не боюсь, что даль затмилась, Что река пошла мелеть, А боюсь на свадьбе милой С пива-меду захмелеть. Я старинный мед растрачу, Заслоню лицо рукой, Захмелею и заплачу. Гости спросят: «Кто такой?» Ты ли каждому и многим Скажешь так, крутя кайму: «Этот крайний, одинокий, Не известен никому!» Ну, тогда я встану с места, И прищурю левый глаз, И скажу, что я с невестой Целовался много раз. «Что ж, — скажу невесте, — жалуй Самой горькою судьбой… Раз четыреста, пожалуй, Целовался я с тобой».«То ль тебе, что отрады милее…»
То ль тебе, что отрады милее, То ли людям поведать хочу, Что когда ты приходишь — светлею, И когда ты уходишь — грущу. Ты меня, молодая, по краю Раскаленного дня повела. Я от гордости лютой желаю, Чтобы ты рядом с морем жила. Чтоб в раскосые волны с разбега, Слыша окрик отчаянный мой, Шла бы лодка далекого бега И на ней белый парус прямой. Чтобы паруса вольная сила, Подчиняясь тяжелым рукам, Против ветра меня выносила К долгожданным твоим берегам.«Слышу, как проходит шагом скорым…»
Слышу, как проходит шагом скорым Пересудов тягостный отряд… Я привык не верить наговорам, — Мало ли, что люди говорят. Я никак не ждал грозы оттуда, Все мне стало ясным до того, Что видал, как сплетня и остуда Ждали появленья твоего. Но для них закрыл я все тропинки, Все пути-дороги. Приходи, Светлая, накрытая косынкой, И долинный мир освободи! Жду, что ты приветом приголубишь Край, где славят молодость твою. Говорят, что ты меня не любишь, — Что с того, коль я тебя люблю!Зимним вечером
Песня носится, выносится, Чтобы в голосе дрожать, А на волю как запросится, Ничем не удержать. Кони в землю бьют подковами, Снег, чем дальше, — тем темней, Жестью белою окована Грудь высокая саней. Снежный, вьюжный, незаброшенный Распахнул ворота путь… «Ну, садись, моя хорошая, И помчим куда-нибудь!» Повезу — куда, не спрашивай. В нетерпенье кони бьют, Гривы в лентах, сани крашены, Колокольчики поют. Лес, как в сказке, в белом инее, Над землей не счесть огней, Озарили небо синее Звезды родины моей. Неужели мы расстанемся, Будем врозь, по одному? Что тогда со мною станется, — Не желаю никому!Анне
Ой, снова я сердцем широким бедую: Не знаю, что делать, как быть. Мне все говорят — позабудь молодую, А я не могу позабыть. Не знаю, что будет, не помню, что было, Ты знаешь и помнишь — ответь… Но если такая меня полюбила, То надо и плакать и петь. Другие скрывают, что их позабыли, Лишь ты ничего не таи, И пусть не забудут меня голубые, Немного косые — твои. Светлей не найти и не встретить дороже, Тебя окружают цветы. И я говорю им, такой нехороший, Какая хорошая ты.«Что мне делать, если слышно…»
Что мне делать, если слышно, — Ты моей бедой слывешь, Коль не видишься, так снишься, Не приходишь, так зовешь? В прах развеян день вчерашний, Не гостить в твоем дому, — Что мне делать, если страшно Злому сердцу моему? А сегодня с мукой новой Прихожу к тебе, в твой дом, В лапу рубленный, сосновый, И прошу воды со льдом, Чтоб не рвалась так на волю, Обжигая сердце, кровь, Чтоб не снилась мне на горе Черная — подковой — бровь!«Все кратко в нашем кратком лете…»
Все кратко в нашем кратком лете, Все — как платков прощальный взмах. И вот уже вода, и ветер, И дым седеет на холмах. А, может быть, не дым, а коршун Крылами обнял те холмы, А может, чтобы плакать горше, Разлуку выдумали мы? Разлука — всюду ветер прыткий, Дорог разбитых колеи, Разлука — письма и открытки, Стихи любовные мои; Разлука — гам толпы затейной И слет мальчишек на конях, Гулянок праздничных цветенье, Гармоники на пристанях. Разлука — старый чет и нечет, Календарей и чисел речь, И нами прерванные встречи, И ожиданье многих встреч С друзьями, с ветреной подругой (Коль ты забыла, так с другой). Ну что ж, пригубим за разлуку, Товарищ милый, дорогой!Песенка
За рекой, за речонкой, За раздольем двух лужков, Там жила одна девчонка Восемнадцати годков. Возле вишен, возле кленов Ветер ветру говорил, Что по тем лужкам зеленым Парень две тропы торил. Мимо реченьки-речонки, Мимо розовых цветков — Две тропы к одной девчонке Восемнадцати годков.«Что весной на родине?..»
Что весной на родине? Погода. Волны неумолчно в берег бьют. На цветах настоянную воду Из восьми озер родные пьют. Пьют, как брагу, темными ковшами Парни в самых радостных летах. Не испить ее: она большая. И не расплескать: она в цветах! Мне до тех озер дорогой длинной Не дойти. И вот в разбеге дня Я кричу товарищам старинным: «Поднимите ковшик за меня!»«Ты мне вновь грозишь своей опалой…»
Ты мне вновь грозишь своей опалой: Облачной, отпетой, дождевой, Снова свист условленный, трехпалый Над моей проходит головой. Что там — не виновны иль повинны Дни, в твоих бегущие громах, Или загуляли в забыть финны Сразу в двадцати пяти домах? Загуляли так, что лампы гасли, А земля звенела, как в боях, Или, как всегда, чтоб губы в масле, Грудь в сатине, сердце в соловьях! Я и сам из тех, что над реками Тешились, великих туч темней. Я из той породы, что руками Выжимали воду из камней! Ну так бейся, кровь орла и волка, Пролетай, что молния, в века! А твоя короткая размолвка, Край озер, да будет мне легка!«Я ее весной нашел такую…»
Я ее весной нашел такую, Вот она. И вот ее лета… Знаете ли, как друзья ликуют, — Это — расскажу вам — красота! Все цветы бесчисленных затонов Улицей проходят голубой. Впереди цветов поют и стонут Пять иль шесть малиновых обойм! До последних клавишей покорны, На груди друзей найдя приют, Все они до дна раскрыли горло, По плечам летают и поют. Ходу, ходу им тропой волнистой, Чтоб сердца стучали как часы… Девушки кричат им: «Гармонисты, Больше нажимайте на басы!» Пароход на грудь клади двухтрубный Каждому, идущему в рядах, В славу их и в честь грохочут бубны Гулевые — в красных ободах! Может, нынче этот день приснится, День цветов, веселья и красы, Чтобы закричал я: «Гармонисты, Больше нажимайте на басы!»«Коль жить да любить — все печали растают…»
Коль жить да любить — все печали растают, Как тают весною снега… Звени, золотая, шуми, золотая, Моя золотая тайга! Ой, вейтесь, дороги, одна и другая, В раздольные наши края… Меня полюбила одна дорогая, Одна дорогая — моя. И пусть не меня, а ее за рекою Любая минует гроза За то, что нигде не дают мне покою Ее голубые глаза. Коль жить да любить — все печали растают, Как тают весною снега… Звени, золотая, шуми, золотая, Моя золотая тайга!«За то, что с тобой не найти мне покоя…»
За то, что с тобой не найти мне покоя, За то, что опять горевал, За то, что однажды придумал такое И новой любовью назвал; За то, что и день мой весь в тучах, весь в тучах, За то, что об этом пою, За то, что разлука идет неминучей, За долю, родная, твою, — Пусть алые зори касаются веток, Шумит величаво прибой… Прости не за все, но хотя бы за это, Что снова забредил тобой…Любушка
Здравствуй, здравствуй, любушка, Любушка, голубушка! Здравствуй, зоренька, заря, Свет, блеснувший за моря, Здравствуй, небывалая, Здравствуй, губы алые! Ой, как ветер ходит, воя, Позаречной стороной, Против ветра выйдем двое, Тяжело идти одной! И услышал я в ответ: «Никакого ветра нет. Нет ни в поле, ни в бору, Обними, а то умру. Обними меня до боли, Так, чтоб смеркнул свет дневной!..» Ходит ветер озорной.«Мне дня не прожить без тебя не тоскуя…»
Мне дня не прожить без тебя не тоскуя, Коль всю мою долю ты держишь в руках. И где я нашел молодую такую, И где тебя встретил — не вспомню никак. Никто не напомнит, что было вначале; Березы в сережки с утра убрались, Все реки играли, и вербы качались, Все зори взлетали, все звезды зажглись. Потом, может, ветры расскажут раздолью, Как жил я, ликуя, воюя, любя, Но честь не по чести, и доля не в долю, И слава не в славу, коль нету тебя!«Чего я, чего я грущу по девчонке…»
Чего я, чего я грущу по девчонке, Веселой, с косой золотой? Ужели их мало на этой сторонке, А коль не на этой, на той? Таких, у которых покатые плечи, Бедовых, лукавых, простых, Таких же веселых, идущих навстречу С разметом волос золотых? А пусть их! Цветут ли, любимых лаская, Иль вянут — ничуть не грущу. А это — такая, а это — такая, Такую, какую ищу!Маша
Что-то Маши не слышно, Где же брови вразлет? Маша вышла, повышла, Маша в гости идет. И над ней словно тает Неба синий поток, И горит, и летает, И смеется платок. Чистый шелк — нитка к нитке, Да краса, да лета… Уж кого-кого в калитку, Машу — прямо в ворота! И целуют в уста, Хвалят звонкую, Не с того, что толста, А что тонкая! Маша, стань на дорожке Возле загородочки. На всех прочих полсапожки, А на Маше — лодочки! А на Маше лодочки, Не в укор походочке, Не сухой, блеклой, А лихой, легкой. Вьюн, вьюнок-повилика, Встань, чтоб видели все В гребне веточку брусники, Ленту алую в косе. С лентой алой в косе, В расцелованной красе, Чтобы охнули все, Чтобы ахнули все!«Где ты? Облака чуть-чуть дымятся…»
Где ты? Облака чуть-чуть дымятся, От цветов долина как в снегу. Я теперь ни плакать, ни смеяться Ни с какой другою не могу. Не твоих ли милых рук сверканье Донеслось ко мне издалека? Не с твоим ли розовым дыханьем Розовые ходят облака? Все равно за облаком за тонким Солнце выйдет, луч блеснет, Все равно глядеть мне в ту сторонку, Где моя любимая живет. Не скажу, как весело мне с нею Там, где песня меркнет над водой, Где большие заводи синеют И над ними месяц молодой. Где ты? Облака чуть-чуть дымятся, От цветов долина как в снегу. Я теперь ни плакать, ни смеяться Ни с какой другою не могу.«Скажи мне, как мы шли и пели…»
Скажи мне, как мы шли и пели Да как мы за руки взялись. Вдали гармоники звенели И от плеча к плечу рвались. Вдаль, разрисованные мелом, Вагоны мчались налегке, А ты была в каком-то белом Совсем поношенном платке. Забуду все, пойду далече, А, может, песню затяну, И, может, в ней об этой встрече, Не вспоминая, вспомяну. Как в небо синее глядели И как совеем недавно мы Отлюбовались на неделю, Отцеловались до зимы.«Все мне светятся спозаранку…»
Все мне светятся спозаранку Золотые твои края… Погадай мне, моя цыганка, Замечательная моя! Ну, на счастье сгадаем, что ли, Ты по-старому мне люба. Падай справа, моя недоля, Слева падай, моя судьба! Справа падает некрасивый, Ненавидимый мной вдвойне. Слева мамка заголосила — Обо мне иль не обо мне? Нас три брата. О ком ты плачешь? Старший в песню идет — упрям, Средний — сокол. Тогда о младшем — Младший плавает по морям. Слева — трубы поход играют, Справа — горестно и темно, Справа падает злая краля, Позабытая мной давно. Ну, а ты где? Я разгадаю, Сам раскину свою беду. Ты не пала мне, молодая, Ни с колоды, ни на роду. Все же ради цветущих летом Всех тропинок, бегущих врозь, Ради песен моих неспетых Не покинь ты меня, не брось! Ни дождями и ни порошей Мне с тобою не ждать гостей… Снова падает нехороший, Некрасивый король крестей!«На родной на стороне…»
На родной на стороне, Там, где льнет волна к волне, Не приснилась ли ты мне, Не приснилась ли ты мне? Там, где льнет к волне волна, Где заря на Ладоге, Не приснилась ли она, А явилась в радуге! Всем видна ее краса: Брови стрелкой узкие, И до пояса коса, Золотая, русская! Ой, коса-краса у ней, В красных лентах, всех длинней, Я не знаю, сколько стоит: Может, тысячу рублей! Может, двадцать пять коней, Может, двадцать пять саней, Сани, сани с бубенцами, С женихами-молодцами! Женихи все целый день Носят шапки набекрень, А невесты возле них — В полушалках дорогих. А одна дороже всех, А одна моложе всех! Ой, одна из них краса: Брови стрелкой, узкие, И до пояса коса, Золотая, русская!«За березами, за хвоями…»
За березами, за хвоями Только слышно, как поешь, Все по-своему, по-своему, Не по-моему живешь! Молодое время летнее, Милый друг мой, милый друг, По какой дорожке ветреной Отбиваешься от рук? Ну куда опять сегодня ты Далеко ушла в леса, Где лишь ветви сосен подняты И глядятся в небеса? За поверьями, за сказами Буду сам тебя водить, Чтоб не шла, где не приказано, Где не сказано ходить!«Ой, дорог на свете много, много…»
Ой, дорог на свете много, много, От лужка бегущих до лужка, Как вчера я в дальнюю дорогу Провожала милого дружка. Нет, не две волны в морях качались, И не две звезды во мгле зажглись, — Две зори в долине распрощались, Клен с березой в поле разошлись. В чистом поле за белой верстою, Словно клен с березой за лужком, Как заря с зарею на просторе, Распрощалась я вчера с дружком. Легкий ветер шел в луга с востока, Уходил и таял путь прямой… Не забудь меня в краю далеком, Сокол мой, желанный сокол мой!Ярославна
Сохранен твой след осенним ливнем, Грозами и русскою зимой, Ярославна — свет мой на Путивле, Свет мой, день мой, век недолгий мой! Где же, где же он, гонец крылатый, С доброй вестью с грозных берегов: Копьями, колчанами, булатом Заслонен твой Игорь от врагов! Видно, спор с ветрами не был равным. Дальний друг, одно известно мне: Плачем исходила Ярославна На Путивля каменной стене. Вот, ко всем путям, тобой любимым, Славословя, припадаю я: К той земле, которой ты ходила, К той воде, которая твоя! Ты такая ясная, простая, Ты такая русская в дому… Пусть же никогда не зарастает Торный путь к порогу твоему!«Где весна, там и лето…»
Где весна, там и лето, Новых песен прибой. Ох, и много их спето, Дорогая, с тобой. Много, много приветных Разнеслось по лужкам, По веселым, заветным, По крутым бережкам. Левый берег — отлогий, Правый берег — крутой, Все дорожки-дороги, Огонек золотой. В синих дыма колечках Улетали слова… Ой ты, черная речка, Острова, острова…«Ты мне что-то сказала…»
Ты мне что-то сказала, Иль при щедрости дня Мне опять показалось, Что ты любишь меня. Любишь так, как хотела, Или так, как пришлось… Ой, ты вдаль поглядела — Там дороги шли врозь. Все равно полднем звонким Дам запевок рои В руки милые, тонкие, Дорогие твои. Сердце рвется на волю, Не сгорая гореть, Колокольчики в поле Стали тихо звенеть. Ты мне что-то сказала, Иль при щедрости дня Мне опять показалось, Что ты любишь меня.Сольвейг
I
Снега голубеют в бескрайних раздольях, И ветры над ними промчались, трубя… Приснись мне, на лыжах бегущая Сольвейг, Не дай умереть, не увидев тебя! В бору вековом ты приснись иль в долине, Где сосны кончают свое забытье И с плеч, словно путники, сбросили иней, Приветствуя так появленье твое! И чтобы увидел я снова и снова, Чего не увидеть по дальним краям, — И косы тяжелые в лентах лиловых, И взгляд, от которого петь соловьям! Чтоб снег перепархивал, даль заклубилась, Вершинами бор проколол синеву, Чтоб замерло сердце, не билось, не билось, Как будто бы наяву, наяву! Снега голубеют в бескрайних раздольях, Мой ветер, мой вольный, ты им поклонись. Приснись мне, на лыжах бегущая Сольвейг, Какая ты светлая, Сольвейг! Приснись!II
Бор синий, вечерний. Суметы крутые. И словно на ветви легли небеса. О Сольвейг! Ой, косы твои золотые, Ой, губ твоих полных и алых краса! Как ходишь легко ты по снежному краю! Там ветер по окна сугробы намел, И там, где прошла ты, ручьи заиграли И вдруг на опушке подснежник расцвел. А там, где ты встала, трава прорастает, Река рвется с морю, и льдинки хрустят, И птиц перелетных крикливые стаи, Быть может, сегодня сюда прилетят. Заплещут крылами, засвищут, как в детстве, За дымкой туманной грустя и любя… О Сольвейг, постой же! Ну дай наглядеться, Ну дай наглядеться, любовь, на тебя! Ведь может и так быть: поля колосились, И реки к морям устремляли разбег, Чтоб глаз, оттененных ресницами, синих Вовек не померкло сиянье, вовек!Гармоника
Под низенькими окнами, Дорожкой вдоль села, Вот выросла, вот охнула, Вот ахнула — пошла. Вот свистнула — повиснула На узеньком ремне, Вся синяя, вся близкая И вся кругом в огне. Звени, звени, гори, гори, Веселая, — лети, Поговори, поговори, Прости, озолоти! И вот она, и вот она, От почестей зардясь, Идет себе вольным-вольна, И плача и смеясь, Разбилась дробью частою, А то от всех обид Совсем была несчастною И плакала навзрыд. То шла людей задаривать, И на веки веков Вовсю раскинув зарево Малиновых мехов, Так пела и так плакала Про горести свои, Как бы за каждым клапаном Гнездились соловьи. И рвется ночи кружево, Она, как день, — красна, Все яблони разбужены, И кленам не до сна! Прости меня, прости меня, Подольше погости, Вся близкая, вся синяя, Вся алая — прости!«Как тебя другие называют…»
Как тебя другие называют, Пусть совсем-совсем не знаю я. Ты — моя травинка полевая, Ты — одна любимая моя! Где-то возле вербы-краснотала, Где-то рядом с горем и тоской, Где-то в дальнем поле вырастала, Где-то в дальнем-дальнем, за рекой. Вырастала, радости не зная, Но, узнав про горести твои, По-за Волгой, Доном и Дунаем В лад с тобой грустили соловьи. Как тебя другие называют, Пусть совсем-совсем не знаю я. Ты — моя травинка полевая, Ты — одна любимая моя!«Горят в небесах золотые ометы…»
Горят в небесах золотые ометы, Им гаснуть никак не велят. Я знать не хочу, где могучие взлеты Широкие крылья спалят. О, жизнь на реках, на озерах, в долинах, Где ветры кочуют ничьи, Где в красное платье рядится калина, Где и синих рубахах — ручьи! И все это знает паденья и взлеты, И все это, жизнь, озари! Горите, небес золотые ометы! Гори, мое сердце, гори! Еще я любовь нахожу и колеблю, Еще ненавидеть могу, А рухну, как дед мой, царапая землю, На полном и быстром бегу!Ясень
На одной сторонке, На родной сторонке Вырос ясень тонкий, Ясень ты мой тонкий. За травой полынной, У дороги длинной, Ясень, ты мой ясень, Ясень придолинный. Я ушел далече С думою о встрече, Ясень, ты мой ясень, Золотой под вечер! Там, где мы простились, Все пути скрестились, Ясень, ты мой ясень, Зори загостились! Я с любой тревогой, С той, которых много, Ясень, ты мой ясень, Шел своей дорогой. Из походов ратных Я вернусь обратно, Ясень, ты мой ясень, День мой незакатный!Павел Васильев
Киргизия
Замолкни и вслушайся в топот табунный, — По стертым дорогам, по травам сырым В разорванных шкурах бездомные гунны Степной саранчой пролетают на Рим!.. Тяжелое солнце в огне и туманах, Поднявшийся ветер упрям и суров. Полыни горьки, как тоска полонянок, Как песня аулов, как крик беркутов. Безводны просторы. Но к полдню прольется Шафранного марева пряный обман, И нас у пригнувшихся древних колодцев Встречает гортанное слово — аман! Отточены камни. Пустынен и страшен На лицах у идолов отблеск души. Мартыны и чайки кричат над Балхашем, И стадо кабанье грызет камыши. К юрте от юрты, от базара к базару Верблюжьей походкой размерены дни, Но здесь, на дорогах ветров и пожаров, Строительства нашего встанут огни! Совхозы Киргизии! Травы примяты. Протяжен верблюжий поднявшийся всхлип. Дуреет от яблонь весна в Алма-Ата, И первые ветки раскинул Турксиб. Земля, набухая, гудит и томится Несобранной силой косматых снопов, Зеленые стрелы взошедшей пшеницы Проколют глазницы пустых черепов. Так ждет и готовится степь к перемене. В песках, залежавшись, вскипает руда. И слушают чутко Советы селений, Как ржут у предгорий, сливаясь, стада.Товарищ Джурбай
Товарищ Джурбай! Мы с тобою вдвоем. Юрта наклонилась над нами. Товарищ Джурбай, Расскажи мне о том, Как ты проносил под седым Учагом Горячее шумное знамя, Как свежею кровью горели снега Под ветром, подкошенным вровень, Как жгла, обезумев, шальная пурга Твои непокорные брови. Товарищ Джурбай! Расскажи мне о том, Как сабля чеканная пела, Как вкось по степям, Прогудев над врагом, Косматая пика летела. …На домбре спокойно застыла рука, Костра задыхается пламя. Над тихой юртой плывут облака Пушистыми лебедями. …По чашкам, урча, бушует кумыс. Степною травою пьян, К озеру Куль и к озеру Тыс Плывет холодный туман. Шатаясь, идет на Баян-Аул Табунный тяжелый гул. Шумит до самых горных границ Буран золотых пшениц. Багряным крылом спустился закат На черный речной камыш, И с отмелей рыжих цапли кричат На весь широкий Иртыш. Печален протяжный верблюжий всхлип. Встань, друг, и острей взгляни, — Это зажег над степями Турксиб Сквозь ветер свои огни. … Прохладен и нежен в чашках кумыс… В высокой степной пыли К озеру Куль и к озеру Тыс Стальные пути легли. Товарищ Джурбай! Не заря ли видна За этим пригнувшимся склоном? Не нас ли с тобой Вызывает страна Опять — как в боях — поименно? Пусть домбра замолкнет! Товарищ, постой! Товарищ Джурбай, погляди-ка! Знакомым призывом Над нашей юртой Склонилась косматая пика!Путь в страну
Обожжены стремительною сталью, Пески ложатся, кутаясь в туман, Трубит весна над гулкой магистралью, И в горизонты сомкнут Туркестан. Горят огни в ауле недалеком, Но наш состав взлетает на откос, И ветви рельс перекипают соком — Весенней кровью яблонь и берез. Обледенев, сгибают горы кряжи Последнею густою сединой… Открыт простор. И кто теперь развяжет Тяжелый узел, связанный страной? За наши дни, пропитанные потом, Среди курганных выветренных трав Отпразднуют победу декапоты, В дороге до зари прогрохотав. В безмолвном одиночестве просторов, По-прежнему упорен и суров, Почетными огнями семафоров Отмечен путь составов и ветров. Пусть под шатром полярного сиянья Проходят Обью вздыбленные льды, — К пустынному подножию Тянь-Шаня Индустрии проложены следы. Где камыши тигриного Балхаша Качают зыбь под древней синевой, Над пиками водонапорных башен Турксиб звенит железом и листвой. И на верблюжьих старых перевалах Цветёт урюк у синих чайхане, Цветут огни поднявшихся вокзалов, Салютуя разбуженной стране. Здесь, на земле истоптанной границы, Утверждены горючие века Золотоносной вьюгою пшеницы И облаками пышного хлопка!..Песня («Листвой тополиной и пухом лебяжьим…»)
Марии Рогатиной — совхознице Листвой тополиной и пухом лебяжьим, Гортанными криками Вспугнутых птиц По мшистым низинам, По склонам овражьим Рассыпана ночь прииртышских станиц. Но сквозь новолунную мглу понизовья, Дорогою облачных Стынущих мет, Голубизной и вскипающей кровью По небу ударил горячий рассвет. И, горизонт перевернутый сдвинув, Снегами сияя издалека, На крыши домов Натыкаясь, как льдины, Сплошным половодьем пошли облака. В цветенье и росте вставало Поречье, В лугах кочевал Нарастающий гам, Навстречу работе и солнцу навстречу Черлакский совхоз высыпал к берегам. Недаром, повисший пустынно и утло, Здесь месяц с серьгою казацкою схож. Мария! Я вижу: Ты в раннее утро С поднявшейся улицей вместе плывешь. Ты выросла здесь и налажена крепко. Ты крепко проверена. Я узнаю Твой рыжий бушлат И ушатую кепку, Прямую, как ветер, походку твою. Ты славно прошла сквозь крещенье железом, Огнем и работой. Пусть нежен и тих, Твой голос не стих Под кулацким обрезом, Под самым высоким заданьем не стих. В засыпанной снегом кержацкой деревне Враг стлался, И поднимался, И мстил. В придушенной злобе, Тяжелый и древний, Он вел на тебя наступление вил. Беспутные зимы и весны сырые Топтались в безвыходных очередях, Но ты пронесла их с улыбкой, Мария, На крепких своих, на мужицких плечах. Но ты пронесла их, Мария. И снова, Не веря пробившейся седине, Работу стремительную и слово Отдать, не задумываясь, готова Под солнцем индустрии вставшей стране. Гляди ж, горизонт перевернутый сдвинув, Снегами сияя издалека, На крыши домов Натыкаясь, как льдины, Сплошным половодьем идут облака И солнце. Гудков переветренный голос, Совхоза поля — за развалами верб. Здесь просится каждый набухнувший колос В социалистический герб. За длинные зимы, за весны сырые, За солнце, добытое В долгом бою, Позволь на рассвете, товарищ Мария, Приветствовать песней работу твою.Павлодар
Сердечный мой, Мне говор твой знаком. Я о тебе припомнил, как о брате, Вспоенный полносочным молоком Твоих коров, мычащих на закате. Я вижу их, — они идут, пыля, Склонив рога, раскачивая вымя. И кланяются низко тополя, Калитки раскрывая перед ними. И улицы! Все в листьях, все в пыли, Прислушайся, припомни — не вчера ли По Троицкой мы с песнями прошли И в прятки на Потанинской играли? Не здесь ли, раздвигая камыши, Почуяв одичавшую свободу, Ныряли, как тяжелые ковши, Рябые утки в утреннюю воду? Так ветренен был облак надо мной, И дни летели, ветренные сами. Играло детство с легкою волной, Вперясь в нее пытливыми глазами. Я вырос парнем с медью в волосах. И вот настало время для элегий: Я уезжал. И прыгали в овсах Костистые и хриплые телеги. Да, мне тогда хотелось сгоряча (Я по-другому жить И думать мог ли?), Чтоб жерди разлетались, грохоча, Колеса — в кат, и лошади издохли! И вот я вновь Нашел в тебе приют, Мой Павлодар, мой город ястребиный. Зажмурь глаза — по сердцу пробегут Июльский гул и лепет сентябриный, Амбары, палисадник, старый дом В черемухе, Приречных ветров шалость, — Как ни стараюсь высмотреть — кругом Как будто все по-прежнему осталось. Цветет герань В расхлопнутом окне, И даль маячит старой колокольней, Но не дает остановиться мне Пшеницын Юрий, мой товарищ школьный. Мы вызубрили дружбу с ним давно, Мы спаяны большим воспоминаньем, Похожим на безумье и вино… Мы думать никогда не перестанем, Что лучшая Давно прошла пора, Когда собаку мы с ним чли за тигра, Ведя вдвоем средь скотного двора Веселые охотницкие игры. Что прошлое! Его уж нет в живых. Мы возмужали, выросли под бурей Гражданских войн. Пусть этот вечер тих, — Строительство окраин городских Мне с важностью Показывает Юрий. Он говорит: «Внимательней взгляни, Иная жизнь грохочет перед нами, Ведь раньше здесь Лишь мельницы одни Махали деревянными руками. Но мельники все прокляли завод, Советское, антихристово чудо, Через неделю первых в этот год Стальных коней Мы выпустим отсюда!» …С лугов приречных! Льется ветер звеня, И в сердце вновь Чувств песенная замять… А, это теплой Мордою коня Меня опять В плечо толкает память! Так для нее я приготовил кнут — Хлещи ее по морде домоседской, По отроческой, юношеской, детской! Бей, бей ее, как непокорных бьют! Пусть взорван шорох прежней тишины И далеки приятельские лица, — С промышленными нуждами страны Поэзия должна теперь сдружиться. И я смотрю, Как в пламени зари, Под облачною высотою, Полынные родные пустыри Завод одел железною листвою.Песня («В черном небе волчья проседь…»)
В черном небе волчья проседь, И пошел буран в бега, Будто кто с размаху косит И в стога гребет снега. На косых путях мороза Ни огней, ни дыму нет, Только там, где шла береза, Остывает тонкий след. Шла береза льда напиться, Гнула белое плечо. У тебя ж огонь еще: И темном золоте светлица, Синий свет в сенях толпится, Дышат шубы горячо. Отвори пошире двери, Синий свет впусти к себе, Чтобы он павлиньи перья Расстелил по всей избе. Чтобы был тот свет угарен, Чтоб в окно, скуласт и смел, В иглах сосен вместо стрел, Волчий месяц, как татарин, Губы вытянув, смотрел. Сквозь казацкое ненастье Я брожу в твоих местах. Почему постель в цветах Белый лебедь в головах? Почему ты снишься, Настя, В лентах, в серьгах, в кружевах? Неужель пропащей ночью Ждешь, что снова у ворот Потихоньку захохочут Бубенцы и конь заржет? Ты свои глаза открой-ка — Друга видишь неужель? Заворачивает тройки От твоих ворот метель. Ты спознай, что твой соколик Сбился где-нибудь в пути. Не ему во тьме собольей Губы теплые найти! Не ему по вехам старым Отыскать заветный путь, В хуторах под Павлодаром Колдовским дышать угаром И в твоих глазах тонуть!Повествование о реке Кульдже
Мы никогда не состаримся, никогда, Мы молоды, как один. О, как весела, молода вода, Толпящаяся у плотин! Мы никогда Не состаримся, Никогда — Мы молоды до седин. Над этой страной, Над зарею встань И взглядом пересеки Песчаный шелк — дорогую ткань. Сколько веков седел Тянь-Шань И сколько веков пески? Грохочут кибитки в седой пыли. Куда ты ни кинешь взор — Бычьим стадом камни легли У синей стужи озер. В песке и камне деревья растут, Их листья острей ножа. И, может быть, тысячу весен тут Томилась река Кульджа. В ее глубине сияла гроза И, выкипев добела, То рыжим закатом пела в глаза, То яблонями цвела. И голову каждой своей волны Мозжила о ребра скал. И, рдея из выстуженной глубины, Летел ледяной обвал. Когда ж на заре Табуны коней, Копыта в багульник врыв, Трубили, Кульджа рядилась сильней, Как будто бы Азия вся на ней Стелила свои ковры. Но пороховой Девятнадцатый год, Он был суров, огнелиц! Из батарей тяжелый полет Тяжелокрылых птиц! Тогда Кульджи багровела зыбь, Глотала свинец она. И в камышах трехдюймовая выпь Протяжно пела: «В-в-ой-на!» Был прогнан в пустыню шакал и волк. И здесь сквозь песчаный шелк Шел Пятой армии пятый полк И двадцать четвертый полк. Страны тянь-шаньской каменный сад От крови И от знамен алел. Пятнадцать месяцев в нем подряд Октябрьский ветер гудел. Он шел с штыками наперевес Дорогою Аю-Кеш, Он рвался чрез рукопожатия и чрез Тревожный шепот депеш. Он падал, расстрелян, у наших ног В колючий ржавый бурьян, Он нес махорки синий дымок И запевал «Шарабан». Походная кухня его, дребезжа, Валилась в приречный ил. Ты помнишь его дыханье, Кульджа, И тех, кто его творил? По-разному убегали года. Верблюды — видела ты? — Вдруг перекидывались в поезда И, грохоча, летели туда, Где перекидывались мосты. Затем здесь С штыками наперевес Шли люди, валясь в траву, Чтоб снова ты чудо из всех чудес Увидела наяву. Вновь прогнан в пустыню Шакал и волк. Песков разрывая шелк, Пришел и пятый стрелковый полк, И двадцать четвертый полк. Удары штыка и кирки удар Не равны ль? По пояс гол, Ими Руководит комиссар, Который тогда их вел. И ты узнаешь, Кульджа: «Они!» Ты всплескиваешь в ладоши, и тут Они разжигают кругом огни, Смеются, песни поют. И ты узнаешь, Кульджа, — вон тот, Руками взмахнув, упал, И ты узнаешь Девятнадцатый год И лучших его запевал! И ты узнаешь Девятнадцатый год! Высоким солнцем нагрет, Недаром Октябрьский ветер гудит, Рокочет пятнадцать лет. Над этой страной, Над зарею встань И взглядом пересеки Песчаный шелк, дорогую ткань. Сколько веков седел Тянь-Шань И сколько веков пески? Но не остынет слово мое, И кирок не смолкнет звон. Вздымается дамб крутое литье, И взята Кульджа в бетон. Мы никогда не состаримся, никогда Мы молоды до седин. О, как весела, молода вода, Толпящаяся у плотин! Волна — острей стального ножа — Форелью плещет у дамб — Второю молодостью Кульджа Грохочет по проводам. В ауле Тыс огневее лис Огни и огни видны, Сияет в лампах аула Тыс Гроза ее глубины.Сердце
Мне нравится деревьев стать, Июльских листьев злая пена. Весь мир в них тонет по колено. В них нашу молодость и стать Мы узнавали постепенно. Мы узнавали постепенно, И чувствовали мы опять, Что тяжко зеленью дышать, Что сердце, падкое к изменам, Не хочет больше изменять. Ах, сердце человечье, ты ли Моей доверилось руке? Тебя как клоуна учили, Как попугая на шестке. Тебя учили так и этак, Забывши радости твои, Чтоб в костяных трущобах клеток Ты лживо пело о любви. Сгибалась человечья выя, И стороною шла гроза. Друг другу лгали площадные Чистосердечные глаза. Но я смотрел на все без страха, — Я знал, что в дебрях темноты О кости черствые с размаху Припадками дробилось ты. Я знал, что синий мир не страшен, Я сладостно мечтал о дне, Когда не по твоей вине С тобой глаза и души наши Останутся наедине. Тогда в согласье с целым светом Ты будешь лучше и нежней, Вот почему я в мире этом Без памяти люблю людей! Вот почему в рассветах алых Я чтил учителей твоих И смело в губы целовал их, Не замечая злобы их! Я утром встал, я слышал пенье Веселых девушек вдали, Я видел — в золотой пыли У юношей глаза цвели И снова закрывались тенью. Не скрыть мне то, что в черном дыме Бежали юноши. Сквозь дым! И песни пели. И другим Сулили смерть. И в черном дыме Рубили саблями слепыми Глаза фиалковые им. Мело пороховой порошей, Большая жатва собрана. Я счастлив, сердце, — допьяна, Что мы живем в стране хорошей, Где зреет труд, а не война. Война! Она готова сворой Рвануться на страны жилье. Вот слово верное мое: Будь проклят тот певец, который Поднялся прославлять ее! Мир тяжким ожиданьем связан. Но если пушек табуны Придут топтать поля страны — Пусть будут те истреблены, Кто поджигает волчьим глазом Пороховую тьму войны. Я призываю вас — пора нам, Пора, я повторяю, нам Считать успехи не по ранам — По веснам, небу и цветам. Родятся дети постепенно В прибое. В них иная стать, И нам нельзя позабывать, Что сердце, падкое к изменам, Не может больше изменять. Я вглядываюсь в мир без страха, Недаром в нем растут цветы. Готовое пойти на плаху, О кости черствые с размаху Бьет сердце — пленник темноты.Расставание
Ты уходила, русская! Неверно! Ты навсегда уходишь? Навсегда! Ты проходила медленно и мерно К семье, наверно, к милому, наверно, К своей заре, неведомо куда… У пенных волн, на дальней переправе, Все разрешив, дороги разошлись, — Ты уходила в рыжине и славе, Будь проклята — я возвратить не в праве, Будь проклята или назад вернись! Конь от такой обиды отступает, Ему рыдать мешают удила, Он ждет, что в гриве лента запылает, Которую на память ты вплела. Что делать мне, как поступить? Не знаю! Великая над степью тишина. Да, тихо так, что даже тень косая От коршуна скользящего слышна. Он мне сосед единственный… Не верю! Убить его? Но он не виноват, — Достанет пуля кровь его и перья, Твоих волос не возвратив назад. Убить себя? Все разрешить сомненья? Раз! Дуло в рот. Два — кончен! Но, убив, Добуду я себе успокоенье, Твоих ладоней все ж не возвратив. Силен я, крепок, — проклята будь сила! Я прям в седле, — будь проклято седло! Я знаю, что с собой ты уносила И что тебя отсюда увело. Но отопрись, попробуй, попытай-ка, Я за тебя сгораю от стыда: Ты пахнешь, как казацкая нагайка, Как меж племен раздоры и вражда. Ты оттого на запад повернула, Подставила другому ветру грудь… Но я бы стер глаза свои и скулы Лишь для того, чтобы тебя вернуть! О, я гордец! Я думал, что средь многих Один стою. Что превосходен был, Когда быков мордастых, круторогих На праздниках с копыт долой валил. Тогда свое показывал старанье Средь превращенных в недругов друзей, На скачущих набегах козлодранья К ногам старейшин сбрасывал трофей. О, я гордец! В письме набивший руку, Слагавший устно песни о любви, Я не постиг прекрасную науку, Как возвратить объятия твои. Я слышал жеребцов горячих ржанье И кобылиц. Я различал ясней Их глупый пыл любовного страданья, Не слыша, как сулили расставанье Мне крики отлетавших журавлей. Их узкий клин меж нами вбит навеки, Они теперь мне кажутся судьбой… Я жалуюсь, я закрываю веки… Мухан, Мухан, что сделалось с тобой! Да, ты была сходна с любви напевом, Вся нараспев, стройна и высока, Я помню жилку тонкую на левом Виске твоем, сияющим нагревом, И перестук у правого виска. Кольцо твое, надетое на палец, В нем, золотом, мир выгорал дотла, — Скажи мне, чьи на нем изображались Веселые, сплетенные тела? Я помню все! Я вспоминать не в силе! Одним воспоминанием живу! Твои глаза немножечко косили, — Нет, нет! — меня косили, как траву. На сердце снег… Родное мне селенье, Остановлюсь пред рубежом твоим. Как примешь ты Мухана возвращенье? Мне сердце съест твой одинокий дым. Вот девушка с водою пробежала. «День добрый», — говорит. Она права, Но я не знал, что обретают жало И ласковые дружества слова. Вот секретарь аульного совета, — Он мудр, украшен орденом и стар, Он тоже песни сочиняет: «Где ты Так долго задержался, джалдастар?» И вдруг меня в упор остановило Над юртой знамя красное… И ты… Какая мощь в развернутом и сила, И сколько в нем могучей красоты! Под ним мы добывали жизнь и славу И, в пулеметный вслушиваясь стук, По палачам стреляли. И по праву Оно умней и крепче наших рук. И как я смел сердечную заботу Поставить рядом со страной своей? Довольно ныть. Пора мне на работу, — Что ж, секретарь, заседлывай коней. Мир старый жив. Еще не все сравнялось. Что нового? Вновь строит козни бий? Заседлывай коней, забудь про жалость — Во имя счастья, песни и любви.«Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе…»
Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе, Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье, Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями, как розы, И быков, у которых вздыхают острые ребра. Веки тяжелые каменных женщин не дают мне покоя, Губы у женщин тех молчаливы, задумчивы и ничего не расскажут, Дай мне больше недуга этого, жизнь, — я не хочу утоленья, Жажды мне дай и уменья в искусной этой работе. Вот я вижу, лежит молодая, в длинных одеждах, опершись на локоть, — Ваятель теплого, ясного сна вкруг нее пол-аршина оставил, Мальчик над ней наклоняется, чуть улыбаясь, крылатый… Дай мне, жизнь, усыплять их так крепко — каменных женщин.«Не добраться к тебе! На чужом берегу…»
Не добраться к тебе! На чужом берегу Я останусь один, чтобы песня окрепла, Все равно в этом гиблом, пропащем снегу Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом. Я над теплой губой обозначу пушок, Горсти снега в прическе оставлю — и все же Ты похожею будешь на дальний дымок, На старинные песни, на счастье похожа! Но вернуть я тебя ни за что не хочу, Потому что подвластен дремучему краю, Мне другие забавы и сны по плечу, Я на Север дорогу себе выбираю! Деревянная щука, карась жестяной И резное окно в ожерелье стерляжьем, Царство рыбы и птицы! Ты будешь со мной! Мы любви не споем и признаний не скажем. Звонким пухом и синим огнем селезней, Чешуей, чешуей обрастай по колено, Чтоб глазок петушиный казался красней И над рыбьими перьями ширилась пена. Позабыть до того, чтобы голос грудной, Твой любимейший голос — не доносило, Чтоб огнями, и тьмою, и рыжей волной Позади, за кормой убегала Россия.«Сначала пробежал осинник…»
Сначала пробежал осинник, Потом дубы прошли, потом, Закутавшись в овчинах синих, С размаху в бубны грянул гром. Плясал огонь в глазах саженных, А тучи стали на привал, И дождь на травах обожженных Копытами затанцевал. Стал странен под раскрытым небом Деревьев пригнутый разбег, И все равно как будто не был, И если был — под этим небом С землей сравнялся человек.«Я завидовал зверю в лесной норе…»
Я завидовал зверю в лесной норе, Я завидовал птицам, летящим в ряд: Чуять шерстью врага, иль, плескаясь в заре, Улетать и кричать, что вернешься назад!«Вся ситцевая, летняя приснись…»
Вся ситцевая, летняя приснись, Твое позабываемое имя Отыщется одно между другими. Таится в нем немеркнущая жизнь: Тень ветра в поле, запахи листвы, Предутренняя свежесть побережий, Предзорный отсвет, медленный и свежий, И долгий посвист птичьей тетивы, И темный хмель волос твоих еще. Глаза в дыму. И, если сон приснится, Я поцелую тяжкие ресницы, Как голубь пьет — легко и горячо. И, может быть, покажется мне снова, Что ты опять ко мне попалась в плен. И, как тогда, все будет бестолково — Веселый зной загара золотого, Пушок у губ и юбка до колен.К портрету
Рыжий волос, весь перевитой, Пестрые глаза и юбок ситцы, Красный волос, наскоро литой, Юбок ситцы и глаза волчицы. Ты сейчас уйдешь. Огни, огни! Снег летит. Ты возвратишься, Анна. Ну, хотя бы гребень оброни, Шаль забудь на креслах, хоть взгляни Перед расставанием обманно!«Я тебя, моя забава…»
Я тебя, моя забава, Полюбил, — не прекословь. У меня — дурная слава, У тебя — дурная кровь. Медь в моих кудрях и пепел, Ты черна, черна, черна. Я еще ни разу не пил Глаз таких, глухих до дна, Не встречал нигде такого Полнолунного огня. Там, у берега родного, Ждет меня моя родня: На болотной кочке филин, Три совенка, две сестры, Конь — горячим ветром взмылен, На кукане осетры, Яблоневый день со смехом, Разрумяненный, и брат, И в подбитой лисьим мехом Красной шапке конокрад. Край мой ветренен и светел. Может быть, желаешь ты Над собой услышать ветер Ярости и простоты? Берегись, ведь ты не дома И не в дружеском кругу. Тропы все мне здесь знакомы: Заведу и убегу. Есть в округе непутевой Свой обман и свой обвес. Только здесь затейник новый — Не ручной ученый бес. Не ясны ль мои побудки? Есть ли толк в моей родне? Вся округа дует в дудки, Помогает в ловле мне.«Дорогая, я к тебе приходил…»
Дорогая, я к тебе приходил, Губы твои запрокидывал, долго пил. Что я знал и слышал? Слышал — ключ, Знал, что волос твой черен и шипуч. От дверей твоих потеряны все ключи, Губы твои прощальные горячи. Красными цветами вопит твой ковер О том, что я был здесь ночью, вор, О том, что я унес отсюда тепло… Как меня, дорогая, в дороге жгло! Как мне припомнилось твое вино, Как мне привиделось твое окно! Снова я, дорогая, к тебе приходил, Губы твои запрокидывал, долго пил.Прогулка
Зашатались деревья. Им сытая осень дала По стаканчику водки и за бесценок Их одежду скупила. Пакгауз осенний! Где дубленые шубы листвы и стволы На картонной подметке, и красный околыш Набок сбитой фуражки, и лохмы папах, Деревянные седла и ржавые пики. Да, похоже на то, что, окончив войну, Здесь полки оставляли свое снаряженье, И кровавую марлю, и боевые знамена, И разбитые пушки! А, ворон, упал! Не взорвать тишины. Проходи по хрустящим дорожкам, Пей печальнейший, сладостный воздух поры Расставания с летом. Как вянет трава — Бойся тронуть плакучую медь тишины. Сколько мертвого света и теплых дыханий живет В этом сборище листьев и прелых рогатин! Вот пахнуло зверинцем. Мальчишка навстречу бежит…«Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю…»
Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю, В какой стране и при луне какой, Веселая, забытая, родная, Звучала ты, как песня за рекой. Мед вечеров — он горестней отравы, Глаза твои — в них пролетает дым, Что бабы в церкви — кланяются травы Перед тобой поклоном поясным. Не мной ли на слова твои простые Отыскан будет отзвук дорогой? Как в сказках наших, в воды колдовские Ныряет гусь за золотой серьгой. Мой голос чист, он по тебе томится И для тебя откидывает высь. Взмахни руками, обернись синицей И щучьим повелением явись!«Я сегодня спокоен…»
Я сегодня спокоен, ты меня не тревожь, Легким, веселым шагом ходит по саду дождь, Он обрывает листья в горницах сентября. Ветер за синим морем, и далеко заря. Надо забыть о том, что нам с тобой тяжело, Надо услышать птичье вздрогнувшее крыло, Надо зари дождаться, ночь одну переждать, Фет еще не проснулся, не пробудилась мать. Легким, веселым шагом ходит по саду дождь, Утренняя по телу перебегает дрожь, Утренняя прохлада плещется у ресниц, Вот оно утро — шепот сердца и стоны птиц.«Какой ты стала позабытой, строгой…»
Какой ты стала позабытой, строгой И позабывшей обо мне навек. Не смейся же! И рук моих не трогай! Не шли мне взглядов длинных из-под век. Не шли вестей! Неужто ты иная? Я знаю всю, я проклял всю тебя. Далекая, проклятая, родная, Люби меня хотя бы не любя!Любимой
Елене Слава богу, Я пока собственность имею: Квартиру, ботинки, Горсть табака. Я пока владею Рукою твоею, Любовью твоей Владею пока. И пускай попробует Покуситься На тебя Мой недруг, друг Иль сосед, — Легче ему выкрасть Волчат у волчицы, Чем тебя у меня, Мой свет, мой свет! Ты — мое имущество, Мое поместье, Здесь я рассадил Свои тополя. Крепче всех затворов И жестче жести Кровью обозначено: «Она — моя». Жизнь моя виною, Сердце виною, В нем пока ведется Все, как раньше велось, И пускай попробуют Идти войною На светлую тень Твоих волос! Я еще нигде Никому не говорил, Что расстаюсь С проклятым правом Пить одному Из последних сил Губ твоих Беспамятство И отраву. Спи, я рядом, Собственная, живая, Даже во сне мне Не прекословь. Собственности крылом Тебя прикрывая, Я оберегаю нашу любовь. А завтра, Когда рассвет в награду Даст огня И еще огня, Мы встанем, Скованные, грешные, Рядом — И пусть он сожжет Тебя И сожжет меня.Каменотес
Пора мне бросить труд неблагодарный… В тростинку дуть и ударять по струнам; Скудельное мне тяжко ремесло. Не вызовусь увеселять народ! Народ равнинный пестовал меня Для краснобайства, голубиных гульбищ, Сзывать дожди и прославлять зерно. Я вспоминаю отческие пашни, Луну в озерах и цветы на юбках У наших женщин, первого коня, Которого я разукрасил в мыло. Он яблоки катал под красной кожей, Свирепый ржал, откапывал клубы Песка и ветра. А меня учили Беспутный хмель, ременная коса, Сплетенная отцовскими руками. И гармонист, перекрутив рукав, С рязанской птахой пестрою в ладонях Пошатывался, гибнул на ладах, Летел верхом на бочке, пьяным падал И просыпался с милою в овсах!.. Пора мне бросить труд неблагодарный… Я, полоненный, схваченный, мальчишкой Стал здесь учен и к камню привыкал. Барышникам я приносил удачу. Здесь горожанки эти узкогруды, Им нравится, что я скуласт и желт. В тростинку дуть и ударять по струнам? Скудельное мне тяжко ремесло. Нет, я окреп, чтоб стать каменотесом, Искусником и мастером вдвойне. Еще хочу я превзойти себя, Чтоб в камне снова просыпались души, Которые кричали в нем тогда, Когда я был и свеж и простодушен. Теперь, увы, я падок до хвалы, Сам у себя я молодость ворую. Дареная, она бы возвратилась, Но проданная — нет! Я получу Барыш презренный — это ли награда? Скудельное мне тяжко ремесло. Заброшу скоро труд неблагодарный — Опаснейший я выберу, и пусть Погибну незаконно — за работой. И, может быть, я берег отыщу, Где привыкал к веселью и разгулу, Где первый раз увидел облака. Тогда сурово я, каменотес, Отцу могильный вытешу подарок: Коня, копытом вставшего на бочку, С могучей шеей, глазом наливным. Но кто владеет этою рукой, Кто приказал мне жизнь увековечить Прекраснейшую, выспренную, мной Не виданной, наверно, никогда? Ты тяжела, судьба каменотеса.Анастасия
Почему ты снишься, Настя,
В лентах, серьгах, в кружевах?
(Из старого стихотворения)1
Не смущайся месяцем раскосым, Пусть глядит через оконный лед. Ты надень ботинки с острым носом, Шаль, которая тебе идет. Шаль твоя с тяжелыми кистями — Злая кашемирская княжна, Вытканная вялыми шелками, Убранная черными цветами, — В ней ты засидишься дотемна. Нелегко наедине с судьбою. Ты молчишь. Закрыта крепко дверь. Но о чем нам горевать с тобою? И о чем припоминать теперь? Не были богатыми, покаюсь, Жизнь моя и молодость твоя. Мы с тобою свалены покамест В короба земного бытия. Позади пустынное пространство, Тыщи верст — все звезды да трава. Как твое тяжелое убранство, Я сберег поверья и слова. Раздарить налево и направо? Сбросить перья эти? Может быть, Ты сама придумаешь, забава, Как теперь их в дело обратить? Никогда и ни с каким прибасом Наши песни не ходили вспять, — Не хочу резным иконостасом По кулацким горницам стоять! Нелегко наедине с судьбою. Ты молчишь. Закрыта крепко дверь. Но о чем нам горевать с тобою? И о чем припоминать теперь? Наши деды с вилами дружили, Наши бабки черный плат носили, Ладили с овчинами отцы. Что мы помним? Разговор сорочий, Легкие при новолунье ночи, Тяжкие лампады, бубенцы… Что нам светит? Половодье разве, Пена листьев диких и гроза, Пьяного попа благообразье, В золоченых ризах образа? Или свет лукавый глаз кошачьих, Иль пожатье дружеской руки, Иль страна, где хохоча и плача, Скудные, скупые, наудачу Вьюга разметала огоньки?2
Не смущаясь месяцем раскосым, Смотришь ты далёко, далекó… На тебе ботинки с острым носом, Те, которым век не будет сноса, Шаль и серьги, вдетые в ушко. С темными, спокойными бровями, Ты стройна, улыбчива, бела, И недаром белыми руками Ты мне крепко шею обняла. В девку переряженное Лихо, Ты не будешь спорить невпопад — Под локоть возьмешь меня и тихо За собою поведешь назад. Я нарочно взглядываю мимо, — Я боюсь постичь твои черты! Вдруг услышу отзвук нелюдимый, Голос тихий, голос[10] твой родимый — Я страшусь, чтоб не запела ты! Потому что в памяти, как прежде, Ночи звездны, шали тяжелы, Тих туман, и сбивчивы надежды Убежать от этой кабалы. И напрасно, обратясь к тебе[11], я Все отдать, все вымолить готов, — Смотришь, лоб нахмуря и робея И моих не понимая слов. И бежит в глазах твоих Россия, Прадедов беспутная страна. Настя, Настенька, Анастасия, Почему душа твоя темна?3
Лучше было б пригубить затяжку Той махры, которой больше нет, Пленному красногвардейцу вслед! Выстоять и умереть не тяжко За страну мечтаний и побед. Ведь пока мы ссоримся и ладим, Громко прославляя тишь и гладь, Счастья ради, будущего ради Выйдут завтра люди умирать. И, гремя в пространствах огрубелых, Мимо твоего идут крыльца Ветры, те, которым нет предела, Ветры те, которым нет конца! Вслушайся. Полки текут, и вроде Трубная твой голос глушит медь, Неужели при такой погоде Грызть орехи, на печи сидеть? Наши имена припоминая, Нас забудут в новых временах… Но молчишь ты… Девка расписная, Дура в лентах, серьгах и шелках!Иртыш
Камыш высок, осока высока, Тоской набух тугой сосок волчицы, Слетает птица с дикого песка, Крылами бьет и на волну садится. Река просторной родины моей, Просторная, Иди под непогодой, Теки, Иртыш, выплескивай язей — Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый. Светла твоя подводная гроза, Быстры волны шатучие качели, И в глубине раскрытые глаза У плавуна, как звезды, порыжели. И в погребах песчаных в глубине, С косой до пят, румяными устами, У сундуков незапертых на дне Лежат красавки с щучьими хвостами. Сверкни, Иртыш, их перстнем золотым! Сон не идет, заботы их не точат, Течением относит груди им И раки пальцы нежные щекочут. Маши турецкой кистью камыша, Теки, Иртыш! Любуюсь, не дыша, Одним тобой, красавец остроскулый. Оставив целым меду полковша, Роскошествуя, лето потонуло. Мы встретились. Я чалки не отдам, Я сердца вновь вручу тебе удары… По гребням пенистым, по лебедям Ударили колеса «Товар-пара». Он шел, одетый в золото и медь, Грудастый шел. Наряженные в ситцы, Ладонь к бровям, сбегались поглядеть Досужие приречные станицы. Как медлит он, теченье поборов, Покачиваясь на волнах дородных… Над неоглядной далью островов Приветственный погуливает рев — Бродячий сын компаний пароходных. Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб, Ссыпайте соль, которою богаты. Мне б горсть большого урожая, мне б Большой воды грудные перекаты. Я б с милой тоже повстречаться рад — Вновь распознать, забытые в разлуке, Из-под ресниц позолоченный взгляд, Ее волос могучий перекат И зноем зацелованные руки. Чтоб про других шепнула: «Не вини…» Чтоб губ от губ моих не отрывала, Чтоб свадебные горькие огни Ночь на баржах печально зажигала. Чтобы Иртыш, меж рек других скиталец, Смыл тяжкий груз накопленной вины, Чтоб вместо слез на лицах оставались Лишь яростные брызги от волны!Другу-поэту
Здравствуй в расставанье, брат Василий! Август в нашу честь золотобров, В нашу честь травы здесь накосили, В нашу честь просторно настелили Золотых с разводами ковров. Наши песни нынче подобрели — Им и кров, и прибасень готов. Что же ты, Василий, в самом деле Замолчал в расцвет своих годов? Мало сотоварищей мне, мало, На ладах, вишь, не хватает струн. Али тебе воздуху не стало, Золотой башкирский говорун? Али тебя ранняя перина Исколола стрелами пера? Как здоровье дочери и сына, Как живет жена Екатерина, Князя песни русская сестра? Знаю, что живешь ты небогато, Мой башкирец русский, но могли Пировать мы все-таки когда-то — Высоко над грохотом Арбата, В зелени московской и пыли! По наследству перешло богатство Древних песен, сон и бубенцы, Звон частушек, что в сенях толпятся… Будем же, Василий, похваляться, Захмелев наследством тем, певцы. Ну-ка спой, Василий, друг сердечный, Разожги мне на сердце костры. Мы народ не робкий и нездешний, По степям далеким безутешный, Мы, башкиры, скулами остры. Как волна, бывалая прибаска Жемчугами выстелит пути — Справа ходит быль, а слева — сказка, Сами знаем, где теперь идти. Нам пути веселые найдутся, Не резон нам отвращаться их, Здесь, в краю берез и революций, В облаках, в знаменах боевых!Стихи в честь Натальи
В наши окна, щурясь, смотрит лето, Только жалко — занавесок нету, Ветреных, веселых, кружевных. Как бы они весело летали В окнах приоткрытых у Натальи, В окнах не затворенных твоих! И еще прошеньем прибалую — Сшей ты, ради бога, продувную Кофту с рукавом по локоток, Чтобы твое яростное тело С ядрами грудей позолотело, Чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток, От бровей широких и сердитых До ступни, до ноготков люблю. За ночь обескрылевшие плечи, Взор, и рассудительные речи, И походку важную твою. А улыбка — ведь какая малость! — Но хочу, чтоб вечно улыбалась — До чего тогда ты хороша! До чего доступна, недотрога, Губ углы приподняты немного: Вот где помещается душа. Прогуляться ль, выйдешь, дорогая, Все в тебе ценя и прославляя, Смотрит долго умный наш народ, Называет «прелестью» и «павой» И шумит вослед за величавой: «По стране красавица идет». Так идет, что ветви зеленеют, Так идет, что соловьи чумеют, Так идет, что облака стоят. Так идет, пшеничная от света, Больше всех любовью разогрета, В солнце вся от макушки до пят. Так идет, земли едва касаясь, И дают дорогу, расступаясь, Шлюхи из фокстротных табунов, У которых кудлы пахнут псиной, Бедра крыты кожею гусиной, На ногах мозоли от обнов. Лето пьет в глазах ее из брашен, Нам пока Вертинский ваш не страшен — Чертова рогулька, волчья сыть. Мы еще Некрасова знавали, Мы еще «Калинушку» певали, Мы еще не начинали жить. И в июне в первые недели По стране веселое веселье, И стране нет дела до трухи. Слышишь, звон прекрасный возникает? Это петь невеста начинает, Пробуют гитары женихи. А гитары под вечер речисты, Чем не парни наши трактористы? Мыты, бриты, кепки набекрень. Слава, слава счастью, жизни слава. Ты кольцо из рук моих, забава, Вместо обручального одень. Восславляю светлую Наталью, Славлю жизнь с улыбкой и печалью, Убегаю от сомнений прочь, Славлю все цветы на одеяле, Долгий стон, короткий сон Натальи, Восславляю свадебную ночь.Горожанка
Горожанка, маков цвет Наталья, Я в тебя, прекрасная, влюблен. Ты не бойся, чтоб нас увидали, Ты отвесь знакомым на вокзале Пригородном вежливый поклон. Пусть смекнут про остальное сами. Нечего скрывать тебе — почто ж! — С кем теперь гуляешь вечерами, Рядом с кем московскими садами На высоких каблуках идешь. Ну и юбки! До чего летучи! Ситцевый буран свиреп и лют… Высоко над нами реют тучи, В распрях грома, в молниях могучих, В чревах душных дождь они несут. И, темня у тополей вершины, На передней туче, вижу я, Восседает, засучив штанины, Свесив ноги босые, Илья. Ты смеешься, бороду пророка Ветром и весельем теребя… Ты в Илью не веришь? Ты жестока! Эту прелесть водяного тока Я сравню с чем хочешь для тебя. Мы с тобою в городе как дома. Дождь идет. Смеешься ты. Я рад. Смех знаком, и улица знакома, Грузные витрины Моссельпрома, Как столы на пиршестве стоят. Голову закинув, смейся! В смехе, В громе струй, в ветвях затрепетав, Вижу город твой, его утехи, В небеса закинутые вехи Неудач, побед его и слав. Из стекла и камня вижу стены, Парками теснясь, идет народ. Вслед смеюсь и славлю вдохновенно Ход подземный метрополитена И высоких бомбовозов ход. Дождь идет. Недолгий, крупный, ранний. Благодать! Противиться нет сил! Вот он вырос, город всех мечтаний, Вот он встал, ребенок всех восстаний, — Сердце навсегда мое прельстил! Ощущаю плоть его большую, Ощущаю эти этажи, — Как же я, Наталья, расскажи, Как же, расскажи мой друг, прошу я, Раньше мог не верить в чертежи? Дай мне руку. Ты ль не знаменита В песне этой? Дай в глаза взглянуть. Мы с тобой идем. Не лыком шиты — Горожане, а не кто-нибудь.Послание к Наталии
Струей грохочущей, привольной Течет кумыс из бурдюка. Я проживаю здесь довольный, Мой друг, и счастливый пока. Судьбы свинчаткою не сбитый, Столичный гость и рыболов, Вдыхаю воздух знаменитый Крутых иртышских берегов. На скулах свет от радуг красных, У самых скул шумит трава — Я понимаю, сколь прекрасны Твои, Наталия, слова. Ты, если вспомнить, говорила, Что время сердцу отдых дать, Чтобы моя крутая сила Твоей красе была под стать. Вот почему под небом низким Пью в честь широких глаз твоих Кумыс из чашек круговых В краю родимом и киргизском, На кошмах сидя расписных! Блестит трава на крутоярах… В кустах гармони! Не боюсь! В кругу былин, собак поджарых, В кругу быков и песен старых Я щурюсь, зрячий, и смеюсь. И лишь твои припомню губы, Под кожей яблоновый сок — Мир станет весел и легок: Так грудь целует после шубы Московский майский ветерок. Пусть яростней ревут гармони, Пусть над обрывом пляшут кони, Пусть в сотах пьяных зреет мед, Пусть шелк у парня на рубахе Горит, и молкнет у девахи Закрытый поцелуем рот. Чтоб лета дальние трущобы Любови посетила власть, Чтоб ты, мне верная до гроба, Моя медынь, моя зазноба, Над миром песней поднялась. Чтобы людей полмиллиона Смотрело головы задрав, Над морем слав, над морем трав И подтвердило мне стозвонно, Тебя выслеживая: прав. Я шлю приветы издалека, Я пожеланья шлю… Ну что ж? Будь здорова и краснощека, Ходи стройней, гляди высоко, Как та страна, где ты живешь.«Родительница степь, прими мою…»
Родительница степь, прими мою, Окрашенную сердца жаркой кровью, Степную песнь! Склонившись к изголовью Всех трав твоих, одну тебя пою! К певучему я обращаюсь звуку, Его не потускнеет серебро, Так вкладывай, о степь, в сыновью руку Кривое ястребиное перо.Демьяну Бедному
Твоих стихов простонародный говор Меня сегодня утром разбудил. Мне дорог он, Мне близок он и мил, По совести — я не хочу другого Сегодня слушать… Будто лемеха Передо мной прошли, в упорстве диком Взрывая землю… Сколько струн в великом Мужичьем сердце каждого стиха! Не жидкая скупая позолота, Не баловства кафтанчик продувной, — Строителя огромная работа Развернута сказаньем предо мной. В ней — всюду труд, усилья непрестанны, Сияют буквы, высятся слова. Я вижу, засучивши рукава, Работают на нивах великаны. Блестит венцом Пот на челе творца, Не доблести ль отличье эти росы? Мир поднялся не щелканьем скворца, А славною рукой каменотеса. И скучно нам со стороны глядеть, Как прыгают по веткам пустомели; На улицах твоя гремела медь, Они в скворешнях Для подружек пели. В их приютившем солнечном краю, Завидев толпы, прятались с испугу. Я ясно вижу, мой певец, твою Любимую прекрасную подругу. На целом свете нету ни одной Подобной ей — Ее повсюду знают, Ее зовут Советскою Страной, Страною счастья также называют. Ты ей в хвалу Не пожалеешь слов, Рванутся стаей соловьиной в кличе… Заткнув за пояс все цветы лугов, Огромная проходит Беатриче. Она рождалась под несметный топ Несметных конниц, Под дымком шрапнели, Когда, порубан, падал Перекоп, Когда в бою Демьяна песни пели! Как никому, завидую тебе, Обветрившему песней миллионы, Несущему в победах и борьбе Поэзии багровые знамена!Лирические стихи
1
Весны возвращаются! И снова, На кистях черемухи горя, Губ твоих коснется несурово Красный, окаянный свет былого — Летняя высокая заря. Весны возвращаются! Весенний Сад цветет — В нем правит тишина. Над багровым заревом сирени, На сто верст отбрасывая тени, Пьяно закачается луна — Русая, широкая, косая, Тихой ночи бабья голова… И тогда, Лучом груди касаясь, В сердце мне войдут твои слова. И в густых ресниц твоих границе, Не во сне, Не в песне — наяву Нежною, июньскою зарницей Взгляд твой черно-синий Заискрится, — Дай мне верить в эту синеву! Я клянусь, Что средь ночей мгновенных, Всем метелям пагубным назло, Сохраню я — Молодых, бесценных, Дрогнувших, Как дружба неизменных, Губ твоих июньское тепло!..2
Какая неизвестность взволновала Непрочный воздух, облако души? Тот аромат, Что от меня скрывала? Тот нежный цвет? Ответь мне, поспеши! Почто, с тобой идущий наугад, Я нежностью такою не богат! И расскажи, Открой, какая сила, Какой порой весенней, для кого Взяла б И враз навеки растопила Суровый камень сердца твоего? Почто, в тебя влюбленный наугад, Жестокостью такою не богат! В твои глаза, В их глубину дневную Смотрю — не вижу выше красоты, К тебе самой Теперь тебя ревную — О, почему я не такой, как ты! Я чувствам этим вспыхнувшим не рад, Я — за тобой идущий наугад. Восторгами, любовью и обидой Давно душа моя населена. Возьми ее и с головою выдай, Когда тебе не по душе она. И разберись сама теперь, что в ней — Обида, страсть или любовь сильней!Прощанье с друзьями
Друзья, простите за все — в чем был виноват, Я хотел бы потеплее распрощаться с вами. Ваши руки стаями на меня летят — Сизыми голубицами, соколами, лебедями. Посулила жизнь дороги мне ледяные — С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца. Есть такое хорошее слово — родные, От него и горюется, и плачется, и поется. А я его оттаивал и дышал на него, Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним. Вы обо мне забудьте, — забудьте! Ничего, Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно. Так бывает на свете — то ли зашумит рожь, То ли песню за рекой заслышишь, и верится, Верится, как собаке, а во что — не поймешь, Грустное и тяжелое бьется сердце. Помашите мне платочком за горесть мою, За то, что смеялся, покуль полыни запах… Не растут цветы в том дальнем, суровом краю, Только сосны покачиваются на птичьих лапах. На далеком, милом Севере меня ждут, Обходят дозором высокие ограды, Зажигают огни, избы метут, Собираются гостя дорогого встретить как надо. А как его надо — надо весело: Без песен, без смеха, чтоб ти-хо было, Чтоб только полено в печи потрескивало, А потом бы его полымем надвое разбило. Чтобы затейные начались беседы… Батюшки! Ночи-то в России до чего же темны, Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, — я еду Собирать тяжелые слезы страны. А меня обступят там, качая головами, Подперши в бока, на бородах снег. «Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами, Нет ли нам помилования, человек?» Я же им отвечу всей душой: «Хорошо в стране нашей, — нет ни грязи, ни сырости, До того, ребятушки, хорошо! Дети-то какими крепкими выросли. Ой, и долог путь к человеку, люди, Но страна вся в зелени — по колено травы. Будет вам помилование, люди, будет, Про меня ж, бедового, спойте вы…»«Снегири взлетают красногруды…»
Снегири взлетают красногруды… Скоро ль, скоро ль на беду мою Я увижу волчьи изумруды В нелюдимом северном краю. Будем мы печальны, одиноки, И пахучи, словно дикий мед, Незаметно все приблизит сроки, Седина нам кудри обовьет. Я скажу тогда тебе, подруга: «Дни летят, как по ветру листьё, Хорошо, что мы нашли друг друга, В прежней жизни потерявши всё…»Александр Твардовский
Смоленщина
Жизнью ни голодною, ни сытой, Как другие многие края, Чем еще была ты знаменита, Старая Смоленщина моя? Бросовыми землями пустыми, Непроезжей каторгой дорог, Хуторской столыпинской пустыней, Межами и вдоль и поперек. Помню, в детстве, некий дядя Тихон, Хмурый, враспояску, босиком, — Говорил с безжалостностью тихой: — Запустить бы все… под лес… кругом… Да, земля была, как говорят, Что посеешь, — не вернешь назад… И лежали мхи непроходимые, Золотые залежи тая, Черт тебя возьми, моя родимая, Старая Смоленщина моя!.. Край мой деревянный, шитый лыком, Ты дивишься на свои дела. Слава революции великой Стороной тебя не обошла. Деревушки бывшие и села, Хуторские бывшие края Славны жизнью сытой и веселой, — Новая Смоленщина моя. Хлеб прекрасный на земле родится, На поля твои издалека — С юга к северу идет пшеница, Приучает к булке мужика. Расстоянья сделались короче, Стали ближе дальние места. Грузовик из Рибшева грохочет По настилу нового моста. Еду незабытыми местами, Новые поселки вижу я. Знаешь ли сама, какой ты стала, Родина смоленская моя? Глубоко вдыхаю запах дыма я, Сколько лет прошло? Немного лет… Здравствуй, сторона моя родимая! Дядя Тихон, жив ты или нет?!«Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой…»
Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой, Что не своей заживешь ты судьбой? Сумку да кнут по наследству носил, — Только всего, что родился красив. Двор без ворот да изба без окон, — Только всего, что удался умен. Рваный пиджак, кочедыг да копыл, — Только всего, что ты дорог мне был. Кто ж тебя знал, невеселый ты мой, Что не своей заживешь ты судьбой? Не было писано мне на роду Замуж пойти из нужды да в нужду. Голос мой девичий в доме утих. Вывел меня на крылечко жених. Пыль завилась, зазвенел бубенец, Бабы запели — и жизни конец… Сказано было — иди да живи, — Только всего, что жила без любви. Жизнь прожила у чужого стола, — Только всего, что забыть не могла. Поздно о том говорить, горевать. Батьке бы с маткой заранее знать. Знать бы, что жизнь повернется не так, Знать бы, чем станет пастух да батрак. Вот посидим, помолчим над рекой, Будто мы — парень да девка с тобой. Камушки моет вода под мостом, Вслух говорит соловей за кустом. Белые звезды мигают в реке. Вальсы играет гармонь вдалеке…Катерина
Тихо, тихо пошла грузовая машина, И в цветах колыхнулся твой гроб, Катерина. Он проплыл, потревоженный легкою дрожью, Над дорогой, что к мосту ведет из села, Над зеленой землей, над светлеющей рожью, Над рекой, где ты явор девчонкой рвала. Над полями, где девушкой песни ты пела, Где ты ноги свои обмывала росой, Где замужнюю бил тебя муж, от нужды одурелый, Где ты плакала в голос, оставшись вдовой… Здесь ты борозды все босиком исходила, Здесь бригаду впервые свою повела, Здесь легла твоя женская бодрость и сила — Не за зря — за большие, родная, дела. Нет, никем не рассказано это доныне, Как стояла твоя на запоре изба, Как ты, мать, забывала о маленьком сыне, Как ты первой была на полях и в овине, Как ты ночью глухой сторожила хлеба… Находила ты слово про всякую душу — И упреком, и лаской могла ты зажечь. Только плохо свою берегли мы Катюшу — Спохватились, как поздно уж было беречь… И когда мы к могиле тебя подносили И под чьей-то ногою земля, зашумев, сорвалась, Вдруг две бабы в толпе по-старинному заголосили: — А куда ж ты, Катя, уходишь от нас… Полно, бабы. Не надо. Не пугайте детей. По-хорошему, крепко Попрощаемся с ней. Мы ее не забудем. И вырастим сына. И в работе своей не опустим мы рук. Отдыхай, Катерина. Прощай, Катерина, Дорогой наш товарищ и друг. Пусть шумят эти липы Молодой листвой, Пусть веселые птицы Поют над тобой.Песня
Сам не помню и не знаю Этой старой песни я. Ну-ка, слушай, мать родная, Митрофановна моя. Под иголкой на пластинке Вырастает песня вдруг, Как ходили на зажинки Девки, бабы через луг. Вот и вздрогнула ты, гостья, Вижу, песню узнаешь… Над межой висят колосья, Тихо в поле ходит рожь. В знойном поле сиротливо День ты кланяешься, мать. Нужно всю по горстке ниву, По былинке перебрать. Бабья песня. Бабье дело. Тяжелеет серп в руке. И ребенка плач несмелый Еле слышен вдалеке. Ты присела, молодая, Под горячею копной. Ты забылась, напевая Эту песню надо мной. В поле глухо, сонно, жарко, Рожь стоит, — не перестой. …Что ж ты плачешь? Песни ль жалко Или горькой жизни той? Или выросшего сына, Что нельзя к груди прижать?.. На столе поет машина, И молчит старуха мать.«Кружились белые березки…»
Кружились белые березки, Платки, гармонь и огоньки. И пели девочки-подростки На берегу своей реки. И только я здесь был не дома, Я песню узнавал едва. Звучали как-то по-иному Совсем знакомые слова. Гармонь играла с перебором, Ходил по кругу хоровод, А по реке в огнях, как город, Бежал красавец пароход. Веселый и разнообразный, По всей реке, по всей стране Один большой справлялся праздник, И петь о нем хотелось мне. Петь, что от края и до края, Во все концы, во все края, Ты вся моя и вся родная, Большая родина моя.Путник
В долинах уснувшие села Осыпаны липовым цветом. Иду по дороге веселой, Шагаю по белому свету. Шагаю по белому свету, О жизни пою человечьей, Встречаемый всюду приветом На всех языках и наречьях. На всех языках и наречьях, В родимой стране без изъятья, Понятны любовь и сердечность, Как доброе рукопожатие. Везде я и гость и хозяин, Любые откроются двери, И где я умру, я не знаю, Но места искать не намерен. Под кустиком первым, под камнем Копайте, друзья, мне могилу. Где лягу, там будет легка мне Земля моей родины милой.«Шумит, пробираясь кустами…»
Шумит, пробираясь кустами, Усталое, сытое стадо. Пастух повстречался нестарый С насмешливо-ласковым взглядом. Табак предлагает отменный, Радушною радует речью. Спасибо, товарищ почтенный, За добрую встречу. Парнишка идет босоногий, Он вежлив, серьезен и важен. Приметы вернейшей дороги С готовностью тотчас укажет. И следует дальше, влекомый Своею особой задачей. Спасибо, дружок незнакомый, Желаю удачи! Девчонка стоит у колодца, Она обернется, я знаю, И через плечо улыбнется, Гребенку слегка поправляя. Другая мне девушка снится, Но я не боюсь порицанья: Спасибо и вам, озорница, За ваше вниманье.Станция Починок
За недолгий жизни срок, Человек бывалый, По стране своей дорог Сделал я не мало. Под ее шатром большим, Под широким небом Ни один мне край чужим И немилым не был. Но случилося весной Мне проехать мимо Маленькой моей, глухой Станции родимой. И успел услышать я В тишине минутной Ровный посвист соловья За оградкой смутной. Он пропел мне свой привет Ради встречи редкой, Будто здесь шестнадцать лет Ждал меня на ветке. Счастлив я. Отрадно мне С мыслью жить любимой, Что в родной моей стране Есть мой край родимый. И еще доволен я, — Пусть смешна причина, — Что на свете есть моя Станция Починок, И глубоко сознаю, Радуюсь открыто, Что ничье в родном краю Имя не забыто. И хочу трудиться так, Жизнью жить такою, Чтоб далекий мой земляк Мог гордиться мною. И встречала бы меня, Как родного сына, Отдаленная моя Станция Починок.«За распахнутым окном…»
За распахнутым окном, На просторе луга Лошадь сытая в ночном Отряхнулась глухо. Чуял запах я воды И остывшей пыли. Видел — белые сады В темноте светили. Слышал, как едва-едва Прошумела липа, Как внизу росла трава Из земли со скрипом.«Не стареет твоя красота…»
Не стареет твоя красота, Разгорается только сильней. Пролетают неслышно над ней, Словно легкие птицы, лета. Не стареет твоя красота, А росла ты на жесткой земле, У людей, не в родимой семье, На хлебах, на тычках, сирота. Не стареет твоя красота, И глаза не померкли от слез. И копна темно-русых волос У тебя тяжела и густа. Все ты горькие муки прошла, Все ты вынесла беды свои. И живешь, и поешь, весела От большой, от хорошей любви. На своих ты посмотришь ребят, Радость матери нежной проста: Все в тебя, все красавцы стоят, Как один, как орехи с куста. Честь великая рядом с тобой В поле девушке стать молодой. Всюду славят тебя неспроста — Не стареет твоя красота. Ты идешь по земле молодой — Зеленеет трава за тобой. По полям, по дорогам идешь — Расступается, кланяясь, рожь. Молодая береза в лесу Поднялась и ровна и бела. На твою она глядя красу, Горделиво и вольно росла. Не стареет твоя красота. Слышно ль, женщины в поле поют, — Голое памятный все узнают — Без него будто песня не та. Окна все пооткроют дома, Стихнет листьев шумливая дрожь, Ты поешь! Потому так поешь, Что ты песня сама.Матери
И первый шум листвы еще неполной, И след зеленый по росе зернистой, И одинокий стук валька на речке, И грустный запах молодого сена, И отголосок поздней бабьей песни, И просто небо, голубое небо — Мне всякий раз тебя напоминают.Шофер
Молодой, веселый, важный За рулем шофер сидит, И, кого не встретит, каждый Обернется, поглядит. Едет парень, припорошен Пылью многих деревень. Путь далекий, день хороший. По садам цветет сирень. В русской вышитой рубашке Проезжает он селом. У него сирень в кармашке, А еще и на фуражке, А еще и за стеклом. И девчонка у колодца Скромный делает кивок. Журавель скрипит и гнется, Вода льется на песок. Парень плавно, осторожно Развернулся у плетня. — Разрешите, если можно, Напоить у вас коня. Та краснеет и смеется, Наклонилась над ведром: — Почему ж? Вода найдётся, С вас и денег не возьмем: Где-то виделись, сдается?.. А вода опять же льется, Рассыпаясь серебром. Весь — картина, Молодчина От рубашки до сапог. Он, уже садясь в кабину, Вдруг берет под козырек. На околице воротца Открывает сивый дед, А девчонка у колодца Остается, Смотрит вслед: Обернется или нет?..Дорога
Вдоль дороги, широкой и гладкой, Протянувшейся вдаль без конца, Молодые, весенней посадки, Шелестят на ветру деревца. А дорога, сверкая, струится Меж столбов, прорываясь вперед, От великой советской столицы И до самой границы ведет. Тени косо бегут за столбами, И столбы пропадают вдали. Еду вровень с густыми хлебами Серединой родимой земли. Ветер, пой, ветер, вой на просторе! Я дорогою сказочной мчусь. Всю от моря тебя и до моря Вижу я, узнаю тебя, Русь! Русь! Леса твои, степи и воды На моем развернулись пути. Города, рудники и заводы И селенья — рукой обвести. Замелькал перелесок знакомый, Где-то здесь, где-то здесь в стороне Я бы крышу родимого дома Увидал. Или кажется мне? Где-то близко у этой дороги — Только не было вовсе дорог — Я таскался за стадом убогим, Босоногий, худой паренек. Детство бедное. Хутор далекий. Ястреб медленно в небе кружит. Где-то здесь, на горе невысокой, Дед Гордей под сосенкой лежит… Рвется ветер, стекло прогибая, Чуть столбы поспевают за мной. Паровоз через мост пробегает Высоко над моей головой. По дороге, зеркально блестящей, Мимо отчего еду крыльца. Сквозь тоннель пролетаю гудящий, Освещенный, как зала дворца. И пройдут еще годы и годы, Будет также он ровно гудеть. Мой потомок на эти же своды С уважением будет глядеть. И дорога, что смело и прямо Пролегла в героический срок, Так и будет одною из самых На земле величайших дорог. Все, что мы возведем, что проложим, — Все столетиям славу несет… Дед, совсем ты немного не дожил, Чтоб века пережить наперед.В поселке
Косые тени от столбов Ложатся край дороги. Повеет запахом хлебов — И вечер на пороге. И близок, будто на воде, В полях негромкий говор. И радио, не видно где, Поет в тиши садовой. А под горой течет река, Чуть шевеля осокой, Издалека-издалека В другой конец далекий. По окнам, вспыхивает свет. Час мирный. Славный вечер. Но многих нынче дома нет, Они живут далече. Кто вышел в море с кораблем, Кто реет в небе птицей, Кто инженер, кто агроном, Кто воин на границе. По всем путям своей страны, Вдоль городов и пашен, Идут крестьянские сыны, Идут ребята наши. А в их родном поселке — тишь И ровный свет из окон. И ты одна в саду сидишь, Задумалась глубоко. Быть может, не привез письма Грузовичок почтовый. А может, ты уже сама В далекий путь готова. И смотришь ты на дом, на свет, На тени у колодца — На все, что, может, много лет Видать во сне придется…На свадьбе
Три года парень к ней ходил, Три года был влюблен, Из-за нее гармонь купил, Стал гармонистом он. Он гармонистом славным был, И то всего чудней, Что он три года к ней ходил, Женился ж я на ней. Как долг велит, с округи всей К торжественному дню Созвал я всех своих друзей И всю свою родню. Все пьют за нас, за молодых, Гулянью нет конца. Две легковых, три грузовых Машины у крыльца. Но вот прервался шум и звон, Мелькнула тень в окне, Открылась дверь — и входит он. С гармонью на ремне. Гармонь поставил у окна, За стол с гостями сел, И налил я ему вина И разом налил всем. И, подняв чарку, он сказал, Совсем смутив иных: — Я поднимаю свой бокал За наших молодых… И снова все пошло смелей, Но я за ним смотрю. Он говорит: — Еще налей. — Не стоит, — говорю, — Спешить не надо. Будешь пьян И весь испортишь бал. А лучше взял бы свой баян Да что-нибудь сыграл. Он заиграл. И ноги вдруг Заныли у гостей. И все, чтоб шире сделать круг, Посдвинулись тесней. Забыто все, что есть в дому, Что было на столе, И обернулись все к нему, Невеста в том числе. Кидает пальцы сверху вниз С небрежностью лихой. Смотрите, дескать, гармонист Я все же неплохой… Пустует круг. Стоит народ. Поют, зовут меха. Стоит народ. Чего-то ждет, Глядит на жениха. Стоят, глядят мои друзья, Невеста, теща, мать. И вижу я, что мне нельзя Не выйти, не сплясать. В чем дело, — думаю. Иду, — Не гордый человек. Поправил пояс на ходу И дробью взял разбег. И завязался добрый спор, Сразились наравне: Он гармонист, а я танцор, — И свадьба в стороне. — Давай бодрей, бодрей, — кричу, Стучу ногами в такт. А сам как будто я шучу, Как будто только так. А сам, хотя навеселе, Веду свой строгий счет, Звенит посуда на столе, Народ в ладони бьет. Кругом народ. Кругом родня — Стоят, не сводят глаз. Кто за него, кто за меня, А в общем — все за нас. И все один — и те, и те — Выносят приговор, Что гармонист на высоте, На уровне танцор. И, утирая честный пот, Я на кругу стою, И он мне руку подает, А я ему свою. И нет претензий никаких У нас ни у кого. Невеста потчует двоих, А любит одного.Ивушка
Умер Ивушка-печник, Крепкий был еще старик… Вечно трубочкой дымил он, Говорун и весельчак. Пить и есть не так любил он, Как любил курить табак. И махоркою добротной Угощал меня охотно. — На-ко, — просит, — удружи, Закури, не откажи. Закури-ка моего, Мой не хуже твоего. При каждом угощенье Мог любому подарить Столько ласки и почтенья, Что нельзя не закурить. Умер Ива, балагур, Знаменитый табакур. Правда ль, нет — слова такие Перед смертью говорил: Мол, прощайте, дорогие, Дескать, хватит, покурил… Будто тем одним и славен, Будто, прожив столько лет, По себе печник оставил Только трубку да кисет. Нет, недаром прожил Ива, И не все курил табак, Только скромно, не хвастливо Жил печник и помер так. Золотые были руки, Мастер честью дорожил. Сколько есть печей в округе — Это Ивушка сложил. И с ухваткою привычной, Затопив на пробу печь, Он к хозяевам обычно Обращал Такую речь: — Ну, топите, хлеб пеките, Дружно, весело живите. А за печку мой ответ: Без ремонта двадцать лет. На полях трудитесь честно, За столом садитесь тесно. А за печку мой ответ: Без ремонта двадцать лет. Жизнью полной, доброй славой Славьтесь вы на всю державу. А за печку мой ответ: Без ремонта двадцать лет. И на каждой печке новой, Ровно выложив чело, Выводил старик бедовый Год и месяц, и число. И никто не ждал, не думал… Взял старик да вдруг и умер, Умер Ива, балагур, Знаменитый табакур. Умер скромно, торопливо. Так и кажется теперь, Что, как был, остался Ива, Только вышел он за дверь. Люди Иву поминают, Люди часто повторяют: Закури-ка моего, Мой не хуже твоего. А морозными утрами Над веселыми дворами Дым за дымом тянет ввысь. Снег блестит все злей и ярче, Печки топятся пожарче, И идет как надо жизнь.Сельское утро
Звон из кузницы несется, Звон по улице идет. Отдается у колодца, У заборов, у ворот. Дружный, утренний, здоровый звон по улице идет. Звонко стукнула подкова, Под подковой хрустнул лед; Подо льдом ручей забулькал, Зазвенело все кругом; Тонко дзинькнула сосулька, Разбиваясь под окном. Молоко звонит в посуду, Бьет рогами в стену скот, — Звон несется отовсюду — Наковальня тон дает.За тысячу верст
За тысячу верст От родимого дома Вдруг ветер повеет Знакомо-знакомо… За тысячу верст От родного порога Проселочной, белой Запахнет дорогой; Ольховой, лозовой Листвой запыленной, Запаханным паром, Отавой зеленой; Картофельным цветом, Желтеющим льном И теплым зерном На току земляном; И сеном, и старою Крышей сарая… За тысячу верст От отцовского края… За тысячу верст В стороне приднепровской — Нежаркое солнце Поры августовской. Плывут паутины Над сонным жнивьем, Краснеют рябины Под каждым окном Хрипят по утрам Петушки молодые, Дожди налегке Выпадают грибные. Поют трактористы, На зябь выезжая, Готовятся свадьбы Ко Дню урожая. Страда отошла, И земля поостыла. И веники вяжет Мой старый Данила. Он прутик до прутика Ровно кладет: Полдня провозиться, А париться — год! Привет мой сыновний Далекому краю. Поклон мой, Данила, Тебе посылаю. И всем старикам Богатырской породы Поклон-пожеланье На долгие годы. Живите, красуйтесь, И будьте здоровы — От веников новых До веников новых. Поклон чудакам, Балагурам непраздным, Любителям песен Старинных и разных. Любителям выпить С охоты — не с горя, Рассказчикам всяческих Славных историй… Поклон землякам — Мастерам, мастерицам, Чья слава большая Дошла до столицы. Поклон одногодкам, С кем бегал когда-то: Девчонкам, ребятам — Замужним, женатым. Поклон мой лесам, И долинам, и водам, Местам незабвенным, Откуда я родом, Где жизнь начиналась, Береза цвела, Где самая первая Юность прошла… Родная страна! Признаю, понимаю: Есть много других, Кроме этого края. И он для меня На равнине твоей Не хуже, не лучше, А только милей. И шумы лесные, И говоры птичьи, И бедной природы Простое обличье; И стежки, где в поле Босой я ходил С пастушеским ветром Один на один; И песни, и сказки, Что слышал от деда, И все, что я видел, Что рано изведал, — Я в памяти все Берегу, не теряя, За тысячу верст От родимого края. За тысячу верст От любимого края Я все мои думы Ему поверяю. Я шлю ему свой Благодарный привет, Загорьевский парень, Советский поэт.«Рожь, рожь… Дорога полевая…»
Рожь, рожь… Дорога полевая Ведет неведомо куда. Над полем низко провисая, Лениво стонут провода. Рожь, рожь — до свода голубого, Чуть видишь где-нибудь вдали, Ныряет шапка верхового, Грузовичок плывет в пыли. Рожь уходилась. Близки сроки, Отяжелела и на край Всем полем подалась к дороге, Нависнула — хоть подпирай. Знать, колос, туго начиненный, Четырехгранный, золотой, Устал держать пуды, вагоны, Составы хлеба над землей.«День пригреет — возле дома…»
День пригреет — возле дома
Пахнет позднею травой,
Яровой, сухой соломой
И картофельной ботвой.
И хотя земля устала,
Все еще добра, тепла:
Лен разостланный отава
У краев приподняла.
Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи.
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел. В поле пусто.
Белый утренник зернист.
И свежо, морозно, вкусно
Заскрипел капустный лист.
И за криком журавлиным,
Завершая хлебный год,
На ремонт идут машины,
В колеях ломая лед.
Борис Корнилов
«Большая весна наступает с полей…»
Большая весна наступает с полей, с лугов, от восточного лога, — рыдая, летят косяки журавлей, вонючая стынет берлога. Мальчишки поют и не верят слезам, Девчонки не знают покоя, а ты поднимаешь к раскосым глазам двустволку центрального боя. Весна наступает — погибель твоя, идет за тобой по оврагу, — ты носишь четырнадцать фунтов ружья, табак, патронташ и баклагу. Ты по лесу ходишь, и луны горят, ты видишь на небе зарницу; она вылетает — ружейный заряд, — слепя перелетную птицу. И белый, как туча, бросается дым в болото прыжком торопливым, что залито легким, родным, золотым травы небывалым отливом. И все для тебя — и восход голубой, и мясо прекрасное хлеба, — ты спишь одинок, и стоит над тобой, прострелено звездами, небо. Тоска по безлюдью темна и остра, она пропадет, увядая, коль кружатся желтые перья костра, и песня вдали молодая. Я песню такую сейчас украду и гряну пронзительно, люто — я славлю тебя, задыхаясь в бреду, весна без любви и уюта!«Тосковать о прожитом излишне…»
Тосковать о прожитом излишне, но печально вспоминаю сад, — там теперь, наверное, на вишне небольшие ягоды висят. Медленно жирея и сгорая, рыхлые качаются плоды, молодые, полные до края сладковатой и сырой воды. Их по мере надобности снимут на варенье и на пастилу. Дальше — больше, как диктует климат, осень пронесется по селу. Мертвенна, облезла и тягуча — что такое осень для меня? Это преимущественно — туча без любви, без грома, без огня. Вот она, — подвешена на звездах, гнет необходимое свое, и набитый изморозью воздух отравляет наше бытие. Жители! Спасайте ваши души, заползайте в комнатный уют, — скоро монотонно прямо в уши голубые стекла запоют. Но, кичась непревзойденной силой, я шагаю в тягостную тьму, попрощаться с яблоней, как с милой молодому сердцу моему. Встану рядом, от тебя ошую[12], ты, пустыми сучьями стуча, чувствуя печаль мою большую, моего касаешься плеча. Дождевых очищенных миндалин падает несметное число… Я пока еще сентиментален, оптимистам липовым назло.Песня о встречном
Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада Веселому пенью гудка? Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня, Страна встает со славою На встречу дня. И радость поет, не скончая, И песня навстречу идет, И люди смеются встречая, И встречное солнце встает. Горячее и бравое, Бодрит меня. Страна встает со славою На встречу дня. Бригада нас встретит работой, И ты улыбнешься друзьям, С которыми труд, и забота, И встречный, и жизнь — пополам. За Нарвскою заставою, В громах, в огнях, Страна встает со славою На встречу дня. И с ней до победного края Ты, молодость наша, пройдешь, Покуда не выйдет вторая Навстречу тебе молодежь. И в жизнь вбежит оравою, Отцов сменя. Страна встает со славою На встречу дня. …И радость никак не запрятать, Когда барабанщики бьют: За нами идут октябрята, Картавые песни поют. Отважные, картавые, Идут, звеня. Страна встает со славою На встречу дня! Такою прекрасною речью О правде своей заяви. Мы жизни выходим навстречу, Навстречу труду и любви! Любить грешно ль, кудрявая, Когда, звеня, Страна встает со славою На встречу дня.«В Нижнем Новгороде с откоса…»
В Нижнем Новгороде с откоса чайки падают на пески, все девчонки гуляют без спроса и совсем пропадают с тоски. Пахнет липой, сиренью и мятой, небывалый слепит колорит, парни ходят — картуз помятый, папироска во рту горит. Вот повеяло песней далекой, ненадолго почудилось всем, что увидят глаза с поволокой, позабытые всеми совсем. Эти вовсе без края просторы, где горит палисадник любой, Нижний Новгород, Дятловы горы, ночью сумрак чуть-чуть голубой. Влажным ветром пахнуло немного, легким дымом, травою сырой, снова Волга идет, как дорога, вся покачиваясь под[13] горой. Снова, тронутый радостью долгой, я пою, что спокойствие — прах, что высокие звезды над Волгой тоже гаснут на первых порах. Что напрасно, забытая рано, хороша, молода, весела, как в несбыточной песне, Татьяна в Нижнем Новгороде жила. Вот опять на песках, на паромах ночь огромная залегла, дует запахом чахлых черемух, налетающим из-за угла, тянет дождиком, рваною тучей обволакивает зарю, — я с тобою на всякий случай ровным голосом говорю. Наши разные разговоры, наши песенки вперебой. Нижний Новгород, Дятловы горы, ночью сумрак чуть-чуть голубой.Спасение
Пусть по земле летит гроза оваций, Салют орудий тридцатитройной — нам нашею страною любоваться, как самой лучшей нашею страной. Она повсюду — и в горах и в селах — работу повседневную несет, и лучших в мире — храбрых и веселых — она спасла, спасала и спасет. И дальше в путь, невиданная снова, а мы стеной, приветствуя, встаем, — «Челюскина» команду, Димитрова, спасителей фамилии поем. Я песню нашу лирикою трону, чтоб хороша была со всех сторон, а поезд приближается к перрону, и к поезду подвинулся перрон. Они пойдут из поезда, и синий за ними холод — звездный, ледяной, тяжелый сумрак и прозрачный иней всю землю покрывает сединой. На них глядит остеклянелым глазом огромная Медведица с высот, бедой и льдами окружила разом И к Северному полюсу несет. А пароход измят, разбит, расколот, покоится и стынет подо льдом — медведи, звезды острые и холод кругом, подогреваемый трудом. Морями льдина белая омыта, и никакая сила не спасет и никогда… На льдине лагерь Шмидта, и к Северному полюсу несет. А в лагере и женщины и дети, медведи, звезды острые, беда, и обдувает ужасом на свете спокойные жилые города. Но есть Союз, нет выхода иного, — а ночью льдина катится ядром, наутро снова, выходите снова наутро — расчищать аэродром. А ночью стынут ледяные горы, а звезды омертвели и тихи. В палатках молодые разговоры, и Пушкина скандируют стихи. Века прославят льдами занесенных и снова воскрешенных на земле. Спасителей прославят и спасенных пылающие звезды на Кремле. Мы их встречаем песней и салютом, пустая льдина к северу плывет, и только кто-то в озлобленье лютом последний свой готовит перелет. Мы хорошо работаем и дышим, Как говорится, пяди не хотим, но если мы увидим и услышим, то мы тогда навстречу полетим. Ты, враг, тоску предсмертную изведай, мы полетим по верному пути, чтобы опять — товарищи с победой, чтобы опять товарища спасти.Соловьиха
У меня к тебе дело такого рода, что уйдет на разговоры вечер весь, — затвори свои тесовые ворота и плотней холстиной окна занавесь. Чтобы шли подруги мимо, парни мимо И гадали бы и пели бы скорбя: Что не вышла под окошко, Серафима? Серафима, больно скучно без тебя… Чтобы самый ни на есть раскучерявый, рвя по вороту рубахи алый шелк, по селу Ивано-Марьино с оравой мимо окон под гармонику прошел. Он все тенором, все тенором, со злобой запевал — рука протянута к ножу: — Ты забудь меня, красавица, попробуй… Я тебе тогда такое покажу… Если любишь хоть всего наполовину, подожду тебя у крайнего окна, постелю тебе пиджак на луговину довоенного и тонкого сукна. А земля дышала, грузная от жиру, и от омута Соминого левей соловьи сидели молча по ранжиру, так что справа самый старый соловей. Перед ним вода — зеленая, живая, мимо заводей несется напролом — он качается на ветке, прикрывая соловьиху годовалую крылом. И трава грозой весеннею измята, дышит грузная и теплая земля, голубые ходят в омуте сомята, пол-аршинными усами шевеля. А пиявки, раки ползают по илу, много ужаса вода в себе таит — щука — младшая сестрица крокодилу — неживая возле берега стоит… Соловьиха в тишине большой и душной… Вдруг ударил золотистый вдалеке, видно, злой, и молодой, и непослушный, ей запел на соловьином языке: — По лесам, на пустырях и на равнинах не найти тебе прекраснее дружка — принесу тебе яичек муравьиных, нащиплю в постель я пуху из брюшка. Мы постелем наше ложе над водою, где шиповники все в розанах стоят, мы помчимся над грозою, над бедою и народим два десятка соловьят. Не тебе прожить, без радости старея, ты, залетная, ни разу не цвела, вылетай же, молодая, поскорее из-под старого и жесткого крыла. И молчит она, все в мире забывая, — я за песней, как за гибелью, слежу… Шаль накинута на плечи пуховая… — Ты куда же, Серафима? — Ухожу, — Кисти шали, словно перышки, расправя, влюблена она, красива, не хитра — улетела. Я держать ее не в праве — просижу я возле дома до утра. Подожду, когда заря сверкнет по стеклам, золотая сгаснет песня соловья — пусть придет она домой с красивым, с теплым — меркнут глаз его татарских лезвия. От нее и от него пахнуло мятой, он прощается у крайнего окна, и намок в росе пиджак его измятый довоенного и тонкого сукна.«Знакомят молодых и незнакомых…»
Знакомят молодых и незнакомых в такую злую полночь соловьи, и вот опять секретари в райкомах поют переживания свои. А под окном щебечут клен и ясень, не понимающие директив, и в легкий ветер, что проходит ясен, с гитарами кидается актив. И девушку с косой тяжелой, русской (а я за неразумную боюсь) прельщают обстоятельной нагрузкой, любовью, вовлечением в союз. Она уходит с пионервожатым на озеро — и песня перед ней… Над озером склонясь, как над ушатом, они глядят на пестрых окуней. Как тесен мир. Два с половиной метра прекрасного прибрежного песка, да птица серая, да посвист ветра, да гнусная козявка у виска. О чем же думать в полночь? О потомках? О золоте? О ломоте спинной? И песня задыхается о том, как забавно под серебряной луной… Под серебряной луной, в голубом садочке, над серебряной волной, на златом песочке мы радуемся — мальчики — и плачем, плывет любовь, воды не замутив, но все-таки мы кое-что да значим, секретари райкомов и актив. Я буду жить до старости, до славы и петь переживания свои, как соловьи щебечут, многоглавы, многоязыки, свищут соловьи.Открытие лета
Часу в седьмом утра, зевая, спросонья подойду к окну — сегодня середина мая, я в лето окна распахну. Особенно мне ветер дорог, он раньше встал на полчаса и с хлопаньем оконных створок и занавеской занялся. Он от Елагина, от парка, где весла гнутся от воды, где лето надышало жарко в деревья, в песню и пруды, в песок, раскиданный по пляжу, в гирлянд затейливую пряжу, в желающие цвесть сады… Оно приносит населенью зеленые свои дары, насквозь пропахшее сиренью, сиреневое от жары, и приглашает птичьим свистом в огромные свои сады, все в новом, ситцевом и чистом и голубое от воды, все золотое, расписное, большое, легкое, лесное, на гичке острой, на траве, на сквозняке, на светлом зное и в поднебесной синеве. Я ошалел от гама, свиста и песни, рвущейся к окну, — рубаху тонкого батиста сегодня я не застегну. Весь в легком, словно в паутинах, туда, где ветер над рекой, — я парусиновый ботинок шнурую быстрою рукой, туда, где зеленеет заросль, где полводы срезает парус, где две беды, как полбеды, где лето кинулось в сады. Я позвоню своей дивчине 4—20–22, по вышесказанной причине скорей туда, на Острова. Вы понимаете? Природа, уединенье в глубь аллей — мои четыре бутерброда ей слаще всяких шницелей. Мне по-особенному дорог, дороже всяческих наград мой расписной, зеленый город, в газонах, в песнях Ленинград. Я в нем живу, пою, ликую, люблю и радуюсь цветам, и я его ни за какую не променяю, не отдам.Мечта
Набитый тьмою, притаился омут, разлегся ямой на моем пути. Деревья наряжаются и стонут, и силятся куда-нибудь уйти. Не вижу дня, не слышу песен прежних. Огромна полночь, как вода, густа. Поблизости ударит о валежник, как по льду проскользнувшая звезда. Мне страшно в этом логове природы — висит сосны тяжелая клешня. Меня, как зверя, окружают воды — там щуки ударяются плашмя, подскакивая к небу. Воздух черен, а по небу, где бурю пронесло, рассеяно горячих, легких зерен уму непостижимое число. Но мне покой в любую полночь дорог, — он снизойдет, огромный и густой, и, золотой облюбовав пригорок, я топором ломаю сухостой. Я подомну сыреющие травы, я разведу сияние костра — едучий дым махорочной отравы, сырая дрожь — предчувствие утра — и не заснуть. Кукушка куковала позавчера мне семьдесят годов, чтобы мое веселье побывало и погуляло в сотне городов, чтобы прошел я, все запоминая, чтоб чистил в кавалерии коня, чтоб девушка, какая-то иная, не русская, любила бы меня. Она, быть может, будет косоглаза, и некрасива, может быть она. Пролезет в сердце гулкое, пролаза, и там начнет хозяйничать одна. Деревья ходят парами со стуком, летит вода, рождаются года, — мы сына назовем гортанным звуком, высоким именем: Карабада. «Ты покачай Карабаду, баюкай, чтоб не озяб, подвинь его к огню». С какой тоской и с радостью, и мукой Карабаде я песню сочиню! Пройдут его мальчишеские годы, а он ее запомнит, как одну, про разные явления природы, про лошадей, про саблю, про войну, про заячью охоту, про осину, про девушку не русскую лицом, и никогда не стыдно будет сыну за песню, сочиненную отцом… Но мне — пора. В болоте кряковая свой выводок пушистый повела. До вечера мечтанья забывая, патроны в оба двигаю ствола. Еще темно, но лес уже звучащим тяжелым телом движется вдали, и птицы просыпаются по чащам, и девушки по ягоды пошли.Со съезда писателей
Это рушится песен лава, как вода, горяча, жива: наша молодость, наша слава, все наречия и слова. И бараньи плывут папахи, прихотливы и велики, шелком вышитые рубахи и английские пиджаки. Самой красочной песни — длинной путь-дорогой, строфа, беги. Так же мягко идут козлиной тонкой кожицы сапоги. Горным ветром на нас подуло, в облаках моя голова — заунывные из аула закружили меня слова. Здесь, товарищи, без обмана, песня славная глубока — я приветствую Сулеймана, дагестанского старика. Мы гордимся такой нагрузкой — замечателен песен груз — и таджик, и грузин, и русский, и татарин, и белорус. Мы не сложим такого груза на прекрасном пути своем — мы, поэты всего Союза, собираемся и поем. О горах, уходящих в небо, о морях молодого хлеба, об Украине и Сибири, о шиповнике над водой, о стране — самой лучшей в мире, самой вечной и молодой. Эту песню залетную птичью мы на сотни поем голосов, похваляясь пушниной и дичью всех опушек, болот и лесов, лососиной, охотой лосиной, поговоркою областной, похваляясь березой, осиной, краснораменскою сосной. Мы любуемся всем — пилотом, побежденным смертельным льдом, стратостатами, Красным Флотом, обороною и трудом. Нашей Родины степи, склоны мы, как песню, берем на щит. Пушкин смотрит на нас с колонны, улыбается и молчит. Все прекраснее и чудесней этот славный для нас старик, и его поминает песней всякий сущий у нас язык.Вечер
Гуси-лебеди пролетели, чуть касаясь крылом воды, плакать девушки захотели от неясной еще беды. Прочитай мне стихотворенье как у нас вечера свежи, к чаю яблочного варенья мне на блюдечко положи. Отчаевничали, отгуляли, не пора ли, родная, спать, — спят ромашки на одеяле, просыпаются ровно в пять. Вечер тонкий и комариный, погляди, какой расписной, завтра надо бы за малиной, за пахучею, за лесной. Погуляем еще немного, как у нас вечера свежи! Покажи мне за ради бога, где же Керженская дорога, обязательно покажи. Постоим под синей звездою. День ушел со своей маетой. Я скажу, что тебя не стою, что тебя называл не той. Я свою называю куклой — брови выщипаны у ней, губы крашены спелой клюквой, а глаза синевы синей. А душа — я души не знаю. Плечи теплые хороши. Земляника моя лесная, я не знаю ее души. Вот уеду. Святое слово, не волнуясь и не любя, от Ростова до Бологого буду я вспоминать тебя. Золотое твое варенье, кошку рыжую на печи, птицу синего оперенья, запевающую в ночи.Прощание
На краю села большого — пятистенная изба… Выйди, Катя Ромашова, — золотистая судьба. Косы русы, кольца, бусы, сарафан и рукава, и пройдет, как солнце в осень, мимо песен, мимо сосен, — поглядите — какова. У зеленого причала всех красивее была, — сто гармоник закричало, сто девчонок закричало, сто девчонок замолчало — это Катя подошла. Пальцы в кольцах, тело бело, кровь горячая весной, подошла она, пропела: — Мир компании честной. Холостых трясет и вдовых, соловьи молчат в лесу, полкило конфет медовых я Катюше поднесу. — До свидания, — скажу, — я далеко ухожу… Я скажу, тая тревогу: — Отгуляли у реки, мне на дальнюю дорогу ты оладий напеки. Провожаешь холостого, горя не было и нет, я из города Ростова напишу тебе привет. Опишу красивым словом, что разлуке нашей год, что над городом Ростовом пролетает самолет. Я пою разлуке песни, я лечу, лечу, лечу, я летаю в поднебесье — петли мертвые кручу. И увижу, пролетая, в светло-розовом луче: птица — лента золотая — на твоем сидит плече. По одной тебе тоскую, не забудь меня — молю, молодую, городскую, никогда не полюблю… И у вечера большого, как черемуха встает, плачет Катя Ромашова, Катя песен не поет. Провожу ее до дому, сдам другому, молодому. — До свидания, — скажу, — я далеко ухожу… Передай поклоны маме, попрощайся из окна… Вся изба в зеленой раме, вся сосновая она, петухами и цветами разукрашена изба, колосками, васильками, — сколь искусная резьба! Молодая яблонь тает, у реки поет народ, над избой луна летает, Катя плачет у ворот.Командарм
Вот глаза закроешь — и полвека на рысях пройдет передо мной, половина жизни человека, дымной опаленная войной. Вот глаза закроешь только — снова синих сабель полыхает лед, и через Галицию до Львова конница республики идет. Кони в яблоках и вороные, дробь копыт размашистых глуха, запевают песню головные, все с кубанским выдохом на hа: — hады отовсюду, но недаром длинных сабель развернулся ряд, бурка крыльями над командармом, и знамена грозные горят. Под Воронежем и под Касторной все в пороховом дыму серо, и разбиты Мамонтов и черный наголову генерал Шкуро. Это над лошажьей мордой дикой на врага, привстав на стремена, саблею ударила и пикой полстраны, коли не вся страна. Сколько их сияло, сабель острых, сколько пик поломано — о том может помнить Крымский полуостров, Украина, и Кубань, и Дон. Не забудем, как в бою угарно, как ходили красные полки, как гуляла сабля командарма — продолжение его руки. Командарм — теперь такое дело — свищет ветер саблею кривой, пятьдесят сражений пролетело над твоею славной головой. И опять — под голубою высью через горы, степи и леса, молодость раскачивая рысью, конные уходят корпуса. Песня под копытами пылится, про тебя дивизия поет — хлеборобу ромбы на петлицы только революция дает. Наша революция, что с бою все взяла, чей разговор не стих, что повсюду и всегда с тобою силою луганских мастерских. И когда ее опять затронут яростным дыханием огня — хватит песен, сабель и патронов, за тобой мы сядем на коня и ударим: — С неба полуденного… Свистнут пальцы с левого крыла — это значит — песня про Буденного впереди конармии пошла.«Под утро подморозило немного…»
Под утро подморозило немного, еще не все проснулись — тишина, по городу трамвайная дорога веселым снегом запорошена. Голы сады — и вот зимы начало, с Балтийского корыта холода, и невская темнела, заскучала, забегала (не вырваться) вода. Иду, свищу… Мне весело, не тесно. Я сызнова люблю тебя, зима, и красными на белом повсеместно меня в пути приветствуют дома плакатами и флагами, и светом меня зима приветствует в пути, и над районным Выборгским Советом и над заводом имени Марти. Зима пришла, зима прогнала осень, ее приход отпраздновал завод, и по Литейному, дом 48, где девушка любимая живет. Она еще вчера мне показала на пламенный и светлый Ленинград, на шелковые флаги у вокзала, на эти крылья, машущие в лад. И глядя на огней огромных пятна, на яркое полотнище крыла, ее любовь и радость мне понятна, хорошая, веселая была. А снег летел, подули ветры хором, сдувая копоть дымную и вонь, — как не гордиться городом, в котором всех революций клокотал огонь, в котором пели: на себя надейся, — в котором на расстрел и на штыки и шли и падали красноармейцы, и шли и падали большевики. В котором мы работали и пели в метелицу, в распутицу, в дыму и делали по стольку — за недели, за месяцы не сделать никому. Зима пришла. Но что нам страшно, людям, в твоих снегах и в холоде твоем — и мы живем, работаем и любим, горюем, радуемся и поем.Чиж
За садовой глухой оградой ты запрятался серый чиж… Ты хоть песней меня порадуй. Почему, дорогой молчишь? Вот пришел я с тобой проститься, и приветливый и земной, в легком платье своем из ситца как живая передо мной. Неужели же все насмарку?.. Даже в памяти не сбережем… Эту девушку и товарку называли всегда чижом. За веселье, что удалось ей… Ради молодости земли кос ее золотые колосья мы от старости берегли. Чтобы вроде льняной кудели раньше времени не седели, вместе с лентою заплелись, небывалые, не секлись. Помню волос этот покорный, мановенье твоей руки, как смородины дикой, черной наедались мы у реки. Только радостная, тускнея, в замиранье, в морозы, в снег наша осень ушла, а с нею ты куда-то ушла навек. Где ты — в Киеве? Иль в Ростове? Ходишь плача или любя? Платье ситцевое, простое износилось ли у тебя? Слезы темные в горле комом, вижу горести злой оскал… Я по нашим местам знакомым, как иголку, тебя искал. От усталости вяли ноги, безразличны кусты, цветы… Может быть, по другой дороге проходила случайно ты? Сколько песен от сердца отнял, как тебя на свиданье звал! Только всю про тебя сегодня подноготную разузнал. Мне тяжелые, злые были рассказали в этом саду, как учительницу убили в девятьсот тридцатом году. Мы нашли их, убийц знаменитых, то — смутители бедных умов и владельцы железом крытых, пятистенных и в землю врытых, и обшитых тесом домов. Кто до хрипи кричал на сходах: — Это только наше, ничье… Их теперь называют вот как, злобно, с яростью… — Кулачье… И теперь я наверно знаю — Ты лежала в гробу, бела, — комсомольская, волостная вся ячейка за гробом шла. Путь до кладбища был недолог, но зато до безумья лют — из берданок и из двустволок отдавали тебе салют. Я стою на твоей могиле, Вспоминаю, во тьме дрожа, как чижей мы с тобой любили, как любили тебя, чижа. Беспримерного счастья ради всех девчат твоего села, наших девушек в Ленинграде, гибель тяжкую приняла. Молодая, простая, знаешь? Я скажу тебе, не тая, что улыбка у них такая ж, как когда-то была твоя.«Как же так?..»
Как же так? Не любя, не страдая, даже слово привета тая, ты уходишь, моя молодая, золотая когда-то моя… Ну, качну головою устало, о лице позабуду твоем — только песни веселой не стало, что запели, пропели вдвоем.Николай Рыленков
«Концы колышутся кудрей…»
Концы колышутся кудрей, Тебе на щеки тень бросая… Сними сандалии скорей И по росе ступай босая. У придорожного куста Садись, раздумывай и слушай, Пока полночная звезда Не упадет к нам спелой грушей. Ладони легкие сложи, В них колос вылущи зажатый, Ты видишь — вызревшие ржи Отяжелели перед жатвой. Мы их выращивали здесь. Мы знали радость ожиданья, И в каждом стебле этом есть Тепло от нашего дыханья. С тобою об руку несем Мы наше счастье молодое, Поговорим же обо всем, Как говорить умеют двое. Мне стежки будут не легки, Когда полюбишь ты другого, Но не скажу тебе с тоски Я непростительного слова! И в час разлуки горевой Не задержу твоей руки я, Но день за днем перед тобой Я буду лучше, чем другие. И, может, вспомнишь ты тогда На этом поле наши встречи, И только вздрогнут (ты горда) Твои приподнятые плечи. Ты только руку мне пожмешь, Не скажешь даже ни полслова. Но я пойму… Созрела рожь. Для жатвы поле все готово.«Над густой березою…»
Над густой березою, За большой дорогою Уронила молнию Дальняя гроза. Тихо косу русую Я рукой потрогаю Да в твои глубокие Загляну глаза. Небо подымается, Вымытое дочиста, Вспыхивает искрами Синего огня. Притаив дыхание, Вслушиваться хочется, Как за влагой тянутся С хрустом зеленя. Будьте, зори, теплыми, Будьте, росы, щедрыми, — Словно в детстве, рады мы Попросить опять, — Чтоб хлеба не гнулись бы Под сухими ветрами, А старались колосом До неба достать. Не могли загадывать Мы с тобою разное, Мы всегда сходились тут На одном следу. И, желаний наших Исполненье празднуя, Я к тебе, любимая, Первый подойду. Встретив взгляд твой ласковый, Я припомню многое, Все, о чем словами Рассказать нельзя… Над густой березою, За большой дорогою Молнию последнюю Бросила гроза.«Посмотри: у меня большая ладонь…»
Посмотри: у меня большая ладонь Ты б на ней поместилась вся. Пройти через воду и через огонь Я мог бы, тебя неся. Посадил бы тебя в своем дому, А ветер домашний тих. Мне силы отпущено одному Достаточно на двоих. Но разве бы ты позабыла тут, Вступая в свои права, Как реки шумят, соловьи поют, Растет на лугах трава. Что землю горячую дождь облил И высушили ветра? Тебе в эту пору покой не мил, И ты уходишь с утра. Туда, где, нагруженные зерном, Возы на посев ползут, Где сразу почувствует агроном В руках нестерпимый зуд… Мы садим деревья, хлеба растим, Исследуем силу почв. По теплым лугам, по травам густым Проходим, встречая ночь. Найдем на стану у костра приют, Обветренные до пят. Нам реки шумят, соловьи поют И грозы глаза слепят.«Опять роняют пух тяжелые гусыни…»
Опять роняют пух тяжелые гусыни, Выравнивая дно нагретого гнезда, Опять прозрачны дни и ночи светло-сини, И над тобой стоит бессонная звезда. От окон на полу легли крест-накрест тени, И расстилать постель — напрасные труды. Ты слышишь — под горой шумит река в смятенье, Боясь, что не вместит нахлынувшей воды. Но воду отведем мы на свои угодья. Нам в мире обо всем заботиться дано. И зашумят хлеба, как реки в половодье, Везде, где прорастет набухшее зерно. В свой срок придет страда, как молодость вторая, Не зря в душе поет отрадный хмель забот, Когда спешит весна по всем дорогам края И всех твоих друзей по именам зовет.«Мы теперь вспоминаем погожие дни сентября…»
Мы теперь вспоминаем погожие дни сентября, Бабье лето в прощальной красе придорожной березы. Мы теперь вспоминаем, как кровли домов серебря, Словно весть о зиме, по утрам приходили морозы. От высоких ометов тянуло соломой ржаной, Зеленели посевы, спеша подрасти до ненастья. Я краснел, без привычки тебя называя женой, Я при людях стыдился меня наполнявшего счастья. Только, как ни старался, скрывать его не было сил, Словно солнце за мной проходило невидимым следом. Я отборное яблоко утром тебе приносил, Самый лучший кусок отдавал я тебе за обедом. И сегодня, ребенка в горячие руки беря, Я дыханьем своим осушу его первые слезы. Как же можно забыть нам погожие дни сентября, Бабье лето в прощальной красе придорожной березы…«Ты нерасцветший колос подняла…»
Нерасцветший колос
Расцветает от человеческого дыхания
(Народное поверье) Ты нерасцветший колос подняла, К своим губам горячим поднесла, Дохнула на него, и, оживая, Расцвел тот колос у тебя в руке, Чтоб доцветать и зреть на сквозняке, Где зной течет, как пена дрожжевая. И я сказал: «Не так ли и людей Мы оживляем теплотой своей, Сокрытые в них силы умножаем, Чтоб каждый мог принесть посильный плод И мы средь человеческих забот Могли своим гордиться урожаем».«Опадает с яблони…»
Опадает с яблони Белый цвет, Что-то друга милого Долго нет. Я, встречая на поле Свет-зарю, На дорогу дальнюю Посмотрю. А дорога дальняя Широка, А над ней крылатые Облака. Вся она исхожена, Вся она изъезжена Без него. Нет и нет прохожего, На него похожего, Нет и нет проезжего Моего. Как увижу издали, Позову. Рядом посажу его На траву, На колени голову Положу, Как я тут ждала его, Расскажу. Сколько счастья-радости Впереди! Где ж ты, долгожданный мой? Приходи! Знаю, друг без друга нам Счастья нет… …Опадает с яблони Белый цвет.«Застывшая за ночь, звенела дорога…»
Застывшая за ночь, звенела дорога Под конским копытом на весь суходол, А к вечеру стало теплее немного, И снег с потемневшего неба пошел. Сначала совсем неуверенный, редкий, Как будто высматривал место, где лечь, Потом осмелел и серебряной сеткой У каждого дерева свесился с плеч. Ты вышла и взять не хотела косынки Пуховой, что я за тобою принес; И видел я — таяли сразу снежинки, Попавшие в желтое пламя волос. Вернулись, а комната — словно другая, Уютней, домашнее стало тепло. И долго сидели мы, не зажигая Огня, и от счастья нам было светло.Человек
Ветер странствий, соленый и горький, Им да звездами юность полна. В море бриз. Апельсиновой коркой За лиманом желтеет луна. Степь лежит молчаливо и мудро, Одиноких раздумий сестра. Быль иль небыль намедни под утро Рассказал этот старый Чудра? Не ответишь вовек — и не надо, Только б верилось в дни неудач: Волю девушки ценят, как Радда, Парни любят, как Лойко-скрипач. А еще… Не наврала цыганка, Указала она, погляди: Поднял сердце горящее Данко, Чтобы путь озарить впереди. Не о том ли мечтает он с детства, Затаив неребяческий гнев, И прислушаться и приглядеться К человеческим судьбам успев. Дед Каширин, кунавинский книжник, Поучал за виски теребя: «Коль рубашки не снимешь ты с ближних, — Значит, ближние снимут с тебя». Враки! Снимет рубашку хозяин, Если будешь покорен, как вол. И от нижегородских[14] окраин Он до Черного моря дошел. Вьется в небе над ним спозаранку Журавлей путеводная нить. Если в мире не сыщется Данко, Он сумеет его заменить! Ветер странствий, соленый и горький, Им да звездами юность полна. В море бриз. Апельсиновой коркой За лиманом желтеет луна.«Чуть дымятся луговые плесы…»
Чуть дымятся луговые плесы, Даль тепла, светла. То не ты ли косы у березы На ночь заплела? То не твой ли на реке гремучей Виден переход? Не твоим ли голосом над кручей Иволга поет? Пусть не видно в травах непримятых Твоего следа, Сердце верит: где бы ни была ты — Ты со мной всегда. И когда в лугах синеют росы, Ты на склоне дня, Заплетая косы у березы, Вспомнишь про меня. Про меня, про вешки в дальнем поле Да про те холмы, Где, грустя и радуясь до боли, Подрастали мы.«Из камня высеченный идол…»
Из камня высеченный идол У росстаней стоял века. Его прохожий каждый видел, Сворачивая с большака. Немой ровесник Древней Руси, Он вырастал из-под земли, Над ним весной летели гуси, Вокруг него хлеба росли. Шли мимо люди по дорогам, Встречая шумную весну, Уж им не верилось, что богом Был этот камень в старину. Когда ж зарей пылал пригорок, Где сосны медные стоят, К нему спешил седой историк С толпой веселою ребят. Он говорил, и были строги Глаза под крыльями бровей. «Глядите — умирают боги, Бессмертно — творчество людей».На пасеке
Отроились пчелы. Пахнут медом Вековые липы за прудом. Возвращаясь с поля, мимоходом Мы с тобой на пасеку зайдем. Постучим в калитку к пчеловоду, Он у нас приветливый старик: На меду заваренную воду Хоронить от гостя не привык. Только б гость вниманьем не обидел И подробный выслушал рассказ, Как рои готовятся на выдел И какой тут верный нужен глаз. Чем отличен мед, какой по цвету, Липовый, гречишный, луговой… Гости мы не редкие и эту Будем слушать повесть не впервой. Ну так что ж, пускай отводит душу, Он видал немало на веку. За привет, за добрую медушу Мы спасибо скажем старику. И еще мы скажем, что в артели Ото всех почет ему велик. Пчеловод он мудрый, в самом деле, И к тому ж приветливый старик.«Вновь сентябрь поджигает сухую листву на осинах…»
Вновь сентябрь поджигает сухую листву на осинах, Рдеет каплями крови на кочках брусника в гаю, И, считая гусей в небесах, по-осеннему синих, Прислонившись к сосне, я с тобой на опушке стою. До весны покидая туманные наши озера, Гуси к югу летят. Значит, близится время дождей, Значит, нам расставаться, любимая, скоро… Что ж, бери мое сердце и сердцем в разлуке владей. В светлом поле темнеют сухие кусты чернобыла, И на них паутины прозрачные нити висят. Я дождуся весны, только б ты меня не разлюбила, С первой стаей гусей по весне возвратилась назад.«Цветет жасмин. От белых звезд…»
Цветет жасмин. От белых звезд Всю ночь светло в саду нагретом, И Млечный Путь, как шаткий мост, Соединил закат с рассветом. В такие ночи слышен рост Хлебов и трав. По всем приметам, И теплых зорь и щедрых рос Еще немало будет летом. Живым текучим серебром Дожди июльские прольются. Ладони вытянув, как блюдца, Пойдем в поля, встречая гром, Где ржи густые за бугром Под тяжестью колосьев гнутся.«Смешался с запахом смолы…»
Смешался с запахом смолы Томящий запах земляники, Где сосен тонкие стволы Торчат, как бронзовые пики. А тень бежит во все углы И ловит солнечные блики, На травы нижет без иглы Цветные бусы земляники. Дрожит под крылышками пчел Позолоченной сеткой воздух. Пичуги дремлют в темных гнёздах… И вправе я себя не счел Нарушить птиц полдневный роздых, Прервать полдневный взяток пчел.Ломоносов
Куда бежать от сплетен и доносов! В просторных залах смрадно, как в аду! И вот опять Михайла Ломоносов Шумит в академическом саду. Строптивый сын архангельских поморов, Прямой, как ветер северной реки, Он сохранил неукротимый норов И песни, что певали рыбаки. Не он ли в школе Заиконоспасской Одной латынью голод утолял, Молокососов укрощал указкой И сметкою монахов удивлял? Поднявшись вне параграфов и правил, Везде дыханьем родины храним, Не он ли в старом Марбурге заставил Немецких буршей трепетать пред ним? Не он ли дал российской музе крылья, Нашел слова, звучащие, как медь! Доколе ж иноземное засилье Придется в Академии терпеть? В нее вошел, достойный славы россов, Как беломорский ветер молодой, Крестьянский сын Михайла Ломоносов, Родившийся под северной звездой.«Зима, закат, сторожка лесника…»
Зима, закат, сторожка лесника, На окнах тени спутаны и зыбки. Старик весну припомнил, и рука Смычком коснулась самодельной скрипки. И соловей взлетел из-под смычка, Подснежник распустился у пенька, Забил родник, и только по ошибке На мутных стеклах снег пятнался липкий. И я подумал: «Кто в родном краю Любил тропинку каждую свою, Берег травинку и лелеял колос, — К тому, когда вздохнет он от забот, Весна и в зимних сумерках придет, Услышав скрипки самодельный голос».«Воспоминаний юности не тронь…»
Воспоминаний юности не тронь, Не отрекись от первых увлечений. Как осенью рябиновый огонь, Они светить нам будут в час вечерний. Пусть окружит их время равномерней, Чем сердцевину дуба оболонь. И дочь твою широкую ладонь Сожмет ладонью легкою дочерней. И скажешь ты: «Опять звенит гармонь, Нашиты звезды золотом по черни. Как осенью рябиновый огонь, Ты светишь мне в мой тихий час вечерний…» Воспоминаний юности не тронь, Не отрекись от первых увлечений.Прощание с юностью
Юность, юность! Какой дорогой, За какие леса и реки Тихой девушкой-недотрогой Ты ушла от меня навеки! Я с тобой не успел проститься, Не предвидел разлуки близкой. Под окошком летит зарница Мне прощальной твоей запиской. Выйду в поле на перекресток, Где звенит, вызревая, жито, Мелким бисером лунных блесток Небо шелковое расшито. Позову тебя — нет ответа… Эти ль ночи тебе не любы, Грозовое ль дыханье лета Обжигает сухие губы. Я оглядываюсь тревожно — Чуть мерцает в тумане стежка… О, когда б тебе было можно Задержаться со мной немножко! Как берег бы тебя теперь я… Но смежает полночь ресницы, Звезды падают, словно перья Упорхнувшей из рук жар-птицы. Бродит сумрак по раздорожью, Шепчет мне: «Головы не вешай!» Это август горячей дрожью Наполняет колос созревший. Слышен крик перепелки частый, На траве роса загорелась. Что ж, прощай, моя юность! Здравствуй, С полной горстью колосьев зрелость! Лоб мой жаркий обдуй прохладой, Освежи мое сердце грустью, Исполненьем надежд обрадуй На пути от истоков к устью.Алексей Сурков
Читателю
Что ж? Прожитых лет не воротишь вспять. Мы взрослыми стали. А вспомнить по чести, В семнадцатом, осенью, тридцать пять Едва набегало обоим вместе. Давай на границе семнадцати лет В глаза своей юности взглянем спокойно. Не наша ли жизнь обозначила след В социализм сквозь невзгоды и войны? Встань, молодость, песни походной сестра! Под низким навесом пустой солеварни, Обняв карабины, всю ночь у костра Сидят восемнадцатилетние парни. Разлапые сосны построились в ряд. Окрашены заревом темные дали. Безусые парни сквозь сон говорят О жизни, какой никогда не видали. Бушует набата полночного зык, Горят на снегу кровяные пятна. У юности нашей был строгий язык, И мне и тебе с полслова понятный. Пусть говор орудий сегодня стих, Любить свою родину мы не устали. Нет-нет — и блеснет непокорный стих, Четырехгранным упорством стали. Ровесник! Ты любишь отчизну свою, Российских полей бесконечную снежность. Тебе, мой товарищ, я отдаю Стиха своего угловатую нежность. То песней веселой волнующий строй, То в дыме костра склоненный над сводкой, Идет по стихам мой армейский герой Знакомой тебе молодою походкой. Идет он, И поступь его легка. Идет он в шинели своей дырявой, Но резкие грани его штыка Овеяны нашей бессмертной славой. И крепость присяги, И тяжесть ружья Познал он, измерив шагами войны, И если его приметят друзья, И если ты скажешь: «Да это же я!» Исполнена будет задача моя, Сердце мое спокойно.Над картой Союза
Подведи меня к карте моей страны, Дай коснуться чуткой рукой Этих острых гор снеговой белизны, Этих мест, на которые нанесены Сталинград, Каховка, Джанкой. Покажи мне, товарищ, где ост, где вест, И скажу я тебе тогда, Как, сынов провожая из отчих мест, Мать рыдала, и были слезы невест Солоны, как морская вода. Покажи мне, товарищ, где север, где юг, И скажу я тебе тогда, На какой параллели, В каком бою Пролетали гулко в железном строю Броневые мои поезда. Сталинград и Каховка, Омск и Джанкой, Теплый август и хмурый март. Растеряв по дороге сон и покой, Ваши судьбы чертили мы жесткой рукой На квадратах двухверстных карт. Голоса наших пушек смолкли давно, Кости смелых тлеют в гробу. Чтобы жить и цвести вам было дано, От дроздовцев и черного сброда Махно Мы отбили вашу судьбу. Чтобы плод наливался соком в саду И под гроздью гнулась лоза, За чертой перешейка в двадцатом году, На последнем допросе в слащевском аду, Я оставил свои глаза. Подведи меня ближе… Давай постоим Возле карты моей страны, Положи мою руку на солнечный Крым, Чтобы видел я зрячим сердцем своим Море блеклой голубизны. Чтобы видел я зрячим сердцем бойца, Как в звенящий июльский зной По густому, по злому посеву свинца, Разливаясь без края и без конца, Плещет рожь золотой волной. Темнота зажмет человека в тиски, И готов кричать человек. Но ребячий смех долетит с реки, И обмякнет сердце, И пепел тоски Облетит с опаленных век. Возле карты страны постоим вдвоем. Будем память, как книгу, листать, О годах, записанных в сердце моем, О походной дружбе песню споем — Ту, что нашей жизни под стать.Тавричанка
Никто ей на свете не был Дороже тебя и родней. Впервые южное небо Так низко склонилось над ней. Ее ты при лунном свете Поцеловал впервой, Когда встрепенулся ветер И выстрелил часовой. Ушел ты в ночное дело И не вернулся вновь. Как порох в костре, сгорела Короткая ваша любовь. Уйти бы в степные дали, С отрядом твоим уйти. Но старые родичи встали Стеной поперек пути. И некуда было податься, И некому пожалеть. Ей было всего восемнадцать Несмелых, девичьих лет. Вся красная от заката, По галькам шуршит волна, Над старой рыбачьей хатой Опять поднялась луна. Луна проплывает низко, Сдвигая в море закат. И девушка слышит близко Трескучий распев цикад. Все кажется тавричанке, Что, сбросив бушлат с плеча, Летишь ты на легкой тачанке Четверку гнедых горяча. А ветер все крепче, крепче, А пули все ловят жизнь. И губы девушки шепчут: — Держись, мой красный, держись! Рассвет идет к изголовью. Кустарник росой набряк… Что стало с твоей любовью, С девчонкой твоей, моряк? Перебродило ли горе, Как молодое вино? Пускай погадает море… А впрочем, не все ли равно? Давно ты сошел с тачанки. Уже поседел слегка. Глаза твоей тавричанки Забыл ты наверняка. С другой ты встречал закаты. Воспоминанья прочь! Во всем, во всем виноваты Весна да крымская ночь.На родине
В лопухах и крапиве дворик. За крыльцом трещит стрекоза. Терпкий корень полыни горек, Как невыплаканная слеза. Тополя и березы те же, Та же пыль на кресте дорог, В повечерье, как гость заезжий, Я ступил на родной порог. В этот тихий канун субботы, Так знакомы и так близки, Руки, жесткие от работы, Не коснутся моей щеки. Робкой радостью и тревогой Не затеплится блеклый взгляд. Над последней твоей дорогой Отпылал последний закат. Жизнью ласковой не пригрета, Ты не верила, не ждала. И у самой грани рассвета Приняла тебя злая мгла. Все, о чем ты мечтать не смела, Все, что грезилось нам во мгле, Вешним паводком, без предела, Разлилось по родной земле. Встань, изведавшая с избытком Доли мучениц-матерей, Выйди в сени, открой калитку, Тихим словом сердце согрей. …Не порадует небо синью, Если дым залепил глаза. Песня встала в горле полынью, Как невыплаканная слеза.Грибной дождь
Не торопись, не спеши, подождем. Забудем на миг неотложное дело. Смотри: ожила трава под дождем И старое дерево помолодело. Шуршит под ногами влажный песок. Чиста синева над взорванной тучей. Горбатая радуга наискосок Перепоясала дождик летучий. Сдвигаются огненные столбы, Горят облака… В такие мгновенья Из прели лесной прорастают грибы И песенный жар обретают растенья. И камни, и травы поют под дождем, Блестят серебром озерные воды. Не торопись, не беги, подождем, Послушаем ласковый голос природы.«Время, что ли, у нас такое?..»
Время, что ли, у нас такое? Мне по метрике сорок лет, А охоты к теплу, к покою, Хоть убей, и в помине нет. Если буря шумит на свете — Как в тепле усидеть могу? Подхватил меня резкий ветер, Закружил, забросил в тайгу. По армейской, старой привычке Трехлинейка опять в руке. И тащусь к чертям на кулички На попутном грузовике. Пусть от стужи в суставах скрежет. Пусть от голода зуд тупой. Если пуля в пути не срежет, Значит — жив, значит — песню пой. Только будет крепче и метче Слово, добытое из огня. Фронтовой бродяга-газетчик — Я в любом блиндаже — родня. Чем тропинка труднее, уже, Тем задорней идешь вперед. И тебя на ветру, на стуже Никакая хворь не берет. Будто броня на мне литая. Будто возрасту власти нет. Этак сто проживешь, считая, Что тебе восемнадцать лет.«Друг мой! В таежной ночной тишине…»
Друг мой! В таежной ночной тишине Вспышки ракет осветили окно. Ты на минуту нагнись ко мне, Я тебе слово скажу одно. Если порвет пулеметный дождь Жизни моей непрочную нить, — Вынь мое сердце! Ты в нем найдешь Песню, которая будет жить.«Дорогая, хорошая, сердце мое!..»
Дорогая, хорошая, сердце мое! Как медлителен времени бег! Третий раз эта ночь поднимает в ружье И бросает на черный снег. Успокоилось. Лег. Задремал слегка. Вижу в дымке поволжский плес. Слышу шелест шагов. И твоя рука Чуть коснулась моих волос. Мы над волжским простором вдвоем стоим, В складках туч проступил рассвет. И молчаньем твоим и дыханьем твоим Я на свежем ветру согрет. Журавли улетают на юг, трубя, Тянет холодом зимних дней. Никого я не знаю лучше тебя: Ближе, ласковее, родней. Журавли улетают на юг в вышине. Разве мы их вернем назад?.. Вновь команда: «В ружье!» Опять по стене Хлещет крупный свинцовый град. Если финский стрелок облюбует меня, Гряну навзничь, руки вразброс, Вспомни крик журавлиный, рождение дня, Ветер, молодость, волжский плес.«Он не стонал. Он только хмурил брови…»
Он не стонал. Он только хмурил брови И жадно пил. Смотрели из воды Два впалых глаза. Капли теплой крови В железный ковш стекали с бороды. С врагом и смертью не играя в прятки, Он шел сквозь эти хмурые леса. Такие молча входят в пекло схватки И молча совершают чудеса.Конармейская песня
По военной дороге Шел в грозе и тревоге Боевой восемнадцатый год. Были сборы недолги, От Кубани и Волги Мы коней поднимали в поход. Среди зноя и пыли Мы с Буденным ходили На рысях на большие дела. По курганам горбатым, По речным перекатам Наша громкая слава прошла. На Дону и в Замостье Тлеют белые кости. Над костями шумят ветерки. Помнят псы-атаманы, Помнят польские паны Конармейские наши клинки. Если в край наш спокойный Хлынут новые войны Проливным пулеметным дождем, По дорогам знакомым, За любимым наркомом Мы коней боевых поведем.Терская походная
То не тучи — грозовые облака По-над Тереком на кручах залегли. Кличут трубы молодого казака. Пыль седая встала облаком вдали. Оседлаю я горячего коня, Крепко сумы приторочу вперемет. Встань, казачка молодая, у плетня, Проводи меня до солнышка в поход. Скачут сотни из-за Терека-реки. Под копытами дороженька дрожит. Едут с песней молодые казаки В Красной Армии республике служить. Газыри лежат рядами на груди, Стелет ветер голубые башлыки. Красный маршал Ворошилов, погляди На казачьи богатырские полки. В наших взводах все джигиты на подбор — Ворошиловские меткие стрелки. Встретят вражескую конницу в упор Наши пули и каленые клинки. То не тучи — грозовые облака По-над Тереком на кручах залегли. Кличут трубы молодого казака. Пыль седая встала облаком вдали.Три разведчика
Не трава под ветром клонится, Не гудит над селами звон. Вышла красная, вышла конница От Касторной на Тихий Дон. По пути дымят пожарища. Протрубили конникам сбор, Три буденовца, три товарища Уходили в ночной дозор. По пути дымят пожарища, В серый берег плещет вода. Трем разведчикам, трем товарищам Повстречалась в степи беда. На донских крутых излучинах, Где камыш поднялся стеной, Трех порубанных, трех замученных Подобрал эскадрон родной. Слезы братские уронены На горючий желтый песок. Три разведчика похоронены За селом, где шумит лесок. Под копыта травы клонятся, Мы врагу отплатим урон, Мчится красная, мчится конница От Касторной на Тихий Дон.Чапаевская
На седых уральских кручах Вороны кричат. По Заволжью черной тучей Стелется Колчак. Черной кровью путь отмечен До Белой реки. Сам Чапай ведет навстречу Красные полки. Не угаснет, не увянет Слава этих дней, Бит Колчак в Бугуруслане, Помнит Белебей. Белый волк по степи рыщет, В балки хоронясь. Воровской тропой на Лбищенск Лезет казачня. Налетела свора-стая, Злая ночь темна. Скрыла мертвого Чапая Мутная волна. Не порушил нашу силу Черный адмирал, Мы победу проносили С боем за Урал. Слава тем, кто пал в разведке В боевые дни! В нашей стройке-пятилетке Дело их звенит. По Заволжью след когтистый Заметает пыль, Льется песней тракториста Боевая быль[15]. Не порушит натиск вражий Наши города. Над страной стоит на страже Красная звезда.Поволжанка
Знойная ночь перепутала все Стежки-дорожки. Задорно звенят На зеленом овсе Серебряные сережки. Синие сосны, синяя сонь, — Час расставанья, Над Волгой-рекой Расплескала гармонь Саратовское «страданье». Над тихой гречихой, Над гривой овса Девичью разлуку Поют голоса. Девчонке-подружке Семнадцатый год, Дружок у девчонки Уходит во флот. Над тихой гречихой, Над гривой овса Девчонке грустить Не велят голоса. Подружка подружке Частушку поет, Подружка подружке Надежду дает: «Сирень цветет, Не плачь, Придет…» Над тихой гречихой, Над гривой овса Сливаются Девичьи голоса.Василий Лебедев-Кумач
Песня о Цусиме
В Цусимском проливе далеком, Вдали от родимой земли, На дне океана глубоком Покойно лежат корабли. Там русские спят адмиралы, И дремлют матросы вокруг, У них прорастают кораллы Меж пальцев раскинутых рук. Когда засыпает природа, И яркая светит луна, Герои погибшего флота Встают, пробуждаясь от сна. Они начинают беседу, И, яростно сжав кулаки, О тех, кто их продал и предал, Всю ночь говорят моряки. Они вспоминают Цусиму, И честную храбрость свою, И небо Отчизны любимой, И гибель в неравном бою. И шумом морского прибоя Они говорят морякам: «Готовьтесь к великому бою, За нас отомстите врагам!»Марш веселых ребят
Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда, И любят песню деревни и села, И любят песню большие города. Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет и ведет, И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет! Шагай вперед, комсомольское племя, Шути и пой, чтоб улыбки цвели! Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые хозяева земли! Нам песня жить и любить помогает, Она, как друг, и зовет и ведет, И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет! Мы все добудем, поймем и откроем: Холодный полюс и свод голубой! Когда страна быть прикажет героем, У нас героем становится любой! Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет и ведет, И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет! Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной борьбы и труда, Ведь мы такими родились на свете, Что не сдаемся нигде и никогда! Нам песня жить и любить помогает, Она, как друг, и зовет и ведет, И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет! И если враг нашу радость живую Отнять захочет в упорном бою, Тогда мы песню споем боевую И встанем грудью за Родину свою! Нам песня строить и жить помогает, Она на крыльях к победе ведет, И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!Веселый ветер
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, Веселый ветер, веселый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете И все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про дикие горы, Про глубокие тайны морей, Про птичьи разговоры, Про синие просторы, Про смелых и больших людей! Кто привык за победу бороться, С нами вместе пускай запоет: Кто весел — тот смеется, Кто хочет — тот добьется, Кто ищет — тот всегда найдет! А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, Веселый ветер, веселый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете И все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про чащи лесные, Про звериный запутанный след, Про шорохи ночные, Про мускулы стальные, Про радость боевых побед! Кто привык за победу бороться, С нами вместе пускай запоет: Кто весел — тот смеется, Кто хочет — тот добьется, Кто ищет — тот всегда найдет! А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, Веселый ветер, веселый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете И все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про славу и смелость, Про ученых, героев, бойцов, Чтоб сердце загорелось, Чтоб каждому хотелось Догнать и перегнать отцов! Кто привык за победу бороться, С нами вместе пускай запоет: Кто весел — тот смеется, Кто хочет — тот добьется, Кто ищет — тот всегда найдет! А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, Веселый ветер, веселый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете И все на свете песенки слыхал. Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали Все весенние песни земли, Чтоб трубы заиграли, Чтоб губы подпевали, Чтоб ноги веселей пошли! Кто привык за победу бороться, С нами вместе пускай запоет: Кто весел — тот смеется, Кто хочет — тот добьется, Кто ищет — тот всегда найдет!Молодежная
Вьется дымка золотая придорожная… Ой ты, радость молодая, невозможная! Точно небо, высока ты, Точно море, широка ты, Необъятная дорога молодежная! Эй, грянем Сильнее! Подтянем Дружнее! Точно небо, высока ты, Точно море, широка ты, Необъятная дорога молодежная! В море чайку обгоняем мы далекую, В небе тучу пробиваем мы высокую! Улыбаясь нашей стае, Всей земли одна шестая Нашей радостью наполнена широкою! Эй, грянем Сильнее! Подтянем Дружнее! Улыбаясь нашей стае, Всей земли одна шестая Нашей радостью наполнена широкою! Что мечталось и хотелось, то сбывается, Прямо к солнцу наша смелость пробивается! Всех разбудим-будим-будим, Все добудем-будем-будем! Словно колос, наша радость наливается! Эй, грянем Сильнее! Подтянем Дружнее! Всех разбудим-будим-будим, Все добудем-будем-будем, Словно колос, наша радость наливается! В пляске ноги ходят сами, сами просятся, И над нами соловьями песни носятся! Эй, подруга, выходи-ка И на друга погляди-ка, Чтобы шуткою веселой переброситься! Эй, грянем Сильнее! Подтянем Дружнее! Эй, подруга, выходи-ка, И на друга погляди-ка, Чтобы шуткою веселой переброситься!Идем, идем, веселые подруги!
Идем, идем, веселые подруги, Страна, как мать, зовет и любит нас! Везде нужны заботливые руки И наш хозяйский, теплый женский глаз. А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! Пускай поет о нас страна! И звонкой песнею пускай прославятся Среди героев наши имена! Для нас пути открыты все на свете, И свой поклон приносит нам земля, Не зря у нас растут цветы и дети И колосятся тучные поля! И города, и фабрики, и пашни — Все это наш родной и милый дом. Пусть новый день обгонит день вчерашний Своим весельем, радостным трудом! Расти, страна, где волею единой Народы все слились в один народ! Цвети, страна, где женщина с мужчиной В одних рядах, свободная, идет! А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! Пускай поет о нас страна! И звонкой песнею пускай прославятся Среди героев наши имена!Я на подвиг тебя провожала
Я на подвиг тебя провожала, Над страною гремела гроза. Я тебя провожала И слезы сдержала, И были сухими глаза. Ты в жаркое дело Спокойно и смело Иди, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его. Там, где кони по трупам шагают, Где всю землю окрасила кровь, — Пусть тебе помогает, От пуль сберегает Моя молодая любовь, Я в дело любое Готова с тобою Идти, не боясь ничего! Если ранили друга, Сумеет подруга Врагам отомстить за него! Если ранили друга, Перевяжет подруга Горячие раны его.Солнце садится
Солнце садится, Месяц родится, А ребятам И девчатам По ночам не спится. Сердце то стихнет, То вдруг забьется. Ведь недаром Столько песен Про любовь поется! Теплыми стали Синие ночи, Чтоб сияли, Чтоб не спали Молодые очи. С ветки упала Спелая вишня, Для тебя я, Молодая, В сад зеленый вышла. Если б мне дали Крылья на плечи, Я б запела, Полетела Милому навстречу. Солнце морозом Ты не остудишь, Пусть ты хочешь, Пусть не хочешь — Все равно полюбишь! Сердце то стихнет, То вдруг забьется. Ведь недаром Столько песен Про любовь поется!Расцвела сирень
Стал длиннее день И весна идет, Расцвела сирень, Сердце ласки ждет. Голубым ручьем Мне поет весна: «Все идут вдвоем, Только ты одна!» Ах, весной до слез Счастья хочется, Надоел мороз Одиночества! Кто растопит лед Нераскованный? Мой любимый ждет, Нецелованный! Ой, луна, луна, Ночи белые! Что с тобой, весна, Я поделаю? Душно мне одной Голубой весной, Скучно мне одной Говорить с луной! Ах, весной до слез Счастья хочется, Надоел мороз Одиночества! Кто растопит лед Нераскованный? Мой любимый ждет, Нецелованный!Ой, зеленая верба!
Ой, зеленая верба, Молодая луна! Этой ночью, наверно, Никому не до сна. Ой вы, звезды-снежинки, Золотой хоровод! По заветной тропинке Милый к милой идет. Счастлив, кто любит, Кто с милой дружен. Нелюбимый, Нелюбимый Никому не нужен! Стынут милые ножки от холодной росы, Подождите немножко, Не спешите, часы! Расставаться так горько, Если милый с тобой! Ой, румяная зорька, Подожди за горой! Счастлив, кто любит, Кто с милой дружен. Нелюбимый, Нелюбимый Никому не нужен!На лодке
С той поры, как мы увиделись с тобой, В сердце радость я, как солнышко, ношу, По-другому и живу я и дышу С той норы, как мы увиделись с тобой. Милый друг, наконец-то мы вместе! Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей, большой любви! Точно звезды, светят ясные глаза, Отражается в них вечер золотой. Над прозрачною и теплою водой, Точно звезды, светят ясные глаза. Не могу я наглядеться на тебя, Как мы жили друг без друга — не пойму. Не пойму я, отчего и почему Не могу я наглядеться на тебя! Милый друг, наконец-то мы вместе! Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей, большой любви!Если б имела я десять сердец
Вся я горю, не пойму отчего… Сердце, ну как же мне быть? Ах, почему изо всех одного Можем мы в жизни любить? Сердце в груди Бьется, как птица, И хочешь знать, Что ждет впереди, И хочется счастья добиться! Радость поет, как весенний скворец, Жизнь и тепла, и светла. Если б имела я десять сердец, — Все бы ему отдала! Сердце в груди Бьется, как птица, И хочешь знать, Что ждет впереди, И хочется счастья добиться!Если Волга разольется
Много горя и страданья Сердце терпит невзначай. Милый скажет: «До свиданья…» Сердце слышит: «И прощай». Наперед не угадаешь, С кем судьбу свою найдешь. Коль полюбишь, пострадаешь, Эту песню запоешь. Если Волга разольется, Трудно Волгу переплыть. Если милый не смеется, Трудно милого любить. Без луны на небе мутно, А при ней мороз сильней. Без любви на свете трудно, А любить еще трудней. Я девчонка молодая, Что мне делать, как мне быть? Оттого я и страдаю, Что не знаю, как любить: Крепко любишь — избалуешь, Мало любишь — отпугнешь, Беспокойный — ты ревнуешь. А спокойный — нехорош. Счастье — птичка-невеличка, Нет ни клетки, ни гнезда, То погаснет, точно спичка, То зажжется, как звезда. Нету кушанья без соли, Если вышла — так купи. Нету радости без боли, Если любишь — так терпи. Видно, вкус мой изменился, Что поделать мне с собой? Карий глаз вчера приснился, А сегодня — голубой. Трудно в маленьких влюбляться, Как их будешь обожать: Целоваться — нагибаться, Провожать — в карман сажать. Если Волга разольется, Трудно Волгу переплыть. Если милый не смеется, Трудно милого любить. Без луны на небе мутно, А при ней мороз сильней. Без любви на свете трудно, А любить еще трудней.Ах, сам я не верил
Ах, сам я не верил, что с первого взгляда Любовь налетит, как гроза. Ах, сам я не думал, что могут солдата Поранить девичьи глаза. Не знал я, не ведал, что пули быстрее Сердца поражает любовь. Не думал, что сабли казацкой острее Густая и темная бровь. Ах, сам я не верил, что буду я вскоре У девушки робкой в плену. Не знал я, что в милом и ласковом взоре, Как в море, навек утону. И жаждой томимый, и солнцем палимый, Я многие страны прошел, Но лучше моей дорогой и любимой Нигде на земле не нашел…Девушка
Девушка, девушка, — это тебе я Сердцем влюбленным пою. Девушка, девушка, ты не робея Выслушай песню мою. Солнце дано, чтобы греть и светить, Песни, — чтоб их распевать, Сердце дано, чтобы милых любить, Губы, — чтоб их целовать! Девушка, девушка, — осень настанет, Счастье весною лови. Девушка, девушка, сердце увянет, Если не знает любви! Девушка, девушка, — вечер начнется После веселого дня. Девушка, девушка, солнце вернется, Если полюбишь меня! Девушка, девушка, — счастье любое Нам обещает весна. Девушка, девушка, нам ли с тобою В ласке откажет страна! Солнце дано, чтобы греть и светить, Песни, — чтоб их распевать, Сердце дано, чтобы милых любить, Губы, — чтоб их целовать!Простые слова
Как радостно птицей лететь домой, Любовь и неясность тая, И знать, что спросят тебя: — Ты мой? И скажут тебе: — Я твоя! Простые слова, Смешные слова, Всегда и везде все те же, — Но вспыхнет любовь, И все они вновь, Как листья весенние, свежи! Приятно из милых и теплых рук Уйти к работе любой, И знать, что дома остался друг И шепчет он вместе с тобой. Простые слова, Смешные слова, Всегда и везде все те же, — Но вспыхнет любовь, И все они вновь, Как листья весенние, свежи! Пускай огорченья порой у нас, Пускай обиды придут… Уйдет, уйдет нехороший час, И милые губы найдут. Простые слова, Смешные слова, Всегда и везде все те же, — Но вспыхнет любовь, И все они вновь, Как листья весенние, свежи! Пока не умрет на земле весна, — Не кончит сердце стучать, Пока за солнцем бежит луна, — Как музыка, будут звучать. Простые слова, Смешные слова, Всегда и везде все те же, — Но вспыхнет любовь, И все они вновь, Как листья весенние, свежи!Песенка о капитане
Жил отважный капитан, Он объездил много стран, И не раз он бороздил океан. Раз пятнадцать он тонул, Погибал среди акул, Но ни разу даже глазом не моргнул, И в беде, И в бою Напевал он всюду песенку свою: — Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка — это флаг корабля! Капитан, капитан, подтянитесь, Только смелым покоряются моря! Но однажды капитан Был в одной из дальних стран И влюбился, как простой мальчуган. Раз пятнадцать он краснел, Заикался и бледнел, Но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, Он худел, И никто ему по-дружески не спел: — Капитан, капитан, улыбнитесь, Ведь улыбка — это флаг корабля! Капитан, капитан, подтянитесь, Только смелым покоряются моря!Демьян Бедный
Еж
Где объявился еж, змее уж там не место. «Вот черт щетинистый! Вот проклятущий бес-то! Ну, погоди ужо: долг красен платежом!» Змея задумала расправиться с ежом, Но, силы собственной на это не имея, Она пустилася вправлять мозги зверьку Хорьку: «Приятель, погляди, что припасла к зиме я: Какого крупного ежа! Вот закусить кем можно плотно! Одначе, дружбою с тобою дорожа, Я это лакомство дарю тебе охотно. Попробуешь, хорек, ежиного мясца, Ввек не захочешь есть иного!» Хорьку заманчиво и ново Ежа испробовать. Бьет у хорька слюнца: «С какого взять его конца?» «Бери с любого! Бери с любого! — Советует змея. — С любого, голубок! Зубами можешь ты ему вцепится в бок Иль распороть ему брюшину, Лишь не зевай!» Но еж свернулся уж в клубок. Хорь, изогнувши нервно спину, От хищной радости дрожа, Прыжком метнулся на ежа И напоролся… на щетину. Змея шипит: «Дави! Дави его! Дави!.. Да что ты пятишься? Ополоумел, что ли?!» А у хорька темно в глазах от боли И морда вся в крови. «Дави сама его! — сказал змее он злобно. — И ешь сама… без дележа. Что до меня, то блюдо из ежа, Мне кажется, не так-то уж съедобно!» Мораль: враги б давно вонзили в нас клыки, Когда б от хищников, грозящих нам войною, Не ограждали нас щетиною стальною Красноармейские штыки.Пчела
В саду зеленом и густом Пчела под розовым кустом Заботливо и радостно жужжала. А под кустом змея лежала. «Ах, пчелка, почему, скажи, судьба твоя Счастливее гораздо, чем моя?» Сказала так пчеле змея: «В одной чести с тобой мне быть бы надлежало. Людей мое пугает жало, Но почему ж тогда тебе такая честь И ты среди людей летаешь так привольно? И у тебя ведь жало есть, Которым жалишь ты, и жалишь очень больно!» «Скажу, ты главного, я вижу, не учла, — Змее ответила пчела, — Что мы по-разному с тобою знамениты, Что разное у нас с тобой житье-бытье, Что ты пускаешь в ход оружие свое Для нападения, я ж — только для защиты».Слепой Афоня
Зла в Афоне нет и следу, Предушевный паренек. Любит вечером к соседу Он зайти на огонек. «Добрый вечер, Пал-Иваныч!» И пожатие руки. Пал-Иваныч с книгой на ночь: Над евангельем Луки. «Добрый вечер, друг Афоня! Из райкома аль в райком? Посиди, за чем погоня? Побалуемся чайком». Так уютно, Так приютно, Самоварчик так поет. Пал-Иваныч поминутно Чашку с чаем подает. Говорит он так солидно, Речь такую слушать век, — Сразу видно, Сразу видно, Что хороший человек. Есть грешок в нем: богомолен. Ну да бог ему простит, Сам живет он, — всем доволен И предрика угостит. Жил когда-то он богато, А теперь наоборот. Мало ль было что когда-то? Нынче он, как весь народ. Все в колхоз, и он туда же, Подтянув себе живот. Получилось как-то даже: Он в колхозе счетовод. На мудрейшие задачи У него готов ответ: «Как по части хлебосдачи, Пал-Иваныч, сбою нет?» Пал-Иваныч тихо крякнет: «Первым делом важен план-с». — Раз-другой на счетах брякнет И покажет весь баланс. «Вот себя заобеспечим… Не умрет без нас Москва…» Крыть его, глядишь, и нечем, Потому что — голова. Видно все как на ладони, Вот какие, мол, дела. Ясно сразу для Афони: Хлебосдача тяжела. Вот с весны в колхозе кони Чтой-то стали подыхать. Ясно сразу для Афони: Всей запашки не вспахать. Нет порядочной супони, А не то что — хомута. Ясно сразу для Афони: Не колхоз, а срамота. Люди — лодыри и сони… Хоть бежать отсель бегом… Ясно, ясно для Афони: Пал-Иваныч прав кругом. Искривил Афоня губы, Ус досадливо грызет: «Отчего бы, почему бы Так колхозу не везет? Враг бы нам подставил ногу, Так с врагами — благодать: Кулаков у нас, ей-богу, Не слыхать и не видать!» «Весь колхоз перепололи. Где тут взяться кулаку?.. Подогреть чаишку что-ли? Я подбавлю сахарку». Так уютно, Так приютно, Самоварчик так поет. Пал-Иваныч поминутно Чашку с чаем подает. Говорит он так солидно. Речь такую слушать век. Сразу видно, Сразу видно, Что хор-ро-ший человек!Живое звено
Смерть. С ней мирится ум, но сердце не мирится, Болезненно сжимаясь каждый раз. Не верится, что нет бойца, что он — угас: Улыбкою его лицо не озарится, Морщинки ласково не набегут у глаз. Внезапным натиском смертельного недуга Боец сражен. Поникла голова. …Последний путь. Прощальные слова. С останками испытанного друга Простилась скорбная Москва. Прощай, Барбюс! Ты — мертв. Но образ твой — он вечен, Как вечно то, чему так честно ты служил. На родине своей ты будешь встречен Железным строем тех, чьей славой ты отмечен, Чьей героической борьбой дышал и жил. Нас разлучат с тобой леса, долины, реки, Но ты для нас в краю своем родном С друзьями нашими останешься навеки Живым и творческим звеном.Николай Заболоцкий
Осень
Когда минует день и освещение Природа выбирает не сама, Осенних рощ большие помещения Стоят на воздухе, как чистые дома. В них ястребы живут, вороны в них ночуют, И облака вверху, как призраки, кочуют. Осенних листьев ссохлось вещество И землю всю устлало. В отдалении На четырех ногах большое существо Идет, мыча, в туманное селение. Бык, бык! Ужели больше ты не царь? Кленовый лист напоминает нам янтарь. Дух Осени, дай силу мне владеть пером! В строенье воздуха — присутствие алмаза. Бык скрылся за углом, И солнечная масса Туманным шаром над землей висит И край земли, мерцая, кровенит. Вращая круглым глазом из-под век, Летит внизу большая птица. В ее движенье чувствуется человек. По крайней мере он таится В своем зародыше меж двух широких крыл. Жук домик между листьев приоткрыл. Архитектура Осени. Расположенье в ней Воздушного пространства, рощи, речки, Расположение животных и людей, Когда летят по воздуху колечки И завитушки листьев, и особый свет, — Вот то, что выберем среди других примет. Жук домик между листьев приоткрыл И, рожки выставив, выглядывает, Жук разных корешков себе нарыл И в кучку складывает, Потом трубит в свой маленький рожок И вновь скрывается, как маленький божок. Но вот приходит ветер. Все, что было чистым, Пространственным, светящимся, сухим, — Все стало серым, неприятным, мглистым, Неразличимым. Ветер гонит дым, Вращает воздух, листья валит ворохом И верх земли взрывает порохом. И вся природа начинает леденеть. Лист клена, словно медь, Звенит, ударившись о маленький сучок, И мы должны понять, что это есть значок, Который посылает нам природа, Вступившая в другое время года.Утренняя песня
Могучий день пришел. Деревья встали прямо, Вздохнули листья. В деревянных жилах Вода закапала. Квадратное окошко Над светлою землею распахнулось, И все, кто были в башенке, сошлись Взглянуть на небо, полное сиянья. И мы стояли тоже у окна. Была жена в своем весеннем платье, И мальчик на руках ее сидел, Весь розовый и голый, и смеялся, И, полный безмятежной чистоты, Смотрел на небо, где сияло солнце. А там, внизу, деревья, звери, птицы, Большие, сильные, мохнатые, живые, Сошлись в кружок и на больших гитарах, На дудочках, на скрипках, на волынках Вдруг заиграли утреннюю песню, Встречая нас. И все кругом запело. И все кругом запело так, что козлик И тот пошел скакать вокруг амбара. И понял я в то золотое утро, Что счастье человечества — бессмертно.Прощание
Памяти С. М. Кирова Прощание! Скорбное слово! Безгласное темное тело. С высот Ленинграда сурово Холодное небо глядело. И молча, без грома и пенья, Все три боевых поколенья В тот день бесконечной толпою Прошли, расставаясь с тобою. В холодных садах Ленинграда, Забытая в траурном марше, Огромных дубов колоннада Стояла, как будто на страже. Казалось, высоко над нами Природа сомкнулась рядами И тихо рыдала и пела, Узнав неподвижное тело. Но видел я дальние дали, И слышал с друзьями моими, Как дети детей повторяли Его незабвенное имя. И мир исполински прекрасный Сиял над могилой безгласной, И был он надежен и крепок, Как сердца погибшего слепок.Начало зимы
Зимы холодное и ясное начало Сегодня в дверь мою три раза простучало. Я вышел в поле. Острый, как металл, Мне зимний воздух сердце спеленал, Но я вздохнул и, разгибая спину, Легко сбежал с пригорка на равнину. Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник. Заковывая холодом природу, Зима идет и руки тянет в воду. Река дрожит и, чуя смертный час, Уже открыть не может томных глаз, И все ее беспомощное тело Вдруг страшно вытянулось и оцепенело И, еле двигая свинцовою волною, Теперь лежит и бьется головой. Я наблюдал, как речка умирала, Не день, не два, но только в этот миг, Когда она от боли застонала, В ее сознанье, кажется, проник. В печальный час, когда исчезла сила, Когда вокруг не стало никого, Природа в речке нам изобразила Скользящий мир сознанья своего. И уходящий трепет размышленья Я, кажется, прочел в ее томленье, И в выраженье волн предсмертные черты Вдруг уловил. И если знаешь ты, Как смотрят люди в день своей кончины, Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины Смертельно почерневшая вода Чешуйками подергивалась льда. И я стоял у каменной глазницы, Ловил на ней последний отблеск дня. Огромные внимательные птицы Смотрели с елки прямо на меня. И я ушел. И ночь уже спустилась. Крутился ветер, падая в трубу. И речка, вероятно, еле билась, Затвердевая в каменном гробу.Весна в лесу
Каждый день на косогоре я Пропадаю, милый друг. Вешних дней лаборатория Расположена вокруг. В каждом маленьком растеньице, Словно в колбочке живой, Влага солнечная пенится И кипит сама собой. Эти колбочки исследовав, Словно химик или врач, В длинных перьях фиолетовых По дороге ходит грач. Он штудирует внимательно По тетрадке свой урок И больших червей питательных Собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, Нелюдимый, как дикарь, Песню прадедов воинственных Начинает петь глухарь. Словно идолище древнее, Обезумев от греха, Он рокочет за деревнею И колышет потроха. А на кочках под осинами, Солнца празднуя восход, С причитаньями старинными Водят зайцы хоровод. Лапки к лапкам прижимаючи, Вроде маленьких ребят, Про свои обиды заячьи Монотонно говорят. И над песнями, над плясками В эту пору каждый миг, Населяя землю сказками, Пламенеет солнца лик. И, наверно, наклоняется В наши древние леса И невольно улыбается На лесные чудеса.Засуха
О солнце, раскаленное чрез меру, Угасни, смилуйся над бедною землей! Мир призраков колеблет атмосферу, Дрожит весь воздух ярко-золотой. Над желтыми лохмотьями растений Плывут прозрачные фигуры испарений. Как страшен ты, костлявый мир цветов, Сожженных венчиков, расколотых листов Обезображенных, обугленных головок, Где бродит стадо божиих коровок! В смертельном обмороке бедная река Чуть шевелит засохшими устами. Украсив дно большими бороздами, Ползут улитки, высунув рога. Подводные кибиточки, повозки, Коробочки из перла и известки, Остановитесь! В этот страшный день Ничто не движется, пока не пала тень. Лишь вечером, как только за дубравы Опустится багровый солнца круг, Заплакав жалобно, придут в сознанье травы, Вздохнут дубы, подняв остатки рук. Но жизнь моя печальней во сто крат, Когда болеет разум одинокий И вымыслы, как чудища, сидят, Поднявши морды над гнилой осокой. И в обмороке смутная душа, И, как улитки, движутся сомненья, И на песках, колеблясь и дрожа, Встают, как уголь, черные растенья. И чтобы снова исцелился разум, И дождь и вихрь пускай ударят разом! Ловите молнию в большие фонари, Руками черпайте кристальный свет зари, И радуга, упавшая на плечи, Пускай дома украсит человечьи. Не бойтесь бурь! Пускай ударит в грудь Природы очистительная сила! Ей все равно с дороги не свернуть, Которую сознанье начертило. Учительница, девственница, мать, Ты не богиня, да и мы не боги, Но все-таки как сладко понимать Твои бессвязные и смутные уроки!Ночной сад
О сад ночной, таинственный орган, Лес длинных труб, приют виолончелей! О, сад ночной, печальный караван Немых дубов и неподвижных елей! Он целый день метался и шумел. Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем. Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел, Переплетались в воздухе осеннем. Железный Август в длинных сапогах Стоял вдали с большой тарелкой дичи. И выстрелы гремели на лугах, И в воздухе мелькали тельца птичьи. И сад умолк, и месяц вышел вдруг, Легли внизу десятки длинных теней, И толпы лип вздымали кисти рук, Скрывая птиц под купами растений. О сад ночной, о бедный сад ночной, О существа, заснувшие надолго! О вспыхнувший над самой головой Мгновенный пламень звездного осколка!Все, что было в душе
Все, что было в душе, все как будто опять потерялось, И лежал я в траве, и печалью и скукой томим, И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. И когда я открыл свою книгу в большом переплете, Где на первой странице растения виден чертеж. И черна и мертва, протянулась от книги к природе То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь. И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье И как будто пытался чужую премудрость понять, Трепетало в листах непривычное мысли движенье, То усилие воли, которое не передать. И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась. И запела печальная тварь славословье уму, И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.Вчера, о смерти размышляя
Вчера, о смерти размышляя, Ожесточилась вдруг душа моя. Печальный день, природа вековая Из тьмы лесов смотрела на меня. И нестерпимая тоска разъединенья Пронзила сердце мне, и в этот миг Все, все услышал я — и трав вечерних пенье, И речь воды, и камня мертвый крик. И я, живой, скитался над полями, Входил без страха в лес, И мысли мертвецов прозрачными столбами Вокруг меня вставали до небес. И голос Пушкина был над листвою слышен, И птицы Хлебникова пели у воды. И встретил камень я. Был камень неподвижен, И проступал в нем лик Сковороды. И все существованья, все народы Нетленное хранили бытие, И сам я был не детище природы, Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!Север
В воротах Азии, среди лесов дремучих, Где сосны древние стоят, купая в тучах Свои закованные холодом верхи; Где волка валит с ног дыханием пурги; Где холодом охваченная птица Летит, летит и вдруг, затрепетав, Повиснет в воздухе, и кровь ее сгустится, И птица падает, замерзшая, стремглав; Где в желобах своих гробообразных, Составленных из каменного льда, Едва течет в глубинах рек прекрасных От наших взоров скрытая вода; Где самый воздух, острый и блестящий, Дает нам счастье жизни настоящей, Весь из кристаллов холода сложен; Где солнца шар короной окружен; Где люди с ледяными бородами, Надев на голову конический треух, Сидят в санях и длинными столбами Пускают изо рта оледенелый дух; Где лошади, как мамонты в оглоблях, Бегут, урча; где дым стоит на кровлях, Как изваяние, пугающее глаз; Где снег, сверкая, падает на нас И каждая снежинка на ладони То звездочку напомнит, то кружок, То вдруг цилиндриком блеснет на небосклоне, То крестиком опустится у ног; В воротах Азии, в объятиях метели, Где сосны в шубах и в тулупах ели, — Несметные богатства затая, Лежит в сугробах родина моя. А дальше к северу, где океан полярный Гудит всю ночь и перпендикулярный Над головою поднимает лед, Где весь оледенелый, самолет Свой тяжкий винт едва-едва вращает И дальние зимовья навещает, — Там тень «Челюскина» среди отвесных плит, Как призрак царственный над пропастью стоит. Корабль недвижим. Призрак величавый, Что ты стоишь с твоею чудной славой? Ты — пар воображенья, ты — фантом, Но подвиг твой — свидетельство о том, Что здесь, на Севере, в средине льдов тяжелых, Разрезав моря каменную грудь, Флотилии огромных ледоколов Необычайный вырубили путь. Как бронтозавры каменного века, Они прошли, созданья человека, Плавучие вместилища чудес, Бия винтами, льдам наперерез. И вся природа мертвыми руками Простерлась к ним, но, брошенная вспять, Горой отчаянья легла над берегами И не посмела головы поднять.Седов
Он умирал, сжимая компас верный. Природа мертвая, закованная льдом, Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный Через туман просвечивал с трудом. Лохматые, с ремнями на груди, Свой легкий груз собаки чуть влачили. Корабль, затертый в ледяной могиле, Уж далеко остался позади. И целый мир остался за спиною! В страну безмолвия, где полюс-великан, Увенчанный тиарой ледяною, С меридианом свел меридиан; Где полукруг полярного сиянья Копьем алмазным небо пересек; Где вековое мертвое молчанье Нарушить мог один лишь человек, — Туда, туда! В страну туманных бредней, Где обрывается последней жизни нить! И сердца стон и жизни миг последний — Все, все отдать, но полюс победить! Он умирал посереди дороги, Болезнями и голодом томим. В цинготных пятнах ледяные ноги, Как бревна, мертвые лежали перед ним. Но странно! В этом полумертвом теле Еще жила великая душа: Превозмогая боль, едва дыша, К лицу приблизив компас еле-еле, Он проверял по стрелке свой маршрут И гнал вперед свой поезд погребальный… О край земли, угрюмый и печальный? Какие люди побывали тут! И есть на дальнем Севере могила… Вдали от мира высится она. Один лишь ветер воет там уныло, И снега ровная блистает пелена. Два верных друга, чуть живые оба, Среди камней героя погребли, И не было ему простого даже гроба, Щепотки не было родной ему земли. И не было ему ни почестей военных, Ни траурных салютов, ни венков, Лишь два матроса, стоя на коленях, Как дети, плакали одни среди снегов. Но люди мужества, друзья, не умирают! Теперь, когда над нашей головой Стальные вихри воздух рассекают И пропадают в дымке голубой, Когда, достигнув снежного зенита, Наш флаг над полюсом колеблется, крылат, И обозначены углом теодолита Восход луны и солнечный закат, — Друзья мои, на торжестве народном Помянем тех, кто пал в краю холодном! Вставай, Седов, отважный сын земли! Твой старый компас мы сменили новым, Но твой поход на Севере суровом Забыть в своих походах не могли. И жить бы нам на свете без предела, Вгрызаясь в льды, меняя русла рек, — Отчизна воспитала нас и в тело Живую душу вдунула навек. И мы пойдем в урочища любые, И, если смерть застигнет у снегов, Лишь одного просил бы у судьбы я: Так умереть, как умирал Седов.Голубиная книга
В младенчестве я слышал много раз Полузабытый прадедов рассказ О книге сокровенной[16]… За рекою Кровавый луч зари, бывало, чуть горит, Уж спать пора, уж белой пеленою С реки ползет туман и сердце леденит, Уж бедный мир, забыв свои страданья, Затихнул весь, и только вдалеке Кузнечик, маленький работник мирозданья, Все трудится, поет, не требуя вниманья, — Один, на непонятном языке… О тихий час, начало летней ночи! Деревня в сумерках. И возле темных хат Седые пахари, полузакрывши очи, На бревнах еле слышно говорят. И вижу я сквозь темноту ночную, Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг, То спутанную бороду седую, То жилы выпуклые истомленных рук, И слышу я знакомое сказанье, Как правда кривду вызвала на бой, Как одолела кривда, и крестьяне С тех пор живут обижены судьбой. Лишь далеко на океане-море, На белом камне, посредине вод, Сияет книга в золотом уборе, Лучами упираясь в небосвод. Та книга выпала из некой грозной тучи, Все буквы в ней цветами проросли, И в ней написана рукой судеб могучей Вся правда сокровенная земли. Но семь на ней повешено печатей, И семь зверей ту книгу стерегут, И велено до той поры молчать ей, Пока печати в бездну не спадут. А ночь горит над тихою землею, Дрожащим светом залиты поля, И высоко плывут над головою Туманные ночные тополя. Как сказка — мир. Сказания народа, Их мудрость темная, но милая вдвойне, Как эта древняя могучая природа, С младенчества запали в душу мне… Где ты, старик, рассказчик мой ночной? Мечтал ли ты о правде трудовой И верил ли в годину искупленья? Не знаю я… Ты умер, наг и сир, И над тобою, полные кипенья, Давно шумят иные поколенья, Угрюмый перестраивая мир.Метаморфозы
Как мир меняется! И как я сам меняюсь! Лишь именем одним я называюсь, — На самом деле то, что именуют мной, — Не я один. Нас много. Я — живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел Я отделил от собственного тела! И если б только разум мой прозрел И в землю устремил пронзительное око, Он увидал бы там, среди могил, глубоко Лежащего меня. Он показал бы мне Меня, колеблемого на морской волне, Меня, летящего по ветру в край незримый, Мой бедный прах, когда-то так любимый. А я все жив! Все чище и полней Объемлет дух скопленье чудных тварей. Жива природа. Жив среди камней И злак живой и мертвый мой гербарий. Звено в звено и форма в форму. Мир Во всей его живой архитектуре — Орган поющий, море труб, клавир, Не умирающий ни в радости, ни в буре. Как все меняется! Что было раньше птицей, Теперь лежит написанной страницей; Мысль некогда была простым цветком, Поэма шествовала медленным быком; А то, что было мною, то, быть может, Опять растет и мир растений множит. Вот так, с трудом пытаясь развивать Как бы клубок какой-то сложной пряжи, Вдруг и увидишь то, что должно называть Бессмертием. О, суеверья наши!Лесное озеро
Опять мне блеснула, окована сном, Хрустальная чаша во мраке лесном. Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья, Где пьют насекомые сок из растенья, Где буйствуют стебли и стонут цветы, Где хищная тварями правит природа, Пробрался к тебе я и замер у входа, Раздвинув руками сухие кусты. В венце из кувшинок, в уборе осок, В сухом ожерелье растительных дудок Лежал целомудренной влаги кусок, Убежище рыб и пристанище уток. Но странно, как тихо и важно кругом! Откуда в трущобах такое величье? Зачем не беснуется полчище птичье, Но спит, убаюкано сладостным сном? Один лишь кулик на судьбу негодует И в дудку растенья бессмысленно дует. И озеро в тихом вечернем огне Лежит в глубине, неподвижно сияя, И сосны, как свечи, стоят в вышине, Смыкаясь рядами от края до края. Бездонная чаша прозрачной воды Сияла и мыслила мыслью отдельной. Так око больного в тоске беспредельной При первом сиянье вечерней звезды, Уже не сочувствуя телу больному, Горит, устремленное к небу ночному. И толпы животных и диких зверей, Просунув сквозь елки рогатые лица, К источнику правды, к купели своей Склонялись воды животворной напиться.Соловей
Уже умолкала лесная капелла. Едва открывал свое горлышко чижик. В коронке листов соловьиное тело Одно, не смолкая, над миром звенело. Чем больше я гнал вас, коварные страсти, Тем меньше я мог насмехаться над вами. В твоей ли, пичужка ничтожная, власти Безмолвствовать в этом сияющем храме? Косые лучи, ударяя в поверхность Прохладных листов, улетали в пространство. Чем больше тебя я испытывал, верность, Тем меньше я верил в твое постоянство. А ты, соловей, пригвожденный к искусству, В свою Клеопатру влюбленный Антоний, Как мог ты довериться, бешеный, чувству, Как мог ты увлечься любовной погоней? Зачем, покидая вечерние рощи, Ты сердце мое разрываешь на части? Я болен тобою, а было бы проще Расстаться с тобою, уйти от напасти. Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери, Родители первых пустынных симфоний, Твои восклицанья услышав в пещере, Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»Владимир Луговской
Послесловие
Меня берут за лацканы, Мне не дают покоя: Срифмуйте нечто ласковое, Тоскливое такое, Чтобы пахнуло свежестью, Гармоникой, осокой, Чтобы людям понежиться Под месяцем высоким. Чтобы опять метелица Да тоненькая бровь. Все в мире перемелется — Останется любовь. Останутся хорошие Слова, слова, слова, Осенними порошами Застонет голова, Застонет, занедужится Широкая печаль — Рябиновая лужица, Березовая даль. Мне плечи обволакивают, Мне не дают покоя — Срифмуйте нечто ласковое, Замшевое такое, Чтоб шла разноголосица Бандитских банд, Чтобы крутил колесиком Стихов джаз-банд, Чтобы летели, вскрикивая, Метафоры погуще, Чтобы искать великое В кофейной гуще. Вы ж будете вне конкурса По вычурной манере, — Показывайте фокусы Открытия Америк. Все в мире перекрошится, Оставя для веков Сафьяновую кожицу На томике стихов. Эй, водосточный желоб, Заткнись и замолчи! — Слова мои — тяжелые, Большие кирпичи. Их трудно каждый год бросать На книжные листы. Я строю стих для бодрости, Для крепкой прямоты. Я бьюсь с утра до вечера И веселюсь при этом. Я был политпросветчиком, Солдатом и поэтом. Не знаю — отольются ли Стихи в мою судьбу, — Морщинки революции Прорезаны на лбу. Не по графам и рубрикам Писал я жизни счет. Советская Республика Вела меня вперед. Я был набит ошибками, Но не кривился в слове, И после каждой сшибки я Вставал и дрался снова. И было много трусости, Но я ее душил. Такой тяжелый груз нести Не сладко для души. А ты, мой честный труд браня, Бьешь холостым патроном, Ты хочешь сделать из меня Гитару с патефоном. Тебе бы стих для именин, Вертляв и беззаботен. Иди отсюда, гражданин, И не мешай работе.Пепел
Твой голос уже относило. Века Входили в глухое пространство меж нами. Природа в тебе замолчала, И только одна строка На бронзовой вышке волос, как забытое знамя, вилась И упала, как шелк, в темноту. Тут подпись и росчерк. Все кончено, Лишь понемногу в сознанье въезжает вагон, идущий, как мальчик, не в ногу с пехотой столбов телеграфных, агония храпа артистов эстрады, залегших на полках, случайная фраза: «Я рада…» И ряд безобразных сравнений, эпитетов и заготовок стихов. И все это вроде любви. Или вроде прощанья навеки. На веках лежит ощущенье покоя (причина сего — неизвестна). А чинно размеренный голос в соседнем купе читает о черном убийстве колхозника: — Наотмашь хруст топора и навзничь — четыре ножа, в мертвую глотку сыпали горстью зерна. Хату его перегрыз пожар, Там он лежал пепельно-черный. — Рассудок — ты первый кричал мне: «Не лги». Ты первый не выполнил своего обещанья. Так к чертовой матери этот психологизм! Меня обнимает суровая сила прощанья. Ты поднял свои кулаки, побеждающий класс. Маячат обрезы, и[17] полночь беседует с бандами. «Твой пепел стучит в мое сердце, Клаас. Твой пепел стучит в мое сердце, Клаас», — Сказал Уленшпигель — дух восстающей Фландрии. На снежной равнине идет окончательный бой. Зияют глаза, как двери, сбитые с петель, И в сердце мое, переполненное судьбой, Стучит и стучит человеческий пепел. Путь человека — простой и тяжелый путь, Путь коллектива еще тяжелее и проще. В окна лачугами лезет столетняя жуть; Все отрицая, качаются мертвые рощи. Но ты зацветаешь, моя дорогая земля. Ты зацветешь (или буду я трижды проклят…) На серых[18] болванках железа, на пирамидах угля, На пепле сожженной соломенной кровли. Пепел шуршит, корни волос шевеля. Мужество вздрагивает, просыпаясь, Мы повернем тебя в пол-оборота, земля. Мы повернем тебя круговоротом, земля. Мы повернем тебя в три оборота, земля, Пеплом и зернами посыпая.Жестокое пробуждение
Сегодня ночью ты приснилась мне. Не я тебя нянчил, не я тебя славил, Дух русского снега и русской природы. Такой непонятной и горькой услады Не чувствовал я уже многие годы. Но ты мне приснилась, как детству — русалки, Как детству — коньки на прудах поседелых, Как детству — веселая бестолочь салок, Как детству — бессонные лица сиделок. Прощай, золотая, прощай, золотая! Ты легкими хлопьями вкось улетаешь. Меня закрывает от старых нападок Пуховый платок твоего снегопада. Молочница цедит мороз из бидона, Точильщик торгуется с черного хода. Ты снова приходишь, рассветный, бездонный, Дух русского снега и русской природы. Но ты мне приснилась, как юности — парус, Как юности — нежные губы подруги, Как юности — шквал паровозного пара, Как юности — слава в серебряных трубах. Уйди, если можешь, прощай, если хочешь. Ты падаешь сеткой крутящихся точек, Меня закрывает от старых нападок Пуховый платок твоего снегопада. На кухне, рыча, разгорается примус, И прачка приносит простынную одурь, Ты снова приходишь необозримый Дух русского снега и русской природы. Но ты мне приснилась, как мужеству — отдых, Как мужеству — книг неживое соседство, Как мужеству — вождь, обходящий заводы, Как мужеству — пуля в спокойное сердце. Прощай, если веришь, забудь, если помнишь! Ты инеем застишь пейзаж заоконный. Меня закрывает от старых нападок Пуховый платок твоего снегопада.Посевная
П. Павленко Ночь, До исступления раскаленная, Луна такая, что видны горы на ней. В белой лавине света сидят, затаенные, Дрожащие тельца аульных огней. От земли До звезд ничего не шелохнется. Товарищ, я даже молчать не могу. Но приплывает к нашей оконнице Низкий, широкий, крепчающий гул. Он разрастается, все приминая, Он выгоняет нас со двора. Это через ночь проходит посевная, Это выходят в ночь трактора. И на карьере, стременами отороченном, Мимо летит пятнистая блуза. Может быть, это Уполномоченный Или инструктор Хлопкосоюза? Все равно: ночь ли, топот ли, или гул, Подкова ли, цокнувшая зря, — Трактор идет, и качает дугу света — размах фонаря. Трактора ползут далеко-далеко, Как светляки на ладони земли. С чем же сравнить этот ровный клекот, Невидимые руки и круглые рули? Час, когда луна расцвела в зените, Час, когда миндаль поднялся к луне, — И телеграф на жужжащих нитях Ведет перекличку по всей стране? Вдруг автомобильные яростные фары Срезают пространство и время на нет, Они пролетают, как дружная пара Связанных скоростью планет. И мой товарищ говорит: «Я знаю, Что провод, и конь, и мотор уносили: Это через ночь проходит посевная — Радостный сгусток рабочих сил». Я отвечал: «Посмотри налево. Огни в исполкоме горят до утра, Там колотится сердце сева, Там математика и жара». Я отвечал: «Посмотри направо: Огни на базе горят до утра, Там человек спокойного нрава Считает гектары и трактора». Я отвечал: «Готовясь к испытаньям, Бессонно пашет страна молодых. И мы разрываем пустынную тайну Круглой луны И арычной воды. Ночью и днем В одном ритме Люди кипят на двойном огне». Подскакал инструктор. Инструктор кричит нам: «Двадцать гектаров кончено! Отставших нет!..» А ночь пересыпана соловьями, Уши до звона утомлены. На каждой стене и в каждой яме Лежит или свет, или тень луны. Округ дрожит от машинного хода, Гулы складываются, как кирпичи. От самой земли до небосвода Натянуты, как жилы, лунные лучи. Всеми мускулами Напряжена Весна, И Моторы На сутки Заведены. Ты понимаешь? Это идет посевная, Посевная кампания Всей страны!..Змеевик
Если б я в бога веровал И верой горел, как свеча, На развалинах древнего Мерва Я сидел бы И молчал. Я сидел бы до страшной поверки, Я бы видел в каждом глазу Невероятную синеву Сверху, Невероятную желтизну Внизу. Я, как змей, завился бы от жара, Стал бы проволочно худым. Над моей головой дрожали бы Нимбы, ромбы, Пламя и дым. Хорошо быть мудрым и добрым, Объективно играть на флейте, Чтобы ползли к тебе пустынные кобры С лицами Конрада Фейдта[19]. Это милые рисунчатые звери, Они танцуют спиральные танцы. Вот что значит твердая вера — Преимущество Магометанства. Я взволнован, и сведенья эти Сообщаю, почти уверовав: Я сегодня дервиша встретил На развалинах Древнего Мерва. Он сидел, обнимая необъятное, Тишиной пустыни объятый. На халате его, халате ватном, Было все до ниточки Свято. О, не трогайте его, большевики, Пожалейте Худобу тысячелетней шеи! Старый шейх играет на флейте, И к нему приползают змеи. Они качаются перед ним, Как перед нами Качается шнур занавески. Песня свистит, как пламя, То шуршаще, То более резко. А потом эти змеи дуреют, Как на длинном заседанье Месткома. Они улыбаются все добрее, Трагической флейтой Влекомые. А потом эти змеи валятся, Пьяные, как совы. Вся вселенная стала для них вальсом На мотив Загранично-новый. Но старик поднимает палку, Палку, — Понимаешь ли ты? Он, как бог, Сердито помалкивая, Расшибает им в доску Хребты. И, вздымая грудную клетку, Потому что охрип И устал, Измеряет змей на рулетке От головы До хвоста. Он сидит на змеином морге, Старичина, Древний, как смерть. И готовит шкурки Госторгу, По полтиннику Погонный метр.Земли Красной Звезды
Невозможные силы весны поднимались по жилам. Ветер, брат моей жизни, держал ночной караул. Звери, птицы и травы Стремительно жили, И на склоне бугра, затаясь, зацветал саксаул. Я хочу говорить словами совсем простыми, Только жар простоты укрепляет и может помочь, Если сердце твое лежит на ладони пустыни И его прикрывает ладонью пустынная ночь, Я расту, как травинка, и делаюсь проще и лучше. Я расту и цвету молодой головой. Я захвачен весной на весенней стоянке белуджей. Ночью радостной и ветровой. Мир, наполненный звездами, поглотил меня без остатка. Мир, наполненный шорохом, переродил меня. На меня надвигается войлочный конус палатки. Стон верблюдов и топот коня. И тяжелая Азия в черном своем убранстве, С бородой, поседелой от солончаков, Шелестела растениями дальних странствий — Саксаулом, селимом и гребенчуком. Это чрево весны, это были весенние роды. От обилия звезд закрывались пологи век. Над пустыней царили незрячие силы природы. Против них, не страшась, выходил человек. Далеко, далеко, в сердце южного Кара-Кума, Через границу великих Советских стран Ночью шли племена на хребтах караванного шума, Оставляя Афганистан. Был огромен неведомый мир, наплывавший в покое, Каждый всадник молчал, натянув поводья узды. Впереди восходили надеждой людскою Земли Красной Звезды. Был тревожен тяжелый поток уходящего племени, И широкую думу думал передовой. Для него, раздвигая пески, легендарное имя Ленина Пело пастбищами и водой. Слышал он впереди звон звезды и бессмертной свободы, Тень покинутой родины металась в его голове. Над пустыней царили могучие силы природы. Против них, не страшась, выходил человек. Выходил беспокойный земной задира, Миллионами гибнущий в тысячелетнем бою, Чтобы снова сказать величавому миру: «Я тебя не боюсь! Мой отец погребен, я умру, и детей моих похоронят, Только сила людей не надломится никогда. Вечно крепки они, вечно будут для них обороной Сталь, огонь и вода». Так кочевники шли за свободой и счастьем на север, В Земли Красной Звезды — через лунный туман, Под огромными сводами неба в огнистом посеве, Покидая Афганистан.Жизнь
Ночь глуха. Я зажигаю спичку И по огненному ножу, Средь кибиток и запряжек бычьих, На широкую дорогу выхожу. Две зари друг другу отдавали Рваные отары облаков. Вдоль карагачей, сухих дувалов Я иду легко и далеко. Так легко, что ни землей, ни камнем Мой уход не потревожен был. И летела сзади облаками Азиатская, седая пыль. Но тропинка, тонкая, двойная, Переводит через тощий ров К опустелой крепости Дейнау, В кладбище распавшихся бугров. Шла гроза, гремя по горным склонам, Дыбилась неведомо куда. К ней тянулась глыба из бетона, И на гребне — красная звезда. Здесь давно не разрывался порох, Не клонился мокрый шелк знамен, — Это кладбище алайцев и саперов, Выщербленных каменных имен. Млечный Путь наполнен белым соком. Освещает звездная река Надпись: «За трудящихся Востока!», Буквы: «Слава!» — и металл венка. Я, товарищи, про этот подвиг знаю, Хоть неведомы суровых лиц черты. Кровь героев светит, поднимаясь Из глубин подземной темноты. Кровь, пролитая за жизнь, не канет. Ей дано в людских телах кружить. Ваша жизнь, кипевшая в словах и тканях, — Это есть и будет наша жизнь. По ночам в непроходимой чаще Времени все чаще слышу я, Как ревет в крови моей летящей Грузная махина бытия. Я глядел в глаза твои большие, Жизнь, праматерь смерти и любви, Я хотел понятней, проще, шире Каждой радости сказать: «Живи!» Но штыком мне отворили зренье, Ослепила боем и людьми Ненависть, которой нет сравненья, Ярость, перестроившая мир. Только ей отдал я все на свете, Право жить и честно умереть, Даже тот, любимый мною ветер — Ветер дальних странствий и морей. Смерть не для того, чтобы рядиться В саван мертвых, медленных веков. Умереть — чтобы опять родиться В новой поросли большевиков.«Сивым дождем на мои виски…»
Сивым дождем на мои виски падает седина, И страшная сила пройденных дней лишает меня сна. И горечь, и жалость, и ветер ночей, холодный, как рыбья кровь, Осенним свинцом наливают зрачок, ломают тугую бровь, Но несгибаема ярость моя, живущая столько лет. «Ты утомилась?» — я говорю. Она отвечает: «Нет!» Именем песни, предсмертным стихом, которого не обойти, Я заклинаю ее стоять всегда на моем пути. О, никогда, никогда не забыть мне этих колючих ресниц, Глаз расширенных и косых, как у летящих птиц. Я слышу твой голос, голос ветров, высокий и горловой, Дребезг манерок, клекот штыков, ливни над головой. Много я лгал, мало любил, сердце не уберег, Легкое счастье пленяло меня и легкая пыль дорог. Но холод руки твоей не оторву и слову не изменю, Неси мою жизнь, а когда умру — тело предай огню. Светловолосая, с горестным ртом, — мир обступил меня, Сдвоенной молнией падает день, плечи мои креня, Словно в полете, резок и тверд воздух моей страны. Ночью, покоя не принося, дымные снятся сны. Кожаный шлем надевает герой, древний мороз звенит. Слава и смерть — две родные сестры — смотрят в седой зенит. юноши строятся, трубы кипят плавленым серебром Возле могил и возле людей, имя которых — гром. Ты приходила меня ласкать, сумрак входил с тобой, Шорох и шум приносила ты, листьев ночной прибой. Грузовики сотрясали дом, выл, задыхаясь, мотор, Дуло в окно, и шуршала во тьме кромка холщовых штор. Смуглые груди твои, как холмы над обнаженной рекой. Юность моя — ярость моя — ты ведь была такой! Видишь — опять мои дни коротки, ночи идут без сна, Медные бронхи гудят в груди под ребрами бегуна. Так опускаться, как падал я, — не пожелаю врагу. Но силу твою и слово твое трепетно берегу, Пусть для героев и для бойцов кинется с губ моих Радость моя, горе мое — жесткий и грубый стих. Нет, не любил я цветов, нет, — я не любил цветов, Знаю на картах, среди широт легкую розу ветров. Листик кленовый — ладонь твоя. Влажен, и ал, и чист Этот осенний, немолодой, сорванный ветром лист.Синий жук
Я мальчишкой мечтал о пути по великой прямой. Нефтевозы уходят, и пена шумит за кормой… Нет, не сказано слово! Иди, задыхайся, горлань: Ты еще человек, за тобой молодая подмога, Кровь товарищей, песни, осенних ночей глухомань, Мир, распахнутый настежь… Тревога, тревога, тревога! Заиграла гармоника, Кончено! Ветер и тьма. Голоса поднимаются к небу, встает запевала. Ты давно ли прощалась, давно ли сводила с ума? Нефть колышется в трюмах, и сердце болит, как бывало. Спляшем, спляшем, товарищи! Море гуляет. Гони! Кок на палубу вышел, за ним — собачонка хромая. Мне не спится, не терпится. Справа и слева — огни. Я холодные ноздри, как волк, к облакам поднимаю. Не за жалость твою — никогда я ее не знавал, — Не за ласку ночную — я ласки забыл поневоле, — Полюбил я тебя потому, что скитался и звал, Точно легкое чудо, одну синеокую волю. И придумал я сказку об огненно-синем жуке; Я видал его в детстве, весной у закатных черемух. Соловей грохотал, две зари отражались в реке, Водовозную бочку, смеясь, наливал кучеренок. И повез по селу, и услышал я медленный гул Пламеневших надкрылий[20], и счастье, и ночь, и огромный Наплывающий мир. И тогда, засверкав на бегу, Пролетела по небу запряжка усатого грома. Так увидел я самое тайное в книге земли — Несравненный простор, голубую дорогу вселенной. Как же это случилось, что руки твои не смогли Удержать для меня этот маленький груз драгоценный — Огневого жука?..Полевой стан
Спой мне песню, глуше и короче, Чем напевы родины моей. Ходит гром перепелиной ночи По сырому шороху полей. Снова ветер, ровный, неустанный, Катится, как темная река; Перед ним нагорья Дагестана, Лунные крутые облака. Отчего бывает боль такая, Будто видишь все в последний раз. Будто понемногу потухает Синева твоих глубоких глаз? Это плещет медленная сила В теле потревоженном твоем. Бьют перепела. Ты полюбила. Бьют перепела. Дрожат светила, Ночь томит луной и забытьем. Что ж ты смотришь, темно-голубая, В этот сумрак темно-голубой? Трактористы молоко хлебают, Тихо говорят между собой.«Ты руку на голову мне положила…»
Ты руку на голову мне положила, Ты снова меня сберегла. Широкая песня несется по жилам, И ночь нестерпимо светла. Ты ветром пронизана, кровью согрета, Осмуглена в дальних краях. Ты снова со мной, молодая победа, Двужильная сила моя.Вставайте, люди русские!
(Песня из кинофильма «Александр Невский») Вставайте, люди русские, На смертный бой, на грозный бой. Вставайте, люди вольные, За нашу землю честную! Живым бойцам почет и честь, А мертвым — слава вечная. За отчий дом, за русский край Вставайте, люди русские!Апрель
В час предутренний видишь всю жизнь позади. Шелест, шум, голоса окружают тебя, И забытая страсть колыхнулась в груди, И летят журавли, в поднебесье трубя. Посмотри на себя — ты высок и тяжел, Ты немало больших городов обошел, Ты любил и страдал, ты с друзьями дружил, Молодое вино своей родины пил. Но веселое, быстрое счастье твое, В поднебесье трубя, унеслось в забытье. В час предутренний видишь всю жизнь позади. Ты, отдавшая целую жизнь для меня, Легкой тенью приди и меня поведи В нашу юность, в страну голубого огня. Там березы стоят на юру голубом, Там несется весна на ветру голубом, Там, в лесу голубом, голубой бурелом, Голубая река громыхает, как гром, Голубеет бревенчатый низенький дом, И луна голубая плывет за бугром. Там глубоких снегов голубая постель, — Это наш голубой подмосковный апрель.Курсантская венгерка
Сегодня не будет поверки. Горнист не играет поход. Курсанты танцуют венгерку, Идет девятнадцатый год. В большом беломраморном зале Коптилки на сцене горят, Валторны о дальнем привале, О первой любви говорят. На хорах просторно и пусто, Лишь тени качают крылом, Столетние царские люстры Холодным звенят хрусталем. Комроты спускается сверху, Белесые гладит виски, Гремит курсовая венгерка, Роскошно стучат каблуки. Летают и кружатся пары — Ребята в скрипучих ремнях И девушки в кофточках старых, В чиненых тупых башмаках. Оркестр духовой раздувает Огромные медные рты. Полгода не ходят трамваи, На улице склад темноты, И холодно в зале суровом, И надо бы танец менять, Большим перемолвиться словом, Покрепче подругу обнять. — Ты что впереди увидала? — Заснеженный, черный перрон, Тревожные своды вокзала, Курсантский ночной эшелон. Заветная ляжет дорога На юг и на север — вперед. Тревога, тревога, тревога! Россия курсантов зовет. Навек улыбаются губы Навстречу любви и зиме, Поют беспечальные трубы, Литавры гудят в полутьме. На хорах — декабрьское небо, Портретный и рамочный хлам; Четвертку колючего хлеба Поделим с тобой пополам. И шелест потертого банта Навеки уносится прочь — Курсанты, курсанты, курсанты, Встречайте прощальную ночь! Пока не качнулась манерка, Пока не сыграли поход, Гремит курсовая венгерка… Идет — девятнадцатый год.Конек-горбунок
Ночь пройдет, и станет ясно вдруг: Не нуждаюсь я в чужой заботе, Полечу куда-нибудь на юг В старом, неуклюжем самолете. Проплывут московские леса, Поплывут подольские заводы. Осень, осень! Рыжая краса. Желтые леса. Стальные воды. Спутники случайные мои Будут спать или читать газеты. Милый холод ветровой струи, Золотые облака рассвета… Дымка легкая, сухая мгла, Тоненьких тропинок паутина. Без конца, без края залегла Русская покатая равнина. Сколько хожено пешком по ней, Сколько езжено в ночных теплушках, Через сколько невозвратных дней Пролетали в тяжком топоте коней Трехдюймовые родные пушки! Сколько крови, сколько стылых слез Ты взяла себе, моя отрада, Вся в туманном зареве берез, В красно-бурой шкуре листопада. Сколько труб, ангаров, корпусов Поднялось из недр твоих могучих, Гордо ты стоишь в кольце лесов, В десять темно-синих поясов Над тобой текут крутые тучи. Ты кормила, не скупясь, меня, Материнским молоком поила, Песенного подарила мне коня — Горбунка-коня мне подарила. Ну и что же, я живу с таким конем. Много лет ведется дружба между нами. Искрами он пышет и огнем, Сказочными хлопает ушами. Горбунок-конек, ты ростом мал, Северная, русская порода. Ты меня, родной, не выдавал, Никому и я тебя не продал.«Не от любви, не от винных рюмок…»
Не от любви, не от винных рюмок Стало просторно и горестно мне. По переулку иду угрюмо В ясной, как зеркало, тишине. Может быть, вспомнилась песня былая, Или томит позабытый уют. Сто облаков, в поднебесье пылая, Красными рыбами к югу плывут. Слышу ли холод заветной разлуки С милой весной и цветами земли, Или поэзии детские руки Манят поэта и машут вдали.Остролистник
Волны стелют по ветру свистящие косы. Прилетают и падают зимние тучи. Ты один зеленеешь на буром откосе, Непокорный, тугой остролистник колючий. Завтра время весеннего солнцеворота. По заливу бежит непогода босая. Время, древний старик, открывает ворота И ожившее солнце, как мячик, бросает. Сердцу выпала трудная, злая работа. Не разбилось оно, и не может разбиться: Завтра древний старик открывает ворота, И ему на рассвете ответит синица. Скоро легкой травою покроются склоны И декабрьские бури, как волки, прилягут. Ты несешь на стеблях, остролистник зеленый, Сотни маленьких солнц — пламенеющих ягод. Я зимой полюбил это крепкое племя, Что сдружилось с ветрами на пасмурных кручах. Ты весну открываешь в суровое время, Жизнестойкий, тугой остролистник колючий.Шаги
Шумит сосна, горит свеча, И жизнь, как прежде, горяча, Как прежде, молода. Несутся облака, ведя Косые полосы дождя. Торопится вода. Сижу один, один пою Былую песенку твою, Но я не одинок: Смотри и слушай, о душа, — Вниз по горе идут спеша Десятки легких ног. То ветер, дождь или листва, Давно засохшая трава, — Ночной, слепой народ. Все это старше нас с тобой — Шаги в траве, лесов прибой, Ветров круговорот. Живешь — они с тобой в борьбе, Умрешь — они придут к тебе, Покроют древней тьмой. А иногда в сырую ночь Стремятся родичу помочь, Зовут к себе домой. Спешите, легкие шаги! Я выхожу. Не видно зги, Во мраке дождь встает. Слепой, веселый, я пою Былую песенку твою. Встречаю Новый год. И лес гудит, гудит, как печь. Ночных стволов ночную речь Ты слышишь, о душа? В окне горит одна свеча, И жизнь, как прежде, горяча, Как прежде, хороша!Мальчики играют на горе
Мальчики заводят на горе Древние мальчишеские игры. В лебеде, в полынном серебре Блещут зноем маленькие икры. От заката, моря и весны Золотой туман ползет по склонам. Опустись, туман, приляг, усни На холме широком и зеленом. Белым, розовым цветут сады, Ходят птицы с черными носами. От великой штилевой воды Пахнет холодком и парусами. Всюду ровный, непонятный свет, Облака спустились и застыли. Стало сниться мне, что смерти нет, — Умерла она, лежит в могиле. И по всей земле идет весна, Охватив моря, сдвигая горы, И теперь вселенная полна Мужества и ясного простора. Мальчики играют на горе Чистою весеннею порою. И над ними, в облаках, в заре, Кружится орел — собрат героя. Мальчики играют в легкой мгле, Сотни тысяч лет они играют: Умирали царства на земле. Детство никогда не умирает.Николай Тихонов
Старый ковер
Читай ковер: верблюжьих ног тростины, Печальных юрт печати и набег, Как будто видишь всадников пустыни И шашки их в таинственной резьбе. Прими ковер за песню, и тотчас же Густая шерсть тягуче зазвенит, И нить шелков струной скользнувшей ляжет, Как бубенец, скользнувший вдоль ступни. Но разгадай весь заговор узора, Расшитых рифм кочевничью кайму, Игру метафор, быструю, как порох, Закон стиха совсем не чужд ему. Но мастер скуп, он бережет сравненья, Он явно болен страхом пустоты, И этот стих без воздуха, без тени Он залил жаром ярким и густым. Он повторялся в собственном размахе, Ковру Теке он ямбы подарил, В узоры Мерва бросил амфибрахий, Кизыл-Аяк хореем населил. Так он играл в своем пастушьем платье Огнем и шерстью, битвой ремесла, И зарево тех красочных объятий Душа ковра пожаром донесла.Гомборы
Маро Шаниашвили Я не изгнанник, не влекомый Чужую радость перенесть, Мне в этом крае все знакомо, Как будто я родился здесь. И все ж с гомборского разгона, Когда в закате перевал, Такой неистово зеленой Тебя, Кахетия, не знал. Как в плеске, полные прохлады, Я погружался в речь твою, Грузино-русских строк отряды В примерном встретились бою. Но где найдется чувству мера, Когда встает перед тобой Волной вселенского размера Лесов немеркнущий прибой? И в этот миг, совсем не сотый, Когда ты в жизни жил не зря, Сроднив и спутав все высоты, Почти о счастье говоря, Ты ищешь в прошлом с легкой дрожью: Явись опять зеленый зной, — Год двадцать первый встал и ожил Над мамиссонской крутизной. О, сколько слез и сколько жалоб На старом Грузии пути, Ночь меньшевистская бежала, К Батуму крылья обратив. Рвать крылья эти, что клубили Одну из самых черных вьюг, Бригада в искрах снежной пыли Проходит с севера на юг. Тобою, Киров, как знамена, Снега Осетии зажглись, Когда, не спешась, эскадроны Переходили в них на рысь. Снега, снега — зима нагая, И вот уже ни стать, ни лечь, Рубить, в снегах изнемогая, Ходы, что всаднику до плеч. Переносить вьюки плечами, Уметь согреться без огней, Со льдов, увенчанных молчаньем, На бурках скатывать коней. Хватив зимы до обалденья, В победоносный дуть кулак И прямо врезаться в виденье, Неповторимое никак, — И в этот миг, совсем не сотый, Когда ты в жизни жил не зря, Сроднив и спутав все высоты, Почти о счастье говоря, — Они смотрели и стояли, Снимали иней на усах, Под ними прямо в небесах Великой зеленью пылали Чанчахи вольные леса.Цинандали
Я прошел над Алазанью, Над причудливой водой, Над седою, как сказанье, И, как песня, молодой, Уж совхозом Цинандали Шла осенняя пора, Надо мною пролетали Птицы темного пера. Предо мною, у пучины Виноградарственных рек, Мастера людей учили, Чтоб был весел человек. И струился ток задорный, Все печали погребал: Красный, синий, желтый, черный, — По знакомым погребам. Но сквозь буйные дороги, Сквозь ночную тишину, Я на дне стаканов многих Видел женщину одну. Я входил в лесов раздолье И в красоты нежных, скал, Но раздумья крупной солью Я веселье посыпал. Потому, что веселиться Мог и сорванный листок, Потому, что поселиться В этом крае я не мог. Потому, что я прохожий, Легкой тени полоса, Шел, на скалы непохожий, Непохожий на леса. Я прошел над Алазанью, Над волшебною водой, Поседелый, как сказанье, И, как песня, молодой.Смерть
Старик стоял в купели виноградной, Ногами бил, держась за столб рукой, Но в нем работник, яростный и жадный, Благоговел пред ягодной рекой. Гремел закат обычный, исполинский, Качались травы, ветер мел шалаш, Старик шагнул за край колоды низкой, Вошел босой в шалашный ералаш. Худые ноги насухо он вытер, Смотрел туда, долины сторожил, Где в море листьев, палок, перекрытий Сверкали лозы, падали ножи. Все выведено было черной тушью, Какой-то кистью вечно молодой, Он, горсть земли зажав, прилег и слушал, Шуршал в руке кремнистый холодок. И холодок шел по кремнистым жилам. Лежал, к земле прижавшись, не дрожа, Как будто бы передавая силу Тем смуглым лозам, людям и ножам. Журчал в купели теплый сок янтарный, И солнце, сжато солнечной грядой, Столы снегов залив лиловым жаром, Распаренным висело тамадой.Размышляя
Еще живы клоаки и биржи, Еще голой мулатки сосок, Как валюта, в полночном Париже Окупает веселья кусок. Еще в зареве жарких притонов, В паутине деляг и святош И на каторжных долгих понтонах Распинают людей не за грош. Но на площади старой Бастилии Тень рабочих колонн пролегла, Целый век поколенья растили Эту тень боевого крыла. Чтоб крыло это власть не задело, На изысканных улиц концы С черепами на флагах трехцветных Де-ля-Рока прошли молодцы. Белой розы тряся лепесточки, Вождь шагал, упоенно дыша, И взлетали на воздух платочки, И цилиндры качались спеша. И приветствуя синие роты, Проносился кликушеский альт, И ломался каблук у красоток, Истерически бивших в асфальт. Чтоб крыло это власть не задело, С пулеметом на черном плече Гардмобилей тяжелое тело Заслонило Париж богачей. И над Сеной, к сраженью готовой, Я увидел скрежещущий сон — Лишь поставленных в козлы винтовок Утомительно длинный разгон. И под ними играли прилежно Дети, роясь в песке золотом, И на спинах пикейных и нежных, Тень винтовок лежала крестом. Деды их полегли у Вердена, Где простор для погоста хорош. Ты отцов их дорогой надменной На какие форты поведешь? О Европа! Покажется, будто В этот час на тебя клевещу — Не Давидом, в сандальи обутым, Ты стоишь, зажимая пращу, — Голиафом, готовым для казни, Кровожадного пыла жена, Ну так падай с хрипением навзничь, Справедливой пращой сражена!Розы Фландрии
В равнине, на холмов откосе, — Ну, где б ни привелось, — Навстречу Фландрия выносит Багряный шелест роз. Как ни взгляни — повсюду розы, Но истины ушли Не в эту сладостную россыпь, А в серый слой земли. Под ним лежит необозримый Солдатский Пантеон, Но все уносит синим дымом, Так унесен и он. И в это сумрачное лето Я снова вижу их, Чей крик, не получив ответа, Под известью затих. Был день, закат, что шел, трезвея, По рвам, как по рабам, Как по ступеням Колизея, По брошенным домам. И часовых все глуше гнуло Усталости кольцо, Пока ипритом не пахнуло В померкшее лицо. Какие б розы ни свисали, Хотя бы на пари, — Но я кровавых тех красавиц Не привезу в Париж. Я не хочу, чтоб розы Фландрии Стояли на окне, Они пустыннее, чем ланды, Чем Альпы при луне. Они безжалостней, чем поле, Где шли траншей круги, Но их срывают поневоле, Затем, что нет других.«Как след весла, от берега ушедший…»
Как след весла, от берега ушедший, Как телеграфной рокоты струны, Как птичий крик гортанный, сумасшедший, Прощающийся с нами до весны, Как радио, которых не услышат, Как дальний путь почтовых голубей, Как этот стих, что, задыхаясь, дышит, Как я — в бессонных думах о тебе. Но это все одной печали росчерк, С которой я поистине дружу, Попросишь ты: скажи еще попроще, И я еще попроще расскажу. Я говорю о мужестве разлуки, Чтобы слезам свободы не давать, Не будешь ты, заламывая руки, Белее мела, падать на кровать. Но ты, моя чудесная тревога, Взглянув на небо, скажешь иногда: Он видит ту же лунную дорогу И те же звезды, словно изо льда!Сентябрь
Едва плеснет в реке плотва, Листва прошелестит едва, Как будто дальний голос твой Заговорил с листвой. И тоньше листья, чем вчера, И суше трав пучок, И стали смуглы вечера, Твоих смуглее щек. И мрак вошел в ночей кольцо Неотвратимо прост, Как будто мне закрыл лицо Весь мрак твоих волос.«Стих может заболеть…»
Стих может заболеть И ржавчиной покрыться Иль потемнеть, как медь Времен Аустерлица, Иль съежиться, как мох, Чтоб Севера сиянье — Цветной переполох — Светил ему в тумане. И жаждой он томим, Зарос ли повиликой, Но он неизгоним Из наших дней великих. Он может нищим жить, Как в струпьях, в строчках рваных, Но нет ни капли лжи В его глубоких ранах. Ты можешь положить На эти раны руку — И на вопрос: «Скажи!» — Ответит он, как другу: «Я верен, как тебе, Мое любивший слово, Безжалостной судьбе Столетья золотого!»«Я люблю тебя той — без прически…»
Я люблю тебя той — без прически, Без румян — перед ночи концом, В черном блеске волос твоих жестких С побледневшим и строгим лицом. Но, отняв свои руки и губы, Ты уходишь, ты вечно в пути, А ведь сердце не может на убыль, Как полночная встреча, идти. Словно сон, что случайно вспугнули, Ты уходишь, как сон, — в глубину Чужедальних мелькающих улиц, За страною меняешь страну. Я дышал тобой в сумраке рыжем, Что мучений любых горячей, В раскаленных бульварах Парижа, В синеве ленинградских ночей. В крутизне закавказских нагорий, В равнодушье московской зимы Я дышал этой сладостью горя, До которого дожили мы. Где ж еще я тебя повстречаю, Вновь увижу, как ты хороша? Из какого ты мрака, отчаясь, Улыбнешься, почти не дыша? В суету и суровость дневную, Посреди роковых новостей, Я не сетую, я не ревную, — Ты — мой хлеб в этот голод страстей.«И встанет день, как дым, стеной…»
И встанет день, как дым, стеной, Уеду я домой, Застелет[21] поезд ночь за мной Всю дымовой каймой. Но если думаешь, что ты Исчезнешь в том дыму, Что дым сотрет твои черты, Лишь дым я обниму… В заката строгого резьбе, Одной тебе верны, Твои мне скажут о тебе Норвежцы со стены. Тебя в картине на стене Найду в домах у них, И ты поднимешься ко мне Со дна стихов моих, Ты будешь странствовать со мной, И я не отрекусь, Какую б мне, как дым, волной Ни разводили грусть. Если тебе не все равно, А путь ко мне не прост, — Ты улыбнись мне хоть в окно За десять тысяч верст.Дмитрий Кедрин
Тени
По рельсам бежала людская тень. Ее перерезала тень трамвая. Одна прокатилась в гремящий день, Другая опять побежала — живая. Ах, как хорошо в мире у теней. В мире у людей умирают больней.Кукла
Как темно в этом доме! Тут царствует грузчик багровый, Под нетрезвую руку Тебя колотивший не раз… На окне моем — кукла. От этой красотки безбровой Как тебе оторвать Васильки загоревшихся глаз? Что ж! Прильни к моим стеклам И красные пальчики высунь… Пес мой куклу изгрыз, На подстилке ее теребя. Кукле много недель, Кукла стала курносой и лысой. Но не все ли равно? Как она взволновала тебя! Лишь однажды я видел: Блистали в такой же заботе Эти синие очи, Когда у соседских ворот Говорил с тобой мальчик, Что в каменном доме напротив Красный галстучек носит, Задорные песни поет. Как темно в этом доме! Ворвись в эту нору сырую Ты, о время мое! Размечи этот нищий уют! Тут дерутся мужчины, Тут женщины тряпки воруют, Сквернословят, судачат, Юродствуют, плачут и пьют. Дорогая моя! Что же будет с тобою? Неужели И тебе между них Суждена эта горькая часть? Неужели и ты В этой доле, что смерти тяжеле, В девять — пить, В десять — врать, И в двенадцать Научишься красть? Неужели и ты Погрузишься в попойку и в драку, По намекам поймешь, Что любовь твоя — Ходкий товар, Углем вычернишь брови, Нацепишь на шею собаку, Красный зонтик возьмешь И пойдешь на Покровский бульвар? Нет, моя дорогая! Прекрасная нежность во взорах Той великой страны, Что качала твою колыбель! След труда и борьбы — На руке ее известь и порох, И под этой рукой Этой доли Бояться тебе ль? Для того ли, скажи, Чтобы в ужасе С черствою коркой Ты бежала в чулан Под хмельную отцовскую дичь, — Надрывался Дзержинский, Выкашливал легкие Горький, Десять жизней людских Отработал Владимир Ильич! И когда сквозь дремоту Опять я услышу, что начат Полуночный содом, И орет забулдыга-отец, Что валится посуда, И голос твой тоненький плачет, — О терпенье мое, Оборвешься же ты наконец! И придут комсомольцы, И пьяного грузчика свяжут, И нагрянут в чулан, Где ты дремлешь, свернувшись в калач, И оденут тебя, И возьмут твои вещи, И скажут: — Дорогая! Пойдем, Мы дадим тебе куклу. Не плачь!Поединок
К нам в гости приходит мальчик Со сросшимися бровями, Пунцовый густой румянец На смуглых его щеках. Когда вы садитесь рядом, Я чувствую, что меж вами Я скучный, немножко лишний, Педант в роговых очках. Глаза твои лгать не могут. Как много огня теперь в них! А как они были тусклы… Откуда же он воскрес? Ах, этот румяный мальчик! Итак, это мой соперник, Итак, это мой Мартынов, Итак, это мой Дантес! Ну, что ж! Нас рассудит пара Стволов роковых Лепажа На дальней глухой полянке, Под Мамонтовкой, в лесу. Два вежливых секунданта, Под горкой — два экипажа Да седенький доктор в черном, С очками на злом носу. Послушай-ка, дорогая! Над нами шумит эпоха, И разве не наше сердце — Арена ее борьбы? Виновен ли этот мальчик В проклятых палочках Коха, Что ставило нездоровье В колеса моей судьбы? Наверно, он физкультурник, Из тех, чья лихая стайка Забила на стадионе Испании два гола. Как мягко и как свободно Его голубая майка Тугие гибкие плечи Стянула и облегла! А знаешь, мы не подымем Стволов роковых Лепажа На дальней глухой полянке, Под Мамонтовкой, в лесу. Я лучше приду к вам в гости И, если позволишь, даже Игрушку из Мосторгина Дешевую принесу. Твой сын, твой малыш безбровый, Покоится в колыбели. Он важно пускает слюни, Вполне довольный собой. Тебя ли мне ненавидеть И ревновать к тебе ли? Когда я так опечален Твоей морщинкой любой? Ему покажу я рожки, Спрошу: «Как дела, Егорыч?» И, мирно напившись чаю, Пешком побреду домой, Почуяв на сердце горечь, Что наша любовь не вышла, Что этот малыш — не мой.Бродяга
Есть у каждого бродяги Сундучок воспоминаний. Пусть не верует бродяга И ни в птичий грай, ни в чох, Ни на призраки богатства В тихом обмороке сна, ни На вино не променяет Он заветный сундучок. Там за дружбою слежалой, Под враждою закоптелой Между чувств, что стали трухлой Связкой высохших грибов, Перевязана тесемкой И в газете пожелтелой, Как мышонок, притаилась Неуклюжая любовь. Если якорь брига выбран, В кабачке распита брага, Ставни синие забиты Навсегда в родном дому, — Уплывая, все раздарит Собутыльникам бродяга, Только этот желтый сверток Не покажет никому… Будет день: в борты, как в щеки, Оплеухи волн забьют — и «Все наверх! — засвищет боцман, — К нам идет девятый вал!» Перед тем, как твердо выйти В шторм из маленькой каюты, Развернет бродяга сверток, Мокрый ворот разорвав. И когда вода раздавит В трюме крепкие бочонки, — Он увидит, погружаясь В атлантическую тьму: Тонколицая колдунья, Большеглазая девчонка С фотографии грошовой Улыбается ему.«Оказалось, я не так уж молод…»
Оказалось, я не так уж молод; Юность отшумела. Жизнь прошла. До костей пронизывает холод, Сердце замирает от тепла. В час пирушки кажется хмельною Даже рюмка слабого вина, И коль шутит девушка со мною, Все мне вспоминается жена.Сердце
Дивчину пытает казак у плетня: — Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? Я саблей добуду для крали своей И светлых цехинов и звонких рублей! — Дивчина в ответ, заплетая косу: — Про то мне ворожка гадала в лесу. Пророчит она: мне полюбится тот, Кто матери сердце мне в дар принесет. Не надо цехинов, не надо рублей, Дай сердце мне матери старой твоей. Я пепел его настою на хмелю, Настоя напьюсь — и тебя полюблю! — Казак с того дня замолчал, захмурел, Борща не хлебал, саламаты не ел. Клинком разрубил он у матери грудь И с ношей заветной отправился в путь: Он сердце ее на цветном рушнике Коханой приносит в косматой руке, В пути у него помутилось в глазах, Всходя на крылечко, споткнулся казак. И матери сердце, упав на порог, Спросило его: «Не ушибся, сынок?»Грибоедов
Помыкает Паскевич, Клевещет опальный Ермолов… Что ж осталось ему? Честолюбие, холод и злость. От чиновных старух, От язвительных светских уколов Он в кибитке катит, Опершись подбородком на трость. На груди его орден. Но, почестями опечален, В спину ткнув ямщика, Подбородок он прячет в фуляр. Полно в прятки играть. Чацкий он или только Молчалин — Сей воитель в очках, Прожектер, Литератор, Фигляр? Прокляв английский клоб, Нарядился в халат Чаадаев, В сумасшедший колпак И в моленной сидит, в бороде. Дождик выровнял холмики На островке Голодае, Спят в земле декабристы, И их отпевает… Фаддей! От мечты о равенстве, От фраз о свободе натуры Узник главного штаба, Российским послом состоя, Он катит к азиатам Взимать с Тегерана куруры, Туркменчайским трактатом Вколачивать ум в персиян. Лишь упрятанный в ящик, Всю горечь земную изведав, Он вернется в Тифлис. И, коня осадивший в грязи, Некто спросит с коня: — Что везете, друзья? — Грибоеда. Грибоеда везем! — Пробормочет лениво грузин. Кто же в ящике этом? Ужели сей желчный скиталец? Это тело смердит, И торчит, указуя во тьму, На нелепой дуэли Нелепо простреленный палец Длани, коей писалась Комедия «Горе уму». И покуда всклокоченный В сальной на вороте ризе Поп армянский кадит Над разбитой его головой — Большеглазая девочка Ждет его в дальнем Тебризе, Тяжко носит дитя И не знает, Что стала вдовой.Глухарь
Выдь на зорьке И ступай на север По болотам, Камушкам И мхам. Распустив хвоста колючий веер, На сосне красуется глухарь. Тонкий дух весенней благодати, Свет звезды — Как первая слеза… И глухарь, Кудесник бородатый, Закрывает желтые глаза. Из дремотных облаков исторгла Яркий блеск холодная заря, И звенит, Чумная от восторга, Заревая песня глухаря. Счастлив тем, Что чувствует и дышит, Красотой восхода упоен, — Ничего Не видит и не слышит, Ничего Не замечает он. Он поет листву купав болотных, Паутинку, Белку И зарю, И в упор подкравшийся охотник Из берданки, Из берданки бьет по глухарю. Может, также В счастья день желанный, В час, когда я буду петь, горя, И в меня Ударит смерть нежданно, Как его дробинка — В глухаря.Цветок
Я рожден для того, чтобы старый поэт Обо мне говорил золотыми стихами, Чтобы Дафнис и Хлоя в четырнадцать лет Надо мною впервые смешали дыханье, Чтоб невеста, лицо погружая в меня, Скрыла нежный румянец в минуту помолвки. Я рожден, чтоб в сиянии майского дня Трепетать в золотистых кудрях комсомолки. Одинаково вхож во дворец и в избу, Я зарей позолочен и выкупан в росах… Если смерть проезжает в стандартном гробу, Торопливая, на неуклюжих колесах, То друзья и на гроб возлагают венок, — Чтоб и в тленье мои лепестки трепетали. Тот, кто умер, в могиле не так одинок И несчастен, покуда там пахнет цветами. Украшая постельку, где плачет дитя, И могильной ограды высокие жерди, Я рожден утешать вас, равно золотя И восторги любви и терзания смерти.Пластинка
Когда я уйду, Я оставлю мой голос На черном кружке. Заведи патефон, И вот Под иголочкой, Тонкой, как волос. От гибкой пластинки Отделится он. Немножко глухой И немножко картавый, Мой голос Тебе прочитает стихи, Окликнет по имени, Спросит: «Устала?» Наскажет Немало смешной чепухи. И сколько бы ни было Злого, Дурного, Печалей, Обид, — Ты забудешь о них. Тебе померещится, Будто бы снова Мы ходим в кино, Разбиваем цветник. Лицо твое Тронет волненья румянец. Забывшись, Ты тихо шепнешь: «Покажись!..» Пластинка хрипнет И окончит свой танец. Короткий, Такой же недолгий, Как жизнь.Осенняя песня
Улетают птицы за море, Миновало время жатв, На холодном Сером мраморе Листья желтые лежат. Солнце спряталось за ситцевой Занавескою небес, Черно-бурою лисицею Под горой улегся лес. По воздушной Тонкой лесенке Опустился И повис Над окном Ненастья вестник — Паучок-парашютист. В эту ночь По кровлям тесаным, В трубах песни заводя, Заскребутся духи осени, Стукнут пальчики дождя. В сад, Покрытый ржавой влагою, Завтра утром выйдешь ты И увидишь За ночь Наголо Облетевшие цветы. На листве рябин продрогнувших Заблестит холодный пот. Дождик, Серый, Как воробышек, Их по ягодке склюет.Петр Комаров
Когда поют петухи
Ты гладишь мне волосы легкой рукой И брови свои опускаешь в смущенье. А ночь караулит короткий покой, И трудно расстаться нам с ночью такой… Поют петухи в отдаленье. Лукавая бродит по крышам луна, Кричит за рекой одинокая птица, Береза шумит под окном. А у нас — Минута молчанья, и может она На целую вечность продлиться. Вот так бы сидеть от зари до зари, Чтоб ветви шумели, чтоб ты не скучала. Но гасит рассвет у ворот фонари, И утро встает у речного причала.Лувен
Я открыл глаза и увидел Лувена.
М. Пришвин Здесь, может быть, Лувен Разыскивал корень женьшеня, Петляя по тропам, Знакомым ему одному, Пока не нагрянет Последней надежды крушенье, Леса не споют Лебединую песню ему. Здесь только изюбры, Как древние рыцари, бились, Тайгу оглашая Могучей призывной трубой. Дрожали отроги, Испуганно кедры теснились, Взирая на тот Не впервые увиденный бой; Здесь лось пробегал, Унося по лесистому склону, Как дар драгоценный, Ветвистое бремя рогов, И ветер кидался За быстрым сохатым в погоню, И выстрел гремел У далеких речных берегов. Но Лувен исчез. Он не бродит в хребтах Дадяньшаня. На тропах безвестных Давно не осталось следа. Лежит перед нами Дорога большая-большая, По которой в тайгу Молодые войдут города. Им вослед прогремит Неизменная в подвигах слава. И воспрянет природа, Преображенная в сад. Это наш Комсомольск, Это наша Советская Гавань Над тайгой заповедной Поднимут свои голоса. Мы увидим тогда: Выйдут жители в парк при заводе. Им задумчивый тополь Напомнит забытую быль, И появится Лувен. Комсомольцы в седом садоводе Не узнают бродягу — Искателя новой судьбы.Хехцир[22]
Ты давно, седеющий старик, Укрываться облаком привык. Но разгонит ветер облака — Ты на солнце выставишь бока. И зеленый радуется мир Твоему величию, Хехцир. Где багульник розовый примят, Сосны над ручьями зашумят. В дубняке сойдутся в табуны. Черные лесные кабаны… У пяты твоей издалека Грозная проносится река. Ты из-под нахмуренных бровей Наблюдаешь сумрачно за ней. Там, на гребне утренней волны, Ты видал Хабарова челны, Рыбаков с трезубцами в руках, Осетров, что бились на крюках, Редкие шатры на берегу, За шатрами — дальнюю тайгу, Дикаря скуластого костер, Что над лесом космы распростер. Древние могильные холмы, Веющие холодом из тьмы… Ты скажи, неласковый старик, Для чего ты прятаться привык, Кутаться в туманы по утрам, Непокорный бурям и ветрам? Я смотрел-смотрел из темноты На твои гранитные черты, И до слуха быстрая река Донесла мне слово старика: «Для того я прячусь целый век, Чтоб не знал, не ведал человек, Как до седины я сохранил Тайну человеческих могил…» Видно — и страшна и велика Вековая тайна старика.Начало города
Строителям Комсомольска Я припомнить всего не смогу Про костры на ночном берегу. Про тайгу, что шумела вчера, И про первый удар топора. Это — черные гари во мгле И постель на промокшей земле, Это — наш балаган у реки И зеленые тучи мошки. Было страшно идти, не солгу, В нелюдимую эту тайгу. И поймешь ли, почувствуешь ты Горький привкус амурской шульты? (Так зовется коричневый сок, Что в березовых дуплах засох.) Булку хлеба со свежей кетой Мы в тайге запивали шультой. Я припомнить всего не смогу Про землянки в декабрьском снегу, Тесноту непрогретую нар И походной «буржуйки» угар. Это — в зиму буранов лихих Полушубок один на двоих; Это — светлая грусть в тишине О подруге своей, о жене. К нашей песне прислушайся ты, Что прошла сквозь цинготные рты. В новый город нас песня вела, Чтобы ты в нем счастливо жила.Лесник
Ни дорог, ни тропинок не зная, Я бродил с неразлучным ружьем В том краю, где сторожка лесная Одиноко стоит над ручьем. На столбах приподнявшись немного, Как на сказочных курьих ногах, Словно тоже не зная дороги, Затерялась она в сосняках. Я пошел за советом сначала, Постучав к леснику среди дня. Только девушка вдруг повстречала На высоком пороге меня. — Здесь легко заблудиться, товарищ: Бездорожье, куда ни пойдешь. Все поляны лесные обшаришь, А прямого пути не найдешь. Но для нас беспричинна тревога: Я сама до опушки пройду. У меня и медвежья берлога, И оленья тропа на виду… Путь вдвоем по тайге был недолог, И стояла кругом тишина, И колючки зеленых иголок Нам с вершины бросала весна. Смелый зяблик насвистывал где-то. А она говорила о том, Как работает круглое лето В этом дальнем краю лесником. Вот и все… И пора возвращаться. И расходятся наши пути. Только ей не хотелось прощаться, Мне домой не хотелось идти.«Картавой бессмыслицы галок…»
Картавой бессмыслицы галок Уже перелесок не слышит. Зари расписной полушалок По бархату золотом вышит. Храпят за поскотиной кони, Где травы зеленые в росах, Где серые цапли-засони Ночуют на дальних прокосах. Костер зашипит, догорая, Напомнив о нашем ночлеге, И, сказки с тобой повторяя, Мы скоро заснем у телеги. И, может, нам детство приснится, Которого больше не будет, А капля росы на ресницах Нас вовремя утром разбудит.Ярослав Смеляков
«Вот женщина»
Вот женщина, которая в то время, как я забыл про горести свои, легко несет недюжинное бремя моей печали и моей любви. Играет ветер кофтой золотистой, но как она степенна и стройна, какою целомудренной и чистой мне кажется теперь моя жена. Рукой небрежной волосы отбросив, не опуская ясные глаза, она идет по улице — как осень, как летняя внезапная гроза. Как стыдно мне, что живший долго рядом, в сумятице своих негромких дел я заспанным, нелюбопытным взглядом еще тогда ее не разглядел. Прости меня за жалкие упреки, за вспышки безрассудного огня, за эти непридуманные строки, далекая красавица моя.Мама
Добрая моя мать. Добра, сердечна. Приди к ней — увенчанный и увечный — делиться удачей, печаль скрывать, — чайник согреет, обед поставит, выслушает, ночевать оставит: сама — на сундук, а гостям — кровать. Старенькая. Ведь видала виды, знала обманы, хулу, обиды. Но не пошло ей ученье впрок. Окна погасли. Фонарь погашен. Только до позднего в комнате нашей теплится радостный огонек. Это она над письмом склонилась. Не позабыла, не поленилась — пишет ответы во все края: кого — пожалеет, кого — поздравит, кого — подбодрит, а кого — поправит. Совесть людская. Мама моя. Долго сидит она над тетрадкой, отодвигая седую прядку (дельная — рано ей на покой), глаз утомленных не закрывая, ближних и дальних обогревая своею лучистою добротой. Всех бы приветила, всех сдружила, всех бы знакомых переженила. Всех бы людей за столом собрать, а самой оказаться — как будто! — лишней, сесть в уголок и оттуда неслышно за шумным праздником наблюдать. Мне бы с тобою все время ладить, все бы морщинки твои разгладить. Может, затем и стихи пишу, что, сознавая мужскую силу, так, как у сердца меня носила, в сердце своем я тебя ношу.Майский вечер
Солнечный свет. Перекличка птичья. Черемуха — вот она, невдалеке. Сирень у дороги. Сирень в петличке. Ветка сирени в твоей руке. Чего ж, сероглазая, ты смеешься? Неужто опять над любовью моей? То глянешь украдкой, то отвернешься! То щуришься из-под узких бровей. И кажется: вот еще два мгновенья, и я в этой нежности растворюсь — стану закатом или сиренью, а может, и в облако превращусь. Но только, наверное, будет скучно не строить, не радоваться, не любить: расти на поляне иль равнодушно, меняя свои очертания, плыть. Не лучше ль под нашими небесами жить и работать для счастья людей, строить дворцы, управлять облаками, Стать командиром грозы и дождей? Не веселее ли в самом деле взрастить возле северных городов такие сады, чтобы птицы пели на тонких ветвях про нашу любовь? Чтоб люди, устав от железа и пыли, с букетами, с венчиками в глазах, между весенних кустов ходили и спали на полевых цветах.Лирическое отступление
Валентиной Климовичи дочку назвали. Это имя мне дорого — символ любви. Валентина Аркадьевна. Валенька. Валя. Как поют, как сияют твои соловьи! Три весны прошумели над нами, как птицы, три зимы намели-накрутили снегов. Не забыта она и не может забыться: все мне видится, помнится, слышится, снится — все зовет, все ведет, все тоскует — любовь. Если б эту тоску я отдал океану — он бы волны катал, глубиною гудел, он стонал бы и мучился, как окаянный, а к утру, что усталый старик, поседел. Если б с лесом, шумящим в полдневном веселье, я бы смог поделиться печалью своей — корни б сжались, как пальцы, стволы заскрипели и осыпались черные листья с ветвей. Если б звонкую силу, что даже поныне мне любовь вдохновенно и щедро дает, я занес бы в бесплодную сушу пустыни или вынес на мертвенный царственный лед — расцвели бы деревья, светясь на просторе, и во имя моей, Валентина, любви рокотало бы теплое синее море, пели в рощах вечерних одни соловьи. Как ты можешь теперь оставаться спокойной, между делом смеяться, притворно зевать и в ответ на мучительный выкрик достойно, опуская большие ресницы, скучать? Как ты можешь казаться чужой, равнодушной? Неужели забавою было твоей все, что жгло мое сердце, коверкало душу, все, что стало счастливою мукой моей? Как-никак — а тебя развенчать не посмею. Что ни что — а тебя позабыть не смогу. Я себя не жалел, а тебя пожалею. Я себя не сберег, а тебя сберегу.Мичуринский сад
Оценив строителей старанье, оглядев все дальние углы, я услышал ровное жужжанье, тонкое гудение пчелы. За пчелой пришел я в это царство посмотреть внимательно, как тут возле гряд целебного лекарства тоненькие яблони растут; как стоит, не слыша пташек певчих, в старомодном длинном сюртуке каменный молчащий человечек с яблоком, прикованным к руке. Он молчит, воитель и ваятель, сморщенных не опуская век, — царь садов, самой земли приятель, седенький, сутулый человек. Снял он с ветки вяжущую грушу, на две половинки разделил и ее таинственную душу в золотое яблоко вложил. Я слежу, томительно и длинно, как на солнце светится пыльца и стучат, сливаясь воедино, их миндалевидные сердца. Рассыпая маленькие зерна, по колено в северных снегах, ковыляет деревце покорно на кривых беспомощных ногах. Я молчу, волнуюсь в отдаленье: я бы отдал лучшие слова, чтоб достигнуть твоего уменья, твоего, учитель, мастерства. Я бы сделал горбуна красивым, слабовольным — силу бы привил, дал бы храбрость — нежным, а трусливых — храбрыми сердцами наделил. А себе одно б оставил свойство: жизнь прожить, как ты прожил ее, творческое слыша беспокойство, вечное волнение свое.Хорошая девочка Лида
Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле, мелькают цветы. И вовсе, представьте, неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцою веснушек засыпал ей утром постель. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет: он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, «Хорошая девочка Лида» — в отчаянье он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверно, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои. Окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету: смущенье и робость — вранье! На всех перекрестках планеты напишет он имя ее: На полюсе Южном — огнями, пшеницей — в кубанских степях, на русских полянах — цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой Землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться над снами твоими, Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова.«Если я заболею…»
Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращаюсь к друзьям (не сочтите, что это в бреду): постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду. Я ходил напролом. Я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Порошков или капель — не надо. Пусть в стакане сияют лучи. Жаркий ветер пустынь, серебро водопада — вот чем стоит лечить. От морей и от гор так и веет веками, как посмотришь — почувствуешь: вечно живем. Не облатками желтыми путь мой усеян, а облаками. Не больничным от вас ухожу коридором, а Млечным Путем.Борис Ручьев
Отход
Эй, прощай, которая моложе
всех своих отчаянных подруг.
А. Прокофьев Прощевай, родная зелень подорожья, зори, проходящие по ковшам озер, золотые полосы с недозрелой рожью, друговой гармоники песенный узор. На последней ставке нашего прощанья трону всем товарищам руки горячо. Сундучок дорожный, с легкими вещами, бережно и ловко вскину на плечо. И тогда в минуту самую отчальную проводить за улицы да за пустыри выходи, которая всех подруг печальнее, в распоследний, искренний раз поговорить. Дорогая, слушай… До своей околицы наскоро парнишку не ходи встречать. От тоски по городу тихая бессонница, манит город молодость, новью грохоча. Говорят соседи с легкой укоризной: «Незачем парнюге ехать далеко, бейся лучше как-нибудь на своей отчизне, вечно же не будешь робким батраком». Только я, упрямый, с испокони знаю вас. Надоело хаты собственной гнилье, не могу монетой шляться по хозяевам, может, город силу верную вольет. Может, не встречаться нам с прежнею улыбкою, ты мои из памяти выметешь слова, песни колыбельные будешь петь над зыбкою, моего товарища мужем называть. Только помни, близким ли далеким часом, если пожалеешь, что не шла со мной, встречу прежним, ласковым парнем синеглазым, славной да хорошею назову женой. ……….. Осыпая слезы легкие, как заметь, девушка осталась у родных краев… ……….. Принимай парнишку с синими глазами, город дымноструйный, в ремесло свое.Песня
За окнами сутемь прессуется тесно, заря западает за облачный дым, когда гармонисту, водителю песни, гармошка свои открывает лады. И песня плывет по ковыльному следу тосклива, как русская старина. Про горы златые гармоника бредит, про полные реки хмельного вина. Забыл, видно, парень и удаль и грохот, Борьбу и постройку победной эпохи. И, выправив звона хороший полет, по старому руслу надрывно ведет. Мы слушали долго и парню сказали! «Довольно гармонику плавить слезами. Сыграй-ка, раздумье по-новому взвесив, про наши участки, ударные дни хорошую песню, веселую песню, которая бодрости ладом сродни. Чтоб каждый за доблесть, за славу, за стойкость пришедший и строящий Магнитострой, от песни с улыбкою вышел к постройке и стройку же родиной сделал второй». Парнишка спокойно ответил тогда, что песен таких не сложили года. И только гармошка с тоскою молчала, что сорвано песни старинной начало. Но молча лады тяжело сберегать — парнишка запевку берет наугад. И вот по бараку весной полуденной размерами марша проходит крутая штурмовая песня о первой, о конной спокойствием бодрости, дробью атак. Она закачалась чеканно, игриво, но скоро настойчивей, выше, грузней, пошла по бараку гремящим наплывом, сроднившись с губами поющих друзей… За окнами вечер… Рванули сердито гремящие горы пальбой динамита, ночная работа и с песней и с нами сливается грохотом, звоном, огнями. Полночным призывом тугая сирена зовет отдохнувшую новую смену… Гармоника сложена. В смену пора. А песня походкою правит, и стройка встречает безусый отряд участком усилий и славы. И песни водитель — бетонщик в строю (по бодрости вызнать нетрудно) назвал повечернюю песню свою достойную доблести будней.Сказка о синем самолете
Сердце, окрыленное биеньем, сказка скоролетная моя… Синий-синий. Крылья легче теней, с дымчатой резьбою по краям. Бьют часы на круглых башнях славы, и в дыму земные округа. Я сходил на городских заставах и на океанских берегах. И скажу с закрытыми глазами, что плывут к Архангельску суда, доспевают яблоки в Казани, в Астрахани сохнут невода; дятлы ходят на плотах и срубах, руды тают в кованых печах, и встают селения под трубы птичьим перелетам до плеча. Я летел от пресных рек заката в хвойные сибирские леса и, познав, чем родина богата, золотом на крыльях написал: лист деревьев, барки, ледоколы, самоцветы солнца и луны, рыб хвостатых, падающий колос, птиц летучих, певчих, водяных, все плоды — от яблока до груши, хлеб ржаной и радуги вина, ленты рек, крутые гребни суши, городов железных имена. Я летел на гром и на знамена, на костры, на дым, на голоса, но друзей душевных поименно я не мог на крыльях записать. Не хватало золота и счета — Я поклялся вечно знать в лицо мудрых рыбаков и звездочетов, вечных горновых и кузнецов. Петь меня строители просили, агрономы звали на совет, пивовары пиво подносили, сталевары ставили обед, звали капитаны в бой с прибоем, гармонисты брали тон руки, на волков водили зверобои, в шахту наряжали горняки. И велели жить легко и трезво, чтя до смерти азбуку труда, реки ставить, добывать железо, стены класть в гранитных городах. Родину не сравнивать с любимой, а в правах гражданского родства головой стоять неколебимо за казну ее и торжества. В праздники ходить в рубашках алых, свиязь бить и стерлядь брать в глуби, мир познать, прощаясь на вокзалах, женщин приглянувшихся любить. Слышать, как гремят громоотводы, журавли спускаются в траву, рушатся забои, солнце всходит, сохнут росы и гудки зовут. Я согласен. Крылья наземь бросил. Прохожу по щебню (легкий хруст) в знойные урочища ремесел, в мир простых и сказочных искусств. А когда товарищи спросили, глянув в небеса над головой: — Что случилось с самолетом синим?.. Я ответил: — С сердцем? Ничего!..Обоянка
По лесам краснела земляника, реки наземь падали со скал… От соленой Камы до Яика исходил я каменный Урал. Ставил я в горах цеха из стали, доставал я уголь на-гора, и меня часами награждали, пили чай со мной директора. В праздники ходил я на гулянки, по садам бродил в вечерний час, и глядели на меня горянки, нипочем не отрывая глаз. По дорогам, низким и высоким, медленно теряя дни свои, я живу — душевно одиноким только с точки зрения любви. Словом, в жизни многому ученый, знавший много счастья, много бед, не имел я счастья знать девчонок, равных в обаянии тебе. Не имел я чести строить в яви, видеть и во сне и наяву города, сравнимые по славе с городом, в котором я живу. Где с тобой проходим спозаранку по широким улицам вдвоем, горлинка залетная, горянка, горенько нежданное мое. Видел я глаза орлиц и ланей, соловьих и диких голубят, но такие — синие в тумане, голубые в полдень — у тебя. Выйдешь в ельник — ельник станет вровень, в горы глянешь — горы позовут, улыбнешься — за твое здоровье земляника подпалит траву. А купаться вздумаешь над кручей, прыгнешь в воду ласточкой летучей, вспыхнет сердце, словно от огня, и плывешь по той воде кипучей, над волною плечи приподняв… На какой, скажи, реке заветной полуденным солнышком согрет, твой родной, садовый, семицветный, дальний Обоянский сельсовет? На Дону ли тихом, на Кубани — все равно имею я в виду: обаятельнее Обояни На земле селений не найду. Не найду в цветах желтее меду, в горной вишне влаги огневой, не найду на белом свете сроду серденька желанней твоего. Петь мне без тебя не довелось бы, без тебя темно в средине дня, и прошу я в превеликой просьбе — выйди, что ли, замуж за меня. Не хвалюсь одеждой и достатком, но имею честь сказать одно: никогда я не считаю сладким горькое, веселое вино. И долит меня большая вера, до того долит, что нету слов, что экзамен сдам на инженера — вечного строителя домов. Никакому горю непокорный, каждый день тобою дорожа, скоро стану строить город горный по большим московским чертежам. Вот и встанет он несокрушимо, облицован камнем голубым, засинеют горные вершины, как родные сестры, перед ним. Обоянкой звать тебя я стану, — Обоянка, — я тебе скажу, — не спеша деревья вырастают ровнями второму этажу. Нет в садах зеленых с теми сходства, что растут в твоей родной степи. Поступи в контору садоводства, садоводом главным поступи. Чтоб вокруг домов да вкруг кварталов, затопив долину, всё плыла, птицами свистела, зацветала, поднимала пену добела и вставала выше крыш зеркальных в вечер поздний, в утреннюю рань, в ягодах медовых и миндальных, в тополях крутых пирамидальных, вся в цветах и звездах — Обоянь!Проводы Валентины
Вдоль березовой долины, Под прикрытием зари, дует ветер с Украины паровозу в фонари. Дует ветер-западок, ковылинки валит с ног, а дежурный по вокзалу на разлуку бьет звонок. — Все скажу я, — Валентина!.. Чемоданы положу. — Ты, — скажу я, — Валентина, поцелуй меня! — скажу. Ты глаза закроешь вдруг, плащ свой выронишь из рук, ты увидишь, как далеко отчий город Кременчуг… Подойдешь к родному дому, на гранитном на яру, поклонись ты голубому соловьиному Днепру. От разлуки бед не ведай, каждый вечер над водой вишню спелую проведай, про зозулю песни пой. Привези ты мне в подарок сок вишневый на губах, голубые шаровары, пару вышитых рубах. А еще, за ради жизни, привези ты мне живьем черноглазых, темно-сизых соловьиху с соловьем. И поведай ты подругам в самый полдень на Днепре, как страдали мы по югу ежегодно в декабре. Как ходили в поздних росах со строительства вдвоем, вырезали на березах имя длинное твое. Как любовь свою справляли в перелете всех ветров, на холодных камнях спали, целовались у костров. В полуночный тихий час снились нам с тобой не раз трели песен соловьиных, соловьиный черный глаз… Так что ты, за ради жизни, привези-ка мне живьем черноглазых, темно-сизых соловьиху с соловьем. Стану птицам в час восходов тихим свистом отвечать, сочиненья птицеводов вечерами изучать. Обнесу заречный сад кругом крашеных оград, рассажу по тонким веткам, будто пьяных, соловьят. Сад завьется, заплетется, через тридцать пять годов — сколько листьев встрепенется, сколько свистнет соловьев! Зоопарку — не отдам, на базаре — не продам, раздарю я птичьи стаи по окрестным городам. И засвищут, сна не зная, вплоть до утренней поры соловьихи — с Таганая, соловьи — Магнит-горы. Стану старым и беззубым, буду бороду носить, буду в праздники по клубам речи так произносить: — Дорогие, вам известно, прославляя горный люд, на Урале — повсеместно — соловьи мои поют! Я растил их, между прочим, я взрастил их без числа, состоял всю жизнь рабочим огневого ремесла. На реке вознес плотину, город строил, сталь варил, украинку Валентину до скончания любил. Потому, за ради жизни, привези ты мне живьем черноглазых, темно-сизых соловьиху с соловьем.Александр Решетов
Апрель
Пока я сижу за столом В своем одиночестве строгом, Апрель, золотым помелом Махая, идет по дорогам. Потоки торопятся с гор, И снегу последнему жарко, И слышен скворцов разговор Над смолкнувшим тракторным парком. Пока я сижу за столом И призрачны строки, как тени, Предвестник цветения — гром Срывается с веток весенних. Кто свежей пойдет бороздой, Кто к выезду ладил машины, Кто сердца надеждой простой Встречает прилет журавлиный, Тот счастлив, как я за столом: Он с тою же думой упорной Взращенные где-то в былом Засеет отборные зерна.Над северной рекой
Между городом и горою, На которой лежат облака, Мчится злая, любимая мною, Несмолкающая река. Мчится так: И звеня, и воя, И швыряя на берега, Точно кружево дорогое, Пену белую, как снега. Пробивается косо, криво Мимо гор, По горбам камней. Сосны тундровые с обрыва Простирают ветви над ней. Вот январь озера и камни Заковал, как в железо, в лед, Но и в стужу поет река мне, Неустанно стремясь вперед. Знаю: так не умею петь я, Но бессмертнее наша речь. Отряхнули сосны столетья, Словно иней, С колючих плеч. Над столетьями, Над валунами, Над узлами дикой воды Вознесенный на взгорье нами, Город наш, словно в небе ты. Лунной пеной сияют крыши, Как улыбки, огни легки. Я иду над рекой и слышу Силу звонкую той реки, Что бескрайностью многоцветной, Несравнимую ни с одной Жизнь мою Пронесет победно Беспокойной крутой волной.Я вспомню…
Года идут. Мы вспоминаем даты Своих рождений И чужих смертей. Ликуют рощи, Падают закаты И умирают на руках ветвей. Года идут. Двадцать шестой по счету, Как птица, пролетает шумный май. Глядят деревья в голубую воду, Влюбленных к соловьям везет трамвай Нева качает легкие байдарки, Из скверов к людям тянутся цветы. Любимая, В распахнутые парки Сегодня не со мною входишь ты. Я версты мну по праву пешехода, — Военного похода рядовой. Я славлю многотрудный день народа, Твоих друзей, Поющих над Невой. Они поют, И пенная, как пиво, Заря с балтийской встретится волной. И кто-нибудь, веселый и красивый, Тебе шепнет о счастье под луной… Приемля жизни жесткие порядки, От полусуточной ходьбы устав, Я буду спать в брезентовой палатке, Не жалуясь на воинский устав. Пускай мне снится дом с высокой крышей, В знакомых окнах поздний блеск огня. Мой современник, русый или рыжий, Сочувствием встречающий меня. И если станет правдой на рассвете Весь этот сон… Пока тоска остра, Я вспомню все: И заполярный ветер, И сны в лесу, И сказки у костра. Суровых рек серебряное пенье, Пчелиный гуд полуденных аллей… И под шагами зашипят каменья Неколебимых боевых путей. С красноармейской дружбой на привале, Куря махорку, Глядя в облака, Я не скажу ни слова о печали, Да будет и тебе судьба легка! Что эта невеселая разлука? Дни промелькнут, Свершится наш поход. Встречая нас, Сады протянут руки, Сверкающие, полные щедрот. Ни за столом, Ни на тропинке росной Я никаких сочувствий не приму, Пока страны немеркнущие весны Не изменяют сердцу моему.Ленинграду
Великий город, Старый Летний сад, Железное бессмертие оград. Почти живая строгость фонарей, Над площадями окна этажей. Я каждому окну пошлю привет, Пусть фонари наполнит белый свет. Пусть липы словно в первый раз цветут, Пусть всех оркестры из квартир зовут. Да будет и влюбленным и седым Не горек твой неистребимый дым. Пускай качает лодки их Нева, Пускай такси их мчат на Острова. Пускай, войдя в многоголосый круг, Меня забудет незабвенный друг. То не беды, — Людского счастья знак. Где сосен шум, Где необъятен мрак, И я не зря зажгу свой огонек. И, бормоча созвучья новых строк, Опять забуду в дальней тишине Того, кто затоскует обо мне. То не беды, — Людского счастья знак. Весна. Нева. Вокзал. Да будет так!«Мне знакома дорога на Луки…»
Мне знакома дорога на Луки, Край полуденный, Невель, Велúж, Снова встречи мои и разлуки Вспоминать, словно песни, велишь. Вдаль уходит мой поезд почтовый, Провожу его легкой тоской. Еле видно в просветах сосновых, Как мне спутница машет рукой. Над озерной погибельной тиной, Над прибитой померкшей листвой, Выжидая ли вылет утиный, Непонятный ли слушая вой, Я забуду на миг об охоте — Ни манок не возьму, ни ружье, Вдруг в дорожном увидев блокноте Быстрый скошенный почерк ее.«Вот припомни простую осень…»
Вот припомни простую осень, Листья желтые на лету, Как их ветер метет, уносит, Торжествуя в старом саду. Так и я без тоски, без боли, Просто жизнью делясь с другой, Вспомню, как мы играли в поле, Как махала ты мне рукой. Промелькнувшая Прядью тонкой Темно-русых легких волос, Где-то в детстве поешь девчонкой… Замечательная до слез, Я тебя никогда не встречу, И до дома не провожу, На крутые белые плечи Рук усталых не положу. Ну, а плечи теперь крутые, Груди — лебеди, А глаза Сероватые, Молодые И спокойные, как роса. Впрочем, я не заплачу, если Невозвратным потоком лет Унесло это все, И песни Той далекой, как детство, нет. Может, выцветшая В покое, Отбиваясь от мелких дум, Вдруг услышишь в душе былое, Как реки отдаленной шум. Что ж, Гляди в эти строки… С тонкой Темно-русой прядью волос, Улыбаясь, поет девчонка, Замечательная до слез.Прощай
Здесь я живу, А где-то ты живешь, И край мой по-осеннему хорош. Он весь со мной сегодня заодно: Однообразно дождь стучит в окно, Шумит багровый клен, Волна шумит, И кажется — одно их тяготит. В согласье с ними думы у стогов Под темными платками облаков. И даже дым, Ползущий наземь с крыш, И приозерный Гнущийся камыш, И от ночных костров грязца золы, И журавли, Кричащие «курлы», И солнце, Глянувшее невзначай, — Все шлет тебе И вторит мне: «Прощай!»Листья
Листья в овраге Нашли приют. Черны от влаги, Дымятся тут. А как шептали, Шумели как! Их снег завалит И свяжет мрак. Так умер лютик И крик совы… Так сходят люди С дорог кривых. И эти строки — Мой вольный труд, Как шум осоки, Как вы, умрут. Но то не слава ль? Да, и она. Упав под заваль, спят семена. Путей других нет, Лишь с теплых туч Их гром окликнет, Обнимет луч. И ветер дернет, — Росток, ложись. Ответят корни Борьбой за жизнь: Тот в кость волчицы, Тот в пень проник, Как мы в страницы Заветных книг. И коль сурова Безмолвьем смерть, Ты будешь снова, Листва, шуметь Ольховой веткой, Цветком лесным, Вздохнувшей клеткой, Иглой сосны. Так, может, к людям Приду опять. О чем мы будем Тогда мечтать?Письмо из деревни
Бывает: вспомнится, приснится Литературный особняк, Где всяк, спеша за славой, злится, А славен далеко не всяк. Где буквы вбиты в гладь металла: «Литфонд», «Драмсекция», «Группком». Где от велика и до мала Всяк с дипломатией знаком. Где мне встречались чудо-люди, Которым не сложить строки, А между тем, они и судьи, И авторы, и знатоки. Все это вспомнится, приснится, И как обрадуешься вдруг, Что над тобою свищут птицы, Косцы идут на дальний луг. В дома, как солнце, глянет слава, — Не дипломатия, не лесть: Покрыла дальний луг отава, А на лугу стогов не счесть! Привет тебе, земля-отрада, Как счастлив, что твою красу Сквозь все невзгоды и преграды Я незапятнанной несу.Александр Яшин
Снег
Я с детства сроднился с его холодком, Я брал его в руки, Ел и ахал, Знаком с его светом и с хрустом знаком, Я с детства ходил по нему босиком — О пятки отцовская билась рубаха. Как глину, месил я его и мял, Как белую глину скульптор, И смело Себя, угловатого, им растирал, Чтоб крепло, Горело, Пружинило тело. Я в этом снегу по колено бродил, Гонял сохачей по весеннему насту… Так здравствуй, С сиянием звезд на груди Под ветром ползущий и вьющийся, Здравствуй! Здесь с боем ходили мои друзья, В лощинах, в оврагах братались до гроба. Они обмерзали, меж сосен скользя… Но Мурманск был взят И Архангельск был взят. Враги недобитые гибли в сугробах. По вкусу, по цвету отличен от всех Снегов, что лежат на Дону, И Приднепровье, Он славен былыми боями, Наш снег, Он славен победами, мужеством, Снег, И пахнет он порохом, Бором. И кровью. Появится враг, и мы снова в снегу Его похороним. На горло наступим. Ни пяди земли, Ни снега врагу, Мы даже горсти снега врагу Не уступали И не уступим. Он, стянутый лыжней, Как друг боевой Тугими ремнями, Широкий на диво, Дымясь и сверкая, лежит предо мной. Так здравствуй же снова, Живой, Огневой, В сосновых иголках, С зеленым отливом.Так начиналась молодость
Заздравный тост Птицы тревожно пустились в лёт В рощу, В ольховый покой за деревней. Ветер несжатые полосы мнет, Ветер такой, Что с корнями рвет По сторонам вековые деревья. Ветер такой, Что визжат провода, Воют столбы, И с повадкой медвежьей, О валуны разодрав невода, Лезет взбесившаяся вода На каменистое побережье. Ветер такой, Что земля дрожит, Пыль поднялась — Не увидишь неба. Падают грузные этажи. Рушится жизнь! Зарождается жизнь! Сдавленный голос требует: — Хлеба! Ветер такой, Что в свистящей пыли Камни летят из серых предместий В окна покоев. А мы пошли Вдоль да по бережку Краем земли Первые в мире, Впервые — вместе. Выла встревоженная тайга. Где-то за речкой, За ельником, Рядом С шумом обваливались берега. Наши отцы добивали врага, И громыхала полуночь прикладом. Филины замерли, Залегли Волки в трущобах, Деревья скрипели. А мы, пригибаясь, под ветром шли, А мы, продираясь, Шагали, Шли. И даже смеялись, И даже Пели. Мгла нависла — Дорог не найти. Чавкали хляби под сапогами. Мы ободряли друг друга в пути, Руки сжимали друг другу: — Идти! И оживали селенья за нами. Можно ль пенять, Что суровы, горды, Что по-хозяйски Мы строги сегодня! Рожь не росла, Не цвели сады… Вобла да ковш задубевшей воды, Бабкин азям Да охотничьи бродни… Спали в оврагах, в лесах, на песках Сухонских И становились старше. Но не старели. На счастье рука… Так мы входили, Врывались в века, Так начиналась Молодость наша.«Слóва-то красивого…»
«А и где мне спелых зернышек
Весной набрать?
А и где найти мне, девушке,
Душевных слов»
Слóва-то красивого Не подыщешь наскоро. Как назвать мне милого, Чтобы очень ласково. Чтобы очень правильно Было, чтобы нравилось, Чтобы в сердце вправлено Было, чтобы плавилось Сердце, Чтобы доняло, Пело б имя до неба? Ведь не для кого-нибудь, И дает не кто-нибудь. Что там ни загадывай — Первая бы пара мне, Приласкаться надо бы, А слова все старые. Назову ль соколиком? Ненаглядой? ягодкой? — Ласково, но только Не такое надо бы. Кралей облюбованным? Голубком? касатиком? — Тоже не по-новому, Не его касательно. Суженым? державушкой? Симпатой? — все дешево! Не такая славушка У мово хорошего. Задушевным дролечкой?.. Но и то, коль вслушаться, Ну вот ни на столечко, Ни на капелюшечку Не подходит к любому, Не идет к желанному… Любо ли, не любо ли Батюшке, — По раннему По утру за реченьку Я пойду к подруженькам. Может, там словечико Подыскали нужное. Может, у подруженек Правильное, новое Для родных да суженых Имя облюбовано.«Шла я нынче заимкой…»
Шла я нынче заимкой, На снега глядела. Чего за ночь заинька Напетлял, наделал! У плетня у каждого, С умыслом ли, нет ли, Вереск он обхаживал, Затягивал петли. А местами — пустится Через пни и кочки: От куста до кустика По четыре точки. Я милого — мучилась Слушала весь вечер, До чего ж закручены У милого речи. Хоть и непонятные, Но уж так красивы… Слушала да пятилась, Свету не гасила. Я сноровку дикую Заячью-то знаю, Знаю, когда прыгают И когда петляют.«У ворот в цветах и лентах лошадь…»
У ворот в цветах и лентах лошадь. Заждались девчата за избой. Ты бы взял гармонику, Алеша, Ту, что с зеркалами и резьбой. Ту, с которой на море не зябли, — Шумную, В четырнадцать басов, Мы возьмем твои топор и грабли, Девушки управятся с косой. Отвалили бы да затянули: «Партизаны брали города» — Травы бы колени подогнули, Хлынула бы на берег вода! И березовое мелколесье Зацвело б, как яблоневый сад! Захвати с собой, Алеша, песню Ту, что разучили год назад.«Ни покоя тебе, ни просто…»
Ни покоя тебе, ни просто Тишины. Берега кипят. И вода шестибального роста Обдает с головы до пят. Утром гребни белее мела. Скрип камней прознобит насквозь, Синий свет пронижет все тело, Ветер выдует каждую кость, И уже никуда — Угрюмый Или радостный — Не уйдешь, Никуда не уйдешь от шума И от скрипа своих подошв, — Ни в ущелья Урала, Ни в пади Вологодских трущоб, — Никуда!.. …………. Так — от самого первого взгляда, Покорившего навсегда.Туча
Издалека, Томясь от слезной муки, Играя снежной белизной плеча, Заламывая молнии, Как руки, Шаль темную По травам волоча, Она плыла. Весь мир припал и замер, Истосковавшись, ждал: Придет гроза. Глядело жито желтыми глазами В ее большие Влажные глаза. Ничто вокруг не вызвало тревоги. Пред тучей полдень побледнел и смерк. Вились воронки ветра на дороге, Несмелые, И поднимались вверх. Но вдруг расперло воздух Черным громом, И хлынули Свистящие клинки. В полях осталась Смятая солома, В садах продрогших — Яблонь костяки.Коса
«…А завершение красоты — волосы»
«Книга 1001 ночи» Не огонь — перо жар-птицы, Не поля дамасских роз — Снятся мне твои ресницы, Снятся тихие зарницы Золотых твоих волос. Ты в морскую зыбь входила, Словно в облако луна. Ты смеялась, ты светилась. Живописней всех катилась, Пенясь, с плеч твоих волна. Поднималась ты на скалы — И с базальтовых громад Лился тонкий, небывалый, Золотистый водопад. Чья душа не замирала, Когда ты ходила в пляс, Когда ты разволновала Свою косу в первый раз, Вот она горит, как зори, Как сполохи, И видней, И не могут с нею спорить Ни огни, ни волны моря — Даже волны! Даже море! Даже радуги огней. С чем сравнится это пламя? Что зарницы поутру, Коль твоя коса, как знамя, Полыхает на ветру!Александр Чуркин
«Я в своем таланте не уверен…»
Я в своем таланте не уверен, Может быть, его и вовсе нет. Может, я стучусь в чужие двери Понапрасну только столько лет. Но, лишь только вытяну ладонь я За окно, в круговорот земной, Запросто летят на подоконье Звезды побеседовать со мной. Я от родины своей былинной Вышел утром ранним в чуткий час, Точно странник по дороге длинной, Суковатым посохом стучась. Так же шел, обретший в каждом миге Мудрость мира, ласковый покой, Многодумный Алексей Чапыгин, От меня живущий за рекой. Вслед за ним покинул отчий кров я, Чтоб беречь такую честь и стать. Вот запел на Ладоге Прокофьев, — И по всем морям его слыхать. Водит он в лазоревые весны Крепко просмоленные челны, Пронося поэзию на веслах. Точно пену яростной волны. Я не стану называть дословно Тех, что скрыты серою плитой, Всей моей рыбачьей родословной, Северным сияньем залитой.«Ах, только так — никак не иначе…»
Ах, только так — никак не иначе Звени, костер веселых строк! Мне нынче ночью надо вынянчить И отчеканить каждый слог. Чтоб эта маленькая песенка Ласкала слух и, наконец, По винтовой скользила лесенке К родным окрестностям сердец. Чтобы зрачками дальнозоркими Глядела вдаль слепых морей, Летела тесными задворками И главной улицей моей. Хочу я, чтоб торцами серыми Ты, заглушая барабан, Маршировала с пионерами, Перелетая по губам. По караулам и заставам С бойцами следуя в обход, Вошла параграфом устава В красноармейский обиход. Чтоб по-над Волгою и Доном Тебя под жаркий звон удил Перед тяжелым эскадроном Правофланговый заводил. Иди по всем путям и линиям И над дорогою любой. Пахучим яблоневым инеем Наполни воздух голубой. Ты моя ласковая пленница, Я не один тобой любим… Тебя в сердцах лелеют ленинцы Под красным галстуком своим.Признание
Плечи крепкие, налитые, Вся внезапная, как гроза, Я люблю твои золотые, Переменчивые глаза. И улыбка и грусть мгновенно Ускользают… А я слежу, Слушай, радость, Я непременно Про любовь свою расскажу. Нынче мне тепло и не грустно. И с тобою с глазу на глаз — В самых лучших и нежных чувствах Признаюсь тебе в первый раз. Дорогие руки лаская, Улыбаюсь и говорю: До последнего волоска я Поседею и отгорю. Я целую тебя и волную Перепутанные волоса… Я еще тебя поцелую За изменчивые глаза! За твою неспокойную душу В одиночестве и в толпе, Никогда не устану слушать И рассказывать о тебе.Молодая осень
Снова август прошумел по крышам, Отшумел над лугом и ушел, И пропал, невидим и неслышим, За лиловый, за вечерний дол. По тому ли травяному долу Возле речки, возле быстрых вод — Парни в вечер, душный и веселый, Водят с девушками хоровод. И любовь своим томленьем грея, Им приказывает и поет, И дурманным запахом пырея И пахучим паром обдает. Не старея и не умирая, Осень нарядилась в яркий цвет, Руки теплых яблонь окуная В золотой, вечерний полусвет. Осень. Озимь. И ничуть не жалко, Что ударит желтый листопад, Что багряным машет полушалком В зорях умирающий закат. По тому ль прекрасному закату Белошвейки-звезды шелком шьют, По земле, что юностью богата, Молодые дождики идут. Хорошо побыть в краю родимом, Походить заречной стороной, Подышать домашним крепким дымом, Как в гостях у матери родной. В лучший час, когда, не увядая, Зацветает полымя во мгле, Налетает Осень молодая, Золотая Юность на земле.Виктор Гусев
«Я был в Самарканде…»
Я был в Самарканде. Я Волгу видел. Я по небу мчался средь жутких стихий. Работал в газетах полков и дивизий. На канонерках читал стихи. Я в краснофлотском играл джаз-банде. Я в шахты спускался, взлетал наверх. И всюду — в Свердловске, в Кузнецке, в Коканде Я был как поэт и как свой человек. В шинели, в шубе, в бухарском халате, У южных пустынь и у северных льдин Встречал меня друг, однокашник, читатель — Суровой и честной руки гражданин. И хоть не отмечен я славой и стажем, Я видел — он знает, чем я дышу, И любит за каждую песню — и даже За ту, что я завтра ему напишу.Я — русский человек
Люблю на Кремль глядеть я в час вечерний. Он в пять лучей над миром засверкал. Люблю я Волги вольное теченье, Люблю сибирских рек задумчивое пенье, Люблю, красавец мой, люблю тебя, Урал. Я — русский человек, и русская природа Любезна мне, и я ее пою. Я — русский человек, сын своего народа, Я с гордостью гляжу на Родину свою. Она цветет, работает и строит, В ней стали явью прежние мечты. Россия, Русь, — могла ль ты стать такою, Когда б Советскою не стала ты? Ты сыновей растишь — пилотов, мореходов, У крымских скал, в полуночном краю. Я — русский человек, сын своего народа, Я с гордостью гляжу на Родину свою. Мир смотрит на тебя. Ты — новых дней начало. Ты стала маяком для честных и живых. И это потому, что слово — русский — стало Навеки близким слову — большевик; Что ты ведешь дружину молодую Республик — Октября могучих дочерей. Я — русский человек, и счастлив потому я, Что десять есть сестёр у матери моей. Как все они сильны, смелы и благородны! Россия, Родина, услышь слова мои: Ты потому счастлива и свободна, Что так же сестры счастливы твои; Что Грузия в цвету, Армения богата, Что хорошо в Баку и радостно в Крыму. Я — русский человек, но как родного брата Украинца пойму, узбека обниму. Так говорит поэт, и так его устами Великий, древний говорит народ; Нам, русским, братья все, кто вместе с нами Под большевистским знаменем идет. Могильные холмы сейчас я вспоминаю. Гляжу на мир долин, а в горле горя ком: Здесь русский лег, Петлюру поражая, Там украинец пал, сражаясь с Колчаком. Поклон, богатыри! Над нами коршун кружит, Но мы спокойно ждем. Пускай гремит гроза. В огнях боев рождалась наша дружба, С тобой, мой друг киргиз, с тобой, мой брат казах. Как я люблю снега вершин Кавказа, Шум северных дубрав, полей ферганских зной! Родился я в Москве, но сердцем, сердцем связан С тобою, мой Баку, Тбилиси мой родной! Мне двадцать девять лет. Я полон воли к жизни. Есть у меня друзья, — я в мире не один. Я — русский человек, я — сын социализма, Советского Союза гражданин!Полюшко-поле
(Степная-кавалерийская) Полюшко-поле, Полюшко, широко поле. Едут по полю герои, Эх, да Красной Армии герои! Девушки плачут, Девушкам сегодня грустно, — Милый надолго уехал, Эх, да милый в армию уехал! Девушки, гляньте, Гляньте на дорогу нашу, Вьется дальняя дорога, Эх, да развеселая дорога! Едем мы, едем, Едем, а кругом колхозы, Наши, девушки, колхозы, Эх, да молодые наши села! Только мы видим, Видим мы седую тучу, — Вражья злоба из-за леса, Эх, да вражья злоба, словно туча! Девушки, гляньте, Мы врага принять готовы. Наши кони быстроноги, Эх, да наши танки быстроходны! В небе за тучей Грозные следят пилоты. Быстро плавают подлодки. Эх, да зорко смотрит Ворошилов! Пусть же в колхозе Дружная кипит работа. Мы — дозорные сегодня, Эх, да мы сегодня часовые! Девушки, гляньте, Девушки, утрите слезы! Пусть сильнее грянет песня, Эх, да наша песня боевая! Полюшко-поле, Полюшко, широко поле. Едут по полю герои, Эх, да Красной Армии герои!Николай Асеев
Мальчик большеголовый
Голос свистит щегловый, мальчик большеголовый, встань, протяни ручонки в ситцевой рубашонке! Встань здесь и подожди-ка: утро сине и дико, всех здесь миров граница сходится и хранится. Утро сине и тихо, солнца мокра гвоздика, небо полно погоды, Сейма сияют воды. Пар от лугов белесый падает под березы; желтый цветок покачивая, пчелы гудят в акациях. Мальчик большеголовый, облак плывет лиловый, мир еще занят тенью, весь в пламенях рожденья. Не уходи за это море дождя и света, чуй — кочаны капусты шепчут тебе: забудься! Голос поет щегловый, мальчик большеголовый, встань, протяни ручонки в ситцевой рубашонке! Огненными вихрами сразу пять солнц играют; счастье стоит сторицей, сдунешь — не повторится! Шелк это или ситец, стой здесь, теплом насытясь; в синюю плавясь россыпь, искрами брызжут росы. Не уходи за это море дождя и света, стой здесь, глазком окидывая счастье свое ракитовое!Из стихотворения «Город Курск»
Город Курск стоит на горе, опоясавшись речкой Тускорь. Хорошо к ней слететь в январе На салазках с крутого спуска. Хорошо, обгоняя всех, свежей кожею щек зазяблых ощущать разомлевший снег, словно сок мороженых яблок, О республика детских лет, государство, великое в малом! Ты навек оставляешь след отшумевшим своим снеготалом.Последний разговор
Володя! Послушай! Довольно шуток! Опомнись, вставай, пойдем! Всего ведь как несколько куцых суток ты звал меня в свой дом. Лежит маяка подрытым подножьем, на толпы себя разрядив и помножив; бесценных слов транжира и мот, молчит, тишину за выстрелом тиша[23]; но я и сквозь дебри мрачнейших немот голос, меня сотрясающий, слышу. Крупны, тяжелы, солоны на вкус раздельных слов отборные зерна, и я прорастить их слезами пекусь и чувствую — плакать теперь не позорно. От гроба в страхе не убегу: реальный, поэтусторонний, я сберегу их гул в мозгу, что им навеки заронен. «Мой дом теперь не там, на Лубянском, и не в переулке Гендриковом; довольно тревожиться и улыбаться и слыть игроком и ветреником. Мой дом теперь — далеко и близко, подножная пыль и зазвездная даль; ты можешь с ресницы его обрызгать и все-таки — никогда не увидать». Сказал, и — гул ли оркестра замолк или губы — чугун — на замок. Владимир Владимирович, прости — не пойму, от горя — мышление туго. Не прячься от нас в гробовую кайму, дай адрес семье и другу. Но длится тишь бездонных пустот, и брови крыло недвижимо. И слышу: крепче во мне растет упор бессмертного выжима. «Слушай! Я лягу тебе на плечо всей косной тяжестью гроба, и, если плечо твое живо еще, смотри и слушай в оба. Утри глаза и узнать сумей родные черты моих семей. Они везде, где труд и учет, куда б ни шагнул, ни пошел ты. Мой кровный тот — чья воля течет не в шлюз лихорадки желтой. Ко мне теперь вся земля приближена, я землю держу за края. И где б ни виднелась рабья хижина, она — родная, моя. Я ночь бужу, молчанье нарушив, коверкая стран слова; я ей ору: берись за оружье, пора, поднимайся, вставай! Переселясь в просторы истории, перешагнув за жизни межу, не славы забочусь о выспреннем вздоре я, — дыханьем миллионов дышу и грежу. Я так свои глаза расширил, что их даже облако не заслонит, чтоб чуяли щелки, заплывшие в жире, что зоркостью я знаменит. Я слышу, — с моих стихотворных орбит крепчает плечо твое хрупкое: ты в каждую мелочь нашей борьбы вглядись, не забыв про крупное. Пусть будет тебе дорога одна — где резкой ясности истина, что всем пролетарским подошвам родна и неповторимая единственно. Спеши на нее и крепче держись вплотную с теми, чье право на жизнь. Еврей ли, китаец ли, негр ли, русский ли, — взглянув на него, не бочись, не лукавь. Лишь там оправданье, где прочны мускулы в накрепко сжатых в работе руках. Если же ты, Асеев Колька, которого я любил и жалел, отступишь хоть эстолько, хоть полстолько, очутишься в межпереходном жулье; если попробуешь умещаться, жизни, похлебку кое-как дохлебав, под мраморной задницей мещанства, на их доходных в меру хлебах: если ослабнешь хотя б немножко, сдашь, заюлишь, отшатнешься назад, — погибнешь, свернувшись, как мелкая мошка, в моих — рабочих всесветных глазах. Мне и за гробом придется драться, мне и из праха придется крыть: вот они — некоторые в демонстрации медленно проявляют прыть. Их с места сорвал всеобщий поток, понес из подкорья рачьего; они спешат подвести мне итог, чтоб вновь назад поворачивать. То ли в радости, то ли в печали панихиду по мне отзвонив, обо мне, — как при жизни молчали, так и по смерти оглохнут они. За ихней тенью, копя плевки, — и, что всего отвратительней, — на взгляд простецкий, правы и ловки — двудушья тайных вредителей. Не дай им урну мою оплюнуть, зови товарищей смело и громко. Бригада, в цепи! На помощь, юность! Дорогу ко мне моему потомку! Что же касается до этого выстрела, — молчу, но молчаньем прошу об одном: хочу, чтоб река революции выстирала это единственное мое пятно. Хочешь знать, как дошел до крайности? Всю жизнь — в огневых атаках и спорах, — долго ли на пол с размаху грянуться, если под сердцем не пыль, а порох? Пусть никто никогда мою смерть (голос тише — уши грубей), кто меня любит, пусть не смеет брать ее… в образец себе. Седей за меня, головенка русая, на стихи былые глазок не пяль и помни: поэзия — есть революция, а не производство искусственных пальм». …Смотрю на тучу пальто поношенных, на сапогов многое множество… Нет! Он не остался один-одинешенек. И тише разлуки тревогой тревожусь. Небо,[24] которое нелюдимо, вечер в мелкую звездь оковал, и две полосы уходящего дыма, как два раскинутых рукава.Штормовая
Непогода моя жестокая[25], не прекращайся, шуми, хлопай тентами и окнами, парусами, дверьми. Непогода моя осенняя, налетай, беспорядок чини, — в этом шуме и есть спасение от осенней густой тишины. Непогода моя душевная — от волны на волну прыжок, — пусть грозит кораблю крушение, хорошо ему и свежо. Пусть летит он, взрывая бока свои, в ледяную тугую пыль, пусть повертывается, показывая то корму, то бушприт, то киль. Если гибнут, — то всеми мачтами, всем, что песня в пути дала, разметав, как снасти, все начатые и неоконченные дела. Чтоб поморщилась гладь рябинами, чтобы путь кипел добела, непогода моя любимая, чтоб трепало вкось вымпела. Пусть грозит кораблю крушение, он осилил крутой прыжок, — непогода моя душевная, хорошо ему и свежо!О смерти
Меня застрелит белый офицер не так — так этак. Он, целясь, — не изменится в лице: он очень меток. И на суде произнесет он речь, предельно краток, что больше нечего ему беречь, что нет здесь пряток. Что женщину я у него отбил, что самой лучшей… Что сбились здесь в обнимку три судьбы, — обычный случай. Но он не скажет, заслонив глаза, что — всех красивей — она звалась пятнадцать лет назад его Россией!..Абхазия
Кавказ в стихах обхаживая, гляжусь в твои края, Советская Абхазия, красавица моя. Когда, гремя туннелями, весь пар горам раздав, совсем осатанелыми слетают поезда. И моря малахитового, тяжелый и простой, чуть гребни перекидывая, откроется простор, И входит в сердце дрожь его, и — высоту обсеяв — звезд живое крошево осыплет Туапсе, И поезд ступит бережно, подобно босяку, по краешку, по бережку, под Сочи, на Сухум, — Тогда глазам откроется, врагу не отдана, вся в зелени до пояса зарытая страна. Не древние развалины, не плющ, не виадук — одно твое название захватывает дух. Зеркалит небо синее тугую высоту. Азалии, глицинии, магнолии — в цвету. Обсвистана пернатыми на разные лады, обвешана в гранатные кровавые плоды, Врагов опутав за ноги, в ветрах затрепетав, отважной партизанкою глядишь из-за хребта. С тобой, с такой красавицей, стихам не захромать! Стремглав они бросаются в разрыв твоих громад. Они, тобой расцвечены, скользят по кручам троп — твой, шрамами иссеченный, губами тронуть лоб!Летнее письмо
Напиши хоть раз ко мне такое же большое и такое ж жаркое письмо, чтоб оно топорщилось листвою и неслось по воздуху само. Чтоб шумели шелковые ветви, словно губы, спутавшись на «ты». Чтоб сияла марка на конверте желтоглазым зайцем золотым. Чтоб кололись буквы, точно иглы, растопившись в солнечном огне. Чтобы синь, которой мы достигли, взоры заволакивала мне. Чтоб потом, в нахмуренные хвои, точно ночь вошла темным-темна… Чтобы все нам чувствовалось вдвое, как вдвоем гляделось из окна. Чтоб до часа утра, до шести, нам голову откинув на руке, пахло земляникой и жасмином в каждой перечеркнутой строке. У жасмина запах свежей кожи, земляникой млеет леса страсть. Чтоб и позже — осенью погожей — нам не разойтись, не запропасть. Только знаю: как ты не напишешь… Стоит мне на месяц отойти — по-другому думаешь и дышишь, о другом ты думаешь пути. И другие дни тебе по нраву, по-другому смотришься в зрачки… И письмо про новую забаву разорву я накрест, на клочки.Вдохновенье
Стране не до слез, не до шуток: у ней боевые дела, — я видел как на парашютах бросаются люди с крыла. Твой взгляд разгорится, завистлив, румянец скулу обольет, следя, как мелькнувши, повисли в отвесный парящий полет. Сердца их, рванув на мгновенье, забились сильней и ровней. Вот это — и есть вдохновенье прилаженных прочно ремней. Казалось: уж воздух их выпил, и горем примята толпа, и вдруг, как надежда, как вымпел, расправился желтый тюльпан! Барахтаться и кувыркаться на быстром отвесном пути и в шелковом шуме каркаса внезапно опору найти. Страна моя! Где набрала ты таких нерассказанных слов? Здесь молодость бродит крылата и старость не клонит голов. И самая ревность и зависть глядят, запрокинувшись, ввысь, единственной мыслью терзаясь: таким же полетом нестись.Остыванье
1
Смотри! Обернись! Ведь не поздно. Я не угрожаю, но — жаль… И небо не будет звездно, и ветви остынут дрожа. Взгляни, улыбнись, еще встанешь, еще подойдешь, как тогда. Да нет, не вернешь, не растянешь спрессованные года! И ты не найдешь в себе силы, и я не придумаю слов. Что было — под корень скосило, что было — быльем поросло.2
Ты меня смертельно обидела, Подождала, подстерегла, злее самого злого грабителя оглушила из-за угла. Я и так и этак прикладываю, как из памяти вырвать верней эту осень сырую, проклятую, обнажившую все до корней. Как рваный осколок в мозгу, как сабельную примету, я сгладить никак не могу свинцовую оторопь эту.3
От ногтя до ногтя, с подошв до кистей я все обвиняю в тебе: смешенье упрямства и темных страстей и сдачу на милость судьбе. Я верил, что новый откроется свет — конец лихорадки тупой, а это — все тот же протоптанный след для стада — на водопой. Так нет же! Не будет так! Не хочу! Пусть лучше — враждебный взгляд. И сам отучусь, и тебя отучу от жалоб, от слез, от клятв. Прощай! Мне милее холодный лед, чем ложью зажатый рот. Со мною, должно быть, сдружится зима скорее, чем ты сама. Прощай! Я, должно быть, тебя не любил Любил бы — наверно, простил. А может, впустую растраченный пыл мне стал самому постыл.Счастье
Что такое счастье, милый друг? Что такое счастье близких двух? Выйдут москвичи из норок, в белом все, в летнем все, поглядеть, как на планерах дни взмывают над шоссе. По шоссе шуршат машины на лету, налегке. Тополевые пушины — по Москве, по реке. А по лесу, по опушке, здесь, у всех же на виду, тесно сдвинуто друг к дружке, на серебряном ходу едет счастье краем леса. По опушке по лесной пахнет хвоевым навесом, разомлелою сосной. Едет счастье, едет, едет, еле слышен шины хруст, медленно на велосипеде катит драгоценный груз. Он руками обнял стан ей, самый близкий, самый свой. А вокруг зари блистанье, запах ветра, шелест хвой. Милая бочком уселась у рогатого руля. Ветер проявляет смелость, краем платья шевеля. Едет счастье, едет, едет здесь, у всех же под рукой, — медленно на велосипеде ощущается щекой. Чуть поблескивают спицы в искрах солнечных лучей. Хорошо им, видно, спится друг у друга на плече. А вокруг Москва в нарядах, а вокруг весна в цвету, Красной Армии порядок, и — планеры в высоту. Что ж такое счастье близких двух? Вот оно какое, милый друг!Анна Ахматова
«Тот город, мной любимый с детства…»
Тот город, мной любимый с детства, В его декабрьской тишине Моим промотанным наследством Сегодня показался мне. Все, что само давалось в руки, Что было так легко отдать: Душевный жар, молений звуки И первой песни благодать — Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал… И вот уж о невозвратимом Скрипач безносый заиграл. Но с любопытством иностранки, Плененной каждой новизной, Глядела я, как мчатся санки, И слушала язык родной. И дикой свежестью и силой Мне счастье веяло в лицо, Как будто друг от века милый Всходил со мною на крыльцо.Заклинание
Из высоких ворот, Из заохтенских болот, Путем нехоженым, Лугом некошеным, Сквозь ночной кордон, Под пасхальный звон, Незваный, Несуженый, — Приди ко мне ужинать.«Не прислал ли лебедя за мною…»
Не прислал ли лебедя за мною, Или лодку, или черный, плот? — Он в шестнадцатом году весною Обещал, что скоро сам придет. Он в шестнадцатом году весною Говорил, что птицей прилечу Через мрак и смерть к его покою, Прикоснусь крылом к его плечу. Мне его еще смеются очи И теперь, шестнадцатой весной. Что мне делать! Ангел полуночи До зари беседует со мной.«Одни глядятся в ласковые взоры…»
Одни глядятся в ласковые взоры, Другие пьют до солнечных лучей, А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей. Я говорю: «Твое несу я бремя, Тяжелое, ты знаешь, сколько лет». Но для нее не существует время, И для нее пространства в мире нет. И снова черный масленичный вечер, Зловещий парк, неспешный бег коня. И полный счастья и веселья ветер, С небесных круч слетевший на меня. А надо мной спокойный и двурогий Стоит свидетель… о, туда, туда, По древней подкапризовой дороге[26], Где лебеди и мертвая вода.«От тебя я сердце скрыла…»
От тебя я сердце скрыла, Словно бросила в Неву… Прирученной и бескрылой Я в дому твоем живу. Только… ночью слышу скрипы. Что там — в сумраках чужих? Шереметьевские липы… Перекличка домовых… Осторожно подступает, Как журчание воды, К уху жарко приникает Черный шепоток беды — И бормочет, словно дело Ей всю ночь возиться тут: «Ты уюта захотела, Знаешь, где он — твой уют?»«Годовщину последнюю празднуй…»
Годовщину последнюю празднуй — Ты пойми, что сегодня точь-в-точь Нашей первой зимы — той алмазной — Повторяется снежная ночь. Пар валит из-под царских конюшен, Погружается Мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, И куда мы идем — не пойму. Меж гробницами внука и деда Заблудился взъерошенный сад. Из тюремного вынырнув бреда, Фонари погребально горят. В грозных айсбергах Марсово поле, И Лебяжья лежит в хрусталях… Чья с моею сравняется доля, Если в сердце веселье и страх. И трепещет, как дивная птица, Голос твой у меня над плечом. И внезапным согретый лучом Снежный прах так тепло серебрится.«Все это разгадаешь ты один…»
Все это разгадаешь ты один… Когда бессонный мрак вокруг клокочет, Тот солнечный, тот ландышевый клин Врывается во тьму декабрьской ночи. И по тропинке я к тебе иду. И ты смеешься беззаботным смехом. Но хвойный лес и камыши в пруду Ответствуют каким-то странным эхом… О, если этим мертвого бужу, Прости меня, я не могу иначе: Я о тебе, как о своем, тужу И каждому завидую, кто плачет, Кто может плакать в этот страшный час О тех, кто там лежит на дне оврага… Но выкипела, не дойдя до глаз, Глаза мои не освежила влага.«И упало каменное слово…»
И упало каменное слово На мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела: Надо память до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо снова научиться жить. А не то… Горячий шелест лета, Словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот Светлый день и опустелый дом.Данте
Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог ее забыть, — Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной…Ива
И дряхлых пук дерев
Пушкин А я росла в узорной тишине, В прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, А голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, Но больше всех серебряную иву, И, благодарная, она жила Со мной всю жизнь, плакучими ветвями Бессонницу овеивала снами. И — странно! — я ее пережила. Там пень торчит, чужими голосами Другие ивы что-то говорят Под нашими, под теми небесами. И я молчу… Как будто умер брат.Маяковский в 1913 году
Я тебя в твоей не знала славе, Помню только бурный твой рассвет, Но, быть может, я сегодня вправе Вспомнить день тех отдаленных лет. Как в стихах твоих крепчали звуки, Новые роились голоса… Не ленились молодые руки, Грозные ты возводил леса. Все, чего касался ты, казалось Не таким, как было до сих пор, То, что разрушал ты, — разрушалось, В каждом слове бился приговор. Одинок и часто недоволен, С нетерпеньем торопил судьбу, Знал, что скоро выйдешь весел, волен На свою великую борьбу. И уже отзывный гул прилива Слышался, когда ты нам читал, Дождь косил свои глаза гневливо, С городом ты в буйный спор вступал. И еще не слышанное имя Молнией влетело в душный зал, Чтобы ныне, всей страной хранимо, Зазвучать, как боевой сигнал.Творчество
Бывает так: какая-то истома; В ушах не умолкает бой часов; Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один, все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растет трава, Как по земле идет с котомкой лихо… Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки, — Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь.Борис Пастернак
«Годами когда-нибудь в зале концертной…»
Годами когда-нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют — тоской изойду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки, купанье и клумбу в саду. Художницы робкой, как сон, крутолобость, С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб. Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся, Я вспомню покупку припасов и круп, Ступеньки террасы и комнат убранство, И брата, и сына, и клумбу, и дуб. Художница пачкала красками траву, Роняла палитру, совала в халат Набор рисовальный и пачки отравы, Что «Басмой» зовутся и астму сулят. Мне Брамса сыграют, — я сдамся и вспомню Упрямую заросль, и кровлю, и вход, Балкон полутемный и комнат питомник, Улыбку и облик, и брови, и рот. И вдруг, как в открывшемся в сказке Сезаме, Предстанут соседи, друзья и семья, И вспомню я всех, и зальюсь я слезами, И вымокну раньше, чем выплачусь, я. И станут кружком на лужке интермеццо, Руками, как дерево, песнь охватив, Как тени, вертеться четыре семейства Под чистый, как детство, немецкий мотив.«Любить иных — тяжелый крест…»
Любить иных — тяжелый крест, А ты прекрасна без извилин, И прелести твоей секрет Разгадке жизни равносилен. Весною слышен шорох снов И шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, Твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца вытрясть И жить, не засоряясь впредь, Все это — не большая хитрость.«Не волнуйся, не плачь, не труди…»
Не волнуйся, не плачь, не труди Сил иссякших и сердца не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, Как опора, как друг и как случай. Верой в будущее не боюсь Показаться тебе краснобаем, Мы не жизнь, не душевный союз, — Обоюдный обман обрубаем. Из тифозной тоски тюфяков Вон на воздух широт образцовый! Он мне брат и рука. Он таков, Что тебе, как письмо, адресован. Надорви ж его вширь, как письмо, С горизонтом вступи в переписку, Победи изнуренья измор, Заведи разговор по-альпийски, И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно кости мосластых, Убедишься, что я не фразер С заготовленной к месту подсласткой. Добрый путь. Добрый путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, Ты посмотришь на все по-другому.«Все снег да снег — терпи и точка…»
Все снег да снег — терпи и точка. Скорей уж, право б, дождь прошел И горькой тополевой почкой Подруги сдобрил скромный стол. Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы, — грохотом вокабул, Латынью ливня оглушил. Тупицу б двинул по затылку, — Мы в ту пору б оглохли, но Откупорили б, как бутылку, Заплесневелое окно. И гам ворвался б: «Ливень заслан К чертям, куда Макар телят Не гонивал…» И солнце маслом Асфальта б залило салат. А вскачь за громом, за четверкой Ильи Пророка, под струи — Мои телячьи бы восторги, Телячьи б нежности твои.«Когда я устаю от пустозвонства…»
Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при свете солнца, Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. Незваная, она внесла, во-первых, Во все, что сталось, вкус больших начал. Я их не выбирал, и суть не в нервах, Что я не жаждал, а предвосхищал. И вот года строительного плана, И вновь зима, и вот четвертый год. Две женщины, как отблеск ламп «Светлана», Горят и светят средь его тягот. Мы в будущем, твержу я им, как все, кто Жил в эти дни. А если из калек, То все равно: телегою проекта Нас переехал новый человек. Когда ж от смерти не спасет таблетка, То тем свободней время поспешит В ту даль, куда вторая пятилетка Протягивает тезисы души. Тогда не убивайтесь, не тужите, Всей слабостью клянусь остаться в вас. А сильными обещано изжитье Последних язв, одолевавших нас.«Стихи мои, бегом, бегом…»
Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, Где дней порвалась череда, Где пуст уют и брошен труд, И плачут, думают и ждут. Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб, как лебеда, Есть дом, — так вот бегом туда. Пусть вьюга с улиц улюлю, — Вы — радугой по хрусталю, Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю, Я шлю вас, значит, я люблю. О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как постиг, Я, вешающийся на них. Всю жизнь я сдерживаю крик О видимости их вериг, Но их одолевает ложь Чужих похолодевших лож, И образ Синей Бороды Сильнее, чем мои труды. Наследье страшное мещан, Их посещает по ночам Несуществующий, как Вий, Обидный призрак нелюбви, И привиденьем искажен Природный жребий лучших жен. О, как она была смела, Когда едва из-под крыла Любимой матери, шутя, Свой детский смех мне отдала, Без прекословий и помех — Свой детский мир и детский смех, Обид не знавшее дитя, Свои заботы и дела.Безвременно умершему
Немые индивиды, И небо, как в степи. Не кайся, не завидуй, — Покойся с миром, спи. Как прусской пушке Берте Не по зубам Париж. Ты не узнаешь смерти, Хоть через час сгоришь. Эпохи революций Возобновляют жизнь Народа, где стрясутся, В громах других отчизн. Страницы века громче Отдельных правд и кривд. Мы этой книги кормчей Простой уставный шрифт. Затем-то мы и тянем, Что до скончанья дней Идем вторым изданьем, Душой и телом в ней. Но тут нас не оставят, Лет через пятьдесят, Как ветка пустит паветвь, Найдут и воскресят. Побег не обезлиствел, Зарубка зарастет. Так вот — в самоубийстве ль Спасенье и исход? Деревьев первый иней Убористым сучьем Вчерне твоей кончине Достойно посвящен. Кривые ветки ольшин — Как реквием в стихах. И это все, и больше Не скажешь впопыхах. Теперь темнеет рано, Но конный небосвод С пяти несет охрану Окраин, рощ и вод. Из комнаты с венками Вечерний виден двор И выезд звезд верхами В сторожевой дозор. Прощай. Нас всех рассудит Невинность новичка. Покойся. Спи. Да будет Земля тебе легка.Василий Каменский
Москва в Октябре
Москва в Октябре, Как зима в серебре, Как зима, Распушенная звездно, Когда выйдешь на улицы — Хруст на ковре, Белизна искровеет морозно. В воздухе — юность! От снежной волны Мысли в разумность Разбега полны: Хочется жить На хрустящем ковре, Хочется жить, Как Москва в Октябре, В алом празднике звезд, В карнавале знамен, Чтобы жизненный мост Был на славу умен От великих имен Солнцеликих голов, Кто, как снег, Стойких слов Разостлал нам ковры Для счастливой, Победной поры. Слава вождям! Шире пусть разольются Дела их в путях Мировой революции. Оттого и светло От снегов в серебре, Оттого и Москва Хороша в Октябре. Улицы в празднике. Юность наскоками Брызжет Со всех концов: Между домами Балконно-высокими Сыплются Стаи юнцов. Их барабаны Да кудри вразлет Вихрем задорным Простор разольет. И будет Москва, Как зима в серебре, Хрустко звенеть От шагов на ковре, От рабочих шагов В Октябре. Так бы и жить Да работать бы в дым, Чтоб навеки остаться С Москвой молодым. И расти б в высоту, Как растут этажи. Так бы и жить — Насыщать красоту Новью дней и огней, Новью лет, новью зим. Мы в разбеге Весь мир поразим! Как столицу свою За пятнадцать годин Перестроили заново вдрызг, Так бы жить и сиять: Победим! Победим! Разгоримся От солнечных искр. Не устанет Москва, Как зима в серебре, Вместе с нами Нести Торжество в Октябре. Не устанем и мы От великой зимы, Когда славное слово «Пятнадцать» Открывает простор На горячий восторг — До конца За победами гнаться.Эдуард Багрицкий
Происхождение
Я не запомнил — на каком ночлеге Пробрал меня грядущей жизни зуд. Качнулся мир. Звезда споткнулась в беге И заплескалась в голубом тазу. Я к ней тянулся… Но, сквозь пальцы рея, Она рванулась — краснобокий язь. Над колыбелью ржавые евреи Косых бород скрестили лезвия. И все навыворот. Все как не надо. Стучал сазан в оконное стекло; Конь щебетал; в ладони ястреб падал; Плясало дерево. И детство шло. Его опресноками иссушали. Его свечой пытались обмануть. К нему в упор придвинули скрижали — Врата, которые не распахнуть. Еврейские павлины на обивке, Еврейские скисающие сливки, Костыль отца и матери чепец — Все бормотало мне: — Подлец! Подлец! — И только ночью, только на подушке Мой мир не рассекала борода; И медленно, как медные полушки, Из крана в кухне падала вода. Сворачивалась. Набегала тучей. Струистое точила лезвие… — Ну как, скажи, поверит в мир текучий Еврейское неверие мое? Меня учили: Крыша — это крыша. Груб табурет. Убит подошвой пол, Ты должен видеть понимать и слышать, На мир облокотиться, как на стол. А древоточца часовая точность Уже долбит подпорок бытие. … Ну как, скажи, поверит в эту прочность Еврейское неверие мое? Любовь? Но съеденные вшами косы; Ключица, выпирающая косо; Прыщи; обмазанный селедкой рот Да шеи лошадиный поворот. Родители? Но в сумраке старея, Горбаты, узловаты и дики, В меня кидают ржавые евреи Обросшие щетиной кулаки. Дверь! Настежь дверь! Качается снаружи Обглоданная звездами листва, Дымится месяц посредине лужи, Грач вопиет, не помнящий родства. И вся любовь, Бегущая навстречу, И все кликушество Моих отцов, И все светила, Строящие вечер, И все деревья, Рвущие лицо, — Все это встало поперек дороги, Больными бронхами свистя в груди: — Отверженный! Возьми свой скарб убогий, Проклятье и презренье! Уходи! — Я покидаю старую кровать: — Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!«Итак, бумаге терпеть невмочь…»
Итак, бумаге терпеть невмочь, Ей надобны чудеса: Четыре сосны Из газонов прочь Выдергивают телеса. Покинув дохлые кусты И выцветший бурьян, Ветвей колючие хвосты Врываются в туман. И сруб мой хрустальнее слезы Становится. Только гвозди Торчат сквозь стекло, Да в сквозные пазы Клопов понабились грозди. Куда ни посмотришь — Туман и дичь, Да грач на земле как мортус. И вдруг из травы Вылезает кирпич — Еще и еще! Кирпич на кирпич. Ворота. Стена. Корпус. Чего тебе надобно? Испокон Веков я живу один. Я выстроил дом, Я придумал закон, Я сыновей народил… Я молод, Но мудростью стар, как зверь. И, с тихим пыхтеньем, вдруг, Как выдох, Распахивается дверь Без прикосновенья рук. И товарищ из племени слесарей Идет из этих дверей. (К одной категории чудаков Мы с ним принадлежим — Разводим рыб И для мальков Придумываем режим.) Он говорит: — Запри свой дом, Выйди и глянь вперед: Сначала ромашкой, Взрывом потом Юность моя растет. Ненасытимая, как земля, Бушует среди людей, Она голодает, — Юность моя, Как много надобно ей! Походная песня ей нужна, Солдатский грубый паек: Буханка хлеба Да ковш вина, Борщ да бараний бок. А ты ей приносишь Стакан слюны, Грамм сахара Да лимон, Над рифмой просиженные штаны — Сомнительный рацион… Собаки, аквариумы, семья — Вокруг тебя как забор… Встает над забором Юность моя, Глядит на тебя в упор. Гектарами поднятых полей, Стволами сырых лесов Она кричит тебе: — Встань скорей! Надень пиджак и окно разбей, Отбей у дверей засов! Широкая зелень Лежит окрест — Подстилкой твоим ногам! (Рукою он делает вольный жест От сердца — И к облакам. Я знаю в нем Свои черты, Хотя он костляв и рыж, И я бормочу себе: «Это ты Так здорово говоришь».) Он продолжает: — Не в битвах бурь Нынче юность моя, Она придумывает судьбу Для нового бытия. Ты думаешь: Грянет ужасный час! А видишь ли, как во мрак Выходит в дорогу Огромный класс — Без посохов и собак! Полна преступлений Степная тишь, Отравлен дорожный чай… Тарантулы… Звезды… А ты молчишь? Я требую! Отвечай! И вот, как приказывает сюжет. Отвечает ему поэт: — Сливаются наши бытия, И я — это ты! И ты — это я! Юность твоя, — Это юность моя! Кровь твоя — Это кровь моя! Ты знаешь, товарищ, Что я не трус, Что я тоже солдат прямой. Помоги ж мне скинуть Привычек груз, Больные глаза промой! (Стены чернеют. Клопы опять Залезают под войлок спать. Но бумажка полощется под окном «За отъездом Сдается в наем!!»)Арсений Тарковский
Перед листопадом
Все разошлись. На прощанье осталась Оторопь желтой листвы за окном, Вот и осталась мне самая малость Шороха осени в доме моем. Выпало лето холодной иголкой Из онемелой руки тишины И запропало в потемках за полкой, За штукатуркой мышиной стены. Если считаться начнем, я не вправе Даже на этот пожар за окном. Верно, еще рассыпается гравий Под осторожным ее каблуком. Там, в заоконном тревожном покое, Вне моего бытия и жилья, В желтом, в синем и красном — на что ей Память моя? Что ей память моя?«Под сердцем травы тяжелеют росинки…»
Под сердцем травы тяжелеют росинки, Ребенок идет босиком по тропинке, Несет землянику в открытой корзинке, А я на него из окошка смотрю, Как будто в корзинке несет он зарю. Когда бы ко мне побежала тропинка, Когда бы в руке закачалась корзинка, Не стал бы глядеть я на дом под горой, Не стал бы завидовать доле другой, Не стал бы совсем возвращаться домой.«Если б, как прежде, я был горделив…»
Если б, как прежде, я был горделив, Я бы оставил тебя навсегда, Все, с чем расстаться нельзя ни за что, Все, с чем возиться не стоит труда, — Надвое царство мое разделив. Я бы сказал: — Ты уносишь с собой Сто обещаний, сто праздников, сто Слов. Это можешь с собой унести. Мне остается холодный рассвет, Сто запоздалых трамваев и сто Капель дождя на трамвайном пути, Сто переулков, сто улиц и сто Капель дождя побежавших вослед.«Отнятая у меня, ночами…»
Отнятая у меня, ночами Плакавшая обо мне, в нестрогом Черном платье, с детскими плечами, Лучший дар, не возвращенный богом. Заклинаю прошлым, настоящим, Крепче спи, не всхлипывай спросонок, Не следи за мной зрачком косящим, Ангел, олененок, соколенок. Из камней Шумера, из пустыни Аравийской, из какого круга Памяти — в сиянии гордыни Горло мне захлестываешь туго? Я не знаю, где твоя держава, Я не знаю, как сложить заклятье, Чтобы снова потерять мне право На твое дыханье, руки, платье.Дмитрий Семеновский
«Земляника душистая сплошь…»
Земляника душистая сплошь Окатила подножия рощ. Черника, куда ни пойдешь, Закапала кочки, как дождь. И пальцы и губы твои В их липкой лиловой крови. На плечи загаром легла Благодать золотого тепла. По душе нам с тобою пришлись Эти сечи, поляны, палы, Просторная, блеклая высь, Тонконогих берёзок стволы. Звон кузнечиков легок и сух. Он, как песня, ласкает нам слух. Эту песню июльскую мы Вспомним в синем затишье зимы. Вспомним поля медовую сушь, Мхов лесных голубое шитье, Шмеля придорожного плюш, — Все летнее счастье свое. И долго, и долго, мой друг, В дни седые морозов и вьюг С наших рук и бровей не сойдет Знойных дней золотистый налет. И бодро пойдем мы с тобой Под легкою ношей труда, Как шли васильковой тропой Вдаль, где леса темнела гряда.Юрьевец
В. Семеновской Поднимись по тропинке на темя высокой горы, Встань у края обрыва И взгляни, как за Волгой лугов разлетелись ковры, Как синеет лесная дремучая грива. И, мечтой улетая туда, где туманы легли, К полным тайны и сумрака борам, — Ты вздохни всей громадой воды и цветущей земли, Всем великим простором. Ты почувствуешь, как вырастает и крепнет душа, Обновляется клетка за клеткой. Красноствольные сосны тебя обступили, дыша Каждой дымчатой веткой. А внизу, пред подножием глинисто-рыжих холмов, Весь в звучании бодрого гула, Расстилается Юрьевец лентой садов и домов, Унжа к Волге сестрою прильнула. О, каких эта ширь не навеет видений и дум! Вспомнишь древние были. Вот по этим тропинкам ступал протопоп Аввакум, Здесь и меч, и пожары народную силу губили. И, раздев бедняка, разживались казною купцы, Надрывался бурлак по пескам юрьевецким. Та пора далека. Заживают былого рубцы Под целительным солнцем советским. Посмотри: из прохладно-зеленой лесной темноты, Из разбуженных недр захолустья Быстроходная Унжа несет смоляные плоты На раздолье веселого устья. Лесопилка — оса над поволжской звенит шириной, И скликают народ на работу заводы. Не княжой, не купеческий — новый, иной Город смотрится в светлые воды. Голубые дворцы пароходов плывут по реке, Веют флаги, так празднично-ярки. Крылья чаек блестят. Быстрый катер бежит налегке, Тихо тянутся грузные барки. А когда от заката зардеют края облаков И тепло озарятся крутые откосы, — Как торжественно песни густых пароходных гудков Оглашают притихшие плесы! Мотыльками трепещут огни в подступающей мгле. Потемнела верхушка далекого стога, И дрожит от луны на речном переливном стекле Золотая дорога.Всеволод Рождественский
В путь!
Ничего нет на свете прекрасней дороги! Не жалей ни о чем, что легло позади. Разве жизнь хороша без ветров и тревоги? Разве песенной воле не тесно в груди? За лиловый клочок паровозного дыма, За гудок парохода на хвойной реке, За разливы лугов, проносящихся мимо, Все отдать бы готов беспокойной тоске. От качанья, от визга, от пляски вагона Поднимается песенный грохот — и вот Жизнь летит с озаренного месяцем склона На косматый, развернутый ветром восход. За разломом степей открываются горы; В золотую пшеницу врезается путь, Отлетают платформы, и с посвистом «скорый» Рвет тугое пространство о дымную грудь. Вьются горы и реки в привычном узоре, Но по-новому дышат под небом густым И кубанские степи, и Черное море, И суровый Кавказ, и обрывистый Крым. О, дорога, дорога! Я знаю заране, Что, как только потянет теплом по весне, Все отдам я за солнце, за ветер скитаний, За высокую дружбу к родной стороне!Солнцестан
1. Пески
Желта и уныла пустыня. Гудит негодующий ветер, Белесых песков подвигая сухие сыпучие груды. Кругом поглядишь — только небо, да жесткий кустарник, да эти Упрямо один за другим идущие к югу верблюды. Ты едешь и день, и неделю, а все нет конца Кара-Кумам. От душного, пыльного зноя становятся грузными веки, И месяц, как ломтик арбуза, стоит в саксауле угрюмом, И, к морю добраться не в силах, в песок зарываются реки. Но будь терпеливым, и скоро, ладонью глаза прикрывая, Увидишь далеко-далеко в просторно струящемся зное, У серых отрогов Тянь-Шаня, высокого горного края, Зеленый и свежий оазис, цветенье земли золотое. Сюда провели по каналу в пески сыр-дарьинскую воду, — И хлопок цветет белоснежный, и рис овевает прохлада. Строитель с киркой вознесенной стоит, улыбаясь народу, Гигантом из серого камня среди многошумного… сада.2. Вода
Солнцестан без воды — это желтый платок: Ни дорог, ни полей, ни аула, Только ребра холмов, да горячий песок, Да сухие пучки саксаула. Но вода в Солнцестане — и поле и сад. Под ее неумолчное пенье Зелен рис на полях, и упруг виноград, И хлопчатника пышно цветенье. Здесь колхозная делится строго вода. Целый год садоводы-узбеки, Говорливых арыков плетя невода, Разбирают на ниточки реки. И недаром работают влага и жар, Не напрасно копает лопата. Выходи поглядеть на осенний базар, Как земля Солнцестана богата! Вот скрипучий арбуз, — он, как тигр, полосат. Вот янтарные груши и дыни, Бархатистый урюк, наливной виноград — Золотистый и дымчато-синий. А за ближним арыком, где дремлет кишлак, Подставляя под солнышко спину, К шелковичной листве прилепился червяк И спускает слюну-паутину. Надо с кокона тихо ее размотать, Не порвать, не запутать без толку, — И начнет со станка эта нитка бежать Золотистою пряжею шелка. Посмотри на хлопчатник, простой, как бурьян, Лебединого пуха он краше. Шлет на север тюками его Солнцестан, На текстильные фабрики наши. И несчетно богат бесконечный простор, Сила в нем пробудилась живая. Плодоносны долины, а грудь этих гор — Всех металлов цветных кладовая. Вот каков Солнцестан, золотой Солнцестан! Он лежит, как халат златотканый, Там, где снежных хребтов голубой караван Прорезает степные туманы.Ночлег
Теплой солью с луговин подуло… Гаснет солнце. Нет конца пути. Напои коня, луна аула, И в траву за юртою пусти! Твоего халата полыханье Я не мог объехать у огня. Не таись и не беги заране, Рукавом закрывшись, от меня. Плов в котле вздувается устало, Пламя лижет медные бока. Сколько звезд! Сквозит, как покрывало, В темной сини млечная река. Две лепешки, поданных на блюде, Щедрой горстью брошенный творог — Добрым знаком мне при встрече будет, Чтоб забыть я этого не мог. Шерсть у псов — взлохмаченный репейник. В полумраке, мягком, как баран, На груди сверкнула нитка денег, Просквозил в летучем ситце стан. Я сухой чебрец перетираю, Я гляжусь в глаза твои, Ана, Словно я прильнул губами к краю Пиалы, где не находишь дна… Утро в небе расплетет узоры, Горсть золы ты бросишь на огонь, А меня в синеющие горы Понесет упругой рысью конь, И, рукою бровь прикрыв, с порога Ты увидишь на рассвете дня, Как пылит полынная дорога, Словно бубен горестно звеня.Тихвинщина
Я вырос на севере, в тихвинской чаще, Где лес непроглядный был мохом обут. Туман комариный и дождь моросящий Меня, словно песня, за сердце берут. Там, в сумерках века, в тревожные годы Цвело босоногое детство мое; Беспечно гляделось в озерные воды, Где стайкою бродит меж трав окунье. Любило над прялкою нянино пенье И, дедовых сказок храня туесок, Встречало на стеклах мороза цветенье, Когда пламенел между сосен восток. Ушкуйная край мой вскормила свобода, Вовек не знавали мы дыма татар, Янтарней ухи и душистее меда В крови у нас бродит былинный навар. Я верил всегда, что в народе суровом, Прошедшем глухие века нищеты, Жар-птицей живет непокорное слово И мудрости смелой есть в лицах черты. Отныне по праву исконных хозяев Народ этот край для свободы добыл И, плечи расправив, как Васька Буслаев, Играет избытком разбуженных сил. Соснового роспила розовый запах Ему, словно хмеля крутая игра, И сердце, как белка в раскидистых лапах, Играет и пляшет под стук топора. А в пенной стремнине смолистые бревна, Ныряя и вновь выплывая на свет, Несутся, как песня, свободно и ровно, Встречая приладожский свежий рассвет. Широко бренчит колокольцами стадо, По взгорьям плывет, наливается рожь, и «белый налив» деревенского сада Разрезом на розовый месяц похож. … … … … … Давно не бывал я в родной глухомани, Но мне ли ее в эти дни не узнать! Огни новостроек роятся в тумане, Буксиры винтами взбивают Оять. Средь сосен могучих электропилою Стрекочет мой сверстник, герой-лесоруб, В кружащемся снеге привычной тропою Торопятся парни с подружками в клуб. Веков подневольных стирая морщины, Колхозный поставив на стол каравай, Ты весь наливаешься мощью былинной, В лесах и озерах, мой тихвинский край!Целина
Вся тайной силой налитая, Жарой прогретая до дна, Она лежит еще немая, Неподнятая целина. Как будто море здесь застыло, Еще не взрытое волной, И лишь холмы плывут уныло, Куда ни глянешь, в сизый зной. Что было там, за ширью синей? Каких кочевий горький дым, Мешаясь с запахом полыни, Плыл по кустарникам сухим? Какие маки огневели В горячей солнечной пыли, Какие стрелы злобно пели, Какие орды здесь прошли? Лишь одинокие курганы Шумят иссохшим ковылем, Да каменные истуканы Маячат в сумраке степном. Земля, пустынная от века, Порой вздыхает в смутном сне, И скучно ей без человека Сгорать в безрадостном огне. Кому отдать все эти силы, Переполняющие грудь, Бесплодных трав простор унылый Пред кем покорно развернуть? Придет ли час освобожденья? И он пришел. Уже вдали Стальных коней растет гуденье Врезающихся в грудь земли. И степь, свободно и просторно Вздыхая, входит в новый век, Где рассыпает жизни зерна Освободитель. Человек.У окна
Грохочущий поезд летит на Восток, Проносятся рощи, полянки, Стрекочет под ним, пробегая, мосток, Мелькают, шурша, полустанки. Торопится поезд. Родная страна Его принимает в ладони. И двое, прижавшись, стоят у окна В пронизанном ветром вагоне. Он в сдвинутой кепке — шофер? лесоруб? Грудь майкой обтянута белой. Повис на отлете растрепанный чуб Со лба с полосой загорелой. У ней — удивленно расширенный взгляд, Затянут платок по привычке; И, связаны выцветшей лентой, торчат Две туго сплетенных косички. Так молоды оба! Чего не отдашь За сердца порыв беспримерный! Вся жизнь перед ними, и весь их багаж — Один чемоданчик фанерный. Куда они едут? Какие миры Раскроют им сопки Сибири, Кипенье зажатой в бетон Ангары, Тайга и целинные шири? И кажется мне — это юность моя, Что крепла в трудах и походах, Летит вместе с ними в иные края, К весеннему небу в разводах. Недаром мелькали, как шпалы, года, Назад убегая навеки, Недаром мне снились всю жизнь поезда, Леса и могучие реки, — Я юность вернуть на мгновение мог, Дыша предзакатной полынью… А поезд все дальше летел на Восток, В просторы, манящие синью.Николай Браун
«Ясен мир. В поля выходит лето…»
Ясен мир. В поля выходит лето. Сколько их прошло — не сосчитать. Сколько не досказано, не спето — Только бы допеть мне, досказать! Клонит ветви светлая береза, Облетает яблоневый цвет, И, совсем как в детстве, даже слезы Легкие: нахлынули — и нет. И, совсем как в детстве, на закате Облака пылают в вышине, И опять в лучах небесный ратник Мчится вдаль на облачном коне. И опять как будто я в начале, У истока всех дорог земных, Но иным огнем пылают дали, Скачут кони ратников иных. Топчут кони травы по долинам, Яблони грозой обожжены, И в полях не свист перепелиный — Пули свищут голосом войны. И опять в боях идут герои, Задыхаясь, гибнут города, Мир еще не ясен, не устроен, Душит всходы злая лебеда. Мир неясен, но рассвет — он близок, Встать бы каждым словом за него! Я хочу, чтоб падал враг, пронизан Меткой пулей слова моего. Мне не надо большего на свете — Только б эти песни помогли, Чтоб по всей земле смеялись дети, Птицы пели, яблони цвели!«Распрощаемся, разойдемся…»
Распрощаемся, разойдемся, Не в разлуку, а навсегда. Разойдемся — и не вернемся, И не свидимся никогда. Никогда! Отпылают зори, И леса отшумят листвой, В дальней дали, как чайка в море, Затеряется голос твой. Затеряется облик милый, Не дотянешься, не дойдешь, Не докличешься. Все, что было, Только небылью назовешь. Только небылью! Все скитанья, По которым прошли с тобой, Все скитанья и все страданья — Крылья молний над головой. Так прощай же! Заря сгорает, Звезды в небе, дрожа, встают, Так прощаются, вдруг теряя То, что молодостью зовут. То, что в сердце горело, билось!.. Утро. Осень шумит листвой. Это все мне только приснилось, — Ты покуда еще со мной.«Ты теперь придешь ко мне не скоро…»
Ты теперь придешь ко мне не скоро, Ты теперь далеко — не вернешь, — В тихом поле, на опушке бора, В деревянном домике живешь. По ночам, твой сон оберегая, Все деревья, что живут в бору, Все цветы под окна выбегают, Тихим стуком будят поутру. Ты выходишь — и по свежим росам Ты идешь, как в детстве, босиком, Ты идешь к дымящимся покосам Голубым озерным бережком. Тишина кругом. И только пчелы Над пахучим клевером звенят… Где твой голос? Твой певучий голос? Не дойдет он, видно, до меня. Не дойдет! Утрами, вечерами Счет веду разлучных, злых недель. Где ты? Для других — не за горами, Для меня — за тридевять земель.«Ты снова мне снилась весенней, веселой…»
Ты снова мне снилась весенней, веселой, Такой, как входила в страданье мое, И синие горы, и тихие долы, И нежное древнее имя твое. Такой ты мне снилась… Когда это было? И где эта песня и как началась? Вошла ты — и сразу меня полонила И сразу же властью моей назвалась. Вошла, позвала, повела, закружила, Все спутала — дни, и дороги, и сны. Все дали закрыла, все звезды затмила, Снега растопила дыханьем весны! Входи же, веди меня далью дорожной, Веди меня, властвуй!.. Но как мне понять, Что стала при встречах ты суше и строже? Как нынче мне сердце твое разгадать? Гадай — не гадай: если будет, то будет — Уйдешь, пропадешь, и никто не вернет, Уйдешь — и следы твои время забудет, Ветрами остудит, снежком заметет…Петр Орешин
«Плывут в глазах поля, холмы, лощины…»
Плывут в глазах поля, холмы, лощины, Склонился ветер к синему кусту. Люблю я песню полевой машины, Как сельских пашен давнюю мечту. Июльским днем стрижет она увалы, Блестят снопов покорные ряды. Поют в пшенице косы, как цимбалы, Бензином пахнет, и растут скирды!«Земля родная, лес да поле…»
Земля родная, лес да поле, Луга в ромашках, синь дорог. Какой простор, какая воля Дыханью песнопевных строк! Но тем дороже мы друг другу, И ведь не зря ж по ветерку Торопится ромашка с луга На совещанье к васильку.Песня о счастье
Я верю в лучшие заветы, В цветы, в просторы, в тихий пруд И в песни, что поют поэты И в селах девушки поют. Я верю в птиц, летящих мимо, В порывы юности, весны, В узоры заводского дыма, В величие моей страны. Я верю в сказку при досуге, В хороший дождь, в любовь к добру, И в клекот журавлиной вьюги, И в песни солнца поутру. Мне хорошо от песни жницы, Чей голос прячется в хлебах, И от веснушек на девице, И от улыбки на губах. Мне хорошо дышать со всеми Березой, солнцем и дымком, И воспевать звезду на шлеме, И в песнях быть большевиком. Я счастлив от любовных бредней, Когда в окно глядит рассвет, От новой песни, не последней, И от того, что я — поэт. Еще одно я знаю счастье, Оно во мне как сталь, как медь: Мне есть что защищать со страстью, За что я мог бы умереть!«Стою перед лесом на тихой дороге…»
Стою перед лесом на тихой дороге, Не вижу ни лося, ни желтых лисиц. Но чьи же в лесу золотистые ноги Стоят и качают и белок и птиц? Гляжу на опушку: дубы онемели, Лишь нежно березы скрипят в тишине, И каждая шепчет: родной, не ко мне ли? К соседке заглянешь аль прямо ко мне?Степан Щипачев
Дорога
Со мною в детстве нянчились не шибко. Еще по снегу, мартовской порой, Я бегал, рваный, босоногий, в цыпках, А грелся у завалинки сырой. Потом отдали в батраки. Желтела, В рожок играла осень у окон. И как вставать утрами не хотелось! Был короток батрацкий сладкий сон. Редел туман, и луч скользил по кровлям, И занимались облаков края, И солнце над мычанием коровьим Вставало заспанное, как и я. Напившись чаю в горнице, бывало, Хозяин спит, а нас, бывало так, Что и заря нередко заставала Над книжкой, купленною за пятак. Потом — фронты. Не раз, когда над строем Летел сигнал тревоги боевой, Вставало солнце, красное, сырое, Над мокрою таврической травой. И мы с размаху сталь в крови купали. Так надо было, мы на то и шли: Мы шашками дорогу прорубали, Неся мечту о будущем земли.Метростроевцы
Слепит глаза. Рубаха льнет к спине. Лебедчик улыбается весне Он крепко руку на рычаг кладет И по-казахски песенку поет, Поет — и песенка ему люба, Она чуть слышно бродит на губах. Поется в ней о том, как прежде жил… Он песенку, наверно, сам сложил. Она, как степь казахская, проста, Она о том, как он к машине стал. И как машина в котловане тесном Хватает землю пригоршней железной, Как бьется ток ее железных жил… Он песенку, наверно, сам сложил. Везут на тачках серую щебенку. С дистанции выходят три девчонки; Одна из них бетонщик-бригадир. Весной и юностью высокий бродит мир. В ручье у камня щепка проплыла. Над городом летит аэроплан. Лебедчик в синь, прищурившись, глядит; Смеются три девчонки впереди… Все четверо по улице прошли — Хозяева и неба и земли.Биография речки Рыбинки
Рыбинкой звали тебя. Века Несла ты названье свое. В тебе отражались Камыш, облака, Стрелецкий кафтан и ружье. В тебе молодицы мочили холсты, Вьюнов головастых ловили дети. Вчера под землей, размывая грунты, Ты вырвалась вновь из столетий, Ты в нашу штольню направила бег, Выбив подпорки ребро. Тебя в бетон одел человек И положил над тоннелем метро. Ты будешь катиться через него В звонкое завтрашнее столетье, Хоть, может, названия твоего Больше никто не встретит.«Пусть жизнь твоя не на виду…»
Пусть жизнь твоя не на виду, — Какое счастье жить и знать, Что не на ветер дни твои идут, Что в жизни цель тебе ясна, Что не напрасно бьет дождями лето, Зимою вьюги обжигают лоб, Что есть в большой работе пятилеток Твоя работа, рук твоих тепло.Чу
В Киргизии, где скалы Стоят плечо к плечу, Несется голубая, Вся вспененная Чу. В камнях сырых ущелий, Как снег, ее оскал, Она в песок стирает Косые ребра скал, Но не могла пробиться Всей яростью струи Ни к морю за барханы, Ни к водам Сырь-Дарьи. Она сильна, и горы За нею высоки, Но выпивают силу Сыпучие пески. Жестка, суха пустыни Горячая щека, — И высыхает речка В литых солончаках. Киргизия, не так ли И жизнь твоя текла, Пока с рекой Советов Ее ты не слила.«От южных морей до таежной глуши…»
От южных морей до таежной глуши, До вечных мерзлот Полярного круга Пускай все дорожки запорошит Белая — с яблонь и с вишен — вьюга. Город от пыли и духоты Задохся в булыжнике, в скверах редких; Пускай к домам подступают сады, Врываются в окна мокрые ветки. Зеленая тень шевелится на раме, Скользит по железу и кирпичу; Пускай стоят под всеми ветрами Сады и заводы плечом к плечу.«Не бери пример с подруг, не надо…»
Не бери пример с подруг, не надо. Ты других не хуже, не грубей. На окурках след губной помады Лишь брезгливость вызовет к тебе. Лучше в рот возьми сирени Ветку, горькую от рос, Чтоб любимый днем весенним Терпкий привкус на губах унес.Березка
Ее к земле сгибает ливень Почти нагую, а она Рванется, глянет молчаливо, — И дождь уймется у окна. И в непроглядный зимний вечер, В победу веря наперед, Ее буран берет за плечи, За руки белые берет. Но, тонкую, ее ломая, Из силы выбьются… Она, Видать, характером прямая, Кому-то третьему верна.«Любовью дорожить умейте…»
Любовью дорожить умейте, С годами дорожить вдвойне. Любовь — не вздохи на скамейке И не прогулки при луне. Все будет: слякоть и пороша, Ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, А песню не легко сложить.Календарь
Скамейка почернела От времени в саду. Давно ль пылила вьюга, — Вновь яблони в цвету. Но не замедлит время — Опять подует снег… Спохватишься — седеешь, Намного убыл век, А все торопишь время, Как будто на пути Оно мешает в жизни До главного дойти, Жалеешь, что не третье, А первое число, Что сад не цветом яблонь, А снегом занесло.Две даты
Я знаю — смерть придет, не разминуться с ней, Две даты наберут под карточкой моей, И краткое тире, что их соединит, В какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит. А если бы сложить все пройденное мной, Я обойти бы смог раз восемь шар земной. Работать с детских лет вставал я на заре… Пусть лягут, как стихи, две даты и тире. И, если ты мне друг, у гроба повтори, Что, мол, ни в чем длиннот не выносил старик.«Пчела кружилась над цветком…»
Пчела кружилась над цветком, Сбирая хоботком Добычу трудную свою, Что станет всем сладка, Но отшумел в степи июнь — Недолгий век цветка. И жизнь твоя, как ни долга, Пройдет, как век цветка. Но так ли песню нам сложить, На том ли кончить нам, Когда народу вечно жить И вечно жить цветам?«Мне кажется порой, что я…»
Мне кажется порой, что я Вот так и буду жить и жить на свете! Как тронет смерть, когда — кругом друзья, Когда трава, и облака, и ветер — Все до пылинки — это жизнь моя?«Была недолгой жизнь цветка…»
Была недолгой жизнь цветка… Зима. Метелица метет, Буран влетает в сени. Но аромат цветка живет В сухом колхозном сене, В струе парного молока Звенит степная жизнь цветка, И если песня хороша, Любую тронь строку — Пусть вьюги все запорошат — И в песне жить цветку.«Перед тобой лежит стихотворенье…»
Перед тобой лежит стихотворенье, И хорошо припасть к иной строке, И слушать, слушать, как поет в ней время, Как бьется жилка на твоей руке. Я плачу над счастливою строкой, Пусть написал ее не я — другой.Зерно
В гробнице найдено зерно Сухой египетской пшеницы. Тысячелетие оно Лежало в каменной гробнице. На солнце вынесли его И в землю бросили. И вот Поднялся колос золотой, Зерном тяжелым налитой. Нас время судит без уловок. Что будет через сотню лет, Когда отыщут наше слово И также вынесут на свет?«Начало пятого, но мне не спится…»
Начало пятого, но мне не спится. Мутнеет вьюга, ночь летит в рассвет. Земля, как заведенная, вертится… Пройдет и пять и десять тысяч лет, И дальний век (мы и о нем мечтали) Вот так же станет вьюгами трубить. В той, даже мыслям недоступной дали Хотел бы я хотя б снежинкой быть, Чтоб, над землею с ветром пролетая, На жизнь тогдашнюю хоть раз взглянут, В морозный день над тополем порхнуть И у ребенка на щеке растаять.Потомкам
Вас нет еще: вы — воздух, глина, свет; О вас, далеких, лишь гадать могли мы, — Но перед вами нам держать ответ. Потомки, вы от нас неотделимы. Был труден бой. Казались нам не раз Незащищенными столетий дали. Когда враги гранатой били нас, То и до вас осколки долетали.Михаил Светлов
Осень
Мечется голубь сизый — Мало ему тепла… Новгород, Суздаль, Сызрань Осень заволокла. Тянется косогором Осени влажный след… Осень степей, которым Миллион с хвостиком лет. Тащится колымага Грустными лошадьми… Осень, в зданье рейхстага Хлопающая дверьми. Руки закинув за спину, Вброд перейдя реку, Осень — глуха и заспана — Бродит по материку. Плачется спозаранку Вдоль глухих пустырей Осень тевтонов и франков, Осень богатырей!.. Давайте, товарищи, дружно Песню споем одну Про осень, которую нужно Приветствовать, Как весну! Много хорошего выйдет народа В такое хорошее время года!«В каждой щелочке…»
В каждой щелочке, В каждом узоре Жизнь богата и многогранна. Всюду — даже среди инфузорий — Лилипуты И великаны. После каждой своей потери Жизнь становится полноценней — Так индейцы Ушли из прерий, Так суфлеры сползли со сцены… Но сквозь тонкую оболочку Исторической перспективы Пробивается эта строчка Мною выдуманным мотивом. Но в глазах твоих, дорогая, Отражается наша эра Промелькнувшим в зрачке Трамваем, Красным галстуком Пионера.«Прорывая новые забои…»
Прорывая новые забои, Тяжкие ворочая поля, Звали мы тебя с собою, Ты отнекивалась, но пошла, земля. Ты с трудом свои катила воды, Древними порогами скребя… Мы твои сокровища, природа, Выдумали сами за тебя. Где Петлюра шел, где пели песни Печенеги Нестора Махно, На высоком небе Днепрогэса Сколько нами солнца зажжено! Удивилась нашему приходу Беломорья вековая тишь, И теперь ты кубарем, природа, С Повенчанской лестницы летишь. Ты карабкалась по неприступным кручам, Лирикой ленивою звеня… Мы тебя читать стихи научим Только после трудового дня. Ты пройдешь, кругом покрыта пылью, По площадкам взрытых пустырей, Мы тебя навеки зацепили За шестнадцать крепких якорей.Песня о Каховке
Каховка, Каховка — родная винтовка… Горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, Орел и Каховка — Этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, И ровно строчил пулемет… И девушка наша проходит в шинели, Горящей Каховкой идет… Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути! Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, Как нас обнимала гроза? Тогда нам обоим сквозь дым улыбались Ее голубые глаза… Так вспомним же юность свою боевую, Так выпьем за наши дела, За нашу страну, за Каховку родную, Где девушка наша жила… Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути!Вступление к поэме
К пограничным столбам Приближаются снова бои, И орудия ждут Разговора на новые темы… Я перебираю Воспоминанья свои, Будто чищу оружье Давно устаревшей системы. Я по старой тропе Постаревшую память веду, Я тебя, комсомольская юность, Имею в виду! Над моей головой Ты, как солнце, взошла горячо, Как шахтерская лампочка, Издали светишь еще. Годы взрослого пафоса — Юность моя пожилая! В день твоих именин Я забытых чудес пожелаю: Ты поройся в архивах, Манатки свои собери, Хоть на остров сокровищ Бездумно иди на пари! И прожектор опять освещает Район Запорожья, Но в украинском домике Тихо, спокойно, темно… Бродит юность вокруг И боится жильцов потревожить, Встало детство на цыпочки И заглянуло в окно. Лунный свет задел слегка Все четыре уголка Этой комнатки знакомой Комсомольского губкома. Сквозь оконное стекло Время в комнатку текло, И на стенке ходики Отсчитывают годики Здесь когда-то родился И рос молодой Комсомол, Здесь мы честно делили Пайков богатейшие крохи. Дружба здесь начиналась! Сюда я впервые вошел В сапогах, загрязненных Целебною грязью эпохи… Я тебя вспоминаю — Смешная, родная пора! Ты опять повторись — Хоть чернилами из-под пера! В боевом снаряженье Опять мы с друзьями идем, И, как детский рисунок, Огромный закат над Днепром. Ночь непрекращающихся взрывов, Утро, приносящее бои. Комсомольцы первого призыва — Первые товарищи мои! Повторись в далеком освещенье, Молодости нашей ощущенье! Молодость моя, не торопись! Медленно — как было — повторись!.. Никогда не стану притворяться, Ничего на свете не хочу — Только бы побольше вариаций Этих повторяющихся чувств!..Полине Осипенко
Сквозь легенды, сказанья, былины Далеко ль до бессмертья идти? «Очень близко!» — сказала б Полина, Но не может произнести… Ни слезой, ни печалью не надо Омрачать наш прощальный салют, Если с русскою женщиной рядом Боевые легенды идут. Этот образ, знакомый и милый, Разве время от нас заслонит?.. Вся страна перед свежей могилой Близким родственником стоит. И никто не пройдет стороною, Каждый замысел, каждый порыв, Все мечты свои перед тобою, Как живые цветы, положив. Чтоб сквозь годы другим поколеньям Славу женщинам передать — Самолетом, стихотвореньем — Всем, что может быстро летать!Яков Шведов
Паутинка
Мы идем незнакомой тропинкой, И куда нас она приведет? И над нами в полях паутинка, Золотая от солнца, плывет. Привела нас тропинка на Волгу, И над песенной русской рекой Говорю я сердечно и долго О любви и о дружбе с тобой. Над рекой синеватою дымкой Опускается ранняя мгла, И на плечи нам вдруг паутинка, Золотая от солнца, легла. И тогда ты смущенно сказала, Не сводя синих ласковых глаз: — Паутинка, любимый, связала Наши чувства и думы сейчас. Не случайно простая примета, Но она не пройдет без следа, Теплый день уходящего лета Не забыть нам теперь никогда. И опять по знакомой тропинке Мы в обратный пускаемся путь, И не можем с плеча паутинку, Золотую от солнца, смахнуть!Орленок
Орленок, орленок, Взлети выше солнца И степи с высот огляди! Навеки умолкли веселые хлопцы, В живых я остался один. Орленок, орленок, Блесни опереньем, Собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, В шестнадцать мальчишеских лет. Орленок, орленок, гремучей гранатой От сопки солдат отмело. Меня называли орленком в отряде, Враги называют орлом. Орленок, орленок, Мой верный товарищ, Ты видишь, что я уцелел, Лети на станицу, родимой расскажешь, Как сына вели на расстрел. Орленок, Орленок, Товарищ крылатый, Ковыльные степи в огне, На помощь спешат комсомольцы-орлята, И жизнь возвратится ко мне. Орленок, орленок, Идут эшелоны, Победа борьбой решена. У власти орлиной орлят миллионы, И нами гордится страна!Виссарион Саянов
Золотая Олекма
Дай мне руку, пойдем со мною В тот вьюжный край, Он полонил мне сердце тишиною, И снегом зим, и свистом птичьих стай. Так горбоносых желтобровых птиц Эвенк охотник ждет, и на рассвете Слепят огни бесчисленных зарниц, И гнет пурга тяжелых кедров ветви. Тайга бежит по белым склонам, вдоль Последних побережий, Где по заливам высыхает соль И где во мхах таится след медвежий. Там сердца моего заветная отрада, Край детских лет, Родной страны холодная громада, Я — твой поэт.«Года прошли — и сердцу пособили…»
Года прошли — и сердцу пособили, И жар остыл неукротимых лет, По наледям моей родной Сибири Прошел мой путь, как узкий лыжный след. В глухую ночь в тайге кричит сохатый, За много тысяч верст он слышит соловья. Так я иду, кругом снегами сжатый, Но, знаю, близко выручка моя. Два-три словца, в которых бродит солод, Оставлю я, иль песенку одну, — В седой тайге, где звездный край расколот, Все будут славить девушки весну. И, может быть, среди других, мне равных, Пройду походкой медленной своей, И невзначай строку повторит правнук, Когда в снегах, как в думах, Енисей. Ведь свет гостил в тех песнях небогатых, Придет пора — я другу принесу Сказанья давних дней о кедрах и сохатых, Тайги сибирской дикую красу. И этот край, прославленный и зримый, Где каждый колос выстрадал я сам, Как часть твоей судьбы неповторимой Я по складам потомству передам…Михаил Голодный
Юность
По Москве брожу Весенней, В гуле улица живая. Профиль юности Бессмертной Промелькнул в окне трамвая. Небо мая Надо мною Расплескалось в тихом звоне. Профиль юности Бессмертной Тонет в синем небосклоне. Боевой отряд Проходит, Боевое знамя рядом. Профиль юности Бессмертной Тенью прянул над отрядом. Рвется Щорса конь В атаку. Замер Щорс на ткани пестрой. Профиль юности Бессмертной Пролетел над шашкой острой. Что же это? Сон? Виденье? Молодость страны живая? Профиль юности Бессмертной Промелькнул в окне трамвая.У гроба Николая Островского
Спустите знамена! Трубач, не играй! Мне хочется крикнуть: «Орленок, вставая! Вставай, мой товарищ, мой друг боевой, С врагами не кончен решительный бой!» Но мертвый не скажет живым ничего, И губы спокойны, как совесть его. Сказал он, что думал, о бурях земли — Рожденные бурей проститься пришли. Идут они тихо, безмолвной толпой, Им кончить придется решительный бой. Идут они тихо, глядят на него, И лица спокойны, как совесть его… Взвевайтесь знамена! Трубач, не играй! С орленком родимым прощается край!..«Долго дорогая…»
Долго дорогая Смотрит на меня, С книгой засыпая, Не гасит огня. Вздрогнет с полуслова, Взглянет в полусне, Засыпая снова, Улыбнется мне. Улыбнется сладко, Бросит взгляд тайком: Все ли там в порядке За моим столом. Пусть молчу часами, Пусть для всех — другой, Для нее я самый, Самый дорогой. Самый, самый славный, Лучших в мире нет. Для нее я главный На земле поэт.Песня о Щорсе
Шел отряд по берегу, Шел издалека, Шел под красным знаменем Командир полка. Голова обвязана, Кровь на рукаве, След кровавый стелется По сырой траве. «Хлопцы, чьи вы будете, Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем Раненый идет?» — «Мы сыны батрацкие, Мы за новый мир, Щорс идет под знаменем — Красный командир. В голоде и в холоде Жизнь его прошла, Но недаром пролита Кровь его была. За кордон отбросили Лютого врага, Закалились смолоду, Честь нам дорога». Тишина у берега, Смолкли голоса, Солнце книзу клонится, Падает роса. Лихо мчится конница, Слышен стук копыт, Знамя Щорса красное На ветру шумит.Партизан Железняк
В степи под Херсоном Высокие травы, В степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, Овеянный славой, Матрос Железняк, партизан. Он шел на Одессу, А вышел к Херсону — В засаду попался отряд. Полхлеба на брата, Четыре патрона И десять последних гранат. «Ребята, — сказал, Повернувшись к отряду, Матрос-партизан Железняк, — Штыком и гранатой Мы снимем засаду, И десять гранат — не пустяк!» Сказали ребята; «Херсон перед нами, И десять гранат — не пустяк!» Прорвались ребята, Пробились штыками, Остался в степи Железняк. Веселые песни Поет Украина, Веселая юность цветет, Подсолнух высокий, И в небе далекий Над степью кружит самолет. В степи под Херсоном Высокие травы, В степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, Овеянный славой, Матрос Железняк, партизан.Александр Жаров
«Тает снег…»
Тает снег. Все краски небосвода Радужно, затейливо, пестро Собрались у мраморного входа Самой лучшей станции метро. С крыши падает поток счастливых Золотых апрельских слез. Манят пассажиров суетливых Солнечные зайчики мимоз. Первый спутник вздохов неизбежных, Покоритель стольких нежных глаз — Робкий и застенчивый подснежник У киоска остановит вас. И опять пленит голубизною, Опьянит дыханьем новизны… Это все, друзья, не что иное, Как живые признаки весны… Девушку с улыбкою крылатой, Вместе с ней влюбленного юнца Тихо опускает эскалатор В здание подземного дворца. Им не к спеху. Здесь они, как дома, Я иду за ними стороной. Признаки весеннего подъема Неотступно следуют за мной. Видно, так положено поэту!.. Поезда стремительного бег Вдруг понес сквозь тьму к дневному свету, На бульвар, где тоже тает снег. Над верхами стриженых деревьев Небосвод прозрачен и высок. Вторит голосам о новом севе Ручейка веселый говорок. И по всей Москве в предмайском гаме И по всей земле страны Шествуют созвучными шагами Все приметы трудовой весны.Алексей Недогонов
Моя родословная
Черная судьба моих отцов прямо начинается от бога. По путям разбуженных ветров ты ушла, слепа и босонога, от любви, от жизни, от людей в тяжкие потемки — без возврата — праведным носителем идей рыжего Никиты Пустосвята. Это все — трагедия твоя. И, живя за склонами Урала, ты слагала песни про края, где твоя весна не умирала. Кто она? Кому она сродни? …Воды протекли. Встают в тумане желтые сивушные огни. Песни о Степане-атамане. Заговоры. Лобные места. Царские парады. Эшафоты. Золото священного креста, и орлов недвижные полеты. Так туман сгущается, и в нем, растеряв пути свои косые, подвигами, войнами, огнем бредит деревянная Россия. Но в ответ из вытравленной мглы только вой полуночного волка… — Где твои двуглавые орлы? — Где твоя тупая треуголка? …Осень. (И ленинская рука — над башней броневика!) Снова воды утекли в моря; и передо мною, увядая, встала родословная моя — стреляная, битая, худая, бородой поросшая, в дыму, вышла на дорогу — на прямую… Что от родословной я приму? Что для светлой радости приму я? Я приму лишь только цвет крови, только силу, только звезды мира. — Ты меня на битву позови, — это будет именно для мира. Я возьму товарищей, свинца, хлеба фунт и песенку поэта. У моих товарищей сердца — из железа, радости и света. Мы возьмем свое наверняка! Мы пройдем с большим огнем заряда по путям последнего парада! Дайте башню для броневика! Возникайте, бури, если надо!«Близок бой…»
Близок бой. И вот сквозь дым багровый, дым долин, летящий до морей, я встаю. Клянусь последним словом в преданности Родине своей. Ты поверь, не ради легкой славы я давно скрепил с тобой родство. Эти песни счастья, эти клятвы в мир идут от сердца моего. Ты прими их и не дай померкнуть… Слава, слава, как ты далека!.. Хутор. Степь. Бездомный кружит беркут. Длинные проходят облака. Никнут у покинутого шляха желтые худые ковыли, да летит диковинная птаха на четыре взмаха от земли.Прощание
Поздней осенью снова к Стамбулу летят журавли, листья клена идут на повторную завязь земли… Ветер, дымный и горький, придет от азовских лиманов. Я забуду про все. Я вернусь на полгода назад. Я пойму, для чего у низовий дождей и туманов с журавлями к Стамбулу кленовые листья летят… Здесь бродили с тобой мы по аллеям осенним, песни тихие пели, болтали, шутя, про любовь. Только часто моим не всегда гостевым настроеньям ты дарила букеты степных и чуть-чуть горьковатых цветов… В этот медленный час, по бокам тишину колыхая, по полынным степям боевые скользят поезда. Чахнут рейнские травы! Поднимаются кули Шанхая! И совсем не спокойно течет на Амуре вода! Значит, близко стучат золотые часы расставанья, и нежданные встречи караулят меня впереди. Скоро будет война! Поцелуй ты меня на прощанье и в далекий поход поскорее меня снаряди! Мною эта минута вовеки не будет забыта — опрокинулась в пропасти комнатной жизни арба… Завтра будет война! По заставам грохочут копыта, и над пашнею мира ревет боевая труба. В этом я не виню ни себя, ни тебя, дорогая. Только страшно: со мною оставшись один на один, мир кощунства не спит, одинокое сердце пугая тишиною грохочущей старых батальных картин.Предчувствие
Ой, в долине гуси гоготали, говорят в народе — не к добру. Ласточки-касаточки летали, яворы скрипели на ветру. В курене вразвалку спали дети, а у коновязи фыркал конь. Ой, в долине рано, на рассвете, вспыхивал и потухал огонь. В это время ветер бил о стену и сдувал последнюю звезду… Сапоги обую, френч одену и к долине тихо побреду. Так и сделал. Звезды золотые! Блеск шелома! Ржание коня! Предо мною времена Батыя Встали и глаза свои косые прямо обратили на меня. Грянули мечи — и… я проснулся. Охладивши сонное лицо, френч надевши, в сапоги обулся, молчаливо вышел на крыльцо. Ночью шла гроза, корежа клены, сны ломая, руша погреба. … Мимо пролетают эскадроны, и ревет военная труба.Мужество
Истребителю Петру Геращенко Не так легко нам на сердце носить разлуку лет с тоской неистребимой: мы отвыкали вслух произносить родное имя девушки любимой. Мы бредили экзотикой морей и тем святым, что в жизни не видали… Незримый дух, как призрак, у дверей стучал и звал в неведомые дали: В Маньчжурию, в барханную дыру, где степь венчала славою иною… Мы там, дружа с орлами на ветру, почувствовали крылья за спиною. И лезли в небо, словно бы шутя, нас в бой влекла не оторопь людская… И мы дрались, стервятников когтя, неистощимым солнцем истекая. И мне ль забыть рассказы о войне, тоску ночевок, зыбкий сон бархана, и цирика на диком скакуне, и бомбовоз над прахом Тамерлана!Двое юношей
Голуби мира летят, летят с веточкою тоски. Где-то в долине упал солдат замертво на пески. Ночь африканская. Путь прямой. Дым с четырех сторон. Сумерки тропиков. Но домой, нет, не вернется он. Голуби мира летят, летят с холодом и теплом. Пушки германские заговорят на языке своем. Руша преграды, мои враги в лютых ночах идут, снова солдатские сапоги рейнские травы мнут. Голуби мира летят, летят, веточку в клюв зажав, кружатся, кружатся, кружатся над крышами всех держав. Снова теплятся для разрух два очага войны. Но Москва произносит вслух слово моей страны. Слыша его, у больных болот, возмужавший в борьбе, негр поднимается и поет песенку о себе: «Пусть в селении Суалы в яростную грозу враги заключат меня в кандалы — я их перегрызу, Примет кости мои земля — брат мой возьмет ружье: за океаном, у стен Кремля, сердце стучит мое». Снова теплятся для разрух два очага войны. Но Москва произносит вслух слово моей страны. Оно адресовано миру всему, и твердость в нем наша вся. И московский юноша вторит ему, тихо произнося: — Милая родина! Ты в бою только мне протруби; если надо тебе, мою голову — отруби! Факелом над землей подними, долго свети, свети, чтобы открылись перед людьми светлые все пути. Разве не знают мои враги вечность таких минут, враги, чьи солдатские сапоги рейнские травы мнут?«В конце весны черемуха умрет…»
В конце весны черемуха умрет, осыплет снег на травы лепестковый, кавалерист, стреляющий вперед, ее затопчет конскою подковой. Пройдут года — настанет смерти срок, товарищам печаль сердца изгложет. Из веточек черемухи венок кавалеристу в голову положат. И я б хотел — совсем не для прикрас, — чтоб с ним несли шинель, клинок и каску, — и я б хотел, чтоб воин в этот раз почувствовал цветов тоску и ласку.Память
1
Опять сижу с тобой наедине, опять мне хорошо, как и вчера, Мне кажется, я не был на войне, не шел в атаку, не кричал «ура». Мне кажется, все это было сном, хотя в легенду переходит бой. Я вижу вновь в чужом краю лесном окоп в снегу, где мало жил тобой.2
Возьми тепло у этого огня, согрейся им и друга позови. Помучь тоской, любимая, меня, мне хочется молчанья и любви. Ты видишь — я пришел к тебе живой, вот только рана — больше ничего… Я шел сквозь ад, рискуя головой, чтоб руки греть у сердца твоего. И если ты способна хоть на миг увлечь меня, как память, в забытье, — услышу не молчание твое, а ветра стон и гаубицы крик!3
Я позабыл шипение огня, гуденье ветра, ниточки свинца. Ты ни о чем не спрашивай меня. Покинем дом и в сад сойдем с крыльца, Ты расскажи мне лучше, как могло случиться так, что вдруг среди зимы тюльпанов нераздельное тепло в твоих конвертах находили мы. Чего ж молчишь? Иль нет такой земли? …И я без слез, пожалуй, не смогу припомнить, как под Выборгом цвели кровавые тюльпаны на снегу.Ольга Берггольц
«Ты у жизни мною добыт…»
Ты у жизни мною добыт, словно искра из кремня, чтобы не расстаться, чтобы ты всегда любил меня. Ты прости, что я такая, что который год подряд то влюбляюсь, то скитаюсь, только люди говорят… Друг мой верный, в час тревоги, в час раздумья о судьбе все пути мои дороги приведут меня к тебе, все пути мои дороги на твоем сошлись пороге… Я ж сильней всего скучаю, коль в глазах твоих порой ласковой не замечаю искры темно-золотой, дорогой усмешки той — искры темно-золотой. Не ее ли я искала, в очи каждому взглянув, не ее ли высекала в ту холодную весну…Испытание
…И снова хватит сил увидеть и узнать, как все, что ты любил, начнет тебя терзать. И оборотнем вдруг предстанет пред тобой и оклевещет друг, и оттолкнет другой, И станут искушать, прикажут: «Отрекись!» — и скорчится душа от страха и тоски. И снова хватит сил одно твердить в ответ: — Ото всего, чем жил, не отрекаюсь, нет! — И снова хватит сил, запомнив эти дни, всему, что ты любил, кричать: — Вернись! Верни…Листопад
Осенью в Москве на бульварах
вывешивают дощечки с надписью:
«Осторожно, листопад!»
Осень, осень! Над Москвою Журавли, туман и дым. Златосумрачной листвою загораются сады, и дощечки на бульварах всем прохожим говорят, одиночкам или парам: — Осторожно, листопад! О, как сердцу одиноко в переулочке чужом! Вечер бродит мимо окон, вздрагивая под дождем. Для кого же здесь одна я, кто мне дорог, кто мне рад? Почему припоминаю: «Осторожно, листопад»? Ничего не нужно было, — значит, нечего терять: даже близким, даже милым, даже другом не назвать. Почему же мне тоскливо, что прощаемся навек, невеселый, несчастливый, одинокий человек? Что усмешки, что небрежность? Перетерпишь, переждешь… Нет — всего страшнее нежность на прощание, как дождь. Темный ливень, теплый ливень, весь — сверкание и дрожь! Будь веселым, будь счастливым на прощание, как дождь. …Я одна пойду к вокзалу, провожатым откажу. Я не все тебе сказала, но теперь уж не скажу. Переулок полон ночью, а дощечки говорят проходящим одиночкам: — Осторожно, листопад…Родине
1
Все, что пошлешь: нежданную беду, свирепый искус, пламенное счастье, — все вынесу и через все пройду. Но не лишай доверья и участья. Как будто вновь забьют тогда окно щитом железным, сумрачным и ржавым… Вдруг в этом отчуждении неправом наступит смерть — вдруг станет все равно.2
Не искушай доверья моего. Я сквозь темницу пронесла его. Сквозь жалкое предательство друзей. Сквозь смерть моих возлюбленных детей. Ни помыслом, ни делом не солгу. Не искушай — я больше не могу…3
Изранила и душу опалила, лишила сна, почти, свела с ума… Не отнимай хоть песенную силу, — не отнимай, — раскаешься сама! Не отнимай, чтоб горестный и славный твой путь воспеть. Чтоб хоть в немой строке мне говорить с тобой, как равной с равной, — на вольном и жестоком языке!«Мне надо было, покидая…»
Мне надо было, покидая угрюмый дом, упасть в слезах и на камнях лежать рыдая, у всех прохожих на глазах. Пускай столпились бы, молчали, пускай бы плакали со мной. Со мной, исполнены печали неутолимой и одной… Пускай, с камней не поднимая, но только плечи охватив, сказали б мне: «Поплачь, родная. Когда наплачешься — прости». Но злая гордость помешала. И, стиснув губы добела, стыдясь, презрев людскую жалость, я усмехнулась и ушла. И мне друзья потом твердили о неком мужестве моем и, как победою, гордились удушливо-бесслезным днем. Им не понять, что черной платой за это мужество плачу: мне петь бы вам — и плакать, плакать… Но слезы отняты. Молчу.Алексей Фатьянов
Песенка
Н. Ф. Я от счастья сегодня шатаюсь, В молодую кидаюсь траву. Я все ветры к себе приглашаю, Все любимое в гости зову. И все ветры ко мне приходят, И весна у окошка стоит, И все звезды в ночном небосводе Будто лучшие взгляды твои. Как ребенок, сегодня я верю В то, что синий рассвет и зарю И все ветры, летящие в двери, Я на память тебе подарю. Чтоб ты в платье зари одевалась, Чтобы звезды светились в глазах, Чтобы ночь темной лентой осталась В твоих светлых, как лен, волосах. Чтоб такою, как ты, по планете Был бы свет ослепительно бел, Молодой, замечательный ветер Уступал бы дорогу тебе. Глядя на звезды Распахнем окошко в звездный вечер настежь. Никого не ждем мы нынче в гости к нам. Помечтаем вместе, дорогая Настя, Посидим тихонько рядом у окна. Где-то тихо-тихо возникает песня. Одинокий ветер бродит по кустам. Мимо звезд далеких тонкий месяц В бездорожье неба, По глухим местам. Ни в коем веке человек там не был, Но мы завоюем эту высоту! Мы откроем трассу в синем звездном небе, Станцию «Юпитер», Станцию «Сатурн!» Мы на дачу летом полетим ракетой. — Что за остановка? — спросим мы в пути. Проводник ответит: — Полустанок это. «Марс». — Прощай, планета! «Вега»! — Не сойти ль? Ты представь — идем мы стройною аллеей. Необычным цветом яблони цветут. Тридцать солнц громадных, зорями алея, В разных направлениях по небу идут. Вдруг встречаем друга. — Отдыхать? — Ну, что вы! В клубе «Красный пахарь» делаю доклад. Мы проходим дальше, А с афиш метровых Говорят нам буквы о гастролях МХАТ. Над Дворцом Советов полыхает знамя, И на всей планете вечер. Тишина… Мы откроем трассу. Скоро ли? Не знаю… Окна в ночь раскрыты. Блещет вышина. Где-то очень тихо пролетает песня, И, услыша песню, ветер тише стал. Мимо звезд далеких Ходит тонкий месяц В бездорожье неба, По глухим местам.Константин Симонов
«Всю жизнь любил он рисовать войну…»
Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью наскочив на мину, Он вместе с кораблем пошел ко дну, Не дописав последнюю картину. Всю жизнь лечиться люди шли к нему, Всю жизнь он смерть преследовал жестоко И умер, сам привив себе чуму, Последний опыт кончив раньше срока. Всю жизнь привык он пробовать сердца. Начав еще мальчишкою с «ньюпора», Он в сорок лет разбился, до конца Не испытав последнего мотора. Никак не можем помириться с тем, Что люди умирают не в постели, Что гибнут вдруг, не дописав поэм, Не долечив, не долетев до цели. Как будто есть последние дела, Как будто можно, кончив все заботы, В кругу семьи усесться у стола И отдыхать под старость от работы…Изгнанник
Испанским республиканцам Нет больше родины. Нет неба, нет земли. Нет хлеба. Нет воды. Все взято. Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли Припасть к ней пересохшим ртом солдата. Чужое море билось за кормой, В чужое небо пену волн швыряя. Чужие люди ехали «домой», Над ухом это слово повторяя. Он знал язык. Они его жалели вслух За костыли и за потертый ранец, А он, к несчастью, не был глух, Бездомная собака, иностранец. Он высадился в Лондоне. Семь дней Искал он комнату. Еще бы! Ведь он искал чердак, чтоб был бедней Последней лондонской трущобы. И наконец нашел. В нем потолки текли, На плитах пола промокали туфли, Он на ночь у стены поставил костыли — Они к утру от сырости разбухли. Два раза в день спускался он в подвал И медленно, скрывая нетерпенье, Ел черствый здешний хлеб и запивал Вонючим пивом за два пенни. Он по ночам смотрел на потолок И удивлялся, ничего не слыша: Где «юнкерсы», где неба черный клок И звезды сквозь разодранную крышу. На третий месяц здесь, на чердаке, Его нашел старик, прибывший с юга; Старик был в штатском платье, в котелке, Они едва могли узнать друг друга. Старик спешил. Он выложил на стол Приказ и деньги, — это означало, Что первый час отчаянья прошел, Пора домой, чтоб все начать сначала. Но он не может. — Слышишь, не могу, — Он показал на раненую ногу. Старик молчал. — Ей-богу, я не лгу, Я должен отдохнуть еще немного. Старик молчал. — Еще хоть месяц так, А там — пускай опять штыки, застенки, мавры, — Старик с улыбкой расстегнул пиджак И вынул из кармана ветку лавра. Три лавровых листка. Кто он такой, Чтоб забывать на родину дорогу? Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой, Губами осторожно трогал. Как он посмел забыть? Три лавровых листка. Что может быть прочней и проще? Не все еще потеряно, пока Там не завяли лавровые рощи. Он в полночь выехал. Как родина близка, Как долго пароход идет в тумане… …………. Когда он был убит, три лавровых листка Среди бумаг нашли в его кармане.Старик
Памяти Амундсена Весь дом пенькой проконопачен прочно, Как корабельное сухое дно, И в кабинете — круглое нарочно — На океан прорублено окно. Тут все кругом привычное, морское, Такое, чтобы, вставши на причал, Свой переход к свирепому покою Хозяин дома реже замечал. Он стар. Под старость странствия опасны, Король ему назначил пенсион. И с королем на этот раз согласны Его шофер, кухарка, почтальон. Следят, чтоб ночью угли не потухли, И сплетничают разным докторам, И по утрам подогревают туфли, И пива не дают по вечерам. Все подвиги его давно известны, К бессмертной славе он приговорен. И ни одной душе не интересно, Что этой славой недоволен он. Она не стоит одного ночлега Под спальным, шерстью пахнущим мешком, Одной щепотки тающего снега, Одной затяжки крепким табаком. Ночь напролет камин ревет в столовой, И, кочергой помешивая в нем, Хозяин, как орел белоголовый, Нахохлившись, сидит перед огнем. По радио всю ночь бюро погоды Предупреждает, что кругом шторма, — Пускай в портах швартуют пароходы И запирают накрепко дома. В разрядах молний слышимость все глуше, И вдруг из тыщеверстной темноты Предсмертный крик: «Спасите наши души!» — И градусы примерной широты. В шкафу висят забытые одежды — Комбинезоны, спальные мешки… Он никогда бы не подумал прежде, Что могут так заржаветь все крючки… Как трудно их застегивать с отвычки! Дождь бьет по стеклам мокрою листвой, В резиновый карман — табак и спички, Револьвер — в задний, компас — в боковой. Уже с огнем забегали по дому, Но, заревев и прыгнув из ворот, Машина по пути к аэродрому Давно ушла за первый поворот. В лесу дубы под молнией, как свечи, Над головой сгибаются, треща, И дождь, ломаясь на лету о плечи, Стекает в черный капюшон плаща. …………. Под осень, накануне ледостава, Рыбачий бот, уйдя на промысла, Нашел кусок его бессмертной славы — Обломок обгоревшего крыла.Дорожные стихи
1. Чемодан
Как много чемодан потертый может Сказать нам о хозяине своем, Где он бывал и как им век свой прожит, Тяжел он или легок на подъем! Мы в юности отправились в дорогу, Наш чемодан едва набит на треть, Но стоит нам немного постареть, Он начинает пухнуть понемногу. Его мы все нежнее бережем, Мы обрастаем и вторым и третьим, В окно давно уж некогда смотреть нам, Нам только б уследить за багажом. Свистят столбы, летят года и даты. Чужие лица, с бляхой на груди, Кряхтя, за нами тащат позади Наш скарб, три фунта весивший когда-то.2. Телеграмма
Всегда назад столбы летят в окне. Ты можешь уезжать и возвращаться, Они опять по той же стороне К нам в прошлое обратно будут мчаться. Я в детстве мог часами напролет Смотреть, как телеграммы пролетают: Телеграфист их в трубочку скатает, На провод их наденет и пошлет. В холодный тамбур выйдя нараспашку, Я и теперь, смотря на провода, Слежу, как пролетает иногда Закрученная в трубочку бумажка.3. Номера в «Медвежьей горе»
— Какой вам номер дать? — Не все ль равно, Мне нужно в этом зимнем городке — Чтоб спать — тюфяк, чтобы дышать — окно, И ключ, чтоб забывать его в замке. Я в комнате, где вот уж столько лет Все оставляют мелкие следы: Кто прошлогодний проездной билет, Кто горстку пепла, кто стакан воды. Я сам приехал, я сюда не зван. Здесь полотенце, скрученное в жгут. И зыбкий стол, и вытертый диван Наверняка меня переживут. Но все-таки, пока я здесь жилец, Я сдвину шкаф, поставлю стол углом И даже дыма несколько колец Для красоты развешу над столом. А если без особого труда Удастся просьбу выполнить мою, — Пусть за окном натянут провода, На каждый посадив по воробью.4. Шутка
— Что ты затосковал? — Она ушла. — Кто? — Женщина. И не вернется, Не сядет рядом у стола, Не разольет нам чай, не улыбнется; Пока не отыщу ее следа — Ни есть, ни спать спокойно не смогу я… — Брось тосковать! Что за беда? Раз нас не любят — Мы найдем другую. …………. — Что ты затосковал? — Она ушла! — Кто? — Муза. Все сидела рядом. И вдруг, ушла и даже не могла Предупредить хоть словом или взглядом. Что ни пишу с тех пор — все бестолочь, вода. Чернильные расплывчатые пятна… — Брось тосковать! Что за беда? Догоним, приведем обратно. …………. — Что ты затосковал? — Да так… Вот фотография прибита косо. Дождь на дворе, Забыл купить табак, Обшарил стол — нигде ни папиросы. Ни день, ни ночь, — Какой-то средний час. И скучно, — и не знаешь, что такое… — Ну что ж, тоскуй. На этот раз Ты пойман настоящею тоскою…5. Вагон
Есть у каждого вагона Свой тоннаж и габарит, И таблица непреклонно Нам об этом говорит. Но в какие габариты Влезет этот груз людской, Если, заспаны, небриты, Люди едут день-деньской. Без усушки, без утруски Проезжают города, Море чаю пьют по-русски, Стопку водки иногда. Много ездив по отчизне, Мы вагоном дорожим, Он в пути, подобно жизни, Бесконечно растяжим. Вот ты влез на третью полку И забился в уголок, Там, где ехал втихомолку Слезший ночью старичок; Коренное населенье Проявляет к тем, кто влез, — К молодому пополненью, — Свой законный интерес, А попутно с этим, если Были люди хороши, Тех, что ехали и слезли, Вспоминают от души. Ты знакомишься случайно, Поделившись табаком, У соседа просишь чайник И бежишь за кипятком. Ты чужих детей качаешь, Книжки почитать даешь, Ты и сам не замечаешь, Как в дороге устаешь. Люди сходят понемногу, Сходят каждый перегон, Но, меняясь всю дорогу, Не пустеет твой вагон. Ты давно уже не знаешь, Сколько лет в пути прожил, И соседей вспоминаешь, Как заправский старожил. День темнеет. Дело к ночи. Скоро — тот кусок пути, Где без лишних проволочек Предстоит тебе сойти. Что ж, возьми пожитки в руки, По возможности без слез, Слушай, высадившись, стуки Убегающих колес. И надейся, что в вагоне Целых пять минут подряд На дорожном лексиконе О тебе поговорят. Что, проездивший полвека, Непоседа и транжир, Все ж хорошим человеком Был сошедший пассажир.6. Память
Я наконец приехал на Кавказ, И моему неопытному взору В далекой дымке в первый раз Видны сто раз описанные горы. Но где я раньше видел эти две Под самым небом сросшихся вершины, Седины льдов на старой голове, И тень лесов, и ледников плешины? Я твердо помню — та же крутизна, И те же льды, и так же снег не тает. И разве только черного пятна Посередине где-то не хватает. Все те места, где я бывал, где рос, Я в памяти перебираю робко… И вдруг, соскучившись без папирос, Берусь за папиросную коробку, Так вот оно, пятно! На фоне синих гор, Пришпорив так, что не угнаться На черном скакуне во весь опор Летит джигит за три пятнадцать Как жаль, что память в нас живет Не о дорогах, тропах, полустанках, А о наклейках минеральных вод, О марках вин и о консервных банках…Однополчане
Как будто мы уже в походе, Военным шагом, как и я, По многим улицам проходят Мои ближайшие друзья; Не те, с которыми зубрили За партой первые азы, Не те, с которыми мы брили Едва заметные усы. Мы с ними не пивали чая, Хлеб не делили пополам, Они, меня не замечая, Идут по собственным делам. Но будет день — и по разверстке В окоп мы рядом попадем, Поделим хлеб и на завертку Углы от писем оторвем. Пустой консервною жестянкой Воды для друга зачерпнем И запасной его портянкой Больную ногу подвернем. Под Кенигсбергом на рассвете Мы будем ранены вдвоем, Отбудем месяц в лазарете, И выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступленья, Боев жестокая страда Завяжут наше поколенье В железный узел, навсегда.Сергей Васильев
Счастливый путь
Сходни подняты. Мы так хотели. В звездном блеске палуба твоя. Над волною чайки пролетели — Легких крыл косые лезвия. В дальний путь! В открытый путь простора! Сердце к сердцу — так сомкнулись мы. И стоим, не отрывая взора От прямого водного пробора, Отколовшегося от кормы. Так на свете только нагружают Самые большие корабли… Так на свете только провожают Лучших сыновей своей земли… Уплывай, волну опережая, Уплывай, красавец пароход! С самым свежим даром урожая Шлем тебя в края испанских вод. И какие бы ни встретил ты циклоны, И какой в пути б тебя ни встретил дождь — В светлый порт далекой Барселоны Ты, как праздник, как мечта, войдешь. Люди песни запоют тебе навстречу, Выведут гремящие суда, Каждым флагом, каждой ясной речью, Каждым помыслом зовя: «Сюда, сюда!» Весь твой груз они возьмут на плечи — Звездоносцы будущих атак… Мы на берегу. А пароход уже далече — Самых близких провожают так.Наш полюс
Лишь стоит мне на единый миг Глаза заслонить рукой — Я вижу его И слышу его Немой ледяной покой. Я вижу: У синих кругов воды Петляет медвежий след. Я слышу, Как звонко гуляют льды, И льдам этим краю нет. Они то лихо встают на дыбы, То рушатся Вниз башкой. И волны о них разбивают лбы И воют наперебой. Еще я вижу, Как в тишине Безмолвным путем идет, С белым облаком наравне, Серебряный самолет. Вот он летит, А кругом бело, Вот он повел хвостом, Вот он, как ястреб, Припал на крыло И снизился надо льдом. Еще минута… И как во сне (Да здравствует грозный риск!) Птица несется по белизне В вихре колючих брызг. Это и есть Тот счастливый час, Тот незабвенный миг, Который Трудно воспеть сейчас, — Так скуп у меня язык. … Еще полярный день не угас, А ветер уже шумит. Я вижу: ступает На снежный наст Отто Юльевич Шмидт. Глаза его — Не его глаза, В них утренний блеск страны. И если от радости В них слеза, — Мы все в ней отражены. Мы вместе Рулили на дальний старт. На край вековечных льдов. Мы — это люди Садов и нарт, Станов и городов. Наш самолет от крыла до винта. Наша любовь видна, Наш Водопьянов, Наша мечта В дело воплощена. Полюс за нами. Он хмур и сед, Зол и неукротим, Но он подобреет за пару лет Так, как мы захотим.Ксении
Все беспокойней твой спокойный взор. Все глубже он. И нет во взоре дна. А сколько луж! А сколько глупых ссор Заводят воробьи у нашего окна. Сорвем замазку с этих зимних рам — Ты понимаешь: я же не один, Желающий подслушать по утрам Страданья разрывающихся льдин. Еще недолго. И в притихший сад Ворвутся ливни ветровых речей. И ты увидишь, как начнут свисать Верха ветвей под тяжестью грачей. Тогда ты волосы, как в праздник, убери, Надень пальто, борта наотворот, И если спросит кто: «Зачем?» — не говори. Зажмурь глаза и выйди из ворот. И ты услышишь, как гремит вода, Как запевают в небе провода, Как, исхудав от медленного сна, Ручьями вниз проносится весна. Тогда ты глянь налево, на восток, Где нити солнца тянутся к Кремлю. Как неизбывен светлый их поток — Так неизбывно я тебя люблю. А если где-нибудь у сердца зазнобит Январский холод маленьких обид — Ты на ручьи летящие взгляни И никогда меня за холод не вини.Сергей Поделков
Звезда
Ты протянула руку — жить обиде! Я понял все. Я больше не приду. И, возвращаясь, я в ночи увидел прищуренную синюю звезду. Ту самую, что в середине мая пером павлиньим шла из глубины. Какой величины она — не знаю. Не все ль равно, какой величины? Она в тот час в твоем окне висела, она в зрачках гнездилась у тебя, она по кругу шла, как в карусели, ее петух приветствовал, трубя. Она касалась проводов над трактом, порхала, содрогаясь, над кустом, а в Пулкове в огромнейший рефрактор поймать ее пытался астроном. А я все шел. А ночь вокруг дымилась, мигали светляки среди ветвей. И вдруг звезда, застыв, остановилась над комнатой пустынною моей, где тишина, как вечность, бесконечна, где юношеской схвачены тоской кровать и неприкаянные вещи, стол не оправлен женскою рукой. Но вспомнил я, что нет к тебе возврата, вовек твоих дверей не отворить… И от ночной звезды в мильон каратов мне захотелось только прикурить.Извечный разговор
Он Как древнего солнца лучи к земле, как в океане волны к скале, как топор, прорубая чащу лесов, как христиане на колокольный зов, к тебе мои мысли стремятся! Она Но — лучи всегда обрывает закат, волны от скал отпрядывают назад, топор обессилеет, затупясь, медь отгремит — и в урочный час верующие домой возвратятся. Он Как от кола на пастбище конь, как от поленьев в печи огонь, как берега от весенних рек, как от земли деревья, — вовек от тебя не могу оторваться я… Она Аркан перетрется — ускачет конь, поленья сгорят — и погаснет огонь, сровняет зима с рекой берега, деревья же тянутся в облака, — и ни с чем не хотела б остаться я. Он Твоими желаньями одержим, я буду звучащим эхом твоим, я буду бегущей тенью твоей, я буду ковром у твоих дверей, я буду слугой, дорогая… Она Растает эхо, как зыбкий вздох, бесплотна тень, а ковер для ног, жестокость тирана таится в слуге. А сердцу-то чудится друг в женихе, зовущий голос — как тайна живая. Он День свадьбы назначь — и быть по сему! Она Нет, милый, будь гостем в моем дому. Я выхожу замуж за твоего приятеля.Круговорот
Солнцестояние! Метель бежит. Песцы поземки — белое виденье. Капель. Лучи сквозь кровь. Изюбр трубит от нарастающего возбужденья. День — в воздухе мощнее излученье, ночь — песеннее в звездах небосвод. Гудит земля. Стремительно вращенье. То свет, то тьма… Идет круговорот. Весна! Природа потеряла стыд. И от безвыходного опьяненья цветут цветы, и женщина родит, и чудо плачет, празднуя рожденье. О, чувств нагих святое воплощенье! Трепещут грозы. Зреет каждый плод. Страда. Жнут люди до самозабвенья. То гул, то тишь… Идет круговорот. Над увяданьем восковых ракит прощальный крик живого сновиденья — синь, журавлиный перелет звучит. И плуг блестит. И озимь веет тенью. Исполненный зазывного томленья, колышется девичий хоровод. И свадьбы. И листвы седой паденье. То дождь, то снег… Идет круговорот. И вновь зима. И вновь преображенье. Чередование смен, за родом род, мышленья восходящие ступени — то жизнь, то смерть… Идет круговорот.«Твои глаза в моих глазах…»
Остановленная печаль есть радость
Гельвеций Твои глаза в моих глазах — как вопросительные знаки, слезы искусственная накипь и вкрадчивость, попавшая впросак. Ты говоришь мне: «Милый, не злословь!» Какая зыбь воспоминаний… Что же, их мельтешенье с листопадом схоже, любовь, конечно, есть любовь! Горел и задыхался мир от первородного блаженства, и мы не требовали совершенства, ни ты, ни я в тот удивленный миг… Крыльцо. Гроза, нагрянувшая, как свекровь. И спазмы неба в ядерной капели, и мысли буйствовали и кипели, как осетры, попавшие в ятовь. И озареньем спутанная речь, и юношеское ослепленье, когда мир светится и не отбрасывает тени, и никого нельзя предостеречь. Напраслину не возведу в вину, в рельефе жизни скрытые есть повороты, когда вся мощь заложенной в тебя природы должна стоять на жертвенном кону. Что я скажу о сумеречном дне? Не сетую. Душа не оробела. Торжественно целую вашу руку, цепкая омела, отдернутую некогда… на крутизне тех лет. Да, втуне теплятся воспоминанья, но стоит к ним приблизиться едва, — как стража, поперек встают слова: цена предательства — цена познанья.Анатолий Софронов
Бахчевник
Тихий Дон… Шелестит осока Под приливом донской волны. На бахче искрометным соком Наливаются кавуны. Не наездник и не кочевник, Но с цыганской златой серьгой, — Седобровый старик бахчевник Над широкой идет рекой. Листья бурые он раздвинет, Арбуз пестрый перевернет… Постоит над дубовкой-дыней И на берег опять пойдет. А когда над рекой раздольной Наступает заката час, Приплывает к нему просмоленный, Рассекающий синь баркас. И в дубовый баркас высокий Грузят дыни и кавуны. Тихий Дон… Шелестит осока Под приливом донской волны. Льется терпкий полынный запах, С Дона тянется ветерок, Небо в звездных густых накрапах Опускается на восток. И огнем золотым тревожно Полыхает во тьме костер. Над горючей золой треножник Ноги черные распростер. …Звезды гаснут, летят и тают, Исчезают в глуби реки. У костра, у огня мечтают Возле берега казаки. Так сидят казаки над Доном Возле мудрого старика, И баркас на воде студеной Чуть качается у песка.В станице Вешенской
Михаилу Шолохову У берега поджарые быки Лениво ждут неспешной переправы; Разлился Дон и скрыл степные травы — Разливы в этом месте широки. Паром. На нем высоко взметены Оглобли, брички, арбы, полутонка… «Ковыльный край, родимая сторонка», — Играет балалайка в три струны. Ты обернись — и пред тобой близки, Предстанут вновь побеленные хаты, Среди садов, над яром элеватор — То через Дон виднеются Базки[27]. Пойдешь в станицу, — на горе она… Спешат в сельпо казачки в полушалках. Все незнакомые, и это жалко… Узнать бы мне прохожих имена! Хотелось бы немедля угадать: В бордовой кофте или кофте синей Мелькнула за левадою Аксинья И сколько лет ей можно ныне дать? Светлеет небо к полдню, и ясней Станица вся приподнята на взгорье, А голубое в зелени подворье Как бы взлетело голубем над ней. Шумит листва под ветерком степным И прячет в тень щербатые пороги… За тридевять земель ведут дороги Из дома с мезонином голубым. Над домом проплывают облака, Их путь далек, неведом, бесконечен. Ни на какой он карте не помечен, И потому дорога нелегка. …Но вдруг, нарушив кажущийся сон, С подворья голуби стремглав взлетают, Шумя крылами, пролетает стая, И ветерок несет их через Дон. Они стремятся к дальним берегам, И, выровняв движение по ветру, Навстречу полдню, солнечному свету Они летят, и кажется — к Базкам.Как у дуба старого (Казачья-кавалерийская)
Как у дуба старого, над лесной криницею, Кони бьют копытами, гривой шелестя… Ехали мы, ехали селами, станицами По-над тихим Доном, по донским степям. Пел в садах малиновых соловей-соловушка, Да шумели листьями в рощах тополя… Поднималось солнышко, молодое солнышко, Нас встречали девушки песней на полях. Эх ты, степь широкая, житница колхозная, Край родимый, радостный, хорошо в нем жить, Едем мы, казаченьки, едем, краснозвездные, В конницу Буденного едем мы служить. Как приедем, скажем мы боевому маршалу: «Мы пришли, чтоб родину нашу защищать. Ни земли, ни травушки, ни простора нашего Иноземным ворогам в жизни не видать». Кони бьют копытами над лесной криницею, Поседлали конники боевых коней… Ехали мы, ехали селами, станицами По-над тихим Доном, в даль родных степей.Маргарита Алигер
Друг
Улицей летает неохотно мартовский усталый тихий снег. Наши двери притворяет плотно, в наши сени входит человек. Тишину движением нарушив, он проходит, слышный и большой. Это только маленькие души могут жить одной своей душой. Настоящим людям нужно много. Сапоги разбитые в пыли… Хочет он пройти по всем дорогам, где его товарищи прошли. Всем тревогам выходить навстречу, уставать, но первым приходить и из всех ключей, ручьев и речек пригоршней живую воду пить. Вот сосна качается сквозная… Вот цветы, не сеяны, растут… Он живет на свете, узнавая, как его товарищи живут, чтобы даже среди ночи темной чувствовать шаги и плечи их. Я отныне требую огромной дружбы от товарищей моих, чтобы все, и радости, и горе, ничего от дружбы не скрывать, чтобы дружба сделалась, как море, научилась небо отражать Мне не надо дружбы понемножку. Раздавать, размениваться? Нет! Если море зачерпнуть в ладошку, даже море потеряет цвет. Я узнаю друга. Мне не надо никаких признаний или слов. Мартовским последним снегопадом человеку плечи занесло. Мы прислушаемся и услышим, как лопаты зазвенят по крышам, как она гремит по водостокам, стаявшая, сильная вода. Я отныне требую высокой, неделимой дружбы навсегда.Счастье
Да останутся за плечами иссык-кульские берега, ослепительными лучами озаряемые снега, и вода небывалой сини, и высокий простор в груди — да останется все отныне далеко, далеко позади! Все, что сказано между нами, недосказано что у нас… …Песня мечется меж горами. Едет, едет герой Манас. Перевалы, обвалы, петли. Горы встали в свой полный рост. Он, как сильные люди, приветлив, он, как сильные люди, прост. Он здоровается, не знакомясь, с населеньем своей страны… Это только играет комуз — три натянутые струны. Это только орлиный клёкот, посвист каменных голубей… И осталось оно далеко, счастье этих коротких дней. Счастье маленькое, как птица, заблудившаяся в пути. Горы трудные. Утомится. Не пробьется. Не долетит. Как же я без него на свете? Притаилась я, не дыша… Но летит неустанный ветер с перевалов твоих, Тянь-Шань. Разговаривают по-киргизски им колеблемые листы. Опьяняющий, терпкий, близкий, ветер Азии, это ты! Долети до московских предместий, нагони меня у моста. Разве счастье стоит на месте? Разве может оно отстать? Я мелодии не забыла. Едет, едет герой Манас… Наше счастье чудесной силы, и оно обгоняет нас. И пока мы с тобою в печали. Только счастья не прогляди. Мы-то думали: за плечами, а оно уже впереди! И в осеннем бездорожье, по пустыне, по вечному льду, если ты мне помочь не сможешь, я одна до него дойду!Илья Авраменко
Еще февраль
Еще февраль, а сырость снега уже зовет в далекий край, где дым ойротского наслега, где над водой грачиный грай, где хвойных лиственниц отрада, где гор глухое забытье, где громогласных рек прохлада — успокоение твое. Желаньем радостным томимый, ты устремляешься туда, где дышит край, тобой любимый, где в домнах плавится руда, где из-под почвы черный уголь взывает блеском слюдяным, где по ночам седая вьюга слепит дыханьем ледяным. И снова — будто был и не был, как в первый раз, все видишь ты, — и степь, и розовое небо, и Салаирские хребты.Холодный рассвет
С низин подул осенний холодок… Рассвет вставал медлительный и хмурый. Ночных дождей еще сверкал поток. На дальний плес, на отмелей песок туман ложился. Плыл рыбак понурый с ночной рыбалки… Вдоль по берегам кусты толпились, налиты росою. Но птицы не проснулись, птичий гам еще дремал… Над водной полосою — в патронах нерастраченную дробь мы Томью вниз несли, туда, где с нею в один речной рукав сливалась Обь, в местах слиянья густо зеленея. Мы долго шли, пока зеленый след не затерялся в мутных обских водах, пока на дальней пристани рассвет не встречен был сигналом парохода. На глинистых высоких берегах, спадавших к водам, над волною низкой он корпусом белел — такой, казалось, близкий. И флаг на нем, родной отчизны флаг, алел, приподнят… Солнце медным диском из-за вершин кедровых поднялось, и осветился лес, как подожженный… На берег молча вышел сонный лось и у воды склонился, отраженный в ее прохладной медленной волне… И вновь тогда я ощутил природу: я услыхал, как в этой тишине сквозь губы цедит лось продрогший воду.Сергей Смирнов
Всем товарищам Смирновым
Не говоря о тезках новых, В родной деревне у меня Живет четырнадцать Смирновых, Моя родня и не родня. А школа сельская! И снова В уме проходят ярче снов — Сперва Смирнов, Потом Смирнова, Потом еще один Смирнов. И где, скажите, нет Смирновых? Они в полях, Они в садах, В лесах сосновых, не сосновых, Во всех союзных городах. Они заведуют цехами, Рисуют, пашут и куют, И занимаются стихами, И даже арии поют. И вдруг конфуз такого рода: Я из газеты узнаю, Что недруг нашего народа Носил фамилию мою. Губитель дел и жизней новых, Смирнов, развенчанный судом, Мою фамилию Смирновых Покрыл позором и стыдом. Я это чувствовал не просто: Я замышлял, Не утаю, Из-за него, из-за прохвоста, Менять Фамилию свою. Но предо мной возникли снова, Они возникли ярче снов, Сперва Смирнов, Потом Смирнова, Потом еще один Смирнов. Родня возникла постепенно, Мой дед, когда-то полный сил, Который гордо и степенно Мою фамилию носил. Он жито сеял, Избы ставил, Он первый был на молотьбе И только светлые оставил Воспоминанья о себе. И моментально стало ясно, Чего сперва не мог понять, Что я хотел совсем напрасно Свою фамилию менять. Случись такая перемена, И было б ясно до конца, Что это явная измена Отцу и родичам отца. Нет, всеми силами своими Клянусь на будущие дни Хранить фамилию Во имя Моей родни и не родни! Во имя нас, Собратьев новых, Хранящих родину, как дом. Во имя армии Смирновых, Живущих Правильным трудом!Друзьям
Я, признаться, рос довольно вяло. Был застенчив, до обиды мал, Плакал над задачами, бывало, Круглый год лекарства принимал. Наконец Домашнее убранство Надоело, словно скрип дверей. Захотелось ветра и пространства, Плеска рек и рокота морей. И уехал я без сожаленья. Колесил, покуда не устал. И, своим родным на удивленье, На метро буравить землю стал. После смены, выйдя из забоя, Вытер лоб, который был в росе, И впервые землю под собою Ощутил во всей ее красе! Это чувство было, как находка. По столице шел, не семеня: Крупная, Хозяйская походка Стала появляться у меня… У меня имущество такое: Новый паспорт, Воинский билет, Патефон, не знающий покоя, Чемодан весьма почтенных лет. Первые предметы обихода: Раскладушка около окна, Мокроступы марки «Скорохода» И костюм из темного сукна. А еще имею, между прочим, Среднее количество деньжат. Наконец — на столике рабочем В разных папках замыслы лежат. Вот мое имущество, ребята. Все мои знакомые подряд Говорят, что это не богато, Это маловато, говорят. Только я не спорю по-пустому, Улыбнусь и думаю опять: Не к лицу проходчику простому Лишние предметы покупать. А другое дело начинаю, — Каждый день выкраиваю час И тогда сажусь и сочиняю Разные истории про вас. Думаю помногу над словами, Чтобы все, написанное мной, Доходило и дружило с вами, А не пролетало стороной. Незаметно дни и ночи тают. Ой, как верно сказано о том, Что надежды каждого питают, Что сейчас не взял — возьмёшь потом. И поэтому Надежды, споры И рабочий столик у окна Не сменяю На златые горы И на реки, полные вина!Примечания
1
Николай Асеев. О структурной почве в поэзии. В сб.: «День поэзии». «Московский рабочий», 1956, стр. 155.
(обратно)2
Там же, стр. 166.
(обратно)3
Советские писатели. Автобиографии в двух томах, т. I. Гослитиздат, М., 1959, стр. 687.
(обратно)4
Советские писатели. Автобиографии в двух томах, т. I. Гослитиздат, М., 1959, стр. 84.
(обратно)5
М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 24. Гослитиздат, М.,1953, стр. 312.
(обратно)6
Советская литература. Сборник статей. Учпедгиз, М., 1950, стр. 216.
(обратно)7
В бумажной книге «человека». (прим. верст.) — здесь и далее: Примечание верстальщика.
(обратно)8
С. Залыгин. Просторы и границы (Заметки о творчестве Петра Васильева). «Сибирские огни», 1966, № 6, стр. 173
(обратно)9
Александра Прокошина — солистка хора имени С. М. Пятницкого.
(обратно)10
В бумажной книге «Голос тихий, твой родимый...». (прим. верст.)
(обратно)11
В бумажной книге «себе». (прим. верст.)
(обратно)12
Слева (прим. составителя).
(обратно)13
В бумажной книге «над». (прим. верст.)
(обратно)14
В бумажной книге «нижнегородских». (прим. верст.)
(обратно)15
В бумажной книге «пыль». (прим. верст.)
(обратно)16
В бумажной книге «откровенной». (прим. верст.)
(обратно)17
В бумажной книге «в». (прим. верст.)
(обратно)18
В бумажной книге «серных». (прим. верст.)
(обратно)19
Конрад Фейдт (Conrad Veidt, 1893–1943) — немецкий актер театра и кино.
(обратно)20
В бумажной книге «накрылий». (прим. верст.)
(обратно)21
В бумажной книге «Заселет». (прим. верст.)
(обратно)22
Хехцир — горная цепь в районе г. Хабаровска.
(обратно)23
В бумажной книге «теша». (прим. верст.)
(обратно)24
В бумажной книге «Небо, в которое нелюдимо,». (прим. верст.)
(обратно)25
В бумажной книге «осенняя». (прим. верст.)
(обратно)26
Дорога в царскосельском Екатерининском парке. (прим. верст.)
(обратно)27
Базки — хутор, расположенный напротив станицы Вешенской (местожительство М. А. Шолохова).
(обратно)
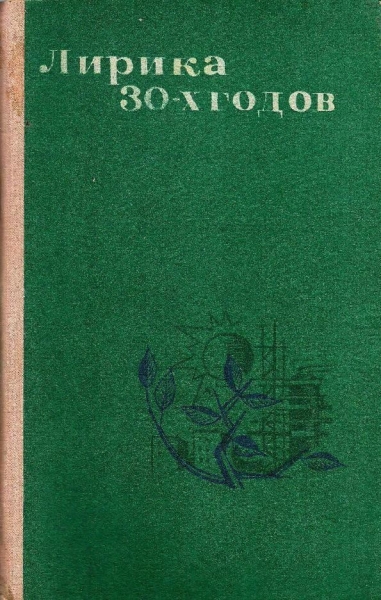


Комментарии к книге «Лирика 30-х годов», Анна Андреевна Ахматова
Всего 0 комментариев