Вера Полозкова Осточерчение
I
Мантра
я какое-то время жду тишины, а затем объявляю свою монаршую волю: «воины, знаю, вам это по плечу. бог оставил меня оставил меня за старшую вам придётся сделать, как я хочу» вместо двух бутиков на большой никитской — «чертёжник» – там продают тетради и нотные партитуры, «сластёна» – с теми же запахами внутри аня больше не держит свой ум во аде и не выводит вдоль кисти бритвой «умри, умри» рак становится излечим в терминальной стадии игорь жив, и ему исполнилось двадцать три автоматы за спинами у ребят становятся бас-гитарами из каждой глубокой раны течёт шираз и все сбитые кошки оказываются под фарами просто тряпками, брошенными вдоль трасс да, и мы с тобой просыпаемся завтра старыми и в одной постели на этот раз31 октября 2008 года
Вряд ли
вряд ли смерть говорит «не звони сюда больше» или там из кабины пилота приветствует перед вылетом; ждёт в пустой операционной хирургом, вылитым джесси спенсером; стоит ли затевать возню. просит у тебя закурить на улице и подносит лицо к огню. подаёт томограмму и результат анализов, как меню. произносит безрадостно «подожди, я перезвоню». и ты ждёшь, когда перезвонит, до вечера. до полуночи. до утра. и под утро вдруг понимаешь, что да, пора. моя смерть обитает во мне, поёт из меня, как дженис, а сама шлифует свои ухмылочки и движеньица; у неё есть подружка, я жду, что они поженятся, доиграются, нарожают себе смертят, — каждый как пасхальный куличик свят, с головы до пят. и я буду жить столько, сколько они того захотят. моя смерть из тех, что кладёт твою руку между ладоней и шепчет «только не умирай». и вот тут ты просто обязан сдохнуть – как трагикомик и самурай.9 декабря 2008 года
Смех
to Yoav
каждый из нас – это частный случай музыки и помех так что слушай, садись и слушай божий ритмичный смех ты лишь герц его, сот, ячейка, то, на что звук разбит он – таинственный голос чей-то, мерный упрямый бит он внутри у тебя стучится, тут, под воротничком тут, под горлом, из-под ключицы, если лежать ничком стоит капельку подучиться – станешь проводником будешь кабель его, антенна, сеть, радиоволна чтоб земля была нощно, денно смехом его полна как тебя пронижет и прополощет, чтоб забыл себя ощущать, чтоб стал гладким, словно каштан, наощупь, чтобы некуда упрощать чтобы пуст был, словно ночная площадь, некого винить и порабощать был как старый балкон – усыпан пеплом, листьями и лузгой шёл каким-то шипеньем сиплым, был пустынный песок, изгой а проснёшься любимым сыном, чистый, целый, нагой, другой весь в холодном сиянье синем, распускающемся дугой сядешь в поезд, поедешь в сити, кошелёк на дне рюкзака обнаружишь, что ты носитель незнакомого языка поздороваешься – в гортани, словно ржавчина, хрипотца эта ямка у кромки рта мне скажет больше всех черт лица здравствуй, брат мой по общей тайне, да, я вижу в тебе отца здравствуй, брат мой, кто независим от гордыни — тот белый маг мы не буквы господних писем, мы держатели для бумаг мы не оптика, а оправа, мы сургуч под его печать старость – думать, что выбил право наставлять или поучать мы динамики, а не звуки, пусть тебя не пугает смерть если выучиться разлуке, то нетрудно её суметь будь умерен в питье и пище, не стремись осчастливить всех мы трансляторы: чем мы чище, тем слышнее господень смех мы оттенок его, подробность, блик на красном и золотом будем чистыми – он по гроб нас не оставит. да и потом нет забавней его народца, что зовёт его по часам избирает в своём болотце, ждёт инструкции к чудесам ходит в мекку, святит колодцы, ставит певчих по голосам слушай, слушай, как он смеётся. над собою смеётся сам10 октября 2010 года
II
Производство смыслов
Елене Фанайловой
Я пишу днём, пишу ночью Пишу утром, пишу вечером, Когда хожу, курю, ем, пью, гажу, Когда сплю Произвожу ей смыслы Которыми она могла бы питаться, Если бы ела буквы Елена Фанайлова, «Балтийский дневник» производство смыслов для моей дорогой страны, для неё и нескольких сопредельных, крайне неблагодарное дело, елена николаевна, к тому же, оно совершенно не окупается. смыслы трудно есть, особенно чистыми, без красивостей, они пересоленные, железистые они щетинистые, занозистые они раздражают порядочным людям слизистые а мы же такие тут все счастливые, антикризисные они заставляют дорогую страну мою призадуматься пригорюниться усомниться в собственной полноценности в собственной привлекательности мы же контра, мы подстрекательницы добрые граждане из-за нас наполняют пепельницы, попадают под капельницы мы были бы не в пример богаче, производя кукурузные хлопья, сладкие пончики шоколадные питательные батончики если бы дарили флакончики, развешивали бубенчики милая елена николаевна мы были бы миллионерами, если бы сокращали смыслы но мы производим. этот рынок ужасно перенасыщен он заполнен скверно одетыми дядями, преимущественно нетрезвыми сальноволосыми, с плохими зубами, бреющимися нестерпимо тупыми лезвиями вот они, доблестные борцы с социальными язвами и вот я с вами в страшный мороз иду через город погода самая блядская, нежилецкая улица дербенёвская, кожевническая, станция павелецкая и говорю про себя: «я райская адская в смысле донецкая гадская выдающаяся рассказчица чисто сестра стругацкая» должность у меня писательская и чтецкая. жизнь дурацкая.18 января 2009 года
Проверка связи
и они встречаются через год, в январе, пятнадцатого числа. и одна стала злее и обросла, а другая одета женой магната или посла. и одна вроде весела, а другая сама не своя от страха, словно та в кармане чёрную метку ей принесла. и одна убирает солонки-вазочки со стола, и в её глазах, от которых другая плавилась и плыла, в них, в которых была всё патока да смола, — в них теперь нехорошая сталь и мгла. и она, как была, нагла. как была, смугла. «как же ты ушла от меня тогда. как же ты смогла». и другая глядит на неё, и через секунду как мел бела. и она ещё меньше, ещё фарфоровей, чем была. и в её глазах, от которых одежда делается мала, и запотевают стёкла и зеркала — в них теперь зола. «ты не знаешь, не знаешь, как я тебя звала, шевелила губами, ржавыми от бухла, месяц не улыбалась, четыре месяца не спала. мы сожгли друг друга дотла, почему ты зла? разве я тебя предала? я тебя спасла». у них слишком те же губы, ладони, волосы, слишком памятные тела, те, что распороли, разъяли, вырвали из тепла, рассадили на адовы вертела. и одна сломалась, другая была смела каждая вернулась домой в тот вечер и кожу, кожу с себя сняла. у одной вместо взгляда два автоматных дула, она заказывает два рома, закусывает удила. – ну, чего ты молчишь. рассказывай, как дела.18 января 2009 года
Старая пластинка
высоко, высоко сиди, далеко гляди, лги себе о том, что ждёт тебя впереди, слушай, как у города гравий под шинами стариковским кашлем ворочается в груди. ангелы-посыльные огибают твой дом по крутой дуге, отплёвываясь, грубя, ветер курит твою сигарету быстрей тебя — жадно глодает, как пёс, ладони твои раскрытые обыскав, смахивает пепел тебе в рукав, — здесь всегда так: весна не к месту, зима уже не по росту, город выжал её на себя, всю белую, словно пасту, а теперь обдирает с себя, всю чёрную, как коросту, добивает плёнки, сгребает битое после пьянки, отчищает машины, как жестяные зубы или жетоны солдатов янки, остаётся сухим лишь там, где они уехали со стоянки; россиянки в курточках передёргивают плечами на холодке, и дымы ложатся на стылый воздух и растворяются вдалеке, как цвет чая со дна расходится в кипятке. не дрожи, моя девочка, не торопись, докуривай, не дрожи, посиди, свесив ноги в пропасть, ловец во ржи, для того и придуманы верхние этажи; чтоб взойти, как на лайнер – стаяла бы, пропала бы, белые перила вдоль палубы, голуби, алиби — больше никого не люби, моя девочка, не люби, шейни шауи твалеби, let it be. город убирает столы, бреет бурые скулы, обнажает чёрные фистулы, систолы, диастолы бьются в рёбра оград, как волны, шаркают вдоль туч хриплые разбуженные апостолы, пятки босые выпростали, звёзды ли или кто-то на нас действительно смотрит издали, «вот же бездари, – ухмыляется, — остопёздолы». что-то догнивает, а что-то выжжено – зима была тяжела, а ты всё же выжила, хоть не знаешь, зачем жила, почему-то всех победила и всё смогла — город, так ненавидимый прокуратором, заливает весна и мгла, и тебя аккуратно ткнули в него, он пластинка, а ты игла, старая пластинка, а ты игла, — засыпает москва, стали синими дали, ставь бокал, щелчком вышибай окурок, задувай четыре свои свечи, всех судили полгода, и всех оправдали, дорогие мои москвичи, — и вот тут ко рту приставляют трубы давно почившие трубачи.5 апреля 2009 года
Шестнадцать строк
Лене Грачёвой
как твой дар выгоняет тебя на лестничную площадку, снулую улитку, обдирает с тебя твою костяную шкурку вспарывает под пяткой твоей брусчатку, паркет и плитку, под ладонью твоей побелку и штукатурку хер тебе, а не тряпочку, не перчатку, ни другую попытку, как ещё объяснять-то тебе, придурку кто тебя кормил этой басней, что хоть ты тресни, а там спокойней, в другой из жизней чем оно серьёзнее, тем опасней, и интересней, и траектория всё капризней есть суровая предначертанность и борьба с ней, вперёд и с песней, и настоящие только вы с ней всё ты хочешь, сынок, чтоб они на тебя глядели, узнать умели – и понимали, а ты не покидал бы логова по неделе, плёл что вы умеете, пустомели, никак не смалывая эмали и ничем не жертвовал бы на деле, поставка письменной карамели, да много требуется ума ли ну так вот тебе полные руки пепла, полные чаек сопла, и произвол, и дороговизна, чтобы вера твоя проклюнулась и окрепла, гордыня твоя усопла, дорога, виза чтобы ты почуял такое пекло, в котором всё на тебе просохло, а после радовался до визга и злословь сколько влезет, язва, только мы-то полезные, мы не звери это только ханже неясно: при виде лезвия люди делаются трезвее в результате битья вдребезги, лязга, скрежета железного, из цепей выпадают звенья и над этим адом что-то начинает светиться ласково, протягиваясь из бездны, и расплёскивается по небу, розовея25 марта 2012 года
Baby-face Whores
им казалось, что если всё это кончится — то оставит на них какой-нибудь страшный след западут глазницы осипнет голос деформируется скелет им обоим в минуту станет по сорок лет если кто-то и выживает после такого — то он заика и инвалид но меняется только взгляд ни малейших иных примет даже хочется, чтоб болело но не болит им казалось – презреннее всех, кто лжёт потому что лгать – это методично тушить о близкого страх; наносить ожог он ей врёт, потому что якобы бережёт а она возвращает ему должок у него блек-джек, у неё какой-то другой мужик извини, дружок как же умудрилась при нас остаться вся наша юность наша развесёлая наглеца после всех, кого мы не пожалели ради дурного ли дельца красного ли словца после сотой любви, доеденной до конца где же наши чёрные зубы, детка грубые швы наши клейма на пол-лица27 июля 2009 года
Final Cut
осень опять надевается с рукавов, электризует волосы – ворот узок. мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров и бережёшься слишком больших нагрузок. мир кладёт тебе в книги душистых слов, а в динамики – новых музык. город после лета стоит худым, зябким, как в семь утра после вечеринки. ничего не движется, даже дым; только птицы под небом плавают, как чаинки, и прохожий смеётся паром, уже седым. у тебя были руки с затейливой картой вен, жаркий смех и короткий шрамик на подбородке. маяки смотрели на нас просительно, как сиротки, море брызгалось, будто масло на сковородке, пахло тёмными винами из таверн; так осу, убив, держат в пальцах – «ужаль. ужаль». так зарёванными идут из кинотеатра. так вступает осень – всегда с оркестра, как фрэнк синатра. кто-то помнит нас вместе. ради такого кадра ничего, ничего, ничего не жаль.31 августа 2009 года
Рэп для миши
никого в списке, мама одни пропуски никакой речи, мама кроме горечи из-под ботинок зияют пропасти из-под ладоней уходят поручни вот как шелестит моя тишина, как гюрза, вползая вырастает, инеем намерзая нервная и чуткая, как борзая многоглазая вся от дыма сизая, будто газовая это только казалось, что всё звучит из тебя, ни к чему тебя не обязывая а теперь твоя музыка – это язва, что грызёт твоё горло розовое, ты стоишь, только рот беспомощно разевая тишина сгущается грозовая никакой речи, мама, кроме горечи чья это ночь навстречу, город чей что ж тебе нигде не поётся, только ропщется только тишина над тобой смеётся, как дрессировщица музыка свивалась над головой у тебя как смерч, она была вечная и звучала с утра до вечера к людям льнула, доверчивая вся просвечивала радуги над городом поднимала круги вычерчивала никакого толка в ней кроме силы тока в ней только в ней ты глядел счастливей, дышал ровней не оставила ни намёка, ни звука, ни знака сдёрнули с языка погасили свет в тебе кончилась музыка ни одной ноты, мама ну, чего ещё никакой речи, мама кроме горечи тишина подъезжает, сигналит воюще вяжет ручки да и пускает с горочки «ладно, – говоришь ты себе, — кошелёк, чемодан, вокзал я и не такое видал, я из худшего вылезал бог меня наказал меня предал мой полный зал но я всё доказал я всё уже доказал» знаю, знаю, дружище, куда ты катишься повседневность резко теряет в качестве жизнь была подруга, стала заказчица все истории всемогущества так заканчиваются по стаканчику и сквозь столики пробираться к роялю, идти-раскачиваться делать нечего, обесточенный варишь хрючево ищешь торчево ставишь подписи неразборчиво деньги скомканы, кровь испорчена даже барменша морду скорчила «как же ты меня бросила, музыка дорогая шарю по карманам, как идиот, и ящики выдвигаю всё пытаюсь напеть тебя, мышцу каждую напрягая, но выходит другая жуткая и другая знала бы ты, музыка, как в ночи тишина сидит по углам и глядит, проклятая, не мигая»Ночь 20–21 августа 2009 года, Киев
Снова не мы
Рыжей
ладно, ладно, давай не о смысле жизни, больше вообще ни о чём таком лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком в пятницу народу всегда битком и красивые, пьяные и не мы выбегают курить, он в ботинках, она на цыпочках, босиком у неё в руке босоножка со сломанным каблуком он хохочет так, что едва не давится кадыком чёрт с ним, с мироустройством, всё это бессилие и гнильё расскажи мне о том, как красивые и не мы приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для неё и какое таксисты бессовестное жульё и как тетка снимает у них во дворе с верёвки своё негнущееся бельё, деревянное от крахмала как немного им нужно, счастье моё как мало расскажи мне о том, как постигший важное – одинок как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и про то, как первая сигарета сбивает с ног, если её выкурить натощак говори со мной о простых вещах как пропитывают влюблённых густым мерцающим веществом и как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндевевшем стекле автобуса, протереть его рукавом, говоря о мёртвом как о живом как красивые и не мы в первый раз целуют друг друга в мочки, несмелы, робки как они подпевают радио, стоя в пробке как несут хоронить кота в обувной коробке как холодную куклу, в тряпке как на юге у них звонит, а они не снимают трубки, чтобы не говорить, тяжело дыша, «мама, всё в порядке»; как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами слишком чудесные и простые, чтоб оказаться нами расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать и читает «терезу батисту, уставшую воевать» и закатывает глаза, чтоб не зареветь и как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрий, чтобы казаться старше, чтобы нравиться билетёрше, вахтёрше, папиной секретарше, но когда садится обедать с друзьями и предаётся сплетням, он снимает их, становясь почти семнадцатилетним расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая почему та одна фотография, где вы вместе, всегда нерезкая как одна смс делается эпиграфом долгих лет унижения; как от злости челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль дробишь ими почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими почему у всех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сале почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем почему никакая боль всё равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы все эти актрисы метрессы праздные мудотрясы жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху расскажи мне как на духу почему к красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса почему мы куски бессонного злого мяса или лучше о тех, у мыса вот они сидят у самого моря в обнимку, ладони у них в песке, и они решают, кому идти руки мыть и спускаться вниз просить ножик у рыбаков, чтоб порезать дыню и ананас даже пахнут они – гвоздика или анис — совершенно не нами значительно лучше нас13 июня 2009 года
Мастерство поддержанья пауз
Олегу Нестерову
кажется, мы выросли, мама, но не прекращаем длиться. время сглаживает движения, но заостряет лица. больше мы не порох и мёд, мы брусчатка, дерево и корица. у красивых детей, что ты знала, мама, — новые красивые дети. мы их любим фотографировать в нужном свете. жизнь умнее живущего, вот что ясно по истечении первой трети. всё, чего я боялся в детстве, теперь нелепее толстяков с укулеле. даже признаки будущего распада закономерны, на самом деле. очень страшно не умереть молодым, мама, но как видишь, мы это преодолели. я один себе джеки чан теперь и один себе санта-клаус. всё моё занятие – структурировать мрак и хаос. всё, чему я учусь, мама — мастерство поддержанья пауз. я не нулевая отметка больше, не дерзкий птенчик, не молодая завязь. молодая завязь глядит на меня, раззявясь. у простых, как положено, я вызываю ненависть, сложных – зависть. что касается женщин, мама, здесь всё от триера до кар-вая: всякий раз, когда в дом ко мне заявляется броская, деловая, передовая, мы рыдаем в обнимку голыми, содрогаясь и подвывая. что до счастья, мама, – оно результат воздействия седатива или токсина. для меня это чувство, с которым едешь в ночном такси на пересечение сорок второй с десятой, от кабаташа и до таксима. редко где ещё твоя смертность и заменяемость обнажают себя так сильно. иногда я кажусь себе полководцем в ссылке, иногда сорным семенем среди злака. в мире правящей лицевой всё, что занимает меня – изнанка. барабанщики бытия крутят палочки в воздухе надо мной, ожидая чьего-то знака. нет, любовь твоя не могла бы спасти меня от чего-либо – не спасла ведь. на мою долю выпало столько тонн красоты, что должно было так расплавить. но теперь я сяду к тебе пустой и весь век её стану славить.8 июля 2012 года
Aeroport Brotherhood
Косте Инину, его кухне
так они росли, зажимали баре мизинцем, выпускали ноздрями дым полночь заходила к ним в кухню растерянным понятым так они посмеивались над всем, что вменяют им так переставали казаться самим себе чем-то сверхъестественным и святым так они меняли клёпаную кожу на шерсть и твид обретали платёжеспособный вид начинали писать то, о чём неуютно думать, а не то, что всех удивит так они росли, делались ни плохи, ни хороши часто предпочитали бессонным нью-йоркским сквотам хижины в ланкийской глуши, чтобы море и ни души спорам тишину ноутбукам простые карандаши так они росли, и на общих снимках вместо умершего образовывался провал чей-то голос теплел, чей-то юмор устаревал но уж если они смеялись, то в терцию или квинту — в какой-то правильный интервал так из панковатых зверят – в большой настоящий ад пили всё подряд, работали всем подряд понимали, что правда всегда лишь в том, чего люди не говорят так они росли, упорядочивали хаос, и мир пустел так они достигали собственных тел, а потом намного перерастали границы тел всякий рвался сшибать систему с петель, всякий жаждал великих дел каждый получил по куску эпохи себе в надел по мешку иллюзий себе в удел прав был тот, кто большего не хотел так они взрослели, скучали по временам, когда были непримиримее во сто крат, когда все слова что-то значили, даже эти — «республиканец» и «демократ» так они втихаря обучали внуков играть блюзовый квадрат младший в старости выглядел как апостол старший, разумеется, как пират а последним остался я я надсадно хрипящий список своих утрат но когда мои парни придут за мной в тёртой коже, я буду рад молодые, глаза темнее, чем виноград скажут что-нибудь вроде «дрянной городишко, брат» и ещё «собирайся, брат»27–28 сентября 2009 года
Сыновья
вот они, мои дети, мои прекрасные сыновья узкая порода твоя широкая бровь твоя и глаза цвета пепла цвета тамариндовой косточки нераспаханного жнивья подбородки с ямкой, резцы с отчётливой кривизной и над ними боженька, зримый, явственный и сквозной полный смеха и стрёкота, как полуденный майский зной шелковичные пятна в тетрадях в клетку и дневниках острые колени в густой зелёнке и синяках я зову их, они кричат мне «мы скоро! скоро!» но всё никак27 мая 2010 года
III Индийский цикл
Дели
Чему учит нас Дели, мой свет? Тому, как могущественны жара, нищета и лень. И тому, что всё распадётся на пепел, мел, полиэтилен. И тому, что всё тлен и всё обратится в тлен. Чему Дели учит меня? Тому, что бесценные километры я трачу зря, Заедая пустотами пустоту, проще говоря, Еду в Индию, чтобы помнить про этот год что-нибудь, кроме утра пятого января. Чему учит нас Индия? Тому, что молчанье речь, расстояние лучший врач, Того, чего не имеешь – не потерять, что имеешь – не уберечь. Так что обналичь и потрать свою жизнь до последней старости, Проживи поскорее прочь.2 ноября 2008 года, поезд Дели – Варанаси
Варанаси
Чему учит нас Варанаси, мой свет? Тому лишь, что жизнь есть сон. Тому, что всю мощность средства передвижения заключает в себе клаксон. Тому, что храмовая мартышка входит в разряд влиятельнейших персон. Чему Варанаси учит меня? Тому, что окажешься на вершине, дойдя до дна. Тому, что у нас начались последние, а у них ещё ветхозаветные времена. Нелегко придётся Тому, Кто родится здесь, чтоб за всё заплатить сполна.4 ноября 2008 года, Варанаси
Каджурао
Чему учит нас Каджурао, мой свет? Тому, что love is just passing by. И вы едете в одном поезде — ты до Сатны, а он в Мумбай. Он во сне улыбается, ты любуйся и погибай. Чему Каджурао учит меня? Тому, что в сравнении с местными божествами я молода. Тому, что на голой любви могут быть построены целые города. Самый лёгкий способ её найти – это выйти из дому и отправиться в никуда.6 ноября 2008 года, Каджурао – Орча
Орча
Чему учит нас Орча, мой свет? Махараджи умели строить себе дворцы. Имели шесть жен, сто наложниц и вообще были молодцы. Нет ничего забавней звонка домой из такой глуши, изумлённой маминой хрипотцы. Чему Орча учит меня? Тому, что через неделю мой праведный гнев зачах. Дети, без страха берущие тебя за руку, женщины с тазами на головах и корзинами на плечах. Ласси из папайи за двадцать рупий в деревне вечером при свечах. Боги с голубыми телами, с большой иронией в безмятежных своих очах. Всё, что нужно белому человеку — забыть о всех его киевлянах и москвичах.7 ноября 2008 года, дорога Орча – Гвалиор
Семь ночей
Так-то, мама, мы тут уже семь ночей. Если дома ты неприкаянный, мама, то тут ты совсем ничей. Воды Ганга приправлены воском, трупами и мочой и жирны, как масала-чай. Шива ищет на дне серьгу, только эта толща непроницаема ни для одного из его лучей. И над всем этим я стою белокожей стриженой каланчой, с сумкой «Премия Кандинского» вдоль плеча. Ужин на троих стоит пять бачей, все нас принимают за богачей, И никто, слава богу, не понимает наших речей, И поэтому мы так громко всё комментируем, хохоча. Каждый бог тут всевидящ, мама, и ничего, если ты неимущ и тощ. Варишь себе неизвестный науке овощ, добавляешь к нему какой-нибудь хитрый хвощ И бываешь счастлив; неважно, что на тебе за вещь, Важно, мама, какую ты в себе заключаешь при этом мощь. В общем, мы тут неделю, мама, и пятый город подряд Происходит полный Джонатан Свифт плюс омар-хайямовский рубайат. Нужен только крутой фотоаппарат, что способен долго держать заряд, И друзья, которые быстро всё понимают. Ничего при этом не говорят. Так что, мама, кризис коммуникации, творческое бессилие, отторгающая среда — Это всё, бесспорно, большие проблемы, да, Но у них тут в почёте белая кожа, монетка в рупию и вода, В городах есть мужчины в брюках — если это серьёзные города, Так что мы были правы, когда добрались сюда. О, как мы были правы, когда добрались сюда.7 ноября 2008 года, Агра
Агра
Чему учит нас Агра, мой свет? Мегаполис: каждый десятый спит на белье, каждый пятый о нём слыхал. Над портретом Шивы и Парвати лампа, чтоб глаз приезжего отдыхал. Тадж Махал был построен, чтобы все расы мира встречались перед воротами в Тадж Махал. Чему Агра учит меня? Надо брать парату — парата везде вкусна. Индия лежит под колёсами, словно поверхность Марса, и остаётся с тобой честна: Ничего не забрать отсюда себе на память, как с того света или из сна.8 ноября 2008 года, перегон Агра – Пушкар
Древнерусская тоска
Мы в Пушкаре, мама, это штат Раджастан, если в двух словах. Женщин с двумя головами нет, но есть женщины в шторах с дровами на головах. Мы ночуем в пустыне, мама, пахнет кострами, травами и верблюдами, ущемляемыми в правах. Люди будто сушёные, мама, – рука у взрослого человека всегда толщиною с плеть. На каждом товаре по сантиметровому слою пыли, каждая спальня – сырая клеть, Здесь никто ничего не сносит, не убирает, не ремонтирует — всему просто дают истлеть. Едут бешеные автобусы, дребезжат, и машины им вслед визжат, и перебегают дорогу босые женщины в сари — у любой ребёнок к груди прижат, И коровы тощие возлежат, никому не принадлежат, И в углу кафе сидим мы, сытые эксплуататоры, попиваем свой оранжад. Костя вывихнул руку, мама, вздыхает так, будто бы кончина его близка. Мы в пустыне, мама, нет ничего, кроме звука пищалки, запаха ночи, огня, песка, Я смотрю на всё это дело, мама, и тут, конечно, древнерусская обязательная тоска.8 ноября 2008 года, Пушкар
Пушкар
Чему учит нас город Пушкар, мой свет? Звёзды были придуманы для того, чтоб от лагеря взять верблюда, поехать через пески, лечь в телеге и налюбоваться всласть. Тот, кто имеет повозку, байк или карту – имеет власть. Мы добрались до лучшего города на земле, а цивилизация, к счастью, не добралась. Чему учит Пушкар меня? Я ничего уже не исправлю и не спасу. На самом деле я живу здесь, в пустыне, и ношу золотое кольцо в носу. Ем кюфту из железной миски, держа её на весу. И в повозке мужа по знаку «Ом» пририсовано к каждому колесу.10 ноября 2008 года, Пушкар – Джайпур
Каникулы на Луне
Вот тебя высаживают в открытку, тв-программу, детскую сказку — и ты вполне На двенадцатый день осваиваешь пространство и плохо помнишь, что делал вне. Мы тут видели тех, кто забыл вернуться, и это зрелище не по мне — Драные скафандры, разбитые навигаторы — вечные каникулы на Луне. В первый день выходя на улицу в Дели ты знаешь твёрдо — часы твои сочтены. Грязно, перенаселено, зловонно и всё гудит, словно ты в желудке у Сатаны. А через неделю ты счастлив, сторговывая в Пушкаре то-ли-юбку-то-ли-штаны За две трети от их цены. Так что можно, пожалуй, поздравить нас — за двенадцать дней Мы способны обжиться в любой открытке — неважно, ёлочка ли на ней Или восьмирукая дева Кали в сиянии драгоценных своих камней.11 ноября 2008 года, Джайпур
Джайпур
Чему учит нас город Джайпур, мой свет? Месть индуса изобретательна и хитра. У тебя неплохой отель, только в храме Шивы сразу за ним служба начинается в пять утра. И репертуар, в свою очередь, там таков, что хрустит и трескается кора Головного мозга. Причём сегодня он значительно заунывнее, чем вчера. Чему учит Джайпур меня? Я преодолела большой маршрут. Что ни кадр, то как из журнала Geo, что ни индиец, то изумруд. А сомненья, кишечные палочки и служители храма Шивы меня пытались, но не берут.12 ноября 2008 года, самолёт Джайпур – Гоа
Гоа
Мы в Северном Гоа, мама, каждый пейзаж как заставка для телефона или рекламный 3D плакат. Дело к вечеру, где-то уже включается электрический треск цикад. Кто-то едет вдоль кромки моря на старом велосипеде через закат. Да хранит Господь мотоциклы сезонных, мама, — они наглы, Объезжают на полной скорости все пригорочки и углы, Набирая полные ноздри полынного дыма, мама, полные руки ветра и веки – мглы. Пока мы сидим в баре на берегу, допиваем клубничный сок, Игроки в крикет ждут, когда один совершит бросок, крабы убегают наискосок. Это самый мизинец Индии, самый невозможный её кусок. Мы проводим солнце и тут ещё посидим часок — Пока Костя докурит, затушит джойнт и закинет его в песок.13 ноября 2008 года, Гоа
Как водится
Как ты там, моё слабое утешение, моя ржавая ссадина, ломаная банка из-под тепла? У меня в айподе сто пять твоих фотографий, так что я тебя сюда привезла. Я на севере Гоа, Тим, тут такой же бог, как у нас, но куда чуднее его дела. Если едешь на ста, и слёзы закатываются в уши — это называется «с ветерком». В барах выдают кокосовую скорлупку, чтобы ты растолок гашиш и смешал его с табаком. Ящерица сбежавшей татуировкой гуляет под потолком — Ты сидишь, а она идёт над тобой пешком. Голые лампочки, Тим, жестяные кружки, пыльные майки, нехитрый гоанский быт. Всей литературы – только следы на песке: скажем, узкие от ступней, и звёздчатые от лап, и круглые от копыт. Кажется, что и сны тебя здесь не ищут, но стоит тебе уснуть, как никто окажется не забыт. Вот он ты, глумливая бровь дугой, вот сменивший тебя, с одной и второй серьгой, Вот он новый мой праздник, который всегда с другой — Все идут за мной от Парижа до Вайланканни, где сразу над барной стойкой мой дорогой — Джизус Крайст, как водится, Всемогущий и Всеблагой.15 ноября 2008 года, Гоа
Последнее утро
Чему учит нас Гоа, мой свет? Расстояние лучший врач. Расставания больше встреч. Драгоценно то, что хватило ума не присвоить, не сфотографировать, не облечь Ни в одну из условностей; молчанье точней, чем речь. Того, чего не имеешь – не потерять. Что имеешь – не уберечь. Чему Гоа учит меня? Тому, что из всех мужчин только ветер и стоит слёз. Когда катишься пятьдесят километров в час, он уже принимает тебя всерьёз. Всякий мрак проницаем, любой поворот открытие, смерть глядит дальним светом, и он белёс. Твоя тень состоит из чёлки, стоящей дыбом, руля, сидения и колёс. Гоа учит меня доверию – десять дней Ездишь за спиной того, про которого точно знаешь — ему видней, Так что скоро чуть ли не дом родной обретаешь в ней, Даже набирая полные фары пыли и полные шины выбоин, зеркала – разбегающихся огней. Да, в последнее утро, пожалуй, стоит проснуться в шесть, Сесть в рассвет, попытаться собрать всё вокруг и счесть, попросить присяжных в себе учесть, Что уж если Господь задумывал фрукты, линию горизонта и экзотических сумасшедших такими, какие здесь, — О, какую же это делает Ему честь. Если завтра отъезд, у тебя невозможный рост. Правой ногой попираешь ты Сиолимский, а левой Кузнецкий мост. Слышишь благовест, погружая лицо в прохладную мякоть звёзд — над Москвой не бывает звёзд. Пахнет пряным вест. Пахнет жжёным ост. И становишься чист, отверст и предельно прост. Сам себе и Приянка Чопра, и Роберт Фрост.23 ноября 2008 года, Гоа
Back to Paradise
«Слушай, оставайся, а твою книжку тебе издательство перешлёт». (Сто двенадцать страниц, выходные данные, переплёт). «Что тебе там делать? Тут океан и пальмы, там темнота и лёд». В общем, мы действительно опоздали на самолёт. Ехали в Панаджи – не столько я покидала Гоа, сколько Гоа стал покидать меня. Вот они, все мои последние рупии, указатели на английском и хинди и вся фигня, — Следующий рейс из Гоа в Москву будет только через три дня. Это премиальные три заката здесь (пару лет московской зимы по курсу стоит средний такой закат). Это десять часов на скутере через тропики, с поворотами наугад. Это срочный приказ о твоём помиловании, когда ты вот-вот будешь расстрелян как ренегат. Вот тебя отпустили, и ты только и повторяешь, что oh my god, Весь в мурашках от ощущения, как ты ужасно жив, как неслыханно ты богат.24 ноября 2008 года, back to Morjim
Моя Индия
Человек на пляже играет при свете факела, и летающая тарелка между его колен начинает дышать, звуча. И дреды его танцуют в такт его пальцам, и все огню подставляют лица, так его музыка горяча. А ещё перекрёсток, – машины, коровы, байки, – и рядом крест и алтарь, и там, в алтаре, свеча. И как Костя чудесно жмурится, хохоча. И дорога до Арамболя чуть выше дужки его очков, и волос, что ветер свивает кольцами, и плеча. Моя Индия открывается без ключа. Кто беднее не допускающих перемен, состоящих из дат, мест жительства и имён? Всякий раб медицинской, кредитной, визитной карты, всякий пронумерован и заклеймён. Всякий заживёт, только если выплатит ипотеку, а ты, – если ты умён, — Уже понял, что кроме тех, что сейчас, у тебя не было и не будет лучших времён. Завтра в это время я буду стоять на сцене, во многих тысячах километров отсюда, где теперь медленная среда: Спят собаки между шезлонгами в два ряда, мёртвого краба вылизывает вода, А там будет мама, Рыжая, Дзе, наверно, придёт туда, Я взойду и скажу им, как я боялась вернуться, да, Обнаружить через неделю, как выцветают в тебе индийские сари, дети, рассветы, шуточки, города, как ни остаётся от них ни камушка, ни следа, — Только ведь моя Индия из меня не денется никуда. Моя Индия не закончится никогда.26 ноября 2008 года, Морджим
The Very Last One
Представь себе ужас прожившего месяц в Индии, мама, и впервые узревшего снег в аэропорту. У меня в чемодане песок, на плечах непальская куртка и не утешительная ничуть карамель во рту. Мы вернулись домой, мама, это отнюдь не часто случается с заступившими за черту. Очень тяжело шутить, мама, всюду русские, впору срочно переходить на шёпот или транслит. Тут зима, запах неуюта, мрака, глухого бешенства — надо всеми прямо-таки разлит. Только у меня полный бак иронии и приятия, ничего-то меня не трогает и не злит. Земляков с Гоанщины узнаешь по печёным носам, соломенным волосам, Барабанам, привешенным к поясам, А я в али-баба-штанах за две сотни рупий, еду презентовать свою книжку к восьми часам. Мама, лучшей меня для такого случая Бог не выдумал бы и сам.27 ноября 2008 года, Москва
IV
«Нет, не увидимся…»
Нет, не увидимся.
Нечем будет увидеться.
Только здесь, понимаешь, существуют эти пленительные частности: у книг разные обложки, у людей бесконечно несхожие разрезы глаз, снег – не то, что дождь, в Дели и в Москве одеваются неодинаково, крыса меньше собаки, шумеры вымерли раньше инков – только тут всё это имеет значение, и кажется, будто – огромное; а там все равны, и всё одно, и всё – одно целое. Вечность – это не «так долго, что нельзя представить», это всегда одно и то же сейчас, не имеющее протяжённости, привязки к точке пространства, невысчитываемое, невербализуемое; вы не найдёте там друг друга специально для того, чтобы закончить разговор, начатый при жизни; потому что жизнь будет вся – как дневник за девятый класс: предметы, родительские подписи, домашние задания, рисуночки на полях, четвертные оценки – довольно мило, но вовсе не так смертельно важно, как казалось в девятом классе. Тебе в голову не придёт пересдавать ту одну двойку по литературе в конце третьей четверти – нахамил учительнице, словил пару, вышел из класса посреди урока, хлопнув дверью. Забавно, что дневник сохранился, но если бы и нет, ты бы мало что потерял – во-первых, у тебя десять таких дневников, во-вторых, этот далеко не самый интересный, вот в дневнике за второй были куда смешнее замечания; может статься, ты из всей жизни, как из одной недельной командировки куда-нибудь в Петрозаводск в восемьдесят девятом, будешь вспоминать только вид на заснеженную Онегу, где сверху сливочно-белое, снизу – сахарно-белое, а между белым и белым – горизонт, и как девушка смеётся в кафе за соседним столиком, красавица, волосы падают на плечи и спину, как слои тяжёлой воды в грозу – на лобовое стекло; может, ты из всех земных языков запомнишь только две фразы из скайп-переговора, из всех звуков – чиханье маленького сына; и всё. Остальное действительно было низачем. Славно скатался, но рад, что вернулся, и обратно ещё долго не захочется – в скафандре тесно, он сильно ограничивает возможности перемещения, приходит с годами в негодность, доставляет массу хлопот – совершенно неясно, что они все так рыдали над твоим скафандром и целовали в шлем; как будто он когда-то что-то действительно определял в том, кем ты являешься и для чего пришёл; по нему ничего непонятно, кроме, может быть, твоей причастности к какому-нибудь тамошнему клану и, может быть, рода деятельности – воин там, земледелец, философ; тело – это просто упаковка из-под тебя, так ли важно, стекло, картон или пластик; можно ли по нику и внешнему виду какого-нибудь андеда в «Варкрафте» догадаться, что из себя представляет полноватая домохозяйка из Брюсселя, которая рубится за него? Да чёрта с два.
Мы нет, не увидимся; не потому, что не захотим или не сможем, а потому же, почему мы не купили себе грузовик «Киндер-сюрпризов», когда выросли, хотя в детстве себе клятвенно обещали: это глупо, этого не нужно больше, другой уровень восприятия, сознания, понимания целесообразности. Прошлого не будет больше, и будущего не будет, они устареют, выйдут из обращения, как ветхие купюры, на которые давно ничего не купишь; потому что измерений станет больше, и оптика понадобится другая, и весь аппарат восприятия человека покажется старыми «Жигулями» по сравнению с суперсовременным аэробусом. И все вот эти любови и смерти, разлуки и прощания, стихи и фильмы, обиды и измены – это всё будет большой железной коробкой из-под печенья, в которой лежит стопка вкладышей из жевательной резинки «Love Is», которые ты в детстве собирал с таким фанатичным упорством, так страшно рыдал, когда какой-нибудь рвался или выкрадывался подлым ребёнком маминых друзей; и ты после смерти не испытаешь ничего по отношению к этому, кроме умиления и печали: знать бы тебе тогда, какие это мелочи всё, не было бы ни единого повода так переживать. Там всё будет едино, и не будет никакой разницы, кто мама, кто я, кто мёртвый Котя, кто однокурсница, разбившаяся на машине восемь лет назад; личности не будет, и личной памяти не станет, и её совсем не будет жаль: всё повторяется, всё похоже, нет ничего такого уж сверхуникального в твоём опыте, за что можно было бы так трястись: эй, все любили, все страдали, все хоронили, все корчились от отчаяния; просто тебе повезло, и ты мог передать это так, что многие себя узнавали; ты крошечное прозрачное стрекозье крылышко, обрезок Божьего ногтя, пылинка в луче, волосок поверх кадра, таких тебя триллионы, и всё это – Бог; поэтому мы не увидимся, нет. Мы – как бы это? – срастёмся. Мы станем большим поездом света, который соберёт всех и поедет на сумасшедшей скорости, прокладывая себе путь сквозь тьму и отчаяние; почему ты бываешь так упоительно счастлив, когда кругом друзья, и музыка, и все рядом, и все такие красивые, и все смеются? Почему это будто Кто-то вас в этот момент фотографирует, снимает кадр, совершенно отдельный от течения жизни, восхитительный, пиковый, вневременной? Вот такое примерно чувство, только ты не можешь сказать, кто ты точно на этой фотографии. Это не очень важно, на самом деле. Просто – кто-то из них. Кто-то из нас. Кто-то.
V Нежилое
«Город исчезает под толщей осени…»
город исчезает под толщей осени, делаясь нерезким, бесшумным, донным, всякий вышедший покурить ощущает себя бездомным, и ко входам в метро, словно к тайным подземным домнам сходят реки руды восемь лет назад мы шли той же дорогой, и всё, лестницы ли, дома ли, — было о красоте, о горечи, о необратимости, о финале; каждый раз мы прощались так, будто бы друг другу пережимали колотую рану в груди дорогая юность, тебя ещё слышно здесь, и как жаль, что больше ты не соврёшь нам. ничего не меняется, только выглядит предсказуемым и несложным; ни правдивым, ни ложным, ни истинным, ни оплошным. обними меня и гляди, как я становлюсь неподсудным прошлым. рук вот только не отводи20 октября 2011
«Свет скользит по стеклу купе…»
Волшебнику
свет скользит по стеклу купе, по казённым, с печатями, занавескам, и случайным отблеском ловится в нём, нерезком, моё сердце, что падает вниз с моста и ложится с далёким плеском на ладони днепра так давно я учусь умирать легко, что совсем утрачивается навык жить помногу и с гордостью, как это водится у зазнаек; всякий поезд, в котором я, ближе к ночи заваливается набок, обращается в прах где тот голос, что вечно пел из тебя, паршивца лишь о том, что терять легко, если раз решиться, хороша лапшица, ткань бытия продолжает шиться, а потом запнулся и произнёс: «прости, я в тебе ошибся», и ты нем и неправ2 января 2012, поезд Киев – Москва
«Кто нас сделал такими тяжёлыми…»
кто нас сделал такими тяжёлыми, даже плачется чем-то твёрдым, словно длинные грифы замкнуло одним аккордом, словно умер в пути и едешь, и едешь мёртвым, не смыкаешь очей отсоединили контакт, и огонь, что был зрим и вещен и пронизывал кровь, пейзажи, детей и женщин, разложился на циклы пикселей, знаков, трещин, а совсем не лучей эта боль так стара, что определяет мимику, взгляд и почерк, ледяным металлическим наливается возле почек, и кто там вокруг ни бегает, ни хлопочет — ты повсюду ничей6 января 2012 года
Тамбов
там бов а тут не бов мои позавчера женились, выбыв из одиночек самых разных видов из нас, вооружённых до зубов, видать, и впрямь счастливая любовь завидую, ничем себя не выдав, and love you both хороший город, моего теплей мохито стоит семьдесят рублей а кола тридцать пять в кинотеатре дели всё в среднем на два или на три таксист со стольника двадцатку возвращает всё простоту и ясность обещает и свёклу мужики везут с полей а свадебный кортеж их не пущает бутик «обновочка», аптека «панацея» сбежала бы, жила бы, как цирцея на улице советской, возле цны любила бы тамбовского мерзавца мечтала б с ним до знаменского загса доехать; жизни не было б цены. там ничего так, в общем, пацаны и двухэтажно всё, и может оказаться, что я ещё приеду до весны.6 октября 2008 года
Город-с-ад
Анечке
белые фары сменяются красными габаритными, эквалайзеры магнитол надрезают бритвами темноту; этот город проникнут ритмами — он смеётся нами поёт нами говорит нами, его голос продет через нас, как нить. если он засыпает – то стойки мятыми пятисотками; тычет в бога антеннами, башнями и высотками, спит со старыми стриптизёрами, пьёт с красотками, — мы из этого города выплавлены и сотканы и ни в чём не можем его винить вечная простуда – в меню всё выглядит так изысканно, но несёт ментолом и эвкалиптом из каждой миски на дымной кухоньке – хвойный стейк, чабрецовый мусс, — поцелуи пьяного мальчика пахнут виски, но оскорбительно аскорбиновые на вкус этот город только и занят тем, что продать пытается все билеты на стадион, где проводят таинства — каждый больше всего боится, что вдруг останется только наедине с собой; все так быстро старятся, чтобы спиться, распасться, не соблюдать режим мы купаем руки в его дымах, мы ступаем в месиво его крови, слюны и спеси, и нам тут весело, — это город-с-ад, и как славно, что видно весь его с той кровати, где мы лежим21 декабря 2008 года
«Мама сутки уже как в Римини…»
Мама сутки уже как в Римини. У меня ни на что нет времени. Я мечтаю пожить без имени В кочевом заполярном племени. Греться вечером возле пламени. Ощущать божий взор на темени. Забери меня Изнутри меня. Покажи, как бывает Вне меня.3 июня 2010 года
Нулевой километр
В Гоа приходят те, Кто устроен, как ты: Склонные к полноте Искатели пустоты. Чаем пахнет земля. След от ступни – печать. Курсы молчанья для Вызванных отвечать. Система координат, Где ровно наоборот: Лайм, виноград, гранат В тебе создают рот, Рост задаёт – тень, Пульс диктует – прибой. Сегодня тот самый день, Когда ты рождён собой. Вот тебе алфавит, Вот новая из планет. А Бог сделает вид, Будто Его тут нет.1 февраля 2010 года
VI
Разве
Рыжей
полно, моя девочка, разве мы похожи на инвалидов. разве мы не знаем пустынь отчаянья лучше гидов. разве не садимся за стол, ни жестом себя не выдав, не киваем их шуткам, сплетням и новостям? полно, моя девочка, разве мы сознаёмся в чём-то старшим. да и что они сделают нам, истаявшим, нам, уставшим, — мы самоубийцы с хорошим стажем, маме с папой мы ничего не скажем. и судмедэкспертам. и дознавателям. и властям. полно, моя девочка, разве мы похожи на мёртвых кукол, над которыми дребезжащий, с сиреной, купол, — ты пошла меня проводить, он тебя укутал, мы стоим и сдыхаем медленно, по частям. кто вписал это всё, пока ангел спал над своей тетрадкой? боль будет чудовищной. будет правильной. будет краткой. пока нас укладывают в пакеты, гляди украдкой, и реви, и реви, реви над своей утраткой. а потом возвращайся назад к гостям.16 января 2009 года
Сказочка
так, в зубах зажат, мучительно нёбо жжёт этот очень, очень простой сюжет: королевич лежит, ресницы его дрожат, злая ведьма сон его стережёт. ярок снег его шеи, сахар его манжет. чёрен её грозный бескровный рот, её вдовий глухой наряд. когда он проснётся, его народ разорят, унизят и покорят, — он поднимет войско. и он умрёт. и, о да, его отблагодарят. злая ведьма знает всё наперёд. королевич спит сотый год подряд. не ходи, хороший мой, на войну. кто тебя укроет там, на войне. из-под камня я тебя не верну, а под камень могу не пустить вполне. почивай, мой свет, предавайся сну. улыбайся мне.23 февраля 2009 года, поезд Петрозаводск – Москва
«Как они говорят, мама…»
как они говорят, мама, как они воздевают бровки, бабочки-однодневки, такие, ангелы-полукровки, кожа сладкие сливки, вдоль каждой шеи татуировки, пузырьки поднимаются по загривку, как в газировке, отключают сознание при передозировке, это при моей-то железной выправке, мама, дьявольской тренировке мама, как они смотрят поверх тебя, если им не друг ты, мама, как они улыбаются леденяще, когда им враг ты; диетические питательные продукты натуральные человеческие экстракты полые объекты, мама, скуластые злые фрукты, бесполезные говорящие артефакты как они одеты, мама, как им все вещи великоваты самые скелеты у них тончайшей ручной работы терракотовые солдаты, мама, воинственные пустоты, белокурые роботы, мама, голые мегаватты, как заставишь себя любить настоящих, что ты, когда рядом такие вкусные суррогаты4 октября 2008 года
Вечерняя
И он говорит ей: «С чего мне начать, ответь, – я куплю нам хлеба, сниму нам клеть, не бросай меня одного взрослеть, это хуже ада. Я играю блюз и ношу серьгу, я не знаю, что для тебя смогу, но мне гнусно быть у тебя в долгу, да и ты не рада». Говорит ей: «Я никого не звал, у меня есть сцена и есть вокзал, но теперь я видел и осязал самый свет, похоже. У меня в гитарном чехле пятак, я не сплю без приступов и атак, а ты поглядишь на меня вот так, и вскипает кожа. Я был мальчик, я беззаботно жил; я не тот, кто пашет до синих жил; я тебя, наверно, не заслужил, только кто арбитры. Ночевал у разных и был игрок, (и посмел ступить тебе на порог), и курю как дьявол, да всё не впрок, только вкус селитры. Через семь лет смрада и кабака я умру в лысеющего быка, в эти ляжки, пошлости и бока, поучать и охать. Но пока я жутко живой и твой, пахну дымом, солью, сырой листвой, Питер Пэн, Иванушка, домовой, не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть». И она говорит ему: «И в лесу, у цыгана с узким кольцом в носу, я тебя от времени не спасу, мы его там встретим. Я умею верить и обнимать, только я не буду тебя, как мать, опекать, оправдывать, поднимать, я здесь не за этим. Как все дети, росшие без отцов, мы хотим игрушек и леденцов, одеваться празднично, чтоб рубцов и не замечали. Только нет на свете того пути, где нам вечно нет ещё двадцати, всего спросу – радовать и цвести, как всегда вначале. Когда меркнет свет и приходит край, тебе нужен муж, а не мальчик Кай, отвыкай, хороший мой, отвыкай отступать, робея. Есть вокзал и сцена, а есть жильё, и судьба обычно берёт своё и у тех, кто бегает от неё – только чуть грубее». И стоят в молчаньи, оглушены этим новым качеством тишины, где все кучевые и то слышны, – ждут, не убегая. Как живые камни, стоят вдвоём, а за ними гаснет дверной проём, и земля в июле стоит своём, синяя, нагая.24 июля 2012 года
Мало ли кто
мало ли кто приезжает к тебе в ночи, стаскивает через голову кожуру, доверяет тебе костяные зёрнышки, сок и мякоть мало ли кто прогрызает камни и кирпичи, ходит под бронёй сквозь стужу или жару, чтоб с тобой подыхать от неловкости, выть и плакать мало ли кто лежит у тебя на локте, у подлеца, и не может вымолвить ничего, и разводит слякоть посреди постели, по обе стороны от лица мало ли кто глядит на тебя, как будто кругом стрельба, и считает секунды, и запоминает в оба: ямку в углу улыбки, морщинку в начале лба, татуировку, неброскую, словно проба мало ли кто прошит тобою насквозь, в ком ты ось, холодное остриё мало ли кто пропорот любовью весь, чтобы не жилось, — через лёгкое, горло, нёбо, и два года не знает, как сняться теперь с неё мало ли кто умеет метать и рвать, складывать в обоймы слова, да играть какие-то там спектакли но когда приходит, ложится в твою кровать, то становится жив едва, и тебя подмывает сбежать, не так ли дождь шумит, словно закипающий чайник, поднимаясь с пятого этажа на шестой этаж посиди с бессонным мало ли кем, когда силы его иссякли ему будет что вспомнить, когда ты его предашь14 октября 2009 года, поезд Киев – Москва
«Куда, интересно, потом из них…»
Куда, интересно, потом из них деваются эти мальчишки, от которых у нас не было никакого противоядия в двенадцать лет – один раз увидеть у друзей на VHS и пропасть навсегда; тёмные брови, щекотные загривки, нежные шеи, узкие молочные спины в родинках; повадка целоваться, подаваясь вперёд всем телом, торопливо и жадно; лукавые глаза, сбитые костяшки пальцев, щетина, редкая и нелепая, никакой тебе вожделенной мужественности; зажигалка благодаря заботливым друзьям исторгает пламя высотой в палец, и, закуривая, можно спалить тебе чёлку; сигарету носят непременно в углу губ и разговаривают, не вынимая её изо рта; поют дурными голосами по пьяни у тебя под окнами и совершенно неподражаемо, роскошно смеются – запрокидывают головы, показывают ямочки, обнажают влажные зубы; носят вечно съезжающие джинсы, умеют дуться, подбирая обиженные губы и отворачиваясь; просыпаются горячие и мятые, в длинных заспанных отметинах от простыни и подушки; играют в бильярд и покер, цитируют великих, горячатся, гордятся татуировками и умирают не успеваешь заметить когда; в двадцать четыре ещё дети, в тридцать – уже крепкие самоуверенные мужики с вертикальной складкой между бровей, жёсткий ворс на груди, невесть откуда взявшийся, выпуклые мышцы, сытый раскатистый хохоток, пристрастие к рубашкам и дорогим ботинкам, ничего и близко похожего на то, за что ты легко могла отдать полжизни и никогда не пожалеть об этом.
Красивые, красивые, и были, и будут, кто спорит; ещё и умные к этому времени, и прямые, и забывают привычку так много и страстно врать по любому поводу; взрослые, да, серьёзные, и пахнут смертной скукой. Хочется спросить, зачем они съели того мальчика, кожей прозрачной, как бумага, который вешал себе на стенку журнальный разворот с какой-нибудь невероятной серебристой машиной – ничего не было слаще, чем смотреть на него, сидящего на парапете над рекой, рассказывающего тебе что-то с сигаретой в углу рта, и чтобы солнце золотило ему волосы и ресницы.
«Как он чиркнет ладонью…»
как он чиркнет тебе ладонью по ватерлинии — будет брешь за секунду, как ты успеешь сказать «не трожь» и такой проймёт тебя ужас, такая пронижет дрожь, что руки не отнимешь и права не отберёшь, только и решишь обречённо – как же ты, чёрт, хорош как ты дышишь и говоришь как самозабвенно врёшь ну чего уж, режь как ты выбираешь смиреннейшую из ниш, неподъёмнейшую из нош, как ты месяцами потом не пишешь и не звонишь, только пальцами веки мнёшь, как они говорят тебе по-отечески – ну, малыш, перестань, понятно же, что не наш каждое их слово вонзается рядом с ухом твоим как нож эй, таких, как ты, у него четыреста с лишним душ двадцать семь, больше двадцати ни за что не дашь носит маечки с вечных лондонских распродаж говорит у подъезда: «ты со мной не пойдёшь» только вот ты так на него глядишь, что уж если не здесь, то где ж если не сейчас, о господи, то когда ж5 мая 2009 года
Самый лучший
мой самый лучший ничего потом не помнил (редбулла с водкой из ведёрочка для льда) под вечер снова подошёл и улыбнулся ты лена да? Елена Костылева мой самый лучший выставил наутро. сказал: «ко мне отец сейчас приедет, не хочется, чтоб задавал вопросы» чёрт подери, такое солнце было оделась и пошла ловить машину и губы, скулы, щёки, лоб и шею ожгло, — он потому что был небритый а целовал на улице мороз минус тринадцать ну ты себе, наверно, представляешь такой мы старый-старый с романсами заезженный винил блаженны те, кто нас потом не помнит кто совершенно к нам иммунен, лена кого мы миновали, как зараза блаженны те, кто нам потом ни разу ни разу даже не перезвонил20 апреля 2009 года
Обратный отсчёт
а ты не знал, как наступает старость — когда все стопки пахнут корвалолом, когда совсем нельзя смеяться, чтобы не спровоцировать тяжёлый приступ кашля, когда очки для близи и для дали, одни затем, чтобы найти другие а ты не думал, что вставная челюсть еду лишает половины вкуса, что пальцы опухают так, что кольца в них кажутся вживлёнными навечно, что засыпаешь посреди страницы, боевика и даже разговора, не помнишь слов «ремень» или «косынка», когда берёшься объяснить, что ищешь мы молодые гордые придурки. счастливые лентяи и бретёры. до первого серьёзного похмелья нам остается года по четыре, до первого инсульта двадцать восемь, до первой смерти пятьдесят три года; поэтому когда мы видим некий «сердечный сбор» у матери на полке мы да, преисполняемся презренья (ещё скажи – трястись из-за сберкнижки, скупать сканворды и молитвословы) когда мы тоже не подохнем в тридцать — на ста восьмидесяти вместе с мотоциклом влетая в фуру, что уходит юзом, — напомни мне тогда о корвалоле, об овестине и ноотропиле, очки для дали – в бардачке машины. для близи – у тебя на голове.9 октября 2009 года
Памятка
лучше йогурта по утрам только водка и гренадин. обещай себе жить без драм — и живи один. все слова переврутся сплошь, а тебе за них отвечать. постарайся не множить ложь и учись молчать. Бог приложит свой стетоскоп — а внутри темнота и тишь. запрети себе множить скорбь — да и зазвучишь.17 января 2009 года
VII
Gotta Have Faith
«Тот, кто больше не влюблён – всемогущ», – говаривала Рыжая, и я всё никак не освоюсь в этом чувстве преувеличенной, дезориентирующей лёгкости бытия, такой, будто ослабили гравитацию и сопротивление воздуха, и стоит тебе помахать рукой кому-нибудь, как тебя подбрасывает над землёй на полметра; раньше была тяжесть, и она центрировала; ты умел балансировать с нею, как канатоходец; теперь ты немножко шалеешь от дармовой простоты жизни – и своей собственной абсолютной к ней непричастности. Там, где всегда болело, не болит, а в этом городе принято осматривать друг другу раны, шелушить корки, прицокивать языком, качать головой и сочувствовать; если ты чист и ни на что не жалуешься, окружающие мгновенно теряют к тебе интерес и переключаются на кого-нибудь страдающего; это единственный город из всех мне известных, где подробно и цветисто поведать о том, как ты устал, измотан и заебался – значит предъявить результат твоей работы; весело и с искоркой рассказать о том, как ты заброшен, слаб и несчастен – значит убедить всех, что ты в высшей степени тонкое существо; обладать как можно более экзотическим увечьем и этим увечьем приторговывать – значить преуспеть; нигде так не смакуют неудачи, расставания и проигрыши, нигде не делают такого культа из преступлений, скандалов и катастроф, как здесь; большие прорывы и открытия здесь выглядят официозной фальшью и демагогией; маленькие победы, достижения и успехи здесь выглядят неуместно, как анекдоты на похоронах, тебе всегда немножко неловко за них, как за человека с соседнего кресла в театре, у которого посреди спектакля звонит телефон: выйди уже отсюда и там торжествуй себе, тоже мне молодец, у нас тут осень, говно и ментовской произвол, у нас тут коррупция, творческое бессилие и солнце через миллиард лет раскалится так, что вся Земля будет одной сплошной Долиной Смерти, хули ты радуешься тут, пошёл вон с глаз долой – говорит тебе пространство, и ты да, послушно перестаёшь улыбаться. Поэтому за десять дней меня пригасило, но верить в то, что всё так уж непременно глупо и дёшево, я не желаю; сдаётся мне, полгода назад в Индии со мной произошло то, что у нормальных людей называется уверовать — впервые что-то прояснилось насчёт смерти, Бога, структуры, равновесия и справедливости, стало стыдно за очень многие свои слова, отпало большое количество вопросов, и теперь я окончательный фаталист, пантеист и средоточие омерзительного жизнелюбия; потому что если ты не видишь хорошего, это не значит, что мир протух, это просто значит, что у тебя хуёво с оптикой, и более ничего; с миром всё в порядке было, есть и будет после нас, и мы при всем нашем желании не сможем его сломать. С тех пор, как тебя размажет твоим персональным просветлением, ты станешь мал, необязателен и счаст лив; ты перестанешь так фанатично копить вещи, трястись над шкуркой и дорожить чужим мнением (это всё буквально произойдёт: тебе перестанет быть так интересно покупать, как раньше, ты станешь гораздо легче переносить физическую боль и больше никогда не полезешь ни в какой гугл или блогс. яндекс смотреть, в какой ещё их личный ад люди вписывают твою фамилию); такие вещи, как смерть и червяки под землёй, перестанут тебя пугать, такие люди, как предатели, перестанут населять твою башку, и гораздо важнее того, сколько человек зарабатывает и на каких каналах торгует лицом, станет – хорошо ли он смеётся, дружен ли с самим собой и в курсе ли всего того, что теперь знаешь ты. Свои вычисляются молниеносно, необходимость в остальных отпадает довольно скоро. Ты окажешься кусочком цветной слюды в мозаике такого масштаба, что тебе очень неловко будет за все солипсистские выпады юности; такие детские болезни, как ревновать, переубеждать каждого встречного и обижаться на невнимание тебя, слава богу, оставят; религии окажутся просто тем или иным сортом конвенции между людьми, некоторой формой регулирования социума, довольно эффективной, к слову; новости в пересказах мамы начнут смешить, как предсказания о конце света в 1656 году; тебе будет немножко неуютно от того, что ты не можешь всерьёз разделить ничьих опасений и тревог, временами будет отчётливо пахнуть тем эпизодом в «Матрице», когда материя распадается на столбцы зелёных нулей и единиц, все просто закономерности и циклы, ничего нового; но в це лом, станет куда проще и куда труднее одновременно: раньше ты, например, знал, что можно выйти в окно и всё это прекратить в одну секунду; теперь ты знаешь, что ничего прекратить нельзя. О чём мы, впрочем? О том, что влюбляться – очень заземляет; отыскивается контактик, которым вся эта громадная махина мироздания к тебе присоединяется. Когда нет такого контакта, чувствуешь себя как космонавт, оторвавшийся от корабля в открытом космосе: красиво, но, сука, холодно. Холодно, да.Сверхсрочная служба
Старшему брату
всё никак не освоюсь с правилами пока: есть фактура снега и есть – песка. все мы сшиты не из одного куска. радости хватает на полглотка. плоть стареет, хоть обновляема и гибка. есть секунды куда значительней, чем века. видимо, я призван издалека. там, откуда я родом и скоро вернусь куда, не земля, не воздух и не вода — но таинственная мерцающая среда. местные не ведают там ни гордости, ни стыда, слушают историю будто сквозь толщу льда — из текучего абсолютного никогда. не свихнуться стоило мне труда. я давно катаю обол во рту ковыряю обшивку, ищу черту, чтобы выйти из этой вселенной в ту, в ненаглядную пустоту. но покуда корпус не расколоть, я гляжу, как снашивается плоть — и уже прозрачная на свету.9 декабря 2010 года
VIII Короткий метр
Маджид
Старому Маджиду приходит срок, его кормят, как птицу, с рук. Как-то раз Маджид вышел за порог и упал у калитки вдруг; и ему сказали – Господь был строг, у тебя обнаружен рак. Медсестрички курят за дверью, ржут, от машин стекло в окне дребезжит. Навещают редко, домой не ждут – он давно уже здесь лежит. Его больше не скручивает, как в жгут, жизнью он поэтому дорожит: просыпается и глядит, как идёт мужик, проезжает под окнами то автобус, то чёрный джип; он пока ещё жив, Маджид. Монотонный кафельный неуют, аккуратный больничный ад – добивать не смеют, жить не дают, и валяйся теперь, разъят, на те части, что изнутри гниют, и все те, что уже гноят; только в голове у тебя поют и, сияющие, стоят — кроткая прекрасная Дариют, гордая высокая Рабият; он глаза их, жгучие, словно йод, и лодыжки узкие узнаёт; только позовёшь их – и предстают, волосы спадают до самых пят; у тебя здесь будет кров и приют, – так они поют, – тебе только радости предстоят! Медсестрички цокают «бред так бред» и чего-то там «опиат».3 марта 2009 года
Клэрити Пейдж
Клэрити Пэйдж в сорок два держится на тридцать, почти не старясь, Делает маникюр дважды в месяц, носит сногсшибательное бельё, Преодолевая дьявольскую усталость, Учится танцам после работы – так, будто бы у неё Есть кого пригласить на жгучий латинский танец, Так, как будто бы они с Дэвидом не расстались. Так, как будто бы это чудовищное враньё. Клэрити и теперь, как долгих семь лет назад, Собирает для Дэвида все образцы и пробы: Много читает; ходит в театр, чтобы Знать, что Лавджой красавица, Уэйн пузат, Под него теперь перешиваются гардеробы; А ещё ездит в чудные города, те, что всё равно бы Никогда не смогла ему показать. Так печёт пироги, что звана на всякое торжество: Угощает соседей и любит спрашивать, хороши ли. Водит удивительно боево. Возит матушку Дэвида к стоматологу на машине. Фотографирует объявленья, которые бы его Обязательно рассмешили. Нет, не столько живёт, сколько проектирует рай земной: Ходит в магазины, осуществляя разведку боем, Подбирает гардины к рамам, ковры к обоям, Строит жизнь, которая бы так нравилась им обоим, Так трагически велика для неё одной. Дэвид Пэйдж живёт с новой семьей в Канзасе, и дом у него неплох. Он звонит ей раз в год, в канун Рождества Христова, И желает ей счастья. Ну, ничего святого. Ладно, думает Клэрити, вряд ли Господь оглох. Дэвид просто заедет – в пятницу, в полшестого, — Извинится, что застигает её врасплох, — Оглядится и обнаружит, что для него всё готово. Ты слышишь, Господи? Всё готово.11 марта 2009 года
Гордон Марвел
Это Гордон Марвел, похмельем дьявольским не щадимый. Он живёт один, он съедает в сутки по лошадиной Дозе транквилизаторов; зарастает густой щетиной. Страх никчёмности в нём читается ощутимый. По ночам он душит его, как спрут. Мистер Марвел когда-то был молодым и гордым. Напивался брютом, летал конкордом, Обольщал девчонок назло рекордам, Оставлял состояния по игорным Заведениям, и друзья говорили – Гордон, Ты безмерно, безмерно крут. Марвел обанкротился, стал беспомощен и опаслив. Кое-как кредиторов своих умаслив, Он пьёт тёплый «Хольстен», листает «Хастлер». Когда Гордон видит, что кто-то счастлив Его душит чёрный, злорадный смех. И в один из июльских дней, что стоят подолгу, Обжигая носы отличнику и подонку, Гордон злится: «Когда же я наконец подохну», — Ангел Габриэль приходит к нему под окна, Молвит: «Свет Христов просвещает всех». Гордон смотрит в окно на прекрасного Габриэля. Сердце в нём трепыхается еле-еле. И пока он думает, всё ли это на самом деле Или транквилизаторы потихоньку его доели, Габриэля уже поблизости нет как нет. Гордон сплёвывает, бьёт в стенку и матерится. «И чего теперь, я кретин из того зверинца, Что суёт брошюрки, вопит “покаяться” и “смириться”? Мне чего, завещать свои мощи храму? Сходить побриться?» Гордон, не пивший месяц, похож на принца. Чисто выбритый он моложе на десять лет. По утрам он бегает, принимает холодный душ, застилает себе кровать. Габриэль вернётся, тогда-то уж можно будет с ним и о деле потолковать.14 июля 2008 года
Грейс
Когда Стивен уходит, Грейс хватает инерции продержаться двенадцать дней. Она даже смеётся – мол, Стиви, это идиотизм, но тебе видней. А потом небеса начинают гнить и скукоживаться над ней. И становится всё темней. Это больше не жизнь, констатирует Грейс, поскольку товаровед: Безнадёжно утрачивается форма, фактура, цвет; Ни досады от поражений, ни удовольствия от побед. Ты куда ушёл-то, кретин, у тебя же сахарный диабет. Кто готовит тебе обед? Грейси продаёт его синтезатор – навряд ли этим его задев или отомстив. Начинает помногу пить, совершенно себя забросив и распустив. Всё сидит на крыльце у двери, как бессловесный большой мастиф, Ждёт, когда возвратится Стив. Он и вправду приходит как-то — приносит выпечки и вина. Смотрит ласково, шутит, мол, ну кого это ты тут прячешь в шкафу, жена? Грейс кидается прибираться и мыть бокалы, вся напряжённая, как струна. А потом начинает плакать – скажи, она у тебя красива? Она стройна? Почему вы вместе, а я одна?.. Через год Стивен умирает, в одну минуту, «увы, мы сделали, что смогли». Грейси приезжает его погладить по волосам, уронить на него случайную горсть земли. И тогда вообще прекращаются буквы, цифры, и наступают одни нули. И однажды вся боль укладывается в Грейс, так, как спать укладывается кот. У большой, настоящей жизни, наверно, новый производитель, другой штрих-код. А её состоит из тех, кто не возвращается ни назавтра, ни через год. И небес, работающих На вход.19–20 июня 2008 года.
«Майки, послушай, во лбу у тебя есть щёлка…»
Майки, послушай, во лбу у тебя есть щёлка, Чтобы монетка, звякнув, катилась гулко. Майки, не суйся в эти предместья: чёлка Бесит девчонок нашего переулка. Майк, я два метра в холке, в моей бутылке, Дёргаясь мелко, плещется крепкий алко, — Так что подумай, Майк, о своём затылке, Прежде чем забивать здесь кому-то стрелки; Знаешь ли, Майки, мы ведь бываем пылки По отношенью к тем, кому нас не жалко. Знаю, что ты скучаешь по мне, нахалке. (Сам будешь вынимать из башки осколки). Я узнаю тебя в каждой смешной футболке, Каждой кривой ухмылке, игре-стрелялке; Ты меня – в каждой третьей курносой тёлке, Каждой второй язвительной перепалке; Как твоя девочка, моет тебе тарелки? Ставит с похмелья кружечку минералки?.. Правильно, Майки, это крутая сделка. Если уж из меня не выходит толка. Мы были странной парой – свинья-копилка И молодая самка степного волка. Майки, тебе и вправду нужна сиделка, Узкая и бесстрастная, как иголка: Резкая скулка, воинская закалка. Я-то, как прежде, Майки, кручусь как белка И о тебе планирую помнить долго. Видимо, аж до самого катафалка.5 июня 2008 года.
Барбара Грэйн
Барбара Грэйн благодарна своей болезни — если б не она, то пришлось бы терзаться сущими мелочами: Думать о муже, которого только радио бесполезнее, просыпаться, когда он кричит ночами; Злиться на сыновей, их ухмылки волчьи, слова скабрезные, если б не потребность в деньгах, они бы её и вовсе не замечали. А мигрень – лучше секса и алкоголя, лучше шопинга, твою мать, и поездки за город на природу: Это пять часов ты блюёшь от боли, с передышкой на пореветь, перестать дрожать, лечь лицом в ледяную воду; Лопаются линзы в глазах, струны подо лбом, а затем отпускает тебя на волю, и вот тут узнаёшь ты истинную свободу. Потому что Барбаре сорок пять, ничего не начнётся заново, голова седая наполовину, не золотая. Если в будущее глядеть, холодны глаза его, её ноша давно сидит на ней, как влитая. Но ей ведомо счастье – оно почти осязаемо, когда смерть дважды в месяц жуёт тебя, не глотая. Барбара глядит на себя из зеркала, свет становится нестерпим, дёргается веко. Через полчаса, думает она, всё уже померкло, на поверхности ни предмета, ни звука, ни человека. Только чистая боль, чтоб ты аж слова коверкала, за четыре часа проходит четыре века. А потом, говорит себе Барбара, после приступа, когда кончится тьма сырая и чертовщина, Я пойду напьюсь всего мира свежего, серебристого, для меня только что налитого из кувшина, И начну быть живая полно, живая пристально, так, чтоб если любовь гора, моё сердце – её вершина.27 октября 2012 года
Миссис Корстон
Когда миссис Корстон встречает во сне покойного сэра Корстона, Она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, чёрт с ними, Прикрывает ладонью старушечьи веки чёрствые И тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над её рассказами; он любил её. Все его слова обладали для миссис Корстон волшебной силою. И теперь она думает, что приходит проведать милую Его тучная обаятельная душа. Он умел принимать её всю как есть: вот такую, разную Иногда усталую, бесполезную, Иногда нелепую, несуразную, Бестолковую, нелюбезную, Безотказную, нежелезную; Если ты смеёшься, – он говорил, – я праздную, Если ты горюешь – я соболезную. Они ездили в Хэмпшир, любили виски и «Пти Шабли». А потом его нарядили и погребли. Миссис Корстон знает, что муж в раю, и не беспокоится. Там его и найдёт, как станет сама покойницей. Только что-то гнетёт её, между рёбер колется, Стоит вспомнить про этот рай: Иногда сэр Корстон видится ей с сигарой и «Джонни Уокером», Очень пьяным, бессонным, злым, за воскресным покером. «Задолжал, вероятно, мелким небесным брокерам. Говорила же – не играй».15 мая 2008 года.
Тара Дьюли
Тара Дьюли поёт под плеер («эй, мисс, потише вы!») Носит строгие туфли с джинсами арэнбишными, Пишет сказки – чужим ли детям, в порядке бреда ли. Танцевала в известной труппе, пока не вышибли. Тара дружит со всеми своими бывшими Так, как будто они ни разу её не предали. Тара любит Шику. Шикинью чёрен, как антрацит. Он красивый, как чёрт, кокетливый, как бразилец. Все, кто видел, как он танцует, преобразились. Тара смотрит, остервенело грызёт мизинец. Шику улыбается, словно хищник, который сыт. Когда поздней ночью Шикинью забросит в клуб Божия карающая десница, Когда там танцпол для него раздастся и потеснится, Когда он, распаренный, залоснится Каждым мускулом, станет жарок, глумлив, несносен, И улыбка между лиловых дёсен, Между розово-карих губ, Диско грянет тяжёлой рокерской бас-гитарой, Шику встретится вдруг эмалевым взглядом с Тарой, Осознает, что просто так ему не уйти; Им, конечно, потом окажется по пути, Даже сыщется пару общих знакомых, общих Тем; он запросто едет к ней, а она не ропщет, («я не увлекусь, я не увлекусь, я не увлекусь»); Когда он окажется как египетский шёлк наощупь, Как солёный миндаль на вкус, — Ещё не просыпаясь, чувствуешь тишину — это первый признак. Шику исчезает под утро, как настоящий призрак. Только эхо запаха, а точней, отголосок, призвук Оставляет девушкам, грубиян. Боль будет короткая, но пронзительная, сквозная. Через пару недель она вновь задержится допоздна и Будет в этом же клубе – он даже её узнает. Просто сделает вид, что пьян.30 апреля 2008 года.
Джо Тодуа
Тимуру Шотычу Какабадзе
Старый Тодуа ходит гулять пешком, бережёт экологию и бензин. Мало курит, пьёт витамин D3, тиамин и кальций. Вот собрался было пойти слушать джаз сегодня — но что-то поздно сообразил. Джазом очень в юности увлекался. Тодуа звонила сегодня мать; иногда набирает брат или младшая из кузин, — Он трещит с ними на родном, хоть и зарекался. Лет так тридцать назад Джо Тодуа был грузин. Но переродился в американца. Когда Джо был юн, у него была русская маленькая жена, Обручальное на руке и два сына в детской. Он привёз их сюда, и она от него ушла — сожалею, дескать, Но, по-моему, ничего тебе не должна. Не кричала, не говорила «тиран и деспот» — Просто медленно передумала быть нежна. И с тех пор живёт через два квартала, в свои пионы погружена. Сыновья разъехались, – Таня только ими окружена. Джо ей делает ручкой через забор — с нарочитой удалью молодецкой. А вот у МакГила за стойкой, в закусочной на углу, Происходит Лу, хохотушка, бестия и – царица. Весь квартал прибегает в пятницу лично к Лу. Ей всегда танцуется; и поётся; и ровно тридцать. Джо приходит к ней греться, ругаться, придуриваться, кадриться. Пережидать тоску, острый приступ старости, стужу, мглу. – Лу, зачем мне кунжут в салате — Лу, я же не ем кунжут. – Что ж я сделаю, если он уже там лежит. – Лу, мне сын написал, так время летит, что жуть, Привезёт мою внучку – так я тебе её покажу, У меня бокалы в шкафу дрожат – так она визжит. – Джо, я сдам эту смену и тоже тебе рожу, А пока тут кружу с двенадцати до восьми — Не трави меня воображаемыми детьми. – Она есть, ты увидишь. Неси мой стейк уже, не томи. Если есть двусмысленность в отношениях – то не в их. Джо – он стоит того, чтобы драить стойку и всё ещё обретаться среди живых. Лу, конечно, стоит своих ежедневных заоблачных Чаевых.14 марта 2008 года.
Джеффри Тейтум
Джеффри Тейтум садится в машину ночью, в баре виски предусмотрительно накатив. Чувство вины разрывает беднягу в клочья: эта девочка бьётся в нём, как дрянной мотив. «Завести машину и запереться; поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе, Протащить в салон. Я не знаю другого средства, чтоб не думать о ней, о смерти и о тебе». Джеффри нет, не слабохарактерная бабёнка, чтоб найти себе горе и захлебнуться в нём. Просто у него есть жена, она ждёт от него ребёнка, целовал в живот их перед уходом сегодня днём. А теперь эта девочка – сработанная так тонко, что вот хоть гори оно всё огнём. Его даже потряхивает легонько – так, что он тянется за ремнём. «Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такой, скольких ты ещё приводила в дом, скольких стоила горьких слёз им. Просто чувствовать сладкий ужас и непокой, приезжать к себе, забываться сном, лихорадочным и белёсым, Просто думать ты – первой, я – следующей строкой, просто об одном, льнуть асфальтом мокрым к твоим колёсам, Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плёсом, Задевать тебя в баре случайной курткой или рукой, ты бы не подавала виду ведь. Видишь, у меня слова уже хлещут носом — Так, что приходится голову запрокидывать». «Бэйби-бэйб, по чьему ты создана чертежу, где учёный взял столько красоты, где живёт этот паразит? Объясни мне, ну почему я с ума схожу, если есть в мире свет – то ты, если праздник — то твой визит? Бэйби-бэйб, я сейчас приеду и всё скажу, — я ей всё скажу — и она мне не возразит». Джеффри Тейтум паркуется во дворе, ищет в куртке свои ключи и отыскивает – не те; Он вернулся домой в глубокой уже ночи, он наощупь передвигается в темноте, Входит в спальню и видит тапки – понятно чьи; Джейни крепко спит, держит руку на животе. Джеффри Тейтум думает – получи, и бредёт на кухню, и видит там свою порцию ужина на плите. Джеффри думает: «Бэйб, дай пройти ещё октябрю или ноябрю. Вон она родит – я с ней непременно поговорю. Я тебе клянусь, что поговорю». Джеффри курит и курит в кухне, стоит и щурится на зарю.11–12 марта 2008 года
Пайпер Боул
Что до Пайпер Боул – этот мальчик её не старит. Пайпер мнится – она с ним всё ещё наверстает. Пайпер ждет, когда снег растает, Слушает, как внутри у неё гудение нарастает, Пайпер замужем, но когда-нибудь перестанет — И поэтому копит на чёрный день: день, когда её все оставят. Что до мальчика Пайпер – то он мечтает о миллионах, Ходит в баснословных своих очочках-хамелеонах, От ладоней его холёных, Очей зелёных Пайпер отваживает влюблённых и опалённых, Называет мальчика «оленёнок», Всё никак на свою отраду не наглядится, Всё никак ему колыбельных не напоётся, Он прохладный и ускользающий, как водица, Между пальцев течёт, а в руки всё не даётся; Мать шипит ей: «Да он тебе в сыновья годится». В Пайпер это почти проклятием отдаётся. Что до Ричарда Боула, то он как загнанная лошадка. Он измучен: дела у фирмы идут ни шатко И ни валко; а игры Пайпер его смешат как Все попытки позлее цапнуть его за пальчик. Этот мальчик, наверное, денег и славы алчет. Ну а Пайпер со временем делается всё жальче. Что до Ким, ближайшей подруги Пайпер, то это икона стиля. Как могло быть не так, при её-то вкусе, её-то теле. Ким неловко, что мальчик Пайпер порой ночует в её постели, Ким хихикает: «Как же мы это допустили?», Но не выгонять же его на улицу, в самом деле.* * *
Дальняя спальня, за спальней ванная, душевая, На полу душевой сидит Пайпер полуживая И ревёт, и грызёт запястье, словно овчарка сторожевая. Ричард обнимает её, целует в родную спину, А потом в макушку, увещевая: «Всё уже позади, заканчивай эту травлю, Ну поверила, ну ещё одному кретину. Детка, детка, я никогда тебя не оставлю. Я уже никогда тебя Не покину».21–22 февраля 2008 года.
Говард кнолл
Здравствуйте, меня зовут Говард Кнолл, и я чёртов
удачник.
Аня Поппель Говард Кнолл красавец, и это свойство его с младенчества отличает. Его только завистник не признаёт, только безнадёжный не замечает. В Говарде всякий души не чает, Он любую денежку выручает И любую девушку приручает — И поэтому Говард всегда скучает. Старший Кнолл адвокат, он сухой и жёлтый, что твой пергамент, Он обожает сына, и четверга нет, Чтоб они не сидели в пабе, где им сварганят По какой-нибудь замечательной блади мэри. Кнолл человечней сына – по крайней мере, Он утешает женщин, которых тот отвергает. Вот какая-нибудь о встрече его попросит, И придет, и губа у неё дрожит, и вот-вот её всю расквасит, А у старшего Кнолла и хрипотца, и проседь, Он глядит на неё, как сентиментальный бассет. «Я понимаю, трудно с собой бороться, — И такая в глазах его лёгкая виноватца, — Но стоит ли плакать из-за моего уродца? Милочка, полно, глупо так убиваться». Нынче Говарда любит Бет (при живом-то муже). Бет звонит ему в дверь, затянув поясок потуже, Приезжает на час, хоть в съёмочном макияже, Хоть на сутки между гастролей даже, Хлопает ртом, говорит ему «я же, я же», Только он не любит и эту тоже, От неё ему только хуже. Говард говорит отцу: «Бет не стоила мне ни пенса. Ни одного усилия, даже танца. Почему я прошу только сигарету, они мне уже “останься”? Ослабляю галстук, они мне уже “разденься”? Пап, я вырасту в мизантропа и извращенца, Эти люди мне просто не оставляют шанса». Кнолл осознаёт, что его сынок не имеет сердца, Но уж больно циничен, чтоб из-за этого сокрушаться. Говорит: «Ну пусть Бет заедет на той неделе поутешаться».* * *
Через неделю и семь неотвеченных вызовов на мобильном Говард ночью вскакивает в обильном Ледяном поту, проступающем пятнами на пижаме. Ему снилось, что Бет находят за гаражами, Мёртвую и вспухшую, чем-то, видимо, обкололась. Говард перезванивает, слышит грустный и сонный голос, Он внутри у неё похрустывает, как щербет. Говард выдыхает и произносит: «Бет, Я соскучился». Сердце ухает, как в колодце. Да их, кажется, все четыре по телу бьётся. Повисает пауза. Бет тихонько в ответ смеётся. Старший Кнолл её не дожидается на обед.11 февраля 2008 года.
Бернард
Бернард пишет Эстер: «У меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя – я даже дышу с трудом». Бернард пишет Эстер: «У меня возле дома пруд, Дети ходят туда купаться, но чаще врут, Что купаться; я видел всё – Сингапур, Бейрут, От исландских фьордов до сомалийских руд, Но умру, если у меня тебя отберут». Бернард пишет: «Доход, финансы и аудит, Джип с водителем, из колонок поёт Эдит, Скидка тридцать процентов в любимом баре, Но наливают всегда в кредит, А ты смотришь – и словно Бог мне в глаза глядит». Бернард пишет: «Мне сорок восемь, как прочим светским плешивым львам, Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам, Ядерный могильник, водой затопленный котлован, Подчинённых, как кегли, считаю по головам — Но вот если слова – это тоже деньги, То ты мне не по словам». «Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать: “умрёшь, но пока дыши”, Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши. Никакой души ведь не хватит, Усталой моей души».31 января 2008 года.
Кэти Флинн
Кэти Флинн, пожилая торговка воспоминаниями, обходительна и картава. Её лавочка от меня через три квартала, до ремонта велосипедов и там направо. Свой товар Кэти держит в высоких железных банках и называет его «отрава». Моя мать ходила к ней по субботам за пыльной баечкой об отце или о моём непутёвом братце, О своих семнадцати и влюблённом канадце, полковнике авиации, Или том, что мне десять, я научился свистеть и драться И стреляю водой из шприца в каждого несчастного домочадца Когда я был остряк и плут, кучерявый отличник, призёр ежегодных гонок, Я смеялся над Кэти Флинн, хотя хлеб её, в общем, горек. А сегодня мне сорок семь, я вдовец, профессор и алкоголик. Все воспоминанья – сухая смесь, растираешь пальцами, погружаешь лицо в ладони, И на сорок минут ты в той самой рубашке, и тем июлем, на том же склоне, С девушкой в цветном балахоне, маленькие колени, — Только на общем плане. Моя радость смеялась, будто была за смертью и никогда её не боялась. Словно где-то над жизнью лестница, что выводит на верхний ярус. Кэти Флинн говорит: «Сэг’, вы доведёте себя до пг’иступа», и я вдруг ощущаю старость. И ухмыляюсь.27 октября 2011 года
Эмили
Эмили вернулась живой с любви, теперь Мы по пятницам с нею пьём. Она лжёт, что стоило столько вытерпеть, Чтоб такой ощущать подъём. Вся набита плачем сухим, как вытертый Чемодан – неродным тряпьём. Эмили вернулась в своё убежище, В нарочитый больной уют. На работе, где унижали – где ж ещё — Снова ценят и признают. Ей всё снится, как их насильно, режуще Разлучают. Пусть лучше бьют. Эмили прямая, как будто выбили Позвонки – и ввернули ось. Эмили считает долги и прибыли И вовсю повышает спрос. Так бывает, когда сообщат о гибели, Но никак не доставят слёз.23 октября 2010, поезд Питер – Москва
Смерть автора
Джек-сказочник намного пережил Свою семью и завещал, что нажил Своим врачам, друзьям и персонажам: Коту, Разбойнику и старой ведьме Джил. В пять тридцать к ведьме Кот скребётся в дверь. Трясётся, будто приведён под дулом. «Прислали атлас звёзд. “Я вас найду”, мол. Он умер, Джил. Тот, кто меня придумал. И я не знаю, как мне жить теперь». Разбойник входит в восемь сорок пять. Снимает кобуру, садится в угол. «Прислали холст, сангину, тушь и уголь. Пил сутки. Сроду не был так напуган. И совершенно разучился спать». Старуха Джил заваривает чай — Старинный чайник в розах, нос надколот. «Он сочинил меня, когда был молод. Мстил стерве-тёще. Думаешь, легко вот? Тебя – лет в сорок, вот и получай: Невроз, развод и лучший друг-нарколог. Кота – в больнице, там был жуткий холод. Он мёртв. То есть прощён. Хороший повод И нам оставить всякую печаль». Старухе Джил достались словари — Чтоб влезть наверх и снять с буфета плошку С не-плачь-травой, и всыпать ровно ложку В густой зелёный суп. Тарелок три. Втекает бирюзовый свет зари (Джек был эксцентрик) в мутное окошко. Суп острый. Ещё холодно немножко, Но, в целом, славно, что ни говори.24 ноября 2009 года
IX
Sweetest Goodbye
летние любовники, как их снимал бы лайн или уинтерботтом брови, пух над губой и ямку между ключиц заливает потом жареный воздух, пляшущий над капотом старого кадиллака, которому много вытерпеть довелось она движется медленно, чуть касаясь губами его лица самой кромки густых волос послеполуденный сытый зной, раскалённый хром, отдалённый ребячий гогот тротуары, влажные от плавленого гудрона и палых ягод кошки щурят глаза, ищут тень, где они прилягут завтра у нее самолёт и они расстаются на год видит бог, они просто делают всё, что могут тише, детка, а то нас копы найдут или миссис салливан, что похлеще море спит, но у пирса всхлипывает и плещет младшие братья спят, и у них ресницы во сне трепещут ты ведь будешь скучать по мне, детка, когда упакуешь вещи когда будешь глядеть из иллюминатора, там, в ночи… – замолчи, замолчи. пожалуйста, замолчи.2 августа 2009 года
X
Бобби Диллиган
Эду Боякову
покупай, моё сердце, билет на последний кэш из лиможа в париж, из тривандрума в ришикеш столик в спинке кресла, за плотной обшивкой тишь а стюарда зовут рамеш ну чего ты сидишь поешь там, за семь поездов отсюда, семь кораблей те, что поотчаянней, ходят с теми, что посмуглей когда ищешь в кармане звонкие пять рублей — выпадает драм, или пара гривен, или вот лей не трави своих ран, моё сердце, и не раздувай углей уходи и того, что брошено, не жалей* * *
Уже ночь, на стёкла ложится влага, оседает во тьму округа. Небеса черней, чем зрачки у мага, и свежо, если ехать с юга. Из больницы в Джерси пришла бумага, очень скоро придётся туго; «это для твоего же блага», повторяет ему подруга. Бобби Диллиган статен, как древний эллин, самая живописная из развалин. Ему пишут письма из богаделен, из надушенных вдовьих спален. Бобби, в общем, знает, что крепко болен, но не то чтобы он печален: он с гастролей едет домой, похмелен и немного даже сентиментален. Когда папа Бобби был найден мёртвым, мать была уже месяце на четвёртом; он мог стать девятым её абортом, но не стал, и жив, за каким-то чёртом. Бобби слыл отпетым головорезом, надевался на вражеский ножик пузом, даже пару раз с незаконным грузом пересекал границу с соседним штатом; но потом внезапно увлёкся блюзом, и девчонки аж тормозили юзом, чтоб припарковаться у «Кейт и Сьюзан», где он пел; и вешались; но куда там. Тембр был густ у Бобби, пиджак был клетчат, гриф у контрабаса до мяса вытерт. Смерть годами его выглядывала, как кречет, но он думал, что ни черта у неё не выйдет. Бобби ненавидел, когда его кто-то лечит. Он по — прежнему ненавидит. Бобби отыграл двадцать три концерта, тысячи сердец отворил и выжег. Он отдаст своей девочке всё до цента, не покажет ей, как он выжат. Скоро кожа слезет с него, как цедра, и болезнь его обездвижит. В Бобби плещет блюз, из его горячего эпицентра он таинственный голос слышит.* * *
поезжай, моё сердце, куда-нибудь наугад солнечной маршруткой из светлогорска в калининград синим поездом из нью-дели в алла’абад рейсовым автобусом из сьенфуэгоса в тринидад вытряхни над морем весь этот ад по крупинке на каждый город и каждый штат никогда не приди назад поезжай, моё сердце, вдаль, реки мёд и миндаль, берега кисель операторы «водафон», или «альджауаль», или «кубасель» все царапины под водой заживляет соль все твои кошмары тебя не ищут, теряют цель уходи, печали кусок, пить густой тростниковый сок или тёмный ром наблюдать, как ложатся тени наискосок, как волну обливает плавленым серебром; будет выглядеть так, словно краем стола в висок, когда завтра они придут за мной вчетвером, — черепичные крыши и платья тоньше, чем волосок, а не наледь, стекло и хром, а не снег, смолотый в колючий песок, что змеится медленно от турбин, будто бы паром неподвижный пересекает аэродромКуба – Пермь – Гоа – Екатеринбург – Москва,
2009–2010
Сигареты заканчиваются в полночь
косте ще, брату
сигареты заканчиваются в полночь, и он выходит под фонари май мерцает и плещет у самой его двери третий месяц одна и та же суббота, — парализует календари, — пустота снаружи него пустота у него внутри он идёт не быстрее, чем шли бы они вдвоём через светофоры, дворы, балконы с цветным тряпьём но её отсутствие сообщает пространству резкость другой объём белая сирень ограды перекипает, пруд длится алым и золотым тридцать первый год как не удаётся подохнуть пьяным и молодым он стучится в киоск, просит мальборо и вдыхает горячий дым, выдыхает холодный дым24 мая 2010 года
Стража
камера печального знания, пожилая вдова последнего очевидца, полувековая жилица вымеренного адца, — нет такой для тебя стены, чтоб за ней укрыться, нет такого уха, чтоб оправдаться заключая свидетельство для искателя и страдальца, в результате которого многое прояснится, ты таскаешь чужую тайну – немеют пальцы, каменеет намертво поясница неестественно прямы, как штаба верные часовые в городе, где живых не осталось ни снайпера, ни ребёнка мы стоим и молимся об убийце, чтобы впервые за столетие лечь, где хвоя, листва, щебёнка начертить себе траекторию вдоль по золоту и лазури, над багряными с рыжим кронами и горами. сделай, господи, чтоб нас опрокинули и разули, все эти шифровки страшные отобрали18 сентября 2012 года
Тридцать девятый стишок про тебя
вот как всё кончается: его место пустует в зале после антракта. она видит щербатый партер со сцены, и ужас факта всю её пронизывает; «вот так-то, мой свет. вот так-то». и сидит с букетом потом у зеркала на скамье в совершенно пустом фойе да, вот так: человек у кафе набирает номер, и номер занят, он стоит без пальто, и пальцы его вмерзают в металлический корпус трубки; «что за мерзавец там у тебя на линии?»; коготки чиркают под лёгким – гудки; гудки вот и всё: в кабак, где входная дверь восемь лет не белена, где татуированная братва заливает бельма, входит девочка, боль моя, небыль, дальняя колыбельная — входит с мёртвым лицом, и бармен охает «оттыглянь» — извлекает шот, ставит перед ней, наливает всклянь вот как всё кончается – горечь ходит как привиденьице по твоей квартире, и всё никуда не денется, запах скисших невысыхающих полотенец и постель, где та девочка плакала как младенец, и спасибо, что не оставил её одну — всё кончается, слышишь, жизнь моя – распылённым над двумя городами чёртовым миллионом килотонн пустоты. слюна отдаёт палёным. и я сглатываю слюну.20 ноября 2009 года
Звездочёт
я последний выживший звездочёт тот, кто вскидывается ночью, часа в четыре, оттого, что вино шумит в его голове, словно незнакомец в чужой квартире, — щёлкает выключателем, задевает коленом стул, произносит «чёрт» тут я открываю глаза, и в них тёплая мгла течёт я последний одушевлённый аэростат, средоточие всех пустот водосточные трубы – гортани певчих ветров, грозы – лучшие музыканты а голодное утро выклёвывает огни с каждой улицы, как цукаты, фарный дальний свет, как занозу, выкусывает из стоп и встаёт над москвой, как столп я последний высотный диктор, с саднящей трещиной на губе. пусто в студии новостей — я читаю прощальный выпуск первому троллейбусу из окна, рискуя, пожалуй, выпасть — взрезав воздух ладонями, как при беге или ходьбе. в сводках ни пробела нет о тебе.16 апреля 2009 года
Профессор музыки
Саше Маноцкову
что за жизнь – то пятница, то среда. то венеция, то варшава. я профессор музыки. голова у меня седа и шершава. музыка ведёт сквозь нужду, сквозь неверие и вражду, как поток, если не боишься лишиться рафта. если кто-то звонит мне в дверь, я кричу, что я никого не жду. это правда. обо всех, кроме тэсс, – в тех краях, куда меня после смерти распределят, я найду телефонный справочник, позвоню ей уже с вокзала. она скажет: «здравствуйте?..» впрочем, что б она ни сказала, — я буду рад.16 апреля 2009 года
XI
Вкратце
косте ще, на день рождения
я пришёл к старику берберу, что худ и сед, разрешить вопросы, которыми я терзаем. «я гляжу, мой сын, сквозь тебя бьёт горячий свет, — так вот: ты ему не хозяин. бойся мутной воды и наград за свои труды, будь защитником розе, голубю и – дракону. видишь, люди вокруг тебя громоздят ады, — покажи им, что может быть по-другому. помни, что ни чужой войны, ни дурной молвы, ни злой немочи, ненасытной, будто волчица — ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится».7 февраля 2012, Сочи
Текст, который напугал маму
самое забавное в том, владислав алексеевич, что находятся люди, до сих пор говорящие обо мне в потрясающих терминах «вундеркинд», «пубертатный период» и «юная девочка» «что вы хотите, она же ещё ребёнок» — это обо мне, владислав алексеевич, овладевшей наукой вводить церебролизин внутримышечно мексидол с никотинкой подкожно, знающей, чем инсулиновый шприц выгодно отличается от обычного — тоньше игла, хотя он всего на кубик, поэтому что-то приходится вкалывать дважды; обо мне, владислав алексеевич, просовывающей руку под рядом лежащего с целью проверить, тёплый ли ещё, дышит ли, если дышит, то часто ли, будто загнанно, или, наоборот, тяжело и медленно, и решить, дотянет ли до утра, и подумать опять, как жить, если не дотянет; обо мне, владислав алексеевич, что умеет таскать тяжёлое, чинить сломавшееся, утешать беспомощных, привозить себя на троллейбусе драть из десны восьмёрки, плеваться кровавой ватою, ездить без провожатых и без встречающих, обживать одноместные номера в советских пустых гостиницах, скажем, петрозаводска, владивостока и красноярска, бурый ковролин, белый кафель в трещинах, запах казённого дезинфицирующего, коридоры как взлётные полосы и такое из окон, что даже смотреть не хочется; обо мне, которая едет с матерью в скорой помощи, дребезжащей на каждой выбоине, а у матери дырка в лёгком, и ей даже всхлипнуть больно, или через осень сидящей с нею в травматологии, в компании пьяных боровов со множественными ножевыми, и врачи так заняты, что не в состоянии уделить ей ни получаса, ни обезболивающего, а у неё обе ручки сломаны, я её одевала час, рукава пустые висят, и уж тут-то она ревёт – а ты ждёшь и бесишься, мать пытаешься успокоить, а сама медсёстер хохочущих ненавидишь до рвоты, до чёрного исступления; это я неразумное дитятко, ну ей-богу же, после яростного спектакля длиной в полтора часа, где я только на брюхе не ползаю, чтобы зрители мне поверили, чтобы поиграли со мной да поулыбались мне, рассказали бы мне и целому залу что-нибудь, в чём едва ли себе когда-нибудь признавалися; а потом все смеются, да, все уходят счастливые и согретые, только мне трудно передвигаться и разговаривать, и кивать своим, и держать лицо, но иначе и жить, наверное, было б незачем; это меня они упрекают в высокомерии, говорят мне «ты б хоть не материлась так», всё хотят научить чему-то, поскольку взрослые, — размышлявшую о самоубийстве, хладнокровно, как о чужом, «только б не помешали» — из-за этого, кстати, доктор как-то лет в девятнадцать отказался лечить меня стационарно — вы тут подохнете, что нам писать в отчётности? — меня, втягивавшую кокс через голубую тысячерублевую в отсутствие хрестоматийной стодолларовой, хотя круче было б через десятку, по-пролетарски, а ещё лучше – через десятку рупий; облизавшую как-то тарелку, с которой нюхали, поздним утром, с похмелья, которое как рукой сняло; меня, которую предали только шестеро, но зато самых важных, насущных, незаменяемых, так что в первое время, как на параплане, от ужаса воздух в лёгкие не заталкивался; меня, что сама себе с ранней юности и отец, и брат, и возлюблённый; меня, что проходит в куртке мимо прилавка с книгами, видит на своей наклейку с надписью «“республика” рекомендует» и хочет обрадоваться, но ничего не чувствует, понимаешь, совсем ничего не чувствует; это меня они лечат, имевшую обыкновение спать с нелюбимыми, чтоб доказать любимым, будто клином на них белый свет не сходится, извиваться, орать, впиваться ногтями в простыни; это меня, подверженную обсессиям, мономаниям, способную ждать годами, сидеть-раскачиваться, каждым «чтобы ты сдох» говорить «пожалуйста, полюби меня»; меня, с моими прямыми эфирами, с журналистами, снимающими всегда в строгой очерёдности, как я смотрю в ноутбук и стучу по клавишам, как я наливаю чай и сажусь его пить и щуриться, как я читаю книжку на подоконнике, потому что считают, видимо, что как-то так и выглядит жизнь писателя; они, кстати говоря, обожают спрашивать: «что же вы, вера, такая молоденькая, весёлая, а такие тексты пишете мрачные? это всё откуда у вас берётся-то?» как ты думаешь, что мне ответить им, милый друг владислав алексеевич? может, рассказать им как есть — так и так, дорогая анечка, я одна боевое подразделение по борьбе со вселенскою энтропией; я седьмой год воюю со жлобством и ханжеством, я отстаиваю права что-то значить, писать, высказываться со своих пятнадцати, я рассыпаю тексты вдоль той тропы, что ведёт меня глубже и глубже в лес, размечаю время и расстояние; я так делаю с самого детства, анечка, и сначала пришли и стали превозносить, а за ними пришли и стали топить в дерьме, важно помнить, что те и другие матрица, белый шум, случайные коды, пиксели, глупо было бы позволять им верстать себя; я живой человек, мне по умолчанию будет тесной любая ниша, что мне отводится; что касается славы как твёрдой валюты, то про курс лучше узнавать у пары моих приятелей, — порасспросите их, сколько она им стоила и как мало от них оставила; я старая, старая, старая баба, анечка, изведённая, страшно себе постылая, которая, в общем, только и утешается тем, что бог, может быть, иногда глядит на неё и думает: «ну она ничего, справляется. я, наверное, не ошибся в ней».30 марта 2009 года
Спецкорры
Лене Погребижской
мы корреспонденты господни, лена, мы здесь на месяцы. даже с дулом у переносицы мы глядим строго в камеру, представляемся со значением. Он сидит у себя в диспетчерской – башни высятся, духи носятся; Он скучает по нашим прямым включениям. мы порассказали Ему о войнах, торгах и нефти бы, но в эфир по ночам выходит тоска-доносчица: «не могу назвать тебя “моё счастье”, поскольку нет в тебе ничего моего, кроме одиночества». «в бесконечной очереди к врачу стою. может, выпишет мне какую таблетку белую. я не чувствую боли. я ничего не чувствую. я давно не знаю, что я здесь делаю». «ты считаешь, Отче, что мы упрямимся и капризничаем, — так вцепились в своё добро, что не отдадим его и за всю любовь на земле, — а ведь это Ты наделяешь призрачным и всегда лишаешь необходимого». провода наши – ты из себя их режешь, а я клыками рву, — а они ветвятся внутри, как вены; и, что ни вечер, стой перед камерой, и гляди в неё, прямо в камеру. а иначе Он засыпает в своей диспетчерской.1 февраля 2009 года
«Пристрели меня, если я расскажу тебе…»
пристрели меня, если я расскажу тебе, что ты тоже один из них — кость, что ломают дробно для долгой пытки шаткий молочный зуб на суровой нитке крепкие напитки, гудки, чудовищные убытки чёрная немочь, плохая новость, чужой жених ты смеёшься как заговорщик, ты любишь пробовать власть, грубя ты умеешь быть лёгким, как пух в луче, на любом пределе всё они знали – и снова недоглядели я чумное кладбище. мне хватило и до тебя. я могу рыдать негашёной известью две недели. дай мне впрок наглядеться, безжалостное дитя, как земля расходится под тобою на клочья лавы ты небесное пламя, что неусидчиво, обретя контур мальчика в поисках песни, жены и славы горько и желанно, как сигарета после облавы, пляшущими пальцами, на крыльце, семь минут спустя краденая радость моя, смешная корысть моя не ходи этими болотами за добычей, этими пролесками, полными чёрного воронья, и не вторь моим песням – девичьей, вдовьей, птичьей, не ищи себе лиха в жёны и сыновья я бы рада, но здесь другой заведён обычай, — здесь чумное кладбище. здесь последняя колея. будем крепко дружить, как взрослые, наяву. обсуждать дураков, погоду, еду и насморк. и по солнечным дням гулять, чтобы по ненастным вслух у огня читать за главой главу. только, пожалуйста, не оставайся насмерть, если я вдруг когда-нибудь позову.30 июня 2011 года
Как будто
Армахе
давай как будто это не мы лежали сто лет как снятые жернова, давились гнилой водой и прогорклой кашей знали на слух, чьи это шаги из тьмы, чьё это бесправие, чьи права, что означает этот надсадный кашель как будто мы чуем что-то кроме тюрьмы, за камерой два на два, но ждём и молчим пока что как будто на нас утеряны ордера, или снят пропускной режим, и пустуют вышки, как будто бы вот такая у нас игра, и мы вырвались и бежим, обдирая ладони, голени и лодыжки, как будто бы нас не хватятся до утра, будто каждый неудержим и взорвётся в семьсот пружин, если где-то встанет для передышки как будто бы через трое суток пути нас ждёт пахучий бараний суп у старого неулыбчивого шамана, что чувствует человека милях в пяти, и курит гашиш через жёлтый верблюжий зуб, и понимает нас не весьма, но углём прижигает ранки, чтоб нам идти, заговаривает удушливый жар и зуд, и ещё до рассвета выводит нас из тумана и мы ночуем в пустых заводских цехах, где плесень и горы давленого стекла, и истошно воют дверные петли и кислые ягоды ищем мы в мягких мхах, и такая шальная радость нас обняла, что мы смеёмся уже – не спеть ли берём яйцо из гнезда, печём его впопыхах, и зола, зола, и зубы в чёрном горячем пепле как будто пересекаем ручьи и рвы, распускаем швы, жжём труху чадящую на привале, состоим из почвы, воды, травы, и слова уходят из головы, обнажая камни, мостки и сваи и такие счастливые, будто давно мертвы, так давно мертвы, что почти уже не существовали27 июня 2011 года
Песни острова Макунуду
Нине Берберовой
I
океан говорит: у меня в подчиненьи ночь вся, я тут верховный чин ты быстрее искорки, менее древоточца, не знаешь принципов и причин сделай милость, сядь и сосредоточься, а то и вовсе неразличим сам себе властитель, проектировщик, военный лекарь, городовой, ни один рисунок, орнамент, росчерк не повторяю случайный свой кто не знает меры и тот, кто ропщет, в меня ложится вниз головой ну а ты, со сложной своей начинкой, гордыней барина и связующего звена будешь только белой моей песчинкой, поменьше рисового зерна, чтобы я шелестел по краю и был с горчинкой, и вода была ослепительно зеленаII
когда буря-изверг крошит корабли пусть я буду высверк острова вдали — берега и пирса, дома и огня; океан скупился показать меня. чаячьего лая звук издалека, ракушка жилая едет вдоль песка, и гранат краснеет вон у той скалы, и вода яснее воска и смолы — так, что служит линзой глянувшим извне и легко приблизит, что лежит на дне. мрамора и кварца длинны берега, и в лачуге старца суп у очага. век свеча не гасла у его ворот. вёл густого масла этот резкий рот, скулы и подглазья чей-то мастихин, и на стенке вязью древние стихи. «где твоя темница? рыбы и коралл. ты погиб, и мнится, что не умирал. что-то длит надежду. и с моим лицом — кто-то средний между богом и отцом. судно кружат черти. для тебя кошмар кончен – счастье смерти есть великий дар». не сочтёт кощунством грустный сын земли — я хочу быть чувством острова вдали.III
и когда наступает, чувствуешь некое облегчение: всё предвидел, теперь не надо и объяснять. истина открывается как разрыв, как кровотечение — и ни скрыть, ни вытерпеть, ни унять. смуглый юноша по утрам расправляет простыни, оставляет нам фруктов, что накормили бы гарнизон. – где вы были в последние дни земли? – мы жили на острове. брали красный арабский «мальборо» и глядели на горизонт. мы шутили: не будет дня, когда нас обнаружат взрослыми, — ничего живого не уцелеет уже вокруг. – что вы знали об урагане? – что это россказни для туристов, жаждущих приключений, и их подруг. ровно те из нас, кого гибель назначит лучшими, вечно были невосприимчивы к похвалам. – что вы делали в час, когда туча закрыла небо? – обнявшись, слушали, как деревья ломаются пополам. вспоминали по именам тех, кто в детстве нравился, и смеялись, и говорили, что устоим. старый бармен, кассу закрыв на ключ, не спеша отправился ждать, когда море придёт за ним.IV
молодость-девица, взбалмошная царица всего, что делается и не повторится. чаянье, нетерпение, сладостная пытка — всё было от кипения, от переизбытка. божественное топливо, биение, напряженье — дай тем, кем мы были растоптаны, сил вынести пораженье, кем мы были отвергнуты — не пожалеть об этом, а нам разве только верности нашим былым обетам, так как срока давности — радуга над плечами — нет только у благодарности и печали.декабрь 2012 года, остров Макунуду,
Мальдивский архипелаг
Больше правды
как открывается вдруг горная гряда, разгадка, скважина; все доводы поправ, ты возник и оказался больше правды — необходимый, словно был всегда. ты область, где кончаются слова. ты детство, что впотьмах навстречу вышло: клеёнка, салки, давленая вишня, щекотка, манка, мятая трава. стоишь, бесспорен, заспан и влюблён, и смотришь так, что радостно и страшно — как жить под взглядом, где такая яшма, крапива, малахит, кукушкин лён. я не умею этой прямоты и точной нежности, пугающей у зрячих, и я сую тебе в ладони – прячь их — пакеты, страхи, глупости, цветы; привет! ты пахнешь берегом реки, подлунным, летним, в молодой осоке; условия, экзамены и сроки друг другу ставят только дураки, а мы четыре жадные руки, нашедшие назначенные строки.25 апреля 2012 года
XII
Сороковой
Когда ты вырастешь – в нью-йоркском кабаке Брюнеточка из творческой богемы Попросит расписаться на руке И даже скажет, путая фонемы, Пять слов на украинском языке — Мир вынырнет из своего пике — И даже дети выучат поэмы О Вере и Красивом Мудаке — Я распечатаю четыре кадра, где мы Сидим на пристани вдвоём, и вдалеке Очерчен центр солнечной системы. Повешу в комнате и сдохну налегке. Да, от меня всегда одни проблемы. Ты будешь худ и через тридцать лет. Продолжишь наделяться, раз за разом, Чем-то таким, чего в помине нет: Какой-то новый станет биться разум, Как можно быть таким зеленоглазым И ничего не чувствовать в ответ. Сплошной, невосприимчивый к приказам, Ты будешь лить холодный белый свет, Но сам, увы, не сможешь быть согрет. Сейчас февраль, и крабы из песка Вьют города, опровергая хаос. Ворона вынимает потроха из Рыбёшки мелкой, в полтора броска. А ты влюблён, и смертная тоска Выстраивать побуквенно войска Меня толкает, горько усмехаясь. Сдавайся, детка. Армия близка. Ты был здесь царь. Ты весь народ согнал. Ты шёл как солнце из своих покоев. Ты запустил здесь жизнь, перенастроив На новый спутник, на другой сигнал. Всяк твоим именем лечил и заклинал. Где мне теперь искать таких героев? Такой сюжет? Такой телеканал? Мне очень жаль. Ты был водой живой, Был смысл и голос. Не модель, не особь. Мой низкорослый вежливый конвой Ведёт тебя всё дальше через осыпь, И солнце у тебя над головой. Второй, седьмой, тридцать девятый способ Бессмертия. Держи сороковой.8 февраля 2010 года
Рябью
господи мой, прохладный, простой, улыбчивый и сплошной тяжело голове, полной шума, дребезга, всякой мерзости несмешной протяни мне сложенные ладони да напои меня тишиной я несу свою вахту, я отвоёвываю у хаоса крошечный вершок за вершком говорю всем: смотрите, вы всемогущие (они тихо друг другу: «здорово, но с душком») у меня шесть рейсов в неделю, господи, но к тебе я пришёл пешком рассказать ли, как я устал быть должным и как я меньше того, что наобещал как я хохотал над мещанами, как стал лабухом у мещан как я экономлю движения, уступая жильё сомнениям и вещам ты был где-то поблизости, когда мы пели целой кухней, вся синь и пьянь, дилана и высоцкого, все лады набекрень, что ни день, то всклянь, ты гораздо дальше теперь, когда мы говорим о дхарме и бхакти-йоге, про инь и ян потому что во сне одни психопаты грызут других, и ты просыпаешься от грызни наблюдать, как тут месят, считают месяцы до начала большой резни что я делаю здесь со своею сверхточной оптикой, отпусти меня, упраздни я любил-то всего, может, трёх человек на свете, каждая скула как кетмень и до них теперь не добраться ни поездом, ни паромом, ни сунув руку им за ремень: безразличный металл, оргстекло, крепления, напыление и кремень господи мой, господи, неизбывные допамин и серотонин доживу, доумру ли когда до своих единственных именин побреду ли когда через всю твою музыку, не закатывая штанин через всю твою реку света, все твои звёздные лагеря, где мои неживые братья меня приветствуют, ни полслова не говоря, где узрю, наконец, воочию – ничего не бывает зря где ты будешь стоять спиной (головокружение и джетлаг) по тому, как рябью идёт на тебе футболка, так, словно под ветром флаг я немедленно догадаюсь, что ты ревёшь, закусив кулакЛьвов – Пермь – Москва, октябрь 2012 года
Ману
об исчерпанной милости ману узнаёт по тому, как вдруг пропадает крепость питья и курева, и вокруг резко падает сопротивленье ветра, и лучший друг избегает глядеть в глаза, и растёт испуг от того, что всё сходит с рук. в первый день ману празднует безнаказанность, пьёт до полного забытья, пристаёт к полицейским с вопросом, что это за статья, в третий ману не признают ни начальники, ни семья, на шестой ему нет житья. «ну я понял – я утратил доверие, мне теперь его возвращать. где-то я слажал, ты рассвирепел и ну меня укрощать. ну прекрасно, я тебя слушаю — что мне нужно пообещать?» «да я просто устал прощать». ману едет на север, чеканит «нет уж», выходит ночью на дикий пляж: всё вокруг лишь грубая фальшь и ретушь, картон и пластик, плохой муляж; мир под ним разлезается словно ветошь, шуршит и сыплется, как гуашь. «нет, легко ты меня не сдашь. да, я говорил, что когда б не твоя пристрастность и твой нажим, я бы стал всесилен (нас таких миллион), я опасен, если чем одержим, и дотла ненавижу, если я уязвлён, но я не заслужил, чтобы ты молчал со мной как с чужим, городил вокруг чёртов съёмочный павильон — не такое уж я гнильё». «где ты, ману, – а где все демоны, что орут в тебе вразнобой? сколько надо драться, чтобы увидеть, что ты дерёшься с самим собой? возвращайся домой и иди по прямой до страха и через него насквозь, и тогда ты узнаешь, как что-то тебе далось. столько силы, ману, – и вся на то, чтобы только не выглядеть слабаком, только не довериться никому и не позаботиться ни о ком, — полежи покорённый в ладони берега, без оружия, голышом и признайся с ужасом, как это хорошо. просто – как тебе хорошо».30 января 2013, Гокарна, Карнатака
Невыносимо
мой великий кардиотерапевт, тот, кто ставил мне этот софт, научи меня быть сильнее, чем лара крофт, недоступней, чем астронавт, не сдыхать после каждого интервью, прямо тут же, при входе в лифт, не читать про себя весь этот чудовищный воз неправд как они открывают смрадные свои рты, говорят: «ну спой же нам, птенчик, спой; получи потом нашей грязи и клеветы, нашей бездоказательности тупой, — мы так сильно хотели бы быть как ты, что сожрём тебя всей толпой; ты питаешься чувством собственной правоты, мы – тобой» остров моих кладов, моих сокровищ, моих огней, моя крепость, моя броня, сделай так, чтоб они нашли кого поумней, чтобы выбрали не меня; всякая мечта, моё счастье, едва ты проснёшься в ней, — на поверку гнилая чёртова западня. как они бегут меня побеждать, в порошок меня растереть; как же я устала всех убеждать, что и так могу умереть — и едва ли я тот паяц, на которого все так жаждали посмотреть; научи меня просто снова чего-то ждать. чем-нибудь согреваться впредь. поздравляю, мой лучший жалко-что-только-друг, мы сумели бы выжить при ядерной зиме, равной силе четырёхсот разлук, в кислоте, от которой белые волдыри; ужас только в том, что черти смыкают круг, что мне исполняется двадцать три, и какой глядит на меня снаружи — такой же сидит внутри. а в соревнованиях по тотальному одиночеству мы бы разделили с тобой гран-при3 марта 2009 года
Скоро
Эду Боякову
скоро, скоро наверняка мне станет ясно всё до конца: что относит фактуру камня к слепку пальца или лица; как законы крутого кадра объясняют семейный быт, скорлупу вылепляют ядра, ослепительный свет стробит, красота спит на стыке жанров, радость – редкий эффект труда, у пяти из семи пожарных в доме голые провода, как усталый не слышит чуда, путь ложится – до очага, как у мудрого дом – лачуга, а глаза – жемчуга, что ты сам себе гвоздь и праздник, как знаменье в твоей судьбе ждёт, когда тебя угораздит вдруг подумать не о себе, что искатель сильнее правил, песня делается, как снедь, что богаче всех – кто оставил все попытки иметь; скоро, череп сдавивши тяжко, бог в ладонь меня наберёт, разомкнёт меня, как фисташку, опрокинет в прохладный рот.2 июня 2012
Рыбы
пожилые рыбы лежат вдвоём, наблюдают с открытым ртом, как свинцовую реку в сердце моём одевает тяжёлым льдом как земля черствеет как чёрный хлеб, как всё небо пустой квадрат и как ветер делается свиреп не встречая себе преград и одна другой думает: «день за днём тьма съедает нас не жуя. бог уснул, и ночью блестит на нём серебристая чешуя» и другая думает: «мир охрип, только, кажется, слышно мне, как снаружи двое горячих рыб всё поют у себя на дне» фонари, воздетые на столбы, дышат чистым небытиём. мы лежим и дуем друг другу в лбы. рыбам кажется, что поём.17 декабря 2011 года, поезд Москва – Питер
Проще говоря
Бог заключает весь Мир, оттого Он зрим. Бог происходит здесь, Едва мы заговорим. Бог, как Завет, ветх. И, как Завет, нов. Мы – рыжая нить поверх Белых Его штанов. Бог – это взаимосвязь. Мы частность Бога, Его Случайная ипостась. И более ничего.31 января 2010 года, Гоа, Морджим
XIII
Записки с Випассаны
медитирует-медитирует садху немолодой, желтозубый, и остро пахнущий, и худой, зарастает за ночь колючею бородой, за неделю пылью и паутиной, а за месяц крапивой и лебедой там внутри ему открывается чудный вид, где волна или крона солнечный луч дробит, где живут прозревшие и пустые те, кто убивал или был убит, где волшебные маленькие планеты мерно ходят вокруг орбит ты иди-иди, сытый гладковыбритый счетовод, спи на чистом и пахни, как молоко и мёд, да придерживай огнемёт: там у него за сердцем такое место, куда он и тебя возьмёт7 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre
Яблоко
попробуй съесть хоть одно яблоко без вот этого своего вздоха о современном обществе, больном наглухо, о себе, у которого всё так плохо; не думая, с этого ли ракурса вы бы с ним выгоднее смотрелись, не решая, всё ли тебе в нём нравится — оно прелесть. побудь с яблоком, с его зёрнами, жемчужной мякотью, алым боком, — а не дискутируя с иллюзорными оппонентами о глубоком. ну, как тебе естся? что тебе чувствуется? как проходит минута твоей свободы? как тебе прямое, без доли искусственности, высказывание природы? здорово тут, да? продравшись через преграды все, видишь, сколько теряешь, живя в уме лишь. да и какой тебе может даться любви и радости, когда ты и яблока не умеешь.9 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre
Скороговорочка
Исповедуй зрячесть. Тренируй живучесть. Даже если нечисть Тебя хочет вычесть — Знать, такая участь. Обижаться глупость. Не вставай под лопасть. Счастье может выпасть В любую пропасть. Отойди, где низость. Пожалей, где узость. Улыбнись, где злость. Если будет трезвость, Что мы только известь Строить к Богу близость — Значит, всё срослось.15 февраля 2013 года, Мумбай
«Просветлённые упражняются в остроумии…»
просветлённые упражняются в остроумии, потому что им больше нечего отрицать. стоит успокоиться, начинаешь не то чтоб всерьёз светиться, но так, мерцать. реки бытия, легонько треща плотинами, поворачиваются вспять. скоро я тебя вновь увижу, и это будет, как будто мы встретились на изнанке зимы, за оградой моей тюрьмы, ты впервые увидишь, какого цвета мои глаза, чистые от отчаянья и чумы.15 февраля 2013 года
Медитация
если правильно слушать, то птица взлетает из правой лопатки к нёбу, ветка трескается в руке, а тележка грохочет вниз от колена к щиколотке, беспечная, вдалеке. мысль о тебе, тёплая, идёт через лоб и пульсирует на виске. ум проницает тело, как луч согретое молоко, удивляясь, как дайвер, что может видеть так глубоко; ощущенья вплывают в свет его, поводя причудливым плавником. медленно спускается вниз под сердце, в самый его подвал, и выводит по одному на свет всех, кто мучил и предавал, маслом оборачивается пламя, шёлком делается металл. вот и всё, чему я училась – пробовала нити, разбирала за прядью прядь, трогала проверочные слова к состояниям и выписывала в тетрадь, изучала карту покоя, чтобы дорогу не потерять. вот и всё моё путешествие, слава крепкому кораблю. птицы вдоль заката плывут как титры, крайняя закручивает петлю. мир стоит, зажмурившись, как трёхлетняя девочка в ожидании поцелуя, сплошным «люблю»16 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre
Четыре извещения
М.
тоска по тебе, как скрипка, вступает с высокой ноты, обходит, как нежилые комнаты, в сердце полости и темноты, за годы из наваждения, распадаясь на элементы, став чистой мелодией из классической киноленты давай когда-нибудь говорить, не словами, иначе, выше, о том, как у нас, безруких, нелепо и нежно вышло, как паника обожания нарастает от встречи к встрече, не оставляя воздуха даже речи выберем рассветное небо, оттенком как глаз у хаски, лучше не в этом теле, не в этой сказке, целовать в надбровья и благодарить бесслёзно за то, что всё до сих пор так дорого и так поздно спасибо, спасибо, я знала ещё вначале, что уже ни к кому не будет такой печали, такой немоты, усталости и улыбки, такой ослепительной музыки, начинающейся со скрипки пронзающей, если снишься, лучом ледяного света, особенно в индии, где всё вообще про это — ничто не твоё, ничто не твоё, ни ада, ни рая нет вне тебя самого, отпусти, не надоР.
ты мне снилась здесь – ты и твоя бабушка, в незнакомой ночной квартире. я проснулась за три минуты до гонга (а гонг, если что, в четыре). сколько любви и грусти, всё думала, к той, у кого дрожали губы от бешенства, что гнало меня гулкими этажами, когда она дремлет, свернувшись, в кресле, в цветной пижаме. ты спросила: «ба, как жалеют тех, кому стало ничто не в радость?» и она: «а точно не шлёпнуть их, а то я бы уж постаралась?» ты пришла ко мне на балкон, и мы, отражаясь блёкло, всё глядели, как ночь наливается через стёкла здорово, что душа не умеет упомнить лиха, убегая тайком от меня погладить, нежнее блика, и за десять тыщ километров, скучает если, меднокудрую девочку, спящую в долгом креслеА.
да, благодаря тебе ум и стал так ловок — ты всегда взыскуешь хлёстких формулировок. шестьдесят часов я его учу дисциплине, мере — и он язвит мне в твоей манере. ничего не нужно, даже запоздалого извинения — мы ленивы, чтоб искать очевидцев и поднимать архивы; противогордынное действует понемногу. даже быть услышанной. слава богу. стало ясно, что мы крутые стрелки. что не в этом сила. что война окончена, и смешно, что происходила. что одиннадцать лет назад ты явила чудо высшего родства. и вот это всё откуда.М.
здесь понятно, что человек только чашка со звёздным небом или карта ночного города с самолёта, что свободен не тот, кто делает что захочет, а тот, кто не знает гнёта постоянного бегства и вожделения. и что любая рана заживает. что счастье встретить тебя так рано. потому что всё, что касается волшебства, власти неочевидного и абсурда, саму идею ты преподавал с изяществом зрелого чародея. я была удостоена высшего заступничества и тыла — в юности у меня был мятежный ангел. я его не забыла. потому что мне столько, сколько тебе тогда. я стеснялась детства, а ты сам был ребёнком, глядящим, куда бы деться. но держался безукоризненно. и в благодарность школе вот тебе ощущение преходящести всякой боли.12 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre
«Голова полна детского неба…»
голова полна детского неба, розовеющего едва. наблюдаешь, как боль, утратив свои права, вынимается прочь из тела, словно из тесного рукава. хорошо через сто лет вернуться домой с войны, обнаружить, что море слушается луны, травы зелены, и что как ты ни бился с миром, всё устояло, кроме разве что сердца матери, выцветшего от страха до белизны13 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre
«Смерть, как всё, чего ты ещё не пробовал…»
смерть, как всё, чего ты ещё не пробовал, страшно лакома: спать не можешь от мысли, как же она там, как она — ходит над тобой между облаками, или рядом щёлкает каблуками, или нарастает в тебе комками? а наступит – так просто аэропорт, на табло неведомые каракули. непонятно, чего они все так плакали. да не озирайся, ты своего не пропустишь рейса. посиди, посмотри, погрейся.13 февраля 2013 года
«Где пески текут вдоль пляжа…»
Эду Боякову
где пески текут вдоль пляжа, лёгкие, как наши сны, там закат лежит, как пряжа у волны. ночь, когда я уезжаю, розовая изнутри. ты смеёшься как южане. как цари. так, чтобы глаза не меркли наблюдать и ликовать. так, что ни тоске, ни смерти не бывать.20 февраля 2013 года, самолёт Даболим – Москва
«За моей кромешной, титановой…»
за моей кромешной, титановой, ледяной обидой на мир происходили монастыри и скалы, тонкий хлопок и кашемир, водопады с радугой в мелких брызгах, и вкус бирьяни, и в лепёшке теста горячий сыр белое, как таджмахальский мрамор, и чёрное, как каджал, месяц как заточенная монета, что режет бархат со звёздами, кошачий коготь или кинжал, сумерки, напоенные улуном, земля, трепещущая от зноя, везде, куда бы ни приезжал запах тёртой кожи, прохлада кёрда, слюда и медь, отзвук дальнего пения, невозвратимый впредь, и мои насмешливые сокамерники и братья, уже начинающие стареть как я умудрялась глядеть сквозь это и продолжать сидеть взаперти, вместо того, чтобы просто выбраться и уйти и стать только тем, что ветер исследует как преграду, лёгкими ладонями, по пути сколько нужно труда, аскезы, чтобы опять понимать язык отраженья, касанья, папайи, пепла и бирюзы — мира свежезаваренного, как наутро после долгой болезни, стихотворенья или грозы14 февраля 2013 года, Мумбай,
Dhamma Pattana Meditation Centre




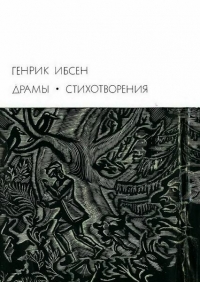

Комментарии к книге «Осточерчение», Вера Николаевна Полозкова
Всего 0 комментариев