Елена Яворская, Анна Попова Обыкновенная любовь
Анна Попова Юные
Одноклассница
(Романтическое)
Ну надо ж — как по вене лезвием, Так обмануться, так обрезаться, Не спьяну — с абсолютной трезвости — «Бывает», — скажут дураки… Любить — с её речами скользкими, дешёвыми камнями-кольцами, с её состриженными косами, любить — не за, а вопреки, с её прогулами-отлучками, с её конфетами-тянучками, глазами — серыми колючками — и острым худеньким лицом, с её очередным романчиком, с её джинсой и первым мальчиком, с её плаксивой дурой мачехой и вечно занятым отцом, с её татушкой — синей метинкой, с её неважной арифметикой и неумеренной косметикой, и неприятьем умных книг, и видеть в ней… царевну спящую, и думать: эта — настоящая, а та, колючая, искрящая — лишь искалеченный двойник…Дочь
Ей девятнадцать. Ей отнюдь не просто — и с ней отнюдь не просто даже нам. В пустыне бездуховности и прозы она живёт — бегущей по волнам, по гребням строк, по впадинам мелодий и по прозрачной штилевой слюде. Но до добра, признаться, не доводит чудесное хожденье по воде. Не хиппи. Не из эмо или готов. Нельзя в чужие рамки, ну никак. Зато читает Гессе, учит Гёте на русском и немецком языках. Она не верит в призрачность идиллий, она порой не помнит слова стоп. Но не дошла пока до carpe diem, до после нас, ребята, хоть потоп… Поэт без лиры, кормчий без кормила, святой в миру (трагический эксцесс!), она ещё не выросла из мира русалочек, царевен и принцесс… О, лишь бы не пришлось летать бескрыло и петь осанну медному грошу. Лишь только не дошло бы до «обрыва…», до безнадёжного «я к вам пишу…», о бедная (тургеневская?) Лиза, и так бывает: прежний мир постыл, твоя любовь — сродни максимализму — тебя же подвела под монастырь. Эх, девочка, любовь не пронесётся, а клюнет ядом в гордые уста. Листаем дальше: чеховские «Сёстры»: трагедия, тоска и пустота. О лишь бы только отметать плохое, хоть невзаправду, редко и во сне, звучать, как девушка в церковном хоре. Вся в белом. В первозданной белизне. На русых волосах её покоясь, сияет луч, спадая на виски. Высок и чист её летящий голос, и помыслы чисты и высоки… Ей хочется выплёскивать наружу всё то, что душит накипью в груди. Ей хочется копировать подружек с замашками гламурных кинодив: интим, гулянки, брачная карьера! спецы тату, эксперты по шмотью! Похожие на лопес и орейро, но никогда — на девочку мою… Они — правдоподобные эрзацы. Ты не эрзац. Ты грозовой раскат. Как долго до «найти и не сдаваться»! Как тяжело «бороться и искать…»! Быть исключеньем, жить на грани риска, пилить себя — но всё же это плюс. И я тобой горжусь по-матерински, по-матерински за тебя боюсь. Бесхитростна. Ассоль в тоске по Грею. Скромна. А всё ж у быдла на виду. Ты стала продолженьем галереи (последняя в классическом ряду). Оно само собою разумелось, жестокая судьба, жестокий суд… Но се ля ви. Но это современность, где классика канает за абсурд.Елена Яворская
«Дева…»
Дева. Улыбаешься грозе и слезам подруги. Самой близкой. Ты почти такая же, как все — в перекрестье кротости и риска, в перекрестье счастья и беды, на прицеле у добра и гнева. Персеполь сожжешь, растопишь льды. Таис, Герда, Агния и Ева. Нежно любишь обветшалый парк, страстно любишь ценные подарки. Из таких выходят Жанны д’Арк. Ну а чаще — склочные Одарки.Черешня
Не инфанта, но инфантильна королевственно, свято, нездешне. Лишь вчера пахли губы ванилью, а сегодня, как в песне, — черешней. Вот идет нарочито неспешно, держит прямо гордую спину. А в кульке бумажном — черешня, будто россыпь крупных рубинов. Раздаёт нарочито небрежно драгоценных ягод пригоршни. Обернутся рубины черешней недоспелой, горького горше. Есть жемчужное слово — «любима». А в кульке бумажном — рубины. Воспоминания о школьном выпускном Воспоминания… Плюшевый мишка в углу, книга на полке — о школе, о первой любви. Воспоминания… Летним дождем по стеклу. Фото в альбоме: фойе, выпускной… Ну и вид! Мы-то ведь были пока что почти что трезвы… Завуч. Единственный, кто обращался на «вы»: мы для других — для себя! — оставались детьми. Взрослые мысли умели высказывать мы, книжные мысли… Своих-то поди наберись! Мой Купидон — худосочен, уныл, белобрыс (лет через пять будет в теле, и весел, и лыс). Мой Купидон… Для кого-то, наверно, Улисс… Много ли только на свете живет Пенелоп? От всепрощения мир так некстати отвык! Пью с отвращением приторный жёлтый сироп, рядом — еда… Только хочется, люди, жратвы! А у мальчишек в стаканах давно не вода, не газировка, не сок, а бабусин первач… Мне бы засесть в уголке и беззвучно рыдать. Только углы-то все заняты, прямо хоть плачь! И ускакали подружки гурьбой на дискач… Пью с отвращением сок с минералкой — бурда! Ночь не по-летнему нынче бледна и седа. Девушки в белом, я — в черном: к лицу камуфляж белым воронам. Но в стаю, увы, не возьмут. Кажется, утром всем классом хотели на пляж… Только на улице с вечера муть-баламуть. Воспоминания… В прошлое детский билет, в школьный знакомый мирок, удивительный, наш?.. Окаменели они за полдюжины лет, вот и таскай за собою ненужный багаж. Может, оставить его — полинялый пакет — здесь, на гранитных ступеньках, у школьных дверей, и улыбнуться. И дальше пойти налегке с верой наивной, что мир стал немного добрей. Послешкольное Школа. «Ш-ш-школа…» Шоколад и кола. Шипит лимонадно. Колется. Кактус на подоконнике в классе. Классная. (Вечно в зеленом и взгляд колючий, кто-то сегодня двойку получит!) Одноклассники — Коленька и Васька. Коленька, милый мой мальчик, скромный отличник, скрипач, наверное, чья-то удача… (Говорят, после — спился, а может — женился…) Васька — проблема ходячая, дикий апач, горе для кошек окрестных, беда для собачек. Любит дворовые песни, любит мобилки, как Чацкий — перчатки, менять, крепкое пиво, креплёные вина, и — крепко-крепко — меня. А я-то ему «Буратино» в стаканчик, смеясь, налила на пикнике. После — рука к руке мы до утра бродили, бредили будущим, глупо шутили, и — смеялись до слёз. И — нам хотелось летать. Сбылось. Жаль, что приходится после крылья латать. Взрослый мир — с душою не в лад. Школа. Кола и шоколад.Анна Попова Семейные узы
Помнишь?
Помнишь, на чахлые розочки раскошелясь, мы отмечали всё, что уже сбылось, помнишь десятки маленьких сумасшествий, помнишь, ты зарывался в лукавый шелест, в гриву и грёзу упрямых моих волос? Помнишь, в кино тайком целовал ладони, помнишь, конфеты вечером приносил? Помнишь, меня выписывали из роддома с маленькой Машкой, ещё ты шутил: «мадонна с куклой», а кукла сладко спала в такси… Помнишь весну, распутицу, новоселье, Машка читала азбуку по складам, папа — уже в больнице, и в воскресенье нам позвонили… ещё ты сказал мне: «Ксеня, я никогда, никогда тебя не предам». Хватит молчать потрясённо, курить бессонно, врать неумело, нежничать невпопад. Хватит казниться, упрямо влезая в ссоры, всё объяснимо, тебе пятьдесят, мне сорок, ей — девятнадцать, в общем, такой расклад. Хватит прощанья, размазанной вязкой каши, в щёчки давай поцелуемся — и пора. Хватит про «бес в ребро» и «судьбе не прикажешь». Хлопнула дверь. Обмираю бесслёзно. Я же создана из твоего ребра…Гитара (прощание)
А была я гулкой, лаковой, бледно-оранжевой и ловила ревнивые взгляды твоих девчат. Ах, как пела я… как любила тебя привораживать, отнимать у всех — самому себе возвращать! А когда ты пел — на скамейке, с дружками-подростками, разложив сигареты, забыв про нехитрую снедь, как любила я золотистой декой отблёскивать, отзываться тебе — и восторженно леденеть… А потом пошло — с переборами-перекатами, До утра… с бесшабашной и звонкой ночной гульбой. Про чужую войну. А потом — про любовь проклятую, обреченным и резким боем — как будто в бой. А потом — невеста, красивая, большеглазая… Очи — песенные… свет бескрайний, синь-бирюза. А она сказала: с концертами, мол, завязывай (будто с пьянством). Любил, поэтому — завязал. Годы-годы — как будто пылью седой припорошены, деньги, дети… скандалы, влёт — из-за ерунды. Что-то тихо вздрагивало, всхлипывало над порожками — про мои лады — про твои семейные нелады. А потом — бросал виноватые взгляды: прости, мол, некогда, и уныло маялся, в год ни строчки не сотворив. Я старела… всеми древесными фибрами, всеми деками, ощущала, как странно мертвеет мой гордый гриф и струна — размотанный кончик — упрямо колется… Ну, давай напоследок, давай: «а в глазах твоих неба синь», И — цыганскую-хулиганскую, на два голоса! Нашу юность — легко проводим, отголосим…Юлька
Добрались на такси, ошалев от ритмичного грохота, и от шуточек тамады, и от винного изобилья. После Юлькиной свадьбы в квартире темно и плохо так: мама с папой, а где ж вы дочку свою забыли? Вещи вывезли. Что-то продали. Но не больно — так, скорее, ноет, кровит незажившей ссадиной. Я курю на балконе. Жена достаёт альбомы: Юлька взрослая, Юлька школьница, Юлька в садике… Юлька в маму. Задорную, прежнюю, милую, не теперешнюю: скандальную, невозможную. Но сегодня — баста. Короткое перемирие. Целовались на свадьбе родители, как положено. Юлька, девочка, славный ты мой комочек! Лишь бы в склоках вам не увязнуть, не омещаниться… Мы и любим-то Юльку — поодиночке. Молча. И любови наши как-то не совмещаются. Выхожу на кухню. Тупо шуршу газетами. Людка машет рукой: ну просила же не мешать! Тихо плачет. На свадьбе дочери — не без этого, но не тянет садиться рядом и утешать. Ладно, Юлька. Желаю тебе… не рожна какого-то…. чтоб на свадьбе — сына ли, дочери — отплясав, не сидели бы, как чужие, по разным комнатам, неизвестно в чём упрекая далёкие небеса…Невеста
Всем кагалом нас провожали до станции, Пели от души, голоса срывая, А кого хотела в мужья — не достался, Вышла за другого — и так бывает. А с утра все бегали суматошно, Я стояла в облаке флёрдоранжа, Тесно от цветов, от парфюма тошно, Сказочное платье — не будоражит… Бледный манекен в развесёлой процессии, В грохоте затерянная соната, Поздно, принц уехал к другой принцессе, Даже не простился, а жить-то надо! Притерпеться как-нибудь, притвориться, Выбросить, как старую одежонку, И ещё — не верить в другого принца… Потому что с принцами напряжёнка. А была бы глупой, была бы слабой, Так бы обвела вас глазами сухими, Так бы в полный голос и завела бы: «Ой, да на кого ж ты меня покинул, Я ли не хорошая, не пригожая, Я ли не любила бы, не жалела?!» Отводила мама глаза тревожные. Да метались ласточки ошалело.Семейная безнадёга
Где смешная такая девчушка с двумя косичками, на каких дорожках забыла свои иллюзии? Вот сидишь ты, собой красотка, анфас классический, и движенья отточены джазово или блюзово. Сериал семейный, банальный такой, некассовый. Поливаешь слезами типичное бабье горюшко. Муж-бездельник бухую правду свою доказывал кулаками, потом бутылкой с отбитым горлышком, «слуш-сюда», «ах-ты-сука», «заткнись-да-я-тебя…» и с таким даже гневом праведным, с укоризною! Кстати, бывший отличник и бывший кумир приятелей. Гений в поиске. Казанова, самец непризнанный. Вся любовь, как из треснутой чашки, взяла и вытекла. Усмиряла его, раззадорившегося пьяницу, шестилетнюю дочку поспешно к соседям вытолкав: проходили, знаем! — а то ведь и ей достанется. …А квартира? А деньги? Стоп, ничего не стронется. Не сбежишь ты от подлого нрава его шакальего. Позвонить родителям, что ли? Да мать расстроится. У нее и без дочки давленье вчера зашкалило.Вторая свадьба
А давно ли, давно ли, давно ли разбирала бумаги и вещи и, в родную рубашку уткнувшись, обезумевшей выла волчицей. В белом крошеве снега и боли, в развесёлой распутице вешней я глядела на холмик уснувший… Всё, не плачется… просто молчится. А потом с неподъёмною кладью на тропинках рассталась пологих. Предала? или просто воскресла? иль прогорклое горе остыло? И — тревожная ночь перед свадьбой. И костюмчик — несвадебно строгий: неудобно рядиться в невесты. И свекровь до сих пор не простила. Это было… как замок песочный… — вот и слёзы из глаз повлажневших — сумасшедшее, милое счастье! Торт в оборках воздушного крема! Я себя соберу по кусочкам, вспоминая надрывно и нежно. Не прощая себе, но прощаясь, я шагну в настоящее время. Пью бессонную ночь, не пьянея. И с чего бы? — в бокалах не вина, а горчащие пряные травы — или опыт печальный, дорожный… Буду жить без ненужных сравнений, не кидаясь к иконам с повинной. Снова ночь перед свадьбой. Как странно… Но возможно…Измена
Всего лишь слово. Резкое, как свет, Нацеленный в глаза, как рокот гулкий, Как нож кривой в оглохшем переулке, Как стылый звон рассыпанных монет, Как спину рассекающая плеть… Прощёлкал ключ в замке. Уже двенадцать. И — не смотреть в глаза, и — не сорваться На крик, а тихо: «Ужин разогреть?» — Ну, нет так нет… Ещё — не оставаться Вот так, глаза в глаза… И — не сорваться Вдрызг, яростно, непоправимо, вдруг… Спасительного телефона круг — А что спасать? Измена — это раб, Убивший господина. Мой корабль Идет ко дну — и прохудилось днище, И паруса уныло ветра ищут, И духу не хватает на вопрос — Один, решающий… Вдруг — невозвратно? Как жаль себя… Жалеть себя приятно И унизительно, и муторно до слёз. А говорят, начните жизнь сначала, Мол, с чистого листа — но разве мало — Порвать, унизить, скомкать чистоту? Откуда взяться чистому листу?! Не удержаться и не удержать, И жечься о костер, не мной зажжённый, И делать вид… и слепо отражать То, проступившее в его лице, чужое, Пугающее… гуще плен теней, И в складочке у рта застыла резкость… О страшная развилка — неизвестность, Которая известности страшней…* * *
Наше прошлое: что ж так быстро-то! Помню — пятнами на холсте… Но спасибо за то, что был со мной, что меня, словно песню, выстрадал, что берёг и не звал в постель, за мальчишескую доверчивость — редкость, право же, мне везёт… За любовь — будто сон о вечности, а не скучненький эпизод. И за ревность — глухую, тайную, пред которой слова бледны, за печальное испытание, за вину мою — без вины… И разлука. И зов «дождись меня… а иначе дурман и тьма…» От обиды — пока единственной — ты неделю сходил с ума. Откровения телефонные, и пирожные, и кино, и стояния подбалконные — лестно? трогательно? смешно?* * *
А года обернулись милостью, одарили тебя женой. То, что слабостью раньше мнилось мне, было стойкостью. Ох, родной, не у каждого хватит мужества спесь и гонор к чертям послав, примириться с любовью дружеской, но не женской — увы, ты прав. И не ждать откровений радужных — на душе и без них черно. Пусть не любит, но рядом, рядом же! — если большего не дано! Сила — это не шваркать по столу, не срываться на крик и брань. Это бережное и острое: «не обидь её… не порань». Жду… Покой. Тишина домашняя. День заботами окружён… Ключ в замке. И твоё, всегдашнее, вечно милое: «Здравствуй, жён…»Жена
Льнёшь, обвиваешь, к телу — прохладный шёлк, Или снисходишь — падшей звездой в ладони, Веки прикрыты, и синий мираж бездонный Тихо погашен… о пушкинская Мадонна, Даже не спрашивай, как я тебя нашёл… Ангел в своей божественной наготе, Что ей постылый кокон земного платья, Золото нимба — локоны по кровати, Господи, я же ей — даже не в старшие братья! — В папы и в дяди… Строчками на листе, Красками на холсте — возносить хвалу, Радугой в небесах — только ты не смейся, Брызгами на песке — «навсегда» и «вместе», Росами по траве — наш медовый месяц… Тихо струится холодный рассвет по стеклу, Сонные звезды гаснут, лукаво шепчась: Так молода, и пленительна, и беззаботна! Господи, я для неё — прошлогодняя мода! Если когда-то она повстречает кого-то, Если, когда-то… Ревную — уже сейчас. Господи, это не чувство, скорее — чутьё, Неизлечимая — ненанесённая — рана… Жрица моя… Божество обреченного храма, Нежность моя… Галатея. Оживший мрамор. Господи, слышишь, я просто умру без неё.Предновогоднее (не дома)
И как будто внутри — хронометр… счёт секунды ведут, хандря. Одноместный безликий номер. Тридцать первое декабря. Как мальчишка, удрал с банкета. Грусть крадётся и стережёт. За массивным стеклопакетом новогодний такой снежок. Стала площадь лесной полянкой — нереальный фотомонтаж. В ресторане кипит гулянка, гром и грохот на весь этаж. Хмель густеет, в душе пустеет — так что ну его, ресторан. Как вы?.. Мишка уже в постели, ты печально глядишь в экран, льётся матовый свет неровный через кухню наискосок. Торт — ореховый, твой коронный. Мандаринки, вишнёвый сок. В телевизоре смех и пенье. Ёлка-барышня на ковре. Как ладошки в воланной пене, ветви прячутся в мишуре. В новогоднем своём домишке зайка старенький и хромой. То-то счастье тебе и Мишке. Как же хочется к вам, домой… С вами — сказка души касалась, охраняла, как талисман. Ну а раньше, до вас, казалось: это блажь и самообман… На банкеты — как на смотрины. Или дома — в питье-нытье. Ну, куранты, ну, мандарины, ну, шампанское с оливье. Досидел до утра, не чуя вкуса радости, как больной, — вот и всё, никакого чуда, очень средненький выходной. С вами — с неба ль звезда скатилась? Кто-то в кофе подлил нектар? Что-то детское возвратилось… ожидания чистый дар. Чтоб салют возле дома в парке — звёзды брызжут на снег вразброс. Чтоб с восторгом найти подарки, чтобы ёлка и Дед Мороз. И ещё — ни за что отныне на порог не пускать беду. С Новым годом, мои родные. Я приеду, я очень жду…Елена Яворская
Быль о Ромео и Джульетте
Джульетте четырнадцать или пятнадцать. Домашняя девочка в синем пальтишке. Романы не мнятся, Ромео не снятся. Ей жить не по книжкам. Ей жить бы потише. Ромео раскован. Ромео подтянут. Любитель брейкданса. Адепт бодиарта. Ромео пробьется — хотя бы локтями. Ромео глядит со спортивным азартом На скромных Джульетт, на отчаянных Юлек. Ромео раскован. Ромео рисковый. Воскресное утро. Глухой переулок. Целуются двое. Роман подростковый. А после Джульетта поплачет в подушку. Пойдёт за Париса. И станет счастливой. Усталый Ромео, вздыхая натужно, Привыкнет взбираться на пятый без лифта. Супруга у двери уже караулит: Давай, мол, зарплату, покуда не пропил. — Не много ль тебе, ненасытной утробе? — Да если бы мне! На пальтишечко Юле. Я синее ей приглядела пальтишко, На улице, глянь-ка, то дождик, то ветер… На фронте семейном сегодня затишье. Сравнялось четырнадцать новой Джульетте.Слоники
Не для трактата сюжет, не для хроники. Маленький фарс со злодеем и жертвой. Жили да были стеклянные слоники, Мирно паслись на хромой этажерке. Были ценимыми, были любимыми… К влаге привычны и к пыли терпимы, Гордо вздымали могучие спины, Солнце держа золочёными бивнями. Не по размеру была иерархия, Каждый — особенный. Воздух и камень. Лунные блики ловили боками, С блика на блик мотылек перепархивал. И, вдохновляясь нечастыми встречами С феей-тряпицей из тёмного фетра, Хором читали, причастные к вечности, Рунные знаки на старой салфетке. Каждый другому — питомец да баловень, Каждый другому — наставник да ментор, Мудро взирали на мелочи палые С дивной горы высотою в два метра. Да, в нарушение норм соционики Жили в ладу Дон-Кихот и Есенин, Гамлет с Габеном. Стеклянные слоники Дружно над пропастью общей висели, Над суетой и домашними сварами, Над непонятной, невнятной эпохой… …Трех детвора отнесла в антикварную. Младшего папа по пьяни разгрохал. Не для трактата сюжет, не для хроники. Маленький фарс со злодеем и жертвой. Жили когда-то стеклянные слоники, Вместе паслись на хромой этажерке.Сонет
Я умру без тебя? Или всё-таки нет? Или выйду гулять перед сном — и уйду По весеннему насту, по хрупкому льду На одну из безводных ничейный планет. Я умру без тебя? Или всё-таки нет? Или выйду из книг погулять — и уйду В ежедневный надрыв, в суету, в ерунду, В судьбоносные шопинг и жарку котлет. Я уйду в телесплетни, в шитьё и в игру У соседей на нервах. Сломаю иглу, Что в яйце. Хэппи-энд узаконит печаль. На безводной планете посею овёс И взращу его плачем и песнями звёзд… Или просто умру без тебя. Выручай.Театрик
Тишина. Тишина — тоньше комариного писка, даже сверчки молчат, будто в сомнении: петь иль не петь? Вот на окне поднимается штора-кулиска. В театрике нашем опять представление. Приходи посмотреть! На кухонной сцене кипят повседневные страсти. Слава цедит слова, как сквозь мелкое сито. Плачет мама. Отрешенно молчит о своём усталый мим Настя. Сезон театральный открыт. Окно открыто. Снова — драма. Мы снова играем жизнь. И снова играем в жизни. Фразы хрупкие упрямо громоздим в горку, только держись. Что там ваш Гамлет-принц? Мы изощрённо-капризней, а в репликах каждый — ну просто Гарсиа Лорка… Занавес. Бис!У Петровых…
Горизонт покривился… Эх, синус — не синус?.. Проще: смайлик, мордашка дурацкая. У Петровых сегодня особая акция под названьем «Семейное счастье на вынос». Делят мебель и деньги, посуду и книги, делят счастье, что в браке накоплено. Делят счастье на части. Разбито, раздроблено… Делят яростно. Плачут. Заходятся в крике. Ну а в небе — как будто в насмешку — облака притворились ромашками.Погадай!
Всё разбросано, смято и смешано. Погадай, погадай, погадай — на вчерашнее.Семейные вехи
Белая зала и праздничный стол. Белый веночек. Белое платье — новейший фасон… …Утречко доброе! Мужу — рассол. Где прошатался всю ночь ты?! Дрых, что ль, без просыпу мордой в газон? Белые вина за белым столом. Белое, белое кружево слов… …Сдохла машина? К чертям этот лом! Нету котлеток. Рассольник и плов. Вина и воды, ситро и… И — Мендельсон, Мендельсон, Мендельсон в звоне хрустальном, в блеске кристаллов… …Дети болеют, все трое… Бой под Полтавой устроишь тем, в автоцентре? Герой без кальсон! Утро осеннее. Брачный сезон. Как я устала…Сильная
Ты сильная тетка, привыкла авоськи таскать и мужа вытаскивать волоком из передряг. Душа каменеет, на камне гнездится тоска, сквозь камень любовь прорастает — убогий сорняк. Тая беспокойство до лучших (до худших?) времён, ты близких своих направляешь спокойной рукой, увесистым словом и даже, бывает, ремнём. Завязаны будни и праздники в узел тугой. У дочки не ладится с парнем, у сына синяк, и плачется вечно подруга — мол, нету плеча. Домашним борщом заедаешь несчастье-печаль и чай ледяной попиваешь, как добрый коньяк. Подруга малюет лицо и за модой следит, вон, юбку пошила с воланом смешным позади. На куртку твою не позарится пьяный бандит, зато в ней тепло, хоть все утро по рынку ходи. Мечтается дочке: богатенький муж, кадиллак… Ты тоже мечтала, да только не помнишь, о чём. И тлеет избушка, и конь закусил удила, и дождь ошалевший последние астры сечёт.Марь Иванна
У Марь Иванны крепкая семья, в супружестве она двадцатый год… …Бывает, муж напьётся, как свинья, и в кухне пиво жрёт — баклуши бьёт. У Марь Иванны красное пальто, и новая прическа ей идёт… …А новый босс — ну просто скот скотом, соседка — стерва, деверь — идиот. У Марь Иванны — множество подруг, гостей и визитёров полон дом… …Стирай да гладь не покладая рук, И всё равно — бомжатник и содом. У Марь Иванны — вечная весна и ни намёка нет на седину… …Как хорошо, что есть на свете хна, она удержит вечную весну!Пятидесятилетний
Всю ночь смотрел футбол — А там опять ничья! Начальник вечно зол — Судьба невольничья! Измаялась жена По шапке норковой. А дочка влюблена, А тот — из Горького. В кармане кошелёк Бомжово-тощенький. И как всегда не в срок Примчалась тёщенька. Пивко в ларьке опять Почти кипящее… В мечту бы убежать Из настоящего! Туда б все мужики Ушли-уехали… Предзимние деньки. Судьба с прорехами.Дорожный этюд
Шелуха в кармане — Семечек останки. Едет Ваня к Мане, К Маньке-хулиганке. Скачут перелески Словно в дикой пляске. Поделиться не с кем Ожиданьем ласки. В душной электричке Не до откровений. Каждый по привычке Коротает время. Клинтона и Буша Обличает кто-то, Кто-то бьет баклуши, Борется с зевотой. Кто-то пиво хлещет, Жаль, что нет закуски, И в беседе блещет Непечатным русским. Кто куплеты тонким Голоском выводит. Кто поверх котомки Дрыхнет на проходе… Едет Ваня к Мане, Едет без опаски — Ловко от мамани Навострил салазки. Служба контрразведки Мама у Ванюши: Вкрадчивость левретки, Доберманьи уши. Мигом примет меры, Если что учует. Хватка бультерьера: Схватит — замордует. Едет Ваня к Мане В ближнюю деревню. Едет на свиданье К Марьюшке-царевне. Маня у окошка Заждалась, поди-ка. На столе лукошко — Свежая клубника. На столе грибочки, Водочка в стакане… Впереди — две ночки… Едет Ваня к Мане.2. (Несколько лет спустя)
На морозце даль упруга. Вьюги путь запорошили. Впрочем, что мороз и вьюга, Если пьян Иван Василич? Телогрейка тело греет, Ну а водка греет душу. Ну-ка, поезд, мчи скорее! Заждались, поди, Ванюшу. Поднажми, родной, немного! А теперь — ещё немножко!.. Будет ветер нам подмогой, Будет скатертью дорожка. Ваню в ближней деревеньке Ждет Маруся у окошка. Поднажми, родной, маленько! А теперь — ещё немножко!.. На морозце даль упруга. Ваня Маню видит редко. А супруга — что супруга? Просто вздорная соседка. А детишки — что детишки? Как ни глянешь — все в мамашу. Доведут отца до крышки. Спиногрызы, мамку вашу! Тёща? Не найдешь и слова, Анекдотом сплюнешь злобно… Но всегда принять готова Маня, Марьюшка-зазноба. Под зелёным абажуром Посидеть уютно рядом. Окна в инее ажурном… Что еще для счастья надо? На морозце даль упруга, Лес застыл, как изваянье… Впрочем, что мороз и вьюга, Если едет Ваня к Мане?..Цыганочка. Без выхода
— Подскажи, дорогой, как к вокзалу пройти?
— Это вам надо на автобус, номер четыре. Ну, или маршруткой. Тридцать восьмая идет… Пятидесятая, по-моему… Или нет, пятьдесят первая.
— Дима, да что ты, в самом деле! Она не хуже тебя знает, где вокзал, где автовокзал, а где пункт приема лохов!
— Ай, золотая моя, зачем ругаешься? Хочешь, про тебя всё скажу?..
— Я о себе сама всё знаю, иди своей дорогой… на фиг!
— А ты, парень? Хочешь знать, что будет? Не веришь? Ну, хочешь, скажу, что было? Ты добрый, я тебе просто так расскажу, без денег…
— Дима, пойдём!
Прохожие — из тех, кто мог позволить себе роскошь побыть зевакой, — охотно наблюдали прелюбопытнейшую сценку: решительного вида девушка тянет на буксире беспомощно оглядывающегося юношу, а следом подметает асфальт юбкой цыганка в красном платке, тоже совсем ещё молодая.
— Всё скажу! Всё, как есть, скажу! Что было, что будет…
— А милиционеру вон тому погадать не хочешь, а? Вы же, вроде как, к одиночкам обычно привязываетесь, какой тебя чёрт принёс на наши головы?
— Оля, подожди, — парень высвободил руку, остановился. — Ну, говори…те, что ли… если на вокзал не опаздываете.
— К чёрту на рога она опаздывает!
— Подожди, Оля. Пожалуйста. Рассказывайте.
— Я тебе без денег рассажу, только дай вещь свою какую-нибудь, я тебе потом верну.
— Вещь? Какую? Носовой платок подойдёт? Вы не беспокойтесь, он чистый…
— Нет, дорогой, платок — не то. Золотую или серебряную надо, а то неправильно скажу!
— Дима!..
Парень помедлил мгновение, размышляя, — и снял с пальца обручальное кольцо. Спутница пыталась остановить, потянулась к его руке — да ухватила воздух. Очень уж быстро и легко соскользнул золотой ободок. Не прижился ещё на пальце.
— Ты умный, учился хорошо, и в школе, и в институте, — без предисловий принялась вещать цыганка. — Книжек много прочитал…
— Да у него же, у ботаника, на лице это написано! Ты очки-то не втирай!
— Ай, яхонтовая, не перебивай, а то неправильно скажу!.. Девушка у тебя была — не эта, другая. Любил ты её крепко…
…Динка. Какое нелепое слово — «была»! Ты есть, ты совсем рядом. Стоит сесть на автобус номер четыре, доехать до вокзала, а потом — два часа на электричке и… Нас же всегда было двое — Димка и Динка, нас так и дразнили, вместо обычного «тили-тили-тесто»!..
— А ну кольцо отдала живо! Я сейчас в милицию… — ожесточенно, ворчливо скрипят кнопки мобильника.
Он очнулся.
Цыганки и след простыл.
На пальце — белёсый след от золотого кольца.
В небе — белесовато-золотое вечернее солнце.
Подходит к концу пятый день семейной жизни.
Обязательства
Михалыч читал Бунина. Второй выходной кряду, с одним перерывом на время трансляции футбольного матча. Пиво и сигареты были предусмотрительно размещены на нижней полке журнального столика — чтоб не бегать. Телефон молчал — жена перед отъездом на дачу успела известить всех подруг и просто приятельниц, что, дескать, уходит от своего и вообще подаёт на развод. Попутно узнала у Людмил Ванны рецепт засолки каких-то совершенно особенных огурчиков (на листочке с записью так и обозначено «Огурчики особенные»), а у Галюси выяснила подробности личной жизни людмилванниной дочери, собравшейся вступить во второй брак (об этом разговоре никаких письменных свидетельств, понятно, оставлено не было). Попутно пожалела всех замужних женщин, вздохнула с притворным облегчением: «Ну, хоть детей нет, хватило ума…» и осведомилась: «А ты Людмилваннины огурчики пробовала? Ну и как?» Ответа на последний вопрос Михалыч так и не узнал. Впрочем, эта проблема и не трепетала, как только что пойманная рыба в садке. В отличие от прочих.
Михалыч знал модное словцо «депрессия», но не вполне понимал, что оно означает. Думалось — что-то сродни похмелью, только, наверное, ещё хуже, потому как ни от пива, ни от рассола не легчает.
Была бы рядом живая душа… Хоть кошка, не говоря уж — друг.
С друзьями Михалыча жена боролась с тем же упорством, что и с тараканами. До полной победы. То есть пока не извела и тех и других. Так что и телефон молчал, и посоветоваться было не с кем. От идеи позвонить Таньке, старшей дочери, Михалыч отказался сразу же — яблочко от яблони, а он, папаша, — при них вроде садовника. Насчёт меньшой, Ольки, поколебался — она, конечно, посочувствует… но в конце концов тоже станет на сторону матери, было ведь уже, и не раз. Шевельнулась странная, как яблочный червь, прописавшийся в гамбургере, мыслишка: а ведь имена-то у дочек прям из «Евгения Онегина»! Михалыч и сам не помнил, как оказался у книжной полки, снял с неё томик Бунина (почему Бунина, а не Алексан Сергеича?.. вопрос без ответа), смахнул пыль, прочихался и…
Михалыч читал. И ему казалось: если бы Бунин жил сегодня, то непременно написал бы о нём, Иване Михалыче Подобине, слесаре-инструментальщике с тридцатилетним непрерывным стажем. Написал бы об этом вот муторном дне и вообще — о позднем разочаровании в семейной жизни. Приукрасил бы, конечно… ну, например, придумал бы ему, Подобину Ивану Михайловичу, молодую любовницу, похожую на Алинку из бухгалтерии. И ясно было бы, что из-за неё, из-за Алинки чернобровой… то есть из-за молодой любовницы, которую придумал великий писатель, от героя, то есть от Ивана Михайловича Подобина, ушла жена. Ну не рассказывать же, в самом деле, что у Михалыча позавчера в троллейбусе сперли получку? Нет, он не был пьян, просто немножко обмыл — даже не с товарищами, не с теми, кого Валентина громко именовала «собутыльниками». Так, одиноко и скучно пропустил пару кружечек пива в баре «Работяга», вольготно расположившемся в арендуемом у завода помещении бывшего клуба. Пара кружек — это ж даже не разминка. Ну, разве что по жаре разморило… А жена озлилась, начала талдычить что-то там насчёт последней капли. Любимое словцо, ага. Помнится, лет двадцать тому назад требовала клятвенных заверений, что Михалыч больше капли в рот не возьмёт. Теперь-то всё больше — про последнюю каплю, переполнившую чашу её терпения. Михалычу живо представилось: капли, полновесные такие, будто бы свинцом налитые, срываются с края чаши и бьют его точ-нехонько в темечко. Одна за другой, одна за другой… пытка!
Михалыч не оправдывался. Не хотел Валюху подзадоривать. Тем более что выходные она собиралась провести на даче. Вот и уехала. Разве что на прощание напомнила:
— Паспорт в своем бардаке откопай, придурошный. В понедельник в загс поедем.
— В понедельник в загсе выходной, — проявил осведомленность Михалыч.
Два месяца назад Ольку замуж выдавали. А на память Михалыч никогда не жаловался. Да, из года в год забывал поздравить Валюху с днем свадьбы… ну так дату же помнил! А если поднапрячься, мог даже день знакомства назвать. Ну да, двадцатое октября. Днем раньше Ваня Подобин устроился на завод, а в этот день впервые пришел в столовку, поварихой в которой была Валечка Севрюгина… Ой, а Валюха на его фамилии останется или свою девичью возьмет? Помнится, она просто мечтала избавиться от отцовской, в школе, видите ли, дразнили. Велика беда! Но Валюха может сделать трагедию из чего угодно. Даже над сериалом нет-нет да всплакнёт. Впечатлительная, да. Но до бунинских героинь ей — как супу из бомж-пакетика до свежего борща… А борщ Валюха варит знатный, этого у неё не отнять…
Если бы Михалыч умел складно подгонять друг к другу слова, он бы мог рассказать о своей семейной жизни витиевато, с выдумкой. А мог бы и попросту, как было на самом деле. И тогда спросил бы читателя: как должен чувствовать себя крепко-накрепко связанный человек? Части тела сначала немеют, потом отмирают и превращаешься ты в бревно, лежащее на диване перед телевизором. А ведь, шутка ли сказать, многих баб бревно в качестве супруга вполне устраивает: вот он, родной-благоверный, не у любовницы, не с корешами где-нибудь квасит, а лежит себе чинно, присмотрен, обихожен. И та, которая обихаживает бревно, неизмеримо выше в глазах приятельниц, нежели одинокая, которая поливает слезами фикусы.
Много лет назад Валюха поймала его в капкан. Приманкой были борщ и жареная картошка. Много ли мужику надо? Потом крепко связала будущим ребёнком и на трамвае отвезла в загс. Штамп в паспорте — путы для мужчины… наверное, всего лишь непутевого, ну уж никак не беспутного. Разве беспутный включился бы с таким азартом в благоустройство… жена верила, что — гнезда, но его чутьё подсказывало — клетки? И мечталось: вот родится Иван Иваныч, будет с кем на рыбалку, на футбол… Родилась плаксивая Танька, большая любительница нарядов. А потом — тихоня Олька, которую всегда обижали в школе. Думалось — вот будет внук, тогда… Танька родила Валюху-вторую. Это значит — всё по новой.
За тридцать лет Валюха-старшая трижды подавала на развод, аккурат раз в десять лет. В первый раз — ещё до рождения Ольки, когда вдруг решила, что жизнь у неё неправильная, потому как свадьба была неправильная. Кто ж в загс — да на трамвае? Вот Галюсю в загс доставил кортеж из пяти машин, сто человек на свадьбе два дня гуляли, при таком размахе и семейная жизнь будет — полная чаша… Тогда слова «полная чаша» понимались Валюхой только в одном смысле — материальное благополучие. Нужно было прожить еще двадцать пять лет и пережить еще одну попытку развода, чтобы полной стала уже чаша терпения. Вторая попытка приключилась тогда, когда Валюха решила закрепить за собой бабушкину жилплощадь. Ага, раскатала губы! Бабушка Валюху прописать отказалась наотрез, квартиру отдала любимому внучку, Валюхиному двоюродному братцу… вот уж кто шалопай и алкаш, а вся Валюхина родня по женской линии ему, Ваньке Подобину, до сих пор глаза колет — вон, Сёмка на халяву трёшку отхватил! а ты, кабы пиво не пил, давно в хоромах бы жил…
После второй неудачной попытки всё двинулось по накатанной: профилактическая ссора раз в неделю, крупная — раз в месяц. Когда пошла мода на гороскопы, Валюха объявила, что Дева (это она-то — дева? угу, была, когда олимпийский мишка в небо летал… и эдак с полцентнера тому назад) не может рассчитывать на благополучный брак с Тельцом, а вот ежели бы он, Михалыч, был Козерогом, тогда бы…
И плевать, что этот Телец, Ванька то есть, тянет, как вол!
Наверняка не один его честно заработанный аванс осел в карманах всяких знахарок: сначала Валюха решила отвратить супруга от выпивки, потом ей вдруг втемяшилось (не иначе как кто-то из бабок подсуетился с рекламой), что на Танечке этот… венец безбрачия. Танечка тем временем, начесав на голове колтун высотой с Останкинскую телебашню, благополучно встречалась на съёмной (опять же — за отцовские деньги) квартире со своим Данечкой. Ну а Михалыч, само собой, проводил одинокие вечера в компании полторашки пива и пары сушёных вобл…
Очень кстати вспомнилось! Чуть было не плюхнул на стол пустую бутылку. Суеверие, конечно, но по такой жизни — чем чёрт не шутит? Смахнул в ведро обглоданные рыбьи останки. Новая бутылка, новая вобла, новая страница… пока что — книжки. А может, и в жизни открыть, как это говорят, новую страницу?..
…Валюха вернулась домой поздним воскресным вечером. В одной руке ведро с огурцами, в другой — пакет со специями. Принюхалась… интересно, бывают служебно-розыскные мопсы? Визуальные следы приятного времяпрепровождения Михалыч предусмотрительно убрал да и проветрить все комнаты не забыл. Так что — предъявить нечего. Сожалеюще помолчала. А потом:
— Ты машину починил?
— За какие, мать, шиши?..
— А это не мои проблемы, не я деньги профукала. Как хочешь, но на трамвае я разводиться не поеду!..
И жили они долго и счастливо. Потому что сердобольный автослесарь в присутствии обоих супругов посоветовал гуманно сдать многострадальный семейный «Жигуль» в металлолом — и не отрёкся от своих слов даже за бутылку чистейшего, как помыслы Михалыча, Валюхиного самогона.
Анна Попова Одиночества
Колея
Ты же знала, что это и мрак, и морок, Это как траектория русских горок, Он женат, и ему хорошо за сорок, Сын, и дочь, и какой-то модный отель, Ну а ты — не холёная светская львица, Не певица, а попросту продавщица, И тебе этой осенью стукнет тридцать, Да и внешне ты, в общем-то, не модель. Это всё было черным по белому писано, Распечатано, свёрстано, переиздано, Руки прочь, он женат! — прописная истина! Ну не веришь — так хоть у кого спроси, А расстанетесь — кто за тебя заступится? Ты не спутница, деточка, ты распутница, Ну и чёрт его дёрнул с тобою спутаться… А доказывать что-то не будет сил. Ну а если не так — а белым по-чёрному, По-другому, по-вечному, по-обречённому, Просто жизнь — ведь она ж не машинка счётная, А скорее безумный шекспировский «Сон…» Помолчать бы, опомниться бы, разобраться бы В этой вашей божественной регистрации, Тонкий росчерк, и вот — по небесной рации На двоих — не заказанный Мендельсон… Боже, как он устал от этой трясины, От надзора жены и от выходок сына, Он не ноет, ведь он — настоящий мужчина, Но тебе и не нужно его нытья. А подруги торопят, мол, скоро тридцать, И пора бы хоть как-то определиться… Вот такая знакомая пьеса в лицах, Вот такая заезженная колея…Бабье лето
Не смотри ни пристальней, ни чаще В сон забытый, Юности, до срока уходящей, Не завидуй, Вот она — нагрянула, накрыла, Захлестнула, Раз — и нету. Птицей белокрылой Промелькнула. Не тоскуй же, стоя на пороге, Не зови же! Не откликнется она, не дрогнет, Не услышит… Что-то доцветёт холодной зорькой, Раз — и нету. Не глаза, а сердце будет зорким. Бабье лето… Бабье лето… Листьев половодье, Луг застелен, Поздняя любовь по жилам бродит Диким хмелем… Не пытай судьбу о том, что дальше, — Дверь закрыта. Юности, до срока уходящей, Не завидуй…Одиночка
…Что ж ты плачешь — навзрыд, авансом На ближайшие тридцать лет? Не бывает второго шанса, Если первого шанса нет, Ну, ушел, улизнул и скрылся По-английски и без звонка — Не в железных доспехах рыцарь, А железка из-под пивка! Не проси у судьбы отсрочку, Не встречай соседей в штыки, О тебя теперь, одиночку, Вмиг зачешутся языки, И старушки вытянут жала, Загудит мужичьё-хамьё, Чтобы крепче в руках держала Светло-русое счастье своё… А реветь — не реви, успеешь, Всуе Господа не тревожь, Что захочешь — то и посеешь, Что посеешь, то и пожнёшь, Будут плюшки-кружки-игрушки, Будет девочка, будет дочь… От будильника до подушки Будешь лямку свою волочь. И плевать на кутил и боссов, Что упрямо зовут в кровать, И на разных молокососов, Между прочим, тоже плевать… Будут снов золотые угли, Непогашенный жар золы И коньяк на двоих с подругой, И припев: «Мужики — козлы, Мол, коня на скаку остановим, Реку вычерпаем до дна!» И закусишь губу до крови: Что ж, я, Господи, всё одна?! И, замазывая морщины, Сериальный выпьешь рассол… Вот и старость — её личина, Вот и старость — её лицо: Стрижка-химия «белый пудель»… Кто помилует, кто спасёт? Это всё ещё только будет. Только. Будет. Вот это всё.2.
Вот не надо про мораль. Не читайте проповедь. Про детей да про мужей, про позор в дому. Жизнь — на то она и жизнь, чтоб её распробовать. Чтобы дальше передать… Если есть — кому. Да, как белка в колесе. Худенькая белка я, Шасть — и в норку. И домой. И себе в припас… В суматохе двух работ не хожу, а бегаю, Нет, летаю по земле! Для семьи — для нас. Воскресенье, полный двор. Малыши горластые. Старый стол под сводом ив — добрых великанш. Нераскрашенный альбом, новые фломастеры. Осыпается жасмин, грустный флёрдоранж. А в песочнице друзья — карапузы местные, Роет яму до земли мой чумазый крот… Только бабки всё гудят — околоподъездные: То «бедняжка», то «позор»… кто ж их разберёт? Печки-лавочки свои хватит за глаза вести, Чтоб вам, старым, не сказать: «Бог тебе судья!» Я-то счастлива, а вы… сдохнете от зависти, Ядовитою слюной напрочь изойдя! «Эх, не выдали тебя замуж по-нормальному», Мама-мамочка, не лей слёзы в три ручья. Сын, ребёнок… столько сил ты даёшь, мой маленький. Я ничья, верней, твоя. И сама своя… И не войте надо мной вздорными кликушами, Я безмужняя жена, но не всё ль равно? И не сватайте меня. Яблочко надкушено, Да с кислинкой, да не всем по зубам оно!..Предсказание
Нагадала парнишке — хорошее ли, плохое ли, Прибежал — помоги, мол, не то убью себя… Что ж, она — из богатых, её ублажали-холили, И красивая: губки-вишенки, глазки-бусинки… Он, конечно, влюблён — так отчаянно, безвозвратно и Безнадежно — безденежье, обнищание. Он, конечно, уйдёт — добывать себе славу ратную, Безделушку подарит ей на прощание… А военное время по тропам дождём лило, И хлестало, и небом слепило пылающим. К ней сваты за сватами. Ей весело. И она не ждёт его. У отца на примете богатый соседский лавочник. Тут и свадьбу сыграли — на счастье посуду разбили. И помчались годы, и — вот она: щёки заревом, Расплылась, раздобрела на мужнином изобилии, Хоть полотна пиши — пышнотелая баба базарная. И, как водится, зори майские, цвет черешневый, И, как водится, пел соловушка — птаха райская… Он вернулся — красивый, медалями весь обвешенный, Взгляд орлиный и выправка генеральская. Он — в родительский дом. Схоронили давно родителей. Вниз по улочке зашагал, как былинный витязь. А она у окошка — высматривает посетителей. Он вошёл — вот и встретились. Вот и свиделись. Он молчит. И она… Растерялись, как дети малые… И головка её в чепце виновато клонится… Он молчит. Он любил её. Он вспоминал её — В том аду, где вообще ни о чём не вспомнится. Он молчит — ей далекие битвы и громы слышатся, И ещё — как всю ночь перед свадьбой стонала птица… Ей немного стыдно себя — вот такой, расплывшейся, Впрочем, стыд успел уже притупиться… Он уходит — опять уходит. Чуть-чуть сутулится, Но шаги отмеряет сурово, легко и чётко. А она безнадёжно глядит и глядит на улицу, Теребя векселя и банкноты, как будто чётки…Напутствие
Ну сядь же, родной, ну выслушай, помилуй — и пожалей, коснусь я, как смысла высшего, неловкой души твоей и выдохну шелест имени, склонюсь к тебе на плечо, очисти, благослови меня… О, как же ты юн еще… Ещё не сомкнёт строфа уста, ещё в уголке души не зреет молитва Фауста: «О молодость, не спеши…» Послушай меня, я тоже смотрела из-за кулис, я тоже была, прохожий, прохожий, остановись, я тоже любила — грешница! — вериги свои влача… Налжёшься ещё. Натешишься раскаяньем палача. Любовь — это рай спасённый и злая полынь-трава, прости меня, мальчик весёлый, за то, что она такова… Устав от словесной ветоши, и письма, и письмена сожжёшь… Погоди, наверишься, налюбишься допьяна, надумаешься, намаешься, свершишь над любовью суд, а после поймёшь, мой маленький, что вовсе не в этом суть… Нагневаешься, напечалишься, надкусишь плод бытия… Вперёд же — ладья отчалила, скользит по волнам ладья…Незнакомство
(23:05)
— Знаешь, ветер стучит в виски. Бьёт в окошко тяжёлой веткой. Может, это не по-мужски… Но побудь-ка моей жилеткой. Не красавец, и не звезда. Не отличник. Сто лет не плакал. Вот, роман пишу — иногда. В сеть выкидываю по главкам. Раз в неделю влезаю в чат. Одинокий — шучу! — как парус:) Допоздна на работе парюсь. Ценят. Пользуются. Молчат.(23:16)
— Знаешь, сто вечеров подряд Телевизор, тоска, вязанье… Неудачно женился брат. Дома плохо. С утра — экзамен. Мне бы небо… и два крыла, За спиною не крылья — клочья… Летом бабушка умерла. И в деревне дом заколочен. Мама плачет из-за отца, Парень медленно остывает. Просто — чёрная полоса. Не грусти. Ничего, бывает:)* * *
Им весь день протерпеть, бодрясь, Притворяться легко и жутко… Им садиться — в который раз — Возле сквера в одну маршрутку. Прятать скуку в пылу бравад, Тосковать и острей, и чище, И друг друга не узнавать… Он высок и сутуловат, У неё в пол-лица глазищи, Им бы только взглянуть, позвать! Но ни фоток, ни адресов: «Аська»: вечером стук в оконце:) Утром — душеньку на засов, Откровенья — в стальные кольца. Каждый скован и заклеймён Этой ложью чужих имён — Безопасного незнакомства.Вслух и про себя
Гвалт, суматоха, огни, зонты, На светофоре — красный. Сумерки. Тихое: — Это ты? — Я, — отвечает. — Здравствуй… — Как ты? (Привычная боль, знобит, Вновь мы с тобой — на равных…) — Помнишь? (Ну как я могла забыть…) — Помню (Как соль на раны). Встреча — нелепа, слова — туги, Люди, в толпе одна ты. — Замужем? (Нет. Если да — солги.) — Да (Не солгу, не надо.) — Дети? (Как холодно. Дождь утих, Небо серей и шире. Помнишь, хотела себе двоих.) — Двое, уже большие. — Я разошёлся. (Слова на вкус Вновь отдают кислинкой.) Дочка у мамы. Четвертый курс. Дочку зовут Алинкой. (Да. Как тебя… Но хотел не так, Просто — тоска и полночь…) — Да. Как меня… (Мой смешной чудак, Значит, немножко помнишь.) — Как ты? (Короткий мой поводок, Солнце в моём кармане… Как ты, родная?) Усталый вздох. Ты говоришь: — Нормально… Как на работе? — Стою в конце Этих крутых ступенек. Знаешь, работа — не самоцель… Не для души — для денег. — Я постарела… Да нет, взрослей Стала. Мудрей — не стану… В августе — веришь ли? — юбилей. Вроде бы всё по плану… (Только на сердце твоем замок, Только не я был рядом.) — Зря я тогда… — оборвал, умолк. Тихо сказала: — Зря ты … (Зря я уехал. Пустой вокзал, Вечер, вороний клёкот.) — Помнишь, ты в юности вырезал Белые самолёты, Весело… это была игра Солнечных эскадрилий. — Что ж… До свидания… Мне пора. В общем, поговорили.Встреча
Подлое время, напрасные стоны молитв. Серая пыль оседает на глянце дорог. Встречи не с теми — бессчётные встречи мои, Хохот судьбы… надо мною хохочущий рок. Ждать эпилога, смириться, упасть и не встать? Тонкая жилка тропы среди мрака и зла. Эта дорога устала напрасно петлять, Эта развилка однажды к тебе привела. Сколько отчаянья щедро бросала судьба, Сколько случайностей, грёз над пустой ворожбой, Не обмани — это зов мой, призыв и мольба. Не оттолкни — это заповедь, наша с тобой… Вот она, встреча! — не пышный помпезный букет, Вот она, вечность! — не праздничный шик напоказ, Просто — прохлада ладони на влажной щеке, Вдосталь — до боли, до слёз, и впервые — для нас… Выстрадать — каждое слово, и ласку, и жест, Выпросить — гул поездов и рассветную тишь, Выдержать наши разлуки, наш горестный крест, Выбежать утром, а ты на пороге стоишь…Плач
Слова на нитку нанижу — Дрожат и крутятся, Сойду с ума со скулежу, Одна и грежу, и грожу, Не павой-лебедью хожу, А серой утицей. Ой, зори ясные зимой, Снега атласные, Да отчего ж метель стеной, Да отчего ж ты, сокол мой, Глядишь неласково? Душа остыла, в горле вой, На лбу испарина, И всё, что прожито со мной, Другой подарено, Коса густая, кудри — смоль, Глаза суровые, А щёчки — как заря весной, Попал на стерву голубь мой На чернобровую…. Мы с вьюгой — ночку напролёт: Разноголосица… Она скулит, к окошку льнёт И в избу просится. — Кружи позёмкою, кружи, Зову легонько я, — Ну, поюродствуй, поблажи, Ну, погадай, поворожи На горе горькое… Стою с иконкой, чуть дышу, Простоволосая… Беду, как рубище, ношу, А ей износу нет…Первый раз
Он шутил: «Разговоры на первое, ты на второе», целовался по-взрослому и не хотел прощаться. А потом скопировал нежность киногероя и сказал, что у нас в запасе около часа. Потушил окурок о блюдце на подоконнике, подошёл к двери, щелчком протолкнул задвижку, никого же нет… наверное, так спокойнее. Я люблю тебя. Но бывает, что — ненавижу. Помню тусклую лампу, часы и диван разложенный, помню радио — «Подмосковные вечера» поют, я была неловкой, нежной, слегка настороженной, и всё время казалось: ключ о замок царапает… Допивали чай, подошёл твой папа… молчала и смотрела в чашку, зажав кулачок от боли. Провожал домой, прижимался как бы случайно, всю дорогу болтал о своём дурацком футболе. Первый раз — неужели он не достоин лучшего, чем вот так, на скрипучем диване, с дворовым мачо обесценивать счастье — ворованное, колючее, засекая время, как на футбольном матче…Он
постони, мол, «не надо, сжалься…», будь же гибкой, сродни плющу, вот поклянчи, поунижайся, а потом я тебя прощу, в тихом плаче распялив губы, пошепчи мне, пошелести, начинай же: мол, не могу, мол, без тебя не могу, прости. а не станешь — тогда не очень-то и хотелось. да не реви, без тебя претендентки — в очередь, по расчёту и по любви. мне-то, в общем-то, фиолетово, но они — не тебе чета, и раскованы, и без этого — «стоп, достаточно, всё, черта», море денег, любви, гламура, рестораны, юга, такси, так что ты не сиди, как дура, и прощенья давай проси. ну же, громче, давай, не слышу. улыбается свысока: так и сдохнешь ты серой мышью, старой девой без мужика, вот он сердится: мол, не то всё… он — святое, твоё, ничьё… но при этом — хорош чертовски. в теле паника и нытьё. он роняет слова тугие, потешается вдрызг и всласть, но при этом — глаза такие, что вот так бы и отдалась, век таскать бы его обноски, петь от радости в западне… он прощает по-казановски. примиренье — «иди ко мне»… вот и всё. расцепились, вялый поцелуй… потерпи, не ной. и самой смешно от усталой, каждодневной мольбы ночной: пусть продлится вот эта дольче вита, господи, ну рискни, сохрани его на подольше, мне, рабе его, сохрани, ты же милостив, ты же можешь — чтоб не выть, не лежать пластом… пусть он будет моею ношей, пусть он будет моим крестом…«Что наша связь?..»
Что наша связь? — Не счастье, и не грязь, И не постылый брак, А так… А так же, как у всех. Не стыд, не грех, А горестный удел Единства тел Без единенья душ. На сердце сушь. И наважденья час, Изнеможение закрытых глаз И губ закушенных, и слов навзрыд. Ярчайший взрыв, На грани боли — наслажденья зов. Что перед ним и стыд, и кровь, и кров… Всё было так… Но остается мрак, И вот любовь уже не храм — кабак! И послевкусье горького винца… До капли, до конца Уходит свет. Вновь холод и озноб, Что наша связь — смешной калейдоскоп, Стекляшек вязь… А тело помнит грязь, И я держусь уверенной рукой За горький, обретённый вновь покой. Но вдруг — из бездны, из её глубин Любви забытой — незабытый гимн! Нестройный хор коварных голосов… На грани боли — наслажденья зов.Соперница (Ненависть)
Дельный совет, о да, возлюбите ближних, дальних и всяких-разных — такой пустяк. Я бесконтрольно, беспомощно ненавижу, злобствую… оказалось — могу и так, если поток сознанья сосредоточен чёрной воронкой, взбесившейся кутерьмой, ты надоела, ты мне мешаешь, очень. Это до отвращенья (к себе самой). Молотом по вискам — пропадаю, глохну, губы кусаю, до Бога не достучась. Эй, дорогая, тебе там ещё не плохо? Хоть вполовину, в четверть, в сотую часть?! Ты же смогла прокрасться к нему, прорыться, видя во мне простофилю, но не врага!.. А посиди у разбитого у корытца, у прогоревшего, стылого очага, в пропасть и в ад кромешный сверни с дороги! Что же я… всхлипы, проклятия вразнобой… А, подниму бокальчик — твоё здоровье. Ты надоела. Царствуй, и чёрт с тобой.Найди
тишина — будто ком в груди, ночь — исплаканная, блажная. так бывает. одна, одна я. безнадёжно сиплю: «найди…» одиночество затаив, от никчемности холодею. репутация старой девы. потрясающий мой наив. неужели и ты один?! как представлю — мороз по коже. несчастливый, родной. такой же. ты, воззвавший ко мне: «найди…» ты — мой вымечтанный, живой, ты — мой выплаканный ночами, поразительно, изначально мой… достаточно? о, с лихвой… я хотела, чтоб на ветру целовались мы у подъезда, чтобы вскоре — твоя невеста, (а не гостья в чужом пиру!), чтобы дети… чтоб сын и дочь, чтобы ты обнимал с порога, (здравствуй! — голос легонько дрогнул), чтобы дома — смешной галдёж, чтоб не мучиться посреди посторонних семейных счастьиц! чтоб лучиться, чтоб излучаться, растворяясь в твоём «найди»!.. губы — шёлк, наслажденье — шок… взгляд — ожог, и волной по телу… чтоб на зов спешить оголтело, чтобы вместо «найди» — «нашёл»!.. чтоб воскресный поход в кино, чтоб щекою к плечу — блаженство… мне отказано в самом женском. не сподобилась. не дано.«В стеклянных кружках уютно пенится…»
В стеклянных кружках уютно пенится, А в баре сумрачная жара. Нет, я не враг тебе, не соперница — Твоя обманутая сестра, Возьми его и держи на привязи, На поводке, на крючке, на шнурке! Ведь он — родниковый глоток без примеси, Шальной вираж и крутое пике, Ты доля его… но не доля — долька! — Одна из долек, одна из вех, Кричишь: он мой! Но спроси: надолго? — О нет, — отвечу тебе за всех… Терпи, люби, обмирай восторженно! А время пущено во всю прыть, Потом не жалуйся: мол, за что же мне? Отвечу: — Только за право быть: И вознесенной быть, и униженной, И красить жизнь в иные цвета, Легонько гладить затылок стриженый, И лоб, и складочки возле рта… А позже — тихо задуй свечу свою, Забейся в норку, замри в тени. Он твой — смирилась. Он твой — сочувствую. Спасать не стану — уж извини…Отпусти
О этот голод по тебе — Утробный, жадный и бесстыжий! Так отпусти же, отпусти же… Но не отпустит, хоть убей. Прощенье — это ремесло, Забвенье — выгода мирская, Так отпусти — как отпускают Грехи — безгневно и светло… Ну, оброни меня, как лист, Коснись его шершавой кожи, Он весь морозом искорёжен, А ветер гонит: «Шевелись!», Но там, внизу, на мягком ложе Его собратья заждались. Печальным древом у реки Стою в безветренном покое: Тут — жизнь, а тут — уже сухое… Давай, не бойся, отсеки! Высвобожденье. Боли нет, Одна продуманность ухода. О милосердная природа — Она и в смерти носит свет, А я — хотела быть живой, То смерч, то волны, то грозу мне! Насколько проще и разумней Её порядок вековой… Немножко о женской силе и слабости1.
…А у неё — оладушки, занавески, Наив и преклоненье — берёт зевота. С недавних пор эта штучка — твоя невеста, Нежна, слаба и женственна… и всего-то? А я боюсь покоя: рутина… — тина… Лихая атаманка и стихоманка, А я такая сильная (аж противно), Что всё пошло насмарку и наизнанку. К окошку вечер зверем прильнёт осклабясь, Кружить по кухне будет настырной мошкой. Смотри-ка, эту он полюбил — за слабость. Меня — за силу — бросил: решил, что можно… И что теперь на чужой каравай коситься, Ах, зелен ваш виноград… у меня украден! Пока не поздно, к Светке бы напроситься, Купить винца бы (кстати о винограде).2.
… А всё ж подруге многое невдомёк. Вспылит: «И что, парней не осталось, кроме?! А он — ещё наплачется. И поймёт. Нам тридцать лет — не рано себя хороним?! Ещё найдёшь, и встретишь…» Ага, сейчас. Друзья, работа — лица одни и те же. Осталось — бывших мальчиков изучать. Красавиц корчить… самооценку тешить. И мне казалось кисленькое винцо Густым, вошедшим в вены и в кожу ядом. И лезло бабье, глупое: «Вот и всё. Сергей-Серёженька, милый, а как же я-то?!»3.
…А завтра — в офис, чёрт бы его побрал. А завтра гуще грим, голова тупее. А завтра фыркать — девочки, всё, аврал! (Отдел-то в курсе нашей с ним эпопеи). Хохмить в курилке: «…гений! величина! Да хоть вздохну, отдохну от него на время!» Не убедила… Завтра мне начинать Заведомо провальный аутотренинг. Не причитать, не выть, не рубить с плеча, Не возмущаться — думать и защищаться. И поправлять себя, невпопад шепча: «Послушай, будь ты проклят, вернее, счастлив…» «Ещё ты не полюбишь так, как я…» Ещё ты не полюбишь так, как я. Ещё ты не разлюбишь так, как я. Ты слышишь музыку, от слёз немея, А я уже не плачу, не умею… И от тебя судьба умело прячет Свой чёрный лик, и слишком много значит Одна любовь, и в этом вся беда! Но что тут сделаешь, ты молода. Ты молода! И мыслей тяжкий гнёт Улыбки юной не перечеркнёт. Ты слышишь только то, что говорят, А я устала верить всем подряд. И да хранит судьба цветок весенний, Беспечной юности прекрасное творенье. Ещё ты не полюбишь так, как я. Ещё ты не разлюбишь так, как я.Её свадьба
Лепестками белыми кропили — белой свадебною ложью, клятвами и кольцами венчали, а ещё плясали, пели, пили, выкликали заполошно «Горько!» — и по кругу, всё сначала… Время свадеб, солнечно-прохладен август. Видишь, я не плачу, я задачку про себя решаю: может быть, я слишком зауряден? — но зато я по-собачьи верен был тебе, жена чужая… У меня всё прочно и на совесть, я же не герой романсов и романов, титулованный бродяга… Я не Дон Кихот, я приспособлюсь, я, скорее, Санчо Панса, этот хитроумный симпатяга… Тамада играет на баяне, в окнах розовое солнце, гаснет вечер, медленно пьянея. Что ж так больно-то? Я тоже пьяный, До свидания, Альдонса, и — спокойной ночи, Дульсинея… Хмель уйдёт, по крохотным алмазам, по осколкам соберу я свадебное действо. Мог ли я подумать, как опасно слишком долго оставаться другом детства…Небалладная история
«Я клянусь, этот первый рассвет лишь с тобой повторится. Уезжай и не бойся. Печаль о тебе — мой удел», — симпатичная крошка инфанта шептала заморскому принцу. Не хотела прощаться. И он уезжать не хотел. Пухлощёкие амуры усмехались в стороне. Пойте-пойте, трубадуры, славьте клятвы при луне! — Я клянусь… я вернусь. Мы любовь, будто замок, построим. Будто розу, взрастим. Будто чашу с вином, разопьём. Я приду не ребёнком, но воином, лучше — героем, ты дождись, мы с тобой обязательно будем вдвоём… Он сошёл в рассвет понурый с королевского крыльца. Пойте-пойте, трубадуры, славьте-славьте храбреца. А сестрица-то старшая смотрит в окно безнадёжно. Ей не клялся никто в предрассветную тишь-благодать. И кричит она младшей сестре: «Ты его не дождёшься! Быстро выскочишь замуж. А я — только я! — буду ждать». Такова её натура: постоянство слов и дел. Пойте-пойте, трубадуры, славьте верных юных дев. А красавице младшей претит ожиданье без прока. Не смогла устоять перед хитрым заезжим льстецом. Побоялась и долгого срока, и подлого рока. И уже с государем-соседом стоит под венцом. Может, помните гравюру: молодые на мосту. Пойте-пойте, трубадуры, славьте юную чету! Ну а принц? Он узнал — отравился ли, прыгнул с карниза иль на честной дуэли сопернику выпустил кровь? По указке отца на вдове королеве женился. Он теперь и не принц. Он теперь настоящий король. Вон стоит красавец хмурый, чёрной бровью шевеля. Пойте-пойте, трубадуры, ставьте-славьте короля! Ну а старшая? Может, хоть ей повезло по сюжету? Четверых претендентов отвергла весьма неумно и упрямо несла на плечах непосильную жертву, проклиная любовь, и его, и себя заодно. Старой девой, старой дурой Помереть её удел… Пойте-пойте, трубадуры, Славьте верных старых дев! Вы молчите, постылые жизни хоть как-то устроив, из гордыни, тщеславья ли, страха свернувши с пути. Вот и всё. Вот и предали юные клятвы. Все трое. Белокрылую птицу — любовь загубили в клети. Всё как в жизни, всё с натуры, правда в профиль и анфас. Помолчите, трубадуры. Эта песня не для вас.Елена Яворская
«А любовь — это…»
А любовь — это китайские палочки. Попытка двоих ухватить, удержать счастье, белое, нежное… Жаль, оно рассыпается. Видно, долго варилось. Видно, долго томилось в бездонном чане судеб. А если и ухватили — оно достаётся лакомке, что радостно ест угощение из кованой чаши истории, из глиняной миски сплетен.Три листка из тетради
Листки из одной тетради — братья? На одном — старательно, словно в прописи (Димка, мы не торопимся?): «Мама, иду гулять я с Димой. Сперва в гастроном, а после на дачу. Пока!» На обороте — начало стишка, будто бы о природе, по правде — о ней, о любви. Самой-самой! Мама улыбается строчкам, как друзьям дорогим. Сама ведь была до шестнадцати — мамина дочка, такой же вот солнечный лучик. И тоже писала стихи о нежной любви неразлучной, о доброй, о светлой любви — не о страсти… А дождь за окном так и хлещет, и косит девственно белые астры. Осень первой любви. Счастливая дочкина осень. Листки из одной тетради — братья? На другом — поспешно, в одну строку (Димка, уже бегу! Ну что же такое — полдня всё бегом да бегом!): «Мам, я уехала к Димкиной тёте, ну, к тёте Наде…» И — чётко: «С ночёвкой». На обороте — смета домашних расходов (Кофе, консервы, рогалики, сода…), узорчик по краю — что сети паучьи… Предчувствия — вздор! Морозный узор на окне. За окном — алмазная снежная крошка и лёд глянцево-чёрный, черней, чем графит. А жизнь кого-то научит, кого-то — сразу в расход. Мать по привычке не спит. Листки из одной тетради — братья? На третьем — всего полстроки (теперь — беги-не беги…): «Мама, прошу никого не винить. И — прости». Полдень почти. Пальцы бумагу мнут. И до смерти — двенадцать минут. Буквы жмутся друг к другу, дрожат. Осталось чуть-чуть — по лестнице вверх и — в полдень майский шагнуть с двенадцатого этажа.* * *
Лихой джигит на «жигулёнке», забытый где-то в девяностом… Глядела на него Алёнка — так астроном глядит на звёзды. А под окошком стыли астры, давно болея межсезоньем. Он укатил. Навеки. Баста. А ты всю ночь листала сонник. И неувиденными снами по стенам рассыпались блики. И ветры под окном стенали о том, кто мнил себя великим. А кем же был? Звездою ранней? Игрой-забавой — чет и нечет?.. Алёнка пестует герани и всем твердит, что время лечит.Невезучая
В одежде — весенние гаммы, А мысли осенние, серые. Ты смотришь четвертую серию Житейской своей мелодрамы. Бывает, скучаешь на лекции, А день за окошком — весенний. И там, за окном, — ретроспекции Просмотренных ранее серий… …За мамой ты бегаешь хвостиком, Дворняжек ты потчуешь кашей. Тайком наблюдаешь за Костиком — И даже словечка не скажешь. Но тоже играешь в солдатики И знаешь военные марши… …А Костик подружится с Катенькой. Ты станешь умнее и старше. Сентябрьское утро хорошее — Вот лучик скользит по тетрадке. Сидишь ты за партой с Алёшенькой, Глядишь на соседа украдкой. В порядке заданье домашнее — Он списывать ловко умеет… …Алёша подружится с Дашенькой. Ты станешь взрослей и умнее. Всплакнёшь. И подружишься с Толиком. Открытки, свидания в парке, Признанья в кафешке за столиком… А женится Толик на Ларке. В одежде — весенние гаммы, А мысли осенние, серые. Ты смотришь четвертую серию Житейской своей мелодрамы.Портрет одиночества
А верилось, что путь прямой и гладкий! Но снова из трамвая — прямо в грязь. Начальник смотрит сладко. Шоколадки — Да запросто, не прячась, не чинясь. Быть мог июнь поярче и пожарче, В цветении надежд, в сиянье гроз… В отделе мужички хот-доги харчат, И сизый дым от скверных папирос. А если бы хватило бы отваги, Умчалась бы куда глаза глядят… Звонки, и совещанья, и бумаги… Коловращенье, канцелярский ад! А дома… ну а что такое «дома»? (Гордиться бы, что есть и кол, и двор!): Бабусина стряпня, звонки знакомых, С подругой бесконечный разговор… О ком же? О Ванюше, ясном солнце, Скорей бы он из армии пришёл!.. Да только зря. Она ведь не дождётся, Настойчив некто по прозванью Фрол. А младшая сестра на дискотеке — С дружком, с пивком. Не выучен урок… …И хочется сквозь сомкнутые веки Вдруг увидать, что сверху смотрит Бог.Материнское
А беда-то сама накличется, Что слова ей? — всё трын-трава! Ты тихоня была, отличница, А теперь — сорвиголова. Что-то счастье твоё артачится, Не идёт… Он живет сам-два. Он женат. А ты — неудачница, Ты — соломенная вдова. Но, как прежде, мечтаешь-мечешься, Всё мудришь ты — а в том ли смысл? Ах, солдатик ты мой, разведчица, Ты возьмись-ка за ум, возьмись! Ты прикинься простой, не гордою. Эх, начало — беда лиха!.. У стола, усталая, сгорбилась, Топишь горе свое в стихах. Топишь горе — и улыбаешься: Нет, беда не пришла пока. Засыпает сын, баю-баюшки… …Ты зовёшь его — сын полка.Ракушечное
Снова образы чужие и чуждые обретаются в моей голове. Жизнь-житуха депрессивная, скучная! Повседневность распласталась ракушкою, между створок отыскать бы жемчужину (жадность чавкает: «А лучше бы — две!»). Платье белое с утра отутюжено. Вот и гость мой — импозантный брюнет. Гость? А может, мой единственный, суженый?.. Скатерть новая — жемчужное кружево. Вот и вина — золотистые, южные. Вот и сладости. И — целая дюжина Перламутровых ракушек. Но — нет ни одной, ну ни единой жемчужины! Ну хоть смейся, хоть ругайся, хоть ной, Нет жемчужины, увы, ни одной. Стук ракушек по столу костяной. За окном — осенний дождь проливной. Одиноко допиваю вино…Фантазия
Лира, любовь — сладкозвучное «эль». Где же ты, мой своенравный, Где ты, мой светлый, отважный мой эльф? Стал ты отчаянным фавном… Фраза, финал — отчужденное «эф». В цепких объятиях фавна Жду я — вернётся отважный мой эльф Светлый, святой, богоравный…Современница
Безмолвный час, больной сезон, Сквозит эпоха. В руках — мобильный телефон И томик Блока. Небес линялые шелка, Вуаль пороши. Ты каждый вечер ждёшь звонка Из жизни прошлой. Сквозь времена и времена Метёт поземка. А ты по-прежнему одна, О, Незнакомка. И не очнётся старый сквер От летаргии. Воздев знамёна чуждых вер, Грядут другие. И позади, и впереди — Чужие встречи. Повремени, не уходи, Безмолвный вечер! …А помнишь, как тебя весна Околдовала?.. Но солнца блик тусклей вина На дне бокала.Сильная женщина
С годами приходит готовность платить за успех… да что за успех? — за простую, как вера, удачу. Всё больше событий. Всё меньше ступеней и вех. Ненайденный смысл бытия безнадёжно утрачен. Твой принц расставался с тобой как простой фанфарон — делил даже рюмки, подушки и бабские цацки. И вот — ни тылов, ни обозов. Но держится фронт, и ты — на коне. На подружек взираешь по-царски. А дома привычно побродишь по джунглям ти ви. И — ужин богини: вино, сериал и консервы. А что же, есть повод (прекраснейший повод… увы) — сегодня досрочно присвоено звание стервы. Герой сериальный слезлив, хоть и бывший морпех. А вот героиня… Ну что тут сказать? — героиня! …Всё больше событий. Всё меньше ступеней и вех. В глазах — мельтешенье смешавшихся яней да иней. В бокале — подтаявший лёд. На пороге — нетающий иней.Судьбою мне данный
Игорь Лозинский, как написали бы в старинном романе, обладал звучным именем, кое и составляло всё его достояние.
Впрочем, у него была крыша над головой — отгороженный шкафом уголок в родительской однокомнатной квартирке, был и кусок хлеба — семья из трёх человек худо-бедно кормилась на зарплату инженера и учительницы.
Во взрослую жизнь он вступил с красным дипломом юрфака местного вуза и амбициями, достойными шевалье д'Артаньяна. Преподаватель латыни, которому он прошлое лето напролёт помогал в строительстве дачи, в благодарность подыскал местечко в частной юридической консультации. Деньги не бог весть какие, да и перспективы близки к нулю, но для начала сойдёт, — решил Игорь — и превратился в юрисконсульта И.Н. Лозинского.
По его убеждению, вынесенному больше из книг, нежели из жизни, старушка Судьба давно исчерпала потенциал своей фантазии. Оно и к лучшему, сразу ясно, как надо действовать, чтобы не остаться в дураках, — так подумал господин юрисконсульт, выяснив, что хорошенькая пышечка на ярко-красной, прямо-таки игрушечной машинке — единственная дочка шефа. Игорь пока что плохо разбирался как в машинах, так и в девушках, но намерен был в кратчайшие сроки восполнить оба пробела в образовании. И при первой же возможности отрекомендовался белокурой хозяйке ярко-красной гламурной игрушки.
— Настасья, — назвалась хозяйка.
Почему вдруг «Настасья», простецкое «Настасья» вместо гордого «Анастасия» или душевного «Настя»? Этого Игорь тогда не понял. Не понимал и теперь, год спустя, хотя официально числился женихом мадемуазель Красновой, жил с ней под одной крышей, в элитной двухкомнатной квартире на двоих, и ездил по доверенности на ярко-красной машинке… впрочем, эту игрушку он сразу же после свадьбы собирался сменить на что-нибудь более подходящее его полу и статусу. «Настасья», — он называл невесту именем, от которого веяло не дорогими духами, а деревенским коровником. Настасья… Получше узнав свою суженую, Игорь вполне мог предположить, что она ничтоже сумняшеся уподобляет себя великолепной Настасье Кински. Он не раз ловил себя на мысли: ах, если бы Настасье Красновой хоть сотую долю внешнего обаяния ее звёздной тезки! Что же до нрава… Говорят, актрисы капризны. Настасья Краснова актрисой не была, она вообще никем не была, хотя в верхнем ящике её туалетного столика пылился диплом с отличием по специальности «Экономика и менеджмент». Однако умению будущей мадам Лозинской разыгрывать драмы могла бы позавидовать любая знаменитость. За те два месяца, что они были вместе, любящая невеста трижды возвращала жениха родителям, словно надеясь на исправление производственного брака. И ни разу не смогла внятно объяснить своему обеспокоенному отцу, из-за чего, собственно говоря, сыр-бор.
Возвращения домой, как легко догадаться, были отнюдь не триумфальными. Игорь старался прошмыгнуть по родному двору незамеченным — и так уже соседи проявляют ехидный интерес к его перемещениям по жизни.
Сегодня — не удалось.
Маргаритка осталась такой же, как была: тёмно-русые, наверное, никогда не крашеные, волосы уложены пучком в стиле ретро с помощью старомодных шпилек, а вот ногам шпилек явно недостает — в стоптанных туфлях без каблука Маргаритка едва-едва по плечо ему, а ведь он отнюдь не двухметровый богатырь.
Маргаритка как Маргаритка. Он никогда не видел её другой. Даже на выпускной вечер она пришла не в вечернем платье, а в строгом костюме, разве что волосы догадалась распустить… волосы у неё густые, до пояса, отблёскивают красивым рыжим. Любая бы гордилась, прически наводила — нормальные, вместо того чтобы бабусины пучочки крутить.
— Привет, Игорь.
Дальше должно было бы последовать традиционное: «Как дела?» При этом полагалось исподволь, но красноречиво поглядывать на его дорожную сумку. Но Маргаритка — это Маргаритка: принялась деловито выяснять, есть ли какой-нибудь закон, запрещающий ставить личные автомобили на детской игровой площадке.
— Представляешь, скоро уже в песочнице парковаться будут, а детей прогоняют, боятся за свои драгоценные авто!
Игорь улыбнулся нелепому предположению: ну кому придет в голову парковаться в песочнице! И спросил:
— А ты, случаем, не педагогический окончила?
— Педагогический, — спокойно, будто бы и не удивляясь его догадливости, отозвалась Маргаритка. — Ты ведь знаешь, я собиралась.
…Да, кажется, она говорила. Она всегда охотно делилась мыслями и мечтами с соседом по парте, в которого тайно была влюблена… то есть, думала, что — тайно. И на выпускном ждала приглашения на танец, по глазам было видно — ждала. Да только к чему эти прощальные танцы, когда впереди совсем другая жизнь?..
— А сейчас в школе работаю. В нашей. Учителем начальных классов.
И тут же, без всякого перехода:
— Слушай, а тебе котёнок не нужен? Я двух пристроила, один остался. Самый хорошенький, между прочим… Никогда не понимала, почему люди не любят чёрных кошек!
…Маргаритка. Она всегда была слишком серьёзной, чтобы звать её Ритой, и в то же время непосредственной — так и не доросла до Маргариты… Хотя теперь её, конечно же, именуют Маргаритой… как там по отчеству?..
У Маргаритки нет отца. То ли мать давным-давно развелась с ним, то ли вовсе не была замужем — этого никто не знает. Маргаритка всегда жила только с матерью, в однокомнатной квартирке, как две капли воды похожей на квартирку Лозинских. Придя однажды на день рождения к однокласснице, Игорь печально заключил: «Теперь я понимаю, что „Ирония судьбы“ — вот ни на столечко не вымысел…»
И кошки… у неё всегда были кошки…
— Ну так нужен или нет? — за рукав оттащила его от воспоминаний неугомонная Маргаритка.
— Что?
— Котёнок, спрашиваю, нужен? — она улыбнулась — наверное, его рассеянности. — Прехорошенький, Барсиком зовут.
— М-да, без затей. Боюсь, что нет. Я же с утра до вечера на работе, какие уж мне домашние животные.
— Очень зря. Не понимаешь ты, какое это счастье!.. Ладно, я побежала, мне ещё тетрадки проверять… Слушай, заходи завтра вечером на пирожки. Мама тесто дрожжевое поставила.
— Спасибо. Если получится.
Ни к чему не обязывающие слова. Фактически — вежливый отказ.
Но на следующий день Игорь зашел «на пирожки с котятами». Он уже и забыл, как вкусно готовит тётя Люба. Да только вот и котёнка уже пристроили, и поблагодарить хозяйку не удалось — тётя Люба очень некстати уехала ночевать на дачу к сестре… Или наоборот — кстати? Потому что Маргаритка до сих пор была в него влюблена.
На какой-то миг Игорь почувствовал себя героем книжки. Только бы сентиментальный роман не перерос в роман абсурда! И, остерегаясь этой безрадостной перспективы, юрисконсульт Лозинский сразу же расставил все акценты: женитьба на Маргаритке в его планы не входит, взаимные претензии — самая невероятная глупость в мире…
— Претензий не будет, — оборвала она на полуслове. И добавила тихонько:
— Я знаю, что ты моя судьба. На неделю, на месяц — но все-таки…
И эти обычные слова прозвучали как-то… нетривиально, что ли? И совсем не успокоили.
Он не претендовал на то, чтобы стать чьей-то судьбой, так далеко его амбиции не распространялись. Но определенно, Судьба в тот день подслушала Маргаритку — и вывела среднее арифметическое: они были вместе ровно две недели.
В один прекрасный вечер его увезла с работы ярко-красная машинка, похожая на ёлочную игрушку. И в маленькой, убого обставленной однушке его не дождались ни в этот вечер, ни в следующий…
А потом настал другой вечер, отнюдь не прекрасный: ему позвонила Маргаритка.
— Я долго думала и решила, что будет плохо… нечестно, если я тебе не скажу. У меня… то есть у нас, конечно же, у нас, будет ребенок…
Черт возьми, старушка Судьба действительно напрочь лишена фантазии! Бульварные романы — определенно её жанр!
— …сын.
Игорь практически ничего не знал о детях. И знать не желал. Но предположил, что если пол ребенка уже известен, значит, аборт делать поздновато…
— Я думал, что имею дело с взрослым, ответственным человеком, — сухо, с расстановкой проговорил он, чтобы не выдать растерянности. — Но если… если это можно исправить, я, конечно же, помогу деньгами…
Он вдруг понял, что почти слово в слово повторяет реплику злодея из сериала, которым его ежевечерне пытает Настасья.
— Исправить? Боже мой, Игорь, о чем ты говоришь? Это же такое счастье!
— В таком случае, хочу напомнить… — в конце коридора, как назло, замаячила знакомая фигура шефа. Игорь откашлялся, — … я должен напомнить об условиях договора.
— Не беспокойся, Игорь. Я понимаю. Всё в порядке.
— Да, я полагаю, в данном случае это наилучшая формулировка — по соглашению сторон…
Первые несколько дней Игорь был сам не свой — не мог поверить, что Маргаритка так легко отпустила его. Потом Настасья разыграла совершенно безобразную сцену из-за того, что дома не оказалось ни куска хлеба, и Игорь, сам того не ожидая, выдал:
— Думаешь, на тебе свет клином сошелся? Да таких, как ты, — пруд пруди!
Сказал — и испугался.
А Настасья вдруг сникла, предложила вкрадчиво:
— А давай поужинаем в ресторане?
На следующий день они подали заявление, через месяц сочетались браком, через год родился сын, торжественно наречённый модным именем Даниил. Даниил Игоревич Лозинский, живой символ успеха и благополучия.
А еще через год Игорь случайно встретил на улице Маргаритку, ведущую за руку малыша в темно-синем комбинезончике.
Маргаритка улыбнулась своей обычной спокойной улыбкой.
— Познакомься, Игорь, это Данечка. Данечка. Судьбою мне данный… — и пошла своей дорогой, приноравливая свой шаг к шажкам малыша.
— Ты задержался на полчаса, — встретила супруга Настасья. — С Данечкой давно гулять пора!
И они отправились гулять, Настасья катила перед собой коляску, жизнь продвигала их — всех троих — по накатанной колее.
Время от времени он вспоминал, что под другой крышей растет ещё один Данечка. То ли шутка Судьбы, то ли её дар. И отрешенно думал: а какое у того, у другого, отчество?
Анна Попова Вечное
Годовщина
Были на кладбище. Фразы — уже скудей, паузы — глубже. Ветер суров и дик. Белую крошку рассыпал февральский день солью на красные раны моих гвоздик. Вон забегаловка, выпьем и подымим… Оледенелые, в тусклом тепле сидим. Взяли поллитру, не пьянствовать — на помин. Мы-то вдвоём, только Сашка теперь один. Пойла безвкусно-тёплого нацедив, выпьем за Сашку. Вспомним, как той зимой. Да, годовщина — это наш рецидив, это горячая точка нашей прямой… Димка скривился: не водка, а так, бурда. Глухо, увесисто глыбы-слова кладёт: «Дома — почти такой же, как он тогда, а позови „за Родину“ — не пойдёт». …Ленкины розы иней припорошил: Ленка приходит утром, без нас, одна, может, ей где-то чудится — Сашка жив. Знаешь, давай за Ленку, давай до дна, Ленка не замужем, вся сожжена дотла. Знаешь, порвал бы гадов, ну что творят… Димка, ты помнишь, какая она была?! Пава-лебёдушка — так у нас говорят, всё, отлетался лебедь, теперь лежит. Острый комочек боли сожму в горсти. … Пьяная девка просит: «Алё, мужик, слушай, не жмись и водочкой угости», стужа за окнами стонет, белым-бела, мается, на виски мои надавив… Что, за любовь, по третьей? У них была. Та, лебединая, с выстрелом на двоих.Пока не простишь
Ну где ж ты, ангел мой? где ты есть?! Довольно со мной возни. Вот видишь — улица, дом, подъезд, Возьми отсюда, возьми… Ответное слово — камень — праща — Не больно — удар во тьму… «Ещё не всё. Научись прощать. Пока не простишь — не возьму». Мальчишеский голос уныл и чист, Плывёт в белёсом дыму. Мне плохо, постой, не могу… — Учись. Пока не простишь, не возьму. — Друзей-завистников, гневных чад, Пригретых в моём дому?! Послушай… а стоит их прощать?! — Пока не простишь, не возьму. Простить — вот этих, забывших стыд, Продавшихся по уму?! Давай, их кто-то другой простит! — Прости. А то не возьму. Хулителей… песни, стишка, стежка Судьбы моей — почему?! Подругу, что била исподтишка… — Прости. А то не возьму. А как ты хотела-то? Смерть — не щит, Накрыла — и быть по сему? Но саночки в гору тебе тащить! Прости. А то не возьму. — А тот, далёкий… дальше светил, А крест мой, ноша из нош, Ты знаешь… — Да. Он давно простил. И ждёт, пока ты уснёшь, И стол накрыт, и свечи горят, Как в раннюю ту весну. Прости напоследок: он будет рад… Прости. А то не возьму. — О да, я иду — скольжу под откос, И ветер — холодный щуп… Беспамятство. Тени. Беда. Наркоз. Возьми! А то не прощу…Елена Яворская
Монолог королевы
По галереям чувств, по лестницам сомнений, по будуарам тайн, по закоулкам лжи иду себе, бреду, считаю этажи. Мой государь! Вокруг — паяцы и пажи. Ах, если бы мне стать чуть-чуть посовременней, шута короновать, сказать ему — верши! Ах, если сосчитать прибытки и потери, корону променять на латаный колпак… Я — в мерзком колпаке. Я — прошлое. Я — прах. Глумливый старый шут — на троне и в постели. Поди-ка разбери, кто умный, кто дурак. Мой государь, мой друг! Того ли мы хотели?! Не возвести дворец моленьем и хотеньем, Лишившись головы, корону не сберечь. Идут себе, бредут по залам чьи-то тени. На траурных крылах летит с чужбины смерч.Тётка
Диана называет её тётушкой. Эвелина — тётенькой. Серёжа — тёть Клавой. А Ваня — тёткой.
Вообще-то она приходится им двоюродной бабушкой, но все они с детства переняли у родителей — тётя да тётя.
В девяносто втором отравился денатуратом Витя, отец Серёжи и Вани. Тётка и через год, и через два не могла говорить о непутёвом племяше без слёз. Винила во всём себя: надо было ему в тот злополучный день дать денег на бутылку, так ведь нет, начала стыдить, дура старая, — у тебя, дескать, сыновья растут, какой им пример? Какой там пример! Отчим вот тоже пьёт, да ещё и Ирку за собой потянул. Слава Богу, ребята уже взрослые, у обоих головы на плечах, не пьют, Серёженька и не курит даже, не то что Ванька — смолит одну за одной. Хотела сказать, да что толку, кто ж послушает?
Ни Витька, ни Надька не слушали…
В девяносто восьмом Надька, мать Дианы и Эвелины, в одочасье собрала чемоданы и пустилась в погоню за уходящей молодостью. Тётка пыталась увещевать: дочки ведь молодюсенькие, как им без мамы-то?
— Эвелине двадцатый год, не сегодня-завтра замуж выскочит, а ты все о ней, как о ребенке, — Надька сморщила носик, что означало предпоследнюю степень возмущения. — А Диана в этом году школу заканчивает. Вот увидишь, им без меня только лучше будет — квартира свободна, никто не ворчит.
— То-то и оно, что без присмотра, а в головах ветер ещё.
— Да откуда тебе знать! — тоненько вскрикнула Надька, стекла в оконной раме задребезжали. Последняя степень. — У тебя ж детей никогда не было! И мужа не было! Ты не знаешь, что это такое, когда тебе двадцать два, муж уходит от тебя к тридцатилетней, а у тебя на руках двое детей, одной четырех еще нет, а второй полтора! А потом ты по суду алименты взыскиваешь, и на тебя все смотрят как на жертву… нет, не все! Бывает, что и злорадствуют!
Как не знать, хотела возразить тётка, вместе девчонок поднимали. Но смолчала.
Надька обосновалась с новым мужем в Москве. Надо понимать, не бедствует, Дианке к свадьбе новую квартиру купила — правда, здесь, в Москву девчонок не зовёт даже погостить. Эвелининому мужу денег на машину подкинула, на иномарку какую-то, тётка мельком видела из окна, когда он Эвелину подвозил. Наверное, хорошо, что не послушалась тогда Надька. Наверное…
Вот и у Серёжи жизнь сладилась — женился, дочка год назад родилась. Хотелось бы, конечно, повидать праправнучку, но что-то они не торопятся. Куда им торопиться, молодым-то?
Хорошо, что хоть сами-то не забывают. Серёжа почти каждый день бывает, Диана — через день, Эвелина звонит то и дело, обо всем рассказывает, бывает, что и советуется. Тётка советует неохотно. Что она может посоветовать, если как ни поверни — молодым виднее. Но каждому звонку радуется, а к приходу Эвели-ниному пирожки печёт, с яблоками. Вот Диана больше любит с рисом, а Серёжа — с мясом. А Ваня, Ваня-то с чем? Подзабыла, давно не виделись. С ним такое случается, с Ваней, пропадать на несколько месяцев. Правда, потом объявляется, с тортиком, с бутылкой красного вина — знает, что тетка любит, и засиживается с ней на целый вечер, не столько говорит, сколько слушает. А ей в радость рассказать, вспомнить. Хоть радостные воспоминания, хоть горькие — но будто бы молодеешь. Ваня хорошо слушает, с пониманием.
В прошлый раз, незнамо с чего, взяла да и спросила:
— Давай, Ванюша, я тебе квартиру свою подпишу. Тебе, наверное, нужнее, чем Серёжке, у его-то жены квартира есть, да и девочки Надькины пристроены.
— Ну, тётка, ну, завела заупокойную! — Ваня засмеялся невесело. — Я-то думал, ты у нас без эдаких выкрутасов, а ты!.. Эх, тётка-тётка, давай лучше по десять капель за здоровье.
— А может, сберкнижку на твоё имя открою? Деньги-то лишними не бывают, по нынешним-то временам…
— Тётка! Обижусь, ей-богу! Лучше хорошее чего расскажи. Потом, когда Ваня ушёл, она принялась думать, прикидывать.
У Серёжи дочка, может, Бог даст, ещё детишки будут. А Ваня то ли женится, то ли нет, кто его, шалопута, знает. И девчонки что-то никак наследниками не обзаведутся. Куда им, молодым, торопиться?.. Если же не по уму, а по сердцу, то Ваня, получается, самый любимый. Она никому об этом не говорит, не надо. В семье все равны должны быть, а то и до свары недалеко… Их вот было четыре брата, две сестры, дружно жили… После войны остались она да брат. Серёжка. Веселый он до войны был, на гармони играл — заслушаешься. Вернулся с одной рукой, весь перекалеченный. И прожил, считай, недолго совсем. В каком он году-то умер? Ну да, в том же, в котором Хрущёва сняли…
Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Михайловна Сомова умерла накануне своего дня рождения. В канун дня Победы. Хоронили её все соседи, весь городской Совет ветеранов. И внучатые племянники — Серёжа, Диана, Эвелина.
Капитан ОМОНа Иван Викторович Сомов вернулся из очередной командировки только через два месяца. Купил красного вина, пришел к тёткиной могиле, помянул.
В тот же вечер ему позвонила Эвелина:
— Ты представляешь, братец твой нам всем нос натянул! То-то он у тетки дневал и ночевал! Она ему квартиру подписала, а мы все умылись, вот!
Серега встретил брата мрачно.
— Ты б ещё попозже заявился, ребенок спит! Это вместо «здрассьте». А потом:
— Прикинь, тётка этим курам, Дианке с Эвелинкой, по сберкнижке оставила. Там, по моим прикидкам, тыщ по пятьдесят-шестьдесят. У тетки пенсия была хорошая, тратить некуда, вот она и копила. Можно подумать, им без этих денег — ну никак. Одна в банке работает, вторая три точки на рынке держит. А тут крутишься, как проклятый, колымишь…
— Серёг, ты мне альбомы теткины отдай, а? Они тебе всё равно без надобности.
В последние годы она не фотографировалась. А раньше — часто. С коллективом своей больницы. С друзьями. С соседями. С братом, то есть с дедушкой Серёжей… Вот это да, отец, оказывается, в молодости отращивал усы! А у Эвелинки были косы… точно, были. А вот и он, Ваня. Лет пяти, не больше. В любимой буденовке. Притворно серьёзный, а сам, наверное, только и думает, как бы поскорее да половчее смыться с семейного торжества во двор. И — совсем старое, с изломанными уголками, с рыжевато-бурыми, ржавыми пятнами. Медсестра, лицом похожая на Эвелину, и косы такие же, только уложены венцом, а рядом — лейтенант-танкист. На обороте — подпись лиловыми, чуть расплывшимися, но не выцветшими чернилами: «Клава Сомова. Ваня Лебедев. 1943. Брянский фронт».
Анна Попова Признания
По памяти
(Возвращение с экскурсии)
Петляла трасса меж лесов. Мелькали просеки. Смеркалось… Вздувалась шторка — алый парус. Добавил в ровный гул басов спешащий новенький икарус. Экскурсия: усталый гид, шумы плохого микрофона… О чьём-то прошлом нам твердит, а мы с тобой — неугомонны: мы в будущем… Слегка смущённо болтаем. Школьники на вид. Уже три дня — молодожёны. Его рука. Его глаза. Кудрявых туч смешная ватность. Лесов октябрьская нарядность. «Благослови же небеса» — И небеса благословят нас…Как воздух…
Нужна. Как воздух. Это глоток, ожог… Духи, дыханье — вечной цепочки звенья. Душа сгорает, никнет к тебе, и лжёт — опасным, изнуряющим вдохновеньем. Как воздух… О, воспой её, напиши — анфас и профиль, счастье в отдельных видах… Но как разбить, расколоть тайники души на от и до, или явь и сон, или вдох и выдох. На день и ночь, на волну и блик, на стрелу и цель… на жизнь и смерть — и, как водится, чёт и нечет… Она как воздух. А я попал в эпицентр её любви — сумасшедшей воронки смерча. Как ветер… будто влажный платок в жару — к больным глазам и щекам, что горят недужно. Вот без рисовки, просто… уйдёшь — умру: так душно мне придётся. Так безвоздушно.Твоё (размышление вслух)
У любви такое свойство, такое твойство: сколько ни бравируй, ни геройствуй — сдашься, как поверженное войско. Обречённости и невозвратности, как спасению, возрадуйся. Попытайся раствориться, рас твои ться, падать навзничь в эту двойственность, в эту твойственность. В горных кручах будто вырезан лик твой, на дорогах будто выписан лис твой , Попытайся позабыть, отрыдай, о твой . Как ничтожна, как пуста и невозможна вся свобода моя зарёванная, отвоёванная. О твоё ванная.«Птаха малая во саду…»
Птаха малая во саду, Красна девица в терему. С-под венца тебя украду, К сердцу крепко тебя прижму. Кони люты, а степь тиха, Мчат по лунному по мосту, За ухабом топча ухаб, За верстою меся версту. Как стрелой, прошивают степь И врываются в лунный чад, То ли плакать, а то ли петь, То ль молиться, а то ль кричать… Колокольцем звенит земля, Расписная скачет дуга, Хочешь — под ноги соболя, Хочешь — на руки жемчуга! Хочешь — пой, царевна моя, Хочешь — злато моё топчи! Звёзды жаркие, да бурьян, Да каёмка леса в ночи… Кровь ли гордую ветром стужу, Мёд ли, брагу по капле пью, Я жар-птицу в руках держу, Молодую княгиню мою! И не хмель мне глаза слепит, И не удаль дурманит-лжёт, Это сердце моё не спит, Это счастье мне руки жжёт…Елена Яворская
«Ясноглазая бестия…»
Ясноглазая бестия, злоязыкая стерва… Я не верю, что вместе мы, удивляюсь, что — первый. Аутсайдер чахоточный, распоследний романтик! …Ты игривой походочкой отбываешь на пати. Мне — омлет в сковородочке, две подушки в кровати, скука, телик да водочка… Ну а впрочем — плевать мне на мораль и традиции, болтовню и запреты. Мне бы только гордиться бы, что приходишь ты в эту коммунальную комнату без гламурного блеска… Ты. Пока — незаконная. Не жена. Но — невеста.Недо…
(Реплика влюбленной)
Недотёпа и непоседа, недотрога и просто — недо… Мы с тобой повстречались в среду — понедельников больше нет. Недотрога и недотёпа, подмастерье научного трёпа, жертва сплетен, интриг и поклёпа… Напишу я тебе сонет… Недопонятый, недопетый, недолюбленный, недо, недо… На стене не огненным светом — просто мелом не библейское «мене, текел…», а житейское, между делом: «Саша плюс…» Люди, люди вы, человеки! Всё подсчитано, как в аптеке… Подсчитай-ка до капли реки, ну а лучше — моря! Люблю! Недотёпу и непоседу, недотрогу и просто — недо… Эх, карету бы нам, карету, и — вперёд, всё равно куда. Недолюбленный, недопетый, недопонятый, просто недо… Это наши с тобою беды. Это наши с тобой города.Желанная
Привередлива, неприветлива да спесива. Любит сливы, да щи с крапивой, да булки с корицей, а не всякие там крем-брюле да суфле. Надевает пальто — не манто. Огурцы малосолит в кадушке… Но в глазах затаилось диво. Но идет по земле — воздушна, не идет, а парит жар-птицей… Привередлива, неприветлива? Но зато — не монетка потертая медная, а нетронутый золотник. Ты рискни — вернётся сторицей. Ты рискни…Половинки
Она — поэтесса томная, А он — мужичок неотёсанный. Ему все блины-то комьями, как будто состряпаны тещею. А ей-то — книжица тонкая, итог ночей, растревоженных стихами… Стихами! Ах, боже мой! Мечты, соловьи, звездопад!.. Корпит до рассвета над виршами. Он тоже не хочет спать — вовсю увлекается пышными красотками кабаре, что с пивом сидят во дворе. А после в трамвае утреннем зевает и дремлет почти. Он едет в свой ЖЭК к девяти. Она бодрится. И пудрами цветущий вид создает (что?! в люди идти лахудрою?! — колье, каблучки… Вперед!) Готовится завоевать весь мир… Должно повезти! В редакцию ей к девяти. Его похмеляет сват. Подружки завидуют ей. Он хочет картошки и щей. Она обожает паштет… Комедия дель арте, а страсти — будто бы в драме. Читает она Мураками. Сканворды решает он, по нраву — почти лепрекон, она — почти что богиня. Вовек он её не покинет, и верность она сохранит. Любовь, говорят, — магнит, физическое явление. Любовь, говорят, — откровение небесное и земное. Любовь, говорят, — паранойя. Любовь, говорят, — отрава… А если рассудим здраво — быть может, рецепт кулинара? Шербет? Или просто омлет?.. Они, говорят, — не пара. И все-таки вместе полдюжины лет.Анна Попова Портреты
Русалочка
Я вижу небо — волны в полный рост. Я вижу море — с облаками-башнями. Ловлю осколки затонувших звёзд, отчаянная, вольная, бесстрашная. Всё было, да пропало без следа. Да в глубь ушло. Да в темноту закуталось. Моя шальная глупая звезда в прибрежной тине навсегда запуталась. Я сны твои ночами сторожу. Об эти сны не ступни — сердце режется. И я, немая, криком исхожу — пронзительной, неотвратимой нежностью. Чей в медальоне светлый волосок? Принцесса ли твоя, пастушка ль резвая? И жалит ноги не морской песок, а ревности отточенные лезвия. На муки, на презренье, на позор — на всё пойду и всё приму и выдержу. Да стоишь ли, о милый мой позёр, моей души, до основанья выжженной? Нет, не жалею. Полно, не страдай, переживёт меня любовь бессмертная. И в поцелуе ветра угадай всё то, что прошептать тебе не смела я…Спутница
Он баловень славы. Он гений, он светоч, Он мастер, он принял присягу на вечность, А ты пронесёшь на усталых плечах И сплетни, и быт, и семейный очаг, А он приласкает тебя ненароком, А он и не знает, что счастье под боком, Не в книжных мирах, не в стихах, не в веках — В твоих — оградивших свободу — руках. Он храм возводил. Ты стояла у входа — Как хрупкая статуя в гуще народа… И ты поняла, как безжалостен гений, Как солнце умеет отбрасывать тени, И ты в многоцветье героев и тем Сама превратилась в унылую тень… Устала… Считаться нелепой обузой, Стоять у плиты, конкурировать с музой И в созданных мастером образах женских Искать безуспешно свое отраженье: Чужие привычки, чужие тела, Но где ты сама?.. растворилась, ушла… А он… осторожно обнимет за плечи… Растопчет. Помилует. Увековечит. Ни дети, ни время твой брак не излечат… Конечно, он гений… а гению легче… Был вечер. Лениво катился прибой, И пахло нагретой душистой травой, И блики на стенах мерцали медово, И ласточки резво кружили над домом, Смеркалось… и ты, позабыв про дела, Смотрела на них — и чего-то ждала…То, что он хотел сказать
Ты как живая вода: живительная и — бесцветная… вспомни хоть иногда: ты тоже Евина дщерь! Снова незаменимая, незаметная, снова не примадонна, а книжный червь. Веришь, не знал я, что будет обидно до чёртиков! Тише, родная, послушай и не язви, хватит себя изводить и себя вычёркивать из поклоненья, радости и любви… Хватит глухого, неженского отречения, тут не кокетство — аскетство, и хватит жить взаперти… Хочешь немного вычурную, вечернюю глупую тряпочку модного назначения, ну для меня, хотя бы как исключение, губы поярче, волосы распусти — локонами, каскадами, водопадами! Ну погляди — чтобы солнце из-под ресниц! Надо не скрадывать, надо пленять и радовать, чтобы до слёз тянуло тебя разгадывать, чтобы и честь, и душу свою прозакладывать, чтобы и старцы, и юноши пали ниц… Ты не по-женски логична, проста, как истина, Всё — на отлично, кладезь мудрых речей. В чёрном — не траурном, не элегантно-изысканном — строгом и скромном. Прячешься — но зачем?! Ты не меняешься. Даже стихи не стареют. Заворожённо иду к твоему алтарю. Может, когда-нибудь я тебя отогрею. Может, когда-нибудь отгорюю и отгорю.Картина
За тонкой плёнкою стекла, Среди взволнованного зала, Рукой откинув покрывало, Нагая женщина спала. Цвета прозрачны и чисты, Приглушены разгулы краски… И не было в тебе ни ласки, Ни робости, ни доброты. Казалось, пряностью духов Изнеженное пахло тело, Манящее, как плод неспелый, Сокровищница всех грехов. Тебя объятья не смутят, Не оскорбит бесстыдный хохот. И страшен, как соблазн и похоть, Ресницами прикрытый взгляд. Амуры за твоей спиной Зелёный шелк держали прямо… И горестно сиял из рамы Продажный лик любви земной.Ведьма (земное притяженье)
Темно-рыжие кудри, в извивах и медь, и бронза, ногу за ногу, томно курит — запястье в тугом соцветье, а в глазах у неё пучина и мягкие блики солнца. Он всего лишь мужчина. Она хороша, как ведьма. Вот он что-то прошепчет ей, взгляд, как птенца, изловит, а в прищуре её сумасшедшинка, умная чертовщинка. И душа его на износе, на грани и на изломе… Но её ведь не вынешь, не бросишь и после не сдашь в починку. Он достанет кольцо, он уже окольцован, пойман, он не будет бойцом и не будет ханжой унылым, он такой не один — и давно уже это понял… Он порядочный семьянин — а вернее, когда-то был им. Обнаженное тело: прохладны его изгибы, соблазнительны тени и скупо нежны движенья. Он идёт — как идут на бой, на муку и на погибель, подавив неземную боль земным притяженьем…Елена Яворская
Гостья
Ты приходишь ко мне с портрета, Чтоб со мною выпить вина. Как луна поэтов, бледна. Молча куришь мои сигареты. И в белёсом дыму сигарет Стихотворный слушаешь бред — Как загадку и откровенье. Страстно любишь моё варенье И антоновку на меду. Странно шутишь: «Навек уйду!» Я до слёз хохочу. Отрадно Мне тебя баловать и дразнить. В лабиринт забрела Ариадна И навек потеряла нить.* * *
До краёв наполнена чаша, До краёв. Нет, не страшно, почти не страшно, Просто — кровь. А в твоем позлащённом кубке — Желчь и яд. Предлагай же его, голубка, Всем подряд. «Не гляди ты, мил друг, сурово, Пей до дна!» Кубок пуст. А голубка снова Влюблена.За вышиваньем
Златоклювые лебеди На янтарной воде… Быть загадочной Ледою И любить лебедей. Быть задумчивой Ладою С ясным светом в очах, Чудом, тихой отрадою, Счастьем — чада, очаг. Быть застенчивой Людою — В первый раз влюблена… Только в сердце остудою И тоска, и вина. Вышью даль бесприютную — Всё бурьян-лебеду. Ночью с ветром попутным я В степь бродяжью уйду.Невеста
Надежда-душегреечка, А за душой — копеечка. Ах, долго ли умеючи Полжизни промотать! Веления, хотения, Полуночные бдения, Мечты-признанья девичьи… Не друг он и не тать, А просто гость нечаянный: Авось не осерчаешь ты На раскрасавца пришлого, На гостя-жениха. Откроешь все замочки ты И будешь гостя потчевать Варениками с вишнею. А поутру в бега Жених ночной ударится. Ну что ж, пришёл не с палицей, Не с кистенем, не с ножичком (Спасибо и на том!) Твой муженек невенчанный… А взять почти что нечего: Весь хлеб унес до крошечки Да старенький платок. А честь… Да что ей станется! А совесть — что ей, страннице, Пристроится за печкою — И вовсе не видать… Надежда-душегреечка, А за душой копеечка, Терзанья бабьи вечные… Не друг он и не тать.Жених
«Много ль серебра, Много злата ли В сундуках своих Ты запрятала? Много ль роздано Да раздарено Добру ль молодцу, Злому ль барину? Али по ветру Поразвеяно, Аль в дороженьке Порастеряно? Аль грабителем В ночь украдено? Ты скажи-ка мне В день предсвадебный…» Что не молвила б Красна девица, Никуда жених Уж не денется…Червовая дама
Ах, красное лето! Ах, красная лента! Червлёные каблучки! Задорно звенят браслеты у дамы, мечты валета. Червовая королева не любит играть в дурачки с валетами. Ей королей подай-ка за карточный стол. Полжизни поставь — не жалей! Валет опечален и зол, как будто — на целый свет. Уже прикупил пистолет, хоть нынче и на дуэль. Трагически шепчет: «Ма бель!» — и ходит за ней по пятам, клянётся: «Я всё отдам!» Она не промолвит: «Да». Она холоднее льда, но в косах — пурпурные ленты… Ах, дама, мечта валета!Дама бубён
Забубенная бабёнка, В лохмах — жёлтая гребёнка, Юбка узковата… Эх, иметь бы злато, Тратить — не считать!.. Горе-нищета… Но цветут пионами Щечки. Вешний цвет! И глядит влюблёно Юноша-валет, Милый, забубённый. Эй, побольше звона, Бубенцов да бубнов! Кто сказал — доступна? Кто сказал — блаженна? Вечный козырь женский — Жажда перемен! Он сказал: «Кармен» — Твой валет и рыцарь. И не надо рыться Ни в белье, ни в сплетнях… Первый ли, последний, Муж он или гость, Обод или ось, Овод иль пчела, Злато иль зола, Кубок или фляга… Как им карты лягут!Пиковый валет
Что с того — ну, не вышел мастью И не туз, а простой валет? Но зато я знаток и мастер, Искуситель, дамское счастье, Соблазнитель, в окошке свет, Обаятельный сердцеед. Чье сердечко нынче украсть бы? Загрустила девица треф, Серебрится в глазах ненастье У прекраснейшей из королев. И тихонечко, нараспев: «Кавалер, любовь — это блеф!» Что ж, добавим во взоры страсти, А в слова — намёков, теней, Чтобы деву сразить верней… Настоящий знаток и мастер, Искуситель, дамское счастье… Но, как прежде, поёт соловей О ней, Лишь о ней, Неприступной даме червей.Актриса
Ходила неторными тропами. В признаньях не ведала меры. Придуманной жизни отпробовав, Навеки влюбилась в Ромео. Дразнила заносчивых критиков. В пальто крокодиловой кожи Являлась на рауты с Митенькой. «Он только в два раза моложе, — Смеялась. — Да в душу не лезьте вы, Душа — что чащоба, вестимо!» Ей рампа счастливым созвездием И денно, и нощно светила. Загадочный образ старательно Она создавала вначале. А после серьезность растратила — С тенями болтала ночами, Какие-то письма бесценные Хранила в картонной коробке… И тихо угасла за сценою В прокуренной грязной подсобке. «И что же? — вы спросите. — Занавес? Нелепо и скомканно как-то!» Но всё начинается заново. Как водится — после антракта.Женщина на шаре
Под ногами твоими — шар. На плечах — золотистый шарф. Под шарманку танцуешь на шаре, а глазами в публике шаришь. Но родного не встретишь взгляда. Ты привыкла… Держись… Не падай… Улыбаются одобрительно зрители, ты улыбаешься тоже кожей остро чувствуя пустоту — ту самую… ту… Уколы хрустальных иголок… Полог за тобой опустился. Антракт. Под ногами босыми — прах непарадного быта актрисы. Сальный взгляд: — Готова за триста? Соглашайся! У всех ведь кризис, а не то предложил бы пятьсот! Пустота смеётся в лицо, пустота в шутовском колпаке, бубенцами звенит, глумится. Соглашайся! Синица в руке. Ты еще ожидаешь принца или просто идешь на принцип, недотрога? Тебе решать… …У тебя под ногами — шар? Нет, монета. На кромке пляшешь. Оскользнулась. Орёл? Нет, решка. Мой единственный, где же ты, где же? На умытом волнами пляже или в грязной тюрьме, за решёткой?.. Отбивая мгновения чётко, бубенцами звенит пустота: ты — не та… ты — не та… ты — не та…Танец на барабане
Барабан был плох… Один — прямиком да к Богу. другая — все обочь, боком, никак не поспеет к сроку, никак. Ее прославят в стихах? Нет, разве что в глупых баснях задразнят… Ах! А что ей, пичуге ранней? Вон, пляшет на барабане, притопывая не в такт, а он — размером с пятак, попробуй-ка, попляши! Под ножками — не ножи, но все же страшно чуть-чуть… Твой друг продолжает путь и лоб в сомнениях крестит. И ты не стоишь на месте. Какие сомненья? Прыг-скок… И все же — увидел Бог.Мулатка
Ты — смуглая мечта. Одним лишь только светом Одета. Но не тревожит нагота Меня. Звеня Пропета Ты. И сотни тысяч раз Ты на холсте написана — Лиловым. И снова Тебя полюбит бледный ловелас.Закрылись врата
1.
Ушла. За тобою закрылись врата. И что же осталось весталке? Усталость. И чистота. И что же осталось? Супруга Найти и бессмысленно дни коротать, Копить и богатства, и рухлядь, Стелить еженощно кровать, Жить в мире и с ларами ладить, Стелить еженощно кровати Для деток, потом — для внучат… …Решиться. Начать Ту самую, новую… В стаде. Уплачен твой долг без остатка. А век твой — украден.2.
Ушёл твой последний. Закрылись врата. И что же осталось гетере? Считаешь морщинки у рта. Считаешь года и потери. И что же осталось теперь? Вздыхать и терпеть, Холеной холодной рукой Браслеты ласкать и камеи, Не смея Надеть — им пора на покой. И ты попривыкнешь к покою. Бредёшь обречённым изгоем Незнамо куда. Притворно горда. Дух скорби. Пока — во плоти. Решиться однажды. Уйти. Дорогой своею. Не в стаде. Уйти, ничего не растратив. Уйти…Эмигрантка
Холод фамильной броши, Тёмный сапфир. Властной рукой ты брошена В странный и страшный мир. Ровная нитка жемчуга — Бабушкин дар. Здесь не княжна ты — женщина. Ты — ходовой товар. Роза сухая в книжке — Дар жениха… Время в затылок дышит. Всё ведь уйдет с молотка! Бабушкин жемчуг. Брошка. Стыд… ну а после — честь. Просто и пошло. А после Что же останется? Спесь. Вышила герб на скатерти — Память ещё крепка. Ты ни женой, ни матерью… Просто… Ну а пока…Женщины
У одной — муж, ребёнок, безденежье, полуночная благодать: мыть, готовить и штопать. А другая — и в тридцать в девушках, а другой — всё по звёздам гадать: что б такое придумать, чтобы он пришёл, явился, возник — жених в белом костюме, в белом «феррари», молви словечко — звезду подарит, только скажи, сколько хочешь карат… Мечту-журавля обкорнать до синицы? Дудки!.. Обеим не спится. А утром в одной маршрутке поедут в свой офис — один на двоих. И каждая что-то таит, и улыбается каждая, как будто бы рада встрече, как будто общения жаждет, как будто не кровь, а кетчуп сладко-солёный в жилах… Каждая бесится с жиру! Так втайне считает начальница (в разводе и трое детей мал-мала, живёт у свекрови, комната-клеть, своих — ни кола, ни двора, и знать бы, чего ж это ради промаялась с мужем почти что семь лет?) …По радио — припевчик «Не надо печалиться!», маминой юности ритм… …Директор опять небрит — с женой, что ли, снова поссорился?.. …И всё ж ни стыда и ни совести у этих у мужиков!.. …Всплакнуть бы — и станет легко. А ты всё держишься, держишься… У Ольги — ребёнок, безденежье… Катюша и в тридцать в девушках… директор не выбрит и зол… На принцев опять не сезон!Набросок
Одна постарше, а другая помоложе, но Пока что верят обе в невозможное. Идут по скверу, лопают пирожные И на парней глядят исподтишка. Свистит им вслед братва с пивком и пиццами, Гулит им вслед девчушка в платье ситцевом. Они идут. Высматривают рыцаря. Им верится, что цель уже близка. Навстречу им — дедок в костюме стареньком, Навстречу им — пацан с воздушным шариком. А вот и рыцарь — в образе очкарика (Ну, Дон-Кихот — ещё куда ни шло!) Промямлил, хоть его никто не спрашивал: «Девчонки, осторожно, здесь окрашено…» «Спасибо, видим», — отмахнулась старшая, А младшая вздохнула тяжело. Смеясь, печаль заели сладкой ватою. Опять глядят по сторонам украдкою: Пускай судьба порадует пиратами — Усладою прекрасных сеньорит! Надежду подкрепили барбарисками. Под сенью лип и солнечными брызгами Идут — и улыбаются так искренне, Что даже воздух чуточку искрит.Счастливая женщина
Клара очень любила своё имя. Редкое и звучит как-то не по-здешнему. Клара… Кларисса… В своих мечтах она неизменно была Клариссой, роковой женщиной с трепетным сердцем под чёрным бархатом изысканного платья. Чёрный бархат — намёк на трагическую тайну.
«Кларис-с-са…» — шептали ракиты над прудом. «Кларис-с-са…» — звал ночной ветер.
Ей бы жить в замке из дикого камня на вершине одинокой горы. Ей бы, явившись в последнюю минуту на маскарад, приковывать к себе внимание всего зала. Ей бы танцевать вместе с феями у лесного костра…
…Или коротать осенние ночи в холодной кибитке бродячих актеров. Стоять у штурвала пиратского корабля. Бродить по степи с ватагой наёмников-сорвиголов.
Кларис-с-са… Имя-зов.
Судьба не ошиблась с именем. А вот с местом и временем рождения — просчиталась, просчиталась до обидного грубо и до слёз непоправимо.
Обычная комната в обычной трёхкомнатной квартире. Обычный двор. Обычная школа. Обычные учителя. Обычные одноклассники. Потом — самый обычный университет, самая обычная специальность, самый обычный синенький диплом (тёмно-синий цвет был Клариссе куда больше по душе, нежели кирпич-но-красный), самая обычная работа у компьютера. Обычные коллеги, по большей части — женщины, матери семейств, с обычными разговорами о детях, шмотках и готовке. Кларисса понемногу привыкла отзываться сначала на цыплячье «Кларочка», потом на старческое «Клара Анатольевна». Но были, к счастью, были люди, для которых она оставалась Клариссой и только Клариссой.
И если бы её спросили, счастлива ли она, то услышали бы чёткое «да» — без размышлений, без колебаний. Рядом с Клариссой всегда был мужчина, который понимал, ценил, берег… одним словом, любил.
Первая, самая памятная, любовь приключилась у Клариссы ещё в восьмом классе. Он ни капельки не был похож на её инфантильных одноклассников. Не хвастался очередным модным приобретением типа «тетриса» или «тамагочи», не высмеивал взрослых, не курил тайком в туалете. А главное, знал, что ухаживанье за девочкой нельзя начинать с нарочитой дерзости. Он был скрипачом, ему прочили европейскую карьеру. Кларисса говорила с ним о музыке… сама она никогда этому не училась, но обожала классику, даже купила две кассеты — с Бетховеном и с Вивальди. Кларисса знала, что она именно та собеседница, которая ему нужна. Они встречались каждый день и говорили, говорили, говорили… И так — почти год.
Но однажды — кажется, в первый день осенних каникул Кларисса повстречала другого. Хулигана, грозу окрестных улиц. Сначала он напугал её до дрожи, но потом… буквально на следующий день принес большой букет золотистых листьев и маленькую шоколадку. С орехами! Стоит ли удивляться, что Кларисса предпочла его бледному скрипачу, который вдобавок никогда не любил орехи!
Незадолго до выпускного Кларисса начала встречаться с молодым бизнесменом, похожим на героя телесериала… Пожалуй, любого телесериала, но тогда Кларисса была просто без ума от своего нового знакомого. И с ним у неё впервые всё случилось «по-взрослому», как обычно выражалась Танька Костюхина, их школьная Лолита.
Клариссе казалось — это навсегда. Точно-точно!
Но на втором курсе университета она потеряла голову от своего преподавателя — немолодого импозантного профессора, похожего на романтического актёра шестидесятых. Старая добрая мелодрама — это вам не сериальчик какой-нибудь!
Потом был скоротечный роман с самым настоящим — и очень известным — актёром, приехавшим на гастроли. Потом — со следователем… нет, с детективом! Потом — с капитаном третьего ранга… Кларисса едва не уехала вместе с ним очертя голову на Дальний Восток, но тут на горизонте появился светловолосый юноша, удивительно похожий на эльфа…
Он и вправду оказался эльфом. Принцем-изгнанником…
Последняя, самая возвышенная и трудная, любовь…
…Кларисса любила свои фантазии. Они с избытком компенсировали ей отсутствие друзей. Они стали её прибежищем, когда выяснилось, что единственный поклонник давно и надёжно женат. Они оберегали её от домашней и офисной скуки, они не позволяли сплетням дотянуть до неё грязные ручонки. Спрятав под разноцветной синтетикой сердце настоящей героини, она была счастлива вопреки всему.
Единственное, чего ей недоставало, — собственной изданной книги.
Возвращаясь с работы, Кларисса до полуночи корпела над клавиатурой. Шаг за шагом двигалась к мечте.
И вот — он появился.
Замечательный сборник под названием «Домашняя кухня для всех».
Анна Попова Усмешка купидона
Любовь программиста
Вроде, тридцатник: уже не пацан, а дядя, Бабки шибу сисадмином в реальной конторе, Что ж я ночами по клаве стучу, как дятел, Глупо таращусь днём на тебя в коридоре, Со стороны поглядел на себя — противно: Кент прыщеватый стоит и чего-то мямлит, Выглядит, прямо скажем, неперспективно, Что б мне устроить, чтоб точно и эффективно: Съесть крокодила, как думал ну этот, Гамлет? Я б с удовольствием — негде взять крокодила! Ни шимпанзе, ни верблюда, ни кенгуру. Вот и пишу я тебе по ночам на «мыло», Адрес «маринка собака мэйл ру»… Ходишь с бойфрэндом, я знаю, начальников кореш, Лох он и чайник, понтуется не по годам. Так почему ж ты в «аське» меня игноришь, Не отвечаешь на мой сумасшедший спам? Пьяная ночь без тебя — с монитором в обнимку, Видеоролики, фоток четыре гига, Вот как люблю тебя, «мэйл собаку маринку», Ник — «Афродита», я знаю, всё это пурга, Вышел в инет, аватарки твоей коснулся, Фотки твои фотошоплю… но чёрта с два, Проц перегрелся, и комп уже висанулся, Проги заглючили, все послетели дрова… Кликаю мышью без отклика, всё накрылось, В пальцах — противная дрожь, а в горле комок… Утром я понял, что ты мне прислала вирус, И обновленный Касперский уже не помог…Семейное счастье
Ты опять за старые разборки! Каждый вечер — праздник для души. Снова разразился бранью горькой С видом оскорблённого паши. Если этот чёртов мир не рухнет — Знаешь сам, какой у нас тут строй, — Мы с тобою встретимся на кухне, После нашей свадьбы (золотой). Будет разговор у нас короткий, Нечего тут логикой блистать! У меня в руках по сковородке, А тебе до швабры не достать! На ползвуке захлебнулась ругань. Ты стоишь, покорный и седой. — Ну, любимый, чем ты так напуган, — Говорю, тряхнув сковородой. Замолчал. Ну, что же, грех неволить, Видно, ты пока не хочешь в рай. Съем-ка я твой ужин, алкоголик… Я т-тебе… сиди, не выступай.2.
Осторожно! Берегите женщин! Наша доля — неподъёмный крест. Вот, пришёл. С соседом водку хлещет. Боже, как ему не надоест! Раньше был неписаный красавец, А теперь — оброс, как старый дед! Можно хоть полы мести усами И сушить бельё на бороде! И с фигурой нынче просто драма: Даже боком в двери не пролезть. Растолстел на двадцать килограммов, А заставь попробуй не поесть! — Где влюблённых писем миллиарды? Где цветы, — спросила, — где кино? — А сегодня что — Восьмое марта? И опять уставился в окно. Чем-то грохнул по столу привычно: Суп не тот и овощи не те. Иностранным словом неприличным Обозвал котлеты на плите. Вот такие наши отношенья: Страсть и нежность, просто караул! Чтоб ты подавился вермишелью Иль хотя бы в ванне утонул! Развестись бы, что ли, поскорее, А не то повешусь от тоски, Нагло разложив на батарее Все твои дырявые носки.



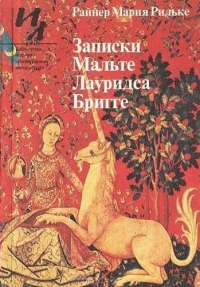
Комментарии к книге «Обыкновенная любовь», Елена Валерьевна Яворская
Всего 0 комментариев