Юлия Мамочева «Душой наизнанку»
ThankYou.ru: Юлия Мамочева «Душой наизнанку»
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Благодарю», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Предисловие о Слове
Существует такое расхожее клише: «Эта книга представлена на суд читателя!» Ну что ж, суд так суд. Устроим судилище. Поэтам не привыкать.
Итак, что же побудило автора совершить это деяние — написать книгу? А ведь автор рецидивист — данная книга уже третья. В её-то годы! Взглянешь на поэта-то — воробышек! Косточки, жёрдочки, углы. Глаза! Ан поэт. Да ещё и один из мощнейших.
Как известно, поэт не тот, кто пишет стихи. И даже не тот, кто не может не писать. Поэт всей своей сутью непрерывно пребывает в метафизическом пространстве, где вселенная организована по иным законам, а речь является «высшей формой существования языка». И природа истинного поэта, кем, без сомнения и всяких гендерных условностей, является Юлия Мамочева, в конечном итоге проецируется на бумажный лист, приобретая своё буквенное тело. Судить поэта за стихи всё равно что судить журавля за курлыканье.
Вы скажете (или не скажете, какая разница): «Да у любого графоманьяка писанины больше в разы! Зачем нам ещё и опусы этой малолетки?» Ну, зачем — решать вам. Книгу-то вы в руках держите, и вряд ли под дулом пистолета. И насчёт графоманов не ко мне. Ко мне по поводу поэта Юлии Мамочевой.
Остановиться? А сами где взяли бы силы вы? Остепениться? О, соло — иная степь! Я хочу выплясать словом все эти символы: Весь этот космос растёт из моих костей!..Поэт-шаман, поэт-кликуша, поэт-Прометей, расшатывающий цепи. Ей, худышке, тесно под небом; её больше, чем самой планеты, и если бы Юля не вмещалась в свои стихи, знаете, что было бы? Ядерный взрыв нам показался бы шутихой. Так-то. А заметьте, какова нахалка! Ей, видите ли, языка Пушкина, Тургенева, Ахматовой не хватает! Я сейчас не про её полиглотство — ой, пардон, мультилингвальность — и многочисленные переводы классиков мировой литературы как туда, так и обратно, о нет! Будто движением брови демиурга на месте зияющих лакун, зримых только зиждящему Поэту, из небытия возникают слова. И какие! Слова-инкрустации, слова-оружие, слова-существа.
Воздымалась грудь корабля-дракона, Вороной буран хрипотливо ржал. Белый скальд с бородой как дубовая крона Побережною песней нас в путь провожал.И так, поверьте-проверьте, на каждом шагу. Однако и знакомыми словами Юлия умудряется плести такую вязь красоты, силы и смысла, что идти по стиху приходится буквально на ощупь, держась за текст как за нить Ариадны.
Я как бы слышу саркастические выкрики из зала: «А как же засилье аллитераций в ейных стихах, этой болезни молодых да начинающих, а?» Ну что ж… Спасибо, что знаете умное слово. Но больше, пожалуйста, не кричите. Значит, аллитерации, так? (Кивок.) Поясню. Действительно, многие молодые авторы, только ступившие на стезю пиитства, грешат этим делом, как любые неофиты, дорвавшиеся до ранее запертого арсенала. Потом, в процессе роста, этот приём, как правило, нивелируется, растворяется, ибо служит атрибутикой формы в ущерб содержанию. Но к нашему гению (ой! Я это вслух сказал? Чёрт…) эта тенденция отношения не имеет. Тут, друзья, несколько иные мощностя. Тут, так сказать, Ниагара, где всему места хватает — и играм молодого льва, и засмертной мудрости хтонического чудовища, и даже антропоморфным экзерсисам. Тут у вас задача простая — не захлебнуться. Особо впечатлительным я советую читать Мамочеву через трубочку. Два раза в сутки. Вместо еды.
Пожалуй, это единственное, в чём можно упрекнуть поэта Мамочеву. Перенасыщенность образами текстового пространства в отдельно взятом произведении у неё такова, что поэту-человеку хватило бы на целую книгу, а то и две. Что сказать, титан, своей силы не знающий. Эстетический же и смысловой вес её тропов сопоставим, полагаю, с весом атомного ядра.
Но набольшую ценность, на мой искушённый взгляд (а он искушён — мне же доверили здесь умничать), представляют не стихи Юли как таковые — чудные, ювелирные, клубящиеся, вздымающие волосы, — а сам (внимание!) её поэтический язык как ещё одна, доселе не существующая стихия. Стихия, в которой нет ничего заёмного или вторичного. Именно в ней заключена матрица души и духа поэта Юлии Мамочевой. И перелистывая страницы этой книги, помните, что вы прикасаетесь к высшей форме существования языка редчайшего в своей истинности поэта. Поэтому помойте, пожалуйста, руки. Заседание окончено.
Максимилиан Потёмкин, поэт, профессиональный актёр, культуртрегерОт автора
Я посвящаю эту книгу светлой памяти Ю. М. Мартемьянова и А. И. Мамочева — моих дедов, от первого из которых унаследовала я имя, от второго — лицо.
Тем, что эта книга (результат беспрецедентного творческого запоя продолжительностью в год) была написана и опубликована, я обязана вам — людям, без которых никак, без которых нельзя. Людям, которые делают мою жизнь такой моей и такой жизнью. Ваша любовь и поддержка — определяющий и необходимый фактор, непременный залог моего счастья и моего успеха.
Спасибо Ярославу Ширинову — за любовь, за спокойствие, за постоянное ощущение присутствия, заполняющее одиноческую пустоту внутри. Спасибо Наталье Кононовой — за нашу чистую, святую дружбу, умение выслушать, прочувствовать, понять. Спасибо Алие Кильметовой — за глубину, за взаимопонимание, за мою Москву. Спасибо Никите Турчиновичу и Александру Сулиме — вы ниточки ко мне-маленькой, домосковской; то, что вы есть, связывает накрепко с детством, с прошлым. Спасибо Максимилиану Потёмкину. Спасибо Анне Дворжецкой — за красоту твою, за твой светлый и чистый талант и, конечно, за нашу дружбу. Спасибо Алексею Скиженку — так самоотверженно (говорю, положа руку на сердце) меня никто, кроме тебя, не выручал. Спасибо семье Мурашовых — Светлане Анатольевне, моей доброй фее-крёстной, всегда готовой совершить очередное маленькое чудо, и Ванечке — без вашей поддержки я бы не справилась. Спасибо Александре Падежновой-Мартовской за истинную спасительность нашей полуэпистолярной дружбы. Спасибо Василию Фонтейну — за твой изголовный мир, в котором я побывала.
Спасибо моей семье — здесь, как думается, комментарии излишни. Просто спасибо — от всей души, от всего сердца.
Спасибо Святому Георгию и Господу Богу, благодаря которым я — по счастью — всегда отделываюсь лёгким испугом.
Спасибо Дмитрию Львовичу Быкову. Без него эта книга так и осталась бы рукописью.
Царскосельские лебеди Поэма
Святые сны сплелись со словом «сад», Созвездиями сумрак серебрится; Ссутулясь, словно старые сестрицы, Седые сосны сахарно скрипят. Сарай Саарский синью стен сочится, Садовые скульптуры сладко спят… Сакрально строен северной столицы Столетиями славленный собрат! Светает. Солнце сеет семена Спасительно-спросонного сиянья, Свой сизый саван синева сняла… Страдавшая, стонавшая сполна, Салонным сердцем — с силой созиданья — Смеётся стать Саарского Села.I
Многоточье февральской ночи Измельчало в спросонный гам. Снова мартом, журча, мироточат Развороченные снега! Сивый саван надрусье сбросило, Голубени благоволя; Предрассветной поры многоросие Прослезилося на поля… Был ли более счастлив доселе я? Лишь однажды, рассветы назад: Солнцеликое царскоселие Целовало мои глаза… Шёл послушный беззвучному зову я По аллеям — в лиловый плен, И зарницей лазурь бирюзовая Полыхала с дворцовых стен. Заколдованный явью узорною, Забродил я меж грёз, вне людей, Загляделся на гладь на озёрную, На жемчужно-живых лебедей… Простирался повсюду пестреющий сад… Был я счастлив рассветы назад!.. Мокнет, меркнет виденьем раздавленный март, Рассыпается грудой карт…II
Превосславленного Воскресения Отзвенели колокола! Вдаль уносится тройка весенняя: Бездорожье — небесная мгла! Синь июньскую сонно-высокую Заюлила июльская жарь. Поле солнышком, кажется, соткано, Словно б русской крестьянкою встарь. Светотень синевисто-виссонную Где я сердцем уже смаковал? …Негу помнит мою благовонную, Царскосельскую, церемонную — Царскосадовый карнавал! Я по полю бреду; пыльно поле-то — Но глаза от иного горят. В них пылает дворцовое золото С белизною резных колоннад. И колени дрожат оробелые, Сердце, полно тебе — не дрожи! …Плещут крыльями лебеди белые По волнам опалённой ржи… Прорастает из почвы испамятный сад, И скульптуры целуют взгляд, И молочно-белёсые губы богов Проливают неслышный зов.III
Плачет небо лиловой лавою: Пленный ливень стремится вон. Ослеплённое сгинувшей славою, Пало лето на плаху времён. Тучи, черти, опаловой плевою Ох, хоронят — да охру полей… Осень венчана стать королевою И троих поменять королей!.. Пара первых сокрыта могилою: Срок отсижен, оплакан конец, И ноябрь сбирается с силою, Мировой примеряет венец. По морям всепланетного тления Брежу, брежу — то вброд, то вплавь… Нега ль гонит? Геенна осенняя! Вьётся выею змейною явь… Поле ливнем елейным заплёвано, Почва, чавкая, ступни сосёт. То, что в разум вравнялось, вмуровано, Всюду в небо, волнуясь, ползёт. Лезут — золото, стены лазурные, Колоннады — из-под земли; Нимфы мраморные да ажурные Шепчут: «Верный!.. Гляди! Внемли…» Чай, ничком через чаянья чинные… Часом, навзничь; кругом — гроза… Отче! Очи кричат лебединые, Клики птичьи клюют глаза!..Царскоселье моё, царски сильное!
Царскоселье моё, царски сильное! Перья кожу дерут изнутри… Я лечу к тебе мглою пыльною; Ну же, вылечи, не кори!.. К чёрту личность: чужбиной червивою Доведённый до чёрной черты, Птицей вольною, птицей спесивою Я врываюсь в твои сады! И над царством цветенья дворцового Блудным лебедем бью крылом, К пелене серебра озерцового Рвусь сквозь завесь небес — напролом… Подо мной, как ладонь, разаллеены, Разлинованы длани Села; Полнокровной Элладой взлелеяны, Улыбаются белые эллины — Древний мрамор нагрет добела! «Недвижимые! Мир вам, хорошие! Долго не был в миру я родном…» Брызги свежие перья взъерошили, Бытие провернулось вверх дном… И плещусь я по ряби пруда-озерца, Выгнув выю на зов бирюзовый дворца. Меж друзей бледнокрылых по глади плыву, Перед счастьем склоняя главу.одиНОЧество
Небо на быт наложило ложное вето; Силюсь сыскать в полуслепи последний лаз. Ночь моя! Ночка, какого ты сейчас цвета? Ты сейчас — тысяча сотканных вместе кошачьих глаз. Ночь! В этой зыби беззубой свои ладони бы Не разодрал я, напарываясь на бриз… Сколько осколков оскаленных снизу до неба, Если кровавит пальцы мне твой каприз?.. Сердце сочится спесью, слезами, висами Сердцу настолько тесно, что бьётся в клеть. Долго ль ещё станешь мучить его капризами? Долго ль ему, исскоблённому, так болеть? Жжённая чёрно, по мне — ты тождественна буре, Всем торжеством — невозвратнее катастроф. Я не запятнан, распятый на амбразуре; Но обескровлен, дневной потерявши кров. Помнишь, дурная, финал-то вчерашнего буйства? Скальпель рассветный чернильность твою шинковал… Ноченька! Я наплевал бы (без чистоплюйства) На нерестящихся звезд невесомый шквал! Небо, не бойся, ты попросту местная помесь Облачной ваты, итоговых «Вот!» и вет. Знаешь, я тоже, кажется, успокоюсь, Если уверую в то, что придёт рассвет.Post factum
Когда струной судьбы порвётся нить, Когда и отпою, и отсмеюсь — Прошу я вас меня не хоронить, Не зарывать в заплаканную Русь. Пустите душу плавать к островам, В часы сердечко вплавьте сгоряча… Я буду с неба зубоскалить вам, По голове секундами стуча. Храните лавры — этот славный сор, Которого мне не было милей… А тело — чёрт с ним. Вы его — в костёр, Как древних скандинавских королей…«Судьба моя ласкова, суд не грозит…»
Судьба моя ласкова, суд не грозит, А судно — ещё на плаву. Наверно, порядочный я паразит, Раз праздно порой живу! И воздухом сочным дышу допьяна, И бликами кутерьмы… Я, знаете, попросту в жизнь влюблена: Взаимно, а не взаймы. Гудя океаново, время волной Несётся и вглубь, и в век… Я — ною? На деле я маленький Ной: Глядите на мой ковчег! Кораблик непрочен, но слишком упрям: Не тонет на «раз-два-три»! Корячась, качается он по морям, А я — хохочу внутри!.. Кручины чуравшийся — всякий богат: Хотя бы добром нутра… Ты делаешь что-то, поди, наугад — Выходит — всегда на ура! И время тебя переварит едва — Едва ли дерзнет наяву… Мне славно без слов — оттого, что жива. Я счастлива, что живу.Другу
Скажи мне, коль будут плохи дела: Я, в сделку вступая с дрожью, К тебе полечу, закусив удила, По русскому бездорожью. К тебе понесусь я над рябью полей, Над рыжей, безбрежной рожью… И щёки мои обожжёт суховей, И жарко станет подкожью… Но ты — не жалей меня, нет, не жалей, Не мучь моё сердце ложью!.. Скажи, если душу на абордаж Возьмут флибустьеры печали. Приду, отвоюем — салют, саботаж! И будет всё, как в начале. Их палубы треснут, что лёд по весне, Их трюмы испробуют пролитый ром, Постанывая, паруса поиспустят дух! Как только мы станем спиною к спине, Спасенье пираты найдут за бортом, И трусам не сможется нас пересилить — двух!.. Ты выверни душеньку, как на духу, Излей, не тая ни грамма, Всю горечь солёную, всю чепуху, Которая — дурь и драма. И, за руки взявшись, всему вопреки, На пару с тобой мы сотрём башмаки: Пойдём окаянным полем! И бед забелеют повсюду флажки, Но мы примиренье воспримем в штыки! Мы беды штыками заколем!Константин Романов — русский поэт и воин царский Акростих
Княжеский сан, книжную сласть Он смаковал, искрословен и горд… Нить, серебрённая рифмой, сплелась С Вашею Милостью, русский Милорд! Тени столетий подвластны перу, Акты за актами сотканы в вязь… Нервами вверены Вы серебру, Тайноимённый князь! Имя КоРоткое в КоРне словес, Ноты КиРасного сКРежета в нём… Русско-турецкая звёздная взвесь… О, Ваша Светлость, подспудная спесь Моря, что — ходуном!.. Аристократ! Темнота арестантская Не обошла Ваш дом. Ох, растащили семью по инстанциям Варвары вороньём!.. Ризы издревние взгрызла коррозия: Углены образа… Солью сочились часы передгрозия, Слёзной была гроза! Княже! Вы гибель державную видели — Из неземных земель. Йодово-красный по русской обители Плыл голодранский хмель… Очи бессильно глядели с портрета; Это юдоль роковая Поэта — Только взирать на тлен. Изверги совесть по миру пустили, Выжгли орлиные крылья России, Осень, вставай с колен!.. Искры истории истовы в силе: Нам ли сдаваться в плен?! Целого века почивший свидетель, Аристократ — Вы в сраженье лихом Ране снискали почтенье столетий, Славу снискали точёным стихом. Кроя величием сумрак пророчества, Именем гения, Ваше Высочество, Йорик осмеянный мчится верхом.Второй сонет к Михайловскому саду
Ну, здравствуй, Сад! Мой тихий, теплый кров: Накровный Спас, прихрамные хоромы, Прохладный шорох бархатной истомы За бахромой древесных вееров… Здесь всякий ливень волнами лилов, А липам — тайны детские знакомы; Сюда, под сень, влекут меня фантомы Сердечностью минувших вечеров… Михайловский! Извечный мой ковчег Иль вотчина, что вычурностью в очи, — Под шторой изнутри червонных век Нашли воспоминания ночлег, С зарёй не растеряв щемящей мочи… В них тонет март. В них тает жухлый снег…Розы на снегу
Ко мне пришла любовь, Рождая трепет, слёзы, И бархатные розы Рисует на снегу. Ю. М., из книги «Отпечатки затёртых литер»Посвящается всем тем, кто за год съёмок программы «Умницы и Умники» расцвёл розами дружбы на моём снегу.
Этот год взрывался и резал, тащил и рвал И зачем-то засмерчивал водоворот-судьбу. Карнавал — каждой сброшенной маскою завывал; Ворожа безнадёжьем, вздымался под кожей вал: «Вылетай!» — шелестел. И закручивался в трубу. Год предсказанных трудностей, год несказанных чуд, Из которых чудеснейшим стала Игра времён… Мы боролись — мы вместе стояли плечом к плечу, Коронованы дружбой, что много ценней корон. Мы светлели, смеялись — солнцем скрепив союз, Эхом вечности падал взволнованно сердца бой… Наша битва была — за святое «не оступлюсь»; За апрельское небо, за пьяный победный вкус — Вкус бесценного права ужиться с самим собой. Будут новые годы вихрем лететь в туман, Будут вспыхивать, переплавляясь в давно отгоревший гул. Я люблю вас, друзья, — этим сказочным миром, что мне безвозвратно дан, — Как любила бы розы, расцветшие на снегу.Автобус
Этот автобус ползёт, Как недобитый гад, Как по желудку — кипящий пот Сказанного наугад; Словно мозглящая дрожь, Словно мандражный зуд; Через гудливый дождь — Словно бы старая вошь На передбожный суд; Словно острожный срок — Сжатой вечности вдоль — По колеям дорог, Вдоволь залитых водой, Тянет автобус вброд… Милый, взрезай волну: Дом тебя где-то ждёт — В радужно-тёплом плену! Ждёт беспечальный приют, Кров на краю дождей. Добрые руки ждут — Руки добрых людей, Чтобы под взвои зим Гладить тебя по глазам… В губы стальные прольётся бензин — На душу, как бальзам! …Катит автобус быстрей, Морось хватая ртом: Там, за февральскою гранью дождей Ждёт его тихий дом. Вспарывает волну; В сери, гляди, воспарит! Рвётся из хмари махровой — в весну, Как из Москвы — на Крит. …Я выхожу на кольце; Я окольцован тьмой. Сорок сереют следов на лице — Сорок шагов домой. Серый включу я свет, Серую дверь затворю. Сумрачно-не-согрет Серый чай заварю. Будет мой вечер пьян: Гёте залью кипятком. Там, где по духу — туман, Там, где по факту — дом. Словно и встарь, и впредь — Лягу в свою постель. Будет мне тело греть Гётевски-чайный хмель. Будет в рассветную сивую рань Сниться моим глазам Мнимого неба багрянь, Мнимой зари бальзам. Будет за серым окном Серая быль гудеть. Сонный автобус покинет дом, Чтобы вернуться впредь.Гром
Ветрено тает в журчащий гам окаменелая тишь. Утро читает Москву по губам — рёбрам угрюмых крыш. Урбанистично-дырявый рассвет: поры огнём кровят! Помнишь другой ли ты город-секрет? Бредящий полис куртаг и карет — полустолицу-сад? Город, мне гордо глядевший вослед, город, который свят… Город царей? То был царь городов! Осеребрённый плеском подков. В грозный гранит Сердцем вгранён, Всеми рогами корон!.. Помнишь, рассвет, Вкус его крыш? Града, над коим давно не кадишь? Город взывает ко мне — Но в ответ Мной ты над ним не горишь. Нежат Московью — твои уста, Греет — апрелевый ворс. Город, что мною оставлен — устал, Мной не целуем — замёрз… Ветры как воры там: ратью во храм — Граблями грабят гать! Волны — по доброй традиции драм — Лупят мой град по гранитным щекам, Чтобы не смел роптать. Алый мучитель, поведай сам: Долго ль ему страдать?.. Долго ли хмарью — Холопьей халвой — Сытить царя ты горазд? Долго ль, Петровский оставив покой, Бронзою будешь цвести над Москвой, Окровавлённо-вихраст? Небо столицыно скопом зеркал Смотрит в лицо насквозь. Ты, океан, издевательски ал, Только темнеть от волнения стал, Словно незваный гость! Тучи текуче чернилью плывут, Кривью по небу — вкось! Грудью гранитной с небесных груд — Воронно-чёрных, червящих груд — Грудью из туч Встаёт самосуд: То Петербурга злость! Мой Петербург поднимает меч: Гром-чародей! Вращай! В палубе мглы разверзается течь, Хлещет из ранушки бранная речь, Ливнем — взбурлённый чай!.. Космосом хлещет из порванных врат, Дробью — столице в грудь… Гневом царёвым, гневом Петра… Rex не silentium! Ave, мой град! Ave, небесная ртуть!.. Властно Петрополис манит назад: «Странник, окончен путь!» Гром чародеит, Морозовый зной Кружит бурлящею бронзовой хной; Жерлом вдыхает, чай!.. Ждёт меня город — объятьем-Невой. Милый рассвет! Полетели со мной! Друг, до поры — полетели домой! Сердце, Москва, — прощай!..Сквозь века
Остановиться? А сами где взяли бы силы вы? Остепениться? О, соло — иная степь! Я хочу выплясать словом все эти символы: Весь этот космос растёт из моих костей! Осатанеть? Слишком много света и Бога, Бога и света; последний по сути — Бог. Только б успеть! Мне бы только испить из рога!.. Не испугать просыпающийся песок!.. Снятся песку полосатые всплески странствий, Солнце, что плавило сахар его Сахар… Сыпься, песоче, — но спи, но не просыпайся!.. Тихо — расконденсируйся в стихо — пар!.. Пар воспарит, во вселенский вгрызётся хаос; В русле столетий кости станут песком. Хэй, поколенье-постскриптум: я здесь! Я каюсь, Волны времён рассекая к тебе — босиком!..Певец Скандинавская баллада
Воздымалась грудь корабля-дракона, Вороной буран хрипотливо ржал. Белый скальд с бородой как дубовая крона Побережною песней нас в путь провожал. И бурлило зелье, глотая небо, И гудящий сумрак пучину тряс, И бездвижный старец, казалось, немо, Осиянный звуком, глядел на нас. Ворожил — и взлетали крылами вёсла, Чугунел корабельный чешуйчатый борт… И мы верили в то, что вернёмся в Осло, И мы знали, что битвой прославим фьорд. Дом остался вдали, за солёной долиной, За простором, который стирает следы; Лица стали у нас — обожжённою глиной, И оплавило марево наши щиты… Иссыхали гортани от южной сини; С каждым выдохом — силу сосала соль… Погибал дракон — посередь пустыни, А напившись вдоволь, свистел бы вдоль! Взборонил бы ей водяное брюхо, Искровил бы кривую, тяжёлую муть… Если б Севера только — живого духа — Паруса, как жабры, смогли хлебнуть! А кругом — врагом наплывает гибель: Льёт на палубу солнце свой жёлтый жир; Судно чёрных людей, повелитель рыбий, Косоглазою смертью спешит на пир!.. Храбрецами заморский корабль полнится, Чужеземною тучей летит супостат… Сыто скалятся недругов смуглые лица, Полумесяцы сабель блестят! Мы жевали жадно горячий воздух, Нас в солёном масле тушила сушь… А с родимого брега, сулящего роздых, Вся Норвегия скальдом вздымала посох: Это старец молился за славу душ. Белой птицей скакал — босиком по скалам; Завывая, к суровым взывал богам… Мы горели, но верили — дело за малым: Возвратиться во славе к своим берегам! С горизонта, как с наковальни ада, К полю брани — тени грозою шли… Трёхголовою ведьмой неслась громада — Это смерть с мавританской летела земли!.. Вслед за братом, что пеклу по роду угоден, Вслед за первой ордою — тройная рать! Мы хрипели хором: «Храни нас, Один!» Лишь отваги молили дать… Мы хрипели певучим туманом Норда И сжимали эфесы стальным кулаком… И казалось — мощью родного фьорда Собирался над шлемами гром. Мы алкали ратной победы гордо — Иль конца, но в геройстве своём. Только гуще жара; и огнями агоньи Мельтешат моряки на чужом корабле. Наши вёсла — усталые крылья драконьи — Измождённо повисли в зелёной смоле. Эта липкая вязь паруса лизала, Но холодной мощью резвился взор. Нас тянуло в бой: нас ждала Вальгалла, Нас напитывал мощью Тор!.. Песня тихая старца сквозь мили звучала Громогласно, как странный хор… Недруг ближе и ближе, громаднее, строже: Всё безумней дудит, что неведомый зверь… И кривятся на вражеских палубах рожи — Ох, напрасно! Не знают варяги дрожи, Мы сражаемся до обескровленной кожи И уходим в морскую серь!.. Был суровым бой, словно серый север, Словно самый варяжский род. Кровенел белоснежной пены клевер На лазури морских широт. Мы не смели чуять ни ног, ни боли, Как не чуяли б их праотцы; И один за одним в чужеводной соли Находили приют бойцы. Но орда чернолицая нас не пугала, Мы рубились — и всё горячей!.. И, казалось, уже улыбалась Вальгалла Нам приветственным звоном мечей… И хрустели мачты, корма хрустела, С четырёх неприятель сторон ликовал… Бушевал он, кромсая драконье тело; Бился моря кровавый шквал! С четырёх сторон вражья грудь дудела, Точно дьявольский двор пировал!.. Тут безмолвный драккар заревел драконом, На дыбы поднялся, скрипя кормой… Мы схватились за мачты, и в страхе зелёном Враг застыл побледневшей тьмой. Паруса надулись внезапной бурей, Запестрили молнии страстью фурий!.. А дракон неистово бил крылами, Обезумев, рычал и пучину рыл; И разило врага ледяное пламя, Смертоносный огонь разил!.. Вся Норвегия щедро свистела ветрами И дышала в жабры ветрил!…
Мы под звёздами плыли по слёзной смоли, Да с победой — к священным норвежским лесам… В край, где белые скальды бросаются в море, Отдавая жизнь — парусам.Lepidoptera[1]
I. Chrysalis
Балкон, как кокон, заковал — Меня в себе замуровал. Дрожит решетка, рвётся прочь: За нею — ночь. И ночь хохочет сквозь неё, Кусает сердце ночь моё; Сосёт душонку злое вне — Гудит во мне!.. А под ногами — океан, В картонный пол грохочет, пьян, Штормит в картинный мой шатёр Решёток-штор. Трещи, шатёр! Ломайся, гроб! Рассыпься, темень, вязью троп! Из всех дорог — лучись одна, То путь от пут — до дна, до дна!.. Греми, Вальпургиева ночь! Реви, пурги волшебной дочь! Гарпуном в бездну тянет мать — Я улетаю… Колдовать!II. Holometabola
танцуй танцуй с берёзами чьи волосы касаются балкона танцуй как шелест розовый стрекозами рассветного лона танцуй взлетай, безумная! бессмертная=беззимная — к венцу под взор Везувия на вечный сон вези меня: вези меня в завесу — вёснами: неси ненастьями востока синего; виски мои зайдутся воздухом; пойду за пастырем расстанусь с именем. вези на зов Везувия — чтоб каплей канула в седые выси я; вблизи гора — беззубая и безвулканная и славно Лысая!..Блаженный
Я о горе не ведал ни духом, ни сном, И любить я умел в миллион киловатт… Мой намоленный дом измалёван огнём — Я ли в этом, скажи, виноват? Отвернулась любовь, упрекая навзрыд, Отвернулись друзья, бормоча наугад; Нынче дом пепелится — но сердце горит! Я ли в этом, скажи, виноват? А на долгой, на подлой, патлатой войне Душу в родину выдохнул срубленный брат… Соль-отчаянье рученьки тянет ко мне — Сударь-горе негорд и рогат!.. Я растлен и разбит, как разгромленный град… Но всю муку бы выстрадал, каждый снаряд Ел бы грудью — как манну… Когда б листопад Взвыл надгробными трубами выжженных хат: «Виноват. Виноват… Виноват!» Только немо ты, небо, в ответ на мольбы; Сжаты зубы у каждой сожжённой избы… Рвал я волосы с корнем, как рвёт древеса Из рыдающей почвы фашист-ураган; Комья пепла на голову снегом бросал, Пепел соли — в овраги ран!.. Словно бес, небесину хулою кромсал, Исплясались по сини-то розги угроз… «Боже! Отче! За что Ты меня покарал?» — Горло драл, словно гром, вопрос. Ты безмолвствовал, Господи… Молча глядел На бессилья слепого последний предел. И тогда, сатанея в бесплотной мольбе, Я греховным сменил гореборческий вой. Боже, Отче!.. Душа усомнилась в Тебе, Словно был я забыт Тобой! Я уже не грозил — но в грязи низлежал, Не хулил лиходеем — но в хиль холодел… Мне безверье — межрёберно вбитый кинжал — По щекам раскрошило мел… И бледнел я, как пепел, как время войны; Пепелиться устав, оплывал пустотой; Становилася кожа — корой белизны, Полубездновой берестой. Я уже не ругал странноглазую высь, Но шипел, багровелые губы губя… Умоляюще ветры стонали: «Молись!..» Я шептал: «Нет Тебя! Нет Тебя…» Нет Тебя — так я думал, ломаясь навзрыд. Ты же — был, Ты же — выл всею плотью равнин… Ты нищал, в исстрадавшую Родину врыт, Серебрился — да инеем детских седин… Небо клеткой грудною трещало от мин, Билось в нём оглушённое солнце-птенец; Я заглядывал в очи лазурных равнин: В них я видел Тебя, Отец!.. На плечо положил ты мне отчую длань; Я из грязи воспрянул, из навзнича — в бой; За страну — за сожжённые избы — с лихвой, По счетам — по щитам, что вражили гурьбой, Отдавал супостатушке дань!.. Ты бессловствовал, Отче. Сжимал горячо Бурей битвы моё плечо. Ты взирал на меня многоглазьем полей, Резал разум осколками страхов разбитых, Ты ковал мою волю в небесных скитах, Становилась она поминутно сильней!.. Силу в горло вдували Урал и Тибет; Волга, Нил да Евфрат по крови прорастали… Ох, не смертна погибель под пение стали! Ох, не больно стоять за небесные дали! Ох, не страшно идти к Тебе!..ПитеРай
Ртутной водицы прыть; Муть мне мила, что мать. Питер — от слова «пить»: Стынь из горла хлебать. Ею наполнишь грудь — Бодро рёбра трещат! Питер — от слова «путь»: Я не могу — назад. Рёбра — трещат, поют… Питер — от слова «петь»: Тенор — весенний пруд, Меццо — рассветная медь. Соло — дворцовая соль, Хор — многолицый храм… В городе бродит бемоль Сквозь вековой бедлам. Ловится в сети садов, Плачет ручьями нот, Струями обертонов По мостовым плывёт. Верный, как гибель дня, Юный, как сэр росы. С Питером мы родня… Северной полосы. С Питером мы — семья, Неразложимый микс… Он по нутру скамья, Я — подсудимый Икс. Я, что подсела на драйв, Я, что с огнём сошлась… Город! Ты слишком рай, Пресно-прелестная сласть. Западно-праздная сеть, Невский паучно-сер. Питер — от слова «петь»; Голос мой, жалко, — сел. Волость моя — на краю, В очи Сатурн кадит… Питер тоскует по Ю — Той, что была впереди. Милый, тебе ли к богам? Ты ль — в хоровод планет? Город, храни бедлам! Пой, но не будь отпет. Я у границы стою, С пеной блажу у рта. Но не бывать в раю: Заперты ворота.За неделю до совершеннолетия!
Неделя детства делится на доли — На семь дверей; конечная — сим-сим… И я не знаю, что придёт за сим, Но верю: голос мой неугасим, Пока не отпоёт прощальной роли. В финальных нотах больно много соли: Их не люблю. Роднее — рокот сил. Роднее — ветер, что меня крестил, Бродящую в судьбинно-странном поле. Пусть этот гром прольётся на поля В словах — когда раскланиваться буду Далёко за последней из дверей: За гранью детства — той, что жизни груду Однажды рвёт на «до» и «опосля». Неделя детства!.. Семь весенних дней — В их сменной смерти рассмеётся чудо, На два безбрежья путь один деля. 12.05.2012Допекли
Планета! Что с населеньем твоим творится? Граждане населившие — что творят? Вымерли принцы, царицы, породистые патриции, Всюду — болото, балетно-изысканный блат. Вымерли госпитальеры и крестоносцы; Римляне, викинги — выпали в тартарары. Время и мне надавало по переносице: Выйди, мол, только не в люди, а из игры. Блат этот грязен, грозен, как миномёт, По-идиотски идеен, как «Майн кампф». Полые люди выплыли из болот. Дружбой сплетаются, пряча кинжал в рукав. Вроде бы любят, щедро блюют добром, Пылью — дедовской доблестью — кроют срам. Полые полулюди лезут на трон, Честь обречённая мыкается по углам. Шар голубой замигренен, багрово болен, Зубы пожаров землю грызут в золу. Дети кидают зиги, понты и школу, Шик исшокировал, заворожил шкалу. Детям везёт: их везут, коли папа платит; Едут к вершине сидящие на рубле… Ростом (карьерным) гипотенузу катет Перегоняет. Больно родной земле! Прошлое люди хоронят — к чему хранить? Для охраненья нужна непростая прыть!.. Праздник Великой Победы в году однократен: Сели, поздравились, далее принято — пить. Вытаращились в экраны часочков на пять: Вроде бы граждане, типа душой на Параде… Знаешь, Планета: леди выходят на паперть. В люди выходят — бл… …атные такие дяди.Друг Поэма
I
Друг мой — бледен и худ; музыкант, заклинатель нот. У него сапоги за цент и в делах — цейтнот. Он работает грузчиком, может заснуть — с трудом. А по пьяни шумит, как советский аэродром. Трудодни на износ, так что к вечеру — пар из глаз. Человек-передоз, человек — «проживу-на-раз». Денно пашет по-вольи, а волю возвыл, как волк. Он в той самой юдоли, когда невозможно — в долг. Точно в круге порочном — батрачит, идёт в кабак, Возвращается к ночи и кормит ничьих собак. Дома холод такой, точно в алкозагуле ТЭЦ; Одинок ты, родной: далеко инвалид-отец. Пацану двадцать два, но себя он всего изжил. На плечах голова — шею, кажется, заложил. Музыкальные пальцы отвыкли держать смычок. Ну чего, дурачок? Впрок пожить-то, поди, не смог? Стыд грызёт позвоночник, как свежую плоть — рачок. От судьбы — незачёт.II
Друг мой беден и тих, по карманам — дуэт банкнот. Друг по-сельски простой или собранный, как синод. Эх, рутина без дна! А бутылка пьянит пургой. …Он зайдёт иногда — мы болтаем часок-другой. Он зайдет ненадолго — уходит почти в рассвет. Вспоминаем мы город, где наши семнадцать лет, Где друзья — не на миг, где небеснее синева. Где был юным старик, тот, которому двадцать два. Мы дружили на жизнь, неразлучны, что две руки. Все облазали яблони, улицы, тупики. Я бывал у товарища: помню, как встарь, диван, Где в закатной теплыни из храма подживших ран Открывал нам отец его — свой боевой Афган.III
Чушь пороли порой — не пороли по моде вен. Друг за друга горой, вместе ехали в город Эн. Наши горе-мечты грела славная высота: Я с наукой на ты, он же в музыке — от Христа. Школьны-годы — со свистом, как пара ночных комет. Он мечтал быть артистом — весь этот десяток лет. Скрипкой — верно, шаманил, молился на нотный стан, До того фортепьянил, что сам становился пьян!.. Он зайдёт иногда — мы болтаем часок-другой. Он уж сила не та, у своих, говорит, изгой. Но не помнишь об этом, как скрипку обнимет сэр: Звук прольётся моментом — не блестя комплиментом, Каменея цементом меж плавленых атмосфер! Шелестят звуковолны теплее морской волны, Так поют колокольни, так у мамы скворчат блины… Столь иссердно играет — теченьями звукорек, Что Господь замирает, заслыша любимый трэк.IV
В тот день было душно. Испариной естества Стелилось по лёгким пузырчатое O2. И, как сообщила бы истовая молва, Дышалось едва. Вернувшись с работы, я вплыл на седьмой этаж. Возился с ключами. Вошёл — и домой, и в раж. Четыре стакана воды — господа, я ваш: Причина все та ж. Включил телевизор, упал на свою кровать. Такая жара, что навязло в зубах — жевать. Лежу, как на пляже. В квартире под тридцать пять. Июль, вашу мать. И тут же — назло — у входной — до мозговых кор Протяжное — дзынь! Чертыхаюсь. И — в коридор. По новой — запор. Открываю. «Здорово, Жор!» А ржёт-то в упор!.. Смешлив непривычно. О боже, какая прыть! «Давай, заходи, — говорю. — Поскорее, Вить!» Дремотная жарь атакует советом — взвыть. Но как не впустить? Сидели мы долго, как встарь — до огней зари. И замерло всё, как морская-фигура-замри. Но что-то не то. «Ты влюбился, держу пари. Витёк, говори!» Краснеет дружище. Я пячусь, как гордый рак. Плету, как паук, о возвышенном, как дурак. И думаю, дескать, угадывать я мастак. И в горле наждак. «Ты прав», — отвечает. И ну хохотать навзрыд. С души отлегло — до того развеселый вид. «Ты, Жор, — говорит, — прямо умница с Бейкер-стрит! Вот только небрит. Она, — повествует, — что ангел у божьих врат. Прекраснее лунных и прочих, дурных, сонат. И мы если на, то она, безусловно — НАД! Из райских пенат. И стан у принцессы — стройнее, чем нотный стан. И голос у ней — симбиоз мировых сопран. Над Девой не властен насмешливых лет аркан… Она — океан!»V
Надтреснутый голос — о, это был не предел! Как выбритый долыса жгучий индейский клич. Из сердца всё то друг мой вытряхнул, чем владел, И выкрикнул в мир: позавидуй и возвеличь! И так он кричал, как на струнах своих скрипел, И так веселился, что точно — пожди беды. Мне было дремотно, а стало — не по себе, Как после ушата совсем ледяной воды. Пошло всё по-старому: практика-сон-еда. Диплом и работа, последний учебный год. Витёк забегал да позванивал иногда, На десять минут, ибо время — теперь не ждёт. Его пару месяцев не было в кабаках, Его не встречали с бутылкою на дворе. Он если не притчей — то прыщем на языках У всех злопыхателей выскочил в сентябре. Пахал-то по-прежнему: днями грузил тюки. И жил-то по кредо: «Батрача, трудись-потей». Но вытравил мат из межфразья до мелюзги, Как чёрную грязь керосином из-под ногтей. Я много учился — с рассвета и допоздна. Стонал над какою-то суетной ерундой. Слал матери письма и деньги в село. Она В последнюю встречу казалась совсем седой. Он тоже, должно быть, исправно писал отцу. Да только всё больше Душе, что «в глаза — бальзам». Сонаты — её ослепительному лицу, Сонеты — её обесцвеченным волосам. Меня засосала воронка учебных дум, Как психоделичность туманистых городов. Витёк забегал. Он одалживал мой костюм И с нею гулял у клинически Чистых прудов. Играл ей на скрипке — той самой, из сельских пор. Впервой после армии — жизни в глаза глядел. Ты трубку поднимешь — и сразу: «Послушай, Жор! Я счастлив, и это, мне кажется, — не предел!..»VI
Четыре часа утра. Бормашинной трелью Мозговую мякоть взрезает безумный звонок — Замогильно мобильный. Мне скоро идти на зачёт. Я объят постелью, Вскочивши — запутался в узлище собственных ног… О мой Отче Всесильный! Я грубо бранюсь. Я ору: «Это ты, Витёк?!» Но мой телефон молчит, как замученный ссыльный. Я снова бранюсь, выражаюсь по форме: «Ты —…!» В ответ — полудьявольский хрип. Веселя, как R.I.P. Я точно оракул: мой друг сквозь какой-то скрип Выдавливает: «Жор, приехал бы. Мне кранты». И стало морозно. Я, трубку зажав плечом, Влезаю в штаны, по карманам ищу ключи. И тошно под сердцем. «Я буду, я еду… Чёрт! Дружище, ты слышишь? Болтай же, да хоть о чём. Хоть что-нибудь, только — пожалуйста! — не молчи!» Из вакуумнической зыби меж мной и ним — Моих недогадок и пьяных его недослов — Высвечиваются абрисы ужасов — То злые морщины сквозь клоунски яркий грим.VI
На улице хрустко и солено, a мороз, Трезвоня, вгрызается в ноздри клыками псов. Скрипит под ногами. Немеют корни волос. По-моему, я позабыл запереть засов. Дорога кривляется дурою искони, Я трачу на тачку дрянные семьсот рублей. И пальцы выламываю: «Ну же, давай, гони!..» — Кричу черномазому, что за рулём «жигулей». Квартал, эти два поворота — знаком маршрут. Вываливаюсь в сугроб, сапоги в снегу. «Витёк, много ль дров наломал ты там, чёртов шут?!» — Уже замерзающий, думаю на бегу. В квартире темно. Приоткрыта входная дверь. И он на полу: недвижим, точно мёртвый зверь. Четыре бутылки; осколки одной — кругом, Я их раскрошил непорвавшимся сапогом. По кругу же — чёртова дюжина хризантем: Налюбленных, бедных — да брошенных прочь с очей Рукой дорогою… Дешёвой. Ты, брат, ничей. Без музы и лира в запое, и лирик — нем. Ты, брат, обезмочен. Без сил как в соборе — бес. И, словно зарезанный, жить разжелал наотрез. И в лобное место, молясь, издолбился лбом. Влюбленный, был вволюшку вылюблен ты, поверь… «Ну что же мне делать, проклятый, с тобой теперь?!» Вот вроде бы дом. Да выворочен вверх дном.VIII
Вот вроде бы дом — только выворочен вверх дном; Я вроде бы друг — домосковской еще весны. История эта — о «парне-без-идиом», О парне без пары — но с перьями из спины. О парне, который корпел, не роптал, но цвёл, Который судьбину покорно курил взатяг. Он был то ли вол, то ль вконец перевывший волк, Оторванный лист иль поруганный гордый стяг. То сказка о рыбе, а рыбе не плыть по земле; О птице, забывшей напевы времён — в силках… Вторая глотнёт небес и станет сильней, Для первой — неволюшка смертно скрипит на зубах. Мой друг был победой — по имени да по судьбе. Мой друг был бедовым — но дал бы такой беды Ты всякому, Боже!.. По роже или под дых, Чтоб сразу воспрянуть, сыскавши силу в себе… И Виктор сумел. Через щупальца тысячи лет, Что шпротами втиснуты в банку минут пяти, Он выдохнул: «Ё-моё, Жор, это ты? Привет! — И расхохотался: — Когда ты успел зайти?!» Хрипливо хохочешь! Да хитро глядишь, храбрец!.. Он выжил! Как выжал из цедры — цирконии сил. О, марево мира: ведь то был ещё не конец. О, губы погибели: вами ль Витёк голосил? Ты крепкий, братюнь. Мы с тобою прошли Афган, Горячие земли. По стёклам песка — без сапог Плелись, спотыкаясь. Хлестали года по ногам; Кочевникам, нам, Корчевавшим вспученный срам, Колючим басом кричал то ли чёрт, то ли Бог. А что он кричал? А чем ободрял он нас, Нагнувшись в чертогах, приставив ладони ко рту Невидимым рупором? Полно. Бушуй, Фантомас! Внезапно живи. По низам? — Как в последний раз! Тебе не впервой в междузвездье взмывать на лету. Давай, поднимайся! Хоть с пола, но выше — в пыл! Пай-мальчиком? Нет. Паев — много, ты лучше пой, Играй в переходах, да там, где обычно пил, Да с тех верхотур, о которых мечтал любой. Рутинные Бог отложит дела: «Парнишка меня пленил!» Отец твой ответит (была не была), Что это тебе не впервой. А сердцем подумает — тем, что стучит ровней, Душой рассмеётся, как рыцари из-под забрал: «Не зря я малому рассказывал о войне, По чести, по совести сына, видать, воспитал!..» И сердцу отцовскому станет светло, Витёк! Ты только играй. Жизнь — она ведь сама игра. Гляди, пять утра. Два часа — и вставать пора. За окнами верное солнце кровавит восток.В московской консерватории — под музыку Брамса
Спи, моё небо, плескаясь по ласковым стенам; Ангельских глаз проливайся голубизна. Пенится фортепиано струистым пленом; Смуглая скрипка танцует с моим катреном, С каждой строкою вальсирует допоздна… Золотом сахар заката тает из окон, Спеют на люстрах колосья масляных глаз… Музыка рвёт изнутри — надурманенный кокон; Музыка — в горле стучит недреманным оком; Музыка — в самые вены мои вплелась… Звук каруселится в вальсе сусально-жутком, Скрипка капризна — звёздами брызжет вблизь. В газовой блузе зигзагами пляшет бриз; Тёплое небо сгущается над желудком. Небо как волны. Небо лавирует в венах, Небо в ногах пульсирует пляскою сил… Выкрути мысли, сознанье моё замеси С песнею вёсен, спасительно откровенных!.. Плавятся вёсны, в высоком сплывают зале С солнечной сцены, медово гудят во рту… Мне — кислородно. С заплаканными глазами Дева Мария смеётся на первом ряду.Баллада о поверженной трусости
Бейтесь, сэр Рыцарь, словно с самим Сатаной; Бейтесь — драконово-жарко и гордо, Люто — как если б за вашей спиной Рушились стены родного города. Рвите — за Родину — тверди бунтующих зол; Жгите в золу сатаниновых пасынков… Чтоб на страницы — ещё не родившихся классиков Светлый ваш призрак с Олимпа времён снизошёл. Бейтесь, мой сэр, не страшась ни огня, ни меча; Смерти не бойтесь, когда искорёжит латы… Будьте достойны, чтоб конь обернулся крылатым, Будьте достойны, чтоб вас он туда умчал, Где беспечально святой ожидает причал, Где позабудется всё, чем вы здесь виноваты. Свет разрумянит греховно-зелёную медь, Всё вам простится, чего устыдились бы сами… Только останется трусость на шее висеть. Цепь не рассыпется — конь не взмахнёт крылами. Трусость раздавит грудь — это страшный груз; Это осколок скалы, что тянет на дно. Но не страшитесь: у гибели сладкий вкус, Коли в бою с нею встретиться суждено. Если за друга падёте, себя поправ; Если, не плача о бренном, нырнёте в век… Рыцарь несётся — рысью, орлом, стремглав; Конь исхрипелся, врастая в безумный бег. Что это?! Враг изошёл обезьяньим криком; Плещет рысак под героем гривой льняной. Падает трусость разбитым татарским игом, Падает рыцарь — на лоно земли родной. Крепость родная — его причастилась силы; Там, за стенами, жена обратилась в вой… Самая битва оплакала храброго сына, Скорбно товарищи сгрудились вкруг него. Что им увиделось в этих глазах стеклянных? Тёплое тело, Раскинувши руки-лучи, Каплею крови, созревшей в артерьях вулканных, Кровью страдальца, которая жизни зачин, Павшей звездою на юной траве холодело. Рыцарь, очнитесь! Вас слава далёко мчит. Смерть улыбается — смейся, tristeza bela!..[2] Рыцарь, очнитесь!.. Вы ныне в иных полянах.Уплыветряное
Бушует дождь на шабаше планеты, Гремит вулкан, волну в лицо гоня. И песни — те, что до сих пор не спеты, Навстречу небу рвутся из меня. Вот молния взлетает на подмостки, Взметнув огонь, как шёлковый подол. Гроза ласкает борзо — против шёрстки! Не оттого ль на сахарной извёстке Моей судьбы — нездешний звук зацвел? Да только сердцу — звона мало, мало… Влечёт сердца извечно ввысь — и вон! Я улечу. Мой парус — одеяло, А мой фрегат — заливненный балкон! Заливненный, закопанный в минуте, За кипой лет — закапанный дождём… Я унесусь — судьба, таким не шутят! Я унесусь — в несметный город-гром! Перед глазами гордыми моими Лиловым вихрем станет воля петь! Порвалось небесиновое вымя — Что бесы, древеса кромсают сеть, И хлещет ведь! И льётся чудо-медь, Святой огонь во чьё-то чудо-имя… Перед глазами дальних рубежей Бежать, бежать по бежевой кручине, По скуке, по тоске — всегда отныне Их панихидя в каждом вираже. И скуку, и кручину, и тоску — Отпеть, отмучить, отстрадать. Опорой Мне — вечность, чинный, волчий хор которой Подобен лишь змеиному броску. Тоска меня раскрошит на куски, Но роскошь душу соберёт единой: Святая роскошь песни лебединой, Светящая сквозь «не видать ни зги». Ни зги — но жги свои высоты светом. Свергая совесть, ты совсем — кипи… Не стоит слёзно грезить о неспетом, Если сидеть остался на цепи! Ты — на цепи. Я нацеплю корону, Кудрявых крыльев нацеплю сполна. И улечу. Я улечу — одна, И слёзно станет завидно балкону.Один
Среди друзей, В кругу годин — Всегда ничей, Всегда один. Читатель тар, Ловитель снов. Для новых — стар, Для старых — нов. Тебе — елей, Где прочим — дым. Любил сильней, Чем был любим. Навеки твой Удел таков: Изгой Средь сотни двойников. Напрасно, пресно, присно — Но с лёту повелось: Покуда не явился, Ты будешь званый гость. Покуда сам не в стае, Там будешь брат и друг. Судьбинушка простая — Быть третьей в паре рук. Спеша тобой хвалиться, В тандем не пустят свой — Они, что единицей Прозвали за спиной. Но соберутся вместе, И, как святая плесень, Порасползётся грусть В сердцах: причастьем чести Слова твоих же песен Пить будут — наизусть.«Я спрятан от мира под маской дверей…»
Я спрятан от мира под маской дверей, За вёрткою дверью в быт. Запутанный, прячусь в межзвёздную трель, И ею в века зарыт. Закованный, кровью питаю ковчег; А кожа — белей бересты. Я пячусь, я прячусь в нетающий снег, В объятья своих пустынь. И спрут подсознанья оплёл меня сном, Коварно кривляя взор. За запертой дверью я выстроил дом И свил из волос — гнездо. Врастая корнями в паркетную гладь, Один растворился в дне — И в том, что умеет зарёю пылать, И в этом, на глубине. И донная, данная, томная гать Любуется днём извне. А стены, да крыша, да плюшевый пол Пожрали мне тело и пыл. Затворник творенья отраду нашёл В тавре из нездешних сил.Отчего мой вид бравурно-жалок?
Отчего мой вид бравурно-жалок? Край любезен — бездна горяча. Ты стоишь, как в серый полушалок Кутаясь в прощальную печаль. Ты стоишь, а я кидаюсь в море Суетно-бездонных небытий: Падаю в водоворот викторий — Тех, что поджидают на пути. И смеётся тьма слепым фасадом, Звёздная глаза взрезает взвесь… Милый друг, храни себя — я рядом: Много ближе, чем возможно здесь.«Москва! Моё сердце, пожалуйста, не отпускай!..»
Москва! Моё сердце, пожалуйста, не отпускай! Держи его насмерть, хоть крючья на треть вонзи! Как дом, горе-думы в дыму, в голове — раздрай. Я после грозы по глазницы стою в грязи. Пусть гроздья души истомлённой омоет река Да небо судьбу наласкает на счастье устами! Чтоб я воротился — на волю тропа легка; К тебе — журавлём последнего косяка, К тебе — обезумевшим волком последней стаи. Ты только вмуруй моё сердце в брусчатку дней, Которые нам судьба — летовать в разлуке. Ты только мне в лёгкие воздухом здешним вей И слышься мне, слышься — во всяком нездешнем звуке. Смотри на меня изнутри бессловесных зеркал, Дыши на меня из нарывов больных нейронов… Чтоб лик твой бликующий в томном уме возникал, Далёкой любовностью лоб еле слышно тронув. Москва! Старорусскою песней терпеть веля, Меня окольцуй ты блокадой молебной гжели: Так истово, как за кровавой стеной Кремля Вздымаются белых церквей лебединые шеи; Так искренне, как разливается нынче грусть По телу, по разуму — сразу невозвратимо. Люби меня, бледная бедная божья Русь, Хоть крошечной долею моря, каким любима. Чтоб не задохнуться мне в жухлой теплыни песка На чуждой земле, намозоленной чуждым голосом. Москва! Моё сердце, пожалуйста, не отпускай: Оно прорастёт из груди твоей сочным колосом, Согреет тебя, разгораясь трескучим хворостом, Споёт тебе, словно слепой и всесильный скальд. Ты только храни меня — солнцем, и сном, и помыслом. Ты только меня невозвратно не отпускай.«Ночь забывается смертным сном…»
Ночь забывается смертным сном; Здравствуй, последний суд. Небо теперь неспокойно лицом; Нынче за мной придут. Кажется, гулок рассветный час; Бьёт, как плетьми, сквозняк. Солнце, молись всей бездонностью глаз: Скоро меня казнят. Утро зардеется медью на треть, Станет манжеты мять. Коли остаток начнет пламенеть — Значит, решили распять. Если дожди зарыдают, не ждя, Чтоб прозвучал приговор, — Знай, безотрадная радость моя: Путь для меня — на костёр. Если же звёзды прольются в вой, Ночь закричит во сне — Грешнице станет страшнее всего: В теле навечном душой неживой Мыкаться — доля мне. Но не прорвался геенный гам; Выси не голосят… Солнце, иди по своим делам: Нынче меня простят.Родина
Русский мой, необъезженный край… Голубая, зелёная мать! Напои меня, силы дай Рисовать тебя, воспевать. Напои меня, намоли, Околдуй ворожбою ржи… Говорить, говорить вели! Литься речью-рекой прикажи! Поплыву по вольной груди, По ладоням полей разольюсь… Ты мне солнцем в глаза гляди, Старославная чудо-Русь! Исповедай мои грехи, Причасти водой ключевой. Чернотой — не узреть ни зги; Окунусь — да созрею, живой. До поры мне уход отсрочь; Дай испить — хоть твоих — седин. Я молю, точно слабая дочь — Что сильнейший да верный сын. Дай с друзьями чуток погулять! Дай, родная, пожить — на века. Хоть коротенько — только, мать, Чтобы громко, наверняка. Чтобы сочно, что колос пшена, Чтобы крепко стоять в строю! Отгуляю свое сполна. Воспою тебя, воспою!Дом
Я дома. Я снова — На родине Цоя, В объятиях зноя С утра до утра. И небо вдыхаю — Без краю, Густое, Что — с запахом крова, Что — с кровью Петра. О, кровью румянится Сумрак спесивый, Моею Россией, Зарёю моей. Я пьяница, пьяница: Алою силой Питаюсь — И каюсь В июлевый хмель. Налейте мне совести Вместо печали; Чтоб сны не стращали Усталую дочь!.. Приехала в гости, Стою на причале. Финалом для повести — Белая ночь.«Я в глазах твоих не вижу радуги…»
Я в глазах твоих не вижу радуги: Ливень буен, зелень глаз — седа. Сбросим путы!.. Уплывём по Ладоге, В мирные годины-города!.. Унесёмся — насовсем да пропадом — На плечах волшебного плаща! И затихнет голод гневным ропотом, За спиной зубами скрежеща… Погляди — война всё злей да яростней: Жадно жрёт живительную прыть!.. На Неве-то не видать ни паруса, Скоро будет вовсе не уплыть… Разлеглась по берегам блокадушка — Там, где волны бьют гранит гурьбой… Поспешим!.. Не то зароет рядышком В Ленинград — навеки нас с тобой. Но молчишь ты, безысходно-смелая, Словно боль бессловием кадит; На лице — зима окаменелая, А в глазницах стынет малахит… Ты молчала, а потом ответила, Как, наверно, редко говорят: «Дочка, на судьбе моей — отметина; Это — гордый город Ленинград!..» Так сказала, точно отпечатала По граниту, что отродно бур: «Знаешь, чем стереть её нечаянно, Легче спать мне, меченой, в гробу!» Не умчишься птицей перелётною, Родину не кинешь в горький час… Мама, мама! Тяжкою работою Наше время повязало нас! Только время — ведь оно текучее, И течёт-то к добрым месяцам… Расцветают ивоньки плакучие — Сединой по скошенным бойцам. Ленинград! Зарёй-румянцем ожили Скулы впалых площадей твоих; Серолицы, выплыли на них Люди, люди — на тебя похожие… И кольцо чугунным пало ободом — Что скала с родимого плеча. И зима угасла, буйным ропотом Реквием себе же отстучав. Ленинград губами невредимыми Оду льёт — о мирных небесах… Нынче небо плачет над сединами В маминых кудрявых волосах.Петербург
Партер. Мой Питер предо мною По сцене бродит втихаря; Привитый ломаной иглою, Увитый голограммной мглою — Артист с глазами дикаря. Он бально холоден, холёный. Холерно худ и белизной Ретиво низвергает зной, Мой славный — не в меня влюблённый… Он одержим слепой Мадонной И бездной прочих параной. Петровский полис! Пыльный сон Рассей последним полусловом! Росой плесни — да светом новым Наполни выспренний поклон! Страдай безропотным Иовом, Взлетая на парадный трон! О Питер, солен твой фасон… Я поневоле в странный невод С тобой плетусь, тобой горя. Ты — пьеса. Белая заря Солёных капель янтаря. Татуированное небо Глядит глазами дикаря.Испания
Распахнула объятья Испания, Накалённая, как дуэль, — Сладострастного прозябания Невозвратная канитель. Распахнула объятия жаркие, Несдержимые, как вода. Принимаю твои подарки я, Зарываюсь в твои города. Расплясалась она, смуглолицая! Танец волен да страстно-скор… Знаю, ждёт меня инквизиция: Солнца дьявольского костёр!.. Зной занежит, закружит до смерти, С головою затянет гать! Только разве то страшно, Господи? Разве боязно — пропадать? Рассекая простор расстояния, Пресекая ростки искания — Безотчётно к тебе, Испания! Безоглядно — до прирастания… Прирасту — и путями окольными Тело зной оплетёт сквозной… Ты сомкнёшься шальными волнами, Бессердечная, надо мной.«Дайте мне севера…»
Дайте мне севера, Дайте мне холода, Как многовластье дают — королю. Снега весеннего С негой без повода: Только её люблю. Дайте мороза мне, Ясного, грозного, Злого алмазного дня. Лучше — свобода смятенья промозглого, Чем западня. Север милее Тлетворного Запада, Юга — и иже с ним. То, что мне велено, То, что задано, — Выполнить дайте с рожденьем зарева, Коль я зарёй храним!.. Дайте уверовать В то, что неведомо, Коли вы вправду — власть. Неги без меры, Во мгле дорассветовой — Чтоб не упасть. Чистого холода, Льдинного полона — Хоть бы ничтожную часть: Жжёт меня поедом, Плавит оловом — Страсть. Бьёт меня молотом, Мучает голодом, Всласть! С каждым шорохом Мысли ворохом В вечность гремят, Восставая порохом. Криком-то крутят пасть! Рвите — хоть духом, Хоть сновидением!.. Пыльно мне, сухо мне В жерле падения; Жар — и от тени Бездонного бдения… Всюду — пустыня-страсть. Рвите — хоть духом, Хоть сновидением! Кличьте старухой, Безумным гением; Наживо нежьте Ножом поколения… Но не давайте упасть! Свищет марево. Радо — посуху Плетью наяривать жгучей — без роздыху. Воздуху, воздуху! Дайте воздуху! Снежным да розовым, Свежим, что озеро, — Дали бы ветром Насытиться мозгу! Дали б глотнуть — хоть раз. Только глоток — я летел бы птицею. Но в небесине, взопрелой да ситцевой, Нет — ни капельки… Поздно молиться мне: Воздух в заре погас. Не дали неги мне Снега весеннего… Прочь — обереги Без промедления! Мне не положено жизнеспасения. Только вулкан безысходного бдения Лавой плюёт из глаз.Совесть
Снова меня ты, прожжённая совесть, Гонишь гореть в аду. Думаешь, бедная, что успокоюсь, Коли теперь — уйду. Душу в запале не брезгуешь ранить Крючьями да огнём… Долго хранила судьбу мою память Спрятанной на потом. Что суждено — осуждённой открылось, Тёмный венец надев. Кроя гордыню, забрезжила милость Скорбною дамой треф. Замельтешила, заворожила, Мстительно велика. Но моя слава пока не довыла: Громко дрожит золотая жила Сбоку от кадыка! Как замолчать-то, не видевши края, Высказать не успев? Можно ли сдаться, сраженья желая? Увещеванья — блеф. Мне, горемычной, окончить повесть Писано на роду. Прежде — на сон не осудит совесть. После — сама уйду.Рождение
Смешно бояться ссор. Грешно ли — суеверий? Я в странный год, нимало не боясь, Под материнский взор — из неземных материй В конце концов, конечно, прорвалась. Хотелось в люди мне, Хоть солнце жарит строже тех, кто рождён, а не закутан в облаках. «Пускай конец броне! Пусти на землю, Боже!» — Кричала наравне с другими я — до дрожи и Господа хватала за рукав. Нас много Там цвело — детей иных материй; мы други были — не разлей вода. Мы вниз просились. Не творя мистерий, смирился Бог с сомнительной потерей, билеты выдал — сверху в никуда. И мы — во весь опор! …Не удержались вместе: поразлетелись, вразнобой несясь. Как были — на подбор, по волостям-поместьям попадали — тот княжить, этот — в грязь. Как припомнить-то теперь добрый час рождения? Верно, жизнь открыла дверь с миной осуждения. Мол, тебя кто звал сюда? Брезгует здороваться. Словом, котовасия — так гласит пословица. Припомнить трудно, коль чинит препоны память: Приземная юдоль свободой не щедра-с. …Смириться, Смерть, изволь: меня не заарканить! Грози розгой: я хлеще в тыщу раз!.. Я рождалась. Мир ревел гривой лошадиною; Трубно бесом верещал, искры сёк из глаз. Распахнул ворота мне Фатум с кислой миною. Я швыряю: «Не томи! Маску гнусную сними — Разминируй, мон ами, Сам себя сейчас!..» …Выход мой был мало прост; Время жгло, взвывая; Воздух горький в горло лез чумой. Чёрт, казалось, сел на хвост; Капал сумрак, словно воск, Телом застывая. Тело, ты несло меня — домой… Раскрылились сморщенные гланды; Разлетелись настежь ставни век… И смутилась Гибель, каркнув: «Ладно… Поживи, пожалуй, человек!» Было ей, балованной, досадно Даровать добыче — вольный бег! По планете с дерзостью с той поры хожу я, Позволеньем свыше заручась. Кажет морду всякий раз жизнь моя чужую: Льнёт к глазам — то князь, то — явно мразь. Бог следит за мной с небес, Бес — из недров чада. Нервно теребит часы тощим пальцем Смерть. Знает Бог: до времени мне к нему — не надо. Знает Демон: я пока не его награда. Гибель, верь: тебе меня точно не иметь. Злишься, знай волнуешься, пышешь перегаром… За былое на свои кости не пеняй! Отпустив на вольный бег — разве манят к нарам? Не примкну, не приманюсь, не отдамся даром; Прежде — честно одолей меня.Дали
Памяти длань! Мановеньем — мгновенье продли… С лаской, какую едва ли века видали, Я подпираю небо долины Дали, Облокотившись на зубья презыбкой дали. Планы сливаются — с плоскости смысловой; Полурасплесканный, пол овладел ногами. Мне ль не расслабиться, Мне ль не прославиться, В купол врастая главой — Логовом мыслей, обвалянных в амальгаме? Нет — затвердению! Тени галдят в глаза. Денное марево мором дымит на мраморе. Морда — в испарине; с пасти оскаленной брызжет ветер-нарзан; Он газирован, что разум — в газовой камере. Грезит о грозах единственный часовой: Я, одиночеством скованный недреманным. Холода хочет подрёберный космос мой; В мыслях держащего небо слепой головой Плавится плева меж абрисом и туманом. Мысли того, кто в размякшую высь врос последней главой, — Славой засеяли синь над его романом.Возвращение
Эх, не пишется мне, не рисуется: Тяжко дышится, сладко спится… Где вы, русские лица-улицы? Всё — кромешная заграница. Заграница — кромешится крошевом, В уши самые солью сыпется. Наглотавшись всего хорошего, Не насытиться мне, не насытиться! Шибко голодно — без родимого, Без рутинного, без российского. Заграница смеётся льдиново: А к согреву — не попроситься. Ты попросишь — вконец расхохочется, Встанешь к стенке молиться — выстрелит. Коль тебе задремать захочется — Смертной негою ложе выстелит… Нет, негоже к пригожей ластиться, Приседать перед ласковой вражиной! Как нальёт заграница маслица — Станешь скользкий, друг, да изгаженный. Мне ни масла, ни мёда — не надобно! Здешний путь мой замшеет, не пройденный. Ухожу в перезвоны ладанные: Приглашен я к обедне — Родиной.Футболь
Верно, разум прав Про мои пиры: Коль бедовый нрав, Доля — вне игры! Но уйти стремглав — Это не к добру: Даже взрослым став, Я ль предам игру? Поле — жизни топь, Время мчит мячом; Бьёт по нервам дробь — Верно, обречён. К чёрту! Я — в отрыв, Честь в кулак собрав: Напорюсь на риф — Доплыву дыряв. Вражеский вратарь Утирает соль; Пропустить, как встарь, Мой триумф изволь! Волком страж глядит, Рвётся вверх орлом. Только я — сердит: Крою напролом! Не поспеть за мной, Воля — хороша!.. Матч в единый строй Замер, чуть дыша… В буре всех атак Чёток был пароль! Кровь стучит не в такт; Вытаращил враг Свой сердитый ноль! И взмывает флаг, Наш победный залп, Чуя чудо-роль. Рёбра ломает ревущий аншлаг, Глухо грохочет ликующий зал… Это моя футболь.Разрыв
Сжалось пространство, глотая меня конурой, В горло вцепилось стремительным поворотом. Как не люблю я считающих дружбу — игрой: Тех, кто прощает пальбу по одним воротам! Разум не верит пророченному извне, Коль изнутри не скребли его кошки — снами. Детство умчалось на сивом простом скакуне — Выскребло дружбу, бесстрастно скрипя стременами. Сгинуло, щедро посеянное по весне; Время сомкнулось над лысыми семенами. Не наигравшись, король отпускает ферзя, Братским объятьем прощальным нещадно связан… Сердце сжимается, если уходят друзья: Их от него отрывает разлука — с мясом.Обескаяние
Тебе, мой Лаэрт.
Грусть моя цепче акрила: Герду покинул Кай. Бабушка ведь говорила: «Сердцем не прикипай!..» Травит прощанья жало, Ест мою постную стать. Мама предупреждала: «Страх — по живому рвать!» Только дорога наша-то Рвётся напополам. Брат мой уходит заживо По не моим полям. Путь наш совместный пройден, Скалится краем земля. Рыцарь покинул орден Старого короля. Резкой и неизбежной Стёрты разлукой вехи; Прошлое давит на жалость — Покуда не улечу. Мы под мирской одеждой Будем носить доспехи, Латы, в которых сражались Прежде — плечом к плечу.Дети
Погода шепчет, отмаливая грехи. Но не блажите, коварные небожители! Детям, считается, трудно писать стихи: Дети ещё непомерно немного видели. Это, конечно, типично взрослый обман; Чистая ложь не сочится лучистой примесью. Чтобы оглохнуть, ныряет Луна в океан, Там и смеётся над переспелой наивностью. Смейся навзрыдно — над теми, кто похоронил Детство своё в чернозёме сутулого смысла. Пусть ополчится на них твой серебряный Нил, Пусть их оплачет Нева и подлечит Висла. Взрослые! Вы бы Вселенной в груди — не вынесли, Всплывши во лжи, захлебнулись бы в Божьем вымысле. Взрослые неизлечимы. Луна, покажись! Похохочи над могилами добродетели! Дети пока ещё помнят иную жизнь, Неба изнанки безвинно немые свидетели.Вершина
Быть иль не быть нашей дружбе? Как знать, как знать, Коль жалеют ответа скупые дорожные знаки? Раскрошились слова — то, что важно, теперь не сказать — Я грызу их, как зубодробильные козинаки. Грузно дышу; только сердце — прочнейший мотор. Тишь в голове, точно ночью меня порешили. Но хорошо, но привольно в обществе гор! Может, без друга — но буду на самой вершине! Горше не станет, ведь горше уже — никак! Вирши мои мне послужат походным маршем. Дом далеко: каждый новый виной тому шаг; Цель приближается, небо призывно машет. Только буря в ушах обращается в тошный шторм; Свирепеют моря изнутри черепной коробки. Вижу горный хребет я конечным земным рубежом — И держу к нему путь. Он, по счастью, совсем короткий. Ночь утробно гремит, будто шабаш семи ветров. Я цепляюсь, как зверь, за последний барьер до цели… Рвусь я к звёздам лицом обветренным; грудью бросаюсь на пик трудов. Стяг вбиваю копьём в темя горное, с пальцев стирая солёную кровь… И гляжу я вниз. Знаю: там, где остался кров, Друг в холодном поту подскочил на своей постели.«Ливень — родитель рун…»
Ливень — родитель рун На поасфальтовых рожицах. Июнь, передлетье, июнь! Июнить — в кайф, коли можется. Марево меряет тюль На перепрелой улице. Июль, моё небо, июль — Июль, покуда июлится! Тогу август надел — Царскую, алотканую. Осени синь: осиянен предел; Лето, лети, окаянное! Лето, лети, подлатавши крыло! Мучаясь, мчишься по сини… Люто следочки твои замело Рыжее платье осени.Братцу
Без намека на моду, вовсе не ей в угоду — ты спрашивал, рада ль была твоему я приходу и Новому году, который тобой откупился, пожалев ерунды. Пред тем, как ответить, я долго глядела в воду. Но дело дудело; желалось словам на свободу… Читаешь глаза мои, словно бы пару писем; как шахматный бог, предугадываешь ходы. И бьюсь я, как блюдце, рентгеновским взглядом братца. Боюсь — извернуться, выкрутиться, отовраться. Чтоб боком не вышло — лишь правду, как перед Богом. Вопросом насквозь — заторможен мой кровоток. «Была ли ты рада, когда я решил рождаться?» Мечтатель — метатель, сестрица — мишень для дартса. «А что с тобой станется, если придётся расстаться?» Зачем вы сплетаетесь, мысли, в один клубок? То жжётесь, как жесть из печи, то подобны вате. Тебе всего шесть. Маме кажется: больше, на вид. Душой не кривить мне — спишь на моей кровати. Ты спишь, потому что поздно: закат кровит. Ты спишь и не знаешь, что я поутру уеду. Ещё до рассвета в родное «не-знаю-куда». А там — целоваться с развратным ворованным небом, Холодным и хрупким, как лёд на груди пруда. Мой милый, мой друже, в разлуку поверишь ты позже. И, чувствую кожею, станешь скучать. Я тоже. Но, честно, вернусь. До небесно-древесной проседи, До первых морозов — да были б они подобрей! Была ли я рада рождённому брату? Боже, Сперва — ни на грамм, как себе. А теперь — до дрожи. И, коли возможно, ты дал бы прожить мне, Господи, ещё хоть немножечко Лёшиных декабрей.Доктор Время
Время, ощерившись, взяткой пробилось в лекари: Щедрость-то всякому судну присудит крен, Коль поколенье коллег, притворяющихся калеками, Приподняться не сможет с корёженных ложью колен. Люди, вы только не думайте, будто я лгу! Я поступала честно, учусь на совесть. Время ж недугом согнёт и прямую в дугу, После — залечит, нимало не беспокоясь. Как большинство докторишек в любом кругу — Ада ль, общения ль? — краснодипломанных то есть. Боже, бюджетники! Жабой безбожно задушенным, Чахнуть вам в анатомии; честным к чему изыски? Время — Принц де Коррупцио: куцых прельщает кушем, Райскими кущами или роскошным виски. С кем-то оно посидело удачно за ужином — За ночь заочно закончило Медицинский. Доктор! О док, до которого не достучаться, Не дозвониться, не докричаться по рации — Вы, оперируя, мне невзначай пропороли железу счастья, Жилу железную — лучше бы вам не браться!.. Это у Вам подобных случается часто, Видно, ввиду недостатка квалификации… Вам бы пройти, доктор Время, хотя бы практику — Нет, откупились, одною деньгой единое! Время, Вы ж пляж превратите с картинки в Арктику, Темя и томной тьме сединой наблондинивая! Каждому чёрному оку — седое облако, Белую бровь — с кровью ран, отболевших ранее… Всё ведь Вам, Время, что по лбу, что в лоб, что побоку; Не занемочь бы от Вашенского врачевания! Долго ль стоять на морозе-то? Вены сжалися — Холодом, голодом; ветры нутро мне мнут. Время на правду плюётся и обижается, Шутку за правду заправский суёт баламут: Стрелки часов навострили меткие жальица, Переместились назад; разве мститель сжалится? И ежечасный автобус со мной разъезжается, Двинувшись раньше намеченного парой минут.Погоня
Словно вора, волка — сворой горестной, Лай цедя сквозь сито лжетактичности, Обвиненья гнали меня по лесу, По чащобам застращённой личности. Видно, кем-то спьяну напророчена Мне тоска таскаться меж трясинами! Бор издёрган, искорчёван корчами; Силы нет — собраться зверю с силами… Сипло зверю вслед двустволки дулами Взрыкивают, щурясь двоедырьями. Но меня не запугаешь пулями, Не приманишь псевдоперемирьями! Волк бежит, сжимая волю скулами; Плачет пульс: «Не вырони, не вырони…» А борзые — ближе, всё назойливей: Перекрыли тропоньку обратную. Лапы беглеца гудят мозолями — Не свернёшь, сорвавшись на попятную!.. Окружённый — куража лишаешься; Страх корёжит судорогой мускулы… Только ветки, как живые жалюзи, Душу слепят голосами тусклыми. Воют, зло-золу мешая с ласкою, Точно землю мытарь на костре бранит… Счастлив скорой самострел развязкою: Продавай-ка совесть за серебреник! Нет, не надо нам монет, намоленных Честью, за бесценок в рабство брошенной. Скор конец погони скоморошной; Я к нему ль — на лапах измозоленных? Не к нему — но немо в темень памяти За огнём; а истине — служил ли я? Обвиненья, глубоко копаете! Против шерсти рвёте сухожилия! Я петлять — вы петлю враз на шею мне Да на пятки, черти, наступаете! Глохнет топот по гнилой замшелине, Тонет, бедный, в буераках памяти. Исповедью вас едва порадую, Перед сворой на мысочках шастая: Окольцован клеветой-блокадою, Врос я в почву, мшистую, мышастую. Стали лапы древними кореньями, Кровь — смолой, кривые когти — иглами. Языки-то пёсьи — обвиненьями Стан основой в ствол сосновый выгнули. Волчья шкура, сплошь поиздуршлаченной Отвердев корой, чей чёс неровен, Стала — склепом, склянкой бурой крови, Крови, желатином насмерть схваченной. Кто травил с оружьем наготове, — Замерли ордою одураченной. Плеском лес скрипучим их подначивал: «Невиновен, черти! Невиновен…»Принц
Я хочу, чтоб на улице было серебряно-зябко; Просто выйти на стужу из горла топлёной истомы. Из постели, из кокона комнаты, как из комы — Из клыкастых ворот своего воскового замка. Воск поплыл; стены залов мечтательно размягчились, Предавая причастие, вечность, точёность, чинность. Я хочу на игольчатый ветер, как Спас учил нас, Чтобы жизнь, не легчая, серчала, зачлась, случилась. Я хочу — по снегу, как чёлн. Человеком утлым. Сквозь кружение пчёл, изрождённых пургою-ульем. Напролом, словно брея, — до рая драть рой их пудренный; Мчаться так, чтоб не нравилось время глаголу «умерло». И кормиться, и греться от солнца родного сердца; Сердце — соль для поморца, для принца — порция перца В августейше-густейшем бульоне, рутинно-пресном. Мне тепло за пределом теплицы, который треснул. Мне тепло на морозе, тепло под крылом у стужи: Не в навязанном плюсе — но в шоке при знаке «минус». Не привязанным к прозе искаться в стихе снаружи — За алмазной молюсь я решёткой на эту милость. Где я? Там ли — в нетронутой грёзности гроз бреду Вброд по бедам сквозь бред? Я — на воле ль, остался внутри ли Склепа, слепка из воска, что плавится прямо на льду, Посреди снегопадного моря пчелиной кадрили? Я не знаю. Мне жарко, что жертве в додрожном триллере. Наморозив ладонь от окна, прижимаю ко лбу; Спальня плавится стенами. Вьюга, услышь мольбу! Чтобы сбыли меня, чтобы выкурили, отринули, Чтобы силой отсюда на волю, на волю вывели, Из клыкастых ворот чтобы вынесли — хоть в гробу. Слушай, вьюга, гулящею девкой хлеща по лицам Полувысохшим путникам, бедным твоим любимцам… Я закован в хоромы, ты дышишь в моё окно Злобной бездной узоров, манишь, как златое руно. Дай мне выйти к тебе. Мне, сторонница. Принцу. Принцу.Без меня
Попробуй — вовсе без меня. Попробуй. Проститься, как с родной, но драной робой. Как с тяжкою — хоть торбой, хоть хворобой… Отбросишь — и вздохнёшь, совсем как до. Порежешь глотки Галатеям-узам, Не будешь трусом. К Пасхам и Наврузам Из разу в раз взлетать в свободу — музыкой Привыкнешь на основе айкидо. Простись со мною, словно с возом, с вузом. Пересечёмся — я не буду узнан. Гони мои из крови — мыслей гены. Гнои забвеньем голос мой и молодость. В честь гигиены уповай на холодность, морозом ликвидируй аллергены. Час от часу — в расчёсах аллергии. Очисть очки от слоя ностальгии. Простимся на дороге, как другие. Прости. Простись. Простынь. Лечись. Гундося, люби, кривляйся, нравься — обескровься. Из крова — прочь! Мне ночь закрасит проседь. Допрос окончен, приговором — высь. Простимся здесь. На пристани — допросе. Будь — безменянно, зло, бессменно, вовсе. В бурде бордосской, в медном купоросе, Я утоплю своё «мгновенье, длись!» А ты — простись. Окстись. Не отзовись.Про прощание
Знаешь ли ты, почему нам пора прощаться? Думаешь, новая блажь моя — баш на баш: Око — за окна, которыми щурилось счастье, Веко — за век, недовзятый на абордаж? Думаешь, я расплатиться хочу с Фортуной? Гадость за радость, отхваченную напрокат? Знаешь ли ты, что не хватит тоски латунной, Чтобы покрыть ею то, чем я был богат? Это не прихоть. Просто надо прощаться. Верь в это ты хоть. Сутью презреннее — что Пересидевшего гостя — последнего часа, Колкостями превращённого в решето?! Счастье дряхлеет от нашего неучастия. Цирк отцарил. Разберём — от греха — на части Тусклое, опустевшее шапито. Прошлое — нагло жеманится старою леди. Надо проститься, покуда возможно это, В Лету швырнуть каждый выдох нашего лета. …Маятник бьётся, как загнанный эпилептик. Я выкрикнул альфу. Ты прошепчи бету. Вспыхнувши, наше — подхватится и уедет. Надо проститься — нынче, очно, не на ночь. Досрочно вымести сор предстоящих ссор. Одряхленье для счастия — самый дурной приговор. Слаще — погибнуть в юнецком соку. Топор Рокотом бездны обрушь, Родион Романыч! Ты, о счастье, которому старость — дырявый алтын, — Смерть драгоценна тобою. Умри молодым. Счастье должно непременно сгорать молодым. Вспыхнуть — и всё. Без агонии загниванья. Вот я была — родная, теперь — одна из. Что? Превращенье? Скорее — отмежеванье. Счастьежеванием с целью продлить доживание Те исконно грешат, что из жадности — слишком знались. Надо проститься = Успеть до успенья желания. Надо. Я знаю. Это — психоанализ.Морс
Вместо солнца-рубина, чьи грани — пылки, Солнца-рома, пьянящего прерии, Я пью морс, ограниченный телом бутылки, Из стеклянной её артерии. Тёплый морс, цветом алый, что жидкий Марс. Vita brevis. Не сбрендить бы — Вот в чём — ars. Всполот всполохами витринными, Манит в улицы город-инкогнито. Но молчу я в колени, отлынивая, И граничусь ёмкостью комнаты. Рябь рубиновых рыб киноварью в уме. Я меж стен. Я охрип. Сам — в аквариуме. Так-то в горнице лысо и голо, Что за голость плачу налог. Все толкуют о смене пола — Значит, время взглянуть в потолок! Я хочу его — выше, выше, Чтобы легче взывалось к Вишну. Потолок сменю — в радость Кришне — Старым способом сдвига крыши. Я сменю потолок — круто, гордо. Старый, нынешний — больно лишний. Новый будет — квадратному горлу (Горлу кельи, бутылки, горна) Капитальным отсутствием крышки. И бродить по заре, не по городу, Сквозь него я, от времени года Не завися, — взлечу. Зависну На высотах полёта мысли. Предвкушением жив монолог. Я на небо сменю потолок, Чтобы каждый вечер — Всевышний Прямо в комнату без зеркал Солнце спелое мне кидал Алой вишней.Бабушке
Ты просто обязана выздороветь.
Потрясает осень гривою линяющего льва, Знай разбрызгивает ливень палевый! …Был мой дух изнанкой вывернут, посыпались слова: «Выздоравливай, прошу, выздоравливай!» Два словечка, злую пару — золотых, что палый лист, Бездной множенных стократ осторожненько — Я швыряю, как уверовавший в небо атеист, Рваным голосом прозревшего безбожника. Выпускаю с кашлем — тоннами в окно слова из пут, Изломав тупыми пальцами — жалюзи. Пешеходы! Гляньте под ноги! Червонной вязью тут По асфальту вперемежку буквы с листьями цветут… «Поправляйся, чёрт возьми! Ну пожалуйста…» Тротуар линован чинно, точно детская тетрадь; Гладок, точно детский взгляд — ни ухабышка. Хоть пишу, как ты учила, — трудно, трудно разобрать Буквы, призванные встать — стройно, рядышком. Лев линяет — вот причина. Ливень плачет. Ты на гать Поглядела б. Различила, как кричит асфальта гладь Там, под нею: «Выздоравливай, бабушка!..» Как под маской: «Выздоравливай, бабушка!..» Ради звёзд, выздоравливай, бабушка. Маска листьев — палых, алых — карнавала атрибут. Чай, Венеция пирует отчаяньем: На высоких пьедесталах — львы нутро моё скребут, С каждой крыши листопадят рычанием… Львы ленивые, злобивые, отравленной Лавой ливня отлиняли — властно, лиственно… По Венеции, по русской, неправильной Расплывается червонная истина. «Выздоравливай! — кругом. — Выздоравливай!..» — воет каждый лев рыком истовым. Но не лев — тот, кто прав. Кто, злой нрав поправ И разбрызгавши сполна ливень палевый, Воет, небо скребя. О тебе. Для тебя. Воет голосом моим: «Выздоравливай!..» Очервонилось просветом небо низкое. Нынче, Осень, ты прозрела атеисткою.«Я в последние дни — чересчур о своих проблемах…»
Я в последние дни — чересчур о своих проблемах. В раж вхожу, похвалясь в выраженьях мосластых, бессмысленных, Точно нищая армия — количеством военнопленных, Как блатной институтик — числом неповинно отчисленных. Я в последние дни — зажалелась до кожной ржавчины, Жалом жалости к пошлой себе выжгла помыслы добрые. Так что времени жить да писать теперь недостаточно, Так что нынче нытьё лишь одно ко двору да вовремя. А ведь хочется снова слова воздвигать, как крепости, Чтобы пахли стихи изголовною музыкой космоса!.. Наземь рухнуть, сорвавшись с креста повседневной нелепости, И воскреснуть, раскрывшись глазами доброго помысла.Кому — низменности?
Я не люблю, чтоб была превышена мера: Легче просыпаться ситом, чем выспаться сытым, Ибо кому-то моя разгульная эра — Точно выходит боком дефис дефицитом. Пир у меня? Пояс чей-то стянулся туже. Бьюсь об заклад: коль нашарить случится клад, Фатум кого-то в отместку посадит в лужу, Ложью заманит на ложе прокрустово, гад. Думает Фатум: «Всех осчастливить не сдюжу; А раскрошусь по грошу — кто же станет богат?» Негодованье оскалится бездной вопросов: Всякому по копейке? Вскипает общество! Мало! Народу неймётся, а только ропщется: Каждый второй — суфлёр, каждый третий — философ. Фатум, не мучься; отметил ещё Ломоносов: Здесь появилось — значит, вон там закончится. Фат, Ломоносов-то — был посол полномочный: Старого века, старой северной вотчины. Был он посол; мы же слабого, друг, посола: Даже злословить не каждый умеет соло. Только из общей бочки — нестройным хором — Бога покличем Чёртом, дарителя — вором В пику безмерно-мирным переговорам. Мера должна быть и морю, и миру, и мареву, Нищенству нищего, барству борзого барина. Чтоб не солить ни единому слою социума: Мера — на систолы сердца, на сладость солнца. Всем по копеечке — просто чтобы не ссориться! Чтобы всяк на гроше принцессил, как на горошине! Всем чтобы поровну — порванной в порции жизни! … Слушаете до сих пор? Дело в моей харизме, Как сообщает каждый третий опрошенный. Что-то я нынче занозлив, и слог мой низмен, Что-то я в слишком глубоком, пардон, коммунизме — Всем насулил-то по крошке всего хорошего! Так не пойдёт, господа. Начинаю сызнова. По существу, мне порядок сегодняшний нравится: Был бы я — Фатум, оставил всё так же бы, в принципе: Умный родился? К чёрту! Дурак — отравится. Стерва-судьбина? К чёрту! Зато — красавица! Всё окупается; главное — не торопиться. Знаете, я вот всюду ищу положительное: Даже на злых языках — чтоб они отсохли! Четверть интервьюированных долгожителей — Это приверженцы славной моей философии. Стоит её рассмотреть на конкретном примере: Измождён в универе, издождён до последней нитки, Я, поглядите, лишь укрепился в вере: Кто-то в этот же миг, для меня — бледноватый да жидкий, Присягает на верность румяной разгульной эре. Представляю — и пытка утратила прелесть пытки.Театр Яда
Я видел тебя — едва ль далеко: В паре песен от Тёплого Стана Висел ты в выси, разодетый в трико, Мерцаньем пыля неустанно. Луна была круглая, как молоко В подзорной трубе стакана. Ты реял под нею, король-акробат, На нити, на ноте, коль нота — канат. Звездистым отдавшись водам, Качаем текущим годом — Над спящим земным народом. Луна была прорубь: сулила возврат Туда, откуда ты родом. Пробоину выжег в полу ты своём — Дыру в потолке надземном. Плеснул любопытством в круглый проём, Как будто белёсым зельем. И нынче, бродя по безлюдному дну, Я снизу глядел, император, — На млечное небо твоё в луну, Как будто в иллюминатор. Оно, не вмещаясь в глазок целиком, Живой полыхая белью, На спящую землю лилось молоком, Лилейною акварелью. И ты, обхвативши те струи тайком, На них колокольным сновал языком. Сквозь прорубь сочился твой ласковый дом, Влекомый земной постелью. …Сквозь прорубь ты сверху со светом проник Под звёздность чёрной коросты. Оттуда, где вечность первична, как миг, — Туда, где привычны погосты. Проник и завис на молочных струях лучей; Там был королем ты. Здесь, словно ночь, — ничей. … Темнел надо мной ледяной потолок И грань меж мирами моргала. Был нижний из них — мой подлунный острог, Был верхний — твоя Вальгалла. Моргающим звёздам туман потакал, Бессловьем клубясь тяжёлым… В пробоину небо лилось с потолка, Что был тебе прежде полом. Лавиною лунного молока Ты взят на чужбине в полон. … Взбирайся домой, император неба иного, Взбирайся по нитям лучистым мира родного! Исчезни в пробоине — завтра спустишься снова; Теперь же — в Луну, во спасенье от гула дневного. Затянется прорубь лазурью — порвутся лучи; Ловчи не ловчи — горе-зори тебе палачи. Взберись по канатам, как делают циркачи, Оставь без себя предрассветную Terra Nova. Хотел поглядеть на мир под опаловым льдом? Взглянул. Возвращайся, покуда зовёт тебя дом. Взглянул. Возвращайся, пока не отрезан путь. Рассвет на подходе. Осталось совсем чуть-чуть. Сомкнёт васильковые губоньки пасть луны; Сомкнёт васильковые веки луны глазница. И утро утрёт полуночность молочной слюны: Подтёки молочных слёз утереть грозится!.. … Но ты не уйдёшь, повелитель надлунных сфер. Ты слишком всевластен там, чтоб страшиться здесь. И даром, что стал потолок васильково-сер. И даром, что в нём растворилась звёздная взвесь. И даром, что рана зияющая Луны Теперь затянулась лазурною зябкой кожей. Твой взор безотчётен, мгновения — сочтены. Отныне не быть для тебя никакому «позже». Закрылась Луна, эта прорубь, зиявшая ртом; Под корень канаты откушены были безвинно. Теперь не взлетишь из-под свода туда, где дом: Оттуда, где синью окурена домовина. В канатах оторванных путаясь, вниз ты парил — Летел беспробудно, и вольно, и сам — лавинно. И было тебе полётом всю землю видно; И было тебе не дрожно — держу пари. Ослепнув зарёй, обезглавились фонари; Омертвело-горбаты чугунно-чёрные шеи. Неужель волшебство умирать рождено, неужели? Ты, беженец Альфы, прельщённый глубью омег, В надлунии правил, где равен мгновенью — век. Взалкавший паденья — беглец королевского сана — Теперь почернело как древний лежишь оберег, Лишившийся силы. Чугунен, что человек. Что мёртвый фонарь — бездвижен, обезъянтарен. Лежишь, в преземные снега заточён и вварен, На белой земле — тротуаре Тёплого Стана. Мерцаньем твоим напитавшись, сделался снег Густым, точно сон. Точно август. Точно сметана.«Не оголяй понапрасну свою мечту…»
Не оголяй понапрасну свою мечту, Я её легче сама по глазам прочту, Взглядом наощупь выхвачу между строк; Не помогай. Будь снаружи бессрочно строг. Выспренно раскрываться — равно рисковать; Дримы стыдливей, чем горница, где кровать: Им априори не цвесть — проходным двором. В душу укромную пустишь ретивую рать — Та разворотит доверья дверной проём; Рота сапог, распоров до святилища дом, В храме твоём надругается над ковром. Сам не заметишь — а ворс-то завял да поник; Дух обезбожен, как обожжённый язык. Обезображенный дрим-то поруган, поруган… …Будь изворотлив, пронырлив и многолик: Обзаведясь артиллерией верных улик, Уполномочься молчать омрачённо-грубым, Уполномочься мычать, подражая трубам, Но не пускай никого на священный родник! Друг — самовольно, с мечом? Он казался другом. Если же был — пусть не лезет, как вор во храм, В душеньку — хам, пировать — неопрятно-упрям. Пусть твои дримы, что драмы, читает сам — Не по фальшивым афишам, но по глазам. Ты, заклинаю, не мучь, не мочи мечту Щёлочным светом, гулом по голым крыльям. Прочь! — опорочит горячность фею бессильем, Тем облачив обнажённую — в нищету. Очертенев — никого не пускай за черту. … Не фасонить мечте в неглиже — чересчур нежна. Кожу воздух оближет — она зацветёт водырями. Береги мечту, будто история искажена: И она горит героиней в твоей же драме! Говори: «Это Бог мне! Блаженная жизнь! Жена!» — Прочно пряча за недоверчивыми дверями Там, на дне души, где душисты свечами — зонги, Где покойно, и тихо, и чисто, где час — намолен. Ведь твоя душа глубока, как глаза беспризорника, Как закутанный в материн голос закат над морем. А по морю лавируют вольные каравеллы, И на мачтах мечты раскрыляются парусами. Сколько тех парусов? Как бы волны, кровясь, ни ревели — Не вместили б числа их, свечения б не описали. Там ей будет сохранно, мечте, точно в тёплой памяти — Лику Бога да имени слишком любимой женщины. Только не оголяй, умоляю, не дай пораниться. Сокровенному — веришь ли? — проще всего — обжечься.«Упиваться смешным превосходством — устань…»
Упиваться смешным превосходством — устань, устань. Безодёжно в колючем морозе — не стынь, не стой. Нерестится ли месяц монистами звёздных стай? Удивлённо глядишь. Больно воздух сегодня густой. Он густой, как румянец под пыльным фарфором щёк, Точно эти глаза, сквозь меня целовавшие даль. …Мне сегодня сказали, что мир октябрит ещё; Удивлённо гляжу: я-то думал, теперь — февраль. Я уйду — на морозе останешься стыть одна, Но за пыльною наледью вспыхнет небесная аль, Стоит только назвать моим именем тёмную даль — Ты получишь ответ и не будешь удивлена.Снег выпал
Кто-то шепчется на снегу — Это мои следы. Снег сегодня выел тоску: Слеп, как дрёма, и сед, как дым. Снег спросонья выпал, как шанс — На дорогу, ведущую вверх… Он укутал, бело-мышаст, Землю в волчий мех. Принародно принарядил, Накружившись всласть. Я сегодня долго бродил, Не боясь пропасть. Оттого-то теперь покрыт Веской вязью весь — В землю выплаканный навзрыд Сон и сын небес. В землю выплакан — лёг на ней, От ступней бугроват: Я сегодня блуждал вдоль дней — То вперед, то назад. Утомившись, присел на миг, Как на сваленный дуб. Слышишь, шёпотом снег дымит? То века идут.Friends will be friends
Сердце рёбра сдавили — столь сильно оно разрослось, Мандариновым соком кровь потекла по жилам; Мне свежо оттого, что по-прежнему нежно-живы Те, с которыми встарь породниться душой довелось.Ante
Bellaночью свит, ты явил мне свет, сальвадор;[3] Или даже не свет: я не в силах спасаться светом. Сквозь небесное сито солила наш разговор Прошлогодняя осень, какая на всё — ответом. Раззвонилась высшая просинь — по ком, по ком? — Просыпаясь мукой через частые звёзды-поры. …Ночь снежила снаружи, а я зимовал под замком. Ты курил — и кудряво по камере цвёл покой, Без которого звери, наверное, роют норы. Звери роют, а я не горю — подниматься с нар, Мне бы — в небо глядеть, коль окно до поры прорыто. Сквозь него ты влетел, сальвадор — соловьиный дар, Лёг со мною серебряным телом ночной сюиты. Нам на пару синелось дыханием звёзд впотьмах; Ночь была в потолке — васильковым оконным квадратом. Мы лежали на нарах — ровно, рядком, брат с братом. …Верно, пах я тюрьмой — как царевны в своих теремах. Мы чему-то с тобой хохотали — совсем как люди. Ты курил, и нутро домовины полнил дымок. В нём я радостно знал: тут наутро меня не будет, И, упрям, как пророк, твёрдо ждал — ступить за порог. Ждут с подобной отвагой, что кровь превращает в студень, Только звери — освобождения из берлог. Прошлогодняя осень твои просолила сказки, Был ты — тень соловьиной трели, отцветшей давно. Я на небо глядел — в васильковость мою — без опаски; Снегом сытно-сиятельным сыпало в нас окно… А к утру появились Они, скрежетнув засовом, Затопив аритмией топота коридор. И меня увели, как других уводили. Словом, Ты, невидим, остался один, господин сальвадор. Растворился в дыму отгремевший по мне приговор. Ты явил мне свободу; с нею иду на костёр.«От ударов судьбы раскраснелась щека…»
От ударов судьбы раскраснелась щека; Не поддамся — не отверну! …Ты хотела бы жизнь приручить, как щенка, Я же — выиграть, как войну. На кону — чистоумье? Коль я — на коне, Кланом рухнет невзгод колоннада. …Ты мечтаешь о тихом и ласковом дне, Мне же дна — никакого не надо! Царским именем мама меня назвала, Каждый звук его — песней налит. Ты чураешься зол, мне — любая зола Пламя спящее напоминает, Что однажды цвело — и распустится впредь, Только — гуще, подруга, гуще! Зол бежать — только преть да не петь в полный рост. Опираясь на трость, я стою; выбор прост: Треснет мост — рухнет грешно-грошовая треть Между греющим и грядущим.Краткая хронология французской поэзии
Вийон! Вы, висельник весёлый, всевластно взъели явь властей. Остряк Рабле, безрубло-голый, пообнищали-с до костей Перед лицом планеты всей. Считая тело — лучшей школой, Театром храм назвали сей. Творцы! Поэты — всяким фибром!.. Столетья шли, прощаясь хмуро. Взрастает новая фигура На фебосклоне стихогиблом. Верлен лавирует верлибром В волнах вербального велюра. Рембо ребячески мембрану морали рвёт, мордуя мир. Аполлинер, не ставя точек, Шелка французских оболочек Грызёт до ран, до вечных дыр.Северностоличное
Петербург причастился мной, пренебрёг другими; Утонул в его гаме я: небо пошло кругами. Ты, столица с лицом врагини, с нутром берегини, Вкруг меня развернулась причудливым оригами И, прищурившись, пахнешь годами, какие погибли, Каждой нотой в моём отцветающем детском гимне: Пахнешь манной пургою и мамиными пирогами. Пахнешь кашей детсадовской, пахнешь кошкой дворовой — Столь же дымчатой, сколь и твои-то, столицыны, очи. Дышишь в уши мне хором оравы задорно-здоровой, Как веслом, ностальгиею — мысли, как волны, ворочая, Ведь вторая семья называлась нашей оравой! …Мы, ребята, рассеянны, чёртовы семена: По Руси ребятня, как простуда, разнесена. Я и сам-то теперь — в белокаменной, в златоглавой. Приезжаю — как рану, прошлое вскрыть захотев: Звёзды (те, что на пиках Кремлёвских) — сменить на треф, На хохочущий крест якорей-то — реки да моря… Приезжаю, верный привычке: отбывшее отымев, Мы назад повернуть хоть однажды у времени молим. Только страшно, Петрополь, страшно дышать тобой!.. Ты, конечно, не дым. Ты, приятель, потяжелее… Я приехал, пожаловал гостем — теперь жалею: Мне гостить у тебя — это, знаешь, тупая боль. Как гостить, если ты, Петербург, — мне гранитные кости? Если ты — мои жилы, служившие, точно часы, Так исправно, что — стыдно и тошно?.. О судьи, бросьте: Питер — стан мой и стон мой. Я его… я его сын. Вновь подстреленный — маюсь, да с миной побитой псины: Ловит ранушка ртом губастым родимый воздух… Зажимаю ладонью — но сволочь глубже трясины, Знай гудит, выпуская наружу остатки силы, Дарит городу их. А над ним — небо синее, в звёздах… Неба взор, как у бабушки ласковой, тёмно-ясен: Им глядят только сны да портреты пятидесятых… Отрываюсь от Родины — мыслями, мастью, с мясом — И блуждать улетаю осенним листиком ясеневым, Словно страстные письма, не помнящие адресатов. Пах насквозь продырявлен, а город… он пахнет, пухнет, Перенаселён силуэтами воспоминаний, Полутёмными пятнами — каждое путник, путник… Им забытое детство было заботливой няней. С завывающим пахом, разинутым нараспашку, Уезжаю. Сколько ещё будет дурню — дыр? …Слёзно Питер уткнулся носом в мои следы, Словно прежде, когда-то… в отцовскую я — рубашку.Истине
Голос спит в моей груди — тихо; Просыпаться голосу — не с кем: Истина погибла от тифа; Прочее не кажется веским. То, что в сердце жило отрадой, — Там во склепе тлеет бумажном… Истина скончалась от рака; Прочее не кажется важным. Прочее не кажется вечным, Прочее не кажется прочным. Спит мой голос тихо, как вечер — Теменью вдоль сельских обочин. Спит мой глас и через сон помнит Милую, родную, но — ту ли? …Полегла на бранном ты поле, Пала от предательской пули. Полегла, святая отрада! Сгинула, отрадная святость… О, моя единая правда, Для чего ты от меня спряталась? Без тебя — трясинушка манит, Свет и тьма не знают раздела… Голос мой во сне обнимает Милое холодное тело. Там, в груди, во склепе бумажном, Вы вдвоём. Он спит, ты — почила. Отчего ж до сей поры я — жива? …Я умею верить в Однажды; Думается, в этом причина. С Верою недужим мы тяжко, А без Веры — неизлечимо. Знаю — силы нет обмануться! Вы в груди — и мартовский лес в ней. Будет Пасха — из земли куцей Вырвутся свободные песни. Голос мой захочет проснуться; Только ты — воскресни, Воскресни.«Я гадала полдня на Беляево…»
Я гадала полдня на Беляево: То ли мир — меня, то ли я — его. Резвилась радость адово, Коса кромсала камень. Мороз меня обгладывал Собачьими клыками. Белым-бело, Беляево Зевало, завывая… Любовь моя объявлена, Как Третья мировая. Пургою мёл перловою С молельным умилением В меня, темноголовую, Безудержный миллениум. И коже было холодно, Душе — тепло, что в храме: Душа любовью холена, Пришедшей к ней с дарами. Метелью, снежно брезжащей, Москву тоска хоронит… Душа — в бомбоубежище: Её война не тронет.Единица
Ничьею напраслиной мир не мерь: Ты Богом обласкан — ему и верь. Расхожие фразы — всеядным хлеб: Живи, не измазан в хуле и хвале. Блаженнее голод, чем вкус дерьма; Блаженнее холод, чем адская жарь. Обиженный город, где только дома, — Без неба его не жаль. Себя ты, как нытики, не лелей: Где желчь самокритики — там елей. Теснить и тесниться — удел нулей, А ты — единица. Ведь так — милей?Авель
Брела по земле я с Авелем, Был песнею полон рот. Но друга схватили Те Самые И грудью — на эшафот. Клинок к кадыку приставили И выплюнули от щедрот Ему — обо мне: «В бесславии Помри, или пусть поёт!..» Но тщетно руками потными Мусолили честь палачи: Невинные ни оробелыми Не воют, ни обречёнными: Шептал мне Авель: «Не пой ты им…» Очами кричал: «Молчи!» Уста его были белыми, Глаза его были чёрными. Под взором, под небом — сутулая, Для светлых лелеянный гимн Сглотнула я, трудно сглотнула я, Чтоб он не достался другим. И комом та песня — не песнею — Застряла в горле моём: Казнили Авеля бестии, Сквозь брань хохоча втроём. Один, что назвался Каином, Мне кинул, травинку жуя: «Достойна рукоплескания Великая стойкость твоя». И прыснул глазами карими, Безжалостный, как Судия. …Сутулой трое оставили Лишь небо, что зрит в упор. Брожу я под ним без Авеля, Одна брожу — до сих пор. Тугой немотою мой вздыблен путь: Ест горло проглоченный гимн… Как хочется песню выплюнуть! — Но нет: не идёт к другим.Диалог после поэтического вечера
Посвящается Анне Дворжецкой
— Девушка, здравствуйте! Знаете, вы прекрасны! Вот что скажу я вам просто и без прикрас. Только нарциссы и пресные… педерасты Пренебрегли бы морями солёных глаз! Видите ль, дева, хоть я не безгрешный пастор, В Господа верую: выдумал Бог контрасты Только как повод тухлому миру — вас Звонко представить, а после — противопоставить. В голосе вашем — всевластная сласть, уста ведь… — Сударь, вы льстите. — Вернее — попался в сети! — Сударь, окститесь. Сударь, не окосейте! — Дева! Ваш голос — созвездий иконостас! Искры таланта — суть всякой из ваших песен… …Влажен издышанный воздух. Глаза сухи. Зал — словно сад, над которым закат погас; Сад, замолчавший кустом опустевших кресел… — Сударь, простите. Так вам по душе — стихи? Петь — я не пела. Читала. — Вопрос прелестен! Только… — Не слушали? — Слушал! — Да слышать — глухи. — Девушка, что вы!.. Однако в повторный раз Мне повторите вы стихосплетенье фраз! …Зрительный зал опустел, а закат погас. Девушка снова читала, читала долго, Словно на сцене, словно на Сцене Сцен. Голос её разливался, шальной, как Волга, Силой беря Вселенную под прицел. Кончен концерт; стих пролился лавиной по воле. Хлынул, как ветер, — для неба и лишь для него. Не было зрителей. Не было. Только Двое: Бог и Поэт отвечали за Рождество.Письмо к Богу
Здравствуй. Неловко, но снова тебе пишу: Лишь за последние сутки, поди, раз пятый. Я со своими грехами — гороховый шут, Гору каких, попотев, нагребёшь лопатой; Нынче тебя мне напомнил сосущий шум — Там, в голове, на минутах-гвоздях распятый. Там, в голове — ты поверишь? — кадит бедлам. Череп — котёл, тишина — за его пределом. Кажется, мир раскололся напополам: Прежде был целым, а сделался — оскуделым. Господи! Ты отлучился по важным делам; Я отучилась лечиться любимым делом. Тик обрела, однако, на этикет: Тик — на тактичность латентного мракобесья. И, как назло, стала слышать всё чаще: «Нет, Деточка, Бога! Бог — сказочен!» Бог, посмейся! Те, кто заврался, верят себе — во вред, Месиво смысла предпочитая мессе, Коль разговор зашёл о приоритетах… Бог, извини, но они с высоты сует Смотрят при этом глазами попов отпетых, Так что утонешь, прозревши, в созревших ответах, Ни одного-то не дав!.. Ты, мой Отче, сед; Те ж, кто тебя не пускает на свой банкет, — Серы, что стены в общественных туалетах. Боже, но есть и такие — кто напролом, Кто с топорами — в душу мне, в думы, в дом. Кто не отягощён кандалами приличий. Знаешь, и голос у этих — трескучий, птичий, Голос — один на всех, понимаешь, Отче? Тот, что впивается в мозг, точно лезвие, точен. Отче, такие толкуют без всяких «деточек», Без мракобесно скупых экивоков морали. Нынче — ворвались… Целую ночь проорали, На уши ночь поставили, кверху дном. Что — этикет? Им не надобно этикеточек! Сами ярлык навесили: «Богохульница!» Молвили, мол, не знавали таких еретичек. Чёрно сказали, топорно, не ставя кавычек: «С Господом, ведьма, толкует? Годок — и скурится!..» «С Богом нельзя напрямую, мол». Надо — кривенько?! «К пасторам топай! К алтарищу — на покаяние!» Будто мне здесь не видать Твоего сияния!.. Будто не друг Ты мне; можно подумать — я не я!.. Чёрно сказали: «Бросай-ка свои кадрильки, Где-нибудь только, в языческой Океании, Боги-де шастают славно в людской грязице». Ты ж, по словам их, невидан, немыслим, далёк, И ни за что бы со мною не стал возиться. Кончили тем, что стихи мне шепчет не Бог! «Это, мол, акция Боговой оппозиции!..» К Фаусту — гиперссылку, Топор — затылку; Ой, как лезли в бутылку!.. Есть ведь такие, Отче, что напролом: Ты — по делам. А они — тут как тут. Поделом Мне, слабосильной, которой ругаться — влом. «Эту всю муть твою, веришь, нашептывал Бог?» Верю? Нимало. Но ведаю. Им — невдомёк. Ведаю вдоволь; ведаю, Отче, Господи! Ведаю, заперта в мыслях своих, в странном космосе, Где бесполезна и самая мысль о компасе. Череп — чертог о четыреста четырёх Чёрных стенах. Я внутри, как в проклятом хосписе — Тем лишь спасаясь, что мой не настанет черёд Раньше, чем ты возвратишься. Войдёшь. И на край Душной постели присядешь. Мой Бог! Ты, Господи, Будешь дышать, сам душистый, как синяя рань. Я прошепчу тебе: «Боженька, все мы тут гости-де». Ты мне ответишь: «Ну так домой — не пора ль?»Исполин
Лето! Ты помнишь пляску её волос? Рыжих сентябрьски, купанных в сонном утре… Им подражая, и небо-то всласть вилось Медным рассветом — медовым, что эти кудри. Кудри клубились, порой разлучаясь врозь Палевыми лучами над пыльным полем; То — колосилось. Шёл по нему Колосс, Выше намоленных временем колоколен. Песнею детской заутреню отбренчав, Шёл Исполин. Из полуночи шёл, величав, Тёмное небо румяня теплом касаний: Словно зарю с пламенистыми волосами — Доченьку рыжую нёс Человек на плечах. … Мир просыпался. И приливал Восток Кровью к щекам небесным, что за ночь остыли… Мой Человек рассекал кораблём пустыни — Время, в котором (как в поле!) не счесть дорог.андалузский пёс, накошаченный глаз и странная метель. не стихи, а канитель
мне бы — вечности внутриушно. золотушно — не худо, не бедно, коль бездушное стало душно, коли медленное — моментно. меж моментно и перманентно — взмах пера, тень крыла внутриглазно… мне бы — мира за раз, мессой нетто: что балластно — блестит заразно. нет мне нот, а не то б — наверно — я б не телилась голосновно. для чего чудить внутривенно, если можно — внутримосковно?мама. сквозь метель, мама
Небо светлое, как мамины глаза, — Я гляжу в тебя, как сердцем — в образа. Небо дует — и сквозит в нутро метель. С виду — тело я, по сути — светотень. Мысли путаются, как пути — в пургу; Отвернуться бы — себя не берегу. Не сомкнуть очей, когда пурга не вне… Где-то мама стосковалась обо мне.Погашенное
Пока девчонкой жизнь в бинокль Рассматривает свой экватор, Балконам / облакам / блокнотам Вверяя эру альма-матер, Эпоху утреннюю… я Тебя пою, пойми, по нотам: Как роль ролей, как мантру мантр, Пока что в потолок плюя. Взрослеет жизнь, как всё людское: В постель — с зарёй, встаёт — с полуднем. Моргнув, хлебнула грогу скорби Глазами я: привычным буднем Экватор жизни предо мной. Тебя кричу, хриплея вскоре: Твердь почвы зло трепещет студнем… Креплюсь душой оплёванной. Моргну опять. Глаза открыла — О небо! — вяжет жизнь старухой Чехол для вечности. Чернила Пролил мой вечер — мол, унюхай Сквозь темень самый верный ход!.. Финал. Вершина. Что отжило — Теперь предстало повитухой: Терзая сумрака живот, Наружу из него течёт Новорождённый свет. Упруги, Вспухают молниями жилы На коже небового брюха, Рябого звёздами с натуги. И в том младевственном сиянье Святеет всё. Вздохнёшь — умрёт И страх, и старость. Только рот В луне, как в зеркале, поёт Осанну, точно заклинанье. Ступени пройдены. Вершина. В былое снегом раскрошила Я душу; снег поля покрыл Низинные. Вперёд, вперёд!.. Уход цветёт любовью сил; Моей любовью звёздосвод Плюёт — да в лестничный пролёт, который мне дорогой был.«Я удрала бы до Европы-то…»
Я удрала бы до Европы-то От народного нервного ропота; Чужестранной натурой тронута, В ней цвела б, от своей схоронясь. Или падчерицею тропикам Придурнулась бы, мыкаясь робко там. Я б долой… — да стипендия пропита И на морде не высохла грязь. Чёрт дери! Наша сырость — не Сирия; Как скулит земля от бессилия!.. Я — лицом в неё: подкосили меня Те, с кем сердно делила путь!.. Но об этих молила, просила я У блаженных голов Василия. Храм бессловствовал — дура спесивая, Я своё продолжала гнуть. И осмеяна всею Россиею (Бита смехом, как хлыстищем — лошади!) Вновь — на Красной со сраму площади — Зло валилась Руси на грудь. …Я в Бразилию б иль в Малайзию, Полонезом бы — в Полинезию Унеслась. Да — никак! Эх, чёрта с два: Прочно прочь кандалы не дают!.. Ведь сама ж сему безобразию Присягнула — его поэзию, Вкус родной чернозёма чёрствого Полюбила, как чудо чуд. Бдят терПитер и Москоу-Сити. Бредит Родина. Рдеет стяг. Други! Ярости не просите: Эх, косите меня! Косите!.. К небу только не голосите — Мне обещано: вас простят.«Ты живешь где-то там — где тамтамы зарю стучат…»
Посвящается Ольге Усачёвой
Ты живешь где-то там — где тамтамы зарю стучат, Где Танталовы муки восходов пестры кумачами… Я сижу на земле; начинил, начернил меня чад: Опорочили те, что полжизни к плечу приручали. Чад клубится, как порча, как вечность, чей край непочат — Это чатятся мысли — исчадья тщедушного века… Ты теперь где-то там, но с тобою нас не разлучат — Неделимых, как мачта и парус, как путь и вектор. Я сижу на земле… иль, быть может, я есть — земля: Мёрзлозёмный последний лоскут полотна погостов… А с бессонных небес надо мною смеётся заря, Алой нежностью кутая мой обнажённый остов. А вокруг — ватно-вдовые воды трубят буран, И по ним — корабли со слепыми глазами на рострах… Если видишь оттуда, что жизнь моя — океан, Дай забыть, что сама я забытый тобою остров.Коррида
Тот город гремел, точно ратное время, Органно гудя оголтелой толпой. Служила орава оправой арене, Её обступивши блокадой рябой. И рты говорили, и взоры горели: Арену огнём нетерпения грели — Вот-вот запылает бой! И гул расползался, как поросли сора, По площади, жаждою зрелища сыт; С почтением вторили нервно сеньоры — Шальному сопрано своих сеньорит. Столпившись поодаль, как странные горы, Глядят свысока витражами соборы, Но чинность теряют церковную скоро: Грядёт коррида коррид! Толпа свистит! Толпа вопит! Людской океан гомонит-кипит! …Изящно скор, как вздор или вор, Вскакивает матадор — На общее обозренье. Ликует столпотворенье, Волненьем рождая шторм. Да здравствует матадор! Да здравствует матадор!.. Бравадно не опуская лица, Герой сеньоритам кланяется; Скрививши подобострастно рот, Сеньорам честь отдает: Мгновенье — вся честь отдана! Толпа восхищеньем пьяна… А битва близка, Люд жаждет броска И рукоплесканий роща тесна!.. Об руку рука, О площадь — нога: Как топота сила громка-велика! На бой выводят быка. Едва появился он — город замер, Опутанный шорохом праздничных лент, При виде исчадия древних сказаний, Смурного — как дьявол испанских легенд. Копыта пудовы, и взгляд его вязок, А шкура черна, точно самая тень. Шёл медленно зверь — злом немыслимых сказок, Которым пугают испанских детей. И жалобно взвыли дряхлые церкви, И стон колоколен омыл облака, Когда заскрипели натужно цепи, Пленившие плоть быка. Рогами рыл он воздух — густой И жгучий, словно старинный настой. Но вновь загудел многолюдный рой; И бык взревел с толпой в унисон. Вселенскою силой свирепо он Рванулся вперёд, и времени ход Стал бегом стремительным. С небом томительным Слит колокольный стон. Коррида! Корриду, сестрицу раздора, Рождал исходящий силою пляс. За стягом пунцовым тореадора Утробная страсть по арене неслась: То бык, не закован природным законом, Как буря, свободен от мер и мерил, Взмывал над землёю игривым драконом По воле упругих невидимых крыл. Взлетал на дыбы, гарцевал нарочито, Исполненный силы, что славно слепа, Мычал, исполняя безумные па… И солнцем искрились лихие копыта. Но сталью сверкнуло, взметнувшись, копьё: Исчадье, пади! — вот призванье твоё. Пади от руки победителя, Радетеля, повелителя!.. Пади — да с трепещущим древком в груди. Пади! Багрово вино; плоть — земли черней. Ты, горло, утробную боль пролей! …И хлынуло горе — изгрудный вой: Бык рушится наземь, извергнув боль. Ликует народ! Овладел толпой Поистине славный бой!.. Выходит вперёд смущённый герой; О времени ход — минуту утрой! Неистовой бури хвалебной — минуту!.. Тщеславье — проситель, мгновение — люто: Порвалось, как волос; другому черёд… Поклоны герой господам отдаёт, В ответ — продолжения страстного ждёт Грозы всенародного рукоплескания. Знать бы грядущего тайну заранее! Знать бы грядущего мига секрет… Чуть загремел вожделенный ответ — Как безвозвратным угас замиранием, Гордою вмиг головою поник: Воздух взрезая, безудержный крик, Смешанный с кровью, прорвался наружу… Чёрное тело наземь обрушив, Духом кричал умирающий бык. Тело — что хлеб, а кровь — что кагор, Вязок, что ладан, бездонный взор, Смертью сгущаемый до первоздания… Выло, давилось воем создание, Рёвом хлестало в каждый собор — Только б железо изжить из плоти. Битвы итог наблюдая — поймёте? — Кожей мороз ощутил матадор. Грохот толпы отдалился в туманы, В них и потух, словно рыцарский пыл… Бык умирал. Щедро ширились раны С каждым порывистым взмахом пьяным Драных обломков невидимых крыл. … Вальсом конвульсий — почва от порчи падучей; Мир аритмично сердечится от «пур фаворе»… Бык возлежал — грузной, грязною, грустной тучей, Масляным чёрным сгустком рогатого горя. Сила смеркается, в смерти себе не верясь; Гибель в разы розовее заката розового: Кровь кислотой выжигает глаза кабальерос, Очи красавиц ласкает, подобно розгам… В этой крови, в этом сладком победой нектаре, Руки умыл матадор, на колени рухнувши; Ею же были омыты небесные дали. Ветер, как в волосы, в струны испанской гитаре Пальцы в сердцах запустил. Облака рыдали, Словно душа беспросветно ослепшего юноши.«Мы сидели с другом на крыше, на самом краю…»
Другу детства. Лаэрту.
Верному товарищу Никите Турчиновичу.
Мы сидели с другом на крыше, на самом краю, Словно в речке, нагими ногами болтая в мареве. Снизу улица сельская гудом плела про июль, Сверху — небо на головы липло дурманной марлей… Далью поле глядело, а кровля была горяча — Мы сидели над миром, как на опустевшей арене… Друг спросил меня голосом старого циркача: «Что, взгрустнулось?» — и детской своей головой покачал. Я в ответ: «Ничего!.. Только долго тянется время!..» Крыша зыбилась: дом копошился под нею людьём; В животе моём — лет куролесила чёртова дюжина… Друг был годом прочней; помолчав, он сказал: «Пойдём», — А потом рассмеялся, не глядя в глаза — незаслуженно! И нырнули мы в мир — с островка, где царили вдвоём, И, доплыв до калитки, простились до «после ужина». …«После» было — песок: жизнь сквозь пальцы пёстро текла! Голова моя сорным её сумасбродствам — улей. Пятилетка морщиною меж бровей пролегла, Просто — пропастью между двумя берегами июлей. Два июля — в последний зарывшись, теперь молчу, Тенью первого силясь душить рёвоток Ярила… Мы — на крыше. Под нами не дышит недвижный чум: Чумовое — причёсано, чудо — отговорило. И от кровли промозглостью пасмурит. Мы сидим На остылой — на ней, как на старом, усталом вокзале. Ждём? Дождём даже души свежеют в тисках груди. Нынче — скулам свежо: не умею молчать глазами. В них ты смотришь, как в воду. Как в зеркало: «Что, взгрустнулось?» …Повзрослелось, родной: «Только разве что самую малость…» Что не толком ценилось и больно долго тянулось — Ох, коварное время! — порвалось, родной, порвалось… И ныряем мы вниз — с верхотур, где царили вдвоём. И плывём до ворот. Ни следа во саду, ни сладу. За обломки былого цепляясь, кляну водоём; Тот — зеркалится, тихо глотая мою досаду.«Земляника зари раскраснелась по зелени крон…»
Земляника зари раскраснелась по зелени крон; Мы сидим визави, ты глаза мои пьёшь, как ром. Мы умрём — но однажды; пока что — лишь лето живей. …Если дерево пляшет — оно не щадит ветвей. Солнце — плачущий Бог; всякий луч — облакам рубец. В нас вселилась Любовь — злополучный, нахальный бес — Точно ревностный вирус, который если засел — То, конечно, не вырвется. Разве только совсем. …По зелёным кудрям — позолотой ползёт седина. День целован, румян; ром задорно дерзнёшь — до дна? Лейся, землю ласкай, листопад: серь — нелепый тон. Мы проснёмся? — пускай! Это будет потом, потом. А пока — Апокалипсис, дальше — бордовый бред: Слава богу, покаялись — там ещё, в долгом «пред». Мы молчим тет-а-тет по своим берегам стола; Если вечности нет — значит, попросту отцвела. …Осень сонно вздыхает, рушась наземь спиной. «You're my soul, you're my heart…» — лучше «нас» только «ты со мной». Кудри ало-багровы — в ногах обнажённых дубов: Осень пала; над гробом рыдает солнечный Бог. Звёзды ясные слёзно по савану снега цветут. Мы уже несерьёзные, но всё равно ещё тут. Что, умрём, говоришь? Я не верю, и ты не верь: Если дерево дышит — оно не щадит ветвей.«Я видела душу, на странное море похожую…»
Я видела душу, на странное море похожую: В подобные хочется, — но с побережья, бережно, — Ворваться, мужаясь, мурашась тёплою кожею О брезжащее, блаженное, неизбежное. Души надышалась я этой, не брезгуя разными, А в некоторых, что в гостях, зависая до ночи… Все желчные — густо с изнанки гноились язвами, И язвы вблизи казались безмолвно стонущими. Успевшей привыкнуть «без стука — через глаза», Мне чудится: щурятся нынче все двери — глазами. В какие-то души я пела — как в тысячный зал; В иные вползала — как разве что на экзамен… И плюнула, помню, в одну, точно в ведьмин казан — По-моему, это стряслось в районе Казани. Я по душам шаталась, будто по кабакам, В каждой, радуя жадность, молилась местным богам. И случалось, что лезла в те, на каких — засов, Но по прочим — повесой, не помнящим адресов. Где-то топят по-чёрному, где-то — камин разрушенный: Нет, не быть приручённой мне — разве что выть, придушенной… Я чуралась зеркал, глаз своих не даря визитом: Сорной душеньке собственной, слишком не многословясь, Все чужие предпочитала. В моей же — Совесть Знай точила язык, неподкупна, что инквизитор: Поселилась назло да назойливо стала в мой сор лезть Натуральным — но призраком! — нутряным паразитом. В свою не любила я бездну нырять, но в твоей Однажды заделалась заживо завсегдатаем. По полу — ковыль там, по стенам волной — акварель. «Чужие заметят? Смешно: не проникнуть сюда-то им!..» В душе твоей пахло нагретым песком, сквозняком Да дрянью, которая склеит и то, что не клеится, Да жухлою книжкой, открытой на главке «Закон…» (Ньютона и Любится. Ох, извините, — Лейбница). Я, верно, умею в души входить, как в раж. Не это ли блажь? За неё вы меня отравите. У мальчика там, в глубине — притаился гараж. Обычный гараж, а на нём — «Здесь был Бог» вместо граффити.Люби
Люби — назло любому земному замку (Плоть камня — рухнет, когда бесплотное выстоит!). Внезапно, не завтра — люби душой наизнанку; Люби, как весна воскресает, — всецело, воистину!.. Настырно, нескладно, жадно, как напоследок, На автопилоте, ветром из подворотен — Люби!.. Близоруко (пожалуй, не следует — слепо), Чтоб всё-таки видеть мир — но престранным слепком Со строгих контуров; видеть — абсентной пародией На сливочность плоских импрессионистских полотен. Люби!.. Голос милый (Как пенную небь — парашютина) Вдыхай! И полнись им, трещи по швам — я прошу тебя!.. Вдыхай! И лети мотылёчком в рассвет пожаристый; А голос, как воздух, в себе держи — и не выдохни: Едва опустев, обескрылишься. Помни, пожалуйста: Всего безвыходней — с грохотом в землю, в вывихи. …В руинах былого устанешь молчать изувеченным, Суставно повыкручен ломкой по Безрассудному… Влюбившись — люби. Доверчиво, долговечно. Люби — иначе иссохнешь, отцветшим веточкам Подобно: по-доброму людям редко отлюбливается. Любить — это как поспеть на последнее судно, на Поезд последний в преддверии революции; Укрыться от популяции, лиц, полиции И сблизиться — прочно. От прочего — отдалиться, Укрыться в Первичном — от мира, который вещен, От смертного мира в мирке сумасбродно-мудром… Любовь — это то, как неистово поздний вечер Сливается с добрым утром.Сердце матери
Сердце! В тисках тоски ты пленённым зверем Скачешь по клетке, на прутья бросаешься люто. Бьёшься в оковах так яро, что больно звеньям: Цепи звенят, словно струны расстроенной лютни!.. Жилами пухнешь, плотью ссыхаясь всё крепче (Не каменеешь — лишь вопреки поговоркам). …С голоду сердце утрачивает дар речи — Падает, корчась, горячее тело калеча, И за решёткой рёбер взвывает волком В тёмной груди — обречённо, как вьюга в марте; Волком, который гибнет, недавний воин… Смолкни, замри да прислушайся повнимательней: Вещее сердце моей беспокойной матери Воет в ответ тебе сладким, неволчьим воем, Лечит овечьею лаской, почуяв неладное, Сочной волной колокольной с далёких подворий… Самую силу в песню посыльную вкладывая, Так, что становится в клетке вас будто двое — Узников, двое (и это — святая явность, Коли залог — материнская неколебимость). Лишь бы ты, сердце иссохшее, не боялось, Лишь бы, насытившись, с болью ровнее билось. Зова втянувши носом, Привстать волк пытается, Ёрзая яростно оземь сизым войлоком Брюха. Душенька тушу по клетке волоком Тащит к свободе агонией дикого танца. С жизнью расстаться? В тягучую жизнь скитальца, Словно бы в сладкую мякоть — тёплого агнца, Сердце голодным до света вцепилось волком, Мёртвою хваткой вгрызлось, до ужаса живо… И успокоилось. Стало дышать ровно. Словно бы всласть надрожавшаяся пружина — Вскоре затихло покоем. Внутриутробно — Осоловело уснуло; каждою жилою Славя спасительность Древнего, чудом Дарованного… Мать моя где-то ладонь к груди приложила, Греясь от жертвенной плоти дрожащего овна.Зеркало
Вижу, подруженьке-то — откипелось, отбегалось… Отгрохоталось внутриголовно, никак? Из зазеркалья тобою любуется бледность — Твой молчаливо-ласковый дубликат. Из-под угодливой глади (какого лешего?) — Дева (смешливо? насмешливо? — не таи…) Зрит в тебя, будто бы в корень лица повзрослевшего, Зрит двоецарствием глаз, что теперь — твои. Воды застыли над ней, точно их проморозило, Инеем — пыль расползлась по стеклу поверхности. Сумрак окутал деву покоем глазетовым, С нею же нежа твою обнажённую суть. Вижу, подруженька: узницей звёздного озера Ты отраженью — себе-то — клянёшься в верности, Низко склонившись над круглым стареньким зеркалом… Свечку задуй. Приляг. Постарайся уснуть.Ночность
Вечность в ночи заперлась на засов Нежиться в чудесах: Ведьма с крылами из двух голосов, Со звёздами в волосах. Юркнула между зарёй и зарёй Издревле юная мисс — Наворожить (только глазки закрой) Милость длиною в мысль. Веки сгустишь ты, как жалюзи, Враз тебе — dream to feel: Воздух, огнистый, что мон плезир, Ярче людских текил, Небо изнанки твоей Москвы (Точнее, запах его) — Райство вечностной ворожбы, Чёртово волшебство… После заката — ангельский лай Хочет по тропке дуги. Знаешь: гуляй, рванина, гуляй; Беги, Лола Форест, беги!.. Вечность отнежится, снежностью строф Небо в кровь искусав… Взор распахни в аритмии часов: Семь утра на часах.Травести Поэма
Я. Ширинову
1
Друг, заклинаю: пожалуйста, не раздражайся! Душу не режь справедливым «ты-в-этом-вся». Я ведь по правде — до дрожи устала жаловаться, С горя в плечо тебе скверною морося. Мы одногодки; мне, жжённой, пора бы прожариться. Ты же — не мясо и мыслишь, как в пятьдесят, Даром, что по восемнадцать пока нам обоим (Знаю, звучит, как «по стопке!» — но ты не пьёшь). Жизнь — это бар. Бармен — Бог; он душевно болен: Пропасть в глазах его, волосы — будто рожь. Я попросила: «Дай-ка… пожить бэд боем!» Он — хохотать: «Эдак старою девой помрёшь». Бросилась к Богу я: вечно была упрямица! — Лацкан Господен в костлявой смяла горсти. И опалил ему бороду пламень румянца Яростно раскривлявшейся травести. Глаз его бездна плеснула: «Не страшно пораниться?» Знаю: я не умею себя вести… Буйно во мне сердце пойманной птицей билось. Я не боялась: спесью была крепка. Бог — приколист; он чудовищно щедр на милость К тем, кто особо заслуживает тумака. Вскоре случилось ужасное: я влюбилась! Горько влюбилась в гордого дурака.2
Вообрази: наподобие истукана С первого взгляда столбом соляным врасти. Бог всемогущ, и метель для нутра стакана, Бесы для рёбер и всякой другой кости — Суть аргументы: у Господа фирменный стиль! Стёкла плясали; я воском с висков стекала, Плавясь под взором Всесильного Старикана, Словно под солнцами тысячи Палестин. В Бога въедалась я мыслию: «Бог, прости! Только из тела каменного выпусти Бабочек рой! Им, несметным, дай вольную, барин!..» Просьбы вползали в траншеи Его морщин Жадно — так вечно бывает, когда молчим. Друг! Дело было всё в том же бездонном баре С вывеской «Жизнь» и с фасадом советской бани; Там непродышно — что рыбе в консервной банке После морского отплясыванья; там чин Нищий обрящет по ходу досмертной пьянки… Там я влюбилась — как водится, без колебаний, Божьею куклой — в ближайшего из мужчин. Раз — и в оплёванный пол недвижимой вросла горой. Кожа лишилась пор — так ведь, Боже, ты шутишь порой? Умер во мне, умер разом разум-король, Справит поминки запертых бабочек рой.3
Друг, мне в Дубай бы. Зарыться в дубовность Дублина, Как головою, седою от пепла, — в песок. Было рожденьем отсыпано вдоволь дури нам; Друг, я пустею: осталось граммов пятьсот. Знаешь, как любят те, чья душа не люблена? — Ею, душою, наружу сочась из сот Девственным мёдом, что десятирублёвая Дрянь — вот и хлещет литрами сам собой. …Любят такие, любовь бесстыдно выблёвывая, Вскоре острея лицом под сердечный сбой. …Только не надо про «слушай-молчи-зарёванная», Коли не терпишь про «скоро-помру-не-спорь».4
Совесть пасёт меня высокородным трибуном; Время тайком норовит повернуться вспять. Друг, я, не грянув бэд боем, травлюсь рэд буллом: Только б не спать. Понимаешь, надо не спать. Спать — это вредно, особенно если в баре, Ломкие руки под голову подложив. Слышал о принципе «каждой твари по харе?» Здесь по-другому: «не выдворили — значит, жив». Это кабак. Бог — хозяин, и он же — барин, Все остальные — кучка взаимно чужих.5
Друг, я провидица! Было снаружи не выше нуля, Минус по Цельсию мерзостный, сто пудов. Только уснула — из «Жизни» раздетую вышвырнули (Хоть бы подохла, мол. Дескать, долой пройдох!). В снег я — ничком, точно палою звёздочкой. Вирши мои Жгли его лавой, горючей, что слёзы вдов. …Я на морозе была непривычно нелишнею, Даром, что пахла настрелянными «Давидофф». Бросили в снег меня, тёплую, прямо из бани; Таяла бель подо мною, смягчаясь будто бы. Я в её млечность — намученными губами, Морщась, мычала горечь любовного бунта. …Бог наблюдал за мной. Тенью в окне запотевшем Бармен буробородый маячил желчно. Друг, он бессмертен, и этим себя мы тешим: Дескать, останется — ноченьки звёздами жечь по нам, По падежам имена склонять, нами подержанные… Только Господь хохотал надо мною: «Где же Дерзость твоя? Где ж мятежная, грешная женщина?»6
Не удивляйся: Боженька — батюшка взбалмошный, Чадушек-то повоспитывать всласть — мастак. Бар растворялся в пурге — отходящей баржей; Бог, затихая, бранил меня брошенкой — барышней, Душу продавшей чёрту за четвертак. Что же Любовь-то большая? Пропащей Любашкой, Друг, на крыльце развалилась, как наглый моряк, — Каркать, позоря хоромы, дескать: «Приди в чулан?» …Звёзды россыпью взоров вонзало придирчиво — Небо в хребет мне. Я, гадкая гарна дивчина, В наст нестерпимо врастала рисунком наскальным, В снег зарывалась, руки корнями пускала в нём, Вглубь — до ядра Земли, Вселенной, Раскаянья… Друг, я сливалась с настом. На совесть. Так, Что становилась сама — белозвёздный наждак. Каплею, сгустком сердцебиенья горячего, Въелась в жёстко-снежистый крахмал простыни, Косность костей под кислотным светом утрачивая; Люминесцентный шёпот искрился, вкрадчивый («Больно, красавица? Стерпится, не стони…»).7
В уши кручинится жидкая виолончель, Спит проспиртованный воздух под пульс рябой. Сердце твердеет околевающей птицей. Вдох. Выдыхать нельзя: потолок закоптится. Час — не один: надо мною толпой врачей — Многоголовое время. Гуд бай, бэд бой? Звёзды засели в хребте. Хриплый выдох. Боль. Люминесцентное солнце. В пальцах мороз. Чьё-то «Борись!..» До бессилия мой Невроз. Лезвие в плоть. Образа за резьбою риз. Бриз сновиденческий: брось, не борзей, борись!.. Розовый иней узорами. Стенокартон. Стенокардия зари за грудиной оконною. Жизнь — это судно. (Суд, но Страшный — потом.) Жизнь — это судно. (Бог у руля. Тритон?) Каждый однажды окажется за бортом; Я оказалась, устав иссыхать покорною. Воли хлебнула кривым от внезапности ртом, Вечность сомкнулась над телом пучиной, дурача… Вой Мира затих, этой впитан вечностной толщею… Лишь с корабля мельчающего (утраченный, Кажется) — голос-фонарь прожигал меня, вкрадчивый, Солнечно-сочный, глядящий — не тараторящий… «Что, нахлебалась солено?» — слово то ещё… «Ладно, не дрейфь, о дрейфующая: поворачиваем!..» Голос Господень. О, кислород для тонущей.8
Друг, я не знаю, где прячется край земли с Крайне ему присущими атрибутами. Друг, я сейчас закончу — прошу, не злись! Просто, ты знаешь, когда невозможно будто бы Вспомнить исток (если хочешь, начало) притчи (Кажется, вакуум занял жилплощадь памяти!) — Стоит его положить, как любое иное начало, Словом! Права у пустот-то, как правило, птичьи… И говорить, словно лидер неведомой партии, Хоть бы шептать — только так, чтоб душа кричала, Птицею билась, поймана в горе-силки, Плакала небом надземным, на волю вечную выменянным… Друг, я спала, как умеют такие… сякие. Друг, я проснулась, прорвавшись твоим именем. Друг, я проснулась — в помятой кровати, в палате (Истинно белой — светом залеченной памяти). Друг, я проснулась — больше не быть мне калекой. Время уходит — постылый, усталый лекарь, Нам оставляя, расщедрившись, вечность прижизненной… Волю исполни — нынче же окажись со мной?.. Лидером партии сольной — волю исполни Ты, фортепьяный уже от неведомой сладости (Тех, кто не пьёт, до такого дурманит Любовь)… Небо разверзнет губы — спросонья, бесскорбно, Высосет сорность былого бессумрачным «Славься!..» Счастие небесовское. Мы и Бог. Белость крыла по щеке. Осень. Оземь. Озимь. Здравствуй, бескрайность — упавшее набок восемь.Колдунья
В зимний вечер, ясный, погожий, Через луг — океан заснеженный! — Человек колеёю исхоженной Шёл — истоптанной, поизъезженной. Впереди-то малёвано мелом — Эдак на холмы намело… Цвёл закат целовально-медным, Время было белым-бело. Человек дышал тяжкою тишью, Словно пойманный в цепи нежные; Вдоль дороги — деревья застывшие Руки вскинули оцепеневшие… Солнце в мёрзлых объятиях путалось, Между пальцев ветвистых буйствуя… «Сколько ж, — путник глядел, — сколько же тут вас!..» Да всё дальше — тропиною узкою — Брёл вслепую — на стынь, горе-зов, Выдыхая паром усталость… Ночь стекала на горизонт С облаков. По нему разрасталась Чёрным заревом — лесом чернильным Гематомно томных теней… Путник плыл: речка-ночь подчинила им Человека, ничейного в ней. — «Бедный!.. Бледный!.. Как ты одинок!» — «Дева! Небо, как ты мила!» — «О, куда завела тебя воля ног?» — «О, куда меня ночь завела?» — «Человек! Чем навет наплетать на рок, Ты сейчастья вдохнул бы чистого впрок, Часу, сказочного добела!..» То пред ним — на дороге дорог (Где ж вы, свет — неустанные сани?) Тень — с рябыми, что дикий дрок, Сребро-блёсткими волосами. Мол, продрог, дорогой? Продрог, Ты, бесконный всадник?.. Тень — навстречу. Всё ближе. За Ейной детской спиной — дальних вотчин Брезжит быль, вожделенная цель. Человеку глаза в глаза Дева — пряно, прямо (по-волчьи!): Выдыхает путнику в очи Кутерьму-метель. В тьму утробную свода — белёсый рой мотылей; Роем бель-мошкара задурманила трезвую темень… Чуть вдохнувший той пляски — потерян телом в метели; Чуть вкусивший — с душою сошёл в карусельный плен. Надоело — в себе, мол? Вырвись, милок, на деле: Тело кинь, как надел, как постылый престольный терем… Востро-выспрен восторг. Воспротивиться странно-лень. Рой мятущейся бели встревоженно-беспределен, Неделим, неподделен — как всё, чем взаимно владеем… В дебрях чуда-сейчастья не тесно ни двум неделям, Ни распухшей до вечности ноченьке, брезжащей, взбалмошной… С хороводом хрустальной страсти сливаясь в ветер, Человек расплясался (оставивши тело в кювете) Расплясался, плескаясь пургой на потеху ведьме — Той, какую посмел окликнуть своею барышней… Той, какая цветёт волосами (о, дикий дрок!), Деве с детским станом, с устами, к каким прирастали… Рёв пурги. Звёздный шторм. Беспредельность бесовской стаи Мух белёсых. Сугробы, что мёртвые горностаи, Кверху спинами спят по брегам дороги дорог. … Кровь рассвета разводами стынет на этих спинах: Верно, солнце, как сердце, некто сжал в кулаке, Позволяя нектару течь меж невидимых пальцев. Свод светлеет, рябь наважденья всенощного скинув; Поле бело: то ширь, не тревожимая никем, Беспредельно спокойный простор, непорочный панцирь. Тишь да гладь. Глядь сюда — на свежем снегу ни следа. Он бездейственно девствен, мерцающий, словно слюда. Ни души. Только дерево новое в стыни купается, Средь таких же — рученьки вскинувшее навсегда.«Вижу с балкона: ночь над Москвой…»
Вижу с балкона: ночь над Москвой нависла, как балдахин. Ноздри ментолово ширит мороз (им я дышу взахлёб). Ты становишься в городе свой, быть утомившись глухим (слышь его душу ворсом волос, впитывай через лоб). Прошлое точечно щурит в меня иглы звёздных зрачков; небовы крылья на плечи легли, точно густая шаль. Я отгуляла поминки дня, нынче мой план таков: рухнуть ввысь, как во снах могли те, кому яви не жаль. Сон… В баламутную благость клонюсь гривой оттенка «смоль». Только милее всё-таки жизнь: я выбираю её. Вижу с балкона в формате News: ночь одержима Москвой. Что ж, как обычно: того держись, что априори — твоё. Искренним скопом солнечных искр, россыпью жарких ос — душу вышёптывают фонари в гулкую темноту. Быть иль не быть, вниз или ввысь — это глупый вопрос: если цель тебе выбор дарит — значит, поставил не ту. Щурит МОЯ недолунный глаз, месяцем истончав, — бежево нежась на Божьем дне, в звонкой звёздистой глубине, мной умиляясь над «но» и «не» (слёзы — по мостовой): высью влечёт серповидный лаз, ласков и величав. Вдох. Захлебнуться хочется не — бом, смоляной синевой. Вязким виссоном сгустился газ: Ночь на моих плечах. Я на балконе. Небо во мне. Слепь пустоты над Москвой.Исповедь
1
Много (да разного!) Фатум ниспосылал, Только (по счастью!) прежде хранил от такого: Мир — мерзопакостно славный салонный зал, Я в эпицентре — к убогим нарам прикован, Всаженным в мякоть нутра накалённым колом К ним пригвождён, не своей несвободы вассал. Мир — миражом, пьяным морем ржи колосится; Я — недвижим под надёжною кожей ситца, Плёночного целлофана, каким закулёман, Прочно от жизни сладостной защищён… Клоун, своим обернувшийся бледным клоном, Пленно клянущийся: «Я не хочу ещё». Диво! Его бы (меня!) — на потеху выставить. К этому, собственно, я тебе исподволь — исповедь. Исповедь, самую сочность, глупую, лакомую, Вылаканнную особо острой потребностью. Нет, не пойми превратно порывную плату мою За неизмерность усопшего нашего «вместе». Нет, не мечись сердечком, не мучься ревностью. Лучше — смейся.2
Слушаешь, верно, нынче — и страх берёт… Можешь не лгать, каждый сам себе — самый цензор. Прежде, поверишь ли, было всё наоборот: Мир был мне — Рим, я ему — соответственно, Цезарь… Так вот и жили. А жизнь посвежей была. Я, баламут по природе, гулял по балам (Это, пожалуй, прыжок в ипостась Онегина). Конунгом книг конно нёсся я к ногам неги на Срок неопределённый. Теперь же срок Пятиминутный мотаю время от времени На перепутьях мертвенно ровных строк, В буквенных клеймах читая бренностность бремени. Прежде нырял я в чтенье анахоретом, Что со мной сталось? Когда в него, как в острог, Стал я вползать? Эх, давай не будем об этом. Мало-помалу — младость уже немила-с: Череп ослеп осклабленным склепом хотений. Мысли в нём тусклою пляской; их плоские тени Ластятся к стыни стекла незашторенных глаз. Кажется, нары мои — неразрытый курган. Окаменелые рёбра — сродни надгробью Старых страстей. Только сердце дурною дробью Рвётся зачем-то обратно в постылый гам Жизни, которая вкруг моего-то ложа Свой продолжает лживый кружить карнавал. Парами ложе обходят — и всяк вельможа: Каждая рожа на ту, что подле, похожа; Вместе — ни дать ни взять, хоровод подпевал, О запевале забывших. Смешно: я тоже Телом и делом (грешным!) — средь них бывал.3
Дело былое. Телу не сдвинуться с места, Телу, что мною звалось и, наверно, являлось… В нём замурован я, взятый под скорбный арест. Я похоронен, но, своенравней норд-веста, Сердце из склепа рвётся, презрев усталость… Хочется в жизнь ему. Alea jacta est.[4] Грудь — есть надгробье. Кол вбит в неё, словно крест.4
Душенька бурно — наружу, на странный бал. Хочется ей баловаться меж пляшущих кукол… Мир ими полон. Я накрепко кожей укутан: Рвёт её дух мой, как твердь гордых рёбер сломал. Грудь оттрещала. В пробоину дух содержимым Хлещет и кажется встарь заточённым джинном. Натиск сердечный выдержать ли надгробью?.. Выпорхнул дух с оглушительно бешеной дробью. Вновь на балу я — и в исступленье ищу Лик среди масок, которые мне противны… Не прекращая свой хоровод рутинный, Пляшут вельможи, подобно злому плющу Плотным сплетеньем тел запрудив пространство; Пляшут, как мысли метели, как томные тени… Я в их собранье — мечущийся неврастеник, Вынужденный то продираться, то озираться По сторонам — где ты, где, о единственный лик? Тело, слепой каземат мой, осталось на нарах. Здесь только дух — он всевидящ, как в сказках старых, Силою чуда, которым в миру возник Вновь после смерти — во имя чудесных дел. Дух неустанно ищет. О где ты, где, Светлых очей свеченье, какого столь Жадно желал я, что смог сломать заточенье? О неужель, неужель я тебя проглядел?.. Чем прогневил тебя, Фатум? Чем я?..5
Ты. Тебя вижу — сонмом спасённых чувств. Ты. И навстречу всеми ветрами мчусь. Всеми силами, всею возможной страстью — Мчусь к тебе. Здравствуй. Видишь меня? Глаза поменяли окрас. Я только дух. Я умею только любовь. Здесь-то с тобой не останусь — поймёт любой; Разве что в вечность мог бы тебя украсть — Только не стану. Захочешь — пойдёшь и так: Лишь отживёшь — и наступит пора для ней. Чуешь меня? Чуешь… чуешь… ломаный такт: Скачет твоё сердечко, да знай сильней, Будто и мыслит о том лишь, как бы ускориться. Полно, живи. Глазами не стекленей. Здравствуй, единственный лик. Здравствуй, искра солнца. Искра солнца в театре томных теней.«Зналось ли мне, что случается в жизни любовь?..»
Зналось ли мне, что случается в жизни любовь? Снилось ли мне, что бывает она такою? Что занедужу, неба хлебнув, словно корью, Ей — безнадёжно блаженною, колдовскою, Сущею жаром двух окаянных лбов… Мой — накалён, твой — под стать. Горизонт — в наклонную. Клан полупьяных пополнен столь резво-чинно. Знаю: ты понимаешь меня, влюблённую Бесповоротно, безвременно, неизлечимо. Время умеет, оказывается, сгущаться В солнце, какое по тесному лазу горла Пульсно восходит зенитом из глаз лучиться, Чтобы они светлели, сочась сейчастьем… С пристальным нетерпеньем голодной волчицы — Веришь? — любви ждала я какой угодно, Да настоящей пришлось по силам случиться.«Вы, вероломно в душу, как в монастырь…»
Вы, вероломно в душу, как в монастырь, Рвавшиеся вороватыми пилигримами, — В вашу честь полыхают эти мосты, Горем горят, хоть казались встарь — негоримыми. Пламя крылится над спинами их горбатыми, Крылья-то борются с ветром багряными сукнами… Я монастырь — из таких, что рыдают набатами И с трудом становятся неприступными. Я монастырь; душе за прочными стенами (Теми, что кажутся — серой девичьей кожицей) Слаще скукожиться, нежели всуе тревожиться Вами, незваными да разномастно смятенными. Видно мне: заревом рыжим лазурь окровавилась, Огненным крыльям не набушеваться досыта! Гости назойливы — знаю я вашу коварность, Снова полезете самым бесстыдным способом… Ест мне глаза-бойницы кислый дым, Грош полнолуния — плата за домыслы грешные… Рушатся в ров и тонут один за одним Трупы мостов — обескрыленные, обгоревшие. Я окружён им, водами — чинными, чёрными, Непереплывными для пилигримовых полчищ, Девственно гладкими, словно сама исконность. Я — монастырь. Я башнями вышусь точёными В уединении. Что ж ты, душа, лопочешь Горестно — коль одиночеством успокоилась?..«Бог на ладони моей распахнулся крестом…»
Бог на ладони моей распахнулся крестом, Ласково глядя в серую гладь потолка. Сгусток покоя крошечно-золотой — Негой теплыни в заиндевелость кожи. Март — а зима никак не покинет престол: Там, за стеною, пурги неустанный стон Улицы лижет. Знаю наверняка: Вторник сегодня. Разум, о, сердцу вторь!.. Окоченевшая, в людной томлюсь прихожей. Дверь на меня взирала надгробной плитой: Скрипнула — закопошился в желудке такой же Липко-холодный дремавших червей клубок. Ручку рванувши, вхожу. Хладь очков запотела. Жидкую душу в сосуде продрогшего тела — Через порог я решилась, держась за бок. Очередь. Горечь слюны. Не желая полемик, Тихо сижу в хвосте, надломившись в коленях, А на ладони — крестом распахнутый Бог, Капля истомно-горячего эликсира Мудрости, правды, вечности, светлой силы… Бог глядит в потолок, Я же — в Господа сиро Вгрызлась взором трясинным — крепко, спесиво… Взором вцепилась в Спасителя. Save my soul!.. — Девушка! Очередь ваша! — Уже? Спасибо. Вставши, ползу к окошку побитой псиной С Боженькой, сжатым истово в кулаке. Месит, свистя, массу мыслей мастак-муссон: Там, в голове, не смолкает метели стон… Господи, кем становлюсь я, родимый? Кем?.. Отче наш, иже еси на небеси, Силы дай мне вконец не лишиться сил. Отче наш, да святится имя твоё… Жар в кулаке — знак того, что я не одна. Хлеб наш насущный дай нам днесь — как дана Спесь — приклонившись, в квадратный глянуть проём Окна — Чуя под сердцем зуд нетерпения, зуд… Бог в кулаке — сгустком нежности. Добр он к нам, Точно привыкший к тому, что его — сдают. Отче, долги земные прости, словно встарь, — Да до того, как я окажусь должна… Не серебром тридцатка, за грамм — косарь: В наши дни такова распятью цена. Крест мой на вид — сантиметра два в высоту; Грамма на три потянет — считай, повезло! Иль залатать долговые дыры в быту, Иль даже к маме (денька на четыре) — в село, Иль, может, плюнуть — да закрутить сабантуй, С другами скинувшись на незабвенный пир… Господи, кто ж там гудит во мне: «Эх, не болтай — бунтуй!..» Господи, укрепи. Нет мне свечения сочно-спокойных лампад. Это ломбард. Отче наш, да не введи нас во искушение… Отче наш, да избави нас от лукавого… — Девушка! Что вы хотели? — о, это уже не я. — Девушка, мы закрываемся! — это карма. Улица. Мутью, никак, настоналась метель. Странно светло — захлебнуться в будничном гаме. Суетный город на головы зданий надел Небо моё — обессиленное, обессиненное. Крест в кулаке. Залежавшийся снег под ногами. Господи, ты со мною, со мной… Спасибо.«Штиль в глазницах; окаменевши, ослепло в них море…»
Штиль в глазницах; окаменевши, ослепло в них море И подёрнулось гладью — незрячею, ледяной. Мрак сгустившимся холодом всякого множит на ноль… Губы смертно срослись. Обезличена странною тьмою, Подпираю какую-то стену усталой спиной, Штукатурку вслепую до этого тщетно обшарив: Не сыскалось дверей. О, тоска мне сестры родней!.. Ночь всеядна. Не спрятаться в доме бездверном от ней! Зябко кутаю душу лохмотьями дел обветшалых, Грею углями тлеющей славы минувших дней, От борьбы укрывая наследьем былого скудным. Только душам того не надо, счастливым вольными… Омертвевшее было, жарко течёт по скулам Море, в дырах глазниц заплескавшись солёными волнами… Шаг от стены — не боюсь, коль внезапно вспомнила. Шаг в темноту? Рот разверзся раной — ори! Чрез плечо обернувшися, вижу: неоспорим, Хлещет свет из распахнутой двери на звук Господнего Имени, шёпотом мною произнесённого. Утопая в сиянье, порывом духа спасённого, В дом гляжу я на голос, зовущий меня изнутри.Примечания
1
Бабочка (лат.).
(обратно)2
Прекрасная печаль (португ.).
(обратно)3
Спаситель, слово латинского происхождения.
(обратно)4
…(также Alea jacta est, лат. — «жребий брошен», досл. «кости в действии») — фраза, которую, как считается, произнёс Юлий Цезарь при переходе пограничной реки Рубикон на севере Апеннинского полуострова.
(обратно)

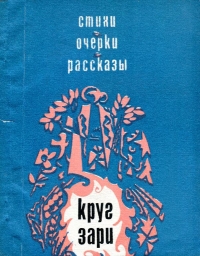



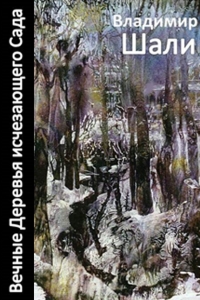
Комментарии к книге «Душой наизнанку», Юлия Андреевна Мамочева
Всего 0 комментариев