Западноевропейский сонет (XIII–XVII века). Поэтическая антология
Вяжу одною цепью два катрена:
Две пары строк в две рифмы облекаю,
Вторую пару первой обрамляю.
Чтобы двойная прозвучала смена.
В двойном трехстишье, вырвавшись из плена
Уже свободней рифмы расставляю,
Но подвиги, любовь ли прославляю —
Число и строй блюду я неизменно.
Кто мой отверг строфический закон,
Кто счел его бессмысленной игрою,
Тот не войдет в ряды венчанной касты.
Но тем, кто волшебством моим пленен,
Я в тесной форме ширь и глубь открою
И в симметрии сплавлю все контрасты.
АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ ШЛЕГЕЛЬ
О, критик-острослов, не порицай сонет:
Шекспир свою любовь в нем воспевал порою,
Петрарка придал блеск его стиху и строю,
И Тассу облегчал он жизнь в годину бед.
Изгнаньем тяготясь, Камоэнс много лет
В сонетах изливал тоску, гоним судьбою,
И Дант любил его изысканность: не скрою,
Что в дантовом венке цветка прелестней нет.
И Спенсер, возвратясь из сказочных скитаний,
Вложил в сонет всю грусть своих воспоминаний,
И Мильтон не избег его волшебных чар.
Хочу, чтоб должное у нас ему воздали:
Вез Дю Белле его из флорентийской дали,
И в нем прославился бессмертный наш Ронсар.
ШАРЛЬ СЕНТ-БЕВ
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МАГИЧЕСКИХ СТРОК
История сонета насчитывает семь с половиной столетий. За это время сонет знал эпохи, когда его возносили до небес, и периоды, когда его низвергали в адские бездны. Родился он в преддверии Возрождения, и именно в эпоху Ренессанса (в Италии это XIV–XVI вв., в других странах XV–XVI вв.), да в последующем, XVII столетии сонет переживает пору наивысшего расцвета. Просветительский XVIII век (за исключением, быть может, Италии) с пренебрежением отмахнулся от этой «безделушки», а романтизм вновь сделал его предметом всеобщего интереса. Именно в эпоху романтизма появляются два сонета о сонете, которые напечатаны на открывающем книгу развороте-форзаце и служат своеобразным эпиграфом и к этой статье, и ко всей книге: Август Вильгельм Шлегель, один из основоположников и теоретиков немецкого романтизма, кратко определяет сонетный канон, а французский романтик Шарль Сент-Бёв расставляет важнейшие вехи в предшествующем развитии жанра.
На протяжении всей своей истории сонет оставался объектом ожесточенной полемики. Иногда и предвидеть трудно, с какой стороны донесется гневная отповедь ему, а с какой — страстный панегирик… «Поэму в сотни строк затмит | Сонет прекрасный», — провозглашает законодатель классицизма, рационалист Никола Буало, в общем-то пренебрегавший лирическими жанрами. А романтику Байрону сонет показался «педантичным и скучным». Где искать объяснение этим неожиданным и полярным оценкам? Почему сонет порождает либо восторг, либо негодование, равнодушие же — никогда? Разгадка этой тайны лежит в самой природе сонета и в его долгой истории.
1
Среди огромного разнообразия поэтических сочинений различных жанров существует сравнительно небольшое число так называемых твердых форм, строго канонизированных и устойчивых строфических комбинаций. Таковы, например, родившиеся во Франции и Италии средних веков триолет, вириле, секстина; таковы же газель — в иранской, танка — в японской поэзии. Все они существуют много веков и получили распространение далеко за пределами своей родины. Однако ни одна твердая форма по популярности и распространенности не сравнится с сонетом.
Появился он, видимо, в начале XIII в. в Италии. Само его обозначение (ит. Sonetto) происходит от провансальского слова Sonet (песенка), но в основе, конечно, лежит слово Son (звук) и поэтому название этого жанра можно было бы перевести как «звонкая песенка».
Очень рано, уже в конце XIII и в XIV в., в Италии определились все основные канонические правила написания сонета. А в 1332 г. падуанский юрист Антонио да Темпо в своем поэтическом трактате сформулировал эти правила. Позднее они неоднократно уточнялись, чаще всего ужесточались.
Наиболее устойчивые структурные признаки сонета — это стабильный объем (четырнадцать строк); четкое членение на четыре строфы: два четверостишия (катрена) и два трехстишия (терцета); строгая повторяемость рифм (в катренах обычно две рифмы четырежды; в терцетах другие три рифмы дважды или две рифмы трижды); устойчивая система рифмовки (в классическом сонете: перекрестная или, предпочтительней, охватная рифма в катренах, несколько более разнообразная схема рифмовки в терцетах); постоянный размер (обычно это наиболее распространенный в национальной поэзии размер: пяти- или шестистопный ямб в русской, немецкой, голландской, скандинавской поэзии; пятистопный — в английской; одиннадцатисложный стих — в Италии, Испании и Португалии; так называемый александрийский стих — двенадцатисложный с цезурой посредине — в классическом французском сонете). К этим основным требованиям сонетного канона можно добавить некоторые другие, имеющие также более или менее универсальное значение. Так, каждая из четырех частей (катренов и терцетов) должна обладать, как правило, внутренней синтаксической законченностью и цельностью; катрены и терцеты различаются и интонационно (на смену напевности первых приходит динамичность и экспрессия вторых); рифмы должны быть точными и звонкими, причем рекомендуется регулярная смена мужских рифм (с ударением на последнем слоге) рифмами женскими (с ударением на предпоследнем слоге). Канон предписывает также не повторять в тексте слова (это, конечно, не относится к таким частям речи, как союзы, местоимения и пр.), если только это повторение не продиктовано сознательным замыслом автора (см., например, 61-й сонет Петрарки).
Литераторы по-разному относились к требованиям сонетного канона. Одни считают малейшее отклонение от этих структурных принципов профанацией искусства и даже отказываются называть сонетами сонеты, в которых допущены такие отклонения; немецкий поэт Иоганнес Р. Бехер презрительно именует их «четырнадцатистрочниками». Другие восстают против узды правил, которые, по их мнению, лишь сковывают творческую фантазию автора и являются якобы реликтом средневековой схоластики. Третьи — и таких немало — убеждены, что, как всякое правило, сонетный канон должен предполагать и исключения. Впрочем, некоторые из сторонников этой точки зрения, не вступая в теоретические споры, в своей поэтической практике истолковывают канон довольно свободно (среди них и Пушкин).
Чтобы ответить на вопрос — кто в этих спорах прав, надобно прежде всего разобраться: в чем реальный смысл правил, узаконенных традицией в отношении сонета. Есть ли в этих правилах какое-то содержательное значение, или был прав Буало, когда в своем «Поэтическом искусстве» утверждал, что Аполлон, «этот бог коварный | В тот день, когда он был на стихотворцев зол, | Законы строгие сонета изобрел…»?[1]
Нет, Буало был неправ: сонетный канон — не следствие произвола, пусть даже божественного, а поиски формы, наиболее адекватной содержанию, замыслу произведения.
Известно, что тематика сонетов крайне разнообразна; тут и человек с его деяниями, чувствами и духовным миром; и природа, которая его окружает; и общество, в котором он живет. Сонетная форма одинаково успешно используется в любовно-психологической и философской, в описательной, пейзажной, политической лирике. Сонету одинаково присущи и пафос, и сатира, и нежность, и добродушная улыбка. И все же содержание сонета специфично: это — поэтическая форма, прежде всего приспособленная для передачи ощущения диалектики бытия. На внутренний драматизм сонетной формы исследователи обратили внимание еще во времена Шлегеля. Лишь в нашем столетии сонет определили как жанр не только драматический, но и диалектический. Наиболее подробно это определение раскрыто и обосновано в работе Иоганнеса Р. Бехера «Философия сонета, или Маленькие наставления по сонету».
По мнению Бехера, сонет отражает основные этапы диалектического движения жизни, чувства или мысли от тезиса, т. е. какого-то положения, через антитезис, т. е. противоположение, к синтезу, т. е. снятию противоположностей. Именно наличием трех фаз диалектического развития и определяется, в частности, деление сонета на два катрена и терцеты. В классической форме сонета первый катрен содержит тезис, второй — антитезис, терцеты (секстет) — синтез. При этом, однако, Бехер справедливо оговаривается, что «в чистом виде эта схема редко встречается в сонете. Она бесконечно варьируется…» И далее: «Отношения между положением и противоположением бывают исключительно сложными, и, возможно, на первый взгляд — незаметными, так же как и снятие обеих противоположностей в заключительной части».[2] Поэтому вряд ли оправданными могут быть «уточнения» некоторых теоретиков сонетного жанра, согласно которым синтез непременно должен осуществляться только в обоих терцетах, или, напротив, лишь в последнем терцете, или даже только в последней строке последнего терцета, называемой «сонетным замком».
Все основные требования сонетного канона прочно связаны с диалектическим характером этой поэтической формы и возникли в поисках наиболее совершенного способа воплотить диалектическое содержание. Но формы движения человеческой мысли, в которых реализуется ее внутренняя диалектика, бесконечно разнообразны; столь же разнообразны и способы передачи этого движения в сонете. Истинный поэт — не раб сонетного канона, а его властитель и покоритель. «Поэт, а не надуманные „правила“, определяет, сколько строк или слов необходимы и единственно возможны в каждом отдельном акте поэтического творения», — справедливо пишет один из авторитетных советских исследователей сонета К. С. Герасимов.[3]
Понимание подвижности и гибкости сонетной формы определяет и наше отношение к нарушениям канона. К числу таких «неправильных», неканонических форм относятся, например, «хвостатые сонеты», или «сонеты с кодой» (от лат. cauda — хвост), т. е. сонеты с дополнительным стихом, терцетом или даже несколькими терцетами; «опрокинутый сонет», начинающийся двумя терцетами и завершающийся катренами; «безголовый сонет», включающий в себя одно четверостишие и два трехстишия; «хромой сонет», в котором четвертые стихи катренов короче остальных, и т. д. и т. п. Конечно, эти «неправильные» формы — лишь редкое исключение, но они, на наш взгляд, получают право на существование, если к ним поэт прибегает не ради формалистических ухищрений, не из стремления к «оригинальности», а потому, что этого потребовала сложность замысла и содержания произведения. Вот почему среди множества сонетов, представленных в этой книге, читатель обнаружит и некоторое число «неправильных», написанных с отступлением от строгого канона. К этому можно добавить, что сонетный канон не столь неподвижен, как это может показаться с первого взгляда. Сама история сонетной формы глубоко диалектична: внутренняя стабильность и устойчивость канона противоречиво сочетались с постоянным его движением и совершенствованием.
2
Первый известный нам сонет принадлежал перу итальянского поэта Якопо (Джакомо) да Лентини, творившего между 1215 и 1233 гг. и принадлежавшего к так называемой «сицилийской» поэтической школе.
Творчество поэтов этой школы, сгруппировавшихся при дворе короля Сицилии, а также короля и императора Германии Фридриха II Штауфена (1194–1250), знаменовало переход от рыцарской поэзии Прованса, бывшей до этой поры безраздельной властительницей дум в Европе, к итальянской предренессансной поэзии второй половины XIII в.
Как известно, рыцарская лирика представляла собой новый, важный этап в художественном развитии человечества. Прославляя сословно-рыцарский идеал «благородства» и чести, она вместе с тем утверждала в противовес безраздельно господствовавшей ранее аскетической религиозной догме жизнерадостный светский идеал, свидетельствовала о пробуждении интереса к краскам и формам реального мира и к душевным переживаниям человека. В рыцарской поэзии Прованса вырабатываются нормы литературного языка, появляются новые сложные строфические формы; в дошедших до нас песнях трубадуров насчитывается около 900 различных стихотворных размеров, и нет никаких сомнений, что на самом деле их было много больше.
Не удивительно ли, что среди этого обилия самых разнообразных, сложных и изысканных поэтических форм не нашлось места прародителю сонета? Большинство исследователей сходятся во мнении, что по самой своей сущности сонет как одна из универсальных поэтических форм и не мог появиться в средневековой поэзии. Как писал Валерий Брюсов, «трубадуры средневековья считали строфу собственностью того, кто ее изобрел, и не позволяли себе пользоваться чужими строфами»;[4] иными словами, универсальность поэтической формы принципиально исключалась. Дело, однако, не только в этом. В условиях господства схоластики и не мог возникнуть жанр поэзии, основа которого — внутренняя диалектика.
Только тогда, когда обнаруживается кризис средневековой идеологии, в том числе и схоластической логики, возникают реальные возможности для появления сонетной формы. В Италии это происходит уже в XIII в. Вряд ли можно считать случайным, что первым автором сонета стал не рыцарь, а королевский нотариус, человек, по самому своему положению чуждый рыцарским сословным нормам и проникнутый тем стремлением к новым путям в науке и искусстве, которое столь характерно для окружения Фридриха II, покровителя естественных наук и поэзии, ярого противника папства.
Культура Возрождения, развивавшаяся в разных странах Европы на протяжении длительного периода — с конца XIII по начало XVII столетия, ознаменована величайшим расцветом сонетной формы.
Важнейшая особенность Возрождения — его переходный характер. Сохраняя еще разнообразные связи со средневековой культурой, Ренессанс вместе с тем знаменует новый этап в истории европейской культуры. Эта переходная эпоха характеризуется в социальном отношении как эпоха первоначального капиталистического накопления, т. е. рождения в недрах феодализма раннебуржуазных отношений; в политическом строе — как период, когда обнаруживаются тенденции к преодолению феодальной раздробленности, когда возникают национальные абсолютистские монархии. Наука в это время предпринимает первые попытки освободиться от роли «служанки богословия», которая ей была отведена в средние века. В борьбе против христианско-догматической морали рождается новая индивидуалистическая этика, начинается тот «подъем чувства личности», который В. И. Ленин считал одним из важнейших завоеваний буржуазного общества.[5] Возникает новая, светская культура, в центре которой как мерило всего сущего стоит человек. Однако индивидуалистический характер ренессансного гуманизма не удовлетворял многих деятелей той эпохи; они пытаются преодолеть его, выдвигая требование общественной активности личности, подчеркивая необходимость гармонии интересов человека и общества. Известный советский исследователь А. Ф. Лосев справедливо характеризовал Возрождение не только как торжество индивидуализма, но и как, в конечном счете, его преодоление.[6]
Таким образом, все пришло в движение: старое уже вынуждено отступать, хотя и сохраняет достаточно сил; новое уже зародилось, развивается, но еще не способно одержать над прошлым решительную и безусловную победу. Культура Возрождения по своей природе «диалогична», тяготеет к синтезу противоположных начал.
Борьба противоречивых устремлений и их конечное гармоничное разрешение характерны и для ренессансного сонета. Человек и природа, личность и общество, чувство и разум, тело и душа предстают не только в непрерывном борении, но и в конечном единстве и гармонии. Глубокая вера в достижение гармонии через преодоление противоречий — важнейшая особенность ренессансного сознания — получает выражение в диалектике ренессансного сонета, которую можно было бы в общей форме охарактеризовать как гармонию противоположностей. В ренессансном сонете мир имеет естественный центр — человека, который способен радоваться и страдать, любить и ненавидеть, но эти противоположные чувства нередко переплетаются, ибо все они заключены в природе человека. В стихотворении четко выявляется точка зрения автора (или лирического героя) на мир, универсальная и объективная. Композиция сонета, как правило, замкнутая, часто тяготеет к симметрии; образная система (сравнения, метафоры и пр.) подчеркивает связь человека с природой, раскрывает наиболее существенные черты описываемого явления, события, героя.
Уже на исходе Возрождения «гармония противоположностей», характерная для ренессансного сонета, отчасти нарушается. Противоречия действительности, открывавшиеся глазам деятелей позднего Возрождения, оказались настолько глубокими и трагическими, что их разрешение в произведении искусства, хотя и кажется еще возможным, достигается лишь ценой титанических усилий и нередко ценой жизни героя; иногда же гармония мыслится лишь как историческая перспектива, как некое отдаленное и даже утопическое будущее. В результате гармония ренессансного сонета делается более напряженной, а противоречия, разрешаемые ею, приобретают трагический характер. Всего один шаг отделяет трагический гуманизм позднего Возрождения от признания зла могучей силой, господствующей в мире.
3
XVII век, если рассматривать его не как простую календарную веху, но и как этап в истории европейских народов и их культуры, ознаменован серьезными переменами в социальной и политической жизни, в науке и культуре эпохи. Главное, что характеризует историю Европы в XVII столетии, — это углубляющийся кризис феодализма, приближение его гибели. Это ощущение надвигающегося краха старого общества характерно даже для Италии, Испании и Германии, где феодальным силам, казалось бы, удалось приостановить наступление буржуазных отношений и даже укрепить свою власть.
Трагическая действительность XVII в. уже не оставляла места для ренессансных иллюзий; на смену ренессансному мироощущению приходит новое. В сфере искусства оно получает выражение в становлении двух противоборствующих художественных систем — классицизма и барокко. Обе они возникают как осознание кризиса ренессансных идеалов, как идейные и культурные движения, представляющие собой своеобразную реакцию на гуманизм Возрождения, как осмысление итогов идейной и художественной революции, осуществленной Ренессансом.
Художники барокко и классицизма отрицают существование гармонии в окружающем мире: вместо гармонии между человеком и обществом искусство обнаруживает сложное взаимодействие личности и социально-политической среды; вместо гармонии разума и чувства выдвигается идея подчинения страстей велениям разума. Естественно, что коренным образом изменяется и характер диалектики сонета.
Классицизм верховным судьей прекрасного объявляет «хороший вкус», обусловленный «вечными» и «неизменными» законами разума. В соответствии с этими законами художник должен привносить в изображение действительности гармонию и, следовательно, подражание природе не исключает требование рисовать действительность не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть согласно законам разума. Жизнь, ее безобразные стороны предстают в искусстве классицизма облагороженными, эстетически прекрасными.
Предпочтение разума чувству, рационального — эмоциональному, общего — частному, их постоянное противопоставление определяют и сильные, и слабые стороны произведений классицизма вообще, классицистского сонета в частности. В центре этих сонетов находится логика душевных движений и развитие мысли. Но гармоничное разрешение конфликта противоположных сил достигается в сонетах классицизма путем подавления одной из противоборствующих сторон, ее подчинения. Вообще сонету, жанру лирической поэзии, в котором непосредственно эмоциональное начало играет весьма существенную роль, приходится при классицизме нелегко. Как бы восторженно ни оценивал этот жанр Буало, сонет не принадлежал к высокой лирике и потому культивировался при классицизме мало. «Блистательный Сонет поэтам непокорен: | То тесен чересчур, то чересчур просторен», — с горечью писал теоретик классицизма о судьбе сонета в свое время.[7] Не потому ли и проявлял сонет непокорство, что оковы разума оказывались для него слишком суровыми?
Более счастливо сложилась судьба сонета в поэзии барокко. В искусстве барокко господствует горестное ощущение непостижимого хаоса жизни, окружающей действительности. По представлениям писателей барокко, вокруг царит зло; оно калечит и уродует человека. Мир предстает глазам художника лишенным той устойчивости и гармонии, которые пытались обнаружить вокруг себя деятели Возрождения и которые, согласно классицистам, привносит в действительность разум.
Сохранив и углубив критическое изображение реальности, свойственное писателям Возрождения, деятели барокко рисуют ее со всеми присущими ей трагическими противоречиями, которые, однако, не могут получить гармоничного разрешения. В сонете барокко терцеты либо высвечивают несовместимость этих противоречий, либо раскрывают читателю бездну хаоса и небытия. И в том и в другом случае композиция сонета оказывается разомкнутой, однонаправленной. Реально только движение к небытию, все остальное иллюзорно. Сознание трагизма и неразрешимости противоречий порождает в произведениях писателей барокко безысходный пессимизм, нередко мрачный и язвительный сарказм.
Идея изменчивости мира определила, в конечном счете, динамизм и экспрессивность выразительных средств в сонете барокко, антитетичность композиции, резкую контрастность образной системы, мозаичность картины изображаемой реальности, подчеркнутое совмещение «высокого» и «низкого» в языке, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного. Контуры описаний в творениях художников барокко размываются, появляется большое число самодовлеющих деталей, живописных и ярких, но не складывающихся в цельный образ. Весьма характерна для барокко множественность точек зрения. Конкретными проявлениями этого особого взгляда на мир стали систематическое перенесение в образной системе качеств мертвой природы на живую и обратно, наделение движением и чувствами даже абстрактных понятий, аллегоризм, сложная метафоричность, вычурные сравнения, гиперболы, особого рода гротеск, не облегчающие, а, напротив, затрудняющие проникновение читателей в мир произведения.
Поэзия барокко вообще, сонетное творчество в частности нередко ориентированы на сравнительно небольшой круг «избранных»; они элитарны по самой своей сути. В сонетах барокко нетрудно обнаружить болезненную перенапряженность чувств, перенасыщенность образной системы, тенденцию к формалистическим изыскам. Глубокий кризис, породивший это искусство, с неизбежностью влечет его и к упадку.
4
Мы проследили (в самых общих, конечно, чертах) эволюцию сонета в различных художественных системах XIII–XVII вв. Но этой эволюции сопутствовал не менее важный процесс — формирования национальных типов сонета, выявления в каждой стране его национально-специфических черт. Проследим основные вехи этого процесса, начав, естественно, с родины сонета — Италии.
Сонет, как сказано выше, родился в недрах «сицилийской» поэтической школы. «Изобретатель» сонетной формы Якопо да Лентини нередко подражает провансальским трубадурам, но он не только отказывается от провансальского языка, на котором писали многие его предшественники, ради родного диалекта, но и переносит в поэзию мотивы и тональность народной итальянской лирики. В частности, катрены в сонетах «сицилийцев» еще объединяются в октаву и напоминают ритмом и музыкальным строем народные песни; с этими же песнями сближает четверостишия сонета и схема рифмовки (перекрестная рифма типа abab | abab).
Дальнейший путь сонета в XIII в. связан с творчеством последователей «сицилийской» школы в Северной и Центральной Италии, где в это время уже энергично развивается культура городов-коммун. Поэзия, культивировавшаяся здесь, получила название «нового сладостного стиля». Ее родоначальником стал болонский поэт Гвидо Гвиницелли, но наиболее известные представители этой школы — флорентийцы Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя, молодой Данте и др. В сонетах этих поэтов, преемственно связанных с провансальской и сицилийской поэзией, под влиянием распространившегося в Европе культа девы Марии любимая женщина наделяется идеальными чертами, возводится на пьедестал, а самое чувство обретает возвышенный, облагораживающий и нередко платонический характер. Отрицание сословных идеалов любви и красоты, приравнивание земной женщины к мадонне, попытки проникнуть в духовный мир человека, разобраться в его сложных переживаниях, совершенствование народного языка — все это свидетельствовало о вызревании в творчестве поэтов этой плеяды черт ренессансного искусства.
По-своему, но в том же направлении развивалась плебейско-демократическая поэзия Тосканы, представленная в нашем сборнике сонетами Чекко Анджольери, в которых поэт воспевает грубую земную жизнь с ее реальными чувственными радостями. У Анджольери в поэзию врывается будничная действительность, ценная именно своей обыденностью. Если в творчестве поэтов «нового сладостного стиля» наряду с сонетами о любви появляются также сонеты на политические темы и сонет становится орудием борьбы политических партий, то у Анджольери и его друзей важное место занимает сонет сатирический, обличительный.
Величайшие достижения этого искусства, стоящего в преддверии эпохи Возрождения, принадлежат перу Данте, о котором Ф. Энгельс сказал, что это был «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени».[8] Ранние сонеты из автобиографической повести «Новая жизнь» (1291–1292), рассказывающей о платонической любви к Беатриче Портинари, писатель создает в русле «нового сладостного стиля»; в сонетах, написанных после смерти Беатриче, и в более поздних стихотворениях периода изгнания чувства героя, не лишаясь глубины и одухотворенности, приобретают большую человечность и простоту выражения. Интересны сонеты-послания Данте к друзьям — содержательные границы сонета все расширяются.
Новое ренессансно-гуманистическое мировоззрение уже полностью торжествует в творчестве Франческо Петрарки. Как поэт Петрарка не только синтезирует художественные завоевания всей предшествующей эпохи — от провансальских трубадуров до Данте, но и выступает зачинателем новой европейской поэзии. Наиболее ярко новаторские черты поэзии Петрарки проявились в его «Канцоньере» («Книге песен»), сборнике стихов, написанных на родном итальянском языке. Плод многолетних трудов, эта книга была завершена в окончательной редакции лишь незадолго до смерти поэта. В ней используются разные поэтические формы той эпохи — канцоны, баллады, секстины, мадригалы, но подавляющее большинство стихотворений — 317! — это сонеты, приобретающие здесь уже современную каноническую форму.
Известный русский ученый, акад. А. Н. Веселовский назвал книгу Петрарки «поэтической исповедью».[9] Как и «Новая жизнь» Данте — это рассказ о любви к женщине, о любви неразделенной. Но между этими двумя произведениями есть и принципиальное различие. Беатриче для Данте — не только земная женщина, но и символ истины и веры, воплощение божественного начала на земле. Лаура у Петрарки — живая и реальная женщина, ее красота — это и есть красота реального мира. Любовь, пробужденная Лаурой, осталась безответной, но это вполне земная страсть. Жизненно правдив и образ лирического героя, сквозь дымку воспоминаний которого читатель созерцает и его любимую, и окружающую их природу, и весь многокрасочный земной мир; это вполне реальный человек вполне реальной эпохи — начала Возрождения.
Да, творчество Петрарки — только начало Возрождения, и поэт не может забыть, что любовь к земному миру почитается греховной. Но поэту не свойственно противопоставление несовершенства земного существования идеальной красоте загробного мира: истинно прекрасна, по его представлениям, именно земная жизнь. Поэтому источник противоречивых чувств, обуревающих Петрарку, — в ощущении полноты бытия, богатства и полнокровности земной любви. В сонетах сборника всепоглощающая радость реального существования, великолепно воплощенная в знаменитом 61-м сонете («Благословен день, месяц, лето, час…»), часто отступает перед печалью, оборачивается тревогой и даже отчаянием. Но и в тех сонетах, которые целиком построены на резком столкновении противоположных сил (как, например, столь же знаменитый сонет 134-й «Мне мира нет, — и брани не подъемлю…»), в финале возникает синтез, гармония противоположностей. Этой же гармонии, в конечном счете, служат и все прочие поэтические приемы у Петрарки: игра на созвучии имени любимой со словами lauro (лавр), l’aura (дуновение, ветерок), параллелизмы, повторы и пр.
В творчестве многих последователей Петрарки, и в Италии и в других странах Запада, эта гармония нередко нарушается, выпячивается какая-нибудь одна сторона наследия Петрарки. Так, у него одухотворенное и чувственное начала любви существуют в органическом единстве, а некоторые петраркисты под влиянием неоплатонической концепции любви как выявления «божественных» задатков личности спиритуализуют любовное чувство. Другие, как пишет известный советский исследователь Ю. Б. Виппер, придают любви «оттенок психологически и интеллектуально утонченной, но условной и рассудочной игры». Не менее часто односторонность восприятия наследия Петрарки проявляется в подчеркивании чисто формальных приемов, когда содержание стихотворения сводится к привычным стереотипным ситуациям и штампам в изображении чувств, а «формальное совершенство становится самоцелью».[10]
Обозревая пути развития сонета в Западной Европе, мы еще не раз столкнемся с творчеством подражателей Петрарки, которые лишь дискредитировали своего учителя, называя себя «петраркистами». Но был и другой, подлинный петраркизм. На опыт Петрарки ориентировались не только такие поэты, как Пьетро Бембо, который считал себя его прямым последователем, а в сущности был его эпигоном, но и такие, как Боккаччо, Лоренцо Медичи, Боярдо, Ариосто, Микеланджело, Торквато Тассо. Эти поэты не теряли своей индивидуальности, пример Петрарки вдохновлял их на поиски собственного пути.
Так, Джованни Боккаччо, прославившийся гениальным «Декамероном», и в любовных сонетах оставил свой заметный след. Он делает еще один шаг к постижению действительности, объявляя земную плотскую страсть возвышенной и благородной.
В конце XIV и в XV в. в Италии резко обостряются социальные конфликты. На смену городам-коммунам постепенно приходят синьории с явной тенденцией к перерождению в регионально-абсолютистские государства. В этих условиях внутри ренессансно-гуманистической культуры обнаруживается все более глубокое расслоение.
Отступление от демократических позиций раннего Возрождения можно обнаружить уже в творчестве некоторых флорентийских гуманистов первой половины XV в. Тенденции к аристократизации поэзии, в том числе и сонетного жанра, достаточно отчетливо проявляются во второй половине столетия в произведениях членов кружка Лоренцо Медичи, некоронованного правителя Флоренции. Правда, в сонетах самого Медичи, вдохновленных, как он сам о том поведал, любовью к Лукреции Донати, тенденции к аристократизации жанра еще противоречиво сочетаются с влиянием народной поэзии. Гораздо более очевидна аристократическая направленность поэзии в произведениях поэтов Феррары, в это время разделившей с Флоренцией славу центра ренессансного искусства.
Наиболее примечательные образцы этой изящной, изысканной, но несколько легковесной лирики содержат сонеты и канцоны Маттео Мария Боярдо, графа Скандиано. В стихах другого крупнейшего феррарского поэта Лудовико Ариосто этот налет аристократизма ощущается значительно меньше: он даже снимается свойственной поэту иронической оценкой аристократического идеала.
На протяжении всего XV столетия, однако, в сонетном жанре сохранялась и демократическая традиция. Так, флорентийский цирюльник Буркьелло (псевдоним Доменико ди Джованни) сочинял шутливые сонеты о будничных событиях городской жизни, а за обличительные сатирические стихи против диктатуры Медичи был изгнан из города. Одним из первых в своих сатирических сонетах Буркьелло прибегает к «неправильной» форме «хвостатого сонета». К этой же форме часто обращается на рубеже XV–XVI вв. другой флорентиец Франческо Берни. Резко отрицательно оценивая поэзию «петраркистов», Берни пародирует их приемы в особом жанре, названном по его имени «бернеско». В собственных сонетах поэт сводит счеты с личными врагами, резко обличает папство и тиранию, прославляет в противовес ханжеству и аскетизму земные наслаждения. При этом он чаще всего вызывающе нарушает сонетный канон.
Демократические тенденции характерны и для сонетов и мадригалов великого итальянского художника Микеланджело Буонарроти. Примыкая в начале творчества к «петраркистам», позднее он отошел от них. Восприняв и опыт Данте, и традиции народной поэзии, поэт-художник наполняет свои сонеты гражданским, антитираническим смыслом; он размышляет о творчестве и красоте, понимаемой им как проявление божественного начала в человеке, воспевает любовь, помогающую преодолеть страх перед старостью и смертью.
Уже в его творчестве появляются элементы трагического восприятия действительности. Трагическое начало еще больше усиливается в поэзии Торквато Тассо, жившего в эпоху острого кризиса гуманистического сознания, на закате Возрождения. В творчестве Тассо сталкиваются и не находят гармонического разрешения противоречия между жаждой земной любви, радостей жизни и религиозно-аскетическим идеалом. В результате классически строгая форма сонета, к которой стремится Тассо, нередко вступает в противоречие с содержанием, лишенным глубины.
Несколько особняком в поэзии второй половины XVI в. стоят философские сонеты Джордано Бруно. Философ-гуманист, взошедший на костер потому, что не пожелал отречься от неугодных церкви научных истин, Бруно никогда не печатал свои стихи отдельно: они входили в его научно-философские сочинения, а в некоторых из них, например в трактате «О героическом энтузиазме», составляли структурную основу произведения. Можно с полным правом сказать, что этот органический сплав философии и поэзии обогащал и ту и другую: философия Бруно насыщена духом поэзии, а поэзия насквозь философична. Некоторые его сонеты не только излагают его передовые воззрения, например, идею бесконечности Вселенной, но и славят героический энтузиазм человека, руководствующегося разумом на своем пути к истине. Даже любовь в сонетах Бруно — выражение того же героического энтузиазма и, следовательно, устремлена к постижению истины.
Философская проблематика присутствует и в сонетах Томмазо Кампанеллы, прославившегося прежде всего своей социальной утопией «Город Солнца»; во многих своих сонетах Кампанелла обличает социальные пороки современности, утверждая в человеке стойкость, стремление к свободе и независимости. Поэзия Кампанеллы, еще тесно связанная с Возрождением, в целом принадлежит уже XVII веку.
Сонетное искусство этой поры представлено в нашей книге также произведениями поэтов, занимающих полярные позиции в литературе: Марино и Филикайя. Первый из них — Джамбаттиста Марино — основоположник барочного искусства в Италии. В его сонетах причудливо сочетаются гедонистические мотивы с ощущением дисгармонии и бренности земного бытия. Ориентированная на «избранных», поэзия Марино нарочито усложнена по форме: метафоры, сравнения не проясняют, а затемняют смысл. Под названием «маринизма» в историю литературы вошла по преимуществу формалистическая поэзия подражателей Марино.
Винченцо да Филикайя представляет сравнительно немногочисленную в Италии XVII в. группу сторонников классицистской эстетики. Для его сонетов характерны страстная любовь к родине, стонущей под игом иноземцев, и вместе с тем горестное ощущение неспособности его соотечественников объединиться и завоевать свободу; эти темы отливаются в простые и ясные по образности стихи, среди которых особенно известен цикл сонетов «К Италии».
5
Распространение сонетной формы в странах Западной Европы начинается под прямым воздействием итальянской ренессансной культуры, опередившей в своем развитии другие страны. Влияние итальянской поэзии, в особенности лирики Петрарки, раньше всего сказывается в Испании, связанной с Италией регулярными и прочными контактами. Уже в начале XV в. каталонский поэт Джорди де Сан Джорди создает свою «Песню противоположностей», в которой частью переводит, а частью перелагает 134-й сонет Петрарки. Каталония, в XV в. пережившая кратковременную эпоху Возрождения, нередко в это время выполняла роль посредницы между культурой Италии и литературой остальных областей Испании.
Под влиянием ли каталонских поэтов или в результате прямых контактов с Италией в 1440-х годах, кастильский поэт Иньиго Лопес де Мендоса, маркиз Сантильяна, пишет «42 сонета на итальянский лад». Это был еще не очень совершенный опыт перенесения на испанскую почву и сонетной формы, и итальянского одиннадцатисложного стиха.
На рубеже XV–XVI столетий формируется ренессансная культура Испании. Этому процессу способствовали возникновение единого испанского государства, завершение процесса реконкисты (отвоевания исконных испанских земель, захваченных в VIII в. арабами), открытие и колонизация Нового Света, зарождение раннебуржуазных отношений.
Именно к этому периоду раннего Возрождения в Испании относится появление в испанской поэзии «итальянской школы», которая ориентировалась на опыт Италии и начала разрабатывать формы сонета, эклоги, октавы и др. Основателями этой школы стали Хуан Боскан и Гарсиласо де ла Вега. В своих сонетах, опубликованных посмертно (1543), Боскан вводит не только сонетную форму, но и итальянский одиннадцатисложник. Да и сама схема сонета Боскана полностью воспроизводит обычную петрарковскую схему; лишь в рифмовке терцетов испанский поэт позволяет себе некоторые отступления от итальянского образца. Только талант подлинного поэта-новатора, каким обладал друг Боскана Гарсиласо де ла Вега, придал итальянской поэтической традиции национальный испанский облик. Сонеты Гарсиласо де ла Веги посвящены природе и любви. Как и Петрарка, Гарсиласо поэтизирует окружающий мир и свои чувства, с удивительной тонкостью и богатством оттенков воспевает любовь, обогащающую душу и одухотворяющую природу.
Поэтическая реформа Гарсиласо была принята его современниками не сразу. Поэт Кристобаль Кастильехо, например, увидел в нововведенном сонете оскорбление национальной гордости испанцев и призывал «святую инквизицию, которая так умело и столь справедливо наказывает любую секту и ересь», наказать и сторонников «итальянской школы», которые, «подобно анабаптистам-перекрещенцам, заново крестились и прозывают себя петраркистами».[11] И все же к середине XVI в. «итальянская школа» прочно утвердилась в Испании, а сонет становится одной из излюбленных форм испанской поэзии зрелого и позднего Возрождения.
Во второй половине XVI — начале XVII в. Испания переживает все более углубляющийся политический кризис и упадок экономики. Страна становится оплотом воинствующего католицизма в Европе; вольномыслие в Испании подвергается жесточайшим преследованиям. Но именно к этому времени относится период наивысшего расцвета ренессансной испанской литературы, которая становится одной из ведущих литератур Европы.
Традиции Гарсиласо де ла Веги развиваются во второй половине XVI в. главным образом в двух направлениях. Первое продолжило и углубило преимущественно пасторально-идиллические мотивы; второе восприняло у Гарсиласо главным образом стремление к артистизму формы, тщательности отделки стиха. Обычно эти направления называют «саламанкской» и «севильской» школами поэзии, ибо их крупнейшие представители — Луис де Леон и Фернандо де Эррера — творили соответственно в Саламанке и Севилье, двух важных центрах тогдашней культурной жизни.
Луис де Леон, один из крупнейших испанских гуманистов, подвергавшийся преследованиям инквизиции, в своих сонетах, относящихся к раннему периоду его творчества, в целом развивает традиционные мотивы петраркистской лирики; в других же его сочинениях получает воплощение идея экстатического слияния с богом, сближающая его с творчеством испанских поэтов-мистиков.
Иным по тематике и по характеру мастерства было творчество Фернандо де Эрреры. Ориентация на сравнительно узкий круг читателей, стремление к подчеркнутой изысканности и музыкальности, крайняя экзальтированность лексики, граничащая с выспренностью, свидетельствуют о том, что в поэзию Эрреры проникают кризисные, маньеристские тенденции. Диалектика, присущая сонету, приобретает, скорее, внешний характер.
Вне рамок «севильской» и «саламанкской» школ развивалось сонетное искусство братьев Луперсио и Бартоломе Леонардо де Архенсола. Оба они принадлежали к немногочисленным в Испании сторонникам учено-классицистского направления в ренессансной литературе, ориентируясь на античную мифологическую образность, некоторую обобщённость изображаемых чувств и т. д. К этой же группе примыкал в молодости в своей поэзии и Мигель де Сервантес, в зрелом творчестве которого сонеты становятся преимущественно средством сатирического обличения общества.
Выдающимся лирическим поэтом, одним из немногих титанов сонетного искусства был величайший испанский драматург Лопе Феликс де Вега Карпио. Почти три тысячи сонетов, написанных им, составляют безусловно вершину развития сонетного жанра в испанском Возрождении. К жанру сонета Лопе обращался на протяжении всей своей долгой жизни: множество сонетов он включил в свои бесчисленные пьесы, другие вошли в его поэтические сборники: «Человечные стихи» (1602), «Священные стихи» (1614 и 1622), «Цирцея» (1624), «Стихи лиценциата Бургильоса» (1634) и др. Сонеты Лопе де Веги разнообразны по содержанию: страдания и радости любви, религиозные медитации, картины природы, философские раздумья, полемика с литературными противниками, сатирическое обозрение нравов — все это получает в сонетах Лопе законченную форму. Мастерство Лопе де Веги — сонетиста настолько совершенно, что для него будто бы и не существует технических трудностей: примером этого может служить шутливо-иронический сонет «Ну, Виоланта! Задала урок!..» о том, как трудно сочинить сонет. Любопытно, что в этом озорном вызове сонетному канону существовала своя диалектика — диалектика преодоления трудностей. Эта шутливая игра с формой весьма далека от формализма; она передает радостное ощущение поэтического всесилия, которое не покидало великого ренессансного поэта на протяжении всей его жизни и которое не мешало ему утверждать, что «в основе этого жанра (сонета. — З. П.) лежит концепт (идея), являющийся образом реальных вещей» и оформляющийся в словах, «подражании идее».
Эта ориентация на реальный мир как основу художественной мысли, получающей воплощение в словах, гораздо более резко отграничивает поэзию Лопе от поэзии барокко, чем его критика Гонгоры и сторонников «новой поэзии» за всякого рода формальные ухищрения.
Уже в творчестве Эрреры, как мы говорили, отчетливо обнаруживаются черты кризисности испанской ренессансной поэзии. У учеников Эрреры торжественность переходит в напыщенность, величественность — в высокопарность, а забота об отшлифованности стиха — в стремление к усложненной образности, нагромождению риторических фигур. Все эти формальные искания обрели смысл, лишь войдя в новую художественную систему — барокко, которая в Испании вызревала в недрах ренессансного искусства очень рано — еще в конце XVI в. Первые попытки создания новой поэтической системы предпринял Луис Каррильо де Сотомайор, перекидывающий мостик от маньеристской поэзии к барочной. Однако величайшим поэтом испанского барокко стал Луис де Гонгора-и-Арготе. Не случайно господствующее течение в этой поэзии получило название «гонгоризма».
Своеобразие этого поэтического течения заключалось в том, что с помощью «темного стиля», т. е. крайнего усложнения всех элементов поэтической техники: лексики, синтаксиса, тропов, в особенности метафоры, — поэт стремится создать поэзию, не доступную для непосредственного восприятия, требующую для ее понимания своеобразной «гимнастики ума», рассчитанную лишь на немногих образованных ценителей.
В ранних сонетах Гонгоры эта установка реализуется преимущественно через пародирование, выворачивание наизнанку привычных схем ренессансного мышления. Позднее, однако, неприятие идеалов Возрождения приобретает в его творчестве трагическое звучание. Достаточно, например, сравнить сонет Гонгоры «Ныне, пока волос твоих волна…» с сонетом Гарсиласо де ла Веги «Пока лишь розы в вешнем их наряде…». Оба стихотворения разрабатывают один и тот же мотив: земная красота, юность и радости, которые они сулят, преходящи. Но чуть-чуть грустная интонация Гарсиласо сменяется глубоко трагической у Гонгоры. То, что представляется ренессансному поэту пусть печальным, но вполне закономерным проявлением вечного круговорота в природе («Уж так заведено из века в век», — говорит Гарсиласо в конце сонета), для поэта барокко оказывается подтверждением бессмысленности человеческого бытия, превращения всего реального «в землю, в дым, в прах, в тень, в ничто». И даже эстетическая утопия не кажется ему выходом из непостижимого хаоса жизни. Диалектика идеального и реального, грубого, низменного и возвышенного, соседствующих в сонетах Гонгоры, не находит в них гармонического разрешения. Эта же дисгармоничность мира, правда рационалистически осмысленная, предстает у Кальдерона, который обращался к сонетам нечасто, включая их лишь в свои пьесы, и в обличительных, но безысходно мрачных в своем трагизме стихах одного из верных продолжателей «гонгоризма» — Хуана де Тассиса-и-Перальты, графа Вильямедианы.
Другое стилевое течение в испанском барокко — так называемый концептизм — представлено творчеством Франсиско де Кеведо. «Темному стилю» концептисты противопоставляли «трудный стиль». Если для Лопе де Веги идея, концепт — это образ реального мира, то для Кеведо и его единомышленников концепт — это трудноуловимая и воспринимаемая лишь интуитивно мысленная связь между различными явлениями. Поэтому у Лопе идея концепта — органическая часть его реалистической эстетики, а у Кеведо — способ усложненного метафорического преображения мира: в сонетах Кеведо, в особенности сатирических, мир приобретает фантасмагорически гротесковые очертания, дробясь на множество бесформенных осколков и ужасая своей несообразностью.
6
Между литераторами Португалии и Испании существовали издавна постоянные и тесные контакты. На протяжении более двух с половиной столетий, с середины XV в., португальская литература фактически была двуязычной. Португальские писатели пользовались в своем творчестве не только родным языком, но и испанским, имевшим большое распространение при португальском дворе. Неудивительно поэтому, что в Португалию и Испанию сонет проникает почти одновременно. Честь этого нововведения в Португалии принадлежит Франсиско Са де Миранде. Сорокалетний доктор наук и опытный поэт, Са де Миранда в 1521 г. предпринял путешествие в Италию. В Риме и других культурных центрах Италии он провел пять лет, сблизился со многими итальянскими поэтами. У него созрело решение перенести на португальскую почву канцоны, эклоги, сонеты и другие поэтические формы Италии. Большое влияние на Са де Миранду оказал и пример Боскана и Гарсиласо де ла Веги, с которыми он встретился в Испании на обратном пути на родину. Как и его испанские собратья по перу, он становится основоположником «итальянской школы» в отечественной поэзии. И в годы своего пребывания при португальском дворе, и тогда, когда он поселился в сельской местности, Са де Миранда совмещает в своем творчестве традиционные формы народной португальской поэзии с нововведенными итальянскими. И хотя произведения его были впервые собраны и напечатаны лишь в конце столетия, задолго до этого они получили широкое хождение в списках, утверждая новую сонетную поэтическую форму. Жанр сонета продолжали разрабатывать и ученики Са де Миранды — Дьего Бернардес, Антонио Феррейра, Перо де Андраде Каминья и др. Но подлинным национальным жанром поэзии Португалии сонет становится под пером Луиса де Камоэнса.
Камоэнс — один из великих сонетистов эпохи Возрождения. И как каждый из них, он синтезирует опыт предшественников и вносит в сонетный жанр свое, только ему присущее. Это относится, в частности, к петраркизму Камоэнса. Как и другие последователи Петрарки, португальский поэт ориентируется на неоплатоническую концепцию любви, любви, которая «вершит, в материю внедрясь, | Причин и следствий связь». Но диалектика любви редко превращается у Камоэнса в условную и рассудочную игру, как это было у многих «петраркистов» его времени.
«Рассказ правдивый о печальной были» — так характеризует свой сонетный цикл Камоэнс в открывающем цикл сонете. Правда о мире, окружающем поэта, и его собственном внутреннем мире — правда трагическая. Быть может, наиболее характерно для лирики Камоэнса то сложное и трагическое чувство, которое португальцы называют saudade и которое на русский язык одним словом не переведешь, ибо есть в нем и меланхолия, и тоска, и томление по несбыточному, и воспоминание о былом…
Трагизм миросозерцания Камоэнса, конечно, имел истоки в том, что на его долю выпали нищета, превратности солдатской судьбы, увечье, потеря близких. Но не только в этом, а прежде всего в ощущении того, что, как сказал шекспировский Гамлет, «век расшатался». Из всех великих сонетистов Возрождения Камоэнс ближе всех подошел к черте, за которой гармоничное ренессансное сознание терпит окончательный крах. Подошел, но не преступил эту черту. Как писала советская исследовательница С. И. Еремина (Пискунова), «поэт, жаждущий быть, жить в настоящем, вынужден пребывать распятым между воспоминаниями о прошлом и иллюзорными надеждами на будущее».[12]
Более очевидна ориентация на барочное искусство в творчестве поэтов, творивших после Камоэнса. И если Франсиско Родригес Лобо еще колеблется между Камоэнсом и Гонгорой, то Франсиско Мануэл де Мело уже решительно отвергает ренессансные идеалы: жизнь порождает в его сознании лишь пессимизм, отчаяние, ощущение непоправимого хаоса бытия.
7
Во Франции первые сонеты создает в 1530-х годах Клеман Маро. В 1534 г. он некоторое время скрывался от религиозных преследований в Ферраре и здесь познакомился с творчеством современных ему итальянских поэтов. Их пример и вдохновил Маро на написание нескольких сонетов. Впрочем, жанр сонета увлек Маро гораздо меньше, чем более гибкая поэтическая форма «страмботто». И вообще в первой половине XVI в., на раннем этапе Возрождения, сонет не получил широкого распространения во Франции. В столице к сонетной форме обращался лишь модный, но не очень талантливый поэт Меллен де Сен-Желе.
Гораздо более энергично новый жанр осваивается в провинции, в частности, поэтами «лионской школы». Лион, крупнейший торгово-промышленный центр Франции той эпохи, поддерживал с Италией не только деловые, но и культурные связи. Лионские поэты (Морис Сев, Антуан Эроэ и др.) восприняли у своих итальянских учителей вместе с формой сонета и неоплатонический петраркизм. Любовь, единственный объект своей поэзии, лионская школа истолковывала не только как целомудренно чистое и возвышенное чувство, но и как воплощение извечного мистического порыва человеческой души к «идее прекрасного». Лишь в сонетах Луизы Лабе, едва ли не самой яркой представительницы «лионской школы», духовное начало и земная страсть гармонически сливаются. «Сонеты Лабе — одно из неувядаемых творений французской ренессансной поэзии, — пишет Ю. Б. Виппер. — Они представляют собой художественное явление, во многом родственное, духовно близкое лучшим достижениям участников Плеяды».[13]
Плеяда — название группы поэтов середины XVI в., сыгравших выдающуюся роль в реформе французской поэзии и формировании национального поэтического искусства. Ядро этой поэтической школы составляли семь поэтов: Жан Дора, Пьер де Ронсар, Жоашен Дю Белле, Жан Антуан де Баиф, Этьен Жодель, Реми Белло, Понтюс де Тиар. Однако в третьей четверти века к ним примыкали почти все значительные поэты Франции, в их числе Оливье де Маньи, Этьен де Ла Боэси и др.
Манифестом этой группы стал трактат Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549), где выдвигалось требование создать, в противовес придворной и латинской университетской поэзии, подлинно национальную поэзию, использовав при этом античные образцы и всемерно обогатив французский язык за счет как латыни, так и простонародной речи. Осознавая необходимость решительного разрыва с пережитками средневековья, поэты Плеяды отказываются и от многих утвердившихся во французской поэзии форм и вводят новые, в их числе сонет.
На раннем этапе творчество поэтов Плеяды испытывает сильное воздействие итальянского «петраркизма»: оно сказалось даже в первых поэтических произведениях двух наиболее выдающихся поэтов этой группы — Дю Белле (цикл сонетов «Олива», 1549) и Ронсара («Первая книга любви», иначе называемая «Любовь к Кассандре», 1552–1553). Позднее, однако, эти поэты создают глубоко оригинальную лирику, открывая перед поэзией Франции новые горизонты.
Провозгласив в 1553 г. в стихотворном послании «К одной даме» девиз «Довольно подражать Петрарке!», Дю Белле, однако, в зрелых своих сочинениях — книгах сонетов «Древности Рима», «Сожаления» и др. — не отрекается от уроков Петрарки, а творчески их осмысляет и синтезирует с традициями Маро, создавая лирические произведения большой глубины и чеканной формы. Под его пером французский сонет становится средством философского осмысления исторического процесса («Древности Рима»), сатирического обличения пороков современного общества («Сожаления»). Как справедливо писал советский исследователь А. Д. Михайлов, «Дю Белле сумел, и в этом была специфика и сила Плеяды, выразить в сонете и чувство любви к родине, и чувство тревоги за будущее мира и рассказать о личных невзгодах и утратах, выявив тем самым огромные возможности этой поэтической формы».[14]
В еще большей мере эти слова могут быть отнесены к признанному главе Плеяды и одному из крупнейших ренессансных поэтов — Пьеру де Ронсару. Человек огромного поэтического темперамента, Ронсар создал множество произведений, в которых стремился, иногда терпя неудачу, перенести на французскую почву жанры античной поэзии (пиндарические «Оды», попытка создать национальный эпос «Франсиада»), охватить поэтическим взором весь окружающий мир — жизнь двора и народа, красоту родной природы, глубины человеческого духа и клокочущие в сердце страсти. Наиболее ярко новаторские черты поэзии Ронсара сказались в его любовной лирике, развивавшейся от несколько условных петраркистских форм к изображению чистоты и естественности чувства, пробужденного простой крестьянской девушкой («Вторая книга любви, или Любовь к Марии», 1556), а затем к циклу «Сонетов к Елене» (1578), написанному на склоне лет и запечатлевшему многие разочарования поэта, ощущение им кризиса идеалов Возрождения и, вместе с тем, решимость сохранить верность этим идеалам. В этих двух последних книгах Ронсар выступает и как подлинный реформатор сонетной формы.
Еще в сонетах Маро и лионцев наметились некоторые отступления от итальянского сонетного канона, в частности в способе рифмовки секстета. Допуская разнообразные способы рифмовки терцетов, канон решительно отвергает парные рифмы в них. Между тем Маро, вероятно под влиянием «страмботто», использует в терцетах одну или даже две парные рифмы. Все французские сонетисты следуют в этом отношении за Маро, а Ронсар окончательно узаконивает два возможных типа рифмовки секстета: ccd | eed или cdc | ede. Помимо этого, Ронсар вводит в качестве обязательного регулярное чередование мужской и женской рифм и, наконец, вместо архаичного десятисложного стиха окончательно утверждает в сонете двенадцатисложный александрийский стих. Таким образом он оформляет французский национальный вариант сонетного канона, которому поэты Франции следовали в продолжение нескольких столетий. Смысл этой реформы — в том, чтобы приспособить наилучшим образом сонетную форму к требованиям французского языка и стихосложения, насытить ее ритмику внутренней музыкальностью. Не случайно сонеты Ронсара так часто перелагались на музыку уже современными ему композиторами.
Поэзия Ронсара при жизни не раз вызывала противодействие, особенно в кругах, близких ко двору. Здесь его творчеству противопоставляли изысканную, но лишенную глубоких чувств поэзию Меллена де Сен-Желе, позднее — придворного поэта Филиппа Депорта. Тем не менее поэтическое творчество Ронсара получило признание всех крупнейших поэтов Франции той поры, осталось вершиной французской ренессансной лирики и оказало огромное влияние на развитие лирической поэзии в других странах, в особенности в Англии и Германии.
Уже в поэзии Ронсара достаточно явственно видны черты кризисности ренессансного мироощущения. Еще более отчетливо они проступают в творениях Агриппы д’Обинье. Правда, его сонеты, включенные в сборник «Весна», принадлежат к раннему этапу его творчества, когда трагическое восприятие мира в его поэзии еще не было столь всеобъемлющим. Но уже здесь обнаруживаются та напряженность и страстность конфликта с действительностью, которая позднее составит внутренний нерв его «Трагических поэм», грандиозного эпического проклятия гражданским войнам, разорявшим страну в последние десятилетия XVI столетия.
Поэзия Малерба принадлежит новому, XVII веку. В своих многочисленных комментариях к творчеству поэтов-предшественников Малерб решительно отмежевывается от их поэзии как выражения неприемлемого для него субъективного произвола и выдвигает требование ясности и четкости мысли, подчинения содержания произведений и их формы законам «хорошего вкуса», чистоты поэтического языка, во многом предваряя поэтику классицизма. Собственные его поэтические произведения отличались тщательностью отделки, чеканной строгостью формы. Нередко, однако, его любовные сонеты слишком холодны и рассудочны. Более значительны сонеты-послания, — жанр, который он разрабатывал особенно охотно.
В лагере сторонников классицизма сонетная форма, как и вообще лирическая поэзия, не пользовалась популярностью. Можно назвать лишь Гийома Кольте, вошедшего в первый состав Французской Академии (1634), ставшей центром и оплотом классицистской литературы во Франции. Кольте не только сам писал сонеты, но и опубликовал в 1658 г. «Трактат о сонете», в котором выступил в защиту сонетной формы, стремясь примирить традиции Ронсара и Малерба.
Гораздо более широкое распространение сонет получил в творчестве представителей различных течений в искусстве барокко. В частности, большую дань этому жанру отдали поэты-прециозники, сторонники элитарно-аристократической поэзии с нарочито затемненным, а иногда и зашифрованным смыслом, доступным лишь узкому кругу «избранных». Эта прециозная поэзия, рассадниками которой стали аристократические салоны в Париже и в провинции, в частности знаменитый салон маркизы де Рамбуйе, по своим эстетическим принципам и устремлениям близка к итальянскому «маринизму» и испанскому «гонгоризму». Один из первых представителей прециозной литературы — Жан Оже де Гомбо — был вместе с тем и в числе основателей Французской Академии. Наиболее талантливый прециозник — Венсан Вуатюр, у которого среди многочисленных написанных «на случай» стихотворений попадаются и превосходные произведения, полные искреннего и глубокого лиризма. Творчество многочисленных эпигонов этой школы приобретает откровенно формалистический характер. Язык прециозников, намеренно туманный, изобилующий перифрастическими оборотами и усложненными метаформами, метко высмеял в комедии «Смешные жеманницы» Мольер.
Другое течение в поэзии барокко — творчество «либертенов». «Либертинаж» (вольнодумство) представлял собой весьма разнородное движение, оппозиционное в отношении господствующих устоев, захватившее в свою орбиту и некоторых аристократов, и представителей третьего сословия. Наиболее последовательные «либертены», например Теофиль де Вио, отстаивая более или менее решительно материалистические философские воззрения, обнаруживали вольномыслие, граничащее с атеизмом, в вопросах религии. Не случайно многие из них подвергались преследованиям со стороны властей и церкви. Теофиль де Вио, например, несколько раз вынужден был покидать столицу, заочно был приговорен к сожжению и томился в тюремном застенке. Менее глубоким было бунтарство таких «либертенов», как Марк Антуан Жерар де Сент-Аман, писавший сонеты и послания в духе Марино и усердно посещавший салон маркизы де Рамбуйе, Франсуа Тристан Лермит и др. «Либертен»-атеист Жак Валле де Барро в конце жизни вернулся в лоно религии. Его поздние произведения, в том числе знаменитый сонет «Всевышний, ты велик», смыкаются с третьим направлением в поэзии французского барокко — религиозной поэзией, след которой в истории французской литературы XVII в. наименее значителен.
8
В Англии интерес к Петрарке и его «Канцоньере» проявляет еще автор знаменитых «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосер (1343–1400), побывавший в Италии и, быть может, даже лично познакомившийся с Петраркой. Он, в частности, перевел на английский язык 102-й сонет итальянского поэта, правда, не сохранив при этом сонетную форму.
Жанром английской поэзии сонет становится много позднее, в эпоху Возрождения, т. е. в XVI в. Поэты Томас Уайет и Генри Говард, граф Серрей, создали свои сонеты в 1530-х годах. Несомненно, что стимулом для них послужило знакомство с сонетами Петрарки и его итальянских последователей: многие сонеты Уайета и Серрея — более или менее близкие переводы из «Канцоньере». Но был у английских поэтов и другой ориентир — сонеты Маро и Сен-Желе. Во. Франции Уайет и Серрей бывали неоднократно и жили там подолгу. Именно под влиянием французских поэтов Уайет избирает для сонета схему abba | abba | cdd | сее. Серрей делает еще один шаг в нарушении классического канона. В первых изданиях, однако, разбивка сонетов на катрены и терцеты чаще всего не обозначалась, поэтому вскоре эта схема стала восприниматься как сочетание трех катренов и двустишия (abba | abba | cddc | ее). В двенадцати из шестнадцати сонетов Серрей разбивает стихотворение на три четверостишия с перекрестной рифмой и заключительное двустишие с парной рифмой (abab | cdcd | efef | gg). Таким образом, в своей реформе Серрей не ограничивается секстетом, как французские поэты и Уайет, но перестраивает всю структуру сонета.
Ни Уайет, ни Серрей, вероятно, и не осознавали, что дерзко нарушают сонетный канон. Еще в 1575 г., почти сорок лет спустя, Джордж Гаскойнь в поэтическом трактате «Некоторые наставления» констатировал, что, как полагают многие в Англии, «всякое стихотворение (если оно невелико по размерам) может быть названо сонетом».[15] Примерно в это же время поэт Филип Сидни в ранний цикл «Некоторые сонеты» наряду с сонетами в строгом смысле слова включает и другие лирические стихотворения песенного типа. Употребление парных рифм в конце сонета и перекрестных рифм в катренах часто, и не без основания, объясняют влиянием английской баллады (это влияние особенно заметно в сонетах, построенных по схеме abab | bcbc | cdcd | ее). Наконец, отказ от сохранения двух одинаковых рифм в катренах, видимо, отчасти связан с тем, что английский язык относительно беден на рифмы. К этому можно добавить, что возникновение «сонетного ключа», т. е. завершающего двустишия с парной рифмой отвечало вкусам английских поэтов, их пристрастию к эпиграмматической завершенности стихотворения.
Сонеты Уайета и Серрея приобрели популярность лишь после их смерти, когда были опубликованы в «Тоттелевском сборнике» (1557), позднее неоднократно переиздававшемся. Но до начала 1580-х годов английские поэты обращались к жанру сонета от случая к случаю. Лишь в конце XVI — начале XVII в., т. е. в период зрелого и позднего Возрождения, Англия переживает настоящий «сонетный бум». Начало ему положил Филип Сидни.
В 1581–1583 гг. Сидни создает цикл «Астрофил и Стелла», в который вошли 108 сонетов и 11 песен, повествующих о любви двух молодых людей. Хотя автобиографические черты присутствуют в цикле, он не стал ни автобиографической повестью, как «Новая жизнь» Данте, ни поэтической исповедью, как «Канцоньере». «Астрофил и Стелла», по определению советской исследовательницы Л. И. Володарской, — лиро-эпическое произведение, в котором сонетист стремится «отделиться от своего героя» и «провести его по пути нравственного совершенствования».[16] Помимо Петрарки учителями Сидни при этом стали Ронсар и Дю Белле. Не случайно поэтому Сидни отдает в цикле предпочтение типу сонета, который разрабатывался Уайетом: этот вариант предпочитали и деятели Плеяды.
Сидни не только окончательно утвердил сонетную форму в английской поэзии, но и закрепил за ней размер пятистопного ямба вместо свободного стиха, принятого ранее.
Распространявшийся сперва в многочисленных списках, а затем опубликованный в 1591 г., сонетный цикл Сидни породил всеобщее увлечение жанром сонета. За одно только последнее десятилетие XVI в. их было опубликовано 3 тысячи, а написано, конечно, много больше. К этой «массовой» сонетной литературе относятся произведения Николаса Бретона, братьев Френсиса и Уолтера Дейвисонов, пирата и авантюриста Уолтера Рели и др. Только сонетных циклов с 1591 г. по 1609 г. было опубликовано около двадцати, в их числе книги Сэмюэла Дэниела, Майкла Дрейтона, Фулка Гревилла, Спенсера, Шекспира.
Эдмунд Спенсер, прозванный еще при жизни «Поэтом поэтов», — безусловно один из самых значительных художников английского Возрождения, глава его аристократического крыла. В цикле «Аморетти» (1591–1595), в который вошли 88 сонетов, посвященных Элизабет Бойл, невесте, а затем супруге поэта, страстный поклонник Петрарки Спенсер сознательно стремится к поэтизации действительности, образа возлюбленной и своего чувства к ней. И в этом сборнике, и в эклогах из «Пастушьего календаря», и, в особенности, в грандиозной аллегорической поэме «Королева фей» Спенсер завершает реформу английского стиха, придав ему необычайную пластичность и музыкальность.
Подлинной вершиной сонетного жанра в Англии эпохи Возрождения стали 154 сонета Уильяма Шекспира. Недаром тот тип сонета, который ввел в английскую поэзию Серрей, получил название «шекспировского». Рука гения сделала нормой то, что было лишь робкой попыткой у его предшественников; после Шекспира именно этот тип сонета стал национальным английским вариантом канона.
Свой цикл Шекспир, по-видимому, создавал в 1590-х годах. Во всяком случае, уже в 1598 г. в печати промелькнуло сообщение о его «сладостных сонетах, известных близким друзьям», хотя изданы они были только в 1609 г. О содержании шекспировских сонетов идут горячие споры. Одни, например, полагают, что в цикле есть три героя — автор (лирический герой), Друг и Она. Иные считают, что сонеты написаны в разное время и посвящены не трем, а многим лицам. Думается, что это не столь и важно. Существенней другое: сонеты в книге сгруппированы так, что первые 126 посвящены дружбе, остальные — любви к женщине.
В литературе Возрождения тема дружбы, в особенности мужской, занимает важное место: она рассматривается как высшее проявление человечности. Такая дружба лишена какой-либо корысти, в ней гармонически сочетаются веления разума с душевной склонностью, свободной от чувственного начала. Эту дружбу-любовь и славит Шекспир.
Не менее значительны сонеты, посвященные любимой. Образ ее подчеркнуто нетрадиционен; она вполне земная и реальная — не слишком красивая и не слишком нравственная. Вызовом многочисленным подражателям и эпигонам Петрарки, на все лады обожествлявшим свою возлюбленную, звучат заключительные слова 130-го сонета: «…она уступит тем едва ли, | Кого в сравненьях пышных оболгали». Самое примечательное в сонетах Шекспира — посвящены ли они Другу или Любимой — это постоянное ощущение внутренней противоречивости человеческого чувства: то, что является источником наивысшего блаженства, неизбежно порождает страдания и боль, и, наоборот, в тяжких муках рождается счастье. Это противоборство чувств самым естественным образом, какой бы сложной ни была метафорическая система Шекспира, укладывается в сонетную форму, которой диалектичность присуща «от природы». Шекспир писал свои сонеты в первый период творчества, когда он еще сохранял веру в торжество гуманистических идеалов. Поэтому гармоничность его мироощущения не могло нарушить даже отчетливо осознаваемое поэтом несовершенство мира. В знаменитом 66-м сонете он испытывает отчаяние, «Достоинство в отрепье видя рваном, | Ничтожество — одетое в парчу | И веру, оскорбленную обманом…», «И робкое Добро в оковах Зла, | Искусство, присужденное к молчанью». Но в «сонетном ключе» он как бы отвечает на еще не заданный Гамлетом вопрос «быть или не быть?»: «Устал я жить и смерть зову, скорбя». И тут же опровергает себя риторическим вопросом: «Но на кого оставлю я тебя?» (сонет цитирую в переводе А. М. Финкеля). Любовь и дружба пока выступают, как в «Ромео и Джульетте», силой, утверждающей гармонию противоположностей. Разрыв Гамлета с Офелией — еще впереди, как и разорванность сознания, которую воплотил принц датский. Пройдет несколько лет — и победа гуманистического идеала отодвинется для Шекспира в далекое, далекое будущее.
Но даже эта вера-мираж исчезает в творчестве художников, которые приходят на смену Шекспиру в XVII столетии. Среди них трагическая фигура Джона Донна. Исследователи спорят — является ли он поздним представителем «трагического гуманизма» или поэтом барокко. Но очевидно, что этот поэт с огромной силой раскрывает в своих произведениях кричащие противоречия человеческого бытия. Те же «вечные» антиномии, но в значительно ослабленном виде, возникают в творчестве следовавших за Донном поэтов «метафизической школы», представленной в нашей книге сонетом Джорджа Герберта.
Как и поэтические произведения «метафизиков», на элиту была ориентирована придворная поэзия «кавалеров», чуждая гражданских мотивов, например, сонеты Роберта Геррика.
То, мимо чего сознательно прошли поэты «метафизической школы» и «кавалеры», — назревавшая с самого начала века и разразившаяся в 1640-х годах буржуазная революция — стало смыслом и содержанием всего творчества крупнейшего поэта Англии в XVII в. Джона Мильтона, а также поэзии его друга и сподвижника Эндрю Марвелла, начинавшего в русле «Метафизической школы», но в годы революции обратившегося к патриотической и гражданской тематике.
Активный деятель революции, осуществлявшейся под знаменами сурового пуританизма, враждебного светскому искусству, Мильтон, тем не менее, из всех поэтов того времени более всего ощущал духовную связь своего творчества с наследием Ренессанса и, в частности, Шекспира. К жанру сонета он обращается еще в предреволюционные годы, когда и мировоззрение, и эстетические взгляды писателя только формировались. Но уже в это время его позиция решительно отличалась и от бездумного гедонизма «кавалеров», и от религиозно-мистических устремлений «метафизиков». В поэтике же Мильтона отчетливо ощущаются классицистские тенденции. Эти же тенденции характерны и для немногочисленных стихотворений эпохи революции, когда главным делом писателя стала революционная публицистика. Поражение революции не сломило духа больного и ослепшего поэта. Но от малых поэтических форм он в последние годы жизни обращается к большим эпическим полотнам, создавая грандиозную поэму «Потерянный рай», поэму «Возвращенный рай» и трагедию «Самсон-борец», которые венчают творческий путь поэта-революционера и всю английскую литературу XVII в.
9
Германия — едва ли не единственная европейская страна, которая в эпоху Возрождения пренебрегла сонетом. Правда, в 1555 г. в один антипапский трактат, переведенный с итальянского, был включен и перевод сонета, осуществленный поэтом Кристофом Вирсунгом. Но этот первый опыт прошел почти незамеченным, и до начала XVII в. сонетная форма — редкая гостья в немецкой поэзии. Быть может, это объясняется тем, что поэзия немецкого Возрождения прочнее, чем в других странах, связана либо с латинской традицией (учено-гуманистическая лирика Ульриха фон Гуттена), либо со средневековой городской культурой и ее жанрами (Себастьян Брант, Томас Мурнер, Ганс Сакс).
Первые серьезные попытки ввести сонет в немецкую поэзию относятся к XVII в. Для Германии это была эпоха глубочайшего социального и политического кризиса. Страна, раздробленная на множество мелких и мельчайших государств, разделенная и религиозными распрями между католиками и протестантами, оказалась втянутой в Тридцатилетнюю войну (1618–1648) между Католической лигой (Испания, Австрия и др.) и союзом протестантских государств (Швеция, Дания и др.), к которому позднее присоединилась Франция. Война принесла неисчислимые бедствия всем участвовавшим в ней странам, но нигде ее последствия не были столь трагическими, как в Германии. Немецкий народ был в этой борьбе обескровлен, а страна опустошена и разорена. Под знаком этой национальной трагедии и развивается немецкая литература XVII в., в которой почти безраздельное господство принадлежало барокко. Трудно назвать в Германии той эпохи поэта, который в своих стихах не коснулся бы этого всенародного бедствия, с горечью не писал бы о бренности человеческой жизни, ставшей разменной монетой для обеих воюющих сторон.
Сильны эти мотивы и в поэтическом творчестве Георга Рудольфа Векерлина, который первым в Германии неоднократно обращался к жанру сонета. Его перу принадлежали стихотворения как любовные, так и патриотические и политические. Создавая свои сонеты, Векерлин ориентировался, с одной стороны, на традиции поэтов Плеяды (что получило отражение и в его обращении к французскому силлабическому александрийскому стиху), а с другой — на опыт английских сонетистов, с которыми он хорошо познакомился, особенно после того, как в 1620 г. переселился в Англию (к английскому типу сонета восходит схема рифмовки большинства его сонетов, в частности, перекрестная рифма в катренах, которой он отдает предпочтение). Сонеты Векерлина вошли главным образом в сборник «Духовные и светские стихотворения» (1641), который к тому же был напечатан в Амстердаме и потому стал известен в Германии позднее, чем произведения его младшего современника Мартина Опица, которому по праву и принадлежит честь превращения сонета в один из национальных жанров немецкой поэзии.
Мартин Опиц был крупным поэтом, дарование которого проявилось в самых разных жанрах. Но реформатором немецкой поэзии он стал прежде всего благодаря своему трактату «Книга о немецком стихотворстве» (1624), который утвердил в поэзии Германии силлабо-тонический стих, а применительно к сонету — шестистопный ямб. Что касается принципов рифмовки сонета, то он ориентировался, главным образом, не на классический образец Петрарки, а на творчество Ронсара и французский вариант сонетного канона.
Значительным шагом вперед в формировании немецкого сонета стало творчество Пауля Флеминга. Почитатель и последователь Опица, Флеминг придает сонету большую естественность и музыкальность, чрезвычайно расширяет круг его тем: среди сонетов. Флеминга многие посвящены разнообразным философским темам, его религиозные сонеты положили начало очень долгой традиции сонетной религиозной поэзии. Особый интерес для нашего читателя представляют сонеты, написанные поэтом во время его путешествия по России и повествующие о наиболее примечательных местах, которые он посетил.
Крупнейшим мастером сонета стал Андреас Грифиус. Создатель немецкой барочной трагедии и комедии, Грифиус в своих сонетах почти не касался любви. Подавляющее большинство стихотворений поэта посвящено трагическим последствиям войны. Одна из ведущих тем его сонетов — патриотическая скорбь по поводу злосчастной судьбы его отчизны («Слезы отечества, год 1636»). Вместе с тем поэт не способен постигнуть истинные причины народных бед — обличительный пафос его стихотворений направлен на нравственную сферу. Противовесом трагической действительности оказывается религия. Его сборник «Воскресных и праздничных сонетов» — один из самых значительных образцов немецкой религиозной поэзии. Творчество Грифиуса барочно по своим выразительным средствам: оно предельно динамично и экспрессивно, резко контрастно; поэт охотно прибегает к развернутым аллегориям, сложной системе метафор. Сонеты Грифиуса оставили весьма значительный след в немецкой литературе; к опыту поэта Тридцатилетней войны в годы фашизма и второй мировой войны обращался поэт-коммунист Иоганнес Р. Бехер, назвавший его одним из лучших представителей немецкой культуры.
Во второй половине XVII в., после окончания Тридцатилетней войны, в поэзии Германии отчетливо выявляются два течения, в равной степени чуждавшиеся реальности. Одни поэты продолжают и углубляют религиозно-мистическую линию в поэзии, наметившуюся уже раньше: среди сонетистов это течение ярче всего представлено поэзией Квиринуса Кульмана; другие уходят в нарочито эстетизированный круг личных переживаний. Такова, в частности, деятельность поэтессы Катарины Регины фон Грейфенберг, Филиппа фон Цезена, прославившегося хитроумными формальными опытами над жанром сонета, в особенности придворного поэта Христиана Гофмана фон Гофмансвальдау. Поэзия Гофмана фон Гофмансвальдау глубоко аристократична, не случайно он начинает свой творческий путь с переводов стихотворений Марино, оказавшего большое влияние и на его оригинальные стихи. Отдав дань такой расхожей теме барочного искусства, как бренность человеческого существования, Гофман фон Гофмансвальдау свои сонеты посвятил преимущественно любви, насытив их нередко откровенно эротическими мотивами и придав им чрезвычайно изысканную, усложненную форму. Деятельность поэтов этого направления во многом свидетельствовала о начинающемся упадке немецкой барочной поэзии.
* * *
По подсчетам некоторых ученых, за века, ознаменованные развитием культуры Возрождения, было напечатано примерно триста тысяч сонетов; видимо, не менее ста тысяч появилось в XVII столетии — целый океан поэзии. Конечно, отобранные составителями и вошедшие в эту книгу стихотворения — лишь маленькие островки в этом океане. Но мы старались при этом выбрать и представить на суд читателя все самое значительное и интересное. Во всех тех случаях, когда на русском языке существует несколько переводов одного и того же сонета, мы отдавали предпочтение тому, который наиболее адекватно передает содержание и особенности оригинала. Некоторые старые, но представляющие исторический интерес переводы даются нами в примечаниях, где читатель найдет также критико-биографические заметки обо всех авторах, чьи произведения включены в книгу, и комментарий, необходимый для понимания публикуемых стихотворений. Большое число сонетов, не существовавших ранее в русских переводах, впервые переведено группой ленинградских поэтов-переводчиков специально для нашего издания.
Эта книга подготовлена коллективом сотрудников кафедры истории зарубежных литератур Ленинградского университета. Свой труд они отдают на суд вам, уважаемые читатели.
З. И. Плавскин
ИТАЛИЯ
Гвидо Гвиницелли
* * *
Хочу я Донне вознести хвалы: Она, прекрасней розы и лилеи, Звездой взошла средь предрассветной мглы, Сияньем затмевая Эмпиреи. С источником, забившим из скалы, Ее сравню, и с морем, что, синея, Вздымает белопенные валы, И с золотом, что блещет, не тускнея. Идет — столь сладостна и столь скромна, Что всяк при ней забудет о гордыне И станет в нашу Веру обращен. Кого улыбкой одарит сполна, Тот счастлив — низких помыслов отныне В своей душе питать не сможет он.* * *
От боли и тоски я изнемог. Не ведаю, презрев земли законы, Куда меня влечет враждебный рок, Какие мне еще сулит препоны. Я на чужбине всюду, как листок, Что оторвался от родимой кроны, Да и в ветвях уже не бродит сок, И высох корень, жаждой истомленный. Я груз неправедных обид влачу, Не излечу веселием кручины, Моей судьбины не осилить мне. Осиротевшим голубем взлечу, Один умчу в далекие долины Искать кончины в чуждой стороне.Гвидо Кавальканти
Гвидо Кавальканти — к Данте
Вы видели пределы упованья,[17] Вам были добродетели ясны, В Амора тайны вы посвящены, Преодолев владыки испытанья. Докучные он гонит прочь желанья И судит нас — и мы служить должны. Он, радостно тревожа наши сны, Пленит сердца, не знавшие страданья. Во сне он ваше сердце уносил: Казалось, вашу даму смерть призвала, И этим сердцем он ее кормил. Когда, скорбя, владыка уходил, Вся сладость снов под утро убывала, Чтоб день виденье ваше победил.Гвидо Кавальканти — к Данте
О если б я любви достоин был, — Во мне лишь память о любви всевластна, И дама не была б столь безучастна, Такой корабль мне стал бы, Данте, мил. А ты, из тех, которых посвятил Амор,[18] смотри — жду милость ежечасно, Но дама в сердце целится бесстрастно, Как ловкий лучник: жду, чтоб он сразил Меня. Амор натягивает лук И, торжествуя, радостью сияет: Он сладостную мне готовит месть. Но слушай удивительную весть — Стрелой пронзенный дух ему прощает Упадок сил и силу новых мук.* * *
Красавиц обольстительные взоры, Нарядных всадников блестящий строй, Беседы о любви и птичьи хоры, Корабль, бегущий по волне морской, Прозрачность пред зарей, что вспыхнет скоро, Снег, падающий тихо над землей, Журчание ручья, лугов узоры, Каменьев блеск в оправе золотой — Что это все пред дивной красотою И благородством госпожи моей? Презренный тлен, не стоящий и взгляда! Как перед небом меркнет все земное, Так все, что видишь, меркнет перед ней. Добру соединиться с ней — отрада.* * *
Ты не видала, госпожа моя, Того, кто сердце мне сжимал рукою, Когда, боясь, что мук своих не скрою, Тебе ответствовал чуть слышно я. То бог любви, далекие края Покинувший, встал грозно предо мною Сирийским лучником, готовым к бою, В колчане стрелы острые тая. Он из твоих очей извлек стенанья И с яростью такой метнул в меня, Что я бежал, утративши сознанье. И я вступил в круг тех, чья злая доля — В слезах тонуть, не видя света дня, И умереть от несказанной боли.Чекко Анджольери
Жестокая и дерзкая мечта
Будь я огнем — я жег бы все подряд, Будь я чумой — извел бы всех отравой, Будь я вулканом — все бы залил лавой, Будь я всевышним — вверг бы землю в ад. Будь папой я — моих смиренных чад Всех истребил бы казнию кровавой, Будь императором — на суд неправый Всех подданных обречь я был бы рад. Будь мертвым я — расстался бы с семьей, Будь я живым — сбежал бы, стал свободен Подалее от вас, отец и мать. А будь я Чекко и никто иной — Другим оставлю злючек да уродин, А сам красоток стану миловать!Женщина, игра и таверна
Три радости на свете мне даны, И я люблю их преданно и верно; Для счастья мне все три они нужны, Зовут их — женщина, игра, таверна. Но ведь на них не напастись казны, А кошелек мой пуст неимоверно, И этих благ, которым нет цены, Я жажду столь же тщетно, сколь безмерно. Проклятье! Кем я ввергнут в бездну эту? Отцом, по чьей вине живу так скудно, Что даже и в Сорбонну съездил зря. Эх, выцарапать у него монету На паперти в день Пасхи так же трудно, Как перепелку у нетопыря.Данте Алигьери
ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ»
* * *
Влюбленным душам посвящу сказанье, Дабы достойный получить ответ. В Аморе, господине их — привет! Всем благородным душам шлю посланье. На небе звезд не меркнуло сиянье, И не коснулась ночь предельных мет — Амор явился. Не забыть мне, нет, Тот страх и трепет, то очарованье! Мое, ликуя, сердце он держал. В его объятьях дама почивала, Чуть скрыта легкой тканью покрывал. И, пробудив, Амор ее питал Кровавым сердцем, что в ночи пылало, Но, уходя, мой господин рыдал.* * *
Амор рыдает и рыдать должны Влюбленные. Причину слез узнают: Здесь дамы к милосердию взывают, И скорбью очи их поражены. Краса и молодость погребены Презренной смертью. Все, что восхваляют На этом свете, пелены скрывают; И сердца тайники обнажены. Любви владыка даме честь воздал, И было истинно его явленье. Амор, склонясь над дамой, плакал сам, Но взор свой обращая к небесам, Благой души узрел он вознесенье; И лик усопшей радостью сиял.* * *
Позавчера я на коне скакал, Задумавшись, исполненный тревоги. И мне Амор явился средь дороги, В одеждах легких странника предстал. Как будто бы господство утерял, Смиренномудрый, грустный и убогий, Склонив главу, покинул он чертоги, И, мнилось мне, людей он избегал. По имени окликнул он меня, И мне сказал: «Тот край я посетил, Где повелел, чтоб сердце пребывало. Ты обретешь иное покрывало». И столь с моей свою он сущность слил, Что вдруг исчез — но как? — в сиянье дня.* * *
Лишь о любви все мысли говорят И столь они во мне разнообразны, Что, вот, одни отвергли все соблазны, Другие пламенем ее горят. Окрылены надеждою, парят, В слезах исходят, горестны и праздны; Дрожащие, они в одном согласны — О милости испуганно твердят. Что выбрать мне? Как выйти из пустыни? Хочу сказать, не знаю, что сказать. Блуждает разум, не находит слова, Но, чтобы мысли стали стройны снова, Защиту должен я, смирясь, искать У Милосердия, моей врагини.* * *
С другими дамами вы надо мной Смеетесь, но неведома вам сила, Что скорбный облик мой преобразила: Я поражен был вашею красой. О, если б знали, мукою какой Томлюсь, меня бы жалость посетила. Амор, склонясь над вами, как светило, Все ослепляет; властною рукой Смущенных духов моего сознанья Огнем сжигает он иль гонит прочь; И вас один тогда я созерцаю. И необычный облик принимаю, Но слышу я — кто может мне помочь? — Изгнанников измученных рыданья.* * *
Все в памяти смущенной умирает — Я вижу вас в сиянии зари, И в этот миг мне бог любви вещает: «Беги отсель, иль в пламени сгори!» Лицо мое цвет сердца отражает. Ищу опоры, потрясен внутри; И опьяненье трепет порождает. Мне камни, кажется, кричат: «Умри!» И чья душа в бесчувствии застыла, Тот не поймет подавленный мой крик. Он согрешит, но пусть воспламенится В нем состраданье, что в сердцах убила Насмешка ваша, видя бледный лик И этот взор, что к гибели стремится.* * *
Я часто думал, скорбью утомленный, Что мрачен я не по своей вине. Себя жалел, пылая, как в огне; Твердил: «Так не страдал еще влюбленный!» О сколько раз, нежданно осажденный Жестоким богом, в сердца глубине Я чувствовал, что дух один во мне Еще живет, любовью озаренный. Стремился вновь волнение унять В моем бессилье и в изнеможенье. Чтоб исцелиться, к вам я шел, спеша. Осмеливаясь робкий взгляд поднять, Я чувствовал такое сотрясенье, Что мнилось мне — из жил бежит душа.* * *
Любовь и благородные сердца Одно, сказал поэт в своей канцоне. Так разум, по ученью мудреца,[19] С душой неразделим в духовном лоне. Природа сердце превратит в дворца Палату, где сам бог любви на троне. Порою царство длится без конца, Но иногда не верен он короне. Затем в премудрой даме красота Пленяет взор и в сердце порождает Тот дух любви, что связан с ней навек; Растет и крепнет властная мечта. И в сердце дамы также возбуждает Любовь достойный чувства человек.* * *
В ее очах Амора откровенье. Преображает всех ее привет. Там, где проходит, каждый смотрит вслед; Ее поклон — земным благословенье. Рождает он в сердцах благоговенье. Вздыхает грешник, шепчет он обет. Гордыню, гнев ее изгонит свет; О дамы, ей мы воздадим хваленье. Смиренномудрие ее словам Присуще, и сердца она врачует. Блажен ее предвозвестивший путь. Когда же улыбается чуть-чуть, Не выразить душе. Душа ликует: Вот чудо новое явилось вам!* * *
Я чувствовал, как в сердце пробуждался Влюбленный дух, что в нем давно дремал. Амора издали я не узнал, Нечаянный, ликуя, приближался. «Воздай мне честь» сказал и улыбался. Он радостную встречу предвещал. Недолго я с владыкой пребывал, Смотря туда, где бог мне показался. И монну Ванну вместе с монной Биче[20] Увидел я, — незримое другими, За чудом чудо шло. Как бы во сне Амор сказал: «Постигни их обличье, Ты знаешь, Примавера первой имя, Второй — Амор, во всем подобной мне».* * *
Приветствие владычицы благой Столь величаво, что никто не смеет Поднять очей. Язык людской немеет Дрожа, и всё покорно ей одной. Сопровождаемая похвалой, Она идет; смиренья ветер веет. Узрев небесное, благоговеет, Как перед чудом, этот мир земной. Для всех взирающих — виденье рая И сладости источник несравненный. Тот не поймет, кто сам не испытал. И с уст ее, мне виделось, слетал Любвеобильный дух благословенный И говорил душе: «Живи, вздыхая!»* * *
Постигнет совершенное спасенье Тот, кто ее в кругу увидит дам. Пусть воздадут Творцу благодаренье Все сопричастные ее путям. Ты видишь добродетели явленье В ее красе, и зависть по следам Мадонны не идет, но восхищенье Сопутствует ее святым вестям. Ее смиренье мир преобразило. И похвалу все спутницы приемлют, Постигнув свет сердечной глубины, И вспомнив то, что смертных поразило В ее делах, высоким чувствам внемлют, — Вздыхать от сладости любви должны.* * *
О столько лет мной бог любви владел! Любовь меня к смиренью приучала, И если был Амор жесток сначала, Быть сладостным он ныне захотел. Пусть духи покидали мой предел, И пусть душа во мне ослабевала, Она порою радость излучала, Но взор мой мерк, и жизни блеск слабел. Амора власть усилилась во мне. Царил он в сердце, духов возбуждая, И духи, покидая Меня, мадонну славили во мне. Я взор встречал, исполненный сиянья Смиренного ее очарованья.* * *
Пусть скорбь моя звучит в моем привете; Так благородным надлежит сердцам. Мой каждый вздох спешит навстречу к вам. Как жить, не воздыхая, мне на свете! Глаза мои передо мной в ответе — Я лил бы слезы чаще, знаю сам. Оплакиваю лучшую из дам, Чтоб душу в грустном облегчить сонете. И призывают часто воздыханья Ту, что в чертог небесный отошла, В высокие небесные селенья, Чтоб презрела мирские все дела Моя душа в объятиях страданья, Лишенная блаженства и спасенья.* * *
И цвет любви и благость сожаленья Ваш лик скорбящий мне не раз являл. Он милосердием таким сиял, Что на земле не нахожу сравненья. Я созерцал чудесные явленья. Ваш грустный взор мой скорбный взор встречал. И голос трепетный во мне звучал — Вот сердце разорвется от волненья. Ослабленным глазам я воспретить Не мог глядеть на вас. Мои печали, Как прежде, восстают из глубины. Не вы ль меня к рыданьям побуждали? Глаза мои стремятся слезы лить, Но перед вами плакать не вольны.* * *
Глаза мои печальные, не вы ли Меня к скорбям столь длительно вели? Другие люди, — видеть вы могли, — Вам сострадая, часто слезы лили. Мне кажется, что вы ваш долг забыли, Я не предатель на путях земли, И я хочу, чтоб слезы унесли Беспамятство, чтоб вы одной служили. Но ваша суета меня смутила. Я взоров опасаюсь той жены Прекрасной, что порой на вас глядит. Глаза мои, до смерти не должны Забыть о вашей даме, что почила! Так сердце, воздыхая, мне твердит.* * *
Благая мысль мне говорит пристрастно О вас, пленившей дни мои и сны. Слова любви столь сладости полны, Что сердце, кажется, со всем согласно. Душа узнать стремится ежечасно У сердца: «Как с тобою пленены? Зачем лишь ей одной внимать должны? Слова иные изгоняешь властно!» «Душа задумчивая, — говорит Ей сердце, — это дух любви нам новый; Он мне, таясь, открыл свое желанье. А добродетели его основы В очах прекрасных той, что нам сулит И утешение и состраданье».* * *
Задумчиво идете, пилигримы, И в ваших мыслях чуждые края. Вы миновали дальние моря, В скитаниях своих неутомимы. Не плачете, неведеньем хранимы, Проходите, все чувства затая, А всех людей пленила скорбь моя, Печали их — увы! — неутолимы. Но если б захотели вы внимать Тем вздохам сердца, что всечасно внемлю, Оставили б, рыдая, град скорбей. Покинуло блаженство эту землю, Но то, что можем мы о ней сказать, Источник слез исторгнет из очей.* * *
За сферою предельного движенья Мой вздох летит в сияющий чертог. И в сердце скорбь любви лелеет бог Для нового вселенной разуменья. И, достигая область вожделенья, Дух пилигрим во славе видеть мог Покинувшую плен земных тревог, Достойную похвал и удивленья. Не понял я, что он тогда сказал, Столь утонченны, скрытны были речи В печальном сердце. Помыслы благие В моей душе скорбящей вызывал. Но Беатриче — в небесах далече — Я слышал имя, дамы дорогие.СТИХИ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ПЕРИОДА
Данте Алигьери — к Данте да Майяно[21]
На вас познаний мантия — своя, Мне кажется, и, разобравшись строго, Вам, друг мой, не нужна моя подмога: Я славлю вас, но я вам не судья. В сравненьи с вашим знаньем бытия Поверьте мне, мое — весьма убого, Дорога знаний — не моя дорога, И вы всеведущи, не то, что я. Отвечу, положа на сердце руку И ложь прогнав любую от себя, Как надлежит в беседе с мудрым мужем. Не посчитайте домыслом досужим Такой ответ: кто не любим, любя, Страшнейшую испытывает муку.Данте Алигьери — к Данте да Майяно
Познанье, благородство, мудрый взгляд, Искусство, красота, сознанье чести, Любезность, слава, доброта без лести, Отвага, сила, скромности наряд — Вот те достоинства, что победят Любви владыку всюду — врозь и вместе, И все они достойны высшей чести: Ведь каждое в победу вносит вклад. Коль скоро, друг мой, от своих намерен Ты добродетелей увидеть прок Природных иль благоприобретенных, Благим деяньям бога всех влюбленных Не вздумай становиться поперек, — Не победишь Амора, будь уверен.К Липпо (Паски де’Барди)[22]
Надеюсь, Липпо, ты меня прочтешь, Но прежде, чем начнешь В меня вникать, узнай — моим поэтом Я послан, чтоб тебя почтить приветом. И пожелать при этом Тебе всего, что нужным ты найдешь. Надеюсь, ты меня не отметешь И душу призовешь И разум, чтоб решить, как быть с ответом: Я, что смиреннейшим зовусь сонетом, Явился за советом И жду, что ты на помощь мне придешь. Я эту девушку привел с собою, Однако, наготы стыдясь своей, Она среди людей Не хочет, гордая, ходить нагою. Прошу — безвестной деве платье сшей,[23] Не обойди подругу добротою, Чтобы с любой другою Соперничать возможно было ей.* * *
Вовек не искупить своей вины Моим глазам: настолько низко пали Они, что Гаризендой[24] пленены, Откуда взор охватывает дали, Проспали (мне такие не нужны!) Ту самую, которая едва ли Не краше всех, и знать они должны, Что сами путь погибельный избрали. А подвело мои глаза чутье, Которое настолько притупилось, Что не сказало им, куда глядеть. И принято решение мое: Коль скоро не сменю я гнев на милость, Я их убью, чтоб не глупили впредь.Данте — к Гвидо Кавальканти
О если б, Гвидо, Лапо, ты и я, Подвластны скрытому очарованью, Уплыли в море так, чтоб по желанью Наперекор ветрам неслась ладья,[25] Чтобы фортуна, ревность затая, Не помешала светлому свиданью; И легкому покорные дыханью Любви, узнали б радость бытия. И Монну Ладжу вместе с Монной Ванной И той, чье тридцать тайное число,[26] Любезный маг,[27] склоняясь над волной, Заставил говорить лишь об одной Любви, чтоб нас теченье унесло В сиянье дня к земле обетованной.* * *
Я ухожу. Виновнику разлуки, Друзья, извольте оказать почет, — Ведь это тот, кто в плен людей берет И осуждает ради дам на муки. Таится смерть в его упругом луке, — Взмолитесь, пусть ко мне он снизойдет, Но знайте, убедит его лишь тот, Кто, воздыхая, простирает руки. Он овладел душой моей и там Столь благородный образ воскрешает, Что я не властен больше над собой И слышу — голос тихий вопрошает: «Ужель откажешь собственным глазам Ты в созерцанье красоты такой?»* * *
О бог любви, прошу, поговорим, — От мыслей тяжких отвлеки речами, Мы можем посвятить беседу даме, Так хорошо известной нам двоим. Тем самым путь с тобой мы сократим: Приятно, если обсуждают с нами Любимой добродетели, и сами О них мы можем говорить с другим. Так начинай, сеньор, нарушь молчанье, Но прежде — о причине, что в пути Тебя со мною вдруг соединила. Любезность или жалость побудила Тебя ко мне, владыка, снизойти? Я слушаю тебя, я весь вниманье.* * *
Любимой очи излучают свет Настолько благородный, что пред ними Предметы все становятся иными, И описать нельзя такой предмет. Увижу очи эти, и в ответ Твержу, дрожа, повергнут в ужас ими: «Отныне им не встретиться с моими!», Но вскоре забываю свой обет; И вновь иду, внушая виноватым Моим глазам уверенность, туда, Где побежден, но их, увы, закрою От страха там, где тает без следа Желание, что служит им вожатым. Решать Амору, как же быть со мною.* * *
Я вам одной — и больше никому — Вверяю дух, настолько изможденный, Что жалость он, страдалец обреченный, Мучителю внушает своему, Который господином стал ему По вашей воле, и, порабощенный, Твердит Амору дух приговоренный: «Твои решенья как свои приму». Я знаю, вы неправоты бежите, Но смерти не заслуживаю я, И потому мне умирать больней. О дама благородная моя, Утешьте перед смертью, подождите, Не укрывайтесь от моих очей.* * *
Судьба мне эту встречу подарила В день Всех Святых: с Амором рядом шла Та, что подруг своей красой затмила И как бы за собою их влекла. Смотрела так она, как будто сила Неведомая дух ее зажгла, И в лике что-то ангельское было, А может, ангелом она была. С приветом благосклонно обращалась Она к достойным, и в сердцах людей При этом добродетель пробуждалась. За нас, должно быть, больно стало ей, И с небом ради нас она рассталась. Блаженна та, что ближе прочих к ней!СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В ИЗГНАНИИ
* * *
Звучат по свету ваши голоса, Стихи мои, с тех пор как я о даме Стал, заблуждаясь, петь, начав словами: «Вы, движущие третьи небеса».[28] Преодолев пустыни и леса, Идите к ней, скажите со слезами Известной вам: «Мы ваши, мы лишь с вами, Иных не узрит госпожи краса». С ней не останьтесь, там Амора нет. Идите дальше в скорбном одеянье, Как ваши сестры — после стольких лет. Достойной дамы вы найдите след. Скажите ей в смущенном покаянье: «Мы служим вам, у сих склоняясь мет».* * *
О сладостный сонет, ты речь ведешь О той, с которой честь для каждой знаться, Ты встретил или встретишь, может статься, Того, кого ты братом назовешь. В его речах ты правды не найдешь О властелине, что велит влюбляться Не только нам, и ты не слушай братца: Слова его — заведомая ложь. Но если к той, что всех тебе дороже, Тебя направит он, я был неправ, Решив, что доверять ему не надо. Скажи мадонне, перед ней представ, О том, кто день и ночь одно и то же Твердит: «О где очей моих услада?»* * *
Две дамы, завладев моей душой, Беседу о любви ведут согласно: Одна из них — любезна, беспристрастна, И нрав имеет смелый и прямой; Мечтательный характер — у другой, Она и благородна и прекрасна; И, воле божества любви согласно, Я предан им обеим как одной. И красота полна недоуменья И Добродетель — разве может быть, Чтоб он одной не делал предпочтенья? Но прав Амор: не мудрено любить Всем сердцем красоту — для наслажденья И добродетель — чтоб добро вершить.Данте — к Чино да Пистойя[29]
Затем, что здесь никто достойных слов О нашем не оценит господине, Увы, благие мысли на чужбине Кому поверю, кроме этих строф? И я молчанье долгое готов Единственно по той прервать причине, Что в злой глуши, где пребываю ныне, Добру никто не предоставит кров. Ни дамы здесь, отмеченной Амором, Ни мужа, что из-за него хоть раз Вздыхал бы: здесь любовь считают вздором. О Чино, посмотри, с каким укором Взирает время новое на нас И на добро глядит недобрым взором.Данте — к Чино да Пистойя
Амор давно со мною пребывает, От девяти он лет во мне царит, И знаю, как, пришпорив, вновь смирит, Как плакать и смеяться заставляет. Напрасно разум пленник призывает, — Так простодушный в колокол звонит, Когда трепещут молнии, и мнит, Что облаков раздор он усмиряет. Очерчен круг любви, недвижна мета, Там воли ограничен кругозор, Туда не долетит стрела совета. И шпору новую вонзит Амор, Коль прежнею красою не согрета, Твоя душа. Таков твой приговор.Данте — к Чино да Пистойя
Я полагал, что мы навек отдали Любовной теме дань, что минул срок — И близость к берегу ладье не впрок, Когда зовут ее морские дали. Но, Чино, мне не раз передавали, Что ловитесь вы на любой крючок, И я соблазна избежать не смог, И вновь перо персты устало сжали. Когда влюбляются подобно вам, Направо и налево то и дело, Не могут быть опасными раненья. Чтоб ваше сердце вами не вертело, Займитесь им, — ведь сладостным стихам Противоречат ваши похожденья.* * *
Недолго мне слезами разразиться[30] Теперь, когда на сердце — новый гнет, Который мне покоя не дает, Но ты, Господь, не дай слезам пролиться: Пускай твоя суровая десница Убийцу справедливости найдет, Что яд великого тирана пьет, Который, палача пригрев, стремится Залить смертельным зельем целый свет; Молчит, объятый страхом, люд смиренный, Но ты, любви огонь, небесный свет, Вели восстать безвинно убиенной, Подъемли Правду, без которой нет И быть не может мира во вселенной!Франческо Петрарка
ИЗ «КАНЦОНЬЕРЕ»
СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ
I
В собранье песен, верных юной страсти, Щемящий отзвук вздохов не угас С тех пор, как я ошибся в первый раз, Не ведая своей грядущей части. У тщетных грез и тщетных мук во власти, Неровно песнь моя звучит подчас, За что прошу не о прощенье вас, Влюбленные, а только об участье. Ведь то, что надо мной смеялся всяк, Не значило, что судьи слишком строги: Я вижу нынче сам, что был смешон. И за былую жажду тщетных благ Казню теперь себя, поняв в итоге, Что радости мирские — краткий сон.II
Я поступал ему наперекор, И всё до неких пор сходило гладко, Но вновь Амур прицелился украдкой, Чтоб отомстить сполна за свой позор. Я снова чаял дать ему отпор, Вложив в борьбу все силы без остатка, Но стрелы разговаривают кратко, Тем более, что он стрелял в упор. Я даже не успел загородиться, В мгновенье ока взятый на прицел, Когда ничто грозы не предвещало, Иль на вершине разума укрыться От злой беды, о чем потом жалел, Но в сожаленьях поздних проку мало.III
Был день, в который, по Творце вселенной Скорбя, померкло Солнце[31]… Луч огня Из ваших глаз врасплох настиг меня: О госпожа, я стал их узник пленный! Гадал ли я, чтоб в оный день священный Была потребна крепкая броня От нежных стрел? что скорбь страстного дня С тех пор в душе пребудет неизменной? Был рад стрелок! Открыл чрез ясный взгляд Я к сердцу дверь — беспечен, безоружен… Ах! ныне слезы лью из этих врат. Но честь ли богу — влить мне в жилы яд, Когда, казалось, панцирь был ненужен? — Вам — под фатой таить железо лат?VII
Обжорство, лень и мягкие постели, Изгнавши добродетель, постепенно Пленили нас; не выбраться из плена, Коль нашу суть привычки одолели. Небесный луч, нас устремлявший к цели, Дающий жизнь тому, что сокровенно, Угас — и с ним иссякла Гиппокрена,[32] А мы удивлены, что оскудели… Страсть к наслажденьям, страсть к венцам лавровым! — С дороги, философия босая! Прочь, нищая! — кричит толпа продажных. Но ты — иной; иди, не отступая, Своим путем, пустынным и суровым, — Дорогой одиноких и отважных…XIII
Когда в ее обличии проходит[33] Сама Любовь меж сверстниц молодых, Растет мой жар, — чем ярче жен других Она красой победной превосходит. Мечта, тот миг благословляя, бродит Близ мест, где цвел эдем очей моих. Душе скажу: «Блаженство встреч таких Достойною ль, душа, тебя находит? Влюбленных дум полет предначертан К Верховному, ея внушеньем, Благу. Чувств низменных — тебе ль ласкать обман? Она идти к пределу горних стран Прямой стезей дала тебе отвагу: Надейся ж, верь и пей живую влагу».XV
Я шаг шагну — и оглянусь назад, И ветерок из милого предела Напутственный ловлю… И ношу тела Влачу, усталый, дале — рад не рад. Но вспомню вдруг, каких лишен отрад, Как долог путь, как смертного удела Размерен срок, — и вновь бреду несмело, И вот — стою в слезах, потупя взгляд. Порой сомненье мучит: эти члены Как могут жить, с душой разлучены? Она ж — все там! Ей дом — все те же стены! Амур в ответ: «Коль души влюблены, Им нет пространств; земные перемены Что значат им? Они, как ветр, вольны».XVII
Вздыхаю, словно шелестит листвой Печальный ветер, слезы льются градом, Когда смотрю на вас влюбленным взглядом, Из-за которой в мире я чужой. Улыбки вашей видя свет благой, Я не тоскую по иным усладам, И жизнь уже не кажется мне адом, Когда любуюсь вашей красотой. Но стынет кровь, как только вы уйдете, Когда, покинут вашими лучами, Улыбки роковой не вижу я. И грудь открыв любовными ключами, Душа освобождается от плоти, Чтоб следовать за вами, жизнь моя.XIX
Есть существа, которые летят[34] Навстречу солнцу, глаз не закрывая; Другие — темноту предпочитая, До сумерек в укромных гнездах спят; И есть еще такие, что назад Не повернут, в огонь себя бросая, — Несчастных страсть погубит роковая; Себя, несчастный, ставлю с ними в ряд! Красою этой дамы ослепленный, Я в тень не прячусь, лишь ее замечу, Не жажду, чтоб скорее ночь пришла. Слезится взгляд, однако ей навстречу Я устремляюсь, как завороженный, Чтобы в лучах ее сгореть дотла.XXXV
Задумчивый, медлительный, шагаю[35] Пустынными полями одиноко; В песок внимательно вперяя око, След человека встретить избегаю. Другой защиты от людей не знаю: Их любопытство праздное жестоко, Я ж, холоден к житейскому до срока, Всем выдаю, как изнутри пылаю. И ныне знают горы и долины, Леса и воды, как сгорает странно Вся жизнь моя, что недоступна взорам. И пусть пути все дики, все пустынны, Не скрыться мне: Амур здесь постоянно, И нет исхода нашим разговорам.XLV
Мой постоянный недоброжелатель, В ком тайно вы любуетесь собой, Пленяет вас небесной красотой, В которой смертным отказал создатель. Он вам внушил, мой злобный неприятель, Лишить меня обители благой, И сени, что достойна вас одной, Увы! я был недолго обитатель. Но если прочно я держался там, Тогда любовь к себе самой внушать Вам зеркало едва ль имело право. Удел Нарцисса[36] уготовлен вам, Хоть нет на свете трав, достойных стать Цветку неповторимому оправой.XLIX
По мере сил тебя предостеречь Старался я от лжи высокопарной, Я славу дал тебе, неблагодарный, И сам теперь готов тебя отсечь. Когда мне нужно из тебя извлечь Мольбу к любимой, ты молчишь, коварный, А если не молчишь, язык бездарный, То, как во сне, твоя бессвязна речь. И вы, мои мучители ночные, Ну где ж вы, слезы? Нет чтобы излиться Перед любимой, жалость пробудив. И с вами, вздохи, не хочу мириться, Затем что вы пред нею — как немые. Лишь облик мой всегда красноречив.LVII
Мгновенья счастья на подъем ленивы, Когда зовет их алчный зов тоски; Но, чтоб уйти, мелькнув, — как тигр легки. Я сны ловить устал. Надежды лживы. Скорей снега согреются, разливы Морей иссохнут, невод рыбаки В горах закинут, там, где две реки, Евфрат и Тигр, влачат свои извивы Из одного истока, Феб зайдет, — Чем я покой найду иль от врагини, С которой ковы на меня кует Амур, мой бог, дождуся благостыни. И мед скупой — устам, огонь полыни Изведавшим, — не сладок, поздний мед!LXI
Благословен день, месяц, лето, час[37] И миг, когда мой взор те очи встретил! Благословен тот край, и дол тот светел, Где пленником я стал прекрасных глаз! Благословенна боль, что в первый раз Я ощутил, когда и не приметил, Как глубоко пронзен стрелой, что метил Мне в сердце бог, тайком разящий нас! Благословенны жалобы и стоны, Какими оглашал я сон дубрав, Будя отзвучья именем Мадонны! Благословенны вы, что столько слав Стяжали ей, певучие канцоны, — Дум золотых о ней, единой, сплав!LXII
Бессмысленно теряя дни за днями, Ночами бредя той, кого люблю, Из-за которой столько я терплю, Заворожен прекрасными чертами, Господь, молю — достойными делами, Позволь, свое паденье искуплю И дьявола немало посрамлю С его вотще сплетенными сетями. Одиннадцатый на исходе год, С тех пор как я томлюсь под гнетом злым, Отмеченный злосчастия печатью. Помилуй недостойного щедрот, Напомни думам сбивчивым моим, Как в этот день ты предан был распятью.LXV
Я не был к нападению готов, Не знал, что пробил час моей неволи, Что покорюсь Амуру — высшей воле, Еще один среди его рабов. Не верилось тогда, что он таков — И сердце стойкость даже в малой доле Утратит в первом ощущенье боли. Удел самонадеянных суров! Одно — молить Амура остается: А вдруг, хоть каплю жалости храня, Он благосклонно к просьбе отнесется. Нет, не о том, чтоб в сердце у меня Умерить пламя, но пускай придется Равно и ей на долю часть огня.LXXIV
Я изнемог от безответных дум — Про то, как мысль от дум не изнеможет О вас одной; как сердце биться может Для вас одной; коль день мой столь угрюм И жребий пуст — как жив я; как мой ум Пленительной привычки не отложит Мечтать о вас, а лира зовы множит, Что брег морской — прибоя праздный шум. И как мои не утомились ноги Разыскивать следы любимых ног, За грезою скитаясь без дороги? И как для вас я столько рифм сберег? — Которые затем порой не строги, Что был Амур к поэту слишком строг.LXXV
Язвительны прекрасных глаз лучи, Пронзенному нет помощи целебной Ни за морем, ни в силе трав волшебной. Болящему от них — они ж врачи. Кто скажет мне: «Довольно, замолчи! Все об одной поет твой гимн хвалебный!» — Пусть не меня винит, — их зной враждебный, Что иссушил другой любви ключи. Творите вы, глаза, непобедимым Оружие, что точит мой тиран, И стонут все под игом нестерпимым. Уж в пепл истлел пожар сердечных ран; Что ж день и ночь лучом неотвратимым Вы жжете грудь? И петь вас — я ж избран.LXXIX
Когда любви четырнадцатый год В конце таким же, как в начале, будет Не облегчит никто моих невзгод, Ничто горячей страсти не остудит. Амур вздохнуть свободно не дает И мысли к одному предмету нудит. Я изнемог: мой бедный взгляд влечет Все время та, что скорбь во мне лишь будит. Я потому и таю с каждым днем, Чего не видит посторонний взор, Но не ее, что шлет за мукой муку. Я дотянул с трудом до этих пор; Когда конец — не ведаю о том, Но с жизнью чую близкую разлуку.LXXXV
Всегда любил, теперь люблю душою И с каждым днем готов сильней любить То место, где мне сладко слезы лить, Когда любовь томит меня тоскою. И час люблю, когда могу забыть Весь мир с его ничтожной суетою; Но больше — ту, что блещет красотою, И рядом с ней я жажду лучше быть. Но кто бы ждал, что нежными врагами Окружено все сердце, как друзьями, Каких сейчас к груди бы я прижал? Я побежден, любовь, твоею силой! И, если б я не знал надежды милой, — Где жить хочу, там мертвым бы упал!LXXXVII
Отправив только что стрелу в полет, Стрелок искусный предсказать берется, Придется в цель она иль не придется, Насколько точен был его расчет. Так вы, мадонна, знали наперед, Что ваших глаз стрела в меня вопьется, Что вечно мне, всю жизнь страдать придется И что слезами сердце изойдет. Уверен, вы меня не пожалели, Небось сказали: — Получай сполна! Нет для стрелы Амура лучшей цели. И с глаз моих упала пелена: Нет, вы не гибели моей хотели — Живая жертва недругу нужна.ХС
Зефир ее рассыпанные пряди Закручивал в колечки золотые, И свет любви, зажегшейся впервые, Блистал в ее, нещедром ныне, взгляде. Тогда казалось, что не о прохладе Вещают краски нежные, живые, Ее лица; и вспыхнули стихии Моей души, пожаром в вертограде. Она предстала мне виденьем рая, Явлением небесным — вплоть до звука Ее речей, где каждый слог — Осанна. И пусть теперь она совсем иная — Мне все равно; не заживает рана, Хоть и ослабла тетива у лука.XCVI
Я так устал без устали вздыхать, Измученный тщетою ожиданья, Что ненавидеть начал упованья И о былой свободе помышлять. Но образ милый не пускает вспять И требует, как прежде, послушанья, И мне покоя не дают страданья — Впервые мной испытанным под стать. Когда возникла на пути преграда, Мне собственных не слушаться бы глаз: Опасно быть душе рабою взгляда. Чужая воля ей теперь указ. Свобода в прошлом. Так душе и надо, Хотя она ошиблась только раз.XCVII
О высший дар, бесценная свобода, Я потерял тебя и лишь тогда, Прозрев, увидел, что любовь — беда, Что мне страдать все больше год от года. Для взгляда после твоего ухода Ничто рассудка трезвого узда: Глазам земная красота чужда, Как чуждо все, что создала природа. И слушать о других и речь вести — Не может быть невыносимей муки, Одно лишь имя у меня в чести. К любой другой заказаны пути Для ног моих, и не могли бы руки В стихах другую так превознести.СХ
Опять я шел, куда мой бог-гонитель Толкал, — куда приводит каждый день, — Дух в сталь замкнув, с оглядкой, — как воитель, Засаду ждущий, скрытых стрел мишень. Я озирал знакомую обитель. Вдруг на земле нарисовалась тень Ее, чей дух — земли случайный житель, Чья родина — блаженных в небе сень. «К чему твой страх?» — едва сказал в душе я, Как луч двух солнц, под коим, пламенея, Я в пепл истлел, сверкнул из милых глаз. Как молнией и громовым ударом, Был ослеплен и оглушен зараз Тем светом я — и слов приветных даром.CXI
Та, чьей улыбкой жизнь моя светла, Предстала мне, сидящему в соборе Влюбленных дум, с самим собой в раздоре, И по склоненью бледного чела — Приветствие смиренному — прочла Всю смуту чувств, и обняла все горе Таким участьем, что при этом взоре Потухли б стрелы Зевсова орла. Я трепетал; не мог идущей мимо Я благосклонных выслушать речей И глаз поднять не смел. Но все палима Душа той новой нежностью очей! И болью давней сердце не томимо, И неги новой в нем поет ручей.CXII
Сенуччо,[38] хочешь, я тебе открою, Как я живу? Узнай же, старина: Страдаю, как в былые времена, И остаюсь во всем самим собою. И та, кому я предан всей душою, Как прежде — то надменна, то скромна, То снисходительна, то холодна, То благодушна, то гроза грозою. Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла, Здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи Вонзила в сердце, взяв навеки в плен, Здесь грустной, здесь веселою была… О милой помышляю дни и ночи. Как видишь, у меня без перемен.CXIV
Покинув нечестивый Вавилон,[39] Рассадник зла, приют недоброй славы, Где процветают мерзостные нравы, Где я до срока был бы обречен, Я здесь живу, природой окружен, И, на Амура не найдя управы, Слагаю песни, рву цветы и травы, Ищу поддержки у былых времен. Ни до Фортуны, ни до черни дела, Ни до себя мне в этом нет краю, — Любимую бы мне сюда и друга! Вот только бы любимая сумела Безжалостность перебороть свою, А друг — освободиться от недуга.CXXIII
Внезапную ту бледность, что за миг Цветущие ланиты в снег одела, Я уловил, и грудь похолодела, И встречная покрыла бледность лик. Иных любовь не требует улик. Так жителям блаженного предела Не нужно слов. Мир слеп; но без раздела Я в духе с ней — и в мысль ее проник. Вид ангела в очарованье томном — Знак женственный любовного огня — Напомню ли сравнением нескромным? Молчанием сказала, взор склоня (Иль то мечта?), — намеком сердца темным: «Мой верный друг покинет ли меня?»CXXXII
Коль не любовь сей жар, какой недуг Меня знобит? Коль он — любовь, то что же Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!.. Так злой огонь?.. А сладость этих мук!.. На что ропщу, коль сам вступил в сей круг? Коль им пленен, напрасны стоны. То же, Что в жизни смерть, — любовь. На боль похоже Блаженство. «Страсть», «страданье» — тот же звук. Призвал ли я иль принял поневоле Чужую власть?.. Блуждает разум мой. Я — утлый челн в стихийном произволе, И кормщика над праздной нет кормой. Чего хочу — с самим собой в расколе, — Не знаю. В зной — дрожу; горю зимой.CXXXIV
Мне мира нет, — и брани не подъемлю. Восторг и страх в груди, пожар и лед. Заоблачный стремлю в мечтах полет — И падаю, низверженный, на землю. Сжимая мир в объятьях, — сон объемлю. Мне бог любви коварный плен кует: Ни узник я, ни вольный. Жду — убьет; Но медлит он, — и вновь надежде внемлю. Я зряч — без глаз; без языка — кричу. Зову конец — и вновь молю: «Пощада!» Кляну себя — и все же дни влачу. Мой плач — мой смех. Ни жизни мне не надо, Ни гибели. Я мук своих — хочу… И вот за пыл сердечный мой награда!CXXXVII
Разгневал бога алчный Вавилон, Забывший, что такое чувство меры, Притон, где культом Вакха и Венеры Культ Зевса и Паллады заменен. Я верю в правый суд — свершится он: Другой султан придет и примет меры К тому, чтобы единым центром веры Был навсегда Багдад провозглашен.[40] Гнев идолов поверженных не страшен. Не только башни будут сожжены, Но и жильцы надменных этих башен. Бразды правленья будут вручены Достойнейшим, и снова мир украшен Деяньями великой старины.CXXXVIII
Источник скорби, бешенства обитель, Храм ереси, в недавнем прошлом — Рим, Ты Вавилоном сделался вторым, Где обречен слезам несчастный житель. Тюрьма, горнило лжи, добра губитель, Кромешный ад, где изнывать живым. Неужто преступлениям твоим Предела не положит вседержитель? Рожденный не для этих святотатств, Ты оскорбляешь свой высокий чин, Уподобляясь грязной потаскухе. Во что ты веришь? В торжество богатств? В прелюбодейства? Вряд ли Константин[41] Вернется. Не в аду радеть о духе!CXLIII
Любви очарование исходит От ваших слов, и я, внимая вам, Не только вновь пылаю страстью сам, Но верю — с милой то же происходит. И снова память к ней пути находит, И не нарушить грез колоколам: Лишь еле слышный вздох по временам Из состоянья сна меня выводит. Лучится добротой прекрасный лик, И ветерок играет волосами, Когда она навстречу мне спешит. Но от восторга онемел язык, И я бессвязно шевелю губами, Своим молчаньем перед ней убит.CLIV
Сонм светлых звезд и всякое начало Вселенского состава, соревнуя В художестве и в силе торжествуя, Творили в ней Души своей зерцало. И новое нам солнце возблистало, И каждый взор потупился, предчуя, Что бог любви явил ее, ликуя, Чтоб изощрить на дерзком злое жало. Пронизанный очей ее лучами, Течет эфир пылающей купиной, И может в нем дышать лишь добродетель. Но низкое желание мечами Эдемскими гонимо. Мир свидетель, Что красота и чистота — едино.CLVI
Я лицезрел небесную печаль, Грусть: ангела в единственном явленье. То сон ли был? Но ангела мне жаль. Иль облак чар? Но сладко умиленье. Затмили слезы двух светил хрусталь, Светлейший солнца. Кротких уст моленье, Что вал сковать могло б и сдвинуть даль, — Изнемогло, истаяло в томленье. Всё — добродетель, мудрость, нежность, боль В единую гармонию сомкнулось, Какой земля не слышала дотоль. И ближе небо, внемля ей, нагнулось; И воздух был разнежен ею столь, Что ни листка в ветвях не шелохнулось.CLVII
Тот жгучий день, в душе отпечатленный, Сном явственным он сердцу предстоит. Чье мастерство его изобразит? Но мысль лелеет образ незабвенный. Невинностью и прелестью смиренной Пленителен красы унылой вид. Богиня ль то, как смертная, скорбит? Иль светит в скорби свет богоявленный? Власы — как злато; брови — как эбен; Чело — как снег. В звездах очей угрозы Стрелка, чьим жалом тронутый — блажен. Уст нежных жемчуг и живые розы — Умильных, горьких жалоб сладкий плен… Как пламя — вздохи; как алмазы — слезы.CLVIII
Куда ни брошу безутешный взгляд, Передо мной художник вездесущий, Прекрасной дамы образ создающий, Дабы любовь моя не шла на спад. Ее черты как будто говорят О скорби, сердце чистое гнетущей, И вздох, из глубины души идущий, И речь живая явственно звучат. Амур и правда, бывшие со мною, Сказали мне — и это не секрет, — Что всех она прекрасней под луною, Что голоса нежнее в мире нет, Что чище слез, застлавших пеленою Столь дивный взор, еще не видел свет.CLIX
Ее творя, какой прообраз вечный Природа-Мать взяла за образец В раю Идей? — чтоб знал земли жилец Премудрой власть и за стезею Млечной. Ее власы — не Нимфы ль быстротечной Сеть струйная из золотых колец? Чистейшее в ней бьется из сердец — И гибну я от той красы сердечной. В очах богинь игру святых лучей Постигнет ли мечтательной догадкой Не видевший живых ее очей? Целит любовь иль ранит нас украдкой, Изведал тот, кто сладкий, как ручей, Знал смех ее, и вздох, и говор сладкий.CLXVI
Когда бы я остался в том краю,[42] Где вещий дар открылся Аполлону, Я, может, ныне, как Катулл — Верону, Прославил бы Флоренцию мою. Но с неких пор волшебную струю Бесплодному скала не дарит лону, И я, иному следуя закону, Над сорною травой с серпом стою. Суха олива: днесь к другой долине Кастальская вода[43] устремлена, И не спасает корни глубина. Виною время иль моя вина — Плодов достойных нет в моей пустыне, Не знающей господней благостыни.CLXXVI
Глухой тропой, дубравой непробудной, Опасною и путникам в броне, Иду, пою, беспечный, как во сне, — О ней, чей взор, один, как проблеск чудный Двух солнц, — страшит желанье. Безрассудный Блуждает ум — и нет разлуки мне: Я с ней! Вот сонм ее подруг: оне — За ясеней завесой изумрудной. Чей голос — чу! — звучит, слиян с листвой. Лепечущий, сквозь шум вершин зыбучий, И птичий хор, и говор ключевой?.. Милей дотоль мне не был лес дремучий, — Когда б лишь солнц моих игры живой Не застилал от глаз зеленой тучей!СХС
Лань белая на зелени лугов,[44] В час утренний, порою года новой, Промеж двух рек, под сению лавровой, Несла, гордясь, убор златых рогов. Я все забыл и не стремить шагов Не мог (скупец, на все труды готовый, Чтоб клад добыть!) — за ней, пышноголовой Скиталицей волшебных берегов. Сверкала вязь алмазных слов на вые: «Я Кесарем в луга заповедные Отпущена. Не тронь меня! Не рань!..» Полдневная встречала Феба грань; Но не был сыт мой взор, когда в речные Затоны я упал — и скрылась лань.CXCIX
Прекрасная рука! Разжалась ты И держишь сердце на ладони тесной. Я на тебя гляжу, дивясь небесной Художнице столь строгой красоты. Продолговато-нежные персты, Прозрачней перлов Индии чудесной, Вершители моей судьбины крестной, Я вижу вас в сиянье наготы. Я завладел ревнивою перчаткой! Кто, победитель, лучший взял трофей? Хвала, Амур! А ныне ты ж украдкой Фату похить иль облаком развей! Вотще! Настал конец услады краткой: Вернуть добычу должен лиходей.CCXI
Ведет меня Амур, стремит Желанье, Зовет Привычка, погоняет Младость, И, сердцу обещая мир и сладость, Протягивает руку Упованье. И я ее беру, хотя заране Был должен знать, что послан не на радость Вожатый мне; ведь слепота не в тягость Тому, Кто Разум отдал на закланье. Прелестный Лавр, цветущий серебристо, Чьи совершенства мною завладели, Ты — лабиринт, влекущий неотвратно. В него вошел в году тысяча триста Двадцать седьмом, шестого дня апреля, И не провижу выхода обратно.CCXVIII
Меж стройных жен, сияющих красою, Она царит — одна во всей вселенной, И пред ее улыбкой несравненной Бледнеют все, как звезды пред зарею. Амур как будто шепчет надо мною: Она живет — и жизнь зовут бесценной; Она исчезнет — счастье жизни бренной И мощь мою навек возьмет с собою. Как без луны и солнца свод небесный, Без ветра воздух, почва без растений, Как человек безумный, бессловесный, Как океан без рыб и без волнений, — Так будет все недвижно в мраке ночи, Когда она навек закроет очи.ССXX
Земная ль жила золото дала На эти две косы? С какого брега Принес Амур слепительного снега — И теплой плотью снежность ожила? Где розы взял ланит? Где удила Размерного речей сладчайших бега — Уст жемчуг ровный? С неба ль мир и нега Безоблачно-прекрасного чела? Любови бог! кто, ангел сладкогласный, Свой чрез тебя послал ей голос в дар? Не дышит грудь, и день затмится ясный, Когда поет царица звонких чар… Какое солнце взор зажгло опасный, Мне льющий в сердце льдистый хлад и жар?CCXXIII
Когда златую колесницу в море Купает Солнце — с меркнущим эфиром Мрачится дух тоской. В томленье сиром Жду первых звезд. Луна встает — и вскоре Настанет ночь. Невнемлющей все горе Перескажу. С собой самим и с миром, Со злой судьбой моей, с моим кумиром Часы растрачу в долгом разговоре. Дремы не подманить мне к изголовью; Без отдыха до утра сердце стонет И, слез ключи раскрыв, душа тоскует. Редеет мгла, и тень Аврора гонит. Во мне — все мрак!.. Лишь солнце вновь любовью Мне грудь зажжет и муки уврачует.CCL
В разлуке ликом ангельским давно ли Меня во сне умела утешать Мадонна? Где былая благодать? Тоску и страх унять в моей ли воле? Все чаще сострадания и боли Мне мнится на лице ее печать, Все чаще внемлю то, что согревать Надеждой грудь мою не может боле. «Ты помнишь, не забыл вечерний час, — Мне говорит любимая, — когда Уход поспешный мой тебя обидел? Я не могла сказать тебе тогда И не хотела, что в последний раз Ты на земле меня в тот вечер видел».CCLI
Сон горестный! Ужасное виденье! Безвременно ль родимый свет угас? Ударил ли разлуки страшный час — С тобой, мое земное провиденье, Надежда, мир, отрада, огражденье? Что ж не посла я слышу грозный глас? Ты ж весть несешь!.. Но да не будет! Спас Тебя Господь, и лживо наважденье! Я чаю вновь небесный лик узреть, Дней наших солнце, славу нам родную И нищий дух в лучах его согреть. Покинула ль блаженная земную Прекрасную гостиницу[45] — ревную. О, смерти, Боже! Дай мне умереть!СОНЕТЫ НА СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ
CCLXVII
Увы, прекрасный лик! Сладчайший взгляд! Пленительность осанки горделивой! Слова, что ум, и дикий и кичливый, Смиряя, мощным жалкого творят! Увы, и нежный смех! Пускай пронзят Его струи — была бы смерть счастливой! Дух царственный, не в поздний век и лживый Ты властвовал бы, высоко подъят. Пылать мне вами и дышать мне вами: Весь был я ваш; и ныне, вас лишенный, Любую боль я б ощутил едва. Вы полнили надеждой и мечтами Разлуки час с красой одушевленной; Но ветер уносил ее слова.CCLXIX
Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный[46] Обрушился. Дух обнищал и сир. Чем он владел, вернуть не может мир От Индии до Мавра. В полдень знойный Где тень найду, скиталец беспокойный? Отраду где? Где сердца гордый мир? Все смерть взяла. Ни злато, ни сапфир, Ни царский трон — мздой не были б достойной За дар двойной былого. Рок постиг! Что делать мне? Повить чело кручиной — И так нести тягчайшее из иг. Прекрасна жизнь — на вид. Но день единый, — Что долгих лет усильем ты воздвиг, — Вдруг по ветру развеет паутиной.CCLXXVIII
В цветущие, прекраснейшие лета, Когда Любовь столь властна над Судьбою, Расставшись с оболочкою земною, Мадонна взмыла во владенья света. Живая, лишь сиянием одета, Она с высот небесных правит мною. Последний час мой, первый шаг к покою, Настань, смени существованье это! Чтоб, мыслям вслед, за нею воспарила, Раскрепостясь, душа моя, ликуя, Приди, приди, желанная свобода! По этой муке надобна и сила, И промедленья боле не снесу я… Зачем не умер я тому три года?CCLXXIX
Поют ли жалобно лесные птицы, Листва ли шепчет в летнем ветерке, Струи ли с нежным рокотом в реке, Лаская брег, гурлят, как голубицы, — Где б я ни сел, чтоб новые страницы Вписать в дневник любви, моей тоске Родные вздохи вторят вдалеке, И тень мелькнет живой моей царицы. Слова я слышу… «Полно дух крушить Безвременно печалию, — шепнула, — Пора от слез ланиты осушить! Бессмертье в небе грудь моя вдохнула. Его ль меня хотел бы ты лишить? Чтоб там прозреть, я здесь глаза сомкнула».CCLXXXI
Как часто от людей себя скрываю — Не от себя ль? — в своей пустыне милой И слезы на траву, на грудь роняю, Колебля воздух жалобой унылой! Как часто я один мечту питаю, Уйдя и в глушь, и в тень, и в мрак застылый, Ее, любовь мою, ищу и чаю, Зову от властной смерти всею силой! То — нимфа ли, богиня ли иная — Из ясной Сорги выходя, белеет И у воды садится, отдыхая; То, вижу, между сочных трав светлеет, Цветы сбирая, как жена живая, И не скрывает, что меня жалеет.CCLXXXII
Ты смотришь на меня из темноты Моих ночей, придя из дальней дали: Твои глаза еще прекрасней стали, Не исказила смерть твои черты. Как счастлив я, что скрашиваешь ты Мой долгий век, исполненный печали! Кого я вижу рядом? Не тебя ли В сиянии нетленной красоты Там, где когда-то песни были данью Моей любви, где нынче слезы лью, Тобой не подготовлен к расставанью? Но ты приходишь — и конец страданью: Я узнаю любимую мою По голосу, походке, одеянью.CCLXXXV
Не слышал сын от матери родной, Ни муж любимый от супруги нежной С такой заботой, зоркой и прилежной, Преподанных советов: злой виной Не омрачать судьбы своей земной — Какие, малодушный и мятежный, Приемлю я от той, что, в белоснежный Одета свет, витает надо мной В двойном обличье: матери и милой. Она трепещет, молит и горит, К стезе добра влечет и нудит силой — И, ей подвигнут, вольный дух парит; И мир мне дан с молитвой легкокрылой, Когда святая сердцу говорит.CCLXXXVII
Сенуччо мой! Страдая одиноко,[47] Тобой покинут, набираюсь сил: Из тела, где плененным, мертвым был, Ты, гордый, поднялся в полет высоко. Два полюса зараз объемлет око, Дугообразный плавный ход светил; Зришь малость, что наш кругозор вместил, Рад за тебя, скорблю не столь глубоко. Скажи, прошу усердно, в третьей сфере Гвиттоне, Чино, Данту мой поклон — И Франческино; прочим — в равной мере. А Донне передай, сколь удручен, Живу в слезах; тоска, как в диком звере; Но дивный лик, святыня дел — как сон.CCLXXXVIII
Моих здесь воздух полон воздыханий; Нежна холмов суровость вдалеке; Здесь рождена державшая в руке И сердце — зрелый плод, и цветик ранний; Здесь в небо скрылась вмиг — и, чем нежданней, Тем все томительней искал в тоске Ее мой взор; песчинок нет в песке, Не смоченных слезой моих рыданий. Нет здесь в горах ни камня, ни сучка, Ни ветки или зелени по склонам, В долинах ни травинки, ни цветка; Нет капельки воды у ручейка, Зверей нет диких по лесам зеленым, Не знающих, как скорбь моя горька.CCLXXXIX
Свой пламенник, прекрасней и ясней Окрестных звезд, в ней небо даровало На краткий срок земле; но ревновало Ее вернуть на родину огней.[48] Проснись, прозри! С невозвратимых далей Волшебное спадает покрывало. Тому, что грудь мятежно волновало, Сказала «нет» она. Ты спорил с ней. Благодари! То нежным умиленьем, То строгостью она любовь звала Божественней расцвесть над вожделеньем. Святых искусств достойные дела Глаголом гимн творит, краса — явленьем: Я сплел ей лавр, она меня спасла!CCXCII
Я припадал к ее стопам в стихах, Сердечным жаром наполняя звуки, И сам с собою пребывал в разлуке: Сам — на земле, а думы — в облаках. Я пел о золотых ее кудрях, Я воспевал ее глаза и руки, Блаженством райским почитая муки, И вот теперь она — холодный прах. А я, без маяка, в скорлупке сирой Сквозь шторм, который для меня не внове, Плыву по жизни, правя наугад. Да оборвется здесь на полуслове Любовный стих! Певец устал, и лира Настроена на самый скорбный лад.CCCII
Восхитила мой дух за грань вселенной Тоска по той, что от земли взята; И я вступил чрез райские врата В круг третий душ.[49] Сколь менее надменной Она предстала в красоте нетленной! Мне руку дав, промолвила: «Я та, Что страсть твою гнала. Но маета Недолго длилась, и неизреченный Мне дан покой. Тебя лишь возле нет, — Но ты придешь, — и дольнего покрова, Что ты любил. Будь верен; я — твой свет». Что ж руку отняла и смолкло слово? Ах, если б сладкий все звучал привет, Земного дня я б не увидел снова!СССХ
Опять зефир подул — и потеплело, Взошла трава, и, спутница тепла, Щебечет Прокна, плачет Филомела,[50] Пришла весна, румяна и бела. Луга ликуют, небо просветлело, Юпитер счастлив — дочка расцвела,[51] И землю, и волну любовь согрела И в каждой божьей твари ожила. А мне опять вздыхать над злой судьбою По воле той, что унесла с собою На небо сердца моего ключи. И пенье птиц, и вешние просторы, И жен прекрасных радостные взоры — Пустыня мне и хищники в ночи.CCCXI
О чем так сладко плачет соловей И летний мрак живет волшебной силой? По милой ли тоскует он своей? По чадам ли? Ни милых нет, ни милой. Всю ночь он будит грусть мою живей, Ответствуя, один, мечте унылой… Так, вижу я: самих богинь сильней Царица Смерть! И тем грозит могилой! О, как легко чарует нас обман! Не верил я, чтоб тех очей светила, Те солнца два живых, затмил туман, — Но черная Земля их поглотила. «Всё тлен! — поет нам боль сердечных ран — Всё, чем бы жизнь тебя не обольстила».CCCXII
Ни ясных звезд блуждающие станы, Ни полные на взморье паруса, Ни с пестрым зверем темные леса, Ни всадники в доспехах средь поляны, Ни гости с вестью про чужие страны, Ни рифм любовных сладкая краса, Ни милых жен поющих голоса Во мгле садов, где шепчутся фонтаны, — Ничто не тронет сердца моего. Все погребло с собой мое светило, Что сердцу было зеркалом всего. Жизнь однозвучна. Зрелище уныло. Лишь в смерти вновь увижу то, чего Мне лучше б никогда не видеть было.CCCXV
Преполовилась жизнь. Огней немного Еще под пеплом тлело. Нетяжел Был жар полудней. Перед тем как в дол Стремглав упасть, тропа стлалась отлого. Утишилась сердечная тревога, Страстей угомонился произвол, И стал согласьем прежних чувств раскол. Глядела не пугливо и не строго Мне в очи милая. Была пора, Когда сдружиться с чистотой достоин Амур, и целомудренна игра Двух любящих, и разговор спокоен. Я счастлив был… Но на пути добра Нам смерть предстала, как в железе воин.CCCXXXIII
Идите к камню, жалобные строки, Сокрывшему любовь в ее расцвете,[52] Скажите ей (и с неба вам ответит, Пусть в прахе тлеть велел ей рок жестокий), Что листья лавра в горестном потоке Ищу и собираю; листья эти — Последние следы ее на свете — Ведут меня и близят встречи сроки, Что я о ней живой, о ней в могиле — Нет, о бессмертной! — повествую в муке, Чтоб сохранить прелестный образ миру. Скажите ей — пусть мне протянет руки И призовет к своей небесной были В мой смертный час, как только брошу лиру.CCCXXXV
Средь тысяч женщин лишь одна была, Мне сердце поразившая незримо. Лишь с обликом благого серафима Она сравниться красотой могла. Ее влекли небесные дела, Вся суета земли скользила мимо. Огнем и хладом тягостно палима, Моя душа простерла к ней крыла. Но тщетно — плоть меня обременяла; Навеки донну небеса призвали, И ныне холод мне сжимает грудь: Глаза — ее живой души зерцала, — О, для чего Владычица Печали Сквозь вас нашла свой беспощадный путь?CCCXXXVI
Я мыслию лелею непрестанной Ее, чью тень отнять бессильна Лета, И вижу вновь ее в красе расцвета, Родной звезды восходом осиянной. Как в первый день, душою обаянной Ловлю в чертах застенчивость привета. «Она жива, — кричу, — как в оны лета!» И дара слов молю из уст желанной. Порой молчит, порою… Сердцу дорог Такой восторг!.. А после, как от хмеля Очнувшийся, скажу: «Знай, обманула Тебя мечта! В тысяча триста сорок Осьмом году, в час первый, в день апреля Шестый — меж нас блаженная уснула».CCCXL
Мой драгоценный, нежный мой оплот, Который скрыла от меня могила И благосклонно небо приютило, Приди к тому, кто состраданья ждет! Ты посещала сны мои, но вот Меня и этой радости лишила. Какая останавливает сила Тебя? Ведь гнев на небе не живет, Что пищу на земле в чужих мученьях И сердцу доброму несет подчас, Тесня Амура в собственных владеньях. Ты зришь меня, ты внемлешь скорбный глас, Утешь — не наяву, так в сновиденьях, Сойди ко мне, сойди еще хоть раз.CCCLVI
Когда она почила в Боге, встретил Лик ангелов и душ блаженных лик Идущую в небесный Град; и клик Ликующий желанную приветил. И каждый дух красу ее приметил И вопрошал, дивясь: «Ужель то лик Паломницы земной? Как блеск велик Ее венца! Как лен одежды светел!..» Обретшая одну из лучших доль, С гостиницей расставшаяся бренной, Оглянется порою на юдоль — И, мнится, ждет меня в приют священный. За ней стремлю всю мысль, всю мощь, всю боль… «Спеши!» — торопит шепот сокровенный.Джованни Боккаччо
VI
Италия, в былом всех стран царица, Где доблести твои и гений твой? Кастальский хор умолк — теперь любой Над честью муз божественных глумится. В цене упали лавры — кто стремится Стяжать их в дни, когда, гордясь собой, Зло шествует с поднятой головой И каждый жаждет лишь обогатиться. Коль в прозе и стихах высокий слог Давно утрачен лучшими из нас, Ждать от тебя нельзя чудес искусства. Скорби же вслед за мной о том, что рок Так благосклонен сделался сейчас К тем, чей язык убог и низки чувства.VIII
Уж коль сам Данте, как сказал ты где-то, Скорбит в раю о чтениях моих, Затем что перед низкой чернью в них Раскрылся смысл высоких дум поэта, Казниться буду за безумство это Я до скончанья дней своих земных, Хотя, по правде, не себя — других Мне б следовало призывать к ответу. Нуждою и тщеславием пустым Да просьбами назойливых друзей — Вот кем я был подбит на шаг напрасный; Зато и не порадовал я им Тех чуждых благодарности людей, Что глухи к мысли мудрой и прекрасной.XII
Раз на лугу, где влага ключевая Струится, лепеча, меж трав густых, Сидело трое ангелов земных, Свою любовь друг другу открывая. Душистый лавр, чело им обвивая, Увенчивал красавиц молодых, И ветерок играл кудрями их, С зеленым цветом золотой сливая. И слышал я, как двух одна тогда Спросила: «Что, коль вздумает явиться Из наших милых кто-нибудь сюда? Не вынудит ли страх нас удалиться?» Но две ей возразили: «Никогда! Не стоит счастья, кто его страшится».XV
Порой зефир, столь ласковый дотоле, В лицо мне дунет с преизбытком сил, Как в день, когда царем Итаки[53] был По недосмотру выпущен на волю. Печалиться он не дает мне доле И словно молвит: «Зря ты приуныл! Над Байями[54] промчав, я захватил Оттуда кое-что тебе на долю. Взгляни-ка вверх». Я поднимаю взор И в небе вижу облачко златое, И кажется оно мне схожим с тою, К кому в разлуке я влекусь мечтою… Но вот уж ветр унес его в простор, И я опять один, как до сих пор.XX
Такое чувство зажжено нежданно Во мне очами госпожи моей, Что помыслами к ней и только к ней Я обречен стремиться постоянно. Оно надежду пестует так рьяно, Что я душою становлюсь смелей, И кажется мне, будто в жизни сей Блаженство обрету я невозбранно. Но тут же запирает страх опять Ворота рая, что отверзлись мне, И вижу я с уныньем и с испугом, Что счастье нам лишь миг дано вкушать, Пусть даже стоим мы его вполне И взысканы им были по заслугам.XXIV
Огонь очей созданья неземного, Как только в них я гляну невзначай, Так душу жжет и полнит через край, Что вечно в нем она сгорать готова. И ты, Амур, чье иго столь сурово, Бесцельно мне стрелой не угрожай: Те очи пострашней — в них ад, и рай, И смерть, и возрожденье к жизни новой. Оставь свой лук — не нужен больше он: В такие узы ввергнут я, что их Утяжелять нет у тебя причины. Коль скоро прелесть той, кем я пленен, Лишь умножаешь ты в глазах моих, Твоим рабом я буду до кончины.XXXII
По лону вод, чуть зыблемых волненьем, Скользил челнок владычицы моей, И море оглашали, вторя ей, Ее подруги сладкозвучным пеньем. То к берегу, то к островам теченьем Их относило, и глазам людей Та, кто мне свет и радость в жизни сей, Везде казалась неземным виденьем. Следя за нею, убеждался я, Что каждого, кто на нее смотрел, Ее краса, как чудо, изумляла. Кипела от любви душа моя, И про себя хвалу я милой пел, Но мой восторг хвала не умеряла.XXXV
Тот не умен, кто мнит ценой смиренья От яростной судьбы себя спасти; Еще глупее тот, кто обойти Пытается тайком ее веленья; Тот глуп втройне, кто от луны затменье Рассчитывает криком отвести, И глуп сверх меры тот, кто унести С собой задумал в гроб свое именье. Но тот уже совсем с ума сошел, Кто жизнь, свободу, состоянье, честь Швырнуть бабенке под ноги намерен. Бездушен, зол, продажен женский пол, И для него одна забава есть — Терзать мужчину, коль в любви он верен.XLV
В силки меня Амур без состраданья Приманкою завлек — очами той, К кому я тем сильней стремлюсь мечтой, Чем больше между нами расстоянье. Но вырваться нет у меня желанья: Так мне она мила и красотой, И нравом, и душевной чистотой, Что для меня мой плен — благодеянье. Кто хочет, пусть клянет тебя, Любовь, А я с того счастливейшего дня, Когда уловлен в сети был тобою, С признательностью славлю вновь и вновь Твое святое пламя, что меня Так возвышает над самим собою.LI
Мой стих, теперь по-стариковски хилый,[55] Был тоже полон юного огня, Когда, от страсти сдержанной звеня, Приковывал к себе вниманье милой. Но завесь тьмы наброшена могилой На очи, вдохновлявшие меня, И холодеет он день ото дня, И хрипнет, и оскудевает силой. Коль скоро лик, что с ангельским так схож, Днесь обращен лишь к небу, чтоб Того, Чье он подобье, неустанно славить, Слагать мне стало вирши невтерпеж: Ведь я отныне жажду одного — Любимой вслед стопы горе направить.LX
Коль в самом деле, Данте Алигьери, Близ милой Биче, чьей душе вослед Твоя душа стремилась столько лет, В Венериной ты пребываешь сфере И коль любви, во что я свято верю, Конца ни здесь, ни в лучшем мире нет, Моей Фьямметте передать привет Не затруднишься ты ни в коей мере. Я знаю: с неба третьего она Следит из сонма праведных за тем, Кто жить, лишась ее, не в силах доле. Так пусть, пока летейская волна Не разлучила с нею нас совсем, Я призван буду к ней из сей юдоли.LXXIV
О лаврах, столь любимых Аполлоном, И влаге, орошающей Парнас, Начав мечтать из-за прекрасных глаз, Что приравнял к светилам благосклонным Я с хором муз в приюте их зеленом Свой голос порывался слить не раз, Но в этом мне презрительный отказ Они давали с видом оскорбленным. Хотя себя не вправе я винить За то, что слабы оказались крылья, Взмыть на которых мнил я так высоко, Пора оставить тщетные усилья, Уразуметь, как это ни жестоко, Что рвением талант не заменить.LXXV
Припоминая, сколь неосторожно Часы и дни, недели и года Я расточал в те времена, когда Гонялся за мечтою невозможной, Не понимаю я, чем к цели ложной Стезей тревог, опасностей, труда Сумел Амур увлечь меня тогда, И плачу, и печалюсь безнадежно. И сам себя кляну, зачем узрел Глаза любимой, полные огня, В котором мне сгорать судьба судила. О, как жесток мой горестный удел! Доколь ты будешь, смерть, щадить меня, Кого от мук избавит лишь могила?LXXIX
Когда бы ты, Амур, моей любимой Стрелою грудь хоть раз пронзить сумел, Надежду б я, пожалуй, возымел И утешался б в муках ею, мнимой. Но остается столь неуязвимой Та, с кем и ты, безжалостный, несмел, Что до сих пор я не уразумел, Как мне спастись от пытки нестерпимой. Любое слово милой, жест любой Лишь убыстряют яростный полет Твоих пернатых жал, что дух мой ранят. Пойми: я беззащитен пред тобой, И если вновь свой лук ты пустишь в ход, Твой верный раб добычей смерти станет.XCIII
Остановись и огляди дорогу, Которую ты, дух усталый мой, В погоне за несбыточной мечтой Днесь приведен к могильному порогу. Ты на него уже поставил ногу, Но прежде чем окончить путь земной, Порви с мирской бесцельной суетой И обратись в тоске предсмертной к Богу. Не бойся опоздать и посвяти Радению о Нем остаток дней, Что не успел отдать страстям и бредням. Когда б ты ни решил к Нему прийти, Он и с тобою будет не скупей, Чем виноградарь с тем, кто зван последним.XCVII
Учитель, ты ушел в тот край блаженный,[56] Куда душа, дерзая уповать, Что и в нее прольется благодать, Стремится из юдоли нашей бренной; Куда мечтой ты влекся неизменно, Узреть надеясь Лауру опять, И где с ней рядом Бога созерцать Дано моей Фьямметте несравненной. Вкушай отныне сладостный покой И о предметах, непостижных нам, Беседуй с Данте, Чино и Сенуччо; Меня ж, коль в жизни был доволен мной, Возьми к себе, чтоб повстречался там Я с той, к кому горю любовью жгучей.Лоренцо Медичи
* * *
Уймитесь, не упорствуйте жестоко, Мечты и вздохи вечные о ней, Чтоб тихий сон не миновал очей, Где слез не просыхает поволока. Труды и мысли дня уже далеко Равно и от людей и от зверей; Уже упряжке белых лошадей Предшествует неясный свет востока. Подпишем перемирие, пока Не встало солнце: верь, Амур, что сниться Ее лицо и голос будут мне И белая в моей руке рука. Не будь завистлив, дай мне насладиться Неслыханным блаженством хоть во сне.* * *
Пусть почести влекут неугомонных, Палаты, храмы, толпы у ворот, Сокровища, что тысячи забот И тысячи ночей несут бессонных. Волшебные цветы лугов зеленых, В прохладной мураве журчанье вод И птичка, что любовь свою зовет, Влияют благотворней на влюбленных. Лесные дебри и громады гор, Пещеры, недоступные для света, Пугливая дриада, быстрый зверь… Лишь там передо мной прекрасный взор, Которым — пусть в мечтах — не то, так это Мне наглядеться не дает теперь.К фиалке
Прекрасная фиалка, рождена ты Там, где давно мое пристрастье живо. Ток грустных и прекрасных слез ревниво Тебя кропил, его росу пила ты. В блаженной той земле желанья святы, Где ждал прекрасный кустик молчаливо. Рукой прекрасной сорвана, — счастливой Моей руке — прекрасный дар — дана ты. Боюсь, умчишься в некое мгновенье К прекрасной той руке: тебя держу я На голой груди, хоть сжимать и жалко. На голой груди, ибо скорбь и мленье В груди, а сердце прочь ушло тоскуя — Жить там, откуда ты пришла, фиалка.* * *
Счастливей нет земли, блаженней крова,[57] Светлей небес, чем те, где жизни всей Владычица живет, и в цвете дней Суля мне гибель, возрождает снова. То милостиво глянет, то сурово, То скорбь, то счастье шлет душе моей; Душа, навеки вверенная ей, То к жизни рвется, то на смерть готова. Превыше всех краев тот знаменит, Где, затмевая золотого Феба, Мое светило всходит неизменно. Уже шесть лун того не зрел я неба, К которому стремлюсь душой смятенной, Как Феникс к Солнцу свой полет стремит.* * *
Вовек не вынести такого света, Какой сияет на ее челе; Глазам, привыкшим к дольней полумгле, Сей взор слепящий встретить силы нету. Рассудок говорит — не диво это: Она — созданье рая на земле, И как же нам, коснеющим во зле, От красоты подобной ждать привета? Нет, не для страсти смертной рождена, А богом послана на эту землю, Как милость высшая, великий дар. Всем душам благодать несет она, Лишь я, несчастный, разуму не внемлю: Кому — покой, мне — гибельный пожар.* * *
Того желаю, что гнетет меня, Мне жизнь как смерть, мне вечность меньше года, Мне нет воды в реке, в долине — брода, Не слышно мне ни звука в шуме дня. Я в лед закован посреди огня, Бегу цепей, и мне претит свобода, Для уст моих цикута слаще меда, Я жив тоской, веселие кляня. Врага люблю, друзей навек забыв, Оковы рву, какие сам сковал, Уходит жизнь, а смерть всегда со мною. Так хрупкий челн в бушующем прибое Ни вдаль отплыть, ни обрести причал, Не может, ужас в дерзость претворив.* * *
Тот взгляд лучистый, полонив Амора, Вонзился в грудь мне острою стрелой, И стал я ненавидеть свой покой, Исполненный душевного раздора. Не то, чтобы о вечности позора Я думал, или о тщете мирской, Иль о надежде, ложной и пустой, Или о времени, летящем скоро; Но в рабстве дни свои влачу, доколе С меня не снимут пагубный зарок Смерть или Донна всеблагою волей. Большой ли, малый мне отпущен срок, — Ей посвящаю каждый час, ведь боле Ничем утешить сердца б я не смог.* * *
В печали, со смущенною душою Иду на брег морской и в дикий бор Услышать птиц лесных нестройный хор И мерный шум Тирренского прибоя. Напрасно жажду справиться с тоскою, Разнообразием прельщая взор, — Запечатлели чаща и простор Черты, меня лишившие покоя. Взгляну ли я налево, в грот пустой, Дианою, чей облик света полн, Она в листве мелькнет, подобна чуду. Направо ль повернусь я, к шуму волн, Она — царица моря. Так повсюду Счастливая печаль моя со мной.* * *
Как тщетно дерзновенье в сердце сиром, Как цель смутна и как надежда лжет, Как скуден бренной нашей мысли плод, — Лишь Смерть от века правит этим миром. Один доволен балом и турниром, Другого сокровенное влечет, Один в самом себе нашел оплот, Другой стремится стать толпе кумиром: Обличий много у тщеты, когда Своим законам верен мир подлунный, И в суете проходят дни и годы. Все в мире тленно: счастье и невзгоды Чредуются по манию Фортуны — Лишь Смерть и постоянна, и тверда.* * *
Блаженна ночь, что сокровенной тьмою Своею осенила столько благ, Блажен слепой и торопливый шаг, Когда иду, ведом твоей рукою. Я от невежд навеки в сердце скрою Лишь Донне и Амору внятный знак Услады, от которой меркнет зрак Рассудка, побежденного красою. О свет несущие ночные тени! О тишина ночная, что поет Нежнее флейты и звучней свирели! О вздохи счастья, слезы сожалений! О гордое желание, полет Дерзнувшее стремить к столь дивной цели!* * *
Увы, обильный ток прекрасных слез Исторгнуло сладчайшее страданье: На миг затмил любимых звезд сиянье Тяжелой тучей мрак душевных гроз. И ливень струи чистых вод пронес По коже, заалевшей от лобзанья, — Ручей так мчится средь благоуханья Лилей росистых и карминных роз. Как птица после яростных лучей Вечерней наслаждается росою, Так ливням этим рад крылатый бог. Таясь на дне блистающих очей, Он сделал боль блаженством, плач красою И на ресницах искорки зажег.Маттео Мария Боярдо
* * *
Я видел, как из моря вдалеке Светило поднималось, озаряя Морской простор от края и до края И золотом сверкая на песке. Я видел, как на утреннем цветке Роса играла — россыпь золотая, И роза, словно изнутри пылая, Рождалась на колючем стебельке. И видел я, с весенним встав рассветом, Как склон травою первою порос И как вокруг листва зазеленела. И видел я красавицу с букетом Едва успевших распуститься роз, И все в то утро перед ней бледнело.* * *
Пыл юности, любовные затеи,[58] Достойный труд, изысканный досуг, Друзей веселый, но не буйный круг, Беззлобный ум, высокие идеи, Плоды усердья и любви трофеи, Учтивость и ученость без потуг — Все это помогает нам, мой друг, Приятнее прожить и веселее. Блажен, кто этим благам цену знает, Он не напрасно жил и пожил вволю, Пусть даже рано век его истек. Былая радость нам не изменяет, Но кто отрекся сам от лучшей доли — Тот сам себе земной убавил срок.* * *
О сердце, обреченное терзанью, Ты слышишь — птица стонет в вышине, Как стонешь ты в любовной западне, И скорбно вторит твоему рыданью. Иль таково небес предначертанье? Весь мир грустит со мною наравне, И лишь от милой не добиться мне Ни жалости, ни слез, ни состраданья! Она к моим мытарствам безучастна, Хоть стражду я из-за нее одной, Которой жизнь и смерть моя подвластны. Надменная, как ты черства душой: Я гибну от любви — а ты бесстрастна, И только птицы плачут надо мной.* * *
— Фиалки, что вы блекнете уныло, Под ветерком сникая и дрожа? Куда сокрылась ваша госпожа? Где солнце, что доселе вам светило? — Нам госпожа являет, как светило, Свое лицо, прекрасна и свежа, И прочь идет, свободой дорожа, А мы грустим, беспомощны и хилы. — Фиалки, вы увянете до срока, Лишенные тепла и ласки горней, Струившейся из этих ясных глаз! — Ты правду молвил, наша боль жестока: Как грудь твоя, иссохли наши корни От горя, что убьет тебя и нас!Лудовико Ариосто
СОНЕТЫ К ОСТРИЖЕННЫМ ВОЛОСАМ
I
Где золотые проливни волос, То перевитых лентою пунцовой, То жемчугом унизанных, то снова Свободных, то в венце тяжелых кос? Кто их посмел украсть у этих роз, Кто отнял их у мрамора живого, Кто лучшее из лиц лишил сурово Убранства, что слепило нас до слез? О неуч! Ты, не смысля в медицине, У красоты, благословленной небом, Похитил лучший из его даров! Ты головой ответишь перед Фебом: Пусть жалкая судьба твоих вихров Остерегает всех невежд отныне!II
Не ведаю, найдется ли хрусталь, Янтарь, паросский мрамор величавый, Или металлов редкостные сплавы, Изысканный эбен или эмаль, И тот ваятель сыщется едва ль, Кто создал бы фиал, достойный славы Прекрасных кос, что срезал врач лукавый, В тоску меня повергнув и печаль. Нет утешенья мне в прекрасном лике, Живых очах, пленительном челе, В ее устах, что ярче земляники… Пусть даже кудри те в небесной мгле Соседствуют с власами Береники,[59] Рыдать о них — удел мой на земле!III
О золотые нити, всякий раз, Едва припомню, что с моей любовью Не столь забота о ее здоровье, Сколь заблужденье разлучило вас — Так сразу реки слез бегут из глаз, Пылает сердце, обливаясь кровью, И с шарлатаном жажду вновь и вновь я Сквитаться за кощунственный приказ. Амур, твое кляну я попущенье; Преступнику одна дорога — в ад, И дьявол там ему изыщет мщенье, Но что же ты, чья власть сильней стократ, Стерпел столь дерзостное похищенье И молча уступил свой лучший клад?Пьетро Бембо
По случаю вторжения Карла VIII[60]
О, край, которому подобных нет, Блистающий средь вод красой нетленной, Чьи долы гранью делит несравненной Роскошный Апеннинских гор хребет! Ужель затем от баловней побед Ты унаследовал весь круг вселенной, Чтоб ныне на тебя грозой военной Шел трепетавший некогда сосед? Нашлись и меж сынов твоих — о горе! — Предатели, готовые вонзить Свой меч в твое пленительное тело. Такого ли достоин ты удела? Знать, разучились люди бога чтить. О выродки, погрязшие в позоре!* * *
Я пел когда-то; сладостно ль звучали Стихи мои — судить любви моей. Вернуть не властен праздник прежних дней, В слезах ищу я выхода печали. Иные страсть разумно обуздали, А я об этом и мечтать не смей, По-прежнему бессильный перед ней. Блаженны, у кого она в опале! Любя, не оставлял надежды я Пример счастливый завещать потомкам, — Увы, пребудут втуне упованья. Так пусть теперь в стихе моем негромком Услышат все на свете крик страданья, Включая вас, противница моя.* * *
Ты застилаешь очи пеленою, Желанья будишь, зажигаешь кровь, Ты делаешь настойчивой любовь, И мукам нашим ты подчас виною. Зачем, уже развенчанная мною, Во мне, надежда, ты родишься вновь? Приманок новых сердцу не готовь: Я твоего внимания не стою. Счастливым счастье новое пророчь, Что если плачут — то от сладкой боли, А мне давно ничем нельзя помочь. Я так измучен, что мадонны волей С последним неудачником не прочь Из зависти я поменяться долей.* * *
Когда б тебе, Амур, душой и телом[61] Я в юности усердней угождал, Теперь, когда я болен и устал, Ты б отпустил мой челн к иным пределам. Как подобает кормчим поседелым, Я обогнул бы гряды острых скал, К безоблачному берегу пристал И занялся достойным, честным делом. Куда мне за тобой: ты в самой силе — А мне любая ноша тяжела; Меня твои приманки не страшили В былые дни, но молодость ушла, Мне годы плоть и сердце иссушили, И если загорюсь — сгорю дотла.* * *
Потоки ваших золотых кудрей Подобны облакам над полем снежным; Глаза огнем сияют безмятежным, Что тьму ночную делает светлей; Речь исцеляет от любых скорбей; Смех жемчугом блестит и лалом[62] нежным; Рука все души манием небрежным Берет в полон, и все покорны ей; Ваш голос чище музыки небесной; Ваш юный ум и ясен, и остер; Осанка, поступь — не бывает краше; При этом нрав столь праведный и честный, Что, угадав благоволенье ваше, Пылаю я, как на ветру костер.Микеланджело Буонарроти
* * *
Спокоен, весел, я, бывало, делом Давал отпор жестокостям твоим, А ныне пред тобой, тоской язвим, Стою, увы, безвольным и несмелым; И ежели я встарь разящим стрелам Метою сердца был недостижим, — Ты ныне мстишь ударом роковым Прекрасных глаз, и не уйти мне целым! От скольких западней, от скольких бед, Беспечный птенчик, хитрым роком годы Храним на то, чтоб умереть лютей; Так, и любовь, о донна, много лет Таила, видно, от меня невзгоды, Чтоб ныне мучить злейшей из смертей.* * *
Нет радостней веселого занятья: По злату кос цветам наперебой Соприкасаться с милой головой И льнуть лобзаньем всюду без изъятья! И сколько наслаждения для платья Сжимать ей стан и ниспадать волной; И как отрадно сетке золотой Ее ланиты заключать в объятья! Еще нежней нарядной ленты вязь, Блестя узорной вышивкой своею, Смыкается вкруг персей молодых. А чистый пояс, ласково виясь, Как будто шепчет: «не расстанусь с нею…» О, сколько дела здесь для рук моих!* * *
О было б легче сразу умереть, Чем гибелью томиться ежечасной От той, кто смерть сулит любви злосчастной! Увы, как сердцу не тужить, Когда его все горше дума губит, Что та, кого люблю, меня не любит? Как можно мне остаться жить, Когда она твердит, и это явно, Что ей себя не жаль, — меня ж подавно? Как мне внушить ей жалость, если впрямь Ей и себя не жалко? — О, проклятье! Ужели вправду должен смерть принять я?* * *
Высокий дух, чей образ отражает В прекрасных членах тела своего, Что могут сделать бог и естество, Когда их труд свой лучший дар являет. Прелестный дух, чей облик предвещает Достоинства пленительней всего: Любовь, терпенье, жалость, — чем его Единственная красота сияет! Любовью взят я, связан красотой, Но жалость нежным взором мне терпенье И верную надежду подает. Где тот устав иль где закон такой, Чье спешное иль косное решенье От совершенства смерть не отведет?* * *
Скажи, Любовь, воистину ли взору Желанная предстала красота, Иль то моя творящая мечта Случайный лик взяла себе в опору? Тебе ль не знать? — Ведь с ним по уговору Ты сна меня лишила. Пусть! Уста Лелеют каждый вздох, и залита Душа огнем, не знающим отпору. — Ты истинную видишь красоту, Но блеск ее горит, все разрастаясь, Когда сквозь взор к душе восходит он; Там обретает божью чистоту, Бессмертному творцу уподобляясь, — Вот почему твой взгляд заворожен.* * *
Когда моих столь частых воздыханий Виновница навеки скрылась с глаз, — Природа, что дарила ею нас, Поникла от стыда, мы ж — от рыданий. Но не взяла и смерть тщеславной дани: У солнца солнц — свет все же не погас; Любовь сильней: вернул ее приказ В мир — жизнь, а душу — в сонм святых сияний. Хотела смерть, в ожесточенье зла, Прервать высоких подвигов звучанье, Чтоб та душа была не столь светла, — Напрасный труд! Явили нам писанья В ней жизнь полней, чем с виду жизнь была, И было смертной в небе воздаянье.* * *
Когда скалу мой жесткий молоток В обличия людей преображает, — Без мастера, который направляет Его удар, он делу б не помог, Но божий молот из себя извлек Размах, что миру прелесть сообщает; Все молоты тот молот предвещает, И в нем одном — им всем живой урок. Чем выше взмах руки над наковальней, Тем тяжелей удар: так занесен И надо мной он к высям поднебесным; Мне глыбою коснеть первоначальной, Пока кузнец господень, — только он! — Не пособит ударом полновесным.* * *
Будь чист огонь, будь милосерден дух,[63] Будь одинаков жребий двух влюбленных, Будь равен гнет судеб неблагосклонных, Будь равносильно мужество у двух, Будь на одних крылах в небесный круг Восхищена душа двух тел плененных, Будь пронзено двух грудей воспаленных Единою стрелою сердце вдруг, Будь каждый каждому такой опорой, Чтоб, избавляя друга от обуз, К одной мете[64] идти двойною волей, Будь тьмы соблазнов только сотой долей Вот этих верных и любовных уз, — Ужель разрушить их случайной ссорой?* * *
Хочу хотеть того, что не хочу, Но отделен огонь от сердца льдиной; Он слаб; чертой не сходно ни единой Перо с писаньем: лгу — но не молчу. Казнюсь, Господь, что словом ввысь лечу, А сердцем пуст; ищу душой повинной, Где в сердце вход, куда б влилось стремниной В него добро, да гордость отмечу. Разбей же, боже, лед мой! Рушь преграду, Чтоб косностью своей не отвела Твоих лучей, столь скудных в сей юдоли. Пошли твой свет, несущий нам отраду, Жене своей, — да вспряну против зла, Преодолев сомнения и боли.* * *
Ночь! сладкая, хоть мрачная пора,[65] От всех забот ведущая к покою! Хоть зорок тот, кто чтит тебя хвалою, Как та хвала правдива и мудра! Ты тяжесть дум снимаешь до утра, Целишь их жар прохладою ночною, И часто я, влеком своей мечтою, Во сне взлетаю на небо с одра. О сумрак смерти, знаменье предела Всех вражеских душе и сердцу бед, Конец печалей, верное лекарство, — Ты можешь врачевать недуги тела, Унять нам слезы, скинуть бремя лет И гнать от беззаботности коварство.* * *
И высочайший гений не прибавит[66] Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке, — и лишь это нам Рука, послушная рассудку, явит. Жду ль радости, тревога ль сердце давит, Мудрейшая, благая донна, — вам Обязан всем я, и тяжел мне срам, Что вас мой дар не так, как должно, славит. Не власть Любви, не ваша красота, Иль холодность, иль гнев, иль гнет презрений В злосчастии моем несут вину, — Затем, что смерть с пощадою слита У вас на сердце, — но мой жалкий гений Извлечь, любя, способен смерть одну.* * *
Лишь вашим взором вижу сладкий свет,[67] Которого своим, слепым, не вижу; Лишь вашими стопами цель приближу, К которой мне пути, хромому, нет; Бескрылый сам, на ваших крыльях, вслед За вашей думой, ввысь себя я движу; Послушен вам — люблю и ненавижу, И зябну в зной, и в холоде согрет. Своею волей весь я в вашей воле, И ваше сердце мысль мою живит, И речь моя — часть вашего дыханья. Я — как луна, что на небесном поле Невидима, пока не отразит В ней солнце отблеск своего сиянья.* * *
Спустившись с неба, в тленной плоти, он Увидел ад, обитель искупленья, И жив предстал для божья лицезренья, И нам поведал все, чем умудрен. Лучистая звезда, чьим озарен Сияньем край, мне данный для рожденья, — Ей не от мира ждать вознагражденья. Но от тебя, кем мир был сотворен. Я говорю о Данте: не нужны Озлобленной толпе его созданья, — Ведь для нее и высший гений мал. Будь я, как он! О, будь мне суждены Его дела и скорбь его изгнанья, — Я б лучшей доли в мире не желал!* * *
Ужели, донна, впрямь (хоть утверждает То долгий опыт) оживленный лик, Который в косном мраморе возник, Прах своего творца переживает? Так! Следствию причина уступает, Удел искусства более велик, Чем естества! В ваяньи мир постиг, Что смерть, что время здесь не побеждает. Вот почему могу бессмертье дать Я нам обоим в краске или в камне, Запечатлев твой облик и себя; Спустя столетья люди будут знать, Как ты прекрасна, и как жизнь тяжка мне, И как я мудр, что полюбил тебя.* * *
В ком тело — пакля, сердце — горстка серы, Состав костей — валежник, сухостой, Душа — скакун, не сдержанный уздою; Порыв — кипуч, желание — без меры; Ум — слеп и хром, и полн ребячьей веры, Хоть мир — капкан и стережет бедой: Тот может, встретясь с искоркой простой, Вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы. Так и в искусстве, свыше вдохновлен, Над естеством художник торжествует, Как ни в упор с ним борется оно; Так, если я не глух, не ослеплен И творческий огонь во мне бушует, — Повинен тот, кем сердце зажжено.* * *
Стремясь назад, в тот край, откуда он, Извечный дух, в теснины заточенья Сошел к тебе, как ангел всепрощенья, И мир им горд, и ум им просветлен. Вот чем горю и вот чем полонен, А не челом, не знающим волненья: Любовь, избыв былые заблужденья, Верна добру, приятому в закон. Здесь — путь всему, что высоко и ново, Чем живо естество: и сам господь Вспоможествует этому немало. Здесь предстает величье Всеблагого Полней, чем там, где лишь красива плоть, — И любо мне глядеть в его зерцало!* * *
И карандаш и краски уравняли[68] С благой природой ваше мастерство И так высоко вознесли его, Что в ней красы еще прекрасней стали. Ученою рукой теперь нам дали Вы новый плод усердья своего И, не презрев из славных никого, Нам многих жизней повесть начертали. Напрасно век, с природой в состязаньи Прекрасное творит: оно идет К небытию в урочный час отлива. Но вы вернули вновь воспоминанье О поглощенных смертию, — и вот, Ей вопреки, оно навеки живо!* * *
Когда замыслит дивный ум создать Невиданные облики, — сначала Он лепит из простого материала, Чтоб камню жизнь затем двойную дать. И на бумаге образ начертать, Как ловко бы рука ни рисовала, Потребно проб и опытов немало, Чтоб мудрый вкус мог лучшее избрать. Так я, твореньем малого значенья Рожденный, стал высоким образцом У вас в руках, достойнейшая донна; Но, сняв излишек, дав мне восполненье, Ужели вы учительным бичом Мой гордый пыл смирите непреклонно?* * *
Годами сыт, отягощен грехами, Укоренен в злодействах бытия, К своей двойной уж близок смерти я, Но сердце яд пьет полными струями. Иссякшие не могут силы сами Сломить судьбу, любовь, соблазны дня, — И светлая нужна им длань твоя, Чтоб удержать пред ложными стезями. Но мало мне, господь мой, что готов Ты душу взять, утратившую чистый, Небытием пожалованный склад: Пока не снят земной с нее покров, Молю сравнять подъем крутой и мглистый, Чтоб прост и светел был ее возврат.* * *
Соблазны света от меня сокрыли На божье созерцанье данный срок, — И я души не только не сберег, Но мне паденья сладостней лишь были. Слеп к знаменьям, что стольких умудрили, Безумец, поздно понял я урок. Надежды нет! — Но если б ты помог, Чтоб думы себялюбие избыли! Сравняй же путь к небесной высоте, Затем что без тебя мне не по силам Преодолеть последний перевал; Внуши мне ярость к миру, к суете, Чтоб недоступен зовам, прежде милым, Я в смертном часе вечной жизни ждал.Франческо Берни
Папство Климента VII
Теперешнее папство все — приветы, Да речи, да высокоуваженья, «Потом», «но», «да», «быть может», «вне сомненья» — Словечки без влиянья на предметы. Сужденья, мненья, замыслы, советы, Загадки, для которых нет решенья, Беседы, остроумные реченья, Приемы… лишь бы не платить монеты. Ступающая сторожко пята, Нейтралитет, терпение, призывы, Надежда, вера, — словом, — доброта С невинностью, прекрасные порывы И — скажем так — святая простота (Чтоб не были истолкованья кривы). Когда б позволить мне могли вы, Я все ж сказал бы: поздно или рано К святым причтут и папу Адриана.[69]На болезнь папы Климента в 1529 г.
Поесть — у папы нет иного дела. Поспать — у папы нет иной заботы: Возможно дать такие лишь отчеты Любому, кто о папе спросит смело. Хороший взгляд, хороший вид и тело, Язык хорош и качество мокроты. Нет, с жизнью он порвать не хочет счеты, — Но рать врачей сжить папу захотела. И в самом деле честь их пострадает, Коль он живым уйдет от их атаки, Раз сказано: конец, он умирает. И страшные выдумывают враки: Что в два часа припадок с ним бывает, — Сегодня нет, а завтра будет паки. От них подохнут и собаки, Не то что папа. В общем же, похоже, Что как-никак его прихлопнут все же.Сер Чекко и двор[70]
Сер Чекко сам не свой, лишь бросит двор, — Двор тоже сам не свой без сера Чекко. Для сера Чекко очень нужен двор, И очень нужен для двора сер Чекко. Кто хочет знать, каков таков сер Чекко, Пускай посмотрит, что за штука двор. Сер Чекко сам похож на двор, А двор собой похож на сера Чекко. И столько лет просуществует двор, Сколь долго жизнь продлится сера Чекко, — Сер Чекко то же самое, что двор. Всяк, по дороге встретив сера Чекко, Подумает, что повстречал он двор. В обоих двор, в обоих и сер Чекко. Бог милуй сера Чекко — Он при смерти: немилостив стал двор. Погиб сер Чекко, но погиб и двор. Умрет он, но с тех пор Уж тем одним он утешаться сможет, Что Трифона[71] никто не потревожит.Торквато Тассо
Герцогу Винченцо Гонзага[72]
Винченцо славный, я томлюсь жестоко, В тюрьму суровой заточен рукой; Тупая чернь глумится надо мной, Беспомощной игрушкой злого рока. Ах! Ада моего в мгновенье ока Захлопнулись врата в день брака той, Которая по матери с тобой И по отцу — единого истока. Меж тем давно ли ласковый твой взор Был обращен ко мне? О, неужели Нельзя надеяться и на тебя? В твоей душе все чувства омертвели, Коль обо мне не помнишь ты, любя. Бездушный век, позор тебе, позор!* * *
В Любви, в Надежде мнился мне залог Все более счастливого удела; Весна прошла, надежда оскудела — И невозможен новых сил приток. И тайный пламень сердца не помог, Все кончено, и не поправить дела: В отчаянье, не знающем предела, Мечтаю смерти преступить порог. О Смерть, что приобщаешь нас покою, Я дерево с опавшею листвой, Которое не оросить слезою. Приди же на призыв плачевный мой, Приди — и сострадательной рукою Глаза мои усталые закрой.* * *
Порой мадонна жемчуг и рубины Дарует мне в улыбке неземной И, слух склоняя, внемлет ропот мой, — И ей к лицу подобье скорбной мины. Но, зная горя моего причины, Она не знает жалости живой К стихам печальным, сколько я ни пой, К певцу, что счастья рисовал картины. Безжалостен огонь прекрасных глаз, — Жестокость состраданьем притворилась, Чтоб страсть в душе наивной не прошла. Не обольщайтесь, сердца зеркала: Нам истина давным-давно открылась. Но разве это отрезвило нас?* * *
Ее руки, едва от страха жив, Коснулся я и тут же стал смущенно Просить не прогонять меня с балкона За мой обидный для нее порыв. Мадонна нежно молвила на это: «Меня вы оскорбили бесконечно, Отдернуть руку поспешив тотчас. По мне, вы поступили бессердечно». О, сладостность нежданного ответа! Когда обидчик верно понял вас, Поверьте — в первый и последний раз Он вам нанес обиду. Однако кто не обижает, тот Отмщенья на себя не навлечет.* * *
Ровесник солнца, древний бог летучий, Лежит на всем вокруг твоя печать, Тебе дано губить и воскрешать, Верша над миром свой полет могучий. Со злополучьем и с обидой жгучей Мое не в силах сердце совладать: Лишь на тебя осталось уповать, — Не уповать же без конца на случай. Приди избавить сердце от тоски, Забвеньем горькой помоги обиде, Сановников изобличи во лжи, И на поверхность правду извлеки Из глубины, и в неприкрытом виде, Во всей красе, другому покажи.К Лукреции, герцогине Урбино
Ты в юности казалась нежной розой, Что, лепестков лучам не открывая, За зеленью стыдливо, молодая, Еще таит мечты любви и слезы. Иль может, ты (не с миром нашей прозы Тебя равнять) была зарею рая, Что, тени гор и поле озаряя, На небесах полна невинной грезы. Но для тебя года прошли неслышно, И молодость в своем уборе пышном Сравнится ли с твоею красотою? Так и цветок душистее раскрытый, И в полдень так лучи с небес разлиты Роскошнее, чем утренней зарею.Сравнивая синьору Лауру с лавром, уповает, что когда-нибудь она сжалится над ним[73]
От деревца, что в зной, как и в мороз, Не расстается с листьями своими, Взяла ты, донна, сладостное имя; Как кроной — лавр, горда ты златом кос: Он молний не страшится в пору гроз, Ты — стрел Амура: соревнуясь с ними, Ты сердце мне очами огневыми Разишь, и нет мне отдыха от слез. О, долго ль мне преследовать напрасно Ту, что летит, проворна и легка, Подобно фессалиянке прекрасной! Но буду я моленья слать, пока Тебя в твоей гордыне безучастной Не остановит слез моих река.Синьоре Лауре Пинья Джильоли[74]
О Лаура, рожденная средь Муз И в доме, что они избрали кровом, Где любомудр-поэт царит над словом И торжествует тонкий ум и вкус! Вооружен лишь рифмой, не берусь Лощить вам злато прядей глянцем новым Иль спорить с вашим же судом суровым, Вступившим с вашей скромностью в союз. Увы, искусством трудным не владею Запечатлеть очей прекрасных свет, Уста, ланиты, что пленяют, рдея. Создать сумел бы верный ваш портрет В словах, дарящих плоть и жизнь идее, Лишь тот, кто деву произвел на свет.Синьору Джустиниано Масдони
Любовь — огонь, лучом красы зажженный, Чью власть наш слух и взор приемлют жадно; Ей пищей — страх, коль донна взглянет хладно, Надежда — коль посмотрит благосклонно. И, сердце избирая залой тронной, Светясь в глазах, шлет нас она нещадно К Природе в плен; беда, коль безоглядно, Как божеству, ей молится влюбленный. Коль ищешь ты опоры в жизни этой, Да станет ею Разум, враг заклятый Любви, что всуе множит заблужденья; Благие да подаст тебе советы, Одев измученное сердце в латы Ничем не одолимого презренья.Рассказывает о том, увидел свою госпожу на берегах Бренты, и в стихах описывает чудеса, творимые ее красотою
Та, что превыше всех любима мною, Цветы сбирала в поле близ реки, Но больше их рождалось под стопою, Чем руки рвали, белы и легки. Власы струились светлою волною, Сплетал Амур из локонов силки, И огнь очей, что жжет, подобно зною, Смягчали речи, словно ветерки. И гладью зеркала река застыла, Чтоб отразить, остановив свой бег, Златые кудри, ясных глаз светила. И молвила: «Я — не царица рек, Но, дабы удержать твой образ милый, Утишу воды, что ласкают брег».Показывает, сколько сладости таится в любовных муках
Коль нас Амур манит в такие сети, Сколь сладостно любовное плененье! Коль я попался на крючок в смятенье, Сколь сладостны они, приманки эти! Как древу сладостны омелы плети, А лед — устам, пылающим в томленье! Печали, думы, пени, обвиненья, Вы сладостней всех радостей на свете! Какая скрыта горькая отрада В душевных ранах, в смертных муках вечных, В слезах, что я, преступный, источаю! Коль это — жизнь, я все утехи ада Готов принять, всю боль скорбей сердечных; Коль смерть, то дни я смерти посвящаю!Восхваляет красоту донны, в особенности же красоту ее уст
Прекрасна госпожа, коль ей взметет Златые кудри ветра дуновенье, Прекрасна, коль подернет взор сомненье Иль алость роз средь снега расцветет; Прекрасна, коль стоит и коль идет; Коль мне являет гордость и презренье; Прекрасна, коль дарует мне мученья, Чтоб я кончиною снискал почет. Но высшая краса ее таится В рубинах уст, вратах души — темницы, Где бог любви живет в благом плену: Сквозь те врата, что рдеют, взор прельщая, Летят его посланцы, возвещая И сладкий мир, и сладкую войну.Изъявляет желание принять на себя недуг своей госпожи, дабы она ощутила хоть частицу его любви
Глаза прекрасные, где в первый раз, Как в небе, мне блеснул Амур летучий, Омрачены губительною тучей: Луч, что слепил и жег меня, погас. Увы! Хоть хладный снег верней кирас Упорно защищал от страсти жгучей Грудь донны, повелел коварный случай, Чтоб от горячки он ее не спас. О, если б жара пагубную силу Мне за нее терпеть, дабы мой пыл Она хоть в малой искре ощутила! Любой костер и сладостен, и мил Казался бы, о деспот легкокрылый, Тому, чье сердце огнь твой опалил!Джордано Бруно
О любви[75]
Любви доступны истины вершины. Сквозь адамантовы проникнув огражденья, Мой гений свет несет; для наблюденья Рожден, живет он вечным властелином; Земли, небес и адовой стремнины Правдивые дает изображенья, Врагам наносит смело пораженья, Внедряется в сердечные глубины. Чернь низкая, зреть истину старайся. Прислушайся к моим словам нелживым. Безумная, раскрой глаза со мною. Ребенком звать любовь ты не пытайся. Сама изменчива — ты мнишь ее пугливой, Незрячей будучи — зовешь ее слепою.* * *
Единое, начало и причина, Откуда бытие, жизнь и движенье, Земли, небес и ада порожденья, Все, что уходит вдаль и вширь, в глубины. Для чувства, разума, ума — картина: Нет действия, числа и измеренья Для той громады, мощи, устремленья, Что вечно превышает все вершины. Слепой обман, миг краткий, доля злая, Грязь зависти, пыл бешенства с враждою, Жестокосердье, злобные желанья Не в силах, непрестанно нападая, Глаза мои задернуть пеленою И солнца скрыть прекрасное сиянье.* * *
Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?[76] Кто устранил страх смерти или рока? Кто цепь разбил, кто распахнул широко Врата, что лишь немногие открыли? Века ль, года, недели, дни ль, часы ли (Твое оружье, время!) — их потока Алмаз и сталь не сдержат, но жестокой Отныне их я не подвластен силе. Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры, Кристалл небес мне не преграда боле, Рассекши их, подъемлюсь в бесконечность. И, между тем, как все в другие сферы Я проникаю сквозь эфира поле, Внизу — другим — я оставляю Млечность.Томмазо Кампанелла
О корнях великих зол вселенной
Родился я, чтоб поразить порок — Софизмы, лицемерие, тиранство, Я оценил Фемиды постоянство, Мощь, Разум и Любовь — ее урок В открытьях философских высший прок, Где истина преподана без чванства, — Бальзам от лжи тройной, от окаянства, Под коим мир стенящий изнемог. Мор, голод, войны, козни супостата, Блуд, кривосуды, роскошь, произвол, — Ничто пред тою тройкою разврата. А себялюбье — корень главных зол — Невежеством питается богато. Невежество сразить я в мир пришел.О простом народе
Огромный пестрый зверь — простой народ. Своих не зная сил, беспрекословно Знай тянет гири, тащит камни, бревна — Его же мальчик слабенький ведет. Один удар — и мальчик упадет, Но робок зверь, он служит полюбовно, — А сам как страшен тем, кто суесловно Его морочит, мысли в нем гнетет! Как не дивиться! Сам себя он мучит Войной, тюрьмой, за грош себя казнит, А этот грош король же и получит. Под небом все ему принадлежит, — Ему же невдомек. А коль научит Его иной, так им же и убит.Джамбаттиста Марино
К своей даме, распустившей волосы на солнце
И золото кудрями посрамит, Взойдя, моя прекрасная денница: Власы распустит — словно поделиться, Сияньем пышным с юным днем спешит. Атлас, пушистым золотом омыт, Живой волною по плечам струится, И мягко золотая прядь змеится В цветах прелестных персей и ланит. Амура в этой золотой дуброве Я видел: он среди густых ветвей Держал крючки и сети наготове; И, пойманное солнцами очей, Я видел солнце в сказочном улове, Подсолнухом тянувшееся к ней.Ко сну
Безмолвия и Полночи дитя, Отец воздушных, трепетных видений, Любезный сон, влюбленных добрый гений, Что счастливы, тебе вослед летя, Ты добр ко всем, любому сердцу льстя, Лишь моему не спать на лоне теней. Оставь пещерный мрак твоих владений, Откликнись, перемену возвестя. Забвеньем тихим подарив, и миром, И образцом цветущей красоты, Утешь меня в моем желанье сиром. Я должен видеть милые черты… Но пусть ты не придешь с моим кумиром, Приди обличьем смерти. Где же ты?Описывает пение разных птиц, коим восхищается близ Флоренции, на вилле, принадлежащей господину Джакомо Кореи
Я внемлю пенье трепетного хора: Струится трель, созвучная ручью, И Прокна отвечает соловью,[77] Не поминая давнего позора. Щегол ликует, что пришла Аврора, И прячется, окончив песнь свою; Я нежный голос горлиц узнаю, Как бы поющий: «Май цветущий скоро». И певчий дрозд из глубины листвы Пеняет птицелову справедливо, Что прячет самолов среди травы. Да остаются щедры лес и нива На сладкий корм! Нет, не пичуги вы, Вы ангелы — лесов тенистых диво.Расставание
Пора! Уже денница над волнами Ретивых погоняет лошадей. Не надо плакать, Лилла, слез не лей, Ведь будут вздохи нашими гонцами. Как, пробираясь тайными путями, Вновь с Аретузой встретился Алфей, Так недоступных мыслям нет путей, Когда в разлуке мы томимся сами. Две нежные звезды разлучены Нередко на дорогах небосклона, Но свету дружбы и вдали верны. Порой стоят деревья отрешенно, Но корни крепко переплетены — И тайну их хранит земное лоно.Мадонна Рафаэля из Урбино
Где ангелу земному краски взять, Чтоб красоту прославить неземную? Он должен был, покинув мастерскую, На небе — в царстве божьем — побывать. Он светлой сделал вьющуюся прядь, Заняв у солнца краску золотую, Он горних духов благодать живую Сумел во взгляде ясном передать. Он сделал взор божественный открытым, Зарю и млечность звездного пути Соединил и подарил ланитам. Помог лучу улыбки расцвести — И навсегда пребудет знаменитым, Дерзнув на землю рай перенести.Винченцо да Филикайя
К Италии
О ты, кому судьбина дар злосчастный — Чарующую красоту дала, Отметила чело печатью зла И муке обрекла тебя безгласной. Италия, когда б не столь прекрасной Или хотя бы ты сильней была, Чтоб тот, кому сегодня ты мила, Любовь к тебе считал небезопасной, Сегодня не спускались бы сюда Потоком рати по альпийским скатам, Из По не пили галльские стада; И не дралась бы ты чужим булатом В чужой борьбе за то, чтобы всегда Служить не тем, так этим супостатам!ИСПАНИЯ
Хуан Боскан
* * *
Следы любви — невидимые раны — Хочу, чтоб ныне напоказ явились, Чтоб их увидевшие поразились, И жалостью и страхом обуяны. Так худшие злодейства и обманы Огласке подлежат, дабы открылись Причины их, чтоб люди устрашились, Чтоб содрогнулись даже истуканы. Я ранен был не раз в любовных войнах, Немало видел воинов достойных, — Пожалуй, не расскажешь обо всем. Поведаю вам собственную повесть, — Правдиво, как подсказывает совесть, И шрамы обнажая со стыдом.* * *
Мою судьбу любовь предначертала. Едва мои уста забыть успели Вкус молока, едва из колыбели, — Я был из тех, кого она избрала. С тех пор обид я испытал немало, Меня ее невзгоды одолели, И я порою думал: неужели Не ад все это, что со мною стало? В страданьях человек на свет родится, А я из тех, кого оно взрастило, Кто не изведал лишь тоски могильной. О, эта боль, что сердце истомила! Столь жгучая — как может столько длиться? Столь долгая — как может жечь так сильно?* * *
Кружат созвездья в смене прихотливой, А мы во власти этого полета, И правят духом, что лишен оплота, Минутные приливы и отливы. То возрождая лучшие порывы, То тяготя ничтожною заботой, От поворота и до поворота Ведет нас путь, то горький, то счастливый. Но та звезда, которая виною, Что ни смягченья мукам, ни числа нет, Неумолимо надо мной застыла, Не обернется светлой стороною. И без надежды, что заря настанет, Взираю на померкшее светило.* * *
Живу, хоть и не в радость никому; Друзья тайком скорбят о нелюдиме; Бреду с годами, втуне прожитыми, И от рассвета хоронюсь во тьму. А ночь настанет — мыслей не уйму, И темнота еще невыносимей; Спасаюсь от людей — мне тяжко с ними, Но тяжелей порою одному. Так безотраден вид моей недоли, Что в ужасе я опускаю взгляд, И рвется дух избавиться от боли. И я за ним последовать бы рад, Но держит вновь привычка поневоле, Любовь и счастье на пути стоят.* * *
Не первый день душа хитрит со мной, Но даже видя, что его морочат, Трусливый разум верить в счастье хочет И мирится с подделкою смешной. Я обхожу любого стороной, Кто эту небыль явно опорочит; И пытку, что мое терпенье точит, Готов терпеть с улыбкой напускной. И чахнет мысль под тяжестью такою, Что, кажется, блаженствую почти, Едва на миг мученья успокою. Немногое, что в силах был спасти, Сжимаю полновластною рукою И ощущаю пустоту в горсти.* * *
В душе мертво от застарелой боли, Вгрызающейся в тело до кости; И понапрасну в тяготах пути Ищу спасенья от своей недоли. Пустая небыль не дает мне воли, К чему ни рвусь, — изведать во плоти; Вовек посеянному не взойти На сумрачном и запустелом поле. Но как любовь отрадою не манит И сколько ум предлогов не дает Забыть о том, что душу мне тиранит, — Она просить о милости не станет: Счастливому не вытерпеть невзгод, К беспечному беда врасплох нагрянет.* * *
Зачем любовь за все нам мстит сполна: Блаженство даст — но слезы лить научит, Удачу принесет — вконец измучит, Покой сулит — лишит надолго сна, Лишь в плен захватит — схлынет, как волна, Лишь сердцем завладеет — вмиг наскучит, Подарит счастье — все назад получит? Неужто впрямь двулична так она? О нет! Амур безвинен; вместе с нами Горюет он, когда придет беда, И плачет, если нас терзают муки. В своих несчастьях мы повинны сами; Любовь, напротив, служит нам всегда Опорой — и в печали и в разлуке.* * *
Легавая, петляя и кружа, Несется с лаем по следам кровавым, Пока олень, бегущий от облавы, На землю не повалится, дрожа. Так вы меня травили, госпожа, Такой желали смерти мне всегда вы; Гонимый гневом яростным, неправым, До крайнего дошел я рубежа. И снова вы терзаете и рвете Сплошную рану сердца моего, Где всюду боль кровоточащей плоти. Верны своей безжалостной охоте, Вы истязать намерены его И уязвлять, покуда не убьете.* * *
Как сладко спать и мучиться тоскою, Что это сон, который только снится; Как сладко забываться небылицей И сознавать, что краткою такою; Как сладко мыслью в бытие другое, Недостижимое, переноситься: Как сладко до утра смежить ресницы, Хоть пробужденье не дает покоя. О сон! Когда б под тяжестью твоею И день и ночь не размыкались веки, Ты стал бы мне и легче и желанней! Дай, наконец, уснуть не сожалея; И правдой обездоленный вовеки Пусть обретет отраду хоть в обмане!* * *
Душа моя со мной играет в прятки И лжет, рисуя все не так, как есть; Я с радостью приемлю фальшь и лесть, Хоть изучил давно ее повадки, И сторонюсь, храня обман мой сладкий, Того, кто мне несет дурную весть; Я знаю сам — невзгод моих не счесть, Но лучше думать, будто все в порядке. Таким смятеньем разум мой объят, Что, вмиг забыв о гибельном уроне, Чуть стихнет боль, спокоен я и рад. Жизнь ускользает между рук; в погоне За ней, хватаю жадно все подряд — Но только пустота в моей ладони.Гарсиласо де ла Вега
* * *
Моря и земли от родного края Отрезали меня, и милый дом День ото дня все дальше, и кругом Чужие племена и речь чужая. Ищу лекарства от разлуки, зная, Что нет пути назад, и об одном Молю судьбу — уснуть бы вечным сном, Чтоб отлегла от сердца мука злая. Лишь видя вас, надеясь видеть вас, Я б излечился от тоски, поверьте, Но и надежды я лишен давно. Я утолить печаль хотел не раз И понял — исцеленье только в смерти, Но даже умереть мне не дано.* * *
Едва надежда поднялась с колен, Как пала вновь, покорна черной силе; И чаянья опять не победили, Отчаянью сдались в постыдный плен. Кто б вынес столько скорбных перемен, Измен судьбы? Но в горестном горниле Мужайся, сердце! Помни, что в могиле Вкусишь не шторм, а штиля рай и тлен. И потому крушу преград твердыни — Пусть смерть близка, пусть гаснут взор и слух, Пусть дверь моей темницы на засове! Я припаду к стопам своей святыни, Чтоб ни случилось: как бесплотный дух Или мужчиной во плоти и крови.* * *
Ваш взор вчеканен в сердце мне, сеньора. И сколько бы я ваш ни славил взгляд, Стиха красноречивее стократ Чеканное стихотворенье взора. Сонеты ваших глаз… Пускай не скоро Я до конца пойму их смысл и лад, Но веру в вас принять на веру рад И приговору внемлю без укора. Я вас люблю. Я изваял ваш лик Под стать своей любви, но страсти пламя Не в силах вам расплавить сердца твердь. Лишь вами осенен мой каждый миг: Рожденный ради вас, живущий вами, Я из-за вас приму — приемлю! — смерть.* * *
Я брел по кручам каменным в бреду И вдруг очнулся, сердцем замирая И цепенея в ужасе, у края Гранитной бездны: шаг — и упаду. Меня ведет погибель в поводу. С ней обручен, наверно, навсегда я: Ведь зная, что есть благо, выбираю Я не блаженство рая, а беду. Но не хочу в моей несчастной части Продлить недолгих дней быстротеченье И не перечу року своему; Сдаюсь на милость милой сердцу страсти: Близка кончина и конец мученья, А значит, мне спасенье ни к чему.* * *
Прекрасные наяды![78] Вы с отрадой Проводите свой век среди хором, Сверкающих на самом дне речном Искристою, хрустальной колоннадой. То отдаетесь ремеслу с усладой, То ткань прядете за веретеном, То о любви на поприще земном Вы делитесь с подружкою-наядой. Рукомесло оставьте, слыша зов, И русые головки наклоните Ко мне, когда брожу вдоль берегов! А если слушать жалоб не хотите, Здесь плачущий, найду ваш влажный кров, Где страждущего скорбь вы утолите!* * *
Гляжу на Дафну[79] я оторопело: Извивы веток вижу вместо рук, Корона золоченных прядей вдруг Зеленой кроной лавра зазвенела. Вот облекла трепещущее тело Кора чугунной чешуей вокруг, А нежная ступня, врастая в луг, Корявым корнем стать уже успела. Виновник же всего вотще хотел Помочь беде слезами, лишь ускоря Пролитой влагой рост густой листвы. О жалкая судьба! О злой удел! Увы, чем горше плачем мы о горе, Тем глубже в нас врастает боль, увы!* * *
Да, мягче воска я по вашей воле. Да, ваши очи — солнца жаркий свет. Они еще не подожгли весь свет — По недоразумению, не боле. Так объяснил бы кто-нибудь мне, что ли, Престранного явления секрет. — Я сам в него бы не поверил, нет, Но вынуждает опыт поневоле — Пожаром ваших глаз воспламенясь, Едва лишь вас издалека замечу, Охваченный огнем спешу навстречу… Когда же наконец я подле вас, То стыну вдруг и не владею речью Под ледяным свеченьем ваших глаз.* * *
Пока лишь розы в вешнем их наряде Тягаться могут с цветом ваших щек, Пока огонь, что сердце мне зажег, Пылает в горделивом вашем взгляде, Пока густых волос витые пряди Просыпаны, как золотой песок, На плавность ваших плеч и ветерок Расплескивает их, любовно гладя, — Вкушайте сладость спелого плода: Уйдет весна, и ярость непогоды На золото вершин обрушит снег, Цветенье роз иссушат холода, Изменят всё стремительные годы — Уж так заведено из века в век.* * *
Судьба моя, судьба моей печали! Тяжел твой гнет и тяжек приговор. Под корень впился лезвием топор, И рухнул ствол, и дол вокруг устлали Плоды и лепестки, а в их обвале Погребена любовь, что до сих пор Меня живила… Плачу, но укор Услышан будет мой уже едва ли… Ни мне, ни вам слезами не помочь. И все же им отныне и вовеки Струиться из моих горючих глаз, Пока не хлынет в очи эта ночь Без пробужденья, не смежит мне веки, Чтоб я прозрел и вечно видел вас.* * *
Когда в соитии с моей душой Зачал любовь я, сколь ей было радо Все существо мое! Казалось, чадо Желанное мне послано судьбой. Но страсть была беременна бедой И родила дитя — исчадье ада. И вот отравлена моя отрада, А в жилах — яда яростный настой. Жестокий внук! В кого ты вышел нравом? Как завязалась эта злая завязь? Неужто ты — моя же кровь и плоть? Яд ревности! Перед тобою зависть, Твоя сестра, привычная к отравам, И та не в силах страха побороть.* * *
Моя щека окроплена слезой, Стенанья рвутся из груди всечасно; Но тяжелей всего, что я, несчастный, Сказать не смею: «Вы тому виной!» Влекусь за вами узкою стезей — Валюсь без сил. Хочу бежать — напрасно: Я цепенею, вспомнив, как прекрасно Виденье, покидаемое мной. Когда ж дерзну карабкаться к вершине, Сорвавшихся мерещатся мне тени — И ужаса в крови не превозмочь, И в довершенье я лишен отныне Надежды, освещавшей мне ступени В глухую, как твое забвенье, ночь.* * *
О ласковые локоны любимой, Бесценный талисман прошедших дней, Вы — в заговоре с памятью моей, И гибель — мой удел неотвратимый! Вы вновь воссоздаете образ зримый Той, что и нынче мне всего милей; Покой и радость скрылись вместе с ней, И я мечусь в тоске неутолимой. Что ж, если вам похитить суждено Мое блаженство, жалости не зная, Возьмите же и горе заодно! Затем ли мне дана любовь былая, Затем ли счастье некогда дано, Чтоб умер я, о прошлом вспоминая?* * *
О нимфы златокудрые, в ущелье С хрустальной колоннадой в глубине, Среди блестящих глыб, на мягком дне, Что служит вам и домом и постелью, Живущие в довольстве и веселье, — Кто крутит пряжу на веретене, Кто шепчется с подружкой в стороне, Кто замечтался, сев за рукоделье, — Когда в слезах я вдоль реки иду, Дела свои прервите на мгновенье И оглянитесь на мою беду, Не то, не в силах выплакать мученье, Я, превратясь во влагу, здесь найду Навеки и покой и утешенье.* * *
Я думал, предо мною путь прямой,[80] Но он взыскал меня такой судьбою, Что не измыслю, споря сам с собою, Чем — хоть в безумье — дух утешить мой. Мне ночь в сиянье лунном мнится тьмой; Мечусь на ложе, как на поле боя; Мне тяжким сводом — небо голубое, И тяжек мне глас нежности самой. А сон — хоть срок ему отпущен малый — Лишь если явит лик небытия, Приемлется душой моей усталой. Вот какова отныне жизнь моя, И знаю: та пора, что не настала, Мучительней, чем та, что прожил я.Луис де Леон
* * *
Пришла любовь, с собою увлекая, Куда и мысль подняться не дерзнет. Но сердце не стряхнет глухих забот, Сомненьем переполнено до края: Не быть бы мне низринутым из рая, За то, что счастья зыбок был оплот. И если, обманув, нас вознесет, То вскоре бросит вниз судьба слепая. О госпожа, я ваш, как плоть от плоти, Взлелеян вашей милостью святою, И в вере с вами воедино слит. Свое творенье вы ли не спасете? Мои грехи затмите чистотою. И ваша благость благо мне сулит.* * *
Ваш облик в памяти хочу сберечь! О кротость! Благородство неземное! Душа исполненная добротою! О волосы, струящиеся с плеч! О чудный стан! О сладостная речь! О взгляды, напоенные весною! Уста, что нежных звуков красотою Умеют мысль глубокую облечь! Что ждет того, кто, видя только в вас Блаженство, утешение, отраду И вам себя вверяя как судьбе, От вас отторгнут будет? Он тотчас Познает плен душевного разлада, Скорбь, мрак, рыдания, небытие.* * *
Та, что сияла ярче всех светил, Сокрылась от меня; и скорбь слепая Мной овладела, в бездну увлекая, Как судно без руля и без ветрил. Истомы смертной я почти вкусил, Когда нахлынули — разлука злая, Страсть, упованья, опасений стая, — Меня как волны этот шквал разил. Раздался глас над рокотом морей, Мне возвестивший: в вере, госпожой Дарованной, пристанище дано. — Ее по свету разметал борей, — Ответил я. Истерзанный волной, Зову не пристань, так морское дно.Фернандо де Эррера
Руинам Италики
Руин усталых тяжкое унынье, Былого дерзновенья вечный сон, Куски разбитых сводов и колонн, Разъятый вал на сумрачной вершине — Являют люду темному поныне, Сколь слеп удел его, сколь краток он, И только я, столь грешный, обделен Понятием сего в моей гордыне. Увы, мой пыл возвел вокруг меня Повыше крепость, и хотя так зыбки Ее устои, — правит мной обман. Что для упрямца истина, — гоня Желание уразуметь ошибки, Желанием страдать он обуян.Севилье
Счастливая царица Океана, Тобой трикрат Испания славна, Твой Ум и Благородство чтит она, Ей Польза щедрая твоя желанна. Жемчужина Европы без изъяна, Нет, не с Землей сравниться ты должна, Твоих богатств ей не вместить сполна, — А с Небом, да, божественная манна. Достаток твой и власть увидев, гость Глазам не верит и на то гневится, Что о тебе молва еще мала. Не город, — мир! В тебе все то сошлось, Что есть в других: Испании частица, — Ты целое собою превзошла.* * *
Бреду один пустынею бесплодной, Измучен думой давней и постылой, Ведь солнце ясное, что мне светило, Меня изгнало в ночь, во мрак холодный. Бреду, надежде чистой неугодный, Одолеваю холм, собравшись с силой, И обращаю вспять свой взор унылый, В дол дней ушедших, с этим столь несходный. Мне видится в минувшем столько счастья, А ныне столько мук в удел досталось, Что сердце сражено и сжалось в страхе. О, ревность, скорбь, забвенье, безучастье, — Всё, что от рая прежнего осталось, — К чему терзать лежащего во прахе?* * *
Дерзнул — и устрашился я; но вот Страх поборола дерзость, и, смелея, Я ринулся в огонь, что жалит злее, Коль прав на упованье не дает. И опалил мне младость пламень тот, Презрел я поздно, но не сожалею: Ведь кто упорствует, свой бред лелея, Тот разума вовек не обретет. Порой пытаюсь вырваться из плена, Но силы нет, и стоит ли труда? И вновь склоняю голову смиренно. Что ж, да пребудет вечною беда: Ведь не к лицу, не к чести перемена Тому, кто честно сдался навсегда.* * *
Я порешил — опасное решенье! — Что грудь броней одену ледяною, Дабы любовь не помыкала мною И не был я для жгучих стрел мишенью. Пытался я спастись от пораженья — Напрасный бред! Я сам беде виною: Отдав свободу, гордость, сей ценою Обрел я безысходные мученья. Лед в пламени растаял — тем сильнее Оно бушует ныне, полыхая, Пронизывая мне дыханье жаром. И смерти от огня я ждать не смею: Чем пуще в сем костре я стражду яром, Тем пуще вечный жар его вдыхаю.* * *
Меж скал отвесных, гибельным проливом, В скорлупке утлой — и ветрил-то нет! — Влекусь за песнью сладостной вослед Себе на горе по волнам бурливым. Желаньем пылким, дерзостным порывом Я отдан произволу злейших бед; Покорствую ему, себе во вред, Не властен следовать путем счастливым. Я вижу кости белые на дне, Я слышу вопли терпящих крушенье, И рокот бури яростней вдвойне; И уповать не смею на спасенье: Везде опасность угрожает мне, Страх пагубен, и тщетно дерзновенье.* * *
Боль ярую терпеть уж не могу И не могу, встречая взор ваш звездный, Переносить покорно искус грозный, Которого б не пожелал врагу. Пытаюсь скинуть цепи, прочь бегу, В отчаянье моля Амура слезно Вернуть свободу мне, пока не поздно, Хоть сам себе, измучившийся, лгу. Но стоит ли противиться надменно, И будет ли мне толк какой-нибудь От сей попытки, тщетно дерзновенной? Ваш взор нашел мне прямо в душу путь И молнией ожег ее мгновенной, Хоть невредимою осталась грудь.* * *
О солнце, лезвия твоих лучей Багрянят высь далекую, сверкая, — Скажи мне, сыщется ль краса такая, Что вровень той, кто свет моих очей? О ветерок, дыханьем вешних дней Ты нас ласкаешь, нежно овевая, — Взгляни, вот злата пелена живая, Скажи, касался ль ты косы пышней? Луна, небесные огни, планеты, Которым власть над судьбами дана, — Двух звезд земных вам ведомы ль приметы? Светила, солнце, ветер и луна, — Вы зрели скорбь напраснее, чем эта, Внимали стонам, что дарит она?* * *
Вздыхаю — и желал бы, чтоб на волю Душа в печальном вздохе отлетела, Но тщетно, ибо смертного предела Не достигаю, мучим смертной болью. В пустыне сей, где сам с собой глаголю, До сердца скал дойдет мой вздох несмелый, Не тронув сердца той, что захотела Обречь меня на злую эту долю. Вздыхаю — но ни смерти, ни целенья Себе не нахожу; и плач унылый Мне утешенья не дарит ни крохи. Любовь, дай вздохам гибельную силу: Как лебедь жизнь кончает в сладком пенье, Так испущу я душу в скорбном вздохе.Мигель де Сервантес Сааведра
* * *
Едва зима войдет в свои права, Как вдруг, лишаясь сладкозвучной кроны, Свой изумруд на траур обнаженный Спешат сменить кусты и дерева. Да, времени тугие жернова Вращаются, тверды и непреклонны; Но все же ствол, морозом обожженный, В свой час опять укутает листва. И прошлое вернется. И страница — Прочитанная — снова повторится… Таков закон всеобщий бытия. И лишь любовь не воскресает снова! Вовеки счастья не вернуть былого, Когда ужалит ревности змея.* * *
Когда берет Пресьоса бубен свой, Когда напевом ветер побеждает, Рой алых роз уста ее рождают, Персты творят жемчужин звонких рой. И чудеса безгрешны, хоть порой Смущают ум и душу возбуждают; Пресьоса ими небу угождает, Бесхитростной пленяя чистотой. Навек запутались в кудрях прекрасной Сердца влюбленных, и слепой божок, Растратив стрелы на нее напрасно, В очах ее светильник свой возжег: Как две звезды, они сияют властно, И в них — даров чудеснейших залог.* * *
Святая дружба! Ты глазам людей На миг свой образ истинный открыла И вознеслась, светла и легкокрыла, К блаженным душам в горний эмпирей, Откуда путь из тьмы юдоли сей В мир, где бы ложь над правдой не царила И зла добро невольно не творило, Указываешь нам рукой своей. Сойди с небес иль воспрети обману Твой облик принимать и разжигать Раздоры на земле многострадальной, Не то наступит день, когда нежданно Она вернется к дикости опять И погрузится в хаос изначальный.На катафалк короля Филиппа II в Севилье
(Хвостатый сонет)
Свидетель бог, я нем; сознаться надо, Здесь всякий онемеет в восхищенье. Чтоб описать сие сооруженье, Я отдал бы червонный без досады. Клянусь Христом, все, что доступно взгляду, Мильоны стоило, и, без сомненья, Севилье в славу, Риму в посрамленье Столетье простоит сия громада. Бьюсь об заклад, монарший дух, пожалуй, Покинул вертограды горней славы, Чтоб насладиться этими местами. Сие услышав, некий бравый малый Вскричал: «Сеньор солдат, клянусь, вы правы Тот подлый лжец, кто будет спорить с вами!» И с этими словами Он шляпу сдвинул, огляделся лихо И прочь пошел. И снова стало тихо.На одного ратника, ставшего христарадником[81]
Один храбрец в солдатском одеянье, Жрец смерти рьяный в сотнях ратных споров, Решил, что выгод нет от них и сборов И прибыльней даянье, чем деянье. Не слыша боле в кошеле бряцанья, Встопорщил ус, дабы явить свой норов, Кружок богатых приглядел сеньоров И, подойдя, воззвал о подаянье: «Подайте бедняку, себе ко благу, Иль поступлю, клянусь рукой вот этой, Как мне велит обычай мой военный». Но тут один из них, схватясь за шпагу, Вскричал: «С кем говорите вы, презренный?! А коль подачки нету, Что вам велит обычай ваш хваленый?» Смельчак ему в ответ: «Уйти без оной!»На одного отшельника
Был славный фехтовальщик Кампусано,[82] Кинжалом, шпагою владел нехудо: В Кастилье много изувечил люда, А сам не получил и легкой раны. Махнул он в Индии — на подвиг бранный: Мнил, будет там ему дублонов груда; Хромым, кривым вернулся он оттуда И без руки — а золота ни грана. Тогда, запасшись четок нитью длинной Дубинкой да силком для мелких тварей, В пустыне сей он порешил укрыться, Живет он со своею Магдалиной, Блажен и счастлив, как святой Гиларий: Нет худа без добра, как говорится.Луперсио Леонардо де Архенсола
* * *
О смерти отблеск, злой кошмар, не надо Терзать меня, изобразив конец, Пришедший единенью двух сердец, — Любовь последней служит мне отрадой. Спеши туда, где дремлет за оградой Тиран, замкнувшись в золотой дворец, Где спит, за свой карман держась, скупец, — Чтоб сон для них был мукой — не усладой, — Пусть первому приснится, что народ Стальные двери в гневе пробивает, Что раб продажный в руки нож берет; Второму — что богатство убывает, Что в дом его проник разбойный сброд; И пусть любовь в блаженстве пребывает.* * *
Я время вызвал (вытянул!) на бой, Когда наперекор его уставу Пустился возрождать былую славу Тех, кто в забвенье брошен был судьбой; Но к этой увлеченности слепой Могла ли спесь не подмешать отраву?! Помстилось мне, что я нашел управу На тьму веков. Как я был горд собой! И тут меня, безумца, полонила Любовь, чтоб ей одной мои чернила Расплескивали радужную лесть. И хоть могло бы время эти узы В прах источить — оно бежит обузы, Из мести оставляя все как есть.К развалинам Сагунто[83]
Уже не стены, нет, — в обличье стен Я вижу призрак нашей горькой славы: Здесь пал Сагунто, город величавый, Презревший смерть и посрамивший тлен. Векам корыстолюбья, лжи, измен, Вот он, пример величия кровавый: Ни лестью, ни угрозами расправы Не пошатнул твердыни Карфаген. О, как бы мне твое, Сагунто, горе С моим сплести — я с веком жил в раздоре, Неколебимость возведя в закон. И если, грозной жертве Ганнибала, Тебе могила памятником стала, Пусть и моим надгробьем станет он.* * *
Промаявшись на пашне допоздна, Спит селянин, а чуть сошла дремота, Он вновь на пашне — новая работа Рассветом для него припасена. Едва уймутся плуг и борона, Черед лозы, ей так нужна забота, А дальше время жатвы, обмолота, И снова пожня требует зерна. Так вот предназначение людское: Трудиться и, мечтой об избавленье Прельщаясь, подвигаться вновь на труд. Вот так жестоким кажется благое, Ведь постоянство мира — в обновленье, И лишь безумцы с ним войну ведут.* * *
Я не страшусь ни злых зыбей, ни шквала, Ни яростных пиратских каравелл, Достанься даже рабство мне в удел — Привыкнешь, и цепей как не бывало. Я не страшусь ни подлого кинжала, Ни — прямо в сердце — ливня скифских стрел, Ни жарких пуль — пусть выстрел прогремел, Спокойно жду я свой комок металла. От смерти нам не спрятаться — она Всех подчинит своей безликой силе, Но разве это нас должно страшить? Лишь тень забвенья смертному страшна, Ведь о забытых и не скажешь: «Были…» А что страшней, чем никогда не быть?!* * *
Едва лишь солнце тысячами копий Пронижет очертания вершин, Торопится на пашню селянин, Кляня безделье, вечный дождь и топи. И вот могучий зверь — таким Европе Предстал, красуясь, грозный властелин[84] — Уже в ярме, и чернозем долин Ждет превращенья в золотые копи. Вернется пахарь к вечеру. Жена Ему навстречу выйдет, и, ликуя, Вокруг него завьется детвора. И будет пир горой и чудо сна Живительного… Кто ж судьбу такую Сменял бы на сумятицу Двора?!* * *
Пойми, Хуан, уж так устроен мир: Нам не уйти от первородной кары, И как там ни ломись твои амбары, Ты будешь наг, беспомощен и сир. Неужто для наследников-проныр Стяжаешь? Как представлю эти свары… Нет, золото бесплоднее Сахары, Иное дело слава — наш кумир! Стяжай-ка лучше славу, но делами, А не своей гробницею надменной, Где только мастерство да матерьял И славятся. А ты — в могильной яме — При чем здесь ты? Ведь мастер вдохновенный Твоих останков нам не изваял!* * *
Отнес октябрь в давильни виноград, И ливни пали с высоты, жестоки, И топит Ибер[85] берега в потоке, Мосты, поля окрестные и сад. Опять Монкайо привлекает взгляд Челом высоким в снежной поволоке, И солнце еле видно на востоке, Когда сошли на землю мгла и хлад. Вновь Аквилон терзает лес и море, Везде — в полях и в гаванях — народ От ветра двери держит на запоре. И Фабьо на пороге Таис льет Ручьи стыдливых слез, пеняя в горе, Что столь бесплоден долгих дней черед.Бартоломе Леонардо де Архенсола
* * *
Открой же мне, о вседержитель правый, В чем промысл твой всевышний заключен, Когда невинный в цепи заточен, А суд творит неправедник лукавый? Кто мощь деснице даровал кровавой, Твой, божий, попирающей закон? Чьей волей справедливый взят в полон И наделен несправедливый славой? Зачем порок гарцует на коне, А добродетель стонет из подвала Под ликованье пьяных голосов? Так мыслил я. Но тут явилась мне Вдруг нимфа и с усмешкою сказала: «Глупец! Земля ли лучший из миров?»* * *
Рукоплесканья, Мауро, не в счет, Когда о славе речь; ее мерило — Та мастерством питаемая сила, Которая к бессмертью нас влечет. Поверь, восторги, почести, почет, Пускай толпа их славой окрестила, В действительности — хищная могила, Где нас (что дважды — смерть) забвенье ждет. Все дело в похвалах. Они преградой Становятся на избранном пути — Так нам ли верить суетной удаче? Ведь как там дифирамбы нас ни радуй, В себе, в себе самих, и не иначе, Величье мы способны обрести.* * *
Пускай по жилам у тебя бежит Кровь легендарных готов,[86] это пламя, И золотыми римскими орлами Ты увенчал громады пирамид. Пускай сандал, какао и нефрит Подносишь Марсу ты в походном храме, И Рим запружен черными рабами, И вся земля у ног твоих лежит, Пускай для смертных стал ты вышним светом И в тысячах восторженных поэм Твоих деяний слышатся перуны, Пускай ты правишь колесом Фортуны, И все ж, коль добродетели при этом Не нажито, остался ты ни с чем.* * *
«Да с чем же ты в законники, Нисето, Протиснулся? Ну полно, не робей, Выкладывай, и кроткий брадобрей Пускай тебе достанется за это». «О, Фабьо, нет, я заявляю вето На бритву, знай же: в бороде моей, Как у Самсона в сонмище кудрей, Весь мой секрет, все знание предмета». «Ах вот как?! О податель бороды, Вознесшийся над муторной рутиной Школярской, о заботливый Меркурий, А ну, займись-ка и моей щетиной И чур, козлам об этой процедуре — Ни-ни, чтоб не заблеяли суды».* * *
«Ты, чьим рукам беспечно доверяла Свой жалкий пульс когорта смельчаков, Похоже, ты и в жалости таков, Что жалость обнаруживает жало. Перо твое куда страшней кинжала, — Да это ж праздник для гробовщиков — Твои рецепты, дюжина листков, Они, ей-богу, стоят арсенала». «Да, да, все так! Я и рожден пресечь Ваш драгоценный род, исчадье тлена, И если с легкой этой вот руки Вас убивают ваши порошки, Я — Ганнибал, который, спрятав меч, Крушит несчастных зельями Галена».[87]* * *
Вот, искупавшись, башенку тюрбана Из тонкого ты строишь полотна, И тотчас ты — заморская княжна, Смиренная избранница султана. Залюбовался я, но тут, Сусана, Ты распустила перевивы льна, И кудри, кудри за волной волна Обрушились на влажный мрамор стана И захлестнули трепетную грудь, Чьи два холма — ландшафт земного рая, Где добродетель кроткая живет. И не пойму — добить или вернуть Меня ты к жизни хочешь, затевая Ревнивый спор бесспорнейших красот.* * *
Какие б там ограды и замки Родня твоя ни выдумала, Ана, Клянусь, я в сердце вражеского стана Проник бы, что мне пули и клинки! Но вот гулянья эти у реки, Да по утрам, да в пелене тумана, Пускай ты в эту стынь уж так румяна, Что вы с Авророй прямо двойники, Нет, нет, уволь, — я знаю: март лукавый Нагие тщится долы и дубравы Отъять у хладной (вроде так?) зимы, Но эти живописные боренья Горячкой, друг мой, дарят и мигренью И громоздят могильные холмы.* * *
Оделся перво-наперво, потом, На хлеб навьючив жареного сала, Поел — уж так оно благоухало, Не то б совсем казалось янтарем. А ну как этот день, когда бритьем Казнюсь, и вот наваха заплясала; Наполируй-ка, брат, мои сусала, — Ну чем не рай, с таким-то стригалем! А уж в обед я растянусь на травке, И тут, как говорится, для поправки Невредно и хлебнуть… Смотри, Гаспар, Не лучше ль вековать простолюдином, Чем во Дворце, на полпути к сединам, Внезапно встретить гибельный удар?* * *
Так ты считаешь, Фабьо, что узор В ладони наши врезавшихся линий Предскажет нам и божьи благостыни, И божий гнев? Ну до каких же пор Мусолить нам плебейский этот вздор, Подобно черни хныча о судьбине, — Пойми, в руках у нас (не в паутине Морщин!) и слава наша, и позор. Пускай ты не король, но ты как дома И во дворце. Да при твоем-то счастье Державные нужны ли чудеса? Ты над собой и так не знаешь власти, И чем тебя ни потчуй небеса, Тебе как будто все уже знакомо.* * *
Творец! Решил до смертного конца Я вечный пост блюсти на свете белом, Раз бедность мне единственным уделом Дана, — судьба несчастного истца. И все же я спросить тебя, Творца, Решил, истаявший душой и телом: Твой голос, внятный неземным пределам, Слабей, чем голосок судьи-лжеца? Что проку в добродетели невинной, Когда судья в тебя с любезной миной Свои запустит когти без стыда? О век, ты раболепнее рабыни! Нет дураков, чтобы судиться ныне, Коль приговор известен до суда!* * *
Вот, Нуньо, двух философов портреты: Один рыдал и хохотал второй Над бренною житейскою игрой, Чьи всюду и во всем видны приметы. Когда бы я решил искать ответы Вдали от этой мудрости и той — Чье мненье мне служило бы звездой? Из двух — какая сторона монеты? Ты, видящий повсюду только горе, Мне говоришь, что в трагедийном хоре Пролить слезу — утеха из утех. Но, зная, что слезами не поможешь Добру и зла вовек не уничтожишь, — Я, не колеблясь, выбираю смех.* * *
Сотри румяна, Лаис, непрестанно Их кислый запах выдает обман. А если въелся в щеки слой румян, Потри их мелом — и сойдут румяна. Хотя природа и в руках тирана И сталь кромсает сад, где сплошь бурьян, Но разве хоть один найдешь изъян В глухом лесу, чья прелесть первозданна? И если Небо коже подарило Правдивых роз румяна и белила, Зачем же пальцем в щеки грим втирать? Красавица моя, приди же в чувство! Для совершенной красоты — искусство Не в том ли, чтоб искусство презирать?Лопе Феликс де Вега Карпио
* * *
Мой преданный, разбитый мой челнок! Гоним враждой и дружбою притворной, Ты уцелел, и я гребу, упорный, Пером и шпагой, а причал далек. Перо истерлось, выщерблен клинок; Но следом за удачей иллюзорной Ты все плывешь — живучий, непокорный — Из гавани надежд в моря тревог. Правь на свою звезду, презрев событья; Лишь дураку в диковину открытье, Что вечных нет ни дружбы, ни вражды. Мы лучшие года с тобой скитались, И ради дней, что нам еще остались, В порт не спеши и не страшись беды.Вавилон[88]
Мой Вавилон, где я увидел свет, Чтоб стать навеки притчей во языцех! Своих и пришлых ты укрыл в гробницах, Гнездо мое, приют в годину бед! Тюрьма уму и сердцу с давних лет, Ты — школа зла, ты — представленье в лицах; Вся спесь твоя — в разряженных тупицах, Элизий, где живому места нет! Оплот невежества, вражды кипенье, Притон, где языки — страшней клинка. Нет — еду прочь, и Турия-река Да смоет эту грязь без промедленья! Я видел ум в шутах у дурака, И гнев спалил мое долготерпенье.К Ночи
О сумасбродка Ночь, гнездо обмана, Ты — пряха снов, ткачиха наваждений, В край зыбких гор, безволных наводнений Ты нас ведешь сквозь облака дурмана. Твой дом — в мозгу безумца, шарлатана, Ты — мать письмен, волшбы, изобретений, Слепая рысь, пестунья преступлений, Ты начеку и в страхе непрестанно. Тьма, ужасы и зло в твоей отчизне; Ты — сказочница, знахарка, больная, Ты — жертва и палач: вот суть твоя. Сплю иль не сплю, плачу тебе полжизни: Днем усыпишь, коль ночь провел без сна я; Когда ж я сплю, не знаю — жив ли я.* * *
Уйти — и не уйти, бежать, остаться, Чужую душу взять взамен своей, Внимать Сирене,[89] словно Одиссей, Пут не порвать, но к ней всем сердцем рваться, Свечой истаять, снова разгораться, И строить на песке, и ждать вестей, Упасть с небес в круг адовых страстей, Не каяться и духом не смиряться, Молиться, верить, впасть с собой в разлад, Терпенье звать труднейшею наукой И временную муку — вечной мукой, Отринуть правду, пить обмана яд — Вот что зовется на земле разлукой: Пожар в душе и вместо жизни — ад.Любовь
Упасть без чувств, очнуться исступленным, И щедрым и скупым, покорным, властным, Живым и мертвым, кротким и опасным, Предателем — и верным, непреклонным, Не знать покоя, с милой разделенным, Стать яростным, счастливым и несчастным, Непостоянным, стойким, хладным, страстным, Пресыщенным, несытым, уязвленным, Отраву звать божественным напитком, Забыть о пользе, гнаться за убытком, Поверить в то, что раем ад бывает, Закрыть глаза на ложь, на заблужденье, Вложить всю жизнь, всю душу в наслажденье И есть любовь: кто сам любил, тот знает.* * *
Я говорю, как прежде говорил, Что дружба — лучший дар для человека; Но нет испанца, римлянина, грека, Кто знал бы совершенной дружбы пыл. Блажен, кто этот перл в себе открыл, Кому дала небесная опека Дар дружбы, нам неведомый от века, — Когда бы я таким счастливцем был! О друге печься, другом величаться — Вот благо! С другом вёдро и ненастье Делить, всю душу другу доверять — Не дай нам бог вовеки повстречаться! Уж лучше никогда не видеть счастья, Чем жить под страхом друга потерять.* * *
Дочь времени, что в веке золотом, Прекрасная, на свете пребывала, Откуда кривда прочь тебя изгнала Под стон несчастных и железа гром, Святая Истина, ты божий дом Украсила, в нем солнцем воссияла, Ты миром в нашей вечной битве стала И лучшим благом на пути людском. О дева непорочная, нагая, Сразишь ли ты измену, алчность, злобу — Ты, солнца божьего живой зрачок? Жизнь совести, глагол земли! Но, что бы Я ни сказал, — почту ль тебя, благая? Не ты ли, Истина, сама есть бог?Сонет на докуку судебных тяжеб
Вам, Тяжбы, бью челом, покуда цел; Темна юрис-премудрость, не взыщите! Когда ж конец судебной волоките, Иль ей дано бессмертие в удел? Попрала кривда столько правых дел! Надежды вы без жалости крушите, И правота нуждается в защите, Коль крючкотвор крючком ее поддел. О горы ябед, реки словоблудья! Рождают вас и губят лишь чернила, Над правом правовед творит расправу. О дева Истина, о Правосудье! Продажностью стяжав худую славу, Ужели ты невинность сохранила?* * *
Ну, Виоланта! Задала урок![90] Не сочинил я сроду ни куплета, А ей — изволь сонет. Сонет же — это Геенна из четырнадцати строк. А, впрочем, я четыре превозмог, Хоть и не мыслил о судьбе поэта… Что ж, если доберусь я до терцета, Катрены не страшны мне, видит бог. Вот я трехстишья отворяю дверь… Вошел. И не споткнулся, право слово! Один терцет кончаю. А теперь, С двенадцатым стихом — черед второго… Считайте строчки! Нет ли где потерь? Четырнадцать всего? Аминь! Готово.* * *
О, как нехорошо любить притворно!.. Но как забыть, отдав ей больше году, Свою любовь? Прогонишь в дверь природу, Она в окно стучится вновь упорно. Отвергнутой заискивать — позорно, И верной быть неверному в угоду, — Необходимо дать себе свободу — Предмет любви избрать другой проворно. Увы! Любить без чувства невозможно, Как ни обманывай себя прилежно, Тому не выжить, что в основе ложно. Нет, лучше ждать настойчиво и нежно, И может быть, от искорки ничтожной Он вспыхнет вновь, костер любви мятежной.Сонет к розе
Сорочку изумрудную невинно Снимаешь ты, переменив наряд, О роза, цвет александрийских гряд, Избранница восточного кармина! То кровь коралла, то огонь рубина, То искры пурпура в тебе горят! Неравных пять лучей твой трон творят Невечный, огненная сердцевина! Благослови творец, в тебя влюбленный, Но, глядя на пунцовые одежды, Мы думаем о перемене дней. Как тратит ветер возраст твой зеленый! Как ненадежны ветхие надежды, Чья участь — опуститься до корней!* * *
О жизнь, твой беглый свет обман для нас! За воздух держимся честолюбиво, В надежде дерзновенной это диво Подольше удержать в последний час! Цветок, который на снегу угас, Лист, на ветру дрожащий сиротливо, — Стремительного времени пожива! Что за надежда глуби наших глаз? Вассал твой смертный — тяжба двух стремлений: Одно — алчба подземного предела, Другое хочет в небесах витать. Суди сама, чей труд благословенней: Землей Земли пребыть стремится тело, Душа желает Небом Неба стать.* * *
О женщина, услада из услад И злейшее из порождений ада, Мужчине ты и радость, и награда, Ты боль его и смертоносный яд. Ты добродетели цветущий сад И аспид, выползающий из сада, За доброту тебя прославить надо, За дьявольскую ложь — отправить в ад. Ты кровью нас и молоком взрастила, Но есть ли в мире своенравней сила? Ты шелест крыл и злобных гарпий прыть. Тобою нежим мы сердца и раним, Тебя бы я сравнил с кровопусканьем, Оно целит, но может и убить.* * *
Верни ягненка мне, пастух чужой, Ведь у тебя и так большое стадо, А он — моя последняя отрада, В разлуке с ним я потерял покой. Не мил ему ошейник золотой, Бубенчик медный — лучше нет наряда; А нужен выкуп — вот тебе награда: Теленок, будет год ему весной. Ты доказательств просишь? Вот приметы: Глазенки с поволокой, как спросонок, Шерсть темная, сплошные завитки. Хозяин — я. Чтобы проверить это, Пусти его — ко мне придет ягненок И будет соль лизать с моей руки.* * *
Терять рассудок, делаться больным, Живым и мертвым стать одновременно, Хмельным и трезвым, кротким и надменным, Скупым и щедрым, лживым и прямым; Все позабыв, жить именем одним, Быть нежным, грубым, яростным, смиренным, Веселым, грустным, скрытным, откровенным, Ревнивым, безучастным, добрым, злым; В обман поверив, истины страшиться, Пить горький яд, приняв его за мед, Несчастья ради счастьем поступиться, Считать блаженством рая тяжкий гнет, — Все это значит: в женщину влюбиться; Кто испытал любовь, меня поймет.* * *
Король — легенда есть — был деревом пленен,[91] А юноша один так с мрамором сдружился, Что близ своей любви он вечно находился, И камню страсть свою вверял всечасно он. Но тот, кто в грубый ствол и в камень был влюблен, Надеждой большею, бесспорно, тот гордился. Мог подойти он к ним, когда мечтой томился, Лобзанием своим был тайно награжден. Увы, о, горе мне! Я о скале тоскую. Зеленый плющ, что той скале родня, Жестокий, дикий плющ разжалобить хочу я. Надежду скорбную в душе своей храня, Что ты, крылатый бог, коль от любви умру я, В такой же камень здесь ты превратишь меня!* * *
Как дым, что в небе вычертил почти Живой узор — и все уж улетело; Как ветер, что везде шныряет смело, А сеть расставишь — пустота в сети; Как пыль, что тучей вьется по пути, Но дождь пошел — и тут же пыль осела; Как тень, что похищает форму тела, Но тела нет — и тени не найти, — Так речи женщин: фальшь в любом ответе; Прельстятся чем-нибудь, — рассудок вон! — Стыд потеряв, забудут все на свете. Непостоянство — имя им. Смешон, Кто верит женщине: лишь дым и ветер, Лишь пыль и тлен — то, в чем уверен он.Поэт оправдывается в том, что пишет в низком стиле[92]
Небесный свете, на высокий лад Я восхвалял тебя былой порою; Но квинта лопнула, и в низком строе Запела лира; я ли виноват? Среди моих бесчисленных утрат Моя же боль смеется надо мною; Я в крайности, и ты тому виною: Ведь ты на милости не тароват! Сколь высоко тебя бы я восславил, Когда бы помогла мне исцелиться Хвала вельмож от нищеты и прозы! Ты все же мне сокровища оставил, Хотя на них и зависть не польстится: Две книги, три холста, четыре розы.На смерть дона Луиса де Гонгоры[93]
Всколебли сон серебряных зыбей, О, Бетис, кипарисами венчанный, На отчий край, издревле осиянный Сенеками, хрустальный плач пролей! Слезами затопи печаль полей, Пой «Одиночеств» переплеск чеканный — Неповторимый свет, кудесник странный, Друг Полифема канул в мир теней. Он смертной частью должен откупиться От Времени; изысканная лира Последний пункт включает в договор. Он мертв и жив: пусть Гонгору для мира Сей погребальный сохранит костер, Где лебедь пал, там феникс возродится.Луис Каррильо де Сотомайор
Об останках дерева, испепеленного Юпитером
Смотри, как ствол могуч и величав, Он горд — сторукий! — молодым цветеньем, И, даже рухнув, он глядит с презреньем На небо, распростертый среди трав. Но Громовержец, гордеца поправ, Уже карает дерево смиреньем: Цветение унижено гниеньем, — Где гордой кроны непокорный нрав? Смотри, что сотворяет луч разящий, Подумай о Юпитеровой власти, О том, как ствол печально наземь лег. Умерь гордыню и для пользы вящей Открой глаза, чтоб на чужом несчастье Усвоить жизни горестный урок!* * *
Ты пал? О да — ведь ты дерзнул, храбрец.[94] Дерзнул ты? Да — и пал, о дерзновенный. Твой прах сокрыт в могиле белопенной, А слава в небо вознесла венец. К чему ты был покорен, о юнец, Судьбе (ошибка горькая!) надменной? Чьи слезы льются? То янтарь бесценный, Дар Гелиад, дань любящих сердец. Решился ты, отвагою младою Подвигнутый, достичь твоей мечты; Огнем объятый, принят был водою. И я, пусть не достигнув высоты, Тебя, бесстрашный, превзошел бедою: Пал, не оплаканный, — и пал, как ты.* * *
Коль в душу заглянув свою, застану Ее во власти призрачной и милой Обмана, что сама она просила, Сочту я легким бремя, легкой рану. Но если не поддамся я обману И душу боль охватит с прежней силой, Взмолюсь Амуру: «Исцели, помилуй! Меня преследуешь ты слишком рьяно». Звезда меня жестокая мытарит: Влача незрячих подозрений бремя, Не вижу благ, провижу лишь мученья. И лишь одно сулит мне исцеленье: Кончину мне в свой срок подарит время, — Но знаю: мне оно и жизнь подарит.* * *
Служа заблудшему, вы заблудились. Прочь, мысли жалкие! С меня довольно Шагов, что завели в тупик невольно, Шагов, что на распутьях заблудились. Что нужно вам и чем вы возгордились, Мои печали вознеся крамольно? Ведь вам подобных покарали больно, Ведь боги на дерзнувших осердились. Даруют жизнь моим досужим думам Сосна могучая, ручей проворный Здесь, в милой сердцу роще сокровенной. Но ветром древо зыблется угрюмым, Но мчит без устали поток покорный: Страшится мощный, слезы льет смиренный.* * *
Боясь хозяйских окриков и кары, Пегас в былом, с терпеньем бедняка Влечет он плуг и сносит боль пинка, Прикрыт рядном, униженный и старый. Он, злато презиравший, в битве ярый, Ослаб и одряхлел, дрожат бока: Ему, смиренному, страда тяжка, Ему, смиренному, тяжки удары. Сопровождал его ретивый бег Лишь огнь его дыханья; долгий век Сломил того, кто первый был меж всеми. Пред правдой, юный, он не трепетал, Но вот последний день его настал: Всему несет конец седое время.О легкости времени и его утрате
О суетное время, ты как птица, Как молодая лань среди полян, Ты дней моих и радостей тиран, Судьбой моей вершит твоя десница! Поймать ли то, что так привольно мчится, Лукаво ускользая, как туман? Приманка дивная, чья суть обман! Мой свет, в конце которого темница! Твой гнев изведав, я смирился разом, Сбирая крохи за косой твоею, — О просветленье, горькое стократ! Я был слепцом, стал Аргусом стоглазым, Я вижу, как ты мчишь — и цепенею! Как таешь ты, утрата из утрат!О приговоре, вынесенном Самсону судьями
На путы в удивленье зрит Самсон, И путы в удивлении: что стало С тем, кто, как нити, их срывал, бывало? Они дрожат, но ведь дрожит и он. Тот, что врата вознес на гордый склон, Гигант, неистощимых сил зерцало, — Перед врагами клонится устало, Коварно взятый хитростью в полон. Судья жестокий входит, обрекая Его глаза на смерть, а он, вникая В обман, с улыбкой молвит палачам: «Коль я не мог увидеть, что Далила[95] Меня, могучего, перехитрила, — Я сам проклятье шлю моим очам».К Бетису, с просьбой помочь в плаванье
О светлый Бетис, весла пощади, Не будь хрустальной кораблю препоной, Остепенись, приют в тиши зеленой Дай путнику и гавань для ладьи. Поющий у Леванта[96] на груди (Он скуп на злато в щедрости хваленой), — Чело укрась коралловой короной И бисерной росою остуди. Но только, царь с трезубцем, сделай милость Не сдерживай ладью; чтобы сравнилась С крылатою стрелою на ветру! Коль ты не внял моей мольбе унылой, Царь седовласый, внемли зову милой: Он и моря смиряет поутру.Вязу, в утешение
Когда-то полноводный Эбро зля, Ты возвышался гордым исполином — Под кружевным зеленым балдахином Ты нежил Бетис и его поля. Но время сокрушило короля, И плачешь ты на берегу пустынном, И горько плачет, разлученный с сыном, Широкий Бетис и его земля. Грозила небу вздыбленная крона, Но и тебя земли сокроет лоно — И в этом так похожи мы с тобой. Тебя оплакивает Бетис ясный, Но кто оплачет мой удел злосчастный? Я даже в этом обойден судьбой.Луис де Гонгора-и-Арготе
* * *
О Кордова! Стобашенный чертог![97] Тебя венчали слава и отвага. Гвадалквивир! Серебряная влага, Закованная в золотой песок. О эти нивы, изобилья рог! О солнце, источающее благо! О родина! Твои перо и шпага Завоевали Запад и Восток. И если здесь, где средь чужого края Течет Хениль, руины омывая, Хотя б на миг забыть тебя я смог, Пусть грех мой тяжко покарает рок: Пускай вовеки не узрю тебя я, Испании торжественный цветок!* * *
О влага светоносного ручья, Бегущего текучим блеском в травы! Там, где в узорчатой тени дубравы Звенит струной серебряной струя, В ней отразилась ты, любовь моя: Рубины губ твоих в снегу оправы… Лик исцеленья — лик моей отравы Стремит родник в безвестные края. Но нет, не медли, ключ! Не расслабляй Тугих поводьев быстрины студеной. Любимый образ до морских пучин Неси неколебимо, и пускай Пред ним замрет коленопреклоненный С трезубцем в длани мрачный властелин.* * *
Я пал к рукам хрустальным, я склонился К ее лилейной шее; я прирос Губами к золоту ее волос, Чей блеск на приисках любви родился; Я слышал: в жемчугах ручей струился И мне признанья сладостные нес. Я обрывал бутоны алых роз С прекрасных уст и терний не страшился. Когда, завистливое солнце, ты, Кладя конец любви моей и счастью, Разящим светом ранило мой взор; За сыном вслед пусть небо с высоты Тебя низринет, если прежней властью Оно располагает до сих пор.* * *
Ныне, пока волос твоих волна Блещет, как золото, лелея блики, Ныне, пока твой образ ясноликий Ярче, чем белых лилий белизна, Шея же так сиятельно стройна, Что перед ней хрусталь — обломок дикий, И грациозность утренней гвоздики Прелестью губ твоих превзойдена, Дай испытать хоть миг блаженства малый Локонам, шее, лбу, глазам твоим, Прежде чем все, что облик твой равняло С искрой хрустальной, с блеском золотым, С лилией белой и с гвоздикой алой, Будет земля и прах, зола и дым.* * *
Как загоревшийся в рассветной рани Бисер на свежем розовом цветке Или узор искусный на куске Шитой жемчужинами алой ткани — Так на щеках пастушки, что румяней Крови, разлитой в белом молоке, Слезы зажглись, когда она в тоске Горестных не смогла сдержать рыданий. Вздох ее каждый нежен и горяч: Милая размягчить способна, плача, Даже холодный каменный утес. Если скалу растрогать может плач, То мое сердце слабое тем паче Тает, как воск, от вздохов и от слез.* * *
Вслед за Авророй алой, золотой Солнечный луч, пройдя врата Востока, Поднял короной пламенной в высоком Небе ее венок, из роз витой. Птицы, заголосив наперебой, Встретили свет, струящийся потоком, Кто — веселясь, кто — с горестным упреком, В чистом просторе, в зелени густой. Но, в этот миг явившись, Леонора, Силу даря ветрам и душу скалам, Песнь завела, и перестал мой слух Птицам внимать, затмилась мглой Аврора — Или вокруг природа мертвой стала, Или же я, прельщенный, слеп и глух.* * *
Выйди, о Солнце, вспыхни, расчерти Пестрым узором вздыбленную гору, В небе сменяя белую Аврору, Шествуй по алому ее пути; Верное нраву своему, впусти, В утренний мир Фавония и Флору,[98] Радостные лучи даря простору, Зыбь серебри и ниву золоти; Чтоб, если Флерида придет, цветами Дол разукрашен был, но если зря Жду я и не придет она, то пламя Не расточай, в вершинах гор горя, Вслед за Авророй не спеши, лучами Луг золотя и воды серебря.* * *
Нимфа, решив венком украсить лоб, В сумерках на лугу цветы срывала; Сколько стеблей рука ее ломала, Столько же вырастало из-под стоп. Ветер, прильнув к ее кудрям, разгреб (Словно неся над рощей опахало В час, когда луч зари забрезжил ало) Локонов нежных золотистый сноп. Но, осенив главу прелестной деве, Вспыхнул венок редчайшей красоты, Золото отграничивший от снега. Пусть в нем горят не звезды, а цветы, Ярче, клянусь, он, чем у той, что, девять Воспламенив огней, взирает с неба.* * *
Желая жажду утолить, едок Разбил кувшин, поторопясь немножко; Сменил коня на клячу-хромоножку Среди пути измученный ездок; Идальго, в муках натянув сапог, Схватил другой — и оторвал застежку; В расчетах хитроумных дав оплошку, Снес короля и взял вальта игрок; Кто прогорел, красотку ублажая; Кто сник у генуэзца в кабале;[99] Кто мерзнет без одежды в дождь и мрак; Кто взял слугу — обжору и лентяя… Не перечесть несчастных на земле, Но всех несчастней — заключивший брак.Сонет, написанный по случаю тяжкого недуга[100]
Я был оплакан Тормеса волною, И мертвенный меня осилил сон, И трижды рыжекудрый Аполлон Прогнал коней дорогою дневною. Случилось так, что силой неземною, Как Лазарь, был я к жизни возвращен; Я — Ласарильо нынешних времен, И взысканы мы с ним судьбой одною. И я рожден близ Тормеса, в Кастилье, И мой хозяин слеп, лукав, жесток: Сожжен в огне страстей и втоптан в пыль я. О, если б я, как Ласарильо, мог За злость слепца и за свое бессилье Сквитаться — и пуститься наутек!О тщете человеческой
На бабочку взгляни: отринув страх, В огонь, на чей порыв пенять не вправе И Феникс, — к ослепительной забаве Она летит на трепетных крылах. Не ведая раскаянья, впотьмах Спешит она в слепом своем тщеславье На свет, влекущий к огненной расправе Порханье, обреченное на прах. Уже оплывший столп ей стал могилой, Чья толща — лепта пчелки легкокрылой: Чем ярче цель, тем жарче западня!.. А ты и старческому тленью рада, Чем дым в глаза — не пламя, но пощада, И этот дым — коварнее огня.* * *
Вы, сестры отрока, что презрел страх,[101] В долине По укрывшие на кручах Колонны стройных ног — в стволах могучих И косы золотистые — в листах, Вы зрели хлопья пепла, братний прах Среди обломков и пламен летучих, И знак его вины на дымных тучах, Огнем запечатленный в небесах, — Велите мне мой помысел оставить: Не мне такою колесницей править, Иль солнце равнодушной красоты Меня обрушит в пустоту надменно, И над обломками моей мечты Сомкнется безнадежность, словно пена.* * *
В Неаполь правит путь сеньор мой граф;[102] Сеньор мой герцог путь направил к галлам. Дорожка скатертью; утешусь малым: Нехитрой снедью, запахом приправ. Ни Музу, ни себя не запродав, — Мне ль подражать придворным подлипалам! — В трактире андалузском захудалом Укроюсь с ней от суетных забав. Десяток книг — не робкого десятка И не смиренных цензорской рукой, — Досуг — и не беда, что нет достатка. Химеры не томят меня тоской, И лишь одно мне дорого и сладко — Души спасенье и ее покой.* * *
Не столь смятенно обойти утес Спешит корабль на пасмурном рассвете, Не столь поспешно из-под тесной сети На дерево пичугу страх вознес, Не столь — о Нимфа! — тот, кто вышел бос, Стремглав бежит, забыв про все на свете, От луга, что в зеленом разноцветье Ему змею гремучую поднес, — Чем я, Любовь, от взбалмошной шалуньи, От дивных кос и глаз ее желая Спастись, стопам препоручив испуг, Бегу от той, кого воспел я втуне. Пускай с тобой пребудут, Нимфа злая, Утес, златая сеть, веселый луг!* * *
Вальядолид. Застава. Суматоха![103] К досмотру все: от шляпы до штиблет. Ту опись я храню, как амулет: От дона Дьего снова жду подвоха. Поосмотревшись, не сдержал я вздоха: Придворных — тьма. Двора же нет как нет. Обедня бедным — завтрак и обед. Аскетом стал последний выпивоха. Нашел я тут любезности в загоне; Любовь без веры и без дураков: Ее залогом — звонкая монета… Чего здесь нет, в испанском Вавилоне, Где как в аптеке — пропасть ярлыков И этикеток, но не этикета!Дону Франсиско де Кеведо[104]
Всяк обнаружит ваше кривостопье, Столкнувшись с вами, наш Анакреон: У ваших скорбных стоп веселый звон — Элегии на сладеньком сиропе. Не тень ли вы теренцианца Лопе: К опоркам комедийным шпоры он Приладил и, бесовский взяв разгон, Загнал коня крылатого в галопе. В глаза не видя греческого, — в спешке Толмачить вы взялись, горды собой, Очки надев, как шоры, для насмешки. Наставьте их на мой глазок слепой, Который сыплет грецкие орешки, Из коих вы раскусите любой.Даме с ослепительно белой кожей, одетой в зеленое
Ни стройный лебедь, в кружевные всплески Одевший гладь озерного стекла И влагу отряхающий с крыла Под золотистым солнцем в перелеске, Ни снег, в листве соткавший арабески, Ни лилия, что стебель в мирт вплела, Ни сливки на траве, ни зеркала Алмазных граней в изумрудном блеске Не могут состязаться в белизне С белейшей Ледой, что, зеленой тканью Окутав дивный стан, явилась мне; Смирило пламень мой ее дыханье, А красота умножила вдвойне Зеленый глянец рощ и рек сиянье.* * *
В озерах, в небе и в ущельях гор[105] Зверь, рыба или птица — тварь любая, Заслышав плач мой, внемлет, сострадая, Беде, меня томящей с давних пор, И даже если горе и укор Вверяю я ветрам, когда сухая Жара придет, всю живность увлекая В тень рощ, в глубины рек, в прохладу нор, То всякий зверь, в окрестности живущий, Бредет за мной, дыханье затая, Оставив лоно вод, луга и кущи, Как будто эти слезы лил не я, А сам Орфей — настолько всемогущи Его печаль и нега, боль моя.* * *
Зовущих уст, которых слаще нет,[106] Из влаги, обрамленной жемчугами, Пьянящей, как нектар, что за пирами Юпитеру подносит Ганимед, Страшитесь, если мил вам белый свет: Точно змея, меж яркими цветами Таится между алыми губами Любовь, чей яд — источник многих бед. Огонь пурпурных роз, благоуханье Их бисерной росы, что будто пала С сосцов самой Авроры, — все обман; Не розы это — яблоки Тантала, Они нам дарят, распалив желанье, Лишь горький яд, лишь тягостный дурман.* * *
Величественные слоны — вельможи,[107] Прожорливые волки — богачи, Гербы и позлащенные ключи У тех, что так с лакейским сбродом схожи. Полки девиц — ни кожи и ни рожи, Отряды вдов в нарядах из парчи, Военные, священники, врачи, Судейские — от них спаси нас, боже! — Кареты о восьмерке жеребцов (Считая и ведомых и ведущих), Тьмы завидущих глаз, рук загребущих И веющее с четырех концов Ужасное зловонье… Вот столица. Желаю вам успеха в ней добиться!* * *
В могилы сирые и в мавзолеи Вникай, мой взор, превозмогая страх, — Туда, где времени секирный взмах Вмиг уравнял монарха и плебея. Нарушь покой гробницы, не жалея Останки, догоревшие впотьмах; Они давно сотлели в стылый прах: Увы! бальзам — напрасная затея. Обрушься в бездну, пламенем объят, Где стонут души в адской круговерти, Скрипят тиски и жертвы голосят; Проникни в пекло сквозь огонь и чад: Лишь в смерти избавление от смерти, И только адом истребляют ад!Надпись на могилу Доменико Греко[108]
Сей дивный — из порфира — гробовой Затвор сокрыл в суровом царстве теней Кисть нежную, от чьих прикосновений Холст наливался силою живой. Сколь ни прославлен трубною Молвой, А все ж достоин вящей славы гений, Чье имя блещет с мраморных ступеней. Почти его и путь продолжи свой. Почиет Грек. Он завещал Природе Искусство, а Искусству труд, Ириде Палитру, тень Морфею, Фебу свет. Сколь склеп ни мал, — рыданий многоводье Он пьет, даруя вечной панихиде Куренье древа савского в ответ.* * *
Доверив кудри ветру, у ствола Густого лавра Филис в дреме сладкой На миг забылась; золотистой складкой Волна волос ей плечи оплела; И алая гвоздика расцвела В устах, сомкнув их тишиною краткой, Чьей свежести вкусить решил украдкой Сатир, обвивший плющ вокруг чела, Но не успел — нежданно появилась Пчела, и в нежный, пурпурный цветок Пронзительное жало погрузилось; Был посрамлен бесстыдный полубог: Прекрасная пастушка пробудилась И он настичь ее уже не смог.Тщеславная роза
Вчера родившись, завтра ты умрешь, Не ведая сегодня, в миг расцвета, В наряд свой алый пышно разодета, Что на свою погибель ты цветешь. Ты красоты своей познаешь ложь, В ней — твоего злосчастия примета: Твоей кичливой пышностью задета, Уж чья-то алчность точит острый нож… Увы, тебя недрогнувшей рукой Без промедленья срежут, чтоб гордиться Тобой, лишенной жизни и души… Не расцветай: палач так близко твой, Чтоб жизнь продлить — не торопись родиться, И жизнью смерть ускорить не спеши.Франсиско де Кеведо-и-Вильегас
Вспомни ничтожность прожитого и призрачность пережитого
Эй, жизнь моя!.. Молчание ответом? Вот все, что я оставил за собою, А краткий век мой, загнанный судьбою, Исчез из глаз, и путь его неведом. Ушли года, ушло здоровье следом, И проглядел их я за суетою. И жизни нет — одно пережитое, Как нет и сил сопротивляться бедам. Вчера прошло, а Завтра не настало, Мое Сегодня мимолетней взгляда, И то, чем был я, быть уже устало. Вчера, сегодня, завтра… Та триада, Что из пеленок саван мне сметала В текущей очередности распада.Вникай, как все возвещает о смерти
Стою у стен отеческого края — Они сдались, былые бастионы; В осаде лет, устав от обороны, Не устояла доблесть вековая. Иду в поля — жжет солнце, допивая Ручей, снегами вешними вспоенный, И глушит заросль пастбищные склоны, Печальным овцам небо закрывая. Вхожу в мой дом, пристанище невзгоды, Навстречу разоренью и разладу; Гляжу, как посох сгорбили скитанья, Как затупили шпагу мою годы, — И не на чем остановиться взгляду, Не увидав печати умиранья.Другу, который, покинув двор юношей, вошел в преклонный возраст
От юности до старости, дыша Чистейшим воздухом, в лачуге милой Ты жил, где колыбелью и могилой — Кров из соломы, пол из камыша. В тиши спокойной солнце не спеша Тебя целебной наделяет силой, Здесь день просторней темноты постылой, И прозревает в немоте душа. Ты не по консулам считаешь годы,[109] Твой календарь — весенних пашен всходы, От веку благостны твои края. Здесь воздержанье служит к пользе поздней, И если нет наград, то нет и козней, И чем скромней, тем ярче жизнь твоя.Источая скорбные жалобы, влюбленный предостерегает Лиси, что ее раскаяние будет напрасным, когда ее красота увянет
О смерти я давно судьбу молю: Жизнь, Лисида, мне смерти тяжелее. Любимым не был я, но не жалею, Что без надежд любил я и люблю. Сирена, я твой нежный взгляд ловлю: Чем бездна сумрачней, тем он светлее… Меня напрасно привязали к рее[110] — Ты напоешь погибель кораблю. Погибну я. Но каждое мгновенье Твою весну пятнает поступь дней. Когда же не оставит разрушенье И памяти от красоты твоей, Тогда былое возвратить цветенье Ничья любовь уже не сможет ей.К портрету, на котором лицу некой дамы сопутствует изображение смерти
Чем ты отличен от кривых зеркал, Коль вот она — незримая граница, Где взор, едва от жизни отстранится, Встречает смерти мстительный бокал. Кто эту ткань зловещую соткал Из блеска розовеющей денницы, Пока, в зеркальной заключив темнице, Ты на затменье солнце обрекал? И если я, решаясь на измену, По-дружески смотрю на оба лика, Мне боль твердит, что в этом правды нет. А если жизни я поддамся плену, Как ни пленяйся — налицо улика, На этот свет бросающая свет.Любовь неизменна за чертой смерти
Последний мрак, прозренья знаменуя, Под веками сомкнется смертной мглою; Пробьет мой час и, встреченный хвалою, Отпустит душу, пленницу земную. Но и черту последнюю минуя, Здесь отпылав, туда возьму былое, И прежний жар, не тронутый золою, Преодолеет реку ледяную. И та душа, что бог обрек неволе, Та кровь, что полыхала в каждой вене, Тот разум, что железом жег каленым, Утратят жизнь, но не утратят боли, Покинут мир, но не найдут забвенья, И прахом стану — прахом, но влюбленным.Наслаждаясь уединением и учеными занятиями, автор сочинил сей сонет
Здесь у меня собранье небольшое Ученых книг, покой и тишина; Моим очам усопших речь внятна, Я с мертвыми беседую душою. И мудрость их вседневно правит мною, Пусть не всегда ясна — всегда нужна; Их стройный хор, не ведающий сна, Сон жизни полнит музыкой немою. И если смерть великих унесла, Их от обиды мстительной забвенья Печать — о, славный дон Хосеф![111] — спасла. Необратимые бегут мгновенья, Но всех прекрасней те из их числа, Что отданы трудам блаженным чтенья.На смерть графа Вильямедианы
Оплачь его, изгнанница Астрея,[112] Он был недолгим гостем в жизни дольной; Перо и речь он отдал мысли вольной И, слову жизнь даря, играл своею. Он лебедь был, и, с ветром спорить смея, Дивил он песнью дерзкой и крамольной. Не ведал он, что смерть тропой окольной Шла с каждым звуком песни все быстрее. Записывай же злое назиданье Своею кровью, что на ране стынет, Тебя навек безмолвью обрекая: «Кто сердце выскажет, тот сердце вынет. Где речь — вина, немотство — наказанье. Я не молчал — и молча умираю».О том, что происходило в его время, Кеведо рассказывает в следующих сонетах
I
Четыре сотни грандов круглым счетом; Титулоносцев — тысяча и двести (Что за беда, коль кто-то не на месте!) И брыжей[113] миллион, подобных сотам; Нет счету скрягам, подлипалам, мотам, Побольше их, чем сладких слов у лести; Тьмы стряпчих, чья стряпня — погибель чести, Беда и горе — вдовам и сиротам; Иезуиты, что пролезут в щелку, — Все дело в лицемерье и в расчете; И месть и ненависть — за речью лживой; Немало ведомств, в коих мало толку; Честь не в чести, но почести в почете; Вот образ века, точный и правдивый.II
Подмешивали мне в вино чернила, Как паутиной, оплели наветом: Не ведал я покоя, но при этом Меня ни злость, ни зависть не томила. По всей Испании меня носило, Я был замаран мерзостным памфлетом, Вся мразь меня старалась сжить со свету, Вся сволочь мне расправою грозила. О кабачок, храм истины! О кубки! О вольное житье отпетой братьи! О резвые дешевые голубки! Пусть состоит при королях и знати, Кто в честолюбье ищет благодати, А мне милее выпивка и юбки!Обреченный страдать без отдыха и срока
Еще зимы с весной не кончен спор: То град, то снег летит из тучи черной На лес и луг, но их апрель упорный Уже в зеленый облачил убор. Из берегов стремится на простор Река, став по-апрельски непокорной, И, галькой рот набив, ручей проворный Ведет с веселым ветром разговор. Спор завершен прощальным снегопадом: По-зимнему снег на вершинах бел, Миндаль весенним хвастает нарядом… И лишь в душе моей не запестрел Цветами луг, любовным выбит градом, А лес от молний ревности сгорел.Определение любви
Студеный пламень, раскаленный лед, Боль, что, терзая, дарит наслажденье, Явь горькая и радость сновиденья, Беспечность, что полным-полна забот; Предательство, что верностью слывет, Средь уличной толпы уединенье, Усталость в краткий миг отдохновенья, И права, и бесправия оплот; Сама себе и воля, и темница — Покончить в силах с ней лишь смерть одна, Недуг, что от лекарств не исцелится, — Любовь, едва рожденная, дружна С небытием. В ней рай и ад таится, И враг самой себе во всем она.О любви к монашенке
Мне о Тантале вспомнился рассказ: Как он стоит, наказанный богами, По грудь в воде, и ветвь, дразня плодами, Качается пред ним у самых глаз. Захочет пить — уйдет вода тотчас, Захочет есть — плод не достать руками; Средь изобилья стонет он веками, От жажды и от голода томясь. В сей притче видишь ты, как, окруженный Богатствами, терзается скупой, — Мне ж видится в монашенку влюбленный: Вблизи плода стоит он над водой, Но, голодом и жаждой изнуренный, Лишь иногда дотронется рукой.О человеке бедном и женатом
Правдивейшее это показанье О муже, что достоин быть святым; Пускай спознался он с грешком каким, Ведь жизнь его — сплошное покаянье. К жене прикован, нищетой томим, Он тещины изведал истязанья, Был шурин у него — как наказанье И сын — характером не херувим. Меж кузницей и мастерской каретной Он обитал; всегда был жизни рад, Хоть не видал в глаза монетки медной; Нуждою да несчастьями богат, Жил мучеником: был женатый, бедный; Содеял чудо: умер не рогат.Познай гнет времени и бытия, мытаря смерти
Как таешь ты в горсти, как без усилья Выскальзываешь, время золотое! Как мерно, смерть, бесшумною пятою Стираешь ты земное изобилье! Бездушная, ты все пускаешь пылью, Что юность возвела над пустотою, — И в сердце отзываются тщетою Последней тьмы невидимые крылья. О смертный наш ярем! О злая участь! Ни дня не жить, не выплатив оброка, Взымаемого смертью самовластно! И, ради смерти и живя и мучась, Под пыткой постигать, как одинока, Как беззащитна жизнь и как прекрасна…Покой и довольство неимущего предпочтительней зыбкого великолепия сильных мира сего
Пусть стол в заморских яствах у вельможи. Мне с кружкой кислого вина не хуже. Уж лучше пояс затянуть потуже, Чем маяться без сна на пышном ложе. Храни на мне мой плащ дырявый, боже, — Прикроет он от зноя и от стужи. Я не завишу от портных; к тому же И вору мало выгоды в рогоже. Мне трубочка моя подруги ближе; Чтоб влезть повыше, я не гнусь пониже, Не жертвую покоем ради блажи. Похмельная отрыжка лучше дрожи. Пускай деляга лезет вон из кожи, Мне — вакховы дары, ему — куртажи.Пусть кончится жестокая война, которую ведет со мной любовь
Огнем и кровью, злое наважденье, Со мной ведешь ты беспощадный бой, И не могу, растоптанный тобой, Я дух перевести ни на мгновенье. Но пусть я обречен на пораженье, Тебе-то что за честь в победе той? Живу и так лишь милостью чужой Я в путах собственного униженья. Ослабь невыносимость скорбных уз, Дай мне вздохнуть, мой неприятель ярый, Мучитель заблудившихся сердец; Потом умножь моих страданий груз — И, нанеся последние удары, Со мною ты покончишь наконец.Предостережение Испании в том, что, став владычицей многих, возбудит она зависть и ненависть многих врагов, а потому ей всегда надо быть готовой оборонить себя[114]
Гот, житель горных ущелий, сумел Объединить вместе графства Кастилий; К быстрому Бетису, к водам Хениля Вышли наследники доблестных дел. Ты получила Наварру в удел; Брак с Арагоном (брак равных по силе) Дал тебе земли обеих Сицилий; Гордым Миланом твой меч овладел. Ты Португалию дланью железной Держишь. Приводит Колумб-мореход Готов к пределам земли неизвестной. Но берегись, чтоб враги в свой черед, Соединившись, не взяли совместно Все, что как дань тебе каждый дает.Причины падения Римской империи
Фавор, продажная удача — боги, Вся власть у злата, что с добром в раздоре, Кощун и неуч — в жреческом уборе, Безумье и стяжанье — в белой тоге; Достойный плахи — в княжеском чертоге, И в утеснении — людское горе, Науки, ум — в опале и позоре, В чести спесивец, пустозвон убогий. Вот знаки, что согласно предвещают Твое падение, о Рим надменный, И лавры, что чело твое венчают, Гласят о славе, но таят измены И гром карающий не отвращают — Зовут его на капища и стены.Продажному судье[115]
Вникать в закон — занятие пустое, Им торговать привык ты с давних пор; В статьях — статьи дохода ищет взор: Мил не Ясон тебе — руно златое. Божественное право и людское Толкуешь истине наперекор И купленный выводишь приговор Еще горячей от монет рукою. Тебя не тронут нищета и глад; За мзду содеешь с кодексами чудо: Из них не правду извлечешь, а клад. Коль ты таков, то выбрать бы не худо: Или умой ты руки, как Пилат, Иль удавись мошною, как Иуда.Река, переполненная слезами влюбленного, да не останется равнодушной к его скорби
О Тахо! Ты своих могучих вод Сдержи ликующее нетерпенье, Пока ищу (но отыщу ль?) забвенье Хоть в чем-нибудь я от твоих невзгод… Умерь свою веселость! Видишь, тот, Кто весел был всегда, теперь в смятенье, Уносит в океан твое теченье Потоки слез, что безутешный льет. Ты берега свои усей камнями, И пусть твой звонкий смех замрет, река, Пока неудержимо слезы сами Бегут из скорбных глаз моих, пока Твое теченье полнится слезами И топит в них себя моя тоска.Риму, погребенному под своими руинами
Ты в Рим идешь, надеясь Рим найти, — Нет, пилигрим, ты не найдешь святыни: Лишь трупы стен ты созерцаешь ныне, Лишь прах и пепел у тебя в горсти. Не по холмам, где жизнь бурлит, идти Приходится — по горестной пустыне: От гордых храмов золотой латыни Одни обломки на твоем пути. Но Тибр струится, город огибая, Как встарь: и мы потоки слез струим: Нас бренность жизни мучит роковая. Где вечное твое величье, Рим?! Все — преходяще. Лишь волна речная Скользит, и плеск ее невозмутим.Равное преступление почитается неравным, если не равны совершившие оное
Коль Клиту суждена за преступленье Петля на шею, а Менандру — трон, Кто будет, о Юпитер, устрашен Пред молнией, что стынет в промедленье? Когда б ты дубом был от сотворенья, Не высшим судией, чей свят закон, Твой ствол кричал бы, кривдой возмущен, И, мраморный, ты б вопиял о мщенье. За малое злодейство — строгий суд, Но за великое — на колеснице Преступника в венце превознесут. Клит хижину украл, и он — в темнице; Менандр украл страну, но люди чтут Хищенье — подвигом его десницы.Реплика Кеведо дону Луису де Гонгоре
Сатиры ваши, трубные стишата, Дошли, бедовый кордовец, до нас — Друзья мне принесли в недобрый час Творений ваших кипы в два охвата. Наверное, у вас ума палата, Раз их коснулось столько рук и глаз, Хоть и замечу, что грязца как раз Вся стерлась, не достигнув адресата. Я не решился их читать, страшась Не остроты, — нужна была отвага, Чтобы руками трогать вашу грязь. Но стерлась грязь, и я почту за благо, Когда мою чувствительную часть Сия обслужит чистая бумага.Рассуждение о том, что имеющий многие богатства беден
Не накоплять, но щедрою рукою Дарить — вот, Казимир, к богатству путь; Пусть шелком Тира[116] ты оденешь грудь — Нет места в ней душевному покою. Ты господин, но вижу пред собою Всю твоего существованья суть: Ты раб своих забот, не обессудь, В плену томимый собственной алчбою. Ты душу златом мудрости укрась, Не попусти ее стать гробом злата, Поскольку злато перед богом — грязь. Не верь богатству — слово неба свято, Вот правда: обделен на свете сем Бедняк во многом, а скупец — во всем.* * *
Стихий разбушевавшихся игра Испании рассерженное море На берег бросила, и сдался в споре Песок, что был защитою вчера. Чудовищная вздыбилась гора И рухнула; померкло солнце в горе. И даже не помыслить об отпоре, Когда тебя трясет, как школяра. Какой мне был преподнесен урок! Сколь страшную сулила мне могилу Судьба! От гибели на волосок Я был, казалось. Но всему свой срок, И снова, слава богу, приютила Забвенья гавань утлый мой челнок.* * *
Те, кто в погоне за своим товаром[117] Способны поднести лишь мадригал, В ответ не удостоятся похвал, Неблагодарность заслужив недаром. Пускай зудят — мол, обрекаешь карам Ты, как Далила, — что бы там ни врал Ударившийся в выспренность бахвал, Ты без даров не соблазнишься даром. Все те, кто не из Марсова колена, Тебя к любви лишь золотом склонят, А нет его, — как ни склоняй колена, Бессилен шквал стихов и серенад, Пером не завоюешь Телемсена: Амур — дитя и лишь подаркам рад.Педро Кальдерон де ла Барка
* * *
Рассыпанные по небу светила Над темной ночью поражают взгляд И блеск заемный отдают назад, Которым солнце их, уйдя, снабдило. На вид цветы ночные так же хилы, Нам кажется, не дольше дня стоят Горящие цветы садовых гряд, А звезды выживают ночь насилу. И наши судьбы — зданья без опор. От звезд зависит наша жизнь и рост. На солнечном восходе и заходе Основано передвиженье звезд. На что же нам, затерянным в природе, Надеяться, заброшенным в простор?Сонет
Казались сада гордостью цветы, Когда рассвету утром были рады, А вечером с упреком и досадой Встречали наступленье темноты. Недолговечность этой пестроты, Не дольше мига восхищавшей взгляды, Запомнить человеку было надо, Чтоб отрезвить его средь суеты. Чуть эти розы расцвести успели, — Смотри, как опустились лепестки! Они нашли могилу в колыбели. Того не видят люди-чудаки, Что сроки жизни их заметны еле, Следы веков, как миги, коротки.* * *
Взглянув на кудри, коим ночь дала, Рассыпавшимся по плечам, свободу, Вздохнула Синтия и вновь в угоду Тирану дню их строго прибрала. Но царственность ее волос, чела Обязана не холе, не уходу. Краса, что составляет их природу, Отнюдь не ухищреньями мила. Лик, чистый, как снега вершины горной, Где отразился заревом восток, Не возвеличить модою притворной. Прикрасы хитроумные не впрок Той красоте, природной и бесспорной, Что расцветает в свой заветный срок.* * *
Ты видишь розу? Чистой и прекрасной На свет царица рождена. Но, облаченная в шипы, она Защиту будет в них искать напрасно. И ты… Не тщись загадкой быть неясной, Но уступи, поняв: скудеть должна Краса, что строгостью ограждена И все же неизбежному подвластна. Когда б желаньем розе не гореть, Пришлось бы ей, не испытав боренья За цвет и аромат свой, умереть. Смири свою красу — она в смиренье Затмит свой строгий облик; и приветь, Приветь расцвет своей поры весенней.Хуан де Тассис-и-Перальта, граф де Вильямедиана
О красоте всего сущего
Прекрасное — луч трепетный рассвета, Рожденный в бесконечной высоте; Запечатлевшись в чистой красоте, В нем Солнца вечного живет примета. Не передать достойно диво это Искуснейшею кистью на холсте И не найти слова благие те, В которых может быть оно воспето. Диана ль посребрила ночь луной, Квадрига ль Феба полдень позлатила, — Во храм преобразился мир земной, И чудеса, что в нем любовь явила, Под силу описать любви одной: Мир — холст ее, слова ее — светила.* * *
Пришел, увидел, был я побежден: Как все, я заплатил свой долг пред вами В единый миг опутан был цепями И без вины на муки осужден. Непостижим вердикт, но утвержден. Надежд лишенный, тешусь я мечтами, Живу одним — своим служеньем даме И знаю, что умру не награжден. Тот, для кого надежда — преступленье, Не может согрешить и в помышленье, — Я эту истину познал вполне. Но, коль, несчастия виной сочли вы, Конечно же, виновен несчастливый, И оправдаться не под силу мне.* * *
Пройдя чреду и радостей, и мук По воле времени, любви, судьбины; Надежды все утратя до единой И цепи, ваш подарок, сбросив с рук; Постигнув суетность всего вокруг — И вы, и целый мир тому причиной; Остыв душою — в этом вы повинны — И честолюбья излечив недуг; Вкусив покой, хотя его смутила Угроза, жизнь мрачившая мою И страх в нее вселившая постылый, Я обольщеньям веры не даю: Скрестил я руки перед грозной силой, Впервые в жизни побежден в бою.* * *
Он, в белоперый облечен убор, Брат нежный нимф из рощи густолистой, Стремится вдаль кометой серебристой, Стихии пенной бороздя простор. И пусть сатир вперяет острый взор: Не аквилон вздувает парус чистый, А тщится белизна красой лучистой Сравняться с вечными венцами гор. Так пусть же, сил божественных орудье, Гладь озера он белой режет грудью И снега затмевает торжество! Все воды эти обрекут забвенью: Мои мольбы, мое уединенье, Мой вздох завистливый — и песнь его.Описание Кордовы[118]
Скорей подворья, нежели дворцы; Кривые улочки, бездомных рати; Здесь женщины — как жеребцы по стати, И слабосильней женщин — жеребцы. Богач епископ, нищие купцы; В речах уколы — кстати и некстати, Тьмы санбенито, мало благодати; Дрянь на виду, в загоне храбрецы; Прокисший и поблекший Вакх в таверне; Церера хилая; Гермес — прохвост; Тончайший Гонгора средь глупой черни Да провалившийся навеки мост — Вот Кордова; кто к сей прибавит скверне, Пускай присочинит к сонету хвост.* * *
Молчанье, в склепе я твоем укрою Перо слепое, хриплый голос мой, Чтоб скорбь не обратилась в звук пустой, В знак на песке, что будет смыт волною. Ищу в забвенье смерти и покоя, От опыта, не от годов седой; Не перед разумом — перед судьбой Склонюсь, дань времени платя — собою. Желанья и надежды укрощу И в ясности, откинув обольщенья, Жизнь в тесные пределы помещу. Чтобы меня не одолело мщенье Того, чьих ков я избежать хочу В спасительном уединенье.* * *
Хоть аспид злой к твоей груди приник И, в одоленье доблести напрасной, Из мук твоих творит свой яд опасный, В исток отравы обратив родник, Лови спокойствия блаженный миг Под ширью неба безмятежно ясной, Не внемля реву бури своевластной, Не видя времени свирепый лик. Так, не склоняясь пред нещадным роком, Лишь зрителями будем мы с тобой В театре мира суетно жестоком. Там недостойный вознесен судьбой. Следит Фортуна равнодушным оком, Кто победит, кто проиграет бой.* * *
Сколь малым временем обязан тот, Кто родился на свет в наш век бесплодный, Когда обман и зло царят свободно, Гонима доблесть, низости почет; Когда ничьей души не увлечет Пыл бескорыстья, доброты природной, И должен быть доволен неугодный Обидами и чередой невзгод. Ловушки честолюбья, месть, измены; Одно лишь правда — правый страх того, Кто, чуя гибель, прочь спешит с арены. Лесть ярая попрала естество, Попрала честь, лжи даровав презренной Всю власть закона, славу, торжество.* * *
Двойная мука мне в удел дана: Когда молчу, я не в ладу с собою, А между тем признание любое — И новый риск, и старая вина. Вот и сейчас угроза мне слышна: Сулит мне кары враг, грозит бедою; Он знает: права нет за правотою, За все я обречен платить сполна. Мне суждено Фортуной своенравной Принять в молчанье смерть и злой навет, Коль право немо, истина бесправна. Таков подлейший времени завет: Сойди с ума, умри в борьбе неравной, Но воли ни перу, ни слову нет.Против придворных соблазнов честолюбия
Не обольстят меня надежды впредь, Не огорчат, рассеясь, обольщенья: Мне дорого дались года ученья, Смирив себя, сумел я присмиреть. Зато смогу без горечи смотреть На перемены все и превращенья, Как должное приму вражду и мщенье, Прощу обиды, чтобы их презреть. Не обманусь, как все, тщетой придворной, Где выгод ищут в низости позорной, Чтоб, проиграв, изведать стыд вдвойне. Обычай общий изменить посмею И буду горд, коль сохранить сумею То, что бесценно, хоть и не в цене.ПОРТУГАЛИЯ
Франсиско Са де Миранда
Шлю поздно я стихи — и жду суда:[119] Корят меня, что порчу, правя рьяно, Но, Государь, страшусь самообмана: К своим строкам пристрастны мы всегда. Любому дорог плод его труда, И вот отделываю неустанно. Гляжу-то в оба, да в глазах туманно, Иной же крив, а зренье — хоть куда. Сражаюсь я со словом, полон пыла, — В том взять пример с Горация посмел, В ином тягаться с ним мне не под силу. Из множества боев кто выйдет цел? Одним одно, другим другое мило: Разноголосье мнений — наш удел.* * *
Та вера, истова, чиста кристально, Та воля, что, себя не опороча, Познала испытанье всех жесточе В огне, меж молотом и наковальней; Та преданность, с которой беспечально Сносить все беды мне хватало мочи, Грудь полнившая жаром, влагой — очи, — Вина моя поднесь и изначально — Что принесли они мне? Лишь прозванье; И мне клеймом на лоб словцо пустое Легло — и жизнь клеймом мне омрачило. Во власть молвы я отдан суетою. Коль нет душе погибшей состраданья, Мне лишь прощенье душу б излечило!* * *
В жестоких муках, в боли неустанной, Ни в чем не находящей облегченья, Смерть призывать — а смерть все длит мученья, Смеется свысока над старой раной. И убеждаться, мучась: разум, данный От неба нам, во власти помраченья И нет для сердца воли, нет леченья — Как тут не счесть, что все — лишь ветр обманный. Я знаю очи, что всему виною, И взглядом я ищу их взгляд ответный, Чтоб оправдать себя их чистым светом. О сны мои, возвышенны и тщетны! Кто вас не видит, смейся надо мною. Но я один вас вижу в мире этом.* * *
Надежду, что напрасно муки множит, Отбросил я — зачем пустые сны Вернулись вновь? Зачем, превращены В ничто, до дна испиты, ум тревожат? Ужель слепой мальчишка превозможет Все доводы, что здравы и ясны? Иль он моей не видит седины? О жизни срок, растрачен ты, не прожит! Душа, обман познавшая стократ, Ужели не опомнится? Ужели В расчет не примет зноя, мук, утрат? Так странники, что в бурях уцелели, Клянут моря — и с берега кричат: — Эй, корабельщики! Доставьте к цели!* * *
Не греет Солнце, птицам невозможно Распеться над холодными полями, И пробужден я шумными дождями, Нет, не от сна — от дум, что так тревожны. О мир вещей, изменчивый и ложный, Кто вверится тебе, пленившись снами? Уходит время, дни идут за днями, Как корабли под ветром, ненадежны. Я помню: все цвело здесь, пели птицы; И помню: шли дожди, смолкало пенье; Мой цвет волос успел перемениться. Сейчас все немо здесь, все скрыто тенью, Но знаю я: природа обновится, А мне уже не ведать обновленья.Антонио Феррейра
* * *
Когда мой дух, ночной объятый тьмой, Заметил в вас то пламя неземное, Что жжет меня, вмиг небо надо мною Зажглось путеводительной звездой, И вмиг тиран жестокий и слепой Оружье бросил, ощутив, что к бою Готов я, ибо с вашею душою Отныне слился радостной душой. И вот я иго бросил, торжествуя, Тяжелые сорвал оковы с рук, «Свобода!» — победительно вскричал. Теперь в огне так радостно горю я, Теперь любовь ответную познал, И мне теперь не страшен грозный лук.* * *
О тело, жалкий прах, источник боли, Мой тяжкий гнет и мрачный мой острог, Когда ж, скрипя, откроется замок, Когда я вырвусь из твоей неволи? Когда душа из горестной юдоли Взовьется птицей и настанет срок Со счастьем, что похитил злобный рок, На небесах не расставаться боле? Недолговечный, временный сосуд Моей души — вот что ты значишь, тело, И только ею на земле ты живо. Что тебя держит, как в темнице, тут? Ужель ты свет увидеть не сумело? Не слышишь к жизни подлинной призыва?* * *
Мгновения, часы и дни считаю, Что до свидания остались мне; В цветах, деревьях и речной волне — Везде разлуки письмена читаю. В тропинках полевых и птичьей стае, В стадах, полях, туманной пелене, В дыханье ветра, солнце и луне — Во всем живет моя тоска немая. Печаль тем горше, чем она нежней, И неизменно предо мной виденье Той, в чьих руках ключи судьбы моей. Но слезы, что струятся все сильней, И в шторм душе несут успокоенье: Штиль вспоминать без них еще больней.* * *
Отшельник, ты тернистою и трудной Идешь стезей, которая ведет Из ночи к дню, где, сбросив смерти гнет, Жив человек, где свет струится чудный. Так вырви же из спячки беспробудной Мой дух, и пусть с тобою он взойдет На небеса, хотя, слепой, как крот, О них забыть хотел я безрассудно. Доселе жизнь моя была пустой, Унылой, скудной; вся — сплошные пени, Вся — вожделенья тщетные и страх, Но наконец мой дух обрел покой. Оплаканы и преданы забвенью Дни, что прошел я без пути, впотьмах.Луис де Камоэнс
* * *
Порой Судьба надежду мне дает, Что скоро я утешен буду ею, И я при этой мысли так пьянею, Что все во мне и пляшет, и поет. Я слышу музы радостный полет, Но тут любовь, боясь, что я прозрею, Придумывает новую затею И муку вновь, как слепоту, мне шлет. Вы, горькой обреченные заботе! Рабы любви, когда вы здесь прочтете Все тайное, что вверил я стихам, — Рассказ правдивый о печальной были, — О, если вы подобно мне любили, Как много скажет эта книжка вам!* * *
Луга, леса в вечерней тишине, Ручей, едва журчащий на просторе, Иль тот, что в разрушительном напоре Шумит, катясь по горной крутизне; Граниты скал в лазурной вышине, Согласные в своем нестройном хоре, — Пока меня в оковах держит горе, Отрады вы не принесете мне. Другим стою перед тобой, природа, Не радуясь ни краскам небосвода, Ни весело струящейся воде. Мне чудится пора совсем иная, Я слезы лью, о прошлом вспоминая, И здесь печалюсь так же, как везде.* * *
Заря во взгляде вашем зажжена: Он проникает в сердце, зренье раня Увидеть вас и не ослепнуть — дани Законной вам не уплатить сполна. — Пусть это справедливая цена, Она мне недоступна, — как в дурмане Любя вас, я дошел до низшей грани, И жизнь, и душу вычерпав до дна. Я нищ: вам отданы мои богатства, Мечты, надежды, помыслы, тревоги, Но этот крест я с радостью влачу. Поэтому корить вас — святотатство; Я все отдать вам счастлив, и в итоге Тем выше долг, чем больше я плачу.* * *
Мучительно за годом год идет, А дней уже осталось так немного. Но чем их меньше, тем длинней дорога, Тем больше в сердце горестных забот. Мой дар слабеет, и который год Не знает радость моего порога. И только опыт, все измерив строго, Порой обман грозящий узнает. Гонюсь за счастьем — вот оно! попалось! Увы! рванулось и опять умчалось. Я падаю, встаю, пропал и след… Бегу опять, зову — оно далеко. Вперяю в даль отчаянное око… Оно исчезло, и надежды нет.* * *
Неужто в вас влюбиться — тяжкий грех? Кто чист тогда? И для кого пощада Возможна? Ведь любое сердце радо Вам сдаться в плен, — что ж, вы казните всех? Нет в целом мире сладостней утех, Чем жить мечтой о вас, а будет надо Принять за это муку — пытки ада Душа преодолеет без помех. И если впрямь заслуживает дыбы, Кто любит вас безмерно, беззаветно, Терзайте, не жалея, всех подряд. Сеньора, вы с меня начать могли бы, Ведь всем давно понятно и заметно, Какой огромной страстью я объят.* * *
Уж если я сумел перешагнуть Через потоки слез — по воле рока Плывущий вдаль, я этого потока И этой бездны не страшусь ничуть. Был час прощанья, и томилась грудь От тысяч уз, разорванных жестоко, Когда, за миг до истеченья срока, Река любви мне преградила путь. Но мной и эта пройдена граница. Я шел, подобно тем, кто, прям и тверд, Идет на плаху, зная: казнь свершится. Пускай любые образы и лица Приемлет смерть — страдальцу, что простерт У ног ее, чего еще страшиться?* * *
Любовь казалась сладкой мне когда-то; В плену надежд несбыточных и грез, Не видя притаившихся угроз, Душа цвела, желаньями объята. Все фальшь и ложь, чему я верил свято! Надежды пролились ручьями слез! К вершинам счастья рок меня вознес, Но тем скорей и горестней расплата. Кто высших благ и радостей достиг, Неисцелимой скорби предается, Когда судьба ему изменит вмиг; Но как бы ни был яростен и дик Ее удар, спокойным остается, Кто видел мир и ко всему привык.* * *
Меняются и время, и мечты; Меняются, как время, представленья. Изменчивы под солнцем все явленья, И мир всечасно видишь новым ты. Во всем и всюду новые черты, Но для надежды нет осуществленья. От счастья остаются сожаленья, От горя — только чувство пустоты. Уйдет зима, уйдут снега и холод, И мир весной, как прежде, станет молод, Но есть закон: все обратится в тлен. Само веселье слез не уничтожит, И страшно то, что час пробьет, быть может, Когда не станет в мире перемен.* * *
Амур, на мне истратив весь свой пыл, Все мерзости испробовав и трюки, Решил меня отдать Фортуне в руки, Когда запас мучительств истощил, А та, стараясь из последних сил Затмить его в палаческой науке, Наслала на меня такие муки, Каких никто вовеки не сносил. Преподавая горькие уроки Всем, кто подвластен этим двум тиранам Я составляю свод моих мытарств И боль мою переливаю в строки, Поскольку не нашел иных лекарств, Чтобы доставить облегченье ранам.* * *
Ты, римлянка, чиста и совершенна,[120] Что не могла бесчестья перенесть И над собою учинила месть, Хотя была невольною измена, Сумела поступиться жизнью бренной, Сумела ей надежду предпочесть, Что добродетель, и любовь, и честь Пребудут в памяти людской нетленно. Себе она чужда, ей свет не мил: Чтоб кровью смыть насилие тирана, Она вонзает в сердце сталь клинка. О редкая отвага, редкий пыл: Смертельную себе наносит рану, Чтоб обрести бессмертье на века.* * *
Дожди с небес, потоки с гор мутят Речную глубь. В волнах не стало брода, В лесах не стало лиственного свода, Лишь ветры оголтелые свистят. Сменил весну и лето зимний хлад, Все унеслось в круговращенье года. Сама на грани хаоса природа, И умертвил гармонию разлад. Лишь время точно свой блюдет порядок. А мир… а в мире столько неполадок, Как будто нас отверг всевышний сам. Все ясное, обычное, простое, Все спуталось, и рухнули устои. А жизни нет. Жизнь только снится нам.* * *
Я жил, не зная ни тоски, ни слез, И думал в сладостном самообмане, Что больше стоит благо упований, Чем счастье тех, которым все далось. И с этой мыслью славно мне жилось, Я в ней блаженство обретал заране, Не ведал едких зависти страданий, Покою своему не знал угроз. Но неугодно злой Фортуне было, Чтоб жизнь моя всегда текла ясна, Она меня и этих благ лишила. Мне только память о былом дана, Чтоб смертною тоской меня томила О счастии несбывшегося сна.* * *
Да сгинет день, в который я рожден! Пусть не вернется в мир, а коль вернется, Пусть даже Время в страхе содрогнется, Пусть на небе потушит Солнце он. Пусть ночи тьма завесит небосклон, Чудовищ сонм из ада изрыгнется, Пусть кровь дождем из туч гремящих льется И сын отца убьет, поправ закон. Пусть люди плачут и вопят, не зная, Крепка ль еще под ними грудь земная, Не рушится ли мир в бездонной мгле. Не плачьте, люди, мир не заблудился, Но в этот день несчастнейший родился Из всех, кто был несчастен на земле.* * *
Хоть время день за днем, за часом час Свой суд вершит над славой и над властью, Кладет конец уму, богатству, счастью, Оплакивая жертвы всякий раз, Хоть бег его поспешный многих спас, Попавших в руки злу и безучастью, Оно бессильно перед этой страстью — Моя судьба зависит лишь от вас. Мгновенья мчатся: день сменился ночью, Веселый смех растаял в горьком плаче, Гроза прошла — и вспыхнул небосклон. Но каменному сердцу, средоточью Моей надежды, скорби и удачи, Неведом вечный времени закон.* * *
Недаром я страшился, о сеньора, Что ваше недоверье — знак дурной: Вы медлили, ища любви иной, А я любил, и ждал я приговора. Надежда, сгинь — мне не сдержать укора: Другой вам мил, покончено со мной. Мой дар был тайным, вверен вам одной, Неверность ваша явной станет скоро. Жизнь, чувство, душу — вот что вверил я Вам, госпожа всевластная моя, А вы, мне посулив любовь вначале, Сменили обещанья на отказ. Как жить, не знаю, но наступит час — И обо мне вы вспомните в печали.* * *
Сражений гром, кровавая вражда, Пожары, дым, ползущий по просторам, Смертельный свист ядра, перед которым Не устоит и гордая гряда, — Мне никакая не страшна беда, Я все опасности считаю вздором. Благословенный вашим чудным взором Я стал неуязвимым навсегда. В горнило схватки бросившись с размаха, Я гибну от железа и огня, Но, словно Феникс, восстаю из праха. В любом бою спокойствие храня, Я лишь перед тобой дрожу от страха, Амур, жестоко ранящий меня.* * *
Отважны будьте, вы, что влюблены! Решимость льстит Фортуне сумасбродной; А малодушье — склеп, где ум свободный И счастье навсегда погребены. Смельчак достиг небесной вышины, Обласканный звездою путеводной; Трус, расточивший жизнь в мечте бесплодной, Разбитыми свои увидел сны. Будь каждый сам судьбы своей радетель; К победе нужно прорубать дороги; Без храбрости удача терпит крах. Быть дерзким — не порок, а добродетель; Позор тому, кто, встретив вас, в итоге Оставит вас, не пересилив страх.* * *
Влекомы ветром, сквозь морские дали Несите, волны, боль мою туда, Где скрылась та, что, скрывшись без следа, Не может утолить моей печали. Скажите ей, что дни пустыми стали, Но все полней, скажите ей, беда, Скажите: горе будет жить всегда, Но я, скажите, выживу едва ли. Скажите ей: смертелен мой недуг, Скажите: радость скрылась без возврата, Скажите: вы — причина этих мук. Скажите ей, сколь велика утрата, Но, ей скажите, все утратив вдруг, Любовь, скажите ей, храню я свято.Франсиско Родригес Лобо
* * *
Чего ищу? Чего желаю страстно? Любовью иль пустой мечтой томим? Что я утратил? Кем я был любим? Кто враг мой? С кем сражаюсь ежечасно? Желанье, расточенное напрасно, Ушло. И радость вслед ушла за ним… В любви узрел я мир, что был незрим, С тех пор я слеп: мне темен полдень ясный. Но вновь мне, то ль во сне, то ль наяву, Упрямое дарит воображенье Лик красоты неведомой, иной… И пусть она — химера, тень, виденье, — Из-за нее в мученьях я живу, И смерть лишь разлучит ее со мной.* * *
Прекрасный Тежо,[121] сколь же разнородный Мы оба в жизни обретали вид: Мы вместе исцелялись от обид, Тоской обуревались безысходной. Твое лицо менял избыток водный, Высокий берег временем размыт. И я меняюсь: жизнь меня стремит Тропою то утешной, то невзгодной. О, мы вкусили злобы и тщеты. Вкусим ли счастья? Кто залечит рану, Несходства сгладит нашего черты? Теперь весна везде, куда ни гляну: Опять таким, как прежде, станешь ты, Но я таким, как был, уже не стану.Франсиско Мануэл де Мело
Страх и покорность
Решив, что страсть моя — в преддверье краха, Томлюсь, не зная, что мне предпочесть: Покинуть вас? Терпеть обман и лесть? Нет, лучше узел разрубить с размаха! Но вновь тревожусь: вдруг любовь из праха Восстанет, надо мной свершая месть? Всегда для чувства в сердце место есть, И, значит, вечно повод есть для страха. Брожу вслепую, покорясь судьбе — Ведь все равно в любви, в надежде, в смерти, Куда ни ступишь, всюду западня. Понятен лучше вам, чем сам себе, Я в ваши руки жизнь отдам, поверьте, Но прежде научите жить меня.Аполог о смерти
Смерть, злобствуя, среди людей блуждала. Увы, подобны зрячие слепцу! Старик, столкнувшись с ней лицом к лицу, Не видел хищного ее оскала. А юноше, тому и дела мало До будущего: невдомек глупцу, Что неизбежно жизнь придет к концу… И всех их Смерть перстом пересчитала. А после выстрелила наугад, Глаза зажмурив. «До чего нелепы Твои злодейства!» — вслед я крикнул ей. «Таков закон, — взглянув на миг назад, Ответила она, — раз люди слепы, Вслепую поражаю я людей».Жизнь — комедия
Чур, чур меня! Смотрю вокруг с опаской: Невежество, Умом назвавшись, вмиг Болтливый распустило свой язык — И люди сбиты с толку вздорной сказкой; Распутство, спрятавшееся под маской, Мир принимать за Нравственность привык; Слывет Радушьем Злоба, черный лик Слегка подкрасившая белой краской. С троянцами, поверившими в ложь, Расправились наперсники Паллады:[122] Наивность не доводит до добра. Жизнь — как театр, в ней правды ни на грош! Пусть простаки обманываться рады, Но мне давно ясна ее игра.Смутный мир
Есть множество нехоженных дорог, Чтобы достичь желанного порога; И есть одна, известная дорога, Протоптанная тысячами ног. Пойти по ней? Но горестный урок Людских невзгод предупреждает строго: Неторных троп опаснее намного Путь, что на вид удобен и широк. Я полон страха — каждую минуту Подстерегает странника беда. Быть может, не искать пути к приюту? Земной стезей не выйдешь никуда: Мир смутен и рождает в сердце смуту. Лишь в небе — путеводная звезда.ФРАНЦИЯ
Луиза Лабе
* * *
Пока в глазах есть слезы, изливаться И час с тобой, ушедший, изживать, А голос мой силен одолевать Рыданья, стон, хоть еле раздаваться; Пока рукой я в силах струн касаться, Все, чем ты мил, хоть скромно, воспевать, Пока душа тебя лишь познавать Единственно желала б научаться, — На миг еще не склонна умереть. Но чуть пойму, что взор мой стал слабеть, Что голос глух, а бег перстов как сонный; Что разум мой теснит земная сень И в нем нет сил явить восторг влюбленной, Смерть умолю затмить мой белый день.* * *
Еще целуй меня, целуй и не жалей, Прошу тебя, целуй и страстно и влюбленно. Прошу тебя, целуй еще сильней, до стона, В ответ целую я нежней и горячей. А, ты устал? В моих объятиях сумей Вновь целоваться так, как я — воспламененно. Целуясь без конца, без отдыха, бессонно, Мы наслаждаемся, не замечая дней. Две жизни прежние объединив в одну, Мы сохраним навек надежду и весну. Жить без страстей, Амур, без муки не могу я. Когда спокойна жизнь, душа моя больна. Но стынет кровь, когда я ласки лишена, И без безумств любви засохну я, тоскуя.* * *
Согласно всем законам бытия Душа уходит, покидая тело. И я мертва, и я зову несмело: Где ты, душа любимая моя? Когда б ты знала, как страдаю я И как от горьких слез окаменела, Душа моя, ты, верно б, не посмела Жестокой пытке подвергать меня. Охвачена любовною мечтою, Страшусь, мой друг, свидания с тобою. Молю тебя, не хмурь тогда бровей, Не мучь меня гордыней непреклонной И красотою одари своей, Жестокой прежде, ныне благосклонной.* * *
Лишь только мной овладевает сон И жажду я вкусить покой желанный, Мучительные оживают раны: К тебе мой дух печальный устремлен. Огнем любовным дух мой опален, Я вся во власти сладкого дурмана… Меня рыданья душат непрестанно, И в сердце тяжкий подавляю стон. О день, молю тебя, не приходи! Пусть этот сон всю жизнь мне будет сниться, Его вторженьем грубым не тревожь. И если нет надежды впереди И вдаль умчалась счастья колесница, Пошли мне, ночь, свою святую ложь.* * *
Что нас пленяет: ласковые руки? Надменная осанка, цвет волос? Иль бедность, нежность взгляда, скупость слез? И кто виновник нестерпимой муки? Кто выразит в стихах всю боль разлуки? Чье пение с тоской переплелось? В чьем сердце больше теплоты нашлось? Чья лютня чище извлекает звуки? Я не могу сказать наверняка, Пока Амура властная рука Меня ведет, но вижу тем яснее, Что все, чем наш подлунный мир богат, И все, о чем искусства говорят, Не сделает мою любовь сильнее.Пьер де Ронсар
ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К КАССАНДРЕ»
* * *
О воздух, ветры, небеса и горы, Овраг и дол, леса в листве резной, В брегах витых ручей с водой шальной, О вырубки, густеющие боры, Пещеры мшистые, пустые норы, О лист лозы и колос наливной, Луга, цветы, Гастин,[123] Луар родной, Мои стихи, в которых грусть укора! Прощаясь, болью полон через край, Очам не в силах я сказать «прощай» — Тем, что избыть мне не дают печали. Я б вас просил, дол, ветры и трава, Брега, ручьи, овраг и дерева, Цветы, чтоб вы привет мой передали!* * *
Кто хочет зреть, как нас Амур сражает, Как он насел, как мне пощады нет, Как в сердце огнь за льдом бросает вслед; Как дань с моей он чести собирает, Кто хочет зреть, как юность поспешает Вотще настичь беды своей предмет, — Прочтет меня, — и след он узрит бед, Что с богом мне богиня посылает. Узнаете: Амур лишен ума. Он — сладкий груз, прекрасная тюрьма, Питает нас он ветра дуновеньем! Узнаете: безумен до конца, Кто взял себе в вожатые слепца И к мальчику пришел с повиновеньем.* * *
Гранитный пик над горной крутизной, Глухих лесов гремучие громады, В горах поток, прорвавший все преграды, Провал, страшащий темной глубиной. Своим безлюдьем, мертвой тишиной Смиряют в сердце, алчущем прохлады, Любовный жар, палящий без пощады Мою весну, цветущий возраст мой. И освежен, упав на мох зеленый, Беру портрет, на сердце утаенный, Бесценный дар, где кисти волшебством, О Денизо,[124] сумей явить свой гений, Всех чувств родник, источник всех томлений, Весь мир восторгов в образе живом.* * *
Любя, кляну, дерзаю, но не смею, Из пламени преображаюсь в лед, Бегу назад, едва пройдя вперед, И наслаждаюсь мукою своею. Одно лишь горе бережно лелею, Спешу во тьму, как только свет блеснет, Насилья враг, терплю безмерный гнет, Гоню любовь — и сам иду за нею. Стремлюсь туда, где больше есть преград. Любя свободу, больше плену рад, Окончив путь, спешу начать сначала, Как Прометей, в страданьях жизнь влачу, И все же невозможного хочу, — Такой мне Парка жребий начертала.* * *
«В твоих кудрях нежданный снег блеснет, В немного зим твой горький путь замкнется, От мук твоих надежда отвернется, На жизнь твою безмерный ляжет гнет; Ты не уйдешь от гибельных тенет, Моя любовь тебе не улыбнется, В ответ на стон твой сердце не забьется, Твои стихи потомок осмеет. Простишься ты с воздушными дворцами, Во гроб сойдешь, ославленный глупцами, Не тронув суд небесный и земной». Так предсказала нимфа[125] мне мой жребий, И молния, свидетельствуя в небе, Пророчеством блеснула надо мной.* * *
До той поры, как в мир любовь пришла И первый свет из хаоса явила, — Несозданны, кишели в нем светила Без облика, без формы, без числа. Так, праздная, темна и тяжела, Во мне душа безликая бродила, Но вот любовь мне сердце охватила, Его лучами глаз твоих зажгла. Очищенный, приблизясь к совершенству, Дремавший дух доступен стал блаженству, И он в любви живую силу пьет, Он сладостным томится притяженьем, Душа моя, узнав любви полет, Наполнилась и жизнью и движеньем.* * *
Я бы хотел, блистательно желтея, Златым дождем разлиться и сверкнуть, Кассандре вдруг низринуться на грудь, Когда крыла раскинет сон над нею. Я бы хотел, быком огромным млея, Красавицу коварно умыкнуть, Когда ее на пышный луг свернуть Уговорят фиалки и лилеи. Я бы хотел Нарциссом хоть на миг В Кассандру, превращенную в родник, Пылая от блаженства, погрузиться, Я бы хотел, чтоб этот миг ночной Не уходил, чтоб вечно свет дневной Небесную не золотил границу.* * *
Скорей погаснет в небе звездный хор И станет море каменной пустыней, Скорей не будет солнца в тверди синей, Не озарит луна земной простор; Скорей падут громады снежных гор, Мир обратится в хаос форм и линий, Чем назову я рыжую богиней Иль к синеокой преклоню свой взор. Я карих глаз живым огнем пылаю, Я серых глаз и видеть не желаю, Я враг смертельный золотых кудрей. Я и в гробу, холодный и безгласный, Не позабуду этот блеск прекрасный Двух карих глаз, двух солнц души моей.* * *
Когда, как хмель, что, ветку обнимая, Скользит, влюбленный, вьется сквозь листы, Я погружаюсь в листья и цветы, Рукой обвив букет душистый мая, Когда тревог томительных не зная, Ищу друзей, веселья, суеты, — В тебе разгадка, мне сияешь ты, Ты предо мной, мечта моя живая! Меня уносит к небу твой полет, Но дивный образ тенью промелькнет, Обманутая радость улетает, И, отсверкав, бежишь ты в пустоту… Так молния сгорает на лету, Так облако в дыханье бури тает.* * *
Всю боль, что я терплю в недуге потаенном,[126] Стрелой любви пронзен, о Феб, изведал ты. Когда в наш мир сойдя с лазурной высоты, У Ксанфа тихого грустил пред Илионом. Ты звуки льстивых струн вверял речным затонам, Зачаровал и лес, и воды, и цветы, Одной не победил надменной красоты, Не преклонил ее сердечной муки стоном. Но, видя скорбь твою, бледнел лесной цветок, Вскипал от слез твоих взволнованный поток, И в пенье птиц была твоей любви истома. Так этот бор грустит, когда брожу без сна, Так вторит имени желанному волна, Когда я жалуюсь Луару у Вандома.* * *
Когда ты, встав от сна богиней благосклонной, Одета лишь волос туникой золотой, То пышно их завьёшь, то, взбив шиньон густой, Распустишь до колен волною нестесненной — О, как подобна ты другой, пеннорожденной,[127] Когда волну волос то заплетя косой, То распуская вновь, любуясь их красой, Она плывет меж нимф по влаге побежденной! Какая смертная тебя б затмить могла Осанкой, поступью, иль красотой чела, Иль томным блеском глаз, иль даром нежной речи, Какой из нимф речных или лесных дриад Дана и сладость губ, и этот влажный взгляд, И золото волос, окутавшее плечи!* * *
Когда прекрасные глаза твои в изгнанье Мне повелят уйти — погибнуть в цвете дней, И Парка уведет меня в страну теней, Где Леты сладостной услышу я дыханье, — Пещеры и луга, вам шлю мое посланье, Вам, рощи темные родной страны моей: Примите хладный прах под сень своих ветвей, Меж вас найти приют — одно таю желанье. И, может быть, сюда придет поэт иной, И, сам влюбленный, здесь узнает жребий мой И врежет в клен слова — печали дар мгновенный: «Певец вандомских рощ здесь жил и погребен, Отвергнутый, любил, страдал и умер он Из-за жестоких глаз красавицы надменной».* * *
В твоих объятьях даже смерть желанна! Что честь и слава, что мне целый свет, Когда моим томлениям в ответ Душа твоя заговорит нежданно. Пускай в разгроме вражеского стана Герой, что Марсу бранный дал обет, Своею грудью, алчущей побед, Клинков испанских ищет неустанно, Но, робкому, пусть рок назначит мне Сто лет бесславной жизни в тишине И смерть в твоих объятиях, Кассандра, — И я клянусь: иль разум мой погас, Иль этот жребий стоит даже вас, Мощь Цезаря и слава Александра.* * *
Сотри, мой паж, безжалостной рукою Эмаль весны, украсившую сад, Весь дом осыпь, разлей в нем аромат Цветов и трав, расцветших над рекою. Дай лиру мне! Я струны так настрою, Чтоб обессилить тот незримый яд, Которым сжег меня единый взгляд, Неразделимо властвующий мною. Чернил, бумаги — весь давай запас! На ста листках, нетленных, как алмаз, Запечатлеть хочу мои томленья, И то, что в сердце молча я таю — Мою тоску, немую скорбь мою, — Грядущие разделят поколенья.* * *
Нет, ни камея, золотом одета, Ни лютни звон, ни лебедя полет, Ни лилия, что над ручьем цветет, Ни прелесть роз в живом ручье рассвета, Ни ласковый зефир весны и лета, Ни шум весла, ни пенье светлых вод, Ни резвых нимф веселый хоровод, Ни роща в дни весеннего рассвета, Ни блеск пиров, ни ярой битвы гром, Ни темный лес, ни грот, поросший мхом, Ни горы в час вечернего молчанья, Ни все, что дышит и цветет вокруг, Не радует души, как этот Луг, Где вянут без надежд мои желанья.ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К МАРИ»
* * *
Когда я начинал, Тиар, мне говорили, Что человек простой меня и не поймет, Что слишком темен я. Теперь наоборот: Я стал уж слишком прост, явившись в новом стиле. Вот ты учен, Тиар, в бессмертье утвердили Тебя стихи твои. А что ж мои спасет? Ты знаешь все, скажи: какой придумать ход, Чтоб наконец они всем вкусам угодили? Когда мой стиль высок, он, видишь, скучен, стар; На низкий перейду — кричат, что груб Ронсар, — Изменчивый Протей[128] мне в руки не дается. Как заманить в капкан, в силки завлечь его? А ты в ответ, Тиар: «Не слушай никого И смейся, друг, над тем, кто над тобой смеется».* * *
Меж тем как ты живешь на древнем Палатине[129] И внемлешь говору латинских вод, мой друг, И видя лишь одно латинское вокруг, Забыл родной язык для чопорной латыни, Анжуйской девушке служу я в прежнем чине, Блаженствую в кольце ее прекрасных рук, То нежно с ней бранюсь, то зацелую вдруг, И по пословице: не мудр, но счастлив ныне, Ты подмигнешь Маньи, читая мой сонет: «Ронсар еще влюблен! Ведь это просто чудо!» Да, мой Белле, влюблен, и счастья выше нет. Любовь напастью звать я не могу покуда. А если и напасть — попасть любви во власть, Всю жизнь готов терпеть подобную напасть.* * *
Мари-ленивица! Пора вставать с постели! Вам жаворонок спел напев веселый свой, И над шиповником, обрызганным росой, Влюбленный соловей исходит в нежной трели. Живей! Расцвел жасмин, и маки заблестели. Не налюбуетесь душистой резедой! Так вот зачем цветы кропили вы водой, Скорее напоить их под вечер хотели! Как заклинали вы вчера глаза свои Проснуться ранее, чем я приду за вами, И все ж покоитесь в беспечном забытьи, — Сон любит девушек, он не в ладу с часами! Сто раз глаза и грудь вам буду целовать, Чтоб вовремя вперед учились вы вставать.* * *
Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую![130] Налей нам, Коридон, кипящую струю. Я буду чествовать красавицу мою, Кассандру иль Мари — не все ль равно какую? Но девять раз, друзья, поднимем круговую, — По буквам имени я девять кубков пью. А ты, Белло, прославь причудницу твою, За юную Мадлен прольем струю живую. Неси на стол цветы, что ты нарвал в саду, Фиалки, лилии, пионы, резеду, — Пусть каждый для себя венок душистый свяжет. Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь. Быть может, завтра нам уж не собраться вновь, Сегодня мы живем, а завтра — кто предскажет?* * *
Любовь — волшебница. Я мог бы целый год С моей возлюбленной болтать, не умолкая, Про все свои любви — и с кем и кто такая, Рассказывал бы ей все ночи напролет. Но вот приходит гость, и я уже не тот, И мысль уже не та, и речь совсем другая. То слово путая, то фразу обрывая, Коснеет мой язык, а там совсем замрет. Но гость ушел, и вновь, исполнясь жаром новым, Острю, шучу, смеюсь, легко владею словом, Для сердца нахожу любви живой язык. Спешу ей рассказать одно, другое, третье… И, просиди мы с ней хоть целое столетье, Нам, право, было б жаль расстаться хоть на миг.* * *
Так ненавистны мне деревни, города, Что ужасаюсь, след увидев человечий. Бродя один в лесу, я избегаю встречи; Люблю заглохший край, где жизни нет следа. И зверь неистовый, и светлая вода, Деревья, скалы, ключ, журчащий недалече, Со мной беседуют и внемлют грустной речи: Они одни поймут печаль мою всегда. За мыслью мысль встает, угрюмая, больная, И, в стоне горестном всю душу изливая, Вздыхаю без конца, и так мой мрачен вид, Что если кто-нибудь нечаянно в дуброве Посмотрит на мои нахмуренные брови, Меня он кличкою урода наградит.* * *
Да женщина ли вы? Ужель вы так жестоки, Что гоните любовь? Все радуются ей. Взгляните вы на птиц, хотя б на голубей, А воробьи, скворцы, а галки, а сороки? Заря спешит вставать пораньше на востоке, Чтобы для игр и ласк был каждый день длинней. И повилика льнет к орешнику нежней, И о любви твердят леса, поля, потоки. Пастушка песнь поет, крутя веретено, И тоже о любви. Пастух влюблен давно, И он запел в ответ. Все любит, все смеется, Все тянется к любви и жаждет ласки вновь. Так сердце есть у вас? Неужто не сдается И так упорствует и гонит прочь любовь?* * *
Мари, перевернув рассудок бедный мой, Меня, свободного, в раба вы превратили, И отвернулся я от песен в важном стиле, Который «низкое» обходит стороной. Но если бы рукой скользил я в час ночной По вашим прелестям — по ножкам, по груди ли, Вы этим бы мою утрату возместили, Меня не мучило б отвергнутое мной. Да, я попал в беду, а вам и горя мало, Что Муза у меня бескрылой, низкой стала И в ужасе теперь французы от нее. Что я в смятении, хоть вас люблю, как прежде, Что, видя холод ваш, изверился в надежде И ваше торжество — падение мое.* * *
Ты плачешь, песнь моя? Таков судьбы запрет: Кто жив, напрасно ждет похвал толпы надменной. Пока у черных волн не стал я тенью пленной, За труд мой не почтит меня бездушный свет. Но кто-нибудь в веках найдет мой тусклый след И на Луар придет, как пилигрим смиренный, И не поверит он пред новой Иппокреной,[131] Что маленькой страной рожден такой поэт. Мужайся, песнь моя! Достоинствам живого Толпа бросает вслед язвительное слово, Но богом, лишь умрет, становится певец, Живых нас топчет в грязь завистливая злоба, Но добродетели, сияющей из гроба, Сплетают правнуки без зависти венец.* * *
На смерть Мари
Как роза ранняя, цветок душистый мая, В расцвете юности и нежной красоты, Когда встающий день омыл росой цветы, Сверкает, небеса румянцем затмевая, Вся прелестью дыша, вся грация живая, Благоуханием поит она сады, Но солнце жжет ее, но дождь сечет листы, И клонится она, и гибнет, увядая, — Так ты, красавица, ты, юная, цвела, Ты небом и землей прославлена была, Но пресекла твой путь ревнивой Парки злоба. И я в тоске, в слезах на смертный одр принес В кувшине — молока, в корзинке — свежих роз, Чтоб розою живой ты расцвела из гроба.ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ «СОНЕТОВ К ЕЛЕНЕ»
* * *
Когда в груди ее пустыня снеговая И, как бронею, льдом холодным дух одет, Когда я дорог ей лишь тем, что я поэт, К чему безумствую, в мученьях изнывая? Что имя, сан ее и гордость родовая — Позор нарядный мой, блестящий плен? О нет! Поверьте, милая, я не настолько сед, Чтоб сердцу не могла вас заменить другая. Амур вам подтвердит, Амур не может лгать: Не так прекрасны вы, чтоб чувство отвергать! Как не ценить любви? Я, право, негодую! Ведь я уж никогда не стану молодым, Любите же меня таким, как есть, — седым, И буду вас любить, хотя б совсем седую.* * *
Ты помнишь, милая, как ты в окно глядела На гаснущий Монмартр, на темный дол кругом И молвила: «Поля, пустынный сельский дом, — Для них покинуть Двор — нет сладостней удела! Когда б я чувствами повелевать умела, Я дни наполнила б живительным трудом, Амура прогнала б, молитвой и постом Смиряя жар любви, не знающий предела». Я отвечал тогда: «Погасшим не зови Незримый пламень тот, что под золой таится. И старцам праведным знаком огонь в крови. Как во дворцах, Амур в монастырях гнездится. Могучий царь богов, великий бог любви, Молитвы гонит он и над постом глумится».* * *
Хорош ли, дурен слог в сонетах сих, мадам, Лишь вы причиною хорошему ль, дурному: Я искренне воспел сердечную истому, Желая выход дать бушующим страстям. Когда у горла нож, увы, трудненько нам Не хныкать, не молить, не сетовать другому! Но горе — не беда весельчаку шальному, А нытик в трудный час себя изводит сам. Я ждал любви от вас, я жаждал наслажденья, Не долгих чаяний, не тягот, не забот. Коль вы отнимете причину для мученья, Игриво и легко мой голос запоет. Я — словно зеркало, где видно отраженье Того, что перед ним с любым произойдет.ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ «СОНЕТОВ К ЕЛЕНЕ»
* * *
Кассандра и Мари, пора расстаться с вами! Красавицы, мой срок я отслужил для вас. Одна жива, другой был дан лишь краткий час — Оплакана землей, любима небесами. В апреле жизни, пьян любовными мечтами, Я сердце отдал вам, но горд был ваш отказ. Я горестной мольбой вам докучал не раз, Но Парка ткет мой век небрежными перстами. Под осень дней моих, еще не исцелен, Рожденный влюбчивым, я, как весной, влюблен, И жизнь моя течет в печали неизменной. И хоть давно пора мне сбросить панцирь мой, Амур меня бичом, как прежде, гонит в бой — Брать гордый Илион, чтоб овладеть Еленой.[132]* * *
Да, победили вы. И ныне побежденный Дарит вам этот плющ. По стенам и ветвям Он растекается, скользящий там и сям, Бежит, настойчивый и цепкий, и влюбленный. Венчаю вас плющом. Любовью истомленный, Хочу, совсем как он, и днем и по ночам, Все крепче обнимать и все стремиться к вам, Теснее оплетясь вокруг живой колонны. Придет ли та заря, гоня ночные сны, Когда осмелюсь я под низкими ветвями Сквозь птичьи гомоны из ясной вышины, Во всем, что мучило, открывшись перед вами, Всю прелесть ваших роз и вашей белизны С любовью осязать губами и руками?* * *
Оставь страну рабов, державу фараонов, Приди на Иордан,[133] на берег чистых вод, Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод, На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов. Собою правь сама, не знай чужих законов, Мгновеньем насладись, — ведь молодость не ждет! За днем веселия печали день придет, И заблестит зима, твой лоб снегами тронув. Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор? Он золотом одел Донос и Наговор, Унизил Правду он и сделал Ложь великой. На что нам лесть вельмож и милость короля? В страну богов и нимф — беги в леса, в поля, Орфеем буду я, ты будешь Эвридикой.* * *
Уж этот мне Амур — такой злодей с пеленок! Вчера лишь родился, а нынче — столько мук! Отнять у матери и сбыть буяна с рук, Пускай за полцены, — на что мне злой ребенок! И кто подумал бы — хватило же силенок: Приладил тетиву, сам натянул свой лук! Продать, скорей продать! О, как заплакал вдруг… Да я ведь пошутил, утешься, постреленок! Я не продам тебя, напротив, не тужи: К Елене завтра же поступишь ты в пажи, Ты на нее похож кудрями и глазами. Вы оба ласковы, лукавы и хитры. Ты будешь с ней играть, дружить с ней до поры, А там заплатишь мне такими же слезами.* * *
Когда старушкою, над прялкою склоненной, При свете камелька взгрустнется вам порой, Произнеся стихи, написанные мной, Скажите: «И меня воспел Ронсар влюбленный!» Они разбудят слух служанки полусонной, И с именем моим ваш облик молодой, Сиявший некогда бессмертною красой, Почтит она тогда хвалою восхищенной. Я буду спать в земле и — тень среди теней — Спокойно отдыхать от пережитых дней. А вы на склоне лет припомните сквозь слезы И гордый свой отказ, и жар моей любви… Послушайте меня: пока огонь в крови, Пока вы молоды, срывайте жизни розы!* * *
Плыву в волнах любви. Не видно маяка. Хочу лишь одного (не дерзко ль это слово!), Но в горестной душе желанья нет иного — Достигнуть берега — ведь гавань так близка! Предвестье гибели — клубятся облака. Виденьем огненным из мрака грозового Елена светит мне. Она глядит сурово, И к смерти парус мой ведет ее рука. Я одинок, тону. Вожатым в путь мой трудный Слепого мальчика я выбрал, безрассудный, И горько жалуюсь, краснею, слезы лью. Душе неведом страх, хоть смерть меня торопит. Но, боже праведный! Ужели шквал потопит У самой пристани неверную ладью!* * *
Чтоб источал ручей тебе хвалу живую, Мной врезанную в клен, — да к небу возрастет! Призвав на пир богов, разлив вино и мед, Прекрасный мой ручей Елене я дарую. Пастух, не приводи отары в сень лесную Мутить его струю! Пускай у этих вод Над сотнями цветов шумит зеленый свод, — Елены именем ручей я именую! Здесь путник отдохнет в прохладной тишине, Мечтая, вспомнит он, быть может, обо мне, И будет им опять хвала Елене спета. Он сам полюбит здесь, как я в былые лета, И, жадно ртом припав к живительной волне, Почувствует огонь, питающий поэта.РАЗНЫЕ СОНЕТЫ
Реке Луар
Ответь мне, злой Луар (ты должен отплатить Признанием вины за все мои хваленья!), Решив перевернуть мой челн среди теченья, Ты попросту меня задумал погубить! Когда бы невзначай пришлось мне посвятить Любой из лучших рек строфу стихотворенья, Ну разве Нил и Ганг, — какие в том сомненья? — Дунай иль Рейн меня хотели б утопить? Но я любил тебя, я пел тебя, коварный, Не знал я, что вода — сосед неблагодарный, Что так славолюбив негодный злой Луар. Признайся, на меня взъярился ты недаром: Хотел ты перестать отныне быть Луаром, Чтоб зваться впредь рекой, где утонул Ронсар.* * *
Хочу три дня мечтать, читая «Илиаду», Ступай же, Коридон,[134] и плотно дверь прикрой И, если что-нибудь нарушит мой покой, Знай: на твоей спине я вымещу досаду. Мы принимать гостей три дня не будем кряду, Мне не нужны ни Барб, ни ты, ни мальчик твой, — Хочу три дня мечтать наедине с собой, А там опять готов испить безумств отраду. Но если вдруг гонца Кассандра мне пришлет, Зови с поклоном в дом, пусть у дверей не ждет, Беги ко мне, входи, не медля на пороге! К ее посланнику я тотчас выйду сам. Но если б даже бог явился в гости к нам, Захлопни дверь пред ним, на что нужны мне боги!Кардиналу Шарлю Лотарингскому[135]
Во мне, о монсеньёр, уж нет былого пыла, Я не пою любви, скудеет кровь моя, Душою не влекусь к утехам бытия, И старость близится, бесплодна и уныла. Я к Фебу охладел, Венера мне постыла, И страсти эллинской — таить не стану я — Иссякла радостно кипевшая струя, — Так пеной шумною вина уходит сила. Я точно старый конь; предчувствуя конец, Он силится стяжать хозяину венец, На бодрый зов трубы стремится в гущу боя; Мгновенья первые летит во весь опор, А там слабеет вдруг, догнать не может строя И всаднику дарит не лавры, а позор.СТИХОТВОРЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСМЕРТНО
* * *
А что такое смерть? Такое ль это зло, Как всем нам кажется? Быть может, умирая, В последний, горький час дошедшему до края, Как в первый час пути, — совсем не тяжело? Но ты пойми — не быть! Утратить свет, тепло, Когда порвется нить и бледность гробовая По членам побежит, все чувства обрывая, — Когда желания уйдут, как все ушло. Там не попросишь есть! Ну да, и что ж такого? Лишь тело просит есть, еда — его основа, Она ему нужна для поддержанья сил. А дух не ест, не пьет. Но смех, любовь и ласки? Венеры сладкий зов? Не трать слова и краски, Зачем любовь тому, кто умер и остыл?* * *
Я к старости клонюсь, вы постарели тоже. А если бы нам слить две старости в одну И зиму превратить — как сможем — в ту весну, Которая спасет от холода и дрожи? Ведь старый человек на много лет моложе, Когда не хочет быть у старости в плену. Он этим придает всем чувствам новизну, Он бодр, он как змея в блестящей новой коже. К чему вам этот грим — вас только портит он, Вы не обманете бегущих дней закон: Уже не округлить вам ног, сухих, как палки, Не сделать крепкой грудь и сладостной, как плод. Но время — дайте срок! — личину с вас сорвет, И лебедь белая взлетит из черной галки.ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
* * *
Я высох до костей. К порогу тьмы и мрака Я приближаюсь, глух, изглодан, черен, слаб, И смерть уже меня не выпустит из лап. Я страшен сам себе, как выходец из ада. Поэзия лгала! Душа бы верить рада, Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап.[136] Прощай, светило дня! Болящей плоти раб, Иду в ужасный мир всеобщего распада. Когда заходит друг, сквозь слезы смотрит он, Как уничтожен я, во что я превращен. Он что-то шепчет мне, лицо мое целуя, Стараюсь тихо снять слезу с моей щеки, Друзья, любимые, прощайте, старики! Я буду первый там и место вам займу я.Жоашен Дю Белле
ИЗ ЦИКЛА «ОЛИВА»
* * *
Мне ночь мала, и день чрезмерно длится. Бегу любви — за ней спешу без силы, К себе жесток — пощады жду от милой, И счастье пью в мученьях без границы. Свой знаю прок — лишь бед могу добиться. Желанье жжет — боязнь оледенила, Хочу бежать — не двинусь, кровь застыла, Мне тьма светла, а в свете тьма таится. Я ваш, мадам, при этом сам не свой, На воле плоть, но чую, чуть живой, Что сердце, пережив темницы мрак, Лишилось сил и одряхлело вдруг, И вот в меня нещадный целит лук Тот древний мальчуган, что слеп и наг.* * *
Я робкому подобен мореходу: Лишь тучи соберутся в вышине, Прибудет силы пенистой волне И челн затонет, рассекая воду. Он, морю покорясь и небосводу, Руль бросит и безвольно ждет в челне — К богам взывает и наедине Клянет, трясясь и плача, непогоду. Я кормчий, море — это мысль моя, Мои рыданья — буря грозовая, Моя Богиня — светлая звезда, И вас, Богиня, заклинаю я, Ладью моей отваги направляя, Кромешный мрак рассеять навсегда.* * *
Во сне и мир, и счастье ждут меня, А наяву — война, беда, страданье. Мне клевета милей, чем оправданье. Добро — от ночи. Зло — от бела дня. Неужто прав я, правду хороня, Ей гибель предсказав и увяданье? Счастливей нас, наверно, те созданья, Что спят полгода, свой покой храня! Что сон и смерть между собою схожи, Что друг на друга явь и сон похожи, Не верю я, но ежели они Одно и то же, и уйду навеки Я в забытьё, — Смерть, сон с себя стряхни И ночью вечною смежи мне веки.Идея
Короче дня вся наша жизнь земная Пред вечностью. Круг совершая, год Дни наши прочь без жалости метет; Живущее — лишь гость земного края. Что ж медлишь ты, душа, в плену страдая? Что любишь ты юдольной жизни ход? Ведь ты сильна, на радостный полет К иным пределам крылья простирая. Ко благу там увенчано стремленье; За труд земной там ждет отдохновенье; Там ждет любовь, усладу нам даруя; Там, о душа, под высшим небом рея, Познаешь ты: вот какова Идея Той красоты, что здесь боготворю я.ИЗ ЦИКЛА «ДРЕВНОСТИ РИМА»
* * *
Пришелец в Риме не увидит Рима, И тщетно Рим искал бы в Риме он. Остатки стен, порталов и колонн — Вот все, чем слава римская хранима. Во прахе спесь. А время мчится мимо, И тот, кто миру диктовал закон, Тысячелетьям в жертву обречен, Сам истребил себя неумолимо. Для Рима стать гробницей мог лишь Рим. Рим только Римом побежден одним. И, меж руин огромных одинок, Лишь Тибр не молкнет. О неверность мира! Извечно зыбкий вечность превозмог. Незыблемый лежит в обломках сиро.* * *
Как в поле, где зерно из полной семенницы Посеет селянин, вспахав и взбороня, — Сперва произрастут густые зеленя, Из зеленей — стеблей высоких вереницы, И защетинятся потом из них пшеницы Колосья желтые, взгляд золотом маня, Потом заблещет серп, и, наконец клоня Свой стан, начнут вязать снопы жнецы и жницы: Так римское в веках могущество росло, Покуда, всколосясь, оно не полегло Под варварской рукой, оставив лишь руины; И мы на них теперь свершаем свой набег, Подобно беднякам, что средь пустой долины Колосья подберут, упавшие с телег.* * *
Стихи мои, вы ждете, что потомки Читать вас будут истово подряд, Что небеса, расщедрясь, одарят Таким бессмертьем лиры глас негромкий? Когда не все крошится здесь в обломки, Творенья духа — в книгах-то навряд, Но в мраморе, в порфире — сохранят Живую древность, бренности на кромке. Не утешай, не прекращай трезвон, О лютня, что вручил мне Аполлон, — Коль славу вечную даруют боги, Хвались: тобою, низкой, тот владел, Кто первым из французов звучно пел Мощь древнюю народа в длинной тоге.ИЗ ЦИКЛА «СОЖАЛЕНИЯ»
Обращение к книге
О книжица моя, пенять тебе не смею, Что без меня спешишь увидеть Принца двор. Ах, сколь ни жалок я, мой скорбный грезит взор Изведать счастие вслед за судьбой твоею. Кто станет при дворе хвалить тебя скорее, Тому желай, чтоб Бог над ним покров простер, Но тем, кто приберег хулу и оговор, Свой плач и боль мою пожалуй, не жалея. И пожелай, чтоб путь был горек и далек, И, хоть велит вдали от дома жить зарок, Чтобы душа всегда на родине витала, И пожелай сей мир покинуть в кабале, И в смертный час испить всю горечь на земле, И знать, что в прах родня именье промотала.* * *
Блуждать я не хочу в глубокой тьме природы, Я не хочу искать дух тайны мировой, Я не хочу смотреть в глубь пропасти глухой, Ни рисовать небес сверкающие своды. Высоких образов я не ищу для оды, Не украшаю я картины пестротой, Но вслед событиям обители земной В простых словах пою и благо и невзгоды. Печален ли, — стихам я жалуюсь своим, Я с ними радуюсь, вверяю тайны им, Они наперсники сердечных сожалений. И не хочу я их рядить иль завивать, И не хочу я им иных имен давать, Как просто дневников иль скромных сообщений.* * *
Не ведая того, что я узнал потом[137] — Как может быть судьба ко мне неблагосклонна, — Я шел необщею дорогой Аполлона, К святому движимый его святым огнем. Но вскоре божество покинуло мой дом, Везде докучная мешала мне препона, И в тусклый мир, где все и гладко и законно, Нужда ввела меня исхоженным путем. Вот почему (Лоррен) я сбился с той дороги. Какой идет Ронсар туда, где правят боги, И все же ровный путь увидев пред собой, Без риска утомить дыханье, сердце, руки, Я следую туда, куда в трудах и в муке Идет он подвига неторною тропой.* * *
Нет, ради греков я не брошу галльских лар,[138] Горация своим не возглашу законом, Не стану подражать Петрарковым канцонам И «Сожаленья» петь, как пел бы их Ронсар. Пускай дерзают те, чей безграничен дар, Кто с первых опытов отмечен Аполлоном. Безвестный, я пойду путем непроторенным, Но без глубоких тайн и без великих чар. Я удовольствуюсь бесхитростным рассказом О том, что говорят мне чувство или разум, Пускай предметы есть важнее — что с того! И лирой скромною я подражать не буду Вам, чьи творения во всем подобны чуду И гению дарят бессмертья торжество.* * *
Кто влюбчив, тот хвалы возлюбленным поет; Кто выше ставит честь, тот воспевает славу; Кто служит королю — поет его державу, Монаршим милостям ведя ревнивый счет. Кто музам отдал жизнь, тот славит их полет; Кто доблестен, твердит о доблестях по праву; Кто возлюбил вино, поет вина отраву, А кто мечтателен, тот сказки создает. Кто злоречив, живет лишь клеветой да сплетней; Кто подобрей, острит, чтоб только быть заметней, Кто смел, тот хвалится бесстрашием в бою; Кто сам в себя влюблен, лишь о себе хлопочет; Кто льстив, тот в ангелы любого черта прочит; А я — я жалуюсь на злую жизнь мою.* * *
Увы! где прежняя насмешка над фортуной, Где сердце, смелое в любые времена, И жажда гордая бессмертья, где она? Неведомый толпе — где этот пламень юный? Где песня у реки в прохладе ночи лунной, Когда была душа беспечна и вольна, И хороводу муз внимала тишина Под легкий звон моей кифары тихострунной? Увы, теперь не то, я угнетен судьбой. Владевший некогда и ею и собой, Я ныне раб невзгод и угрызений сердца. Забыв о будущем, я разлюбил свой труд, Потух мой жар, я нищ, и музы прочь бегут, В умолкнувшем навек почуяв иноверца.* * *
Отчизна доблести, искусства и закона, Я вскормленник твоих, о Франция, сосцов! И, как ягненок мать зовет в глуши лесов, К тебе взываю здесь, вблизи чужого трона. Ужели своего мне не раскроешь лона, Дитя не возвратишь под материнский кров? Откликнись, Франция, на горький этот зов! Но вторит эхо мне, а ты не слышишь стона. Брожу среди зверей, безлюдный лес вокруг, И в жилах стынет кровь, и холод зимних вьюг, Дрожа, предчувствую в осеннем листопаде. Ты всех ягнят своих укрыла от зимы, От голода, волков и от морозной тьмы, — За что же гибну я, ужель я худший в стаде?* * *
Когда родной язык сменив на чужестранный,[139] В стихах заговорил я по-латыни вдруг, Причина, мой Ронсар, не в том, что Рим вокруг, Не в шуме древних струй, бегущих с гор Тосканы. Но в том, что здесь я раб, немой и безымянный, Томлюсь, как Прометей, пойми, три года мук! Что без надежд живу, и верь, мой добрый друг, Виной жестокий рок, увы, не взор желанный, Но, если от тоски в какой-то тяжкий миг Овидий перешел на варварский язык, Чтоб быть услышанным, так пусть простит мне муза Мое предательство, — ведь у латинских рек, Хотя б велик ты был, как Римлянин иль Грек, Никто, Ронсар, никто не слушает француза.* * *
Невежде проку нет в искусствах Аполлона, Таким сокровищем скупец не дорожит, Проныра от него подалее бежит, Им Честолюбие украситься не склонно; Над ним смеется тот, кто вьется возле трона, Солдат из рифм и строф щита не смастерит, И знает Дю Белле: не будешь ими сыт, Поэты не в цене у власти и закона. Вельможа от стихов не видит барыша, За лучшие стихи не купишь ни шиша, Поэт обычно нищ и в собственной отчизне. Но я не откажусь от песенной строки, Одна поэзия спасает от тоски, И ей обязан я шестью годами жизни. [140]* * *
Служу — я правды от себя не прячу, — Хожу к банкирам, слушаю купцов, Дивишься ты, на что я годы трачу, Как петь могу, где время для стихов. Поверь, я не пою, в стихах я плачу, Но сам заворожен звучаньем слов, Я до утра слагать стихи готов, В слезах пою и не могу иначе. Так за работою поет кузнец, Иль, веслами ворочая, гребец, Иль путник, вдруг припомнив дом родимый, Так жнец поет, когда невмочь ему, Иль юноша, подумав о любимой, Иль каторжник, кляня свою тюрьму.* * *
Когда мне портит кровь упрямый кредитор, Я лишь сложу стихи — и бешенство пропало. Когда я слышу брань вельможного нахала, Мне любо, желчь излив, стихами дать отпор. Когда плохой слуга мне лжет и мелет вздор, Я вновь пишу стихи — и злости вмиг не стало; Когда от всех забот моя душа устала, Я черпаю в стихах и бодрость и задор. Стихами я могу слагать хвалы свободе, Стихами лень гоню назло моей природе, Стихам вверяю все, что затаил в душе. Но если от стихов мне столько пользы разной И вносят жизнь они в мой век однообразный, Зачем ты бросить их советуешь, Буше?[141]* * *
Пока мы тратим жизнь и длится лживый сон,[142] Которым на крючок надежда нас поймала, Пока при дяде я, Панжас — у кардинала, Маньи — там, где велит всесильный Авансон, — Ты служишь королям, ты счастьем вознесен, И славу Генриха умножил ты немало Той славою, Ронсар, что гений твой венчала За то, что Францию в веках прославил он. Ты счастлив, друг! А мы среди чужой природы, На чуждом берегу бесплодно тратим годы, Вверяя лишь стихам все, что терзает нас. Так на чужом пруду, пугая всю округу, Прижавшись крыльями в отчаянье друг к другу, Три лебедя кричат, что бьет их смертный час.* * *
Вовеки прокляты год, месяц, день и час,[143] Когда надеждами прельстясь неудержимо, Решил я свой Анжу покинуть ради Рима, И скрылась Франция от увлажненных глаз. Недоброй птице внял — и первый в жизни раз Отцовский дом сменил на посох пилигрима. Не понимал, что рок и мне грозит незримо, Когда Сатурн и Марс в союзе против нас. Едва сомнение мой разум посещало, Желанье чем-нибудь опять меня прельщало, И доводы его рассеять я не смог, Хотя почувствовал, что, видно, песня спета, Когда при выходе — зловещая примета! — Лодыжку повредил, споткнувшись о порог.* * *
Нет, не тщеславие, не алчность, не расчет С страною предков мне внушили расставанье, Чтоб видеть снежных гор бессмертное сверканье И счастия искать средь тысячи забот. Та честь высокая, что вечно не умрет, И доблесть чистая, которой нет скончанья, С такою щедростью вершили мне желанья, Что большего не жду с божественных высот, Нет, верность рабская и долг неумолимый Заставили меня из Франции любимой Прибыть в Италию, где три зимы подряд Томлюсь по родине. И та же верность, знаю, Властна меня послать, с отчизной разлучая, Хоть в Мавританию, хоть в Индию, хоть в ад.* * *
Кто может, мой Байель,[144] под небом неродным И жить и странствовать ловцом удачи мнимой И в призрачной борьбе с судьбой неумолимой Брести из двери в дверь по чуждым мостовым. Кто может позабыть все то, что звал своим, Любовь к семье своей, любовь к своей любимой, К земле, от прошлых дней вовек неотделимой, И даже не мечтать о возвращенье к ним — Тот камнем порожден, провел с волками детство, Тот принял от зверей жестокий дух в наследство, Тигрицы молоко сосал он детским ртом! Да нет, и дикий зверь бежит с охоты в нору, А уж домашние, так те в любую пору, Где б ни были они, спешат к себе, в свой дом.* * *
Я не люблю двора, но в Риме я придворный. Свободу я люблю, но должен быть рабом. Люблю я прямоту — льстецам открыл свой дом; Стяжанья враг, служу корыстности позорной. Не лицемер, учу язык похвал притворный; Чту веру праотцов, но стал ее врагом. Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом; Друг добродетели, терплю порок тлетворный, Покоя жажду я — томлюсь в плену забот. Ищу молчания — меня беседа ждет. К веселью тороплюсь — мне скука ставит сети. Я болен, но всегда в карете иль верхом. В мечтах я музы жрец, на деле — эконом. Ну можно ли, Морель,[145] несчастней быть на свете!* * *
Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду Высокой истине не шел наперекор, Не принуждал перо кропать постыдный вздор, Прислуживаясь к тем, кто делает погоду. А я таю свой гнев, насилую природу, Чтоб нестерпимых уз не отягчать позор, Не смею вырваться душою на простор И обрести покой иль чувству дать свободу. Мой каждый шаг стеснен — безропотно молчу. Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу. О мука — все терпеть, лишь кулаки сжимая! Нет боли тягостней, чем скрытая в кости! Нет мысли пламенней, чем та, что в заперти! И нет страдания сильней, чем скорбь немая.* * *
Ты Дю Белле чернишь: мол, важничает он, Не ставит ни во что друзей. Опомнись, милый, Ведь я не князь, не граф, не герцог (бог помилуй), Не титулован я и в сан не возведен, И честолюбью чужд, и тем не уязвлен, Что не отличен был ни знатностью, ни силой, Зато мой ранг — он мой, и лишь недуг постылый, Лишь естество мое диктует мне закон. Чтоб сильным угодить, не буду лезть из кожи. Низкопоклонствовать, как требуют вельможи, Как жизнь теперь велит, — забота не моя. Я людям не грублю, мной уважаем каждый; Кто поклонился мне, тому отвечу дважды. Но мне не нужен тот, кому не нужен я.* * *
О страсти я молчу, когда я не влюблен, О красоте молчу, когда не знаю страсти, О радости молчу, когда попал в несчастье, О нежности молчу, когда я уязвлен. О счастье я молчу, когда я ущемлен, О почестях молчу, не видя их от власти, О дружбе я молчу, заметив безучастье, О бодрости молчу, когда я утомлен. О короле молчу, расставшись со столицей, О Франции молчу, когда я за границей, О чести я молчу, ее не видя здесь. О золоте молчу, когда не вижу денег, О доблести молчу, когда встречаю спесь, О знании молчу, когда со мной священник.* * *
Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок,[146] Банкира улещать, хоть толку никакого, Час целый взвешивать пред тем, как молвить слово, Замкнув парижскую свободу на замок; Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок, Придерживать язык в присутствии чужого, Пред иностранцами разыгрывать немого, Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог; Со всеми жить в ладу, насилуя природу: Чем безграничнее тебе дают свободу, Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму. Хранить любезный тон с мерзавцами любыми — Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме Сполна усвоил я, к позору своему.* * *
Ты заблуждаешься (Белло),[147] что все кругом Восхищены твоим талантом и упорством, — Не добродетелью прославься, а проворством, Заботься о чинах и кошельке тугом. Что пользы рассуждать о сердце всеблагом? — Достигнуть звезд дано лишь скаредным и черствым, — Дружи с невежеством, обманом и притворством И зависть не считай опаснейшим врагом. Ученость хороша за книгой, в кабинете, Но, что греха таить, она нелепа в свете, — Не стань посмешищем, любезный мой Белло! Нас в добродетелях пугает пыл излишний, Ты жаждешь нравиться? — храни тебя Всевышний За столь бесславное приняться ремесло.* * *
Господь, да как же я без бешенства взгляну На старых обезьян, бездельников придворных, Лишь в подражании величеству проворных, На челядь жалкую — у роскоши в плену. Когда солжет король, тогда на всю страну Ложь разлетится с уст угодников притворных, В угоду королю они в потемках черных Увидят солнца свет, а среди дня — луну. И если кто-нибудь у короля в фаворе, Тогда покоя нет их лебезящей своре. А кто опальным стал — презрение тому. Так негодую я на этих слуг безмерно, Когда пред королем, потупясь лицемерно, Они смеются вслух, не ведая чему!* * *
Ученым степени дает ученый свет, Придворным землями отмеривают плату, Дают внушительную должность адвокату, И командирам цепь дают за блеск побед. Чиновникам чины дают с теченьем лет, Пеньковый шарф дают за все дела пирату, Добычу отдают отважному солдату, И лаврами не раз увенчан был поэт. Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем,[148] Что мы обижены, что ничего не значим? Тогда ступай себе другой дорогой, брат: Лишь бескорыстному служенью Муза рада. И стыдно требовать поэзии наград, Когда поэзия сама себе награда.ИЗ ЦИКЛА «СОН»
* * *
Я вижу на верху одной горы строенье В сто сажен высотой, и сто колонн стоят Все из алмаза сплошь, кругом обняв фасад В дорическом ладу взведенного творенья. Не мрамор, не кирпич — хрусталь, услада зренья, Пошел на кладку стен, что искрами горят, Дробя собой лучи из внутренних палат, Где златом Африки покрыты все ступени. Внутри из золота обшивка стен, и свод В пластинках золотых вокруг сиянье льет, В пол яшмовый вкраплен узор смарагдов[149] щедро. О мира суета! Из-под земли толчок, До корня сотряся горы высокой недра, Вмиг эту красоту сравнять с землею смог.* * *
Я видел: скал приют, закрытый лозняком, Волчица там была с детьми; сося, лаская, Питалися они, сосцы ее толкая, И мать лизала их упругим языком. Я видел: близнецов насытив молоком, Она спешила в дол, глазами вкруг сверкая; Беспечные стада она искала там, алкая, И бегала с дымящимся в зубах куском. Я видел: с гор спустясь, вдруг вереницей длинной Охотники пошли Ломбардскою долиной, И в зверя — дротов лет, и лай кругом и рык. И видел я: мертва простертая волчица, Замолк предсмертный вой, и высунут язык, И шкура содрана, и кровью труп сочится.Понтюс де Тиар
ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
Сонет к Морису Севу[150]
Коль ты не утерял того огня, Который сердце озаряет светом, О светоче любви ты помнишь этом, Ученому перу не изменя, Тогда, на час глаза обременя, Ты приглядись к страданиям, воспетым В «Любовных заблуждениях» поэтом. Любовь избрала кузнецом меня. Ты, может быть, увидишь то же пламя, Что наделило и тебя крылами, Но дара своего не узришь ты. С терпеньем принимая все упреки, Я выслушаю приговор жестокий Всем заблужденьям юной суеты.* * *
Увидев твой портрет, любой дивится Гармонии тонов его и линий. Так схожи ты и образ на картине, Что перед ней немеют очевидцы. Во мне вернее облик твой, царица, Амур стрелой запечатлел отныне, Но красота — жестокая святыня: Я полюбил — и будут муки длиться. Рукою бренной писан твой портрет, Он может потускнеть с теченьем лет И потерять игру цветов живую. Но перед памятью бессильна Лета, Не меркнет красота в душе поэта, Сиять ей суждено, пока живу я!ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
* * *
О низменная чернь, о подлый род, Налитый желчью лживою до края! Внемли словам суровым, пожирая Святую честь, невежественный сброд! Свершают Небеса свой оборот, И сокрушаюсь я, на них взирая. Под стрелами их гнева умирая, Я падаю, мне сил недостает. И сам себе я до того постыл, Что навсегда во мраке бы застыл, Проникшись, чернь, твоею думой черной. Но коль не осквернили чистоты Ни я, ни дама, будь во скверне ты, Убийца нашей чистоты упорной.ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
Созерцая Луизу Лабе
Кто изваял изгиб влекущий стана И ясный лоб — врата ума живого? Дитя какого царского алькова Ты, чья краса смертельна и желанна? Сирен ли песнь звучит, полна обмана, Что Лаэртида[151] устрашила б снова? Чье слышу я чарующее слово? Кому Амур дал стрелы из колчана? Здесь в милости своей Судьба сама Явила мне и честь, и блеск ума, И грацию в их совершенстве строгом. Нет, не избегнуть мне Амура власти! Мне сердце разорвет он на две части И даст тебе одну любви залогом!* * *
Божественный Ронсар, пером умелым Словам любви придать ты нежность смог. Тебе Киприда дарит свой венок, Переплетенный виноградом спелым. Любезный Дю Белле, поэтам смелым Непревзойденным кажется твой слог. Ты ветвь тенистую возьми в залог — Да будет сень ее твоим уделом. Мой Дезотель,[152] чело ты, не боясь, Десятком вечных доблестей укрась. Вы все себя величием украсьте! Но разве я питаю зависть к вам? Нет-нет, за ваше счастье я не дам Того, что мне Звезда сулит на счастье.Оливье де Маньи
ИЗ ЦИКЛА «ВЗДОХИ»
* * *
Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне?[153] Когда конец войне на стонущей планете? Когда настанет мир на этом грешном свете, Чтобы вздохнул народ в измученной стране? Я вижу вновь убийц пешком и на коне, Опять войска, войска, и гул, и крики эти, И нас, как прежде, смерть заманивает в сети, И только стоны, кровь и города в огне. Так ставят короли на карту наши жизни. Когда же мы падем, их жертвуя отчизне, Какой король вернет нам жизнь и солнца свет? Несчастен, кто рожден в кровавые минуты, Кто путь земной прошел во дни народных бед! Нам чашу поднесли, но полную цикуты…* * *
Благословен тот день, тот месяц, год счастливый,[154] Неделя, сутки, час, минута, краткий миг И место, где узрев благословенный лик, Отверг я дар своей свободы горделивой. Благословен звезды полет неторопливый И первый горький яд, что в душу мне проник, Стрела, и лук, и боль, к которой я привык, И рана, что ношу я в сердце терпеливо. Благословен в ночи тоскующий мой крик, Воспоминаний будь благословен родник, Стенанья, вздохи, плач над мукою моею, Благословен мой лист с написанной строкой, Благословен мой дух, утративший покой, А также мысль моя, что дышит только ею.* * *
Люблю ее за гордый черный цвет Бровей и глаз и за кудрей потоки, Живот упругий, розовые щеки, Дыханья аромат, улыбки свет. Люблю за лоб, где ни морщинки нет, Ее любви и славы храм высокий, За ум, за поэтические строки, За память, что хранит событий след. Люблю за то, что нет ее добрее, И за познанья, что достойны феи, За щедрость сердца, свойственную ей. Всего сильней люблю за поцелуи, За ласки я люблю еще сильней, За то, что с нею сплю, когда хочу я.* * *
Блажен, кто вдалеке от города живет, Свободный господин наследственных владений. Он мирно трудится на поле, чуждый лени, Ведь ежедневный труд — опора и оплот. Не зная ни нужды, ни суетных забот, Он на судьбу свою не изливает пени. Уютен дом его в жару и в дождь осенний, Он от житейских бед приют в нем обретет. Он пашет, сеет, жнет иль подрезает лозы, Готовится к зиме, пока вдали морозы, Которые в хрусталь преобразят ручей, А возвратившись в дом, он ест при свечке ужин, Беседует с детьми, с которыми так дружен, Потом, обняв жену, идет на отдых с ней.* * *
Садись, Гийон, спеши вестями поделиться.[155] Налобызались мы, болтай во весь опор. Чем потчует Париж, что преподносит двор? Что там за господа в чести, что за девицы? Война свирепая доколь еще продлится? Не вздорожали ль сыр и вина до сих пор? Средь стольких зол, поди, вас всех ввела в разор Налогов, податей и пошлин вереница? Ты хоть одну привез из книг, что все читали? Видал ли ты Белло, Ронсара иль Паскаля? Что, как они? ответь, ах, не сочти за труд: О постнике досель не говорят ни слова? Как быстро строят Лувр? Еще не все готово? Что слышно во дворце? Что от нормандки ждут?* * *
О взгляд смущенный, огненные очи,[156] О горьких слез печальный водомет, О безотрадный солнечный восход, О безнадежность ожиданья ночи, О радости, что с каждым днем короче, О дней потерянных незримый счет, О тысяча смертей в лесу тенет, О рок, что с каждым годом все жесточе, О робкие шаги, о пламень жгучий, О сладкий бред, о мыслей рой летучий, Кружащийся во сне и наяву, О этих глаз печальные фонтаны, О боги, небеса, вас неустанно В свидетели любви моей зову.* * *
То дерзок я, то страх владеет мною,[157] Ищу я мир, а нахожу войну. То счастлив я, то в бедах я тону, Стремлюсь то к ураганам, то к покою. Я из надежд упорно замки строю, Но миг — и все опять идет ко дну. Хожу по кругу, путаюсь, кляну… Кто я такой? Я не в ладу с собою. Я слеп и зряч, бегу на месте я. Хоть волен, воля связана моя Косою золотой, моей отрадой. На службе весел, на пиру угрюм, Смеюсь в слезах, бесцельно трачу ум И все же напеваю, как цикада!* * *
Служите верою и правдою вельможе, Здоровья не щадя и не щадя трудов. Служите на манер лакеев и шутов, Кривляйтесь перед ним и лезьте вон из кожи! Проигрывать ему всегда старайтесь тоже, Как бы нечаянно, коль он — из игроков, Хвалите всячески его коней и псов, Не подавайте просьб, терпите брань, — и все же Напрасно будете угодничать и льстить, Пытаясь на себя вниманье обратить. Но если невзначай вы разобьете вазу, Иль слово молвите не вовремя, не так — Все кончено для вас: в немилости вы сразу, И даже шутовской вас не спасет колпак.К королю
Нельзя один надел пахать из года в год, Ведь нужно отдохнуть измученному полю. Досугом одарить, удобрить землю вволю — И урожай двойной вам поле принесет. Сир, дальше так нельзя — пусть отдохнет народ! Есть мера тяготам и мера своеволью. Воспрянув, выпрямясь, благославляя долю, Он дольше выстоит под бременем работ. Что должно кесарю, получит он по праву, Но больше требуя, свою он губит славу. Сир, пусть простых людей не объедает знать! Ждет справедливости народ, короне верный, Ему не устоять под ношей непомерной. Сир, нужно стричь людей, но шкур с них не сдирать!Этьен Жодель
ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
* * *
Вы первая, кому я посвятил, мадам,[158] Мой разум, душу, страсть и пламенные строки, В которых говорю, какой огонь высокий Дарит незрячий бог попавшим в плен сердцам. Под именем другим я Вам хвалу воздам, Ваш образ воспою, и близкий и далекий, И так сложу стихи, что даже сквозь намеки Вы были б узнаны, краса прекрасных дам. А если вы никем покуда не воспеты И божества никем не явлены приметы — Не гневайтесь! Амур таинственным огнем, Таким огнем не мог наполнить грудь другую, И он не мог найти в другой или другом Подобную любовь и красоту такую.К Диане[159]
Царица светлых сфер, и рощ, и Ахерона, Диана, в трех мирах звезда твоя горит: Со свитой гончих псов, и туч, и Эвменид Ты гонишь, ты грозишь, ты блещешь с небосклона. Так красота твоя пугающе бездонна, Так власть ее слепит, преследует, мертвит, Что молнии она Юпитера затмит, И стрелы Фебовы, и ужасы Плутона. Твои лучи — силки, в тебе сквозящий ад Влюбляют и пленят, ввергают в тьму и хлад, Но только ни на гран не делают свободней, Покоя не сулят, о Цинтия ночей, Диана на земле, Геката в преисподней, Свет, мука и печаль богов, людей, теней!* * *
Как тот, кто заплутал в лесу непроходимом Вдали от всех дорог, от дома, от людей; Как тот, кто в море, в шторм, немало долгих дней Был ветром яростным и волнами гонимым; Как тот, кто брел в полях, когда в необозримом Пространстве свет исчез, блуждаю без путей, Без тропок, без дорог, давно в разлуке с ней, И счастье прежнее уходит прежним дымом. Когда ж увидит взгляд, свидетель стольких бед, В лесах, в морях, в полях исход, приют и свет, То скорбь мою затмит собою свет отрадный. Так я, тот, кто без Вас истерзан жизнью был, Сиянье Ваше вновь увидев, позабыл Лес, муку, мрак густой, тревожный, непонятный.* * *
Стихи-изменники, предательский народ! Зачем я стал рабом, каким служу я силам? Дарю бессмертье вам, а вы мне с видом милым Все представляете совсем наоборот. Что в ней хорошего, скажите наперед? Зачем я перед ней горю любовным пылом, Что в этом существе, моей душе постылом, Всегда мне нравится, всегда меня влечет? Ведь это из-за вас, предательские строки, Я навязал себе такой удел жестокий, Вы украшаете весь мир, но как вы злы! Из черта ангела вы сделали от скуки, И то я слепну вдруг для этой ложной муки, То прозреваю вновь для лживой похвалы.* * *
О Господи, да с нас довольно и того,[160] Что нас при Генрихе лет десять убивали. И убивали мы, а земли прибывали — Но не бывало нам в награду ничего. А мирный договор, французов торжество? Как гром средь бела дня его мы разорвали. Так сосны валятся в жестоком буревале, — Мы в двух баталиях лишились враз всего. Мы побежали вспять: пришел конец надежде, И Франция опять неотмщена, как прежде, И смуту принесло нам примиренье в дар. Один француз с другим прожить не может в мире, Великий Государь заколот на турнире, За ним и два других попали под удар.Жан Антуан де Баиф
Жан Антуан де Баиф о стихах Жака Таюро[161]
Плачевен тот поэт и жалок и смешон, Ничтожен тот поэт, чья слава — подлый случай, Он вымолил ее, как нищий приставучий, Взял выпрошенный дар не по заслугам он. Но я-то выкрикну, никем не воспрошен, Нелживый сей глагол на весь Парнас певучий, Тебя, о Таюро, венчая славой лучшей, Высокой истиной и дружбой вдохновлен. Ты отвергаешь честь, что от творца-светила (А ты таков) приял поэтишка унылый, Кто зиждет честь свою на милости чужих, Поскольку хочешь ты хвалы тебя достойной, — От судей, что в стихах оценят слог твой стройный, — Не снисходя до просьб о похвале других.ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К МЕЛИНЕ»
* * *
Когда в давно минувшие века[162] Сплошным клубком лежало мирозданье, Любовь, не ты ли первой, по преданью, Взлетела и отторглась от клубка? Ты принялась, искусна и ловка, За труд размеренного созиданья, И всем предметам ясность очертанья Дала твоя спокойная рука. Но если правда, что одна лишь ты Сумела размотать клубок вражды И если дружбу ты изобрела, То где же доброта твоя была, Когда в моей душе плелся клубок Друг друга раздирающих тревог?* * *
О, сладкая, манящая картина! На поле боя сладостных ночей Моя душа сливается с твоей И тело с телом слиты воедино. Как жизнь сладка и как сладка кончина! Душа, пьяна от сладостных затей, В тебя вселиться жаждет поскорей — То вверх, то вниз несет меня пучина. Сколь щедро мы, Мелина, силы тратим! Я весь в тебе, я взят тобой всецело. Тобой владея, продолжаю путь — Мной овладев, меня мертвишь объятьем. Но губ твоих и ласки их умелой Достаточно, чтоб силы мне вернуть.ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К ФРАНСИНЕ»
* * *
Один, веля вещать отечественной сцене,[163] Мечтает лоб увить трагическим плющом, Другой поет, к венцу лавровому влеком, Монарху о войне в потоках песнопений. Народа ль, королей искать не стану мнений. Увенчан быть хочу за стих одним венцом: Франсине угодив, войну пресечь концом — Войну моей любви с ордой ее сомнений. Когда б, меня любя, она про эти строки Хоть слово молвила, верша свой суд высокий, Я б из певцов любви счастливым самым стал. А если б снизошла и ручкою атласной Воздела мне на лоб мирт сказочно-прекрасный, Я лбом от радости б до самых звезд достал.ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ»
Придирчивым книгочеям
Ища земных похвал, что изберу предметом? Петь гимны Господу опасно в наши дни, Пустым ославят, чуть о страсти намекни, Сатиру напиши — всяк скажется задетым, О бедах роковых запрет писать поэтам: Вельмож замучит стыд, что тут виной они; Что до пастушьих игр и сельской болтовни — Сей суетный предмет давно отвергнут светом. Комедию, увы, немыслимо представить На нашем языке. Скажите, чтоб доставить Всем удовольствие, как дело мне начать? Что ж, если не сдержать писательского зуда И к непостижному влечет тебя отсюда, По-дружески тебе советую: молчать.Этьен де Ла Боэси
* * *
Сегодня солнце вновь струило жгучий зной,[164] Густой, как локоны Цереры плодородной; Теперь оно взошло, повеял ветр холодный, И снова Маргерит пойдет бродить со мной. Мы не спеша идем тропинкою лесной, И светит нам любовь звездою путеводной; Когда прискучит сень дубравы благородной — Нас поджидает луг и плеск воды речной. И мы любуемся равниною просторной Вдали от города, от суеты придворной — О нелюдимый край, о сладостный Медок! Здесь хорошо душе, и взору здесь приятно, — Ты на краю земли, и дорог нам стократно: Здесь наш злосчастный век, как страшный сон, далек.* * *
Прости, Амур, прости — к тебе моя мольба, Тебе посвящены моя душа и тело, Любой мой помысел, мое любое дело, — Но было нелегко во мне найти раба. О, сколь изменчива коварная судьба! С тобою, о Амур, я бился неумело, Смеялся над тобой — но сердце ослабело: Я сдался, я пленен — и кончена борьба. Ты упрекнуть меня за этот бой не вправе, Сраженье долгое — к твоей же вящей славе, И то, что лишь теперь тебе хвалу пою, Поверь мне, на тебя не бросит малой тени: Презрен, кто упадет без боя на колени, Победа радостна лишь в подлинном бою.* * *
Благословенна светлая весна, Сошедшая на землю своечасно. Природа в доброте вдвойне прекрасна, Тебе дарит сокровища сполна. И вот — тебе отныне отдана Вся красота, что ей была подвластна. Тревожится природа не напрасно: Не слишком ли щедра она была? Твоя рука насытилась, но снова Тебе природа жертвовать готова, Всю Землю предлагая, наконец. Когда ты улыбаешься невольно: Ты отвергаешь дар — тебе довольно Быть королевою мужских сердец.* * *
Увы! Как много дней и тягостных ночей Близ милых сердцу мест я днюю и ночую! Уже двадцатый день, не видя дня, влачу я, Прожив за двадцать дней столетие скорбей. Теперь я слезы лью, жалчайший из людей, Но никого винить в несчастье не хочу я: Глупец! оставил я, погибели не чуя, Ту, что не в силах я оставить в жизни сей. Мне стыдно, что легли под бременем кручины На изможденное лицо мое морщины, Мне стыдно, что, уже согбенный от страданий, Я принял седины безвременной венец; По счету лет моих я все еще юнец, Но я уже старик по счету испытаний.* * *
«Я преданность твою и верность сердца знаю; Не уставай любить и верь, что в смертный час, Доколе не сомкну навек угасших глаз, Все буду о тебе я помнить, умирая. В свидетели себе я бога призываю, Чья молния разит, чей благостный приказ Порядок зим и лет установил для нас, Кружение времен извечно повторяя, Чей разум выверил размерный ход планет, Лампад в его дому, кем держится весь свет От купола небес до полюса земного». — Так дама мне клялась — угодно было ей Столь многословной быть по доброте своей, А мне хватило бы ее простого слова.Филипп Депорт
* * *
С годами я узрю — за муки воздаянье: Зима осеребрит вам золото кудрей, Померкнет царственный огонь двух солнц-очей, Амур уйдет, смущен, утратив обаянье. И нежная краса в своем благоуханье Уступит времени — и в прелести своей; Поблекнет цвет ланит с утратой юных дней — И где сокровище, мое очарованье? Презренье гордое, какому чувства жаль, Преобразится вдруг в раскаянье, в печаль, Когда изменится ваш образ оживленный. Не позавидуйте тогда судьбе чужой — Ожить в моих стихах с их страстной теплотой, Как Феникс из огня взлетает обновленный.* * *
Когда я отдохнуть сажусь под тень берез, Амур, отбросив лук, садится на пенечке. Когда пишу стихи — и он кропает строчки, Коль плачу — удержать и он не может слез. Когда пожалуюсь, что много перенес, Предупреждает он: «Знай, это лишь цветочки!» Порою, оторвав полоску от сорочки, Врачует рану мне, что сам же и нанес. Когда невесел я, со мною вместе тужит, И днем и по ночам мне провожатым служит, В сражении щитом прикроет иногда. Куда б я ни пошел — его увижу вскоре. Охотно делит все: и радости и горе. Короче — он со мной повсюду и всегда.* * *
Бегут за днями дни, как волны в океан, Бесшумно небеса свершают путь извечный. О смертный! Ты в своей гордыне бесконечной Не ведаешь, что жизнь твоя — сплошной обман. Прошелестят года, как ветры дальних стран. Мгновенно пролетит срок жизни быстротечной. Смерть грубо оборвет наш карнавал беспечный, И суеты мирской рассеется туман. Один умрет, как раб, раздавленный судьбою. Другой тоску любви уносит за собою. Блеск славы — одному, другому — шум войны. Желаниям людским нет ни конца, ни края. Но для чего, скажи, игра страстей пустая, Коль в землю навсегда вернуться мы должны?* * *
Здесь некогда упал дерзающий Икар,[165] Который высоте отдал души стремленье. Здесь он крыло сломал в безудержном паденье, Но в доблестных сердцах зажег ответный жар. О, юной смелости завидный многим дар, И в малом, и в большом достойный восхваленья, Ты вместе с гибелью уносишь в поколенья Бессмертие мечты, повергшей мир в пожар! Неведомым путям отдав свое дерзанье, Отважно ринувшись в пучину мирозданья, Почти коснулся он рукой его венца И, дерзко истощив своей отваги силу, Низверженный с высот, обрел в волнах могилу… Завиднейший удел! Прекрасней нет конца!Агриппа д’Обинье
Надгробные стихи Теодора Агриппы д’Обинье на смерть Этьена Жоделя, парижанина, короля трагических поэтов[166]
Когда Жодель пришел, оставив наши стены, Еще от смертных мук бессилен и разбит, Когда подземных царств ему открылся вид, Он с облегчением вздохнул от перемены. Он Ахеронт нашел приятней нашей Сены, Парижа нашего приятнее Аид: Хоть этот порт черней, но все ж не так смердит, Как жизнь там наверху, и все ее измены. Харон берет его в свой погребальный челн, И говорит Жодель, плывя во мраке волн: «Нельзя ль мне утонуть, чтобы скончаться снова. И столь же выгадать еще один разок, Как в этот первый раз?» Но больше он не мог Переменить жилье для счастия двойного.* * *
Рыданья горестные, вздох печали[167] И слезы, застилающие взор, — В них боль моя, обида и укор, Они мои мученья увенчали. Надежды призрачные, как вначале, Смятенье мыслей и страстей раздор, — Агонии моей наперекор Все эти чувства вновь затрепетали. Ты слышишь, небо, мой посмертный стон, Он сдавлен горем, смертью заглушен, Ты покарай раскаяньем Диану, За то, что навязала мне вражду, Желала, чтобы я сгорел в аду, И нанесла мне гибельную рану.* * *
О сжальтесь, небеса, избавьте от напасти, Пучина, смилуйся, смири свой грозный вал, Он смертным холодом уже сердца обдал, Так пощадите ж тех, чьи судьбы в вашей власти! Корабль трещит по швам, не выдержали снасти, Увы, надежды нет, последний рвется фал, Ветрила рухнули, все ближе зубья скал, В чьей гордой красоте зловещий знак несчастий. Превратности судьбы зыбучи, как пески, Рыданья, словно гром, как вихри — вздох тоски, Надежды зыбкие подобны зыбкой пене. Где любящих сердца, превозмогая страх, Плывут почти без сил в бушующих волнах Свидетельство того, как беспощадно ранят.* * *
Ронсар, ты щедрым был, ты столько дал другим, Ты одарил весь мир такою добротою, Весельем, нежностью, и мукой, и тоскою, И мы твою любовь, твою Кассандру чтим. Ее племянницу, любовью одержим, Хочу воспеть. Но мне ль соперничать с тобою? Лишь красоту могу сравнить одну с другою, Сравнить огонь с огнем и пепел мой с твоим. Конечно, я профан, увы, лишенный знанья И доводов. Они полезны для писанья, Зато для нежных чувств они подчас не впрок. Восходу я служу, а ты вечерним зорям, Когда влюбленный Феб спешит обняться с морем И повернуть свой лик не хочет на восток.* * *
Мила иному смерть нежданная в бою, От пули, от меча, кинжала иль картечи, Кончина славная среди кровавой сечи, Где ж та судьба оставшимся в строю? Мила иному смерть в постели, не таю, И суетня врачей, потом — над гробом речи, И вопли плакальщиц, и факелы, и свечи, И склеп на кладбище, и уголок в раю… Но не прельстит меня нимало смерть солдата: Ведь в наши времена его ничтожна плата. В кровати смерть скучна, она — удел ханжей. Хочу я умереть в объятиях Дианы, Чтоб в сердце у нее, от горя бездыханной, Воспоминания воздвигли мавзолей.* * *
В неровных бороздах убогие ростки До срока родились, но холод грянул снова, Чтоб с юной красотой расправиться сурово, И вновь пришла зима природе вопреки. Для чахлой поросли морозы нелегки, Но ей на выручку прийти метель готова, Укроет белизна надежного покрова И вдосталь напоит весною колоски. Надежды любящих — ростки хлебов зеленых, Обида и разлад, как изморозь на склонах, Когда погожий день еще за тучей скрыт. Таится блеск весны под сумрачною тенью, Размолвки любящих приводят к примиренью, А гневная гроза возврат любви сулит.* * *
На строгий суд любви, когда меня не станет, Мое истерзанное сердце принесут, Кровоточащий ком, обугленный, как трут, Свидетельство того, как беспощадно ранят. Перед лицом небес несчастное предстанет, Где отпущение лишь праведным дают, Оно всю боль свою слепой любви на суд Представит, а тебя в ответчицы притянет. Ты скажешь: это все Венера, все она И озорник Амур… мол не твоя вина. Но ведь на них валить — нехитрая наука. Смертельный этот жар сама ты разожгла, И если Купидон пустил стрелу из лука, Твоя зеница — лук, твой быстрый взор — стрела.Франсуа Малерб
К королю[168]
Пусть редкой доблестью, никем не превзойденной, Что исцелит одна недуги наших бед, Геройство зрелое твоих незрелых лет Нам даровало мир, в тревогах утвержденный; Пусть гидре мятежа, еще не покоренной, Ты смертию грозишь, искореняешь вред — Счастливец истинный в величии побед, Достойный овладеть всемирною короной, — Но тем прекраснее завидный твой удел, Что стал я зрителем твоих великих дел, И в этом, мой король, небес благоволенье: Все рады петь тебя, не каждому дано; Лет пять иль шесть живет бездарное творенье, Малербовым стихам бессмертье суждено.Кардиналу Ришельё[169]
Отныне никакой не страшен нам урон; Великая душа, великий труд свершая, Ты Францию ведешь, надежду ей внушая, Что впредь любой недуг пребудет исцелен. Как в старости своей помолодел Эсон, Так и она, себя достойному вручая, Невзгоды победит, судьба смягчится злая, Румянец будет вновь принцессе возвращен. Чтя мудрость короля, ему предрек я славу, Плодами мирными он одарит державу, И все живущие преклонятся пред ним. Но с помощью твоей вдвойне славней порфира, И был бы я в долгу пред королем моим, Не предсказав ему завоеванье мира.Антуан де Сент-Аман
Трубка
Поближе к очагу присев на связку дров, Я с трубкою в руке задумался глубоко О горестях моих, о власти злого рока, О том, что чересчур со мною он суров. Но теплится в душе надежда, и готов Я верить, что судьба, по истеченье срока, Изменит жизнь мою, я вознесусь высоко И в славе превзойду властителей миров. Но стоит табаку в горсть пепла превратиться, Как мне с моих высот приходится спуститься, Сойдя в низину бед, чей мрак непобедим. Нет! Что ни говори, различие большое Никак нельзя найти меж трубкой и душою: Надежда иль табак, то и другое — дым.Кутилы
Ложась в разгар зимы втроем в одной постели, Поставленной в чулан, где ни огня, ни свеч, И слышать злых котов готическую речь, И видеть их зрачков светящиеся щели; Забыть, когда и где в последний раз мы ели, Для изголовия полезно приберечь, Скрести под мышками, чтобы себя развлечь, Мечтать, гримасничать, болтать без всякой цели; И шляпу до ушей, а не ночной колпак Натягивать, ворча, и думать, что никак Не может рваный плащ сравниться с одеялом; Постичь трактирщика дурное естество, Когда отказывает он и в самом малом, — Вот до чего порой доводит мотовство.Альпийская зима
Повсюду огненные атомы сверкают, Восточной роскоши печать лежит на всем: Искрится золотом зима и хрусталем, И космы белые ей ветры развевают. Одежду хлопковую горы надевают, Дороги водные прозрачны подо льдом, Морозный воздух чист, царит покой кругом, И, видя это все, глаза мои сияют. Мне холод по душе, зиме всегда я рад; Ее сверкающий и девственный наряд Скрыть преступления земли на время может. Не потому ли Зевс так благосклонен к ней? Не потому ль щадит он ясность этих дней И в гневе никогда их громом не тревожит?Ленивец
Заворожен тоской и ленью, сердцу милой, Лежу в постели я, как заяц без костей, Глубоким спящий сном в паштете для гостей, Иль словно Дон Кихот с его мечтой унылой. Шуми в Италии война с двойною силой, В борьбе за власть пфальцграф пади иль одолей, — Слагаю светлый гимн я праздности своей, Чьей ласкою душа объята, как могилой. Мое безделие настолько сладко мне, Что думаю: всех благ достигну я во сне — Недаром от него я раздобрел немало. Так ненавижу труд, что просто мочи нет На краткий миг с руки откинуть одеяло, Чтоб этот записать, о Бодуэн,[170] сонет.Жан Оже де Гомбо
Я с вами разлучен
Я с вами разлучен, леса, долины, горы, Где я увидел свет и счастлив был подчас; Я с вами разлучен и словно мертв без вас: Меня лишили вы поддержки и опоры. Напрасно я стремлюсь, к вам обращая взоры, Покинуть край чужой, где сердцем я угас, Напрасно на судьбу ропщу в недобрый час: Мне вас не возвратят ни ропот, ни укоры. Вы мной потеряны — и я мертвец живой. Не здесь ты, родина моя! Но предо мной Пример Спасителя, о нем я помнить буду; Нет, я не изменюсь, пока живым слыву, — Он места не имел, где приклонить главу, А я, куда б ни шел, я чужестранец всюду.Харита прочь ушла[171]
Харита прочь ушла из края, где когда-то Два солнца глаз ее смотрели в гладь озер. Зефир, чтоб ей внимать, на травяной ковер Ложился у воды, смолкая виновато. Вот лес, чьи гордые вершины в час заката, Казалось, опалял мерцающий костер. Но этих мест краса, что так пленяла взор, Оставив все как есть, исчезла вдруг куда-то. О радость дней моих, какой удел нас ждет? Подобна ты цветку: лишь утро он живет. Уходит радость прочь — печаль подъемлет знамя… Но, счастьем притворясь, печаль здесь не одна: Пустынный полон край прелестными тенями, И где Хариты нет — вновь предо мной она.* * *
— О мысли праздные, за радостью былою Зачем бежите вы? Ее не удержать. — Хотим мы, чтобы вновь любовь была с тобою И сердцу твоему вернула благодать. — Химеры глупые, вы знаете, с какою Печалью вам дано о прошлом вспоминать? — Надежда верная, как любящая мать, Нам душу исцелит, не знавшую покоя. — Ах, разве я могу надеяться и ждать, Что милая моя ко мне придет опять? — Причуды верности любовной очень странны. Ты женщин не кляни. Развей душевный мрак. Ведь их отказ — ответ оракула туманный: Предскажет вам одно, а выйдет все не так.* * *
Ее не видел я, она мне незнакома… Зачем влюбиться в тень велел мне тайный рок? По слухам, воплотил в ней совершенство бог, — И страстью к ней одной душа моя влекома. Померкнет ум, когда увижу я фантома! Так в бурю гибнет бриг, хоть берег недалек. Жизнь, смерть ли принесет мне встречи нашей срок? В одном лишь имени — надежда, страх, истома… Любовью к призраку кто долго проживет? На слухах основать возможно ли, Эрот,[172] И всю мою печаль, и всю мою отраду? Я больше не хочу внимать молве о ней! Поверю лишь себе! Ее мне видеть надо, Чтоб или разлюбить иль полюбить сильней!* * *
Ты, усомнившийся в могуществе небес, Ты, почитающий природу вместо бога, Скажи нам, кто зажег все звезды, — их так много! — В движенье их привел, исчислил путь и вес? Каким ты одержим желаньем? Или бес, Вселившийся в тебя, рад всякому предлогу, Чтоб разум твой мутить, и, потеряв дорогу, Бредешь ты, как слепой, сквозь заблуждений лес? Как можно отрицать, что все творцу подвластно? И жизнь и смерть людей являют ежечасно, Что провиденье есть… Есть, к твоему стыду. Коль эти знаменья твой ум не удивили, И небо и земля тебя не вразумили, — О грешник, обо всем узнаешь ты в аду.Жак Валле де Барро
В могиле Саразэн[173]
В могиле Саразэн, и Вуатюр в могиле, И старый друг мой Бло, что был мне дорог так. Увы, их всех троих в земле похоронили… Кто встречи избежит с тобой, загробный мрак? Я, слабый, воздаю хвалу небесной силе, За то, что жив еще, за то, что столько благ Природа мне дает, покуда не скосили Меня болезнь и смерть и тверд еще мой шаг. Земные радости влекут меня так властно, И солнце я люблю, и пышность розы красной, И как мне не грустить, что их утрачу я? Беспечно встретить смерть? Нет, все-таки поверьте, Совсем не хочется мне стать добычей смерти, Но и дрожать за смерть постыдно для меня.Всевышний, ты велик
Всевышний, ты велик, и добр, и справедлив, И нам являешь ты свое благоволенье, Но столько я грешил, что добрый твой порыв Со справедливостью пришел бы в столкновенье. Тебе, познавшему, как был я нечестив, Осталось только казнь придумать мне в отмщенье, Ты видишь свой ущерб в том, что еще я жив, А если радуюсь — исполнен отвращенья. Ну что ж, насыть свой гнев, тебя прославит он, И пусть не трогает тебя мой скорбный стон, Бей, грохочи, ответь мне на войну войною — Тебе лишь воздадут хвалу мои уста… Но где б ни пал твой гром, летящий вслед за мною, Он упадет туда, где все — в крови Христа.Сон
Все в мире предстает в обманчивом обличье, Не мудрость, а судьба нас за собой ведет, Паденье тягостно, но тягостен и взлет, При всех усилиях — лишь пустота в наличье. Ты, славивший любовь во всем ее величье, Ты говорил, что смерть, когда она придет, Подобна будет сну… Но есть иной расчет: Сон больше с жизнью схож, но велико различье. Как снятся ночью сны, так снится, что живешь, Надеешься, дрожишь, хоть беспричинна дрожь, Одни желания сменяются другими, Труды безрадостны, ничтожен их итог… Так что такое жизнь? Какое дать ей имя? Скажу вам, смертные: я сном ее нарек.Ты отвратительна, о смерть!
Ты отвратительна, о смерть! Без сожаленья Ты косишь род людской ужасною косой, А после прячешь в ров или во мгле морской — Останки жалкие великого крушенья. Неумолима смерть, и от ее решенья Не откупиться нам слезами и тоской; В постели, за столом, средь суеты мирской — Она везде найдет, и нет нам утешенья. Ни мудрость от нее, ни смелость не спасет, Она то прямо бьет, то сзади нападет, Бессильны перед ней и молодость и старость. Порой мне говорят: не сокрушайся так, От смерти средства нет, не сладить с ней никак… И это, черт возьми, меня приводит в ярость.* * *
Не рваться ни в мужья, ни в судьи, ни в аббаты, От мэтров и мэтресс покой оберегать И не в учености ханжей витиеватой, А в счастье находить земную благодать, На платья да на стол расходовать деньжата, Встречать лишь невзначай и короля и знать, Жить верою своей, пускай и небогато, Ни в чем не отходить от правды ни на пядь, Лишь совести внимать, не создавать кумира, В тиши благоговеть перед загадкой мира, Бесплодной суеты презревши круговерть, Лишь настоящим жить, не умирать заране, В грядущее смотреть без глупых упований — Исполни сей завет, чтоб ждать спокойно смерть!Теофиль де Вио
* * *
Хочу я от любви найти во сне покой, Но бодрствуют и мысль, и зренье до рассвета; Все ж миновала ночь мучительная эта — И мне не верится, что я еще живой. И вырвать из души жестокий образ твой Клянусь в который раз, хоть не сдержу обета — Померкший разум мой уже не терпит света, Безумцем, как вчера, встречаю луч дневной. Я знаю — смерть идет с моим безумьем рядом, Мой разум предпочел несчастия — отрадам, Он ищет горестей, веселье не по нем; Насущный хлеб души — кто знает, где и в чем? Когда-то Митридат питался только ядом, И кровью — Лестригон, как ныне я — огнем.[174]Сонет Теофиля на его изгнание
Влачу изгнание на этих скорбных склонах, Где волк учтивей всех, кто близ меня живет, Где белки мельтешат в колючих темных кронах, Где сбор смолы дает единственный доход, Где без огня — очаг, без дыма — дымоход, Где баловень судьбы страшится лет преклонных, Где скупость скудностью убита, где весь год Стихии терпят гнев небес неблагосклонных, Где солнце, сговорясь с судьбою мне на зло, Ленивей никогда по небу не ползло, Часы отчаянья удвоив из усердья, Что ж — пусть и вкривь и вкось блуждает в высоте, Коль изменил король привычной доброте И для меня иссяк источник милосердья.Сонет Теофиля на его изгнание
Надеждой тешу ум, но все ж никак не скрою — Неисцелимо я, несчастный, поражен; В груди моей стрела, она всегда со мною, Куда б я ни бежал, страданием пронзен. В пустыню я пришел, где ветер, словно стон, Где солнце хмурится над скудною землею, И слез моих поток, ничем не прегражден, Твердь напитал дождем, насытил воздух мглою. Средь этих гиблых мест, куда привел мой путь, Где я влачу один отчаянья оковы, Расселись по ветвям стервятники да совы. Здесь я в укрытии; и разве кто-нибудь Дерзнет искать меня в глуши лесов суровых, Куда светило дня не смеет заглянуть?Франсуа Тристан Лермит
Корабль
Я, Древо пышное, плавучим судном стало, В горах возросшее, мчусь ныне по волнам; Когда-то я приют отрядам птиц давало, Теперь солдат везу к далеким берегам. Плеск весел заменил веселый шум ветвей, Листва зеленая сменилась парусами; С кибелой[175] разлучась, я чту богов морей, Как встарь соседствуя вершиной с небесами. Но прихоти свои есть у судьбы слепой, Я у нее в руках, она играет мной, Гнев четырех стихий сулит мне участь злую: Нередко ураган мне преграждает путь, Волна, обрушившись, мне разрывает грудь, И я боюсь огня, но больше — твердь земную.Увидев белый свет
Увидев белый свет, бессильным быть вначале, Почти не двигаться и только есть и спать; Потом от строгости взыскательной страдать, Чтоб знанья наконец твой разум увенчали. Затем влюбиться вдруг, и чтоб тебя встречали Не слишком холодно, забыть былую стать, Склоняясь перед той, чье сердце не понять И кто не радости приносит, а печали. Лукавить при дворе, а после, став седым, Бежать от шума прочь, к местам своим родным, И старческую кровь влачить в уединенье, — Вот светлая судьба! О, беспросветный мрак! Неужто это все столь важно, чтоб в смятенье Так жизнью дорожить, бояться смерти так?Кончается мой день
Кончается мой день. И на закате дня Приметы старости я узнаю с тоскою, И вот уж смерть сама, чтоб выманить меня, Стучится в дверь мою дрожащею рукою. Как солнце в небесах медлительно плывет, А завершает путь стремительным паденьем, Так завершается и времени полет, Так дни последние нам кажутся мгновеньем. Пора нам погасить огонь страстей былых, Пора нам позабыть о радостях земных, Суливших некогда нам столько наслаждений. Отвергнем жизни сон, что мог еще вчера Нас удержать в плену обманчивых видений: Нам к сну последнему готовиться пора.Гийом Кольте
* * *
Ласкает все мой взор, на все глядеть я рад: Великолепен двор веселый за оградой, Величественны львы под строгой колоннадой, И нежным кажется их разъяренный взгляд. Под тихим ветерком деревья шелестят, На шорох соловей ответствует руладой, Цветы напоены магической усладой: Не звезды ль у небес похитил этот сад? Аллея милая с нежданным раздвоеньем, Не оскверненная пустой толпы вторженьем, Еще хранит, Ронсар, твоих шагов печать.[176] Увы, тщеславное желанье вечной славы! Мой след я на песке могу с твоим смешать, Но где в моих стихах твой гений величавый?* * *
Вы брали прелести во всех углах вселенной,[177] Природа и Олимп расщедрились для вас. У солнца взяли вы свет ваших чудных глаз, У розы вами взят румянец щек бесценный, У Геры — стройный стан, а голос — у сирены, Аврора вам дала лилейных рук атлас, Фетида — властный шаг, словесный жар — Пегас, А вашей славы блеск взят у моей Камены. Но расплатиться вы должны когда-нибудь! Придется свет очей светилу дня вернуть; Вы Гере грацию должны вернуть по праву. Авроре — нежность рук, а свежесть щек — цветам, Фетиде — властный шаг, моим катренам — славу!.. Спесивость — это все, что остается вам.Поэтическая жалоба
Я много написал, и от стихов моих Богаче стал язык, а я еще беднее, Земля запущенней, под крышей холоднее, И пусто в кладовой, где писк мышей утих. Растратою души оплачен каждый стих! Чем совершеннее поэты, тем виднее Их сумасшествие, и тем еще сильнее, Им расточая лесть, осмеивают их. Трудясь так радостно над книгой бесконечной, Я убивал себя во имя жизни вечной, Я истощал свой ум, чтобы других развлечь, Чтоб славу обрести, чей гул наскучит скоро, Чтоб высоко взлететь и не иметь опоры, Чтоб с Музою дружить — и счастья не сберечь.Осмеянные Музы
Какой изъян в мозгах быть должен с юных лет, Чтоб с Музами водить знакомство год из году! Посадят, подлые, они на хлеб и воду Того, кто разгадать надумал их секрет. С тех пор, как я пишу, мне все идет во вред, Фортуна прочь бежит, а я терплю невзгоду, Забрался на Парнас[178] — и в скверную погоду Там пью из родника и в рубище одет. О Музы! Это вы причина невезенья! Однако с возрастом пришло ко мне прозренье, И больше вам в игру не заманить меня. Я буду пить вино, а воду пейте сами, Замечу щель в окне — заткну ее стихами, И брошу лавры в печь, чтоб греться у огня.Время и любовь
Всесильным временем, что миром управляет, Был превращен пейзаж, так радовавший взор, В приют уныния, где смолкнул птичий хор И где опавший лес печаль свою являет. Так время, все, что есть, на гибель обрекает, Оно империи сметает, словно сор, Меняет склад умов, привычки, разговор И ярость мирного народа распаляет. Оно смывает блеск и славу прошлых лет, Имен прославленных оно стирает след, Забвенью предает и радости и горе, Сулит один конец и стонам и хвальбе… Оно и красоту твою погубит вскоре, Но не сгубить ему любви моей к тебе.Венсан Вуатюр
Сонет к Урании
Любовь к Урании[179] навек мной овладела! Ни бегство, ни года не могут мне помочь Ее нельзя забыть, нельзя уехать прочь, Я ей принадлежу, нет до меня ей дела. Ее владычество не ведает предела! Но пусть я мучаюсь, пусть мне порой невмочь, Мои страдания готов я день и ночь Благославлять в душе и гибель встретить смело. Когда рассудок мой невнятно говорит, Что должен я восстать, и помощь мне сулит, К нему прислушаться пытаюсь я напрасно: Ведь, говоря со мной, так робок он и тих! Но восклицая вдруг: Урания прекрасна! — Он убедительней бывает чувств моих.Рано проснувшейся красавице[180]
Когда букеты роз влюбленная в Цефала Бросала в небеса из утренних ворот, Когда в раскрывшийся пред нею небосвод Снопы сверкающих лучей она бросала, Тогда божественная нимфа, чье зерцало Являет красоты невиданный приход, Возникла предо мной среди мирских забот, И лишь она одна всю землю озаряла. Спешило солнце ввысь, чтоб в небе напоказ Пылать, соперничая с блеском этих глаз, И олимпийскими лучами красоваться. Но пусть весь мир пылал, исполненный огня, Светило дня могло зарею лишь казаться: Филиса в этот миг была светилом дня.АНГЛИЯ
Томас Уайет
* * *
Охотники, я знаю лань в лесах,[181] Ее выслеживаю много лет, Но вожделений ловчего предмет Мои усилья обращает в прах. В погоне тягостной мой ум зачах, Но лань бежит, а я за ней во след И задыхаюсь. Мне надежды нет, И ветра мне не удержать в сетях. Кто думает поймать ее, сперва Да внемлет горькой жалобе моей. Повязка шею обвивает ей, Где вышиты алмазами слова: «Не тронь меня, мне Цезарь — господин, И укротит меня лишь он один».* * *
Нет мира мне, хоть кончена война.[182] Страшусь, надеюсь. Я огонь и лед. Над ветром я, но не по мне полет, И мой — весь мир, хотя пуста казна. Моя темница мрачная прочна, В ней нет замков, но затруднен уход — Ни жить, ни умереть мне не дает, Хоть повод к смерти подает она. Смотрю без глаз, кричу без языка, Я кличу смерть, о здравии молю, Себя кляну, а не себя люблю, Мне силы скорбь дает, а боль легка. И жизнь, и смерть постыли мне равно — Моей отрадой это мне дано.* * *
Я терплю и терплю, без конца терплю, Жду прекращенья скорбей и обид, А мне госпожа моя говорит: «Назойлив не будь — и печаль утолю». Я терплю и терплю, ожидание длю, Но радости миг от меня сокрыт — И так я терплю, а время летит, И никак не дождусь я, о чем молю. Увы мне, терпенья тягостный срок С муками, скрытыми в каждом дне, Смертью продленной кажется мне — Так он мучителен и жесток. Уж лучше б лишиться надежды враз, Чем напрасно терпеть, встречая отказ.Обманутый влюбленный видит свое заблуждение и намеревается не верить более[183]
Не резчик здесь явил свое уменье, Но я, тобой обманутый вконец, Был обращен в искуснейший резец, Другому вырезая обрамленье. Все ж разум оказал мне снисхожденье, Когда я, мудрость взяв за образец, Не стал, как легкомысленный юнец, С охотой предаваться заблужденью. Но верю в неизменную награду: Пускай обман по-прежнему силен — В своих силках запутается он, И эта мысль приносит мне отраду. Плутуя, сам себя обманет ловко — И в плутнях заплутается плутовка.Влюбленный рассказывает, как он был поражен, взглянув на возлюбленную
Я вижу блеск зарниц в ее очах: От них мне защититься невозможно. Трепещет сердце сладко и тревожно, Святым огнем сжигаемое в прах. О, ярок пламень сей! Отринув страх, Посмел я поглядеть неосторожно, И вот — скитаюсь в слепоте ничтожной, Как если бы увидел в небесах Владыки молний грозное явленье; Повержен я — глухая тьма вокруг, О помощи взываю сквозь испуг, Не сетуя на горькое паденье, Ибо за светом — есть ли диво в том? — Рокочет, слышу, смертоносный гром.Влюбленный, созерцавший во сне блаженство любви, сетует, что сон столь краток и обманчив
Обманщик Сон, не обмани хоть раз, Не отнимай блаженного виденья! Превратного вкусил я наслажденья — Постыл и горек пробужденья час. Из милосердия не свел ты нас Лицом к лицу средь бурного смятенья, Но мне явил ты силой заблужденья, Как наяву, сиянье милых глаз. Безгласно тело, счастлив дух мечтами. Мертвы все чувства, только дух живет. Зачем же возвращаешь мир забот И в жгучее меня ввергаешь пламя? С мечтою обрекая на разлуку, Насмешник Сон сулит мне злую муку.Влюбленный уподобляет себя кораблю, застигнутому в море губительным штормом
Моя галера в горьком небреженье Плывет ночами зимними меж скал; Жестокого властителя вассал, Терплю невзгоды я и униженье. Страх смерти доставляет мне мученье, Несет погибель каждый встречный вал; Суровый ветер парус изорвал; К отчаянью стремит меня теченье. Плыть нелегко сквозь шквал и ливень слез, Под ветром реи шаткие скрипят; Потерян курс, и втуне ищет взгляд Звезду, чей свет страдания принес. В пучину канул разум, и в пути Я не надеюсь гавань обрести.Сетования влюбленного о том, что истинная любовь не встречает взаимности
Что преданность — и от нее мученье? Упорное и страстное стремленье Быть верным и двуличья избежать? Но правде лживость ловкая под стать И равное найдет вознагражденье. Тот верх возьмет, кто лжет — и без стесненья. Чистосердечье встретит лишь презренье. Как постоянство и прямая стать Притворству могут противостоять? Обманутый, введенный в заблужденье Не видит ков, не мыслит о спасенье, Готов хоть век в капкане пребывать. Но столь жестокой красоте отдать Всю жизнь нельзя, не сбросив ослепленья.Отречение от любви
Прощай, любовь! Твои законы ныне Блюсти оставил я напрасный труд. Меня Платон и Сенека зовут К спокойствия разумной благостыне. Слепцом я был, упорствовал в гордыне, В плен угодив хитро сплетенных пут. Однако понял: проку мало тут — Забыв свободу, биться в паутине. Итак, прощай! Терзай того, кто млад, И надо мной свою сложи ты власть. Теперь юнцов беспечных мучай всласть, Меня твои шипы не уязвят. Хоть чтил я до сих пор твои заботы, На сук гнилой взбираться нет охоты.Генри Говард, граф Серрей
* * *
Из доблестной Флоренции ведет[184] Род госпожи моей свое начало; Ее отчизна — остров, что из вод Глядит на Камбрии крутые скалы. Ирландская ее вскормила грудь, Отец был граф, мать — королевской крови; К двору привел ее судьбины путь, Где все услады жизни наготове. Гендстон меня представил первый ей, Гемптон внушил поведать Джеральдине Мою мечту назвать ее своей, А Виндзор злой нас разлучает ныне. Она подобна ангелу в раю; Блажен, кому отдаст любовь свою.Описание весны, когда всё обновляется, и только влюбленный пребывает неизменным[185]
Весна, пора цветенья, настает, Холмы и долы в зелень одевая; В наряде новом соловей поет, И голубков укрыла сень лесная. Олень речушку переходит вброд, Рога висеть меж сучьев оставляя; Змея линять в кустарники ползет. Всё оживает на пороге мая: В волнах резвится рыбок хоровод, На солнце новой чешуей блистая; По капле пчелы собирают мед, И ласточек кружится в небе стая. Заботы тают, как апрельский лед, Лишь у меня в душе печаль растет.Жалоба отвергнутого влюбленного
Любовь моим рассудком овладела И в сердце свой соорудила трон. В сраженьях с ней лицо мое алело Шелками неприятельских знамен. Но та, любви кто учит и страданью, Пред кем надежды никнут, оробев, И под плащом стыда молчит желанье, Сменяет милость прежнюю на гнев, — И в панике любовь летит обратно, Сидит, не смея носа показать, И сетует, что тщетен подвиг ратный; Так без вины я вынужден страдать, Но ратника вовек я не покину: Блажен, кто примет от любви кончину.Бренность и вероломство красоты
О смертная краса, ты столь нежна! Ничто твой дар, и час недолог бренный. Едва в цвету, осыпаться должна; Рассудку то же ты, что в волнах пена. На миг единый в руки нам дана; Скользка, как уж, коварна, как измена; Без пользы, но превратностей полна — Придешь нескоро, улетишь мгновенно. С опасностью навек обручена, Лжи и притворства камень драгоценный; Для юных сладостью напоена, О чем я сокрушаюсь неизменно, — Ты такова, как зрелый ныне плод, Что с первою же бурей опадет.Филип Сидни
ИЗ ЦИКЛА «АСТРОФИЛ И СТЕЛЛА»
1
Пыл искренней любви я мнил излить стихом,[186] Чтоб милую развлечь изображеньем бед — Пускай прочтет, поймет и сжалится потом, И милость явит мне за жалостью вослед. Чужие книги я листал за томом том: Быть может, я мечтал, какой-нибудь поэт, Мне песнями кропя, как благостным дождем, Спаленный солнцем мозг, подскажет путь… Но нет! Мой слог, увы, хромал, от Выдумки далек, Над Выдумкою бич учения навис, Постылы были мне сплетенья чуждых строк, И в муках родовых перо я тщетно грыз, Не зная, где слова, что вправду хороши… «Глупец! — был Музы глас. — Глянь в сердце и пиши».3
Пускай поклонник девяти сестер,[187] Свой вымысел раскрасив похитрей, Словесной вязью позлащает взор, Рядится под Пиндара, лицедей, Разведав путь, известный с давних пор, Пускай он славой тешится своей, Вплетает в строки пальмовый узор И образы тропических зверей, Мне хватит Музы и одной вполне, Все чувства и слова живут во мне, Не впрок чужих сокровищ закрома, Я, встретив Стеллу, Красоту постиг, Копирую, как скромный ученик, То, что Природа создала сама.4
Ах, Добродетель! Дай мне отдохнуть — Ты разожгла ума и сердца спор. Коль тщетная любовь язвит мне грудь, Сама и помоги ей дать отпор! Тебе под стать Катон какой-нибудь, Тебе пристали школа и собор… Увы, моя куда ранимей суть, Я не снесу твоих жестоких шпор! Но если неизбежно, чтобы мной Владела ты, мрача рассудок мой, — Свидетелем да будет сердце вновь; Увидишь ты, ручаюсь за него, Что в нем живет такое Божество, В котором ты воплощена — Любовь.5
Вот истина: глаза — лишь для того, Чтоб Разуму служить. А он помазан Монархом быть, — тот, кто не чтит его, Природой будет как бунтарь наказан. Вот истина: стрелой Амура назван Недуг. И в храме сердца своего Мы чтим его, глупцы, покуда разом Нас не прикончит это божество. Вот истина: Краса живет в Добре! Черты, что элементами творимы, — Лишь тень в недолгой жизненной игре… Вот истина; мы в жизни — пилигримы, Душой влекомы к своему пределу: Вот истина — любить я должен Стеллу.6
В беседах с Музами влюбленные твердят О зыбкости надежд, о страхах постоянных, О том, что райский свет мучительней, чем ад. О бурях, о кострах, о гибели, о ранах. Поют Юпитера в его обличьях странных: То лебедь он, то бык, то ливень-златопад. Порой рядится принц в пастушеский наряд, Свирелью тешится в лесах и на полянах. Иной в своих стихах на жалобы не скуп, И вздохами слова с его слетают губ, И слезы льет перо, и лист бледнеет белый. Я тоже так бы мог, как эти господа, Но вся душа моя распахнута, когда Дрожащим голосом я молвлю имя Стеллы.7
Когда Природа очи создала Прекрасной Стеллы в блеске вдохновенья, Зачем она им черный цвет дала? Быть может, свет подчеркивая тенью?.. Чтоб свет очей не ослепил чела, Единственное мудрое решенье Природа в черной трезвости нашла, — Контрастами оттачивая зренье. И чудо совершила простота, И Красота отвергла суесловье, И звездами сияла чернота, Рожденная Искусством и Любовью, Прикрыв от смерти траурной фатой Всех тех, кто отдал кровь Любви святой.10
Ты впрямь двужилен, Разум, коль доныне Бранишь любовь и сердце, сумасброд; По мне, ты лучше б с лирой шел к вершине Иль брал из рук Природы спелый плод, Или следил светил небесных ход. Напрасно тупишь плуг в бесплодной глине — Не трогай чувства и его забот, Правь мыслями — любовь нейдет в рабыни. Хоть сердце и любовь терзаешь днесь, Клинками мысли действуя умело, Прямой удар в тебе убавит спесь: Чуть опалит тебя лучами Стелла, Ты, Разум, сразу хватишься за ум И в толк возьмешь любовь без долгих дум.11
Любовь! В каком ребячестве пустом Порою ты бываешь виновата: Вдруг Небеса одарят таровато, А ты — бежать (от лучшего притом!)… Как мальчик, книжным прошуршав листом, Картинки глянет, переплета злато, Но даже знать не знает, сколь богато Умом писатель свой украсил том, — Вот так, ребенок, в Стеллиных зеницах Завороженно ты отражена, Ловушку видишь ты в ее ресницах, А тайна ведь — в груди заключена! И чем в лучах красы наружной греться, Не лучше ль, глупая, в ее проникнуть сердце?16
Так создан я, что за собой влекли Меня красавицы, как самоцветы, Бурлящий дух мой попадал в тенеты, Которые Любовью нарекли. Но языки огня меня не жгли, Мне боли страсть не причиняла эта, И я решил, что неженки наветы На страсть из-за царапин навлекли. Я с этим львенком лишь играл, пока Мои глаза (на счастье, на беду ли?) Узрели Стеллу. Сломана строка, Ее глаза мой мир перевернули. Теперь с Любовью мы накоротке — Она как яд в отравленном глотке.18
Я сознаюсь в ничтожестве своем, Входя к рассудку в счетную палату, Из всех счетов я вывожу растрату Достоинств, небом данных мне взаем. За все, что мы с рождением берем, Мне нечего отдать Природе в плату. Не знал я счета ни сребру ни злату. И нет мне оправдания ни в чем. Мой пыл сдает, мой дар творит безделки; Мой разум тщетно защищает страсть, Чьи побужденья низменны и мелки; Я над самим собой теряю власть. Но потому мной горе овладело, Что больше нечего терять для Стеллы.21
Ты говоришь, насмешливый приятель, Что загнала меня Любовь в капкан, И что в моих стихах царит обман, И что мой разум — суетный мечтатель. Пускай я невнимательный читатель Платона, — право, не один туман Юнцу лихому от рожденья дан, Хотя порой надежда — подстрекатель. Безумный Март мне не сулил беды, Но я предстал в упадке перед Маем. Чем встречу я часы моей страды? Ты, верно, скажешь; разум твой вскопаем Лопатой знаний. Друг мой, возвести, Что в мире может Стеллу превзойти?23
Заметив мой угрюмо сжатый рот И мой тоскливый неподвижный взгляд, Досужий свет гадает невпопад, Никак причин печали не найдет. Один готов побиться об заклад, Что это все — познаний горький плод, «Он к Принцу вхож, — иные говорят, — И полон государственных забот». А самый строгий Приговор таков: «Тщеславен! В гору лезет! Но почет В златую западню его влечет!» Эх, умники! Эх, скопище глупцов! Стремлюсь душой и днем, и по ночам Лишь к сердцу Стеллы и к ее очам.27
Я, погруженный мыслями во тьму, Угрюмцем на веселии сижу И нужных слов в ответ не нахожу Тому, кто чтит не мысль, а речь саму, И с уст слетают слухи посему — Мол, яд гордыни я в душе держу И потому знакомства не пложу, Что льщу себе, а боле никому. Но не гордыня мною завладела — Душа глядит в нелживое зерцало; В грехе тщеславья признаюсь я смело, Что обойти друзей мне приказало, Незримое, — но тяга ввысь склонила Мой дух любимой посвятить все силы.28
О вы, поклонники молвы лукавой, Оставлен вами мудрый и святой, Но для меня все толки — звук пустой, Я не из тех, кто гонится за славой. Прославить Стеллу я не счел забавой, Любовь я пел, плененный красотой, И мне совсем не кажется уздой То, что клеймит ваш свет, ваш Разум здравый. Я темы не прошу, моя строка Не требует премудрости извечной, Порукою тому моя рука, Ведь я же в простоте чистосердечной Дышу огнем, пылающим в крови, И все мое уменье — дар любви.33
Я мог бы… Страшно! Мог бы… Замолчи![188] Не смог, не понял, недостало сил… Теперь лишь, в этой чертовой ночи, Так ясно вижу: счастье упустил! Я, сердце, прав, что рву тебя в клочки: Парис мою Елену не сманил — Я сам от счастья им вручил ключи, Свою Судьбу я сам и сочинил; Но многомудрый автор и актер, Во мне сражаясь, каждый бил меня! Как я умно смягчить пытался спор… Не смог в Рассвете я увидеть Дня, Что рядом был, с сияющим лицом. Ах, быть бы глупым! Или — мудрецом.34
Спроси: «Зачем ты пишешь?» — Для покоя Сердечного! «Но можно ль утолить Словами муки — муку?» — Может быть: Ведь прелесть есть в изображенье боя! «Не стыдно ли стонать перед толпою?» — Нет, это может славу породить. «Но мудрецы ведь могут осудить?» — Тогда суть мысли я искусно скрою! «Но что глупей, чем вопиять в пустыне?» — Что тяжелей, чем в боли промолчать? Исчез покой, расстроен разум ныне… Пишу, рядя: писать ли? не писать? — Чернила сякнут, мука не скудеет… Прочтет ли кто, как Стелла мной владеет?!38
Смыкает сон тяжелые крыла Над сенью век; дремота укротила Круженье дум и чувства отвратила От мелочей, которым несть числа. Но страсть и здесь пристанище нашла И образ милой Стеллы возвратила. А в нем такая трепетность и сила, Что попроси — она б запеть могла! Вскочил, гляжу, не верю пробужденью: Виденье угасает наяву. Бегу вослед — бегу уже за тенью, И сон к себе на выручку зову. Но безвозвратно сладостная дрема Минутной гостьей изгнана из дома.40
Уж лучше стих, чем безысходность стона, Ты так сильна всевластьем Красоты, Что все потуги Разума пусты: Я выбрал путь, где Разум лишь препона. Само благоразумье, ты, как с трона, Едва ли снизойдешь до нищеты Глупца, которому все в мире — ты. Гляди: я пал, никчемна оборона. А ты лишь хорошеешь от побед. Но мудрый воин помнит про совет: Лежачих бить — не оберешься срама. Твоя взяла, и мне исхода нет. Ах! Я служу тебе так много лет! Не разрушай же собственного храма!42
Глаза, красою движущие сферы, — Вы свет отрад, отрады блага льете, Вы научили чистоте Венеру, Любовь осилив, силу ей даете, Ваш скромный взор величествен без меры, У вас жестокость правая в почете, — Не прячьте свет свой, не лишайте веры, Над головой светите в вечном взлете! Утрачу свет их — жизнь моя в ночи Забудет дух питать, в томленье пленный. Глаза, с высот дарите мне лучи. А коли повелит огонь священный Заснуть всем чувствам, хладу стыть в крови, Да будет гибель Торжеством Любви!45
Так часто Стелле грусть моя видна, Столь явно лик мой выражает горе. Нет жалости в ее спокойном взоре, Хоть ей самой известно, чья вина. Но слушая одну из тех историй, Где лишь печаль Возлюбленным дана, Любимая сочувствия полна И слез горючих исторгает море. Фантазия, мой друг, волнует Вас И вымысел сильнее поражает, Чем то, что Ваш слуга переживает. А Вы вообразите, что рассказ О безответной страсти прочитали, И посочувствуйте моей печали.47
Неужто я свою свободу предал? И черные лучи меня клеймом Клеймят? Ужели я рожден рабом, Который жизни без ярма не ведал? Ужель Создатель разума мне не дал? Ужели мне не пожалеть о том, Что, преданно служа ей день за днем, Я лишь презренье к нищенству изведал? Нет, Совесть, Красота — лишь красота, Не надобно мне этих благ! Я вижу, Они из тех: возьмешь — ладонь пуста… Так уходи скорее… Уходи же! Я не люблю тебя! Ах, этот лик Велит мне ложью мой пятнать язык.54
Я не кричу о страсти всем вокруг, Цветов любимой нет в моем наряде, С собою не ношу заветной пряди, Не плачу, не заламываю рук, И нимфы, почитательницы мук, Привычные к возвышенной тираде, Твердят: «О нет! Оставьте бога ради! Ему влюбляться? Что вы! Недосуг!» Бог с ними. В мой тайник войти лишь Стелле. Искусство Купидона не по мне. И вы поймете, девы, что на деле Таит влюбленный чувства в глубине, Себя страшится выдать ненароком. Безмолвен лебедь не в пример сорокам.55
О Музы, к вам взывал я столько раз, Молил вас расцветить мой жалкий слог, Чтоб наготу свою прикрыть он мог, Снискать признанье с помощью прикрас. Я вдохновения искал у вас, Из грустных слов вязал цепочки строк, Вы мне старались преподать урок, И черный креп я ткал из пышных фраз. Но не желаю больше сладких слов, И ни о чем вас больше не прошу, Одно лишь имя я твердить готов, Когда его я вслух произношу, Оно, как музыка, владеет мной, И мне не надо музыки иной.59
Ужели для тебя я меньше значу, Чем твой любимый мопсик? Побожусь, Что угождать не хуже я гожусь, — Задай какую хочешь мне задачу. Испробуй преданность мою собачью! Вели мне ждать — я в камень обращусь, Перчатку принести — стремглав помчусь И душу принесу в зубах впридачу. Увы! Мне — небреженье, а ему Ты ласки расточаешь умиленно, Целуешь в нос!.. Ты, видно по всему, Лишь к неразумным тварям благосклонна. Что ж — подождем, пока Любовь сама Решит вопрос, лишив меня ума!62
Недавно я, любовью истомленный, «Жестокая!» сказал Любви моей, Ответила с любовью затаенной, Чтоб Истину любви искал я в ней! И понял я (вначале — восхищенный!): Живет в ней та любовь всего верней, Что и меня заставит неуклонно Брести путем благочестивых дней, Принудит и меня своею властью Бежать напрасных бурь надежд и страсти, Жить, верность Добродетели храня… Любимая, увы мне: если это Любви подачка, нищему монета, — Так не люби же, чтоб любить меня!72
О Страсть! подруга всех моих невзгод, Сестра Любви моей многострадальной, Как трудно мне признать тебя опальной! Но предрешен печальный поворот: Венеру велено пустить в полет На крылышках Дианы идеальной, И нравственностью высокоморальной Позолотить Амура жгучий дрот. Лишь скромность, преданность и угожденье. При сдержанной учтивости речей, Лесть на устах, в глазах — благоговенье Предписаны мне Госпожой моей. Нет, в эти рамки Страсти не вместиться, Я должен гнать тебя, — но как решиться?80
Ты, губка, (что ж!) в надменности права, Коль лучшие — коленопреклоненны. Хвала Природы, Чести, Купидона, Подобны музыке твои слова. Парнас, где обитают Божества, Даришь Уму и Музыке законы, Дыханье — жизни, к Стелле устремленной, К той Красоте, что в ней одной жива. Тебе твердил я эти славословья. Но смолкни, сердце, и язык — ни слова, Чужда мне ложь, а разве лесть не лжет?.. Чтобы язык пришпорить с новой силой, Хвале недостает той губки милой, Что нежным поцелуем учит рот.89
Разлуки хмурая, глухая ночь[189] Густою тьмой обволокла мне день — Ведь очи Стеллы, что несли мне день, Сокрылись и оставили мне ночь; И каждый день ждет, чтоб настала ночь, А ночь в томленье призывает день; Трудами пыльными замучит день, Исполнена безгласных страхов ночь; Вкусил я зло, что дарят день и ночь; Нет ночи непроглядней, чем мой день, И дня тревожней, чем такая ночь; Я знаю все, чем плохи ночь и день: Вокруг меня зимы чернеет ночь, И жжет меня палящий летний день.94
О горе, все слова — в твоей лишь воле, Ведь это твой мрачит мне разум яд, Да так, что внутрь устремленный взгляд Не может различить пределы боли. Так погорюй (ты можешь!), и поболе О той душе, в которой ныне ад, Где мысли все о гибели твердят И кличут смерть, незванную дотоле. Но если не одаришь словесами Раба, что недостоин бытия, — Оплачь себя горючими слезами: Хоть и течет в несчастье жизнь твоя, Погибнешь ты (сравнимся ли скорбями!), Живя в таком несчастии, как я.108
Когда беда (кипя в расплавленном огне) Прольет на грудь расплавленный свинец, До сердца доберется наконец, Ты — свет единственный в моем окне. И снова в первозданной вышине К тебе лечу, как трепетный птенец, Но горе, как безжалостный ловец, Подстережет и свяжет крылья мне. И говорю я, голову склонив: Зачем слепому ясноликий Феб, Зачем глухому сладостный мотив, И мертвому зачем вода и хлеб? Ты в черный день — отрада мне всегда, И в радости лишь ты — моя беда.Эдмунд Спенсер
ИЗ ЦИКЛА «АМОРЕТТИ»[190]
1
Блаженны вы, страницы, ибо вам, Дрожащим, как рабы при властелине, Дано прильнуть к лилейным тем рукам, В которых жизнь моя подобна глине. Блаженны строки, что в своей пустыне Я кровью сердца напитал сполна, Когда двум светочам — глазам богини — В них будет мука смертная видна. Блаженны рифмы, взятые со дна Священных вод на склонах Геликона, Коль милостива будет к ним она, Мой хлеб души и благость небосклона. Стихи мои, угодны будьте ей! Что мне за дело до иных судей.5
Сочли вы слишком гордой и надменной Любимую, но это — оговор. Достоинство, что для меня бесценно, Ей ставят недостойные в укор, Затем что лик ее дает отпор Обману, грязи, низости, навету. Она приковывает всякий взор, Для взоров дерзких холодом одета. Ей к чести гордость и надменность эта — Они и щит невинности, и знак, И безмятежность, словно знамя света, Над милой реет, да смутится враг. Все лучшее, что в мире есть, едва ли Без гордости подобной создавали.15
Сокровища двух Индий истощив, О чем, купцы, печетесь ежечасно? Прилив на службу ставя и отлив, Вы в дальних странах ищете напрасно. Вот милая моя. Она — прекрасна. В ней средоточье всех сокровищ мира: Паросский мрамор — лоб ее бесстрастный, Ее глаза — огромные сапфиры, И губы — лалы[191] дивного Кашмира, И руки милой серебра светлей, И зубы — жемчуг, и дыханье — мирра, И ослепляет золото кудрей, Но видим лишь для избранных сердец Бесценных добродетелей венец.16
Ее глаза — любви моей светила, Я в них, как зачарованный, смотрел, Но дивное виденье мне открыло, Что я был слишком дерзостен и смел. В лучах светил, блестя пучками стрел, Рой Купидонов — луки наготове — Следил, чтобы никто не уцелел, Чтоб каждый муж был мученик любови. Один малыш моей возжаждал крови (а было их, крылатых, без числа); Сморгнула милая, нахмурив брови, И тем стрелу от сердца отвела. Я не сражен, но мальчик своевольный Меня поранил, и поранил больно.19
Лесной кукушки радостный рожок Трикраты возвестил весны явленье, Напомнив, что вернулся юный бог И требует от юности служенья. В ответ кукушке зазвучало пенье Всей птичьей пробудившейся семьи, И лес ей эхом вторил в отдаленье, Как бы поняв, что значит жар в крови. Лишь та, что паче всех должна любви Воздать хвалу, осталась безучастна, Замкнула губы гордые свои — Певцы весны взывали к ней напрасно. Любовь, пока ей чужд их нежный зов, Причти ее к числу своих врагов.23
Жена Улисса[192] ткала пелену, Но распускала свой дневной урок, Как только в доме отойдут ко сну, И новой свадьбы отдаляла срок. Так, видя, что от страсти изнемог И сети я плету неутомимо, Любимая всегда найдет предлог, Чтоб труд мой долгий сделать струйкой дыма. Я побеждаю, но победа — мнима, Начну я вновь и сызнова разбит: Единым взором труд губя незримый, Она тенета в тени обратит. Так погибают сети паука От первого дыханья ветерка.28
В твоей прическе — лавровый листок, И я хожу, надеждой окрыленный: Мне верится, блаженство он предрек Влюбленному питомцу Аполлона. И грежу я, любовью опаленный, Что и тебя охватит этот пыл, И я твержу, что лавр вечнозеленый Когда-то Дафной[193] неприступной был. Она бежала из последних сил, Делить блаженство не хотела с Фебом, И гнев богов гордячку превратил В печальный лавр под фессалийским небом. О милая, богам не прекословь: Прими и лавры Феба, и — любовь.30
Как пламень — я, любимая — как лед; Так что ж я хлад ее не растоплю И он в жару моем не изойдет, Но крепнет лишь, чем больше я молю? И почему я жар не утолю На том морозе, что в душе у ней, И все в поту клокочущем киплю Средь ширящихся яростно огней? О, всех явлений на земле странней, Что огнь твердыню льда лишь укрепил, И лед, морозом скованный сильней, Чудесно раздувает жгучий пыл. Да, страсть в высоких душах такова, Что рушит все законы естества.34
В безбрежном океане звездный луч Поможет к гавани корабль вести, Но развернется полог черных туч, И мореход сбивается с пути. Я за твоим лучом привык идти, Но скрылась ты — потерян я, несмел, Твой прежний свет я жажду обрести, Гадая, где опасностям предел. И жду, хоть лютый ураган вскипел, Что ты, моя Полярная Звезда, Вновь озаришь сияньем мой удел И тучи бед разгонишь навсегда. Пока ж ношусь по волнам без утех, Тая задумчивость и скорбь от всех.37
С таким коварством золото волос На ней покрыла сетка золотая, Что взору вряд ли разрешить вопрос, Где мертвая краса и где живая. Но смельчаки глядят, не понимая, Что глаз бессильный каждого обрек На то, что сердце чародейка злая Уловит тотчас в золотой силок. А посему я зренью дал зарок Игрой лукавой не пленяться боле, Иначе, поздно распознав подлог, Потом вовек не выйти из неволи. Безумен тот, кто предпочтет взамен Свободе — плен, хоть золотой, но плен.44
Когда, о золотом руне забыв, Друг с другом бились воины Эллады, Орфей[194] смирял их яростный порыв И лира исцеляла все разлады. Что ум для страсти? — Хрупкая преграда, И вот, в братоубийственной войне, Где чувство чувству не дает пощады, Душа подобна выжженной стране. И лира бедная — не в радость мне: Она врагов лишь распаляет боле. Вскипают страсти по ее вине И горе надо мной глумится вволю. И чем искуснее мирю врагов. Тем больше злоба их упорных ков.54
Любимая в театре мировом На все бесстрастно устремляет взгляд. Участвую в спектакле я любом, Меняя облики на разный лад. Найдя на свете повод для отрад, Я мишуру комедии беру, Когда же горести отяготят, Я делаю трагедией игру. Но, радостный ли, в страстном ли жару Явлюсь на сцене я — ей все равно: Я засмеюсь — от строгих глаз замру, Заплачу — ей становится смешно. Она, стенай пред нею иль смеши, Не женщина, а камень без души.63
Теперь, когда я в бурях изнемог, Изведав этих волн смертельный бег, Когда преподан мне такой урок, Что мой корабль — калека из калек, Я вижу вдалеке желанный брег, Незыблемый под бременем благим Всего того, чем счастлив человек, Того, что звать привык он дорогим. Блажен, кто был в пути тоской томим И очутился вдруг в земном раю. Когда такая радость перед ним, Забудет он былую боль свою. В былых страданьях видит краткий миг Тот, кто блаженства вечного достиг.65
Окончил путь усталый старый год, Явился новый в утреннем сиянье И начал мерных дней круговорот, Сулящий нам покой и процветанье. Оставим же за новогодней гранью С ушедшей прочь ненастною порой Ненастье душ и грешные деянья И жизни обновим привычный строй. Тогда веселье щедрою рукой Отмерит миру мрачному природа И после бурь подарит нам покой Под свежей красотою небосвода. Так и любовь — мы с нею поспешим От старых бед к восторгам молодым.67
Погоней бесконечной изможден, Охотник зверя затравить не смог. Отчаявшись, в тени садится он, И часто дышат гончие у ног. Так я отчаялся и дал зарок Не домогаться той, кого люблю, Но лань от заболоченных проток Сама вернулась к ближнему ручью. Ловя губами чистую струю, Смотрела кротко, не противясь мне: Ждала, пока я путы ей совью, Дрожащую, поглажу по спине, А я не верил собственным глазам: Столь дикий зверь — и покорился сам.70
У короля любви, что правит нами, Ты вестница, о нежная весна. Накинув плащ, усыпанный цветами, Чьим ароматом вся земля полна, Ступай к любимой, разбуди от сна Ее в жилище зимнем и сонливом. Скажи, не будет счастлива она, Не поспешив за временем счастливым. Как должно юным, нежным и красивым, Пускай повинности любви несет. А ту, что внешним не вняла призывам, Ничто от наказанья не спасет. О милая, весны нам не вернуть. Со свитой короля — скорее в путь!72
Как часто дух мой распрямит крыла, Желая взмыть к чистейшим небесам, Но кладь забот вседневных тяжела И нудит смертного к земным делам. Когда же явится краса очам, Подобная сиянию небес, То счастья выше не изведать нам, И, глядь, порыв за облака исчез. Для хрупкой мысли больших нет чудес, Блаженств и наслаждений не избыть, Одно влечет, коль мир в душе воскрес: Как ревностнее милой послужить, И сердце грезит только об одном — О счастье райском в бытии земном.73
Ты далеко, и я с собой в разладе, И рвется сердце из своей темницы. Все путы, кроме этих дивных прядей, Оно презрело и оно к тебе стремится. Оно летит к тебе подобно птице, Что к пище устремляется проворно. Твои глаза и длинные ресницы Для сердца то же, что для птицы зерна. Не отвергай мольбы его упорной: В твоей груди, в обители желанной, Пускай живет, пускай, любви покорно, Тебя стихами славит неустанно. И ты увидишь, что в груди прекрасной Ты приютила птицу не напрасно.75
Я имя милой вздумал написать На дюнах, но его смела волна. Его решил я вывести опять, И вновь прибоем смыло письмена. «Бесплодны тщания, — рекла она, — То наделить бессмертьем, что умрет! Уничтоженью я обречена, И время без следа меня сотрет». «Нет! — молвил я. — Пусть низших тварей род Падет во прах — жить будешь ты в молве: Мой стих тебя навек превознесет, Напишет имя в горней синеве; Коль смерть одержит верх над всем живым, Мы жизнь любовью вечной возродим».77
Во сне я видел или наяву Столешницу — слоновой кости гладь? Всех дивных яств на ней не назову: Лишь короли достойны их вкушать. И словно источали благодать На серебре два яблока златых, Но не Геракл их уходил искать, Не Аталанте[195] их бросал жених — Нет, это чудо для садов своих Сама любовь из рая принесла, И нет желанней и запретней их, Они сияют вне греха и зла. О груди милой — пиршество любви, Где гости — мысли страстные мои.79
Все восхваляют красоту твою, И знаешь ты сама, что ты прекрасна, Но я один твой светлый ум пою И дух твой, добродетельный и ясный. Стирает время дланью беспристрастной Прекраснейшую из земных красот, Но в красоте души оно не властно, Не страшен ей времен круговорот. Она — порука, что ведешь ты род От духа той гармонии нетленной, Чья красота извечно предстает Во всем, что истинно и совершенно. Прекрасны духа этого творенья, Все остальное — только дым и тленье.80
По королевству фей промчал я путь[196] Длиной в шесть книг, и мчал во весь опор. Я изнемог и жажду отдохнуть, Не ставьте же усталость мне в укор. Я стану вновь неутомим и скор, И вырвусь после отдыха из пут, Как резвый конь, не ведающий шпор, И с жаром я продолжу прежний труд. Дотоле пусть уста мои поют В плену желанном твой небесный взгляд. И, созерцая красоты сосуд, Я верю — мысли снова воспарят И станут гимны красоте твоей Преддверьем гимнов Королеве Фей.82
О моя радость, ты — любовь моя, И тем судьба моя благословенна. Но сожалею, что унизил я Тебя любовью столь несовершенной. Будь небо справедливым неизменно, Оно послало бы в твой нежный плен Великого поэта, чтоб нетленный Сиял твой облик в золоте письмен. Я ж, недостойный у твоих колен Молить о счастье, счастлив не по праву, Но дар свой скромный милостью камен Я целиком отдам тебе во славу. И сам возвышусь пред людьми и богом, Превознося тебя высоким слогом.88
Как брошенный подругой голубок На опустелой веточке сидит И плачет, что от милой он далек И скоро ль та обратно прилетит, Так я, разлукой с милою убит, Взад и вперед, один с моей тоской Весь день брожу, храня унылый вид, И горестные слезы лью рекой. Ничто под солнцем взор влюбленный мой Не веселит, когда любимой нет, Когда не вижу пред собою той, Чьей прелестью пленен весь божий свет. Она сокрылась — и во мраке я, Подобьем смерти стала жизнь моя.Уолтер Рели
«Королеве Фей» Спенсера[197]
Виденье было мне: я — в храме Славы, Лаурина гробница предо мной, И с двух сторон склонились величаво Любовь и добродетель над плитой. Вдруг из-под свода свет блеснул мне яркий, И я увидел Королеву Фей: И горестно заплакал дух Петрарки; Благие стражи устремились к ней, А на гробницу возлегло Забвенье. Тут камни кровью обагрили храм, И не одной, в нем погребенной, тенью Был брошен вопль к высоким небесам, Где дух Гомера, скорбно негодуя, Клял похитительницу неземную.Сыну[198]
Три вещи есть, не ведающих горя, Пока судьба их вместе не свела. Но некий день их застигает в сборе, И в этот день им не уйти от зла. Те вещи: роща, поросль, подросток. Из леса в бревнах виселиц мосты. Из конопли веревки для захлесток. Повеса ж и подросток — это ты. Заметь, дружок, им врозь не нарезвиться. В соку трава, и лес, и сорванец. Но чуть сойдутся, скрипнет половица, Струной веревка — и юнцу конец. Помолимся ж с тобой об избежанье Участия в их роковом свиданье.Николас Бретон
Сонет
К ее глазам сердец простерты руки, Покорны глаз сердца ее рукам; Ум остротою превзошел науки, А чувства не постичь и мудрецам. Ум, сердце, руки, чувства благородство Любимой обличают превосходство. О этот взор, что сердце мне пронзил, О руки, покорившие мой ум, О ум, что оценить не станет сил, О сердце, кладовая тайных дум! Небесная, ты дар небес вмещаешь, Но созерцать себя ты запрещаешь. Служить тебе, в глаза твои смотреть, Служить и жить, чтобы руки касаться; Пред разумом искуснейшим неметь И сладкими речами упиваться! — Ум, сердце, взор — твержу за словом слово; На свете совершенства нет иного.Предварение к Вертограду Николаса Бретона
Тебе поведаю, любезный мой юнец, Кому я клялся верным быть, крепя союз сердец, Тебе, мой отрок, повесть горькую свою Я расскажу: узнай, о чем сегодня слезы лью. На ложе скверном я устроиться не мог, Вертелся так и сяк, найти пытаясь нужный бок, Но лишь смежил мне очи долгожданный сон, Я мыслью странной был от сновидений пробужден. Пора, казалось мне, бездельнику, вставать, Но не виденья сладкие манили на кровать, А горесть, горесть повергала ниц раба: Я с теми был, кого заботою убьет судьба. Поскольку скорбь — источник слез, что лью с тоской, Зачахнет дружбы плод — так мнит рассудок слабый мой.Фулк Гревилл
ИЗ ЦИКЛА «CAELICA»[199]
4
О звезды в синеве ночной, [200] Частицы славы Аполлона. Пускай вам ведом путь земной И тайны воли небосклона, Вы — только тень от взоров той, Чей взор дарует нам законы И власть созвездий над умами Свергает, завладев сердцами. Любовь, в очах любимой ты Соединила ум со страстью, Святыми в небе красоты, Где тенью блага служит счастье. Я недостоин высоты, Но вознеси своею властью Того, кто дал зарок заветный Любови не искать ответной.7
От века мир живет своим движеньем:[201] Ведут светила вечный хоровод, Природа, наслаждаясь измененьем, Бесформенности форму придает. Нельзя войти в одну и ту же реку, Златой Фортуны переменчив нрав, И над землей Феб странствует от века, Минувший день днем нынешним поправ. Питать планеты улетает пламень, Яснеет воздух после бурь и гроз, Вода течет и стачивает камень, Покой Земли — исток метаморфоз. Ее детей томит то хлад, то зной: Непостоянна мать-земля сырая, А властелин земли и прах земной Живет для смерти, в смерти воскресая. Кто ж неизменен? Сладостная Мира, Что светлым взглядом судит судьбы мира.16
Земля, ты мнишь, что в небе нет сиянья, [202] Затем что ты — в плену своих теней. Ну что ж, слепцы достойны состраданья, Но небо блещет ясностью своей. Не зришь ты, страсть, любви во всем сиянье, Затем что ты — в плену своих теней. Пусть твой удел — надежда и страданье, Любовь ликует в полноте своей. Крепись, земля, и сгинет сонм теней, И ход небес вернет тебе сиянье. Питайся, страсть, надеждою своей Она целит живущих от страданья В борьбе страстей, чье имя — легион. Любовь над ними — светлый небосклон.Сэмюел Дэниел
ИЗ ЦИКЛА «СОНЕТЫ К ДЕЛИИ»
1
В безбрежный океан твоих щедрот Стремится скромный ток моих признаний: Покорный данник, он тебе вернет Долг ревностной любви, надежд, терзаний. Раскрою книгу я души моей, Где все свои печали подытожил И счет подвел стенаньям долгих дней, Когда, тебе во славу, вздохи множил. Взгляни на дорогой итог растрат И убедись, что смета справедлива; А нет — так возрастет она стократ Перед тобой, прекрасною на диво. Любовь сполна не высказать никак: Кто смог бы, для того любовь — пустяк.6
Любимая жестока и прекрасна: Чело сурово, хоть лучится взгляд; И гордостью, и милостью всевластна; Мед в благосклонности, в презренье — яд. Застенчива, с румянцем благородства, Тропой ступает юности благой. Дивясь, в ней со святою видят сходство: На небе суждено ей быть святой. Мир полный Красота и Непорочность — Враги от века — заключили в ней. И, этого единства зная прочность, Я сетую над участью своей. Не будь столь нерушимого союза — Вовеки бы моя молчала Муза.7
Не будь она прекрасна и жестока, Ее бы скрыл безвестности туман. Тогда бы не бросали мне упрека, Что легкомысленно я впал в обман. Тогда никто с суровым осужденьем На строки эти не бросал бы взор, Никто не выносил с пренебреженьем Моей тщеславной Музе приговор. И мог бы я смотреть на мир открыто, Не выдавая горестных утрат; Но стыд и боль с надеждою разбитой В моих стихах невольно говорят. Когда бы я был связан немотою, Поникший дух мой сломлен был бедою.25
Рука прекрасная и нежный взгляд, И голос дивный — правьте мной всецело! Вы — сердца моего триумвират, Истерзанного мукой без предела. Но вот вы состязаетесь за власть, Всю жизнь мою в ничтожество ввергая. Трофей войны, где суждено мне пасть: Мне — нищета, вам — слава вековая. Вздыхаю о свободе я былой И плачу над теперешней неволей, Предвидя, что удел печальный мой В тяжелом рабстве длиться будет доле. Как быть мне? Покориться я готов И вам служить, хоть приговор суров.31
Звезда злосчастная терзанья множит: Застигнут юный мой апрель ненастьем, Судьба меня без устали тревожит, Несчастье насылая за несчастьем. Тебя я не виню, не жду спасенья: Ввысь воспарив, стремленьем окрыленный, Я горького не избежал паденья, Могущественным солнцем опаленный, — И вот о милости молю желанной, Но мне никто не сострадает в горе — Где мне искать поддержки долгожданной? Пылающий, тону я в слезном море. Умру — ты снова будешь крещена, Жестокой справедливо названа.34
Мою обиду годы возместят: Седою станет прядка золотая; Огонь в глазах, что ныне жжет, блистая, Не будет оживлять усталый взгляд. И красота, прославлена стократ, Которую я пел, не уставая, Пред Временем поникнет, увядая; Гирлянды роз цветущих облетят. Когда увидит в зеркале она, Печалясь, осени своей приметы — Пусть воскресят былые времена И облик колдовской мои сонеты: Строк жаром пламенным воскрешена, Она, как Феникс, не узнает Леты.38
Когда померкнет дней твоих весна, Цветы убьет мороз преклонных лет, На кудри снегом ляжет седина И радостей былых исчезнет след, Тогда возьми портрет — подарок мой, Где верным я пером запечатлел Все, что тебе даровано судьбой, И то, как мой несчастен был удел. Мой труд твои бесценные черты Надежно для потомства сохранит, Не потускнев, хотя увянешь ты, И скроет нас кладбищенский гранит. Бессмертны строки — пусть идут года, Прекрасной ты пребудешь навсегда!42
Взгляни, прекрасная: борясь с пучиной, Теряет силы твой Леандр[203] в волнах. Он гибнет — ты одна тому причиной: Вдохни надежду, прогоняя страх. Посланцы нежные, глаза твои, Несчастного да вызволят на сушу: Всевластьем добродетельной любви Спаси изнемогающую душу! Подай мне руку — благости залог, — Ту руку, что разит без снисхожденья, Чтоб я забыть былое горе мог И целовал ее с благоговеньем. Дай выплыть мне из океана бед И радостно взглянуть на белый свет.48
На север я стремлюсь: к ее глазам Влекомо сердце тягой неустанной. Моей мечты блаженный берег, там — Надежд и радостей предел желанный. Там Делия, сияя красотой И непорочной юностью, любима, За совершенства названа святой, Прославлена и целым светом чтима. Так процветай же, славный Альбион, В заботливых объятьях Посейдона, Хранимый бережно, от бед спасен, Покоясь в тишине уединенно. Да будет ясен мирный небосвод, А бог войны — враг Муз — пусть прочь уйдет!49
Волшебник Сон, рожденный Ночью темной, Сородич Смерти, мне даруй покой, Избавь, спаси от муки неуемной, В безмолвье мрака разлучи с тоской! А день пусть отдан будет сожаленьям Над правдой, горькой в солнечных лучах, Над несчастливой юности крушеньем, Когда меня терзают боль и страх. Не посылай мне снов, обман сулящих, Развеянных, едва встает рассвет И призрак счастья для терзаний вящих Истаивает, свой теряя след. Дай мне уснуть в объятиях бесплотных, Не пробуждаясь для тревог бесплодных!50
Пусть превозносят рыцарей другие Старинным слогом, давним языком — И доблести деяния былые Живописуют с толком и умом. Без выдумок я славлю взор твой ясный Для всех времен, чтоб говорили впредь: «Тут, в склепе, скрылся облик тот прекрасный, Что бессловесного подвигнул петь». Твоим достоинствам мои творенья Несокрушимый возведут оплот От ненасытной алчности Забвенья — И образ твой бессмертье обретет. Коль юности причуда строки эти — Что ж! Я любил тебя, живя на свете.Майкл Дрейтон
ИЗ ЦИКЛА «ЗЕРЦАЛО ИДЕИ»
Amour 1[204]
Прими, о дева, горестный итог Вседневного любовного томленья, Слезами окропленный между строк, Овеянный тоски унылой тенью; Печальный памятник моих скорбей, Бессчетных вздохов жалкое жилище, Укор судьбе и гимн любви моей, Которой в мире не бывало чище. Тебе как дань возжег я фимиам С усердьем, верой, мыслями благими, С мольбой, с надеждой завещать векам Твое блаженное святое имя: Его как добродетели пример Поднимет Муза выше горных сфер.Amour 7
Помедли, Время! Насладись сполна: Ты видишь чудо, всех чудес начало. Вот, небо держит смертное зерцало, Где красота ее отражена. Не уходи в иные времена, Взгляни в сие небесное зерцало, В нем мира Красота, ее начало, И ты с ней слито, и царит она. Теперь иди, скажи иным мирам, Чтобы чрез них для всех миров открылось, Какое благо в наши дни явилось Тебе, о Время, миру, небесам. Скажи им то, что мне продиктовало: Ей равных нет, не будет, не бывало.Amour 21
Погубит время наши письмена, На краски наши патину наложит, Металл крепчайший ржавчина изгложет, Алмаз и глину ждет судьба одна. Чернила могут лишь плодить слова, Писать же кровью — грубо для искусства. Слезами пишут, если бледны чувства, А вздохами — когда мечта жива. О тень, подруга сердца моего, Мои стихи лишь ты пресуществила. Им жить, покуда движутся светила И в мире есть огонь и вещество. Коль жив огонь, то в каждой из теней Жива история любви моей.Amour 25
Осиленное мраком, солнце дня Вкусило сон, зардевшись пред закатом, Но та, что ярче солнца для меня, Уже в ночи лучилась ярким златом; Кто жаждал видеть, как ревнует дол, Когда горе неслось ее дыханье; Кто в мире зримом слышать предпочел Травы под дивной ножкой колыханье; А я не смел искать блаженней див, Чем звезды те, что канули в зеницы Ее очей и, солнце отразив, Скликали херувимов в очевидцы; Сияла ночь, и воздуха кристалл В лучах любви восторженно блистал.Amour 44
Как молоты на сердце-наковальне, Слова куют из помыслов стихи. Вздыхаю, опаленный и опальный, И раздувают вздохи, как мехи, Ревущее в груди, как в горне, пламя. Любовь же углем служит для огня. Тружусь я в муках днями и ночами, В ушах стоит и стон, и стукотня. Когда ж слезами заливаю тщетно Огонь, что сердце мне испепелил, Он оживает и горит победно, Как будто масла в топку я подлил, И вновь, на труд бесплодный обречен, Я мучусь, как Сизиф и Иксион.[205]Amour 45
Глухая ночь, кормилица скорбей, Подруга бед, вместилище томленья, Зачем, смолы тягучей и черней, Ты отдаляешь утра наступленье? Зачем надежды ты спешишь известь И адским замыслам даешь раздолье; Зачем ты пробуждаешь в сердце месть И грех берешь под сень свою соболью? Ты — смерть сама, в тебе заключена Могила света, радостей темница. Да помрачатся звезды и луна, И благовонье с неба не струится, Затем что ты тревожишь страсть во мне, От коей я горю в дневном огне.ИЗ ЦИКЛА «ИДЕЯ»
К читателю этих сонетов
0
Кому в стихах одна лишь страсть нужна,[206] Пусть понапрасну времени не тратит: За труд его вознаградить сполна Других стихов, других поэтов хватит. Ни слез, ни вздохов нет в стихах моих: Что мне в любви трескучей и плаксивой? Я духом волен, и поет мой стих Правдивые и сильные порывы. Все мышцы должен укрепить в трудах Любой атлет, ристатель, колесничий, А я, поэт, — воспеть в своих стихах Все состоянья духа, все обличья. У Музы у моей — английский склад: Ей скучно петь на однозвучный лад.6
Сколь многих пышных суетных особ, Взирающих на чернь в окно кареты, Пожрет забвенье ранее, чем гроб, Зане в стихах красы их не воспеты. Прими же в дар бессмертья благодать! Сей быстрый век века лишат обличья, И королевы станут почитать За счастье отблеск твоего величья. Прочтя рассказ о столь благой судьбе, Скорбеть начнут матроны и девицы, Что не дано им было при тебе, Украсившей прекрасный пол, родиться. Ты воспаришь, презрев земную ложь, И в вечных песнях вечность обретешь.8
Я слишком рано встречу смертный час: Твой облик без меня преобразится. Угаснет блеск живых и ясных глаз, Они, как в норы, спрячутся в глазницы. Где мрамор был над стрелками бровей, Уродливым морщинам станет тесно, И вместо пышных, льющихся кудрей Я не увижу чахлый мох древесный, И на щеках — пергамент вместо роз, Гнилушку между губ взамен жемчужин, Я не увижу с подбородком нос Сошедшийся над кашицей на ужин, Но те стихи, что ты отвергла ныне, В свой срок тебе отплатят за гордыню.20
Я одержим твоею красотой, Она — мой бес, она меня гнетет, Ввергает в искус, губит мой покой, Опомниться минуты не дает, И наяву терзает, и во сне, И если хватит сил ее изгнать, «Убей себя!» — повелевает мне, В своей державе воцарясь опять. Борьба напрасна. Лишь одно из двух Разбитому дозволено врагу: Могу от вздохов испустить я дух, И утонуть в слезах своих могу. Так ангел-бес, что злей и лучше всех, Без устали меня ввергает в грех.50
В далеких странах выдуман закон, Чтобы лечить уменье не скудело: Преступника, что смерти обречен, Препоручают лекарям всецело. Те по живому режут и кроят, Откроют вены, чтобы кровь хлестала, Несчастного почти что расчленят, Потом излечат и — начнут сначала. Отравят, а потом дадут бальзам. Что жизнь его? Им важно их искусство, И жив ли, мертв ли, — он не знает сам. Так милая мои пытает чувства. Ей нужно (до меня ей дела мало), Чтоб красота ее торжествовала.51
Как часто время за года любви[207] Свой зыбкий облик странно изменяло, Прямые искривляло колеи И прихотям Фортуны потакало! Не доверяя зренью, видел глаз Несчастье Эссекса, покой Тирона, Великой королевы смертный час, Преемника восход к вершинам трона, С Испанцем лад, с Голландией разрыв, — Так пляшет колесо слепой Фортуны. Но я служу любви, пока я жив, И для служенья силы в сердце юны. Пусть изменяют небо и земля — Своей святыне вечно верен я.61
Ну что ж, обнимемся и — навсегда прощай. Нет, я отмучился, иди терзай другого. И если хочешь, рад я, так и знай, Что я душой свободен стану снова. Забудем клятвы прежние свои, И если встретимся, пусть никакая малость Не выкажет, что в нас хоть тень любви, Хоть капля чувства прежнего осталась. Тебе решать. Пусть, полотна белей, Любовь простерта, чтоб уйти навеки, Пусть Вера на коленях перед ней И ей Невинность опускает веки, Пускай для всех она обречена, Склонись над ней, и оживет она.63
О милая, я битвой изможден. Нам воевать с тобой — до коих пор? Ведь обе стороны несут урон. Давай подпишем мирный договор. Он справедлив и к пользе служит нам: Войска распустим, прекратим резню, И сердце я в заложники отдам, И твой залог ответный сохраню. Но если нужно для твоей души Сравнять с землею города мои, Тогда — ну что же! — жги, губи, круши, Всю меру ярости своей яви. На смертный бой бросаю вызов я: Твоя победа — все равно моя.Фрэнсис Дейвисон
I. Строки, посвященные первой любви поэта
Когда б мой стих, скупой, неблагозвучный, Бессилен был красу твою воспеть, Удел свой проклиная злополучный, Не смела б Муза в небеса смотреть. Когда бы я своею кистью скучной Черты твои сумел запечатлеть, В сиянии хвалы благополучно Побеги мыслей продолжали б зреть. Но если бы — увы! (избави Боже!) — Презрела ты любовь и песнь мою, Прошу тебя, скажи тогда: «Ну что же! Не может утаить он страсть свою: Ведь я прекрасна всем на удивленье — Его к стихам неволит восхищенье».III. На разлуку с ней
О глаз прекрасных темное сиянье, Лица благословенные черты, В улыбке утонченность красоты И аромат нежнейшего дыханья! Вишневых губок легкое касанье Способно мертвеца из-под плиты Поднять, но своевольные мечты Речь обуздает, укротив желанье. Твоя краса — небес благословенье, Со снегом спорит белизна плечей, — И та, что превосходит все творенья, Сокрыта ныне от моих очей! Но сердце, будто чистое зерцало, Мне совершенства все твои являло.Уолтер Дейвисон
I. Поэт молит о прощении за созерцание возлюбленной, свою любовь к ней и стихи
Да не обидят, нежная святая, Тебя стихи, исполненные пыла; Свою любовь я с ними посылаю, Ее сама ты в сердце заронила. Твоих достоинств колдовская сила, Любви священным пламенем пылая, Дыхание мое воспламенила, И этот жар тебе я возвращаю. Любовь! — она стихи мне нашептала, Мои глаза любить велели мне, Но их вина — в тебе, а не во мне: Не ты ль им восхищаться приказала? Коль надо мной твоя всецело власть — Прости мои глаза, стихи и страсть.VII. На слезы возлюбленной
Как горько мне, смогу ли рассказать, От милых глаз влачиться вдалеке. Я вижу: слезы льют они в тоске, Меня назад пытаясь отозвать. Слеза бежит, чтобы слезу догнать, Сорваться иль остаться на щеке, Смешаться в набежавшем ручейке Иль на ресницах замерши, блистать; И снова набегают, и теснят, Сливаются в потоках светлых струй; Иные пышный локон увлажнят, Иные уст осушит поцелуй; А те, что проливались в упованье, Как знак любви, блестят на одеянье.Уильям Шекспир
1
Мы урожая ждем от лучших лоз, Чтоб красота жила, не увядая. Пусть вянут лепестки созревших роз, Хранит их память роза молодая. А ты, в свою влюбленный красоту, Все лучшие ей отдавая соки, Обилье превращаешь в нищету, Свой злейший враг, бездушный и жестокий. Ты — украшенье нынешнего дня, Недолговременной весны глашатай, — Грядущее в зачатке хороня, Соединяешь скаредность с растратой. Жалея мир, земле не предавай Грядущих лет прекрасный урожай!2
Когда твое чело избороздят Глубокими следами сорок зим, — Кто будет помнить царственный наряд, Гнушаясь жалким рубищем твоим? И на вопрос: «Где прячутся сейчас Остатки красоты, веселых лет?» — Что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойней прозвучали бы слова: «Вы посмотрите на моих детей. Моя былая свежесть в них жива. В них оправданье старости моей». Пускай с годами стынущая кровь В наследнике твоем пылает вновь!3
Прекрасный облик в зеркале ты видишь, И, если повторить не поспешишь Свои черты, природу ты обидишь, Благословенья женщину лишишь. Какая смертная не будет рада Отдать тебе нетронутую новь? Или бессмертия тебе не надо, — Так велика к себе твоя любовь? Для материнских глаз ты — отраженье Давно промчавшихся апрельских дней. И ты найдешь под старость утешенье В таких же окнах юности твоей. Но, ограничив жизнь своей судьбою, Ты сам умрешь, и образ твой — с тобою!4
Растратчик милый, расточаешь ты Свое наследство в буйстве сумасбродном. Природа нам не дарит красоты, Но в долг дает — свободная свободным. Прелестный скряга, ты присвоить рад То, что дано тебе для передачи. Несчитанный ты укрываешь клад, Не становясь от этого богаче. Ты заключаешь сделки сам с собой, Себя лишая прибылей богатых. И в грозный час, назначенный судьбой, Какой отчет отдашь в своих растратах? С тобою образ будущих времен, Невоплощенный, будет погребен.5
Украдкой время с тонким мастерством Волшебный праздник создает для глаз. И то же время в беге круговом Уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток Уводит лето в сумрак зимних дней, Где нет листвы, застыл в деревьях сок, Земля мертва, и белый плащ на ней. И только аромат цветущих роз — Летучий пленник, запертый в стекле, — Напоминает в стужу и мороз О том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, Но сохранили душу красоты.6
Смотри же, чтобы жесткая рука Седой зимы в саду не побывала, Пока не соберешь цветов, пока Весну не сохранишь на дне фиала. Как человек, что драгоценный вклад С лихвой обильной получил обратно, Себя себе вернуть ты будешь рад С законной прибылью десятикратной. Ты будешь жить на свете десять раз, Десятикратно в детях повторенный, И вправе будешь в свой последний час Торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, Чтоб совершенство умерло с тобой.7
Пылающую голову рассвет Приподымает с ложа своего, И все земное шлет ему привет, Лучистое встречая божество. Когда в расцвете сил, в полдневный час, Светило смотрит с вышины крутой, — С каким восторгом миллионы глаз Следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг И катится устало на закат, Глаза его поклонников и слуг Уже в другую сторону глядят. Оставь же сына, юность хороня. Он встретит солнце завтрашнего дня!8
Ты — музыка, но звукам музыкальным Ты внемлешь, с непонятною тоской. Зачем же любишь то, что так печально, Встречаешь муку радостью такой? Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, Что стройно согласованные звуки Упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны Вступают в строй и голос подают, — Как будто мать, отец и отрок юный В счастливом единении поют. Нам говорит согласье струн в концерте, Что одинокий путь подобен смерти.12
Когда часы мне говорят, что свет Потонет скоро в грозной тьме ночной, Когда фиалки вянет нежный цвет И темный локон блещет сединой, Когда листва несется вдоль дорог, В полдневный зной хранившая стада, И нам кивает с погребальных дрог Седых снопов густая борода, — Я думаю о красоте твоей, О том, что ей придется отцвести, Как всем цветам лесов, лугов, полей, Где новое готовится расти. Но если смерти серп неумолим, Оставь потомков, чтобы спорить с ним!14
Я не по звездам о судьбе гадаю, И астрономия не скажет мне, Какие звезды в небе к урожаю, К чуме, пожару, голоду, войне. Не знаю я, ненастье иль погоду Сулит зимой и летом календарь, И не могу судить по небосводу, Какой счастливей будет государь. Но вижу я в твоих глазах предвестье, По неизменным звездам узнаю, Что правда с красотой пребудут вместе, Когда продлишь в потомках жизнь свою. И если нет, — под гробовой плитою Исчезнет правда вместе с красотою.15
Когда подумаю, что миг единый От увяданья отделяет рост, Что этот мир — подмостки, где картины Сменяются под волхвованье звезд, Что нас, как всходы нежные растений, Растят и губят те же небеса, Что смолоду в нас бродит сок весенний, Но вянет наша сила и краса, — О, как я дорожу твоей весною, Твоей прекрасной юностью в цвету. А время на тебя идет войною И день твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих, как острый нож садовый, Твой век возобновит прививкой новой.17
Как мне уверить в доблестях твоих Тех, до кого дойдет моя страница? Но знает бог, что этот скромный стих Сказать не может больше, чем гробница. Попробуй я оставить твой портрет, Изобразить стихами взор чудесный, — Потомок только скажет: «Лжет поэт, Придав лицу земному свет небесный!» И этот старый, пожелтевший лист Отвергнет он, как болтуна седого, Сказав небрежно: «Старый плут речист, Да правды нет в его речах ни слова!» Но доживи твой сын до этих дней, Ты жил бы в нем, как и в строфе моей.18
Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умеренней и краше. Ломает буря майские цветы, И так недолговечно лето наше! То нам слепит глаза небесный глаз, То светлый лик скрывает непогода. Ласкает, нежит и терзает нас Своей случайной прихотью природа. А у тебя не убывает день, Не увядает солнечное лето. И смертная тебя не скроет тень — Ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, Доколе дышит грудь и видит взор.19
Ты притупи, о время, когти льва. Клыки из пасти леопарда рви. В прах обрати земные существа И Феникса сожги в его крови. Зимою, летом, осенью, весной Сменяй улыбкой слезы, плачем — смех. Что хочешь делай с миром и со мной, — Один тебе я запрещаю грех. Чело, ланиты друга моего Не борозди тупым своим резцом. Пускай черты прекрасные его Для всех времен послужат образцом. А коль тебе не жаль его ланит, Мой стих его прекрасным сохранит!23
Как тот актер, который, оробев, Теряет нить давно знакомой роли, Как тот безумец, что, впадая в гнев, В избытке сил теряет силу воли, — Так я молчу, не зная, что сказать, Не оттого, что сердце охладело. Нет, на мои уста кладет печать Моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой. Пускай она, безмолвный мой ходатай, Идет к тебе с признаньем и мольбой И справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой?25
Кто под звездой счастливою рожден, Гордится славой, титулом и властью. А я судьбой скромнее награжден, И для меня любовь — источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер Наперсник принца, ставленник вельможи. Но гаснет солнца благосклонный взор, И золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, В бою последнем терпит пораженье, И всех его заслуг потерян след. Его удел — опала и забвенье. Но нет угрозы титулам моим Пожизненным: любил, люблю, любим.26
Покорный данник, верный королю, Я, движимый почтительной любовью, К тебе посольство письменное шлю, Лишенное красот и острословья. Я не нашел тебя достойных слов. Но если чувства верные оценишь, Ты этих бедных и нагих послов Своим воображением оденешь. А может быть, созвездья, что ведут Меня вперед неведомой дорогой, Нежданный блеск и славу придадут Моей судьбе, безвестной и убогой. Тогда любовь я покажу свою, А до поры во тьме ее таю.27
Трудами изнурен, хочу уснуть, Блаженный отдых обрести в постели. Но только лягу, вновь пускаюсь в путь — В своих мечтах — к одной и той же цели. Мои мечты и чувства в сотый раз Идут к тебе дорогой пилигрима, И, не смыкая утомленных глаз, Я вижу тьму, что и слепому зрима. Усердным взором сердца и ума Во тьме тебя ищу, лишенный зренья. И кажется великолепной тьма, Когда в нее ты входишь светлой тенью. Мне от любви покоя не найти. И днем и ночью — я всегда в пути.29
Когда, в раздоре с миром и судьбой, Припомнив годы, полные невзгод, Тревожу я бесплодною мольбой Глухой и равнодушный небосвод И, жалуясь на горестный удел, Готов меняться жребием своим С тем, кто в искусстве больше преуспел, Богат надеждой и людьми любим, — Тогда, внезапно вспомнив о тебе, Я малодушье жалкое кляну, И жаворонком, вопреки судьбе, Моя душа несется в вышину. С твоей любовью, с памятью о ней Всех королей на свете я сильней.30
Когда на суд безмолвных, тайных дум Я вызываю голоса былого, — Утраты все приходят мне на ум, И старой болью я болею снова. Из глаз, не знавших слез, я слезы лью О тех, кого во тьме таит могила, Ищу любовь погибшую мою И все, что в жизни мне казалось мило. Веду я счет потерянному мной И ужасаюсь вновь потере каждой, И вновь плачу я дорогой ценой За то, за что платил уже однажды! Но прошлое я нахожу в тебе И все готов простить своей судьбе.34
Блистательный мне был обещан день, И без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, Настигла буря с градом и дождем. Пускай потом, пробившись из-за туч, Коснулся нежно моего чела, Избитого дождем, твой кроткий луч, — Ты исцелить мне раны не могла. Меня не радует твоя печаль, Раскаянье твое не веселит. Сочувствие обидчика едва ль Залечит язвы жгучие обид. Но слез твоих, жемчужных слез ручьи, Как ливень, смыли все грехи твои.36
Признаюсь я, что двое мы с тобой, Хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порок любой На честь твою ложился как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, Но в жизни горечь разная у нас. Она любовь не может изменить, Но у любви крадет за часом час. Как осужденный, права я лишен Тебя при всех открыто узнавать, И ты принять не можешь мой поклон, Чтоб не легла на честь твою печать. Ну что ж, пускай!.. Я так тебя люблю, Что весь я твой и честь твою делю!46
Мой глаз и сердце — издавна в борьбе: Они тебя не могут поделить. Мой глаз твой образ требует себе, А сердце в сердце хочет утаить. Клянется сердце верное, что ты Невидимо для глаз хранишься в нем. А глаз уверен, что твои черты Хранит он в чистом зеркале своем. Чтоб рассудить междоусобный спор, Собрались мысли за столом суда И помирить решили ясный взор И дорогое сердце навсегда. Они на части разделили клад, Доверив сердце сердцу, взгляду — взгляд.48
Заботливо готовясь в дальний путь, Я безделушки запер на замок, Чтоб на мое богатство посягнуть Незваный гость какой-нибудь не мог, А ты, кого мне больше жизни жаль, Пред кем и золото — блестящий сор, Моя утеха и моя печаль, — Тебя любой похитить может вор. В каком ларце таить мне божество, Чтоб сохранить навеки взаперти? Где, как не в тайне сердца моего, Откуда ты всегда вольна уйти. Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз, Приманчивый для самых честных глаз!49
В тот черный день (пусть он минует нас!), Когда увидишь все мои пороки, Когда терпенья истощишь запас И мне объявишь приговор жестокий, Когда, со мной сойдясь в толпе людской, Меня едва подаришь взглядом ясным, И я увижу холод и покой В твоем лице, по-прежнему прекрасном, — В тот день поможет горю моему Сознание, что я тебя не стою, И руку я в присяге подниму, Все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг, А у меня для счастья нет заслуг.50
Как тяжко мне, в пути взметая пыль, Не ожидая дальше ничего, Отсчитывать уныло, сколько миль Отъехал я от счастья своего. Усталый конь, забыв былую прыть, Едва трусит лениво подо мной, — Как будто знает: незачем спешить Тому, кто разлучен с душой родной. Хозяйских шпор не слушается он И только ржаньем шлет мне свой укор. Меня больнее ранит этот стон, Чем бедного коня — удары шпор. Я думаю, с тоскою глядя вдаль: За мною — радость, впереди — печаль.52
Как богачу, доступно мне в любое Мгновение сокровище мое. Но знаю я, что хрупко острие Минут счастливых, данных мне судьбою. Нам праздники, столь редкие в году, Несут с собой тем большее веселье. И редко расположены в ряду Других камней алмазы ожерелья. Пускай скрывает время, как ларец, Тебя, мой друг, венец мой драгоценный, Но счастлив я, когда алмаз свой пленный Оно освобождает наконец. Ты мне даришь и торжество свиданья, И трепетную радость ожиданья.54
Прекрасное прекрасней во сто крат, Увенчанное правдой драгоценной. Мы в нежных розах ценим аромат, В их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порок, И стебель, и шипы, и листья те же, И так же пурпур лепестков глубок, И тот же венчик, что у розы свежей, — Они ничьих не радуют сердец И вянут, отравляя нам дыханье. А у душистых роз иной конец: Их душу перельют в благоуханье. Когда погаснет блеск очей твоих, Вся прелесть правды перельется в стих!55
Замшелый мрамор царственных могил Исчезнет раньше этих веских слов, В которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, Мятеж развеет каменщиков труд, Но врезанные в память письмена Бегущие столетья не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, Ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, Мир износив, увидеть день суда. Итак, до пробуждения живи В стихах, в сердцах, исполненных любви!60
Как движется к земле морской прибой, Так и ряды бессчетные минут, Сменяя предыдущие собой, Поочередно к вечности бегут. Младенчества новорожденный серп Стремится к зрелости и, наконец, Кривых затмений испытав ущерб, Сдает в борьбе свой золотой венец. Резец годов у жизни на челе За полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на земле, Ложится под разящую косу. Но время не сметет моей строки, Где ты пребудешь смерти вопреки!61
Твоя ль вина, что милый образ твой Не позволяет мне сомкнуть ресницы И, стоя у меня над головой, Тяжелым векам не дает закрыться? Твоя ль душа приходит в тишине Мои дела и помыслы проверить, Всю ложь и праздность обличить во мне, Всю жизнь мою, как свой удел, измерить? О нет, любовь твоя не так сильна, Чтоб к моему являться изголовью. Моя, моя любовь не знает сна. На страже мы стоим с моей любовью. Я не могу забыться сном, пока Ты — от меня вдали — к другим близка.64
Мы видели, как времени рука Срывает все, во что рядится время, Как сносят башню гордую века И рушит медь тысячелетий бремя, Как пядь за пядью у прибрежных стран Захватывает землю зыбь морская, Меж тем как суша грабит океан, Расход приходом мощным покрывая, Как пробегает дней круговорот И королевства близятся к распаду… Все говорит о том, что час пробьет — И время унесет мою отраду. А это — смерть!.. Печален мой удел. Каким я хрупким счастьем овладел!65
Уж если медь, гранит, земля и море Не устоят, когда придет им срок, Как может уцелеть, со смертью споря, Краса твоя — беспомощный цветок? Как сохранить дыханье розы алой, Когда осада тяжкая времен Незыблемые сокрушает скалы И рушит бронзу статуй и колонн? О горькое раздумье!.. Где, какое Для красоты убежище найти? Как, маятник остановив рукою, Цвет времени от времени спасти?.. Надежды нет. Но светлый облик милый Спасут, быть может, черные чернила!66
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж[208] Достоинство, что просит подаянье, Над простотой глумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянье, И совершенству ложный приговор, И девственность, поруганную грубо, И неуместной почести позор, И мощь в плену у немощи беззубой. И прямоту, что глупостью слывет, И глупость в маске мудреца, пророка, И вдохновения зажатый рот, И праведность на службе у порока. Всё мерзостно, что вижу я вокруг, Но жаль тебя покинуть, милый друг!73
То время года видишь ты во мне,[209] Когда один-другой багряный лист От холода трепещет в вышине На хорах, где умолк веселый свист. Во мне ты видишь тот вечерний час, Когда поблек на западе закат И купол неба, отнятый у нас, Подобьем смерти — сумраком объят. Во мне ты видишь блеск того огня, Который гаснет в пепле прошлых дней, И то, что жизнью было для меня, Могилою становится моей. Ты видишь всё. Но близостью конца Теснее наши связаны сердца!74
Когда меня отправят под арест Без выкупа, залога и отсрочки, Не глыба камня, не могильный крест, — Мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах Всё, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, — Ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобою будет лучшее во мне. А смерть возьмет от жизни быстротечной Осадок, остающийся на дне, То, что похитить мог бродяга встречный. Ей — черепки разбитого ковша, Тебе — мое вино, моя душа.75
Ты утоляешь мой голодный взор, Как землю освежительная влага. С тобой веду я бесконечный спор. Как со своей сокровищницей скряга. То счастлив он, то мечется во сне, Боясь шагов, звучащих за стеною, То хочет быть с ларцом наедине, То рад блеснуть сверкающей казною. Так я, вкусив блаженство на пиру, Терзаюсь жаждой в ожиданье взгляда. Живу я тем, что у тебя беру, Моя надежда, мука и награда. В томительном чередованье дней То я богаче всех, то всех бедней.77
Седины ваши зеркало покажет, Часы — потерю золотых минут. На белую страницу строчка ляжет — И вашу мысль увидят и прочтут. По черточкам морщин в стекле правдивом Мы все ведем своим утратам счет. А в шорохе часов неторопливом Украдкой время к вечности течет. Запечатлейте беглыми словами Все, что не в силах память удержать. Своих детей, давно забытых вами, Когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки Для нас таят бесценные уроки.88
Когда захочешь, охладев ко мне, Предать меня насмешке и презренью, Я на твоей останусь стороне И честь твою не опорочу тенью. Отлично зная каждый свой порок, Я рассказать могу такую повесть, Что навсегда сниму с тебя упрек, Запятнанную оправдаю совесть. И буду благодарен я судьбе: Пускай в борьбе терплю я неудачу, Но честь победы приношу тебе И дважды обретаю все, что трачу. Готов я жертвой быть неправоты, Чтоб только правой оказалась ты.90
Уж если ты разлюбишь, — так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. Будь самой горькой из моих потерь, Но только не последней каплей горя! И если скорбь дано мне превозмочь, Не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь Дождливым утром — утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда — Твоей любви лишиться навсегда.92
Ты от меня не можешь ускользнуть. Моей ты будешь до последних дней. С любовью связан жизненный мой путь, И кончиться он должен вместе с ней. Зачем же мне бояться худших бед, Когда мне смертью меньшая грозит? И у меня зависимости нет От прихотей твоих или обид. Не опасаюсь я твоих измен. Твоя измена — беспощадный нож. О, как печальный жребий мой блажен: Я был твоим, и ты меня убьешь. Но счастья нет на свете без пятна. Кто скажет мне, что ты сейчас верна?100
Где муза? Что молчат ее уста О том, кто вдохновлял ее полет? Иль, песенкой дешевой занята, Она ничтожным славу создает? Пой, суетная муза, для того, Кто может оценить твою игру, Кто придает и блеск, и мастерство, И благородство твоему перу. Вглядись в его прекрасные черты И, если в них морщину ты найдешь, Изобличи убийцу красоты, Строфою гневной заклейми грабеж. Пока не поздно, времени быстрей Бессмертные черты запечатлей!102
Люблю, — но реже говорю об этом, Люблю нежней, — но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом Всю душу выставляет напоказ. Тебя встречал я песней, как приветом, Когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час Весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, Когда его умолкнут излиянья. Но музыка, звуча со всех ветвей, Обычной став, теряет обаянье. И я умолк подобно соловью: Свое пропел и больше не пою.104
Ты не меняешься с теченьем лет, Такой же ты была, когда впервые Тебя я встретил. Три зимы седые Трех пышных лет запорошили след. Три нежные весны сменили цвет На сочный плод и листья огневые, И трижды лес был осенью раздет… А над тобой не властвуют стихии. На циферблате, указав нам час, Покинув цифру, стрелка золотая Чуть движется, невидимо для глаз. Так на тебе я лет не замечаю. И если уж закат необходим, — Он был перед рождением твоим!106
Когда читаю в свитке мертвых лет О пламенных устах, давно безгласных, О красоте, слагающей куплет Во славу дам и рыцарей прекрасных, Столетьями хранимые черты — Глаза, улыбка, волосы и брови — Мне говорят, что только в древнем слове Могла всецело отразиться ты. В любой строке к своей прекрасной даме Поэт мечтал тебя предугадать, Но всю тебя не мог он передать, Впиваясь в даль влюбленными глазами. А нам, кому ты, наконец, близка, — Где голос взять, чтобы звучал века?107
Ни собственный мой страх, ни вещий взор Вселенной всей, глядящей вдаль прилежно, Не знают, до каких дана мне пор Любовь, чья смерть казалась неизбежной. Свое затменье смертная луна Пережила назло пророкам лживым. Надежда вновь на трон возведена, И долгий мир сулит расцвет оливам. Разлукой смерть не угрожает нам. Пусть я умру, но я в стихах воскресну. Слепая смерть грозит лишь племенам Еще не просветленным, бессловесным. В моих стихах и ты переживешь Венцы тиранов и гербы вельмож.110
Да, это правда: где я не бывал, Пред кем шута не корчил площадного, Как дешево богатство продавал И оскорблял любовь любовью новой! Да, это правда: правде не в упор В глаза смотрел я, а куда-то мимо. Но юность вновь нашел мой беглый взор, — Блуждая, он признал тебя любимой. Все кончено, и я не буду вновь Искать того, что обостряет страсти, Любовью новой проверять любовь. Ты — божество, и весь в твоей я власти. Вблизи небес ты мне приют найди На этой чистой, любящей груди.115
О как я лгал когда-то, говоря: «Моя любовь не может быть сильнее». Не знал я, полным пламенем горя, Что я любить еще нежней умею. Случайностей предвидя миллион, Вторгающихся в каждое мгновенье, Ломающих незыблемый закон, Колеблющих и клятвы и стремленья, Не веря переменчивой судьбе, А только часу, что еще не прожит, Я говорил: «Любовь моя к тебе Так велика, что больше быть не может!» Любовь — дитя. Я был пред ней неправ, Ребенка взрослой женщиной назвав.116
Мешать соединенью двух сердец Я не намерен. Может ли измена Любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь — над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которою моряк Определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках У времени, стирающего розы На пламенных устах и на щеках, И не страшны ей времени угрозы. А если я неправ и лжет мой стих, — То нет любви и нет стихов моих!117
Скажи, что я уплатой пренебрег За все добро, каким тебе обязан, Что я забыл заветный твой порог, С которым всеми узами я связан, Что я не знал цены твоим часам, Безжалостно чужим их отдавая, Что позволял безвестным парусам Себя нести от милого мне края. Все преступленья вольности моей Ты положи с моей любовью рядом, Представь на строгий суд твоих очей, Но не казни меня смертельным взглядом. Я виноват. Но вся моя вина Покажет, как любовь твоя верна.118
Для аппетита пряностью приправы Мы вызываем горький вкус во рту. Мы горечь пьем, чтоб избежать отравы, Нарочно возбуждая дурноту. Так, избалованный твоей любовью, Я в горьких мыслях радость находил И сам себе придумал нездоровье Еще в расцвете бодрости и сил. От этого любовного коварства И опасенья вымышленных бед Я заболел не в шутку и лекарства Горчайшие глотал себе во вред. Но понял я: лекарства — яд смертельный Тем, кто любовью болен беспредельной.120
То, что мой друг бывал жесток со мною, Полезно мне. Сам испытав печаль, Я должен гнуться под своей виною, Коль это сердце — сердце, а не сталь. И если я потряс обидой друга, Как он меня, — его терзает ад, И у меня не может быть досуга Припоминать обид минувших яд. Пускай та ночь печали и томленья Напомнит мне, что чувствовал я сам, Чтоб другу я принес для исцеленья, Как он тогда, раскаянья бальзам. Я все простил, что испытал когда-то, И ты прости, — взаимная расплата!121
Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья. И гибнет радость, коль ее судить Должно не наше, а чужое мненье. Как может взгляд чужих порочных глаз Щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, Мои шпионы, мастера злословья. Я — это я, а вы грехи мои По своему равняете примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи Неправого в руках кривая мера, И видит он в любом из ближних ложь, Поскольку ближний на него похож!125
Что, если бы я право заслужил Держать венец над троном властелина Или бессмертья камень заложил, Не более надежный, чем руина? Кто гонится за внешней суетой, Теряет все, не рассчитав расплаты, И часто забывает вкус простой, Избалован стряпней замысловатой. Нет, лишь твоих даров я буду ждать. А ты прими мой хлеб, простой и скудный. Дается он тебе, как благодать, В знак бескорыстной жертвы обоюдной. Прочь, искуситель! Чем душе трудней, Тем менее ты властвуешь над ней!126
Крылатый мальчик мой, несущий бремя Часов, что нам отсчитывают время, От убыли растешь ты, подтверждая, Что мы любовь питаем, увядая. Природа, разрушительница-мать, Твой ход упорно возвращает вспять. Она тебя хранит для праздной шутки, Чтобы, рождая, убивать минутки. Не бойся госпожи своей жестокой: Коварная щадит тебя до срока. Когда же это время истечет, Предъявит счет и даст тебе расчет.129
Издержки духа и стыда растрата — Вот сладострастье в действии. Оно Безжалостно, коварно, бесновато, Жестоко, грубо, ярости полно. Утолено, — влечет оно презренье, В преследованье не жалеет сил, И тот лишен покоя и забвенья, Кто невзначай приманку проглотил. Безумное, само с собой в раздоре, Оно владеет иль владеют им. В надежде — радость, в испытанье — горе, А в прошлом — сон, растаявший как дым. Все это так. Но избежит ли грешный Небесных врат, ведущих в ад кромешный?130
Ее глаза на звезды не похожи,[210] Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали.131
Ты прихоти полна и любишь власть, Подобно всем красавицам надменным. Ты знаешь, что моя слепая страсть Тебя считает даром драгоценным. Пусть говорят, что смуглый облик твой Не стоит слез любовного томленья, — Я не решаюсь в спор вступать с молвой, Но спорю с ней в своем воображенье. Чтобы себя уверить до конца И доказать нелепость этих басен, Клянусь до слез, что темный цвет лица И черный цвет волос твоих прекрасен. Беда не в том, что ты лицом смугла, — Не ты черна, черны твои дела!133
Будь проклята душа, что истерзала Меня и друга прихотью измен. Терзать меня тебе казалось мало, — Мой лучший друг захвачен в тот же плен. Жестокая, меня недобрым глазом Ты навсегда лишила трех сердец: Теряя волю, я утратил разом Тебя, себя и друга, наконец. Но друга ты избавь от рабской доли И прикажи, чтоб я его стерег. Я буду стражем, находясь в неволе, И сердце за него отдам в залог. Мольба напрасна. Ты — моя темница, И все мое со мной должно томиться.137
Любовь слепа и нас лишает глаз. Не вижу я того, что вижу ясно. Я видел красоту, но каждый раз Понять не мог — что дурно, что прекрасно. И если взгляды сердце завели И якорь бросили в такие воды, Где многие проходят корабли, — Зачем ему ты не даешь свободы? Как сердцу моему проезжий двор Казаться мог усадьбою счастливой? Но все, что видел, отрицал мой взор, Подкрашивая правдой облик лживый. Правдивый свет мне заменила тьма, И ложь меня объяла, как чума.140
Будь так умна, как зла. Не размыкай Зажатых уст моей душевной боли. Не то страданья, хлынув через край, Заговорят внезапно поневоле. Хоть ты меня не любишь, обмани Меня поддельной, мнимою любовью. Кто доживает считанные дни, Ждет от врачей надежды на здоровье. Презреньем ты с ума меня сведешь И вынудишь молчание нарушить. А злоречивый свет любую ложь, Любой безумный бред готов подслушать. Чтоб избежать позорного клейма, Криви душой, а с виду будь пряма!152
Я знаю, что грешна моя любовь, Но ты в двойном предательстве виновна, Забыв обет супружеский и вновь Нарушив клятву верности любовной. Но есть ли у меня на то права, Чтоб упрекать тебя в двойной измене? Признаться, сам я совершил не два, А целых двадцать клятвопреступлений. Я клялся в доброте твоей не раз, В твоей любви и верности глубокой. Я ослеплял зрачки пристрастных глаз, Дабы не видеть твоего порока. Я клялся: ты правдива и чиста, — И черной ложью осквернил уста.154
Божок любви под деревом прилег,[211] Швырнув на землю факел свой горящий. Увидев, что уснул коварный бог, Решились нимфы выбежать из чащи. Одна из них приблизилась к огню, Который девам бед наделал много, И в воду окунула головню, Обезоружив дремлющего бога. Вода потока стала горячей. Она лечила многие недуги. И я ходил купаться в тот ручей, Чтоб излечиться от любви к подруге. Любовь нагрела воду, — но вода Любви не охлаждала никогда.Джон Донн
ИЗ ЦИКЛА «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СОНЕТЫ»
1
Ты сотворил меня — и дашь мне сгинуть? Исправь меня, исход ко мне спешит. Я к смерти мчусь — и встречу смерть бежит. Приелось все, и пыл успел остынуть. Взгляд с мертвой точки никуда не сдвинуть — Там, за спиной, отчаянье страшит. В цепях греха, слабея, плоть дрожит: Столь тяжек груз, что ада ей не минуть. Вверху — лишь ты. К тебе воздевши взгляд По твоему наказу, распрямляюсь, Но так силен наш старый супостат, Что ежечасно ужасу вверяюсь. От пут его лишь ты спасаешь нас: На тверди сердца пишешь, как алмаз.3
О, если бы могли глаза и грудь Вернуть исторгнутые мной рыданья, Чтоб я скорбел в надежде упованья, Иных желаний презревая путь! Где ливня слез моих предмет и суть? За что страстям платил такую дань я? Так вот мой грех — в бесплодности страданья. Но ты мне, боль, во искупленье будь! Полночный вор, запойный прощелыга, Распутный мот, самовлюбленный плут В годину бед хотя бы на полмига В былых утехах радость обретут. А мне в моих скорбях без утешенья — Возмездие за тяжесть прегрешенья.5
Я малый мир, созданный как клубок Стихий и духа херувимской стати. Но обе части тьмой на небоскате Скрыл черный грех, на обе смерть навлек. Ты, пробуравивший небес чертог, Нашедший лаз к пределам благодати, Влей мне моря в глаза, чтоб, слезы тратя, Мой мир я затопить рыданьем мог — Иль хоть омыть, коль ты не дашь потопа. О, если б сжечь! Но мир мой искони Жгли похоть, зависть, всяческая злоба И в грязь втоптали. Пламя их гони, Сам жги меня, господь, — твой огнь палящий Нас поглощает в милости целящей.7
На призрачных углах земли звучанье[212] Труб, ангелы, взметните. Пусть встают От смерти сонмы душ на страшный суд, Истлевший свой скелет найдя заране. И те, кого свели во гроб терзанья, Меч, нищета, недуги, дряхлость, блуд, Пламя и волны — с нетерпеньем ждут, Когда их вознесут в небес сиянье. Им спать дано, а мне печаль влачить… Но раз грехи мои легли горою, То поздно мне о милости молить Там в небесах… Нет, здесь, где зло земное, Дай мне раскаяться и тем яви Прощенья знак, как бы в своей крови.10
Смерть, не кичись, когда тебя зовут[213] Тиранкой лютой, силой роковою: Не гибнут пораженные тобою, Увы, бедняжка, твой напрасен труд. Ты просто даришь временный приют, Подобно сну иль тихому покою; От плоти бренной отдохнуть душою Охотно люди за тобой идут. Судьбы, Случайности, царей рабыня, Ты ядом действуешь и топором, Но точно так смежает очи сном И опиум; к чему ж твоя гордыня? Пред вечностью, как миг, ты промелькнешь, И снова будет жизнь; ты, смерть, умрешь.12
Зачем вся тварь господня служит нам, Зачем Земля нас кормит и Вода, Когда любая из стихий чиста, А наши души с грязью пополам? О конь, зачем ты сдался удилам, О бык, зачем под нож пошел, когда Ты мог бы без особого труда Топтать и пожирать двуногих сам? Вы совершенней, вы сильнее нас, Где нет греха — и страха кары нет… Но трепещите: мы стоим сейчас Над всем, что произведено на свет. Ведь Он, кому мы дети и враги, Погиб за нас, природе вопреки.Роберт Геррик
Тема книги
Пою ручьи и гомон птичьих стай, Беседки и цветы, апрель и май, И урожай пою, и рождество, И свадьбы, и поминки сверх того. Пою любовь, и юность, и мечту, И жарких вожделений чистоту, Бальзам и амбру, масло и вино, Росу и дождь, стучащийся в окно, Пою поток быстротекущих дней, И алость роз, и белизну лилей, И сумрак, что ложится на поля, И королеву фей, и короля, И муки Ада, и блаженство Рая, Побыть последним жаждаю сгорая.Пленительность беспорядка
Как часто нам пленяет взор Небрежно-женственный убор! Батист, открывший прелесть плеч, Умеет взгляд к себе привлечь; Из кружев, сбившихся чуть-чуть, Мелькнет корсаж, стянувший грудь, Из-под расстегнутых манжет Оборка выбьется на свет, И юбок пышная волна Под платьем дерзостно видна, А распустившийся шнурок — Для глаза сладостный намек. По мне, так это во сто крат Милей, чем щегольский наряд.Джордж Герберт
Церковная молитва[214]
До звезд молитва превознесена. Стареют ангелы, а человек Юнеет; пусть душа изъязвлена, Но небо завоевано навек. Машины против Бога. Власть греха. Христовы раны вновь кровоточат. Отброшен старый мир, как шелуха, От стольких перемен трепещет ад. Всё нежность, радость, доброта и мир, — Ждет манны с неба, славит чудеса, Предвидя в будущем роскошный пир И райских птиц. Ветшают небеса. Над звездами гремят колокола. Душа в крови, но разум обрела.Джон Мильтон
Написано в дни, когда ожидался штурм Лондона[215]
О, латник или капитан, когда Взломает эту дверь твой меч кровавый, Не угрожай хозяину расправой, Его жилищу не чини вреда. Питомец муз-волшебниц, без труда Тебя он увенчать способен славой, Твои деянья в песне величавой Запечатлев для мира навсегда. Не разоряй приют певца невинный: Сам эмафеец, победитель Фив, Дом Пиндара не превратил в руины, Надменный город штурмом взяв и срыв, И стих творца «Электры» спас Афины, Сердца спартанцев жалостью смягчив.Добродетельной молодой особе
Ты с самых малых лет не предпочла Пространный торный путь стезе безвестной И ввысь, к вершине истины небесной, С немногими крутой тропой пошла. Как Руфь и как Мария,[216] избрала Ты часть благую и на рой прелестный Тщеславиц юных области окрестной Взираешь со страданьем и без зла. Так полни свой светильник непорочный Елеем добродетели святой И нас не устыжающей надежды И веруй, дева: полночью урочной С толпой гостей приидет в твой покой Жених, чей светлый лик слепит все вежды.Новым гонителям свободы совести при долгом парламенте[217]
Как смели вы, кем требник запрещен И свергнут лишь затем прелат верховный, Чтоб вновь с Многоприходностью греховной Блудил, как с девкой, ваш синедрион, Настаивать, что должен нас закон Синодам подчинить, лишив духовной Свободы, данной нам от бога, словно А. С. иль Резерфорд мудрей, чем он? Тех, кто, подобно Павлу, стал без спора, Господней веры истинным оплотом, Честят еретиками с неких пор И Эдвардс и шотландец… как его там? Но мы разоблачим ваш заговор, Что пострашней Тридентского собора, И наш парламент скоро Меч против фарисеев пустит в ход, Не уши им, но руки отсечет. И край от них спасет, Затем что там, где пишется «пресвитер», Читается «епископ», между литер.Мистеру Генри Лоузу о его музыке[218]
Ты, Гарри, доказал нам в первый раз, Что можно даже в Англии суровой Слить воедино музыку и слово И скандовать строку не как Мидас. Твой дар тебя навек от тленья спас: Художника, в чьих звуках с силой новой Раскрылась прелесть языка родного, Не позабудут те, кто сменит нас. Феб наделил крылами вдохновенья Тебя, слагатель гимнов и кантаты, За то, что чтишь ты окрыленный стих. Тебя б сам Данте предпочел когда-то Каселле, чье он жадно слушал пенье В чистилище среди теней незлых.Присноблаженной памяти м-с Кэтрин Томсон, друга моего во Христе, скончавшейся 16 декабря 1646 года[219]
Любовь и вера, с коими была Ты неразлучна, дух твой закалили, И смерть без жалоб, страха и усилий Ты ради вечной жизни приняла. Но не погребены твои дела, Щедроты и даяния в могиле: Туда они с тобой, как свита, взмыли, Где радость неисчерпна и светла. Послали их в лучистом одеянье Любовь и вера к трону судии, Чтоб о твоем земном существованье Поведали служители твои И ты вкусила за свои страданья Дарующей бессмертие струи.Генералу лорду Ферфаксу по случаю осады Колчестера[220]
Столь, Ферфакс, ты превознесен молвой, Что в дрожь бросает короля любого При имени воителя такого, Кому Европа вся гремит хвалой. Неустрашимо продолжаешь бой Ты с гидрой мятежа многоголовой, Хоть, попирая Лигу, Север снова Простер крыла драконьи над страной. Но ждет тебя еще трудов немало (Затем что лишь войну родит война), Покуда смута не сокрушена И справедливость не возобладала: Ведь доблесть кровью исходить должна Там, где насилие законом стало.Генералу лорду Кромвелю[221]
Наш вождь, неустрашимый Кромвель, тот, Кто с мудростью и верой неизменной Стезей добра сквозь мрак страды военной И тучу клеветы нас вел вперед, Не раз сподобил бог своих щедрот Тебя в борьбе с фортуною надменной: Ты рать шотландцев сбросил в Дарвен пенный, Под Данбаром побед умножил счет И в Вустере стяжал венок лавровый. Но и в дни мира ждут тебя бои: Вновь на душу советчики твои Надеть нам тщатся светские оковы. Не дай же им, продажным псам, опять У нас свободу совести отнять.На недавнюю резню в Пьемонте[222]
Господь, воздай савойцу за святых, Чьи трупы на отрогах Альп застыли, Чьи деды в дни, когда мы камни чтили, Хранили твой завет в сердцах своих. Вовеки не прости убийце их Мук, что они пред смертью ощутили, Когда их жен с младенцами схватили И сбросили, глумясь, со скал крутых. Их тяжкий стон возносят к небу горы, Их прах ветра в Италию несут — В край, где царит тройной тиран, который Сгубил невинных. Пусть же все поймут, Узрев твой гнев, что призовешь ты скоро Блудницу вавилонскую на суд.О своей слепоте[223]
Когда померк, до половины лет, Свет для меня в житейской тьме кромешной, «К чему мне, — вопросил я безутешно, — Талант, который зарывать не след? Как может человек, коль зренья нет, Предвечному творцу служить успешно?» И в тот же миг я, малодушьем грешный, Услышал от Терпения ответ: «Твой труд и рвенье, смертный, бесполезны. Какая в них нужда царю царей, Коль ангелами он располагает? Лишь тот из вас слуга, ему любезный, Кто, не ропща под ношею своей, Все принимает и превозмогает».О моей покойной жене[224]
Во сне моя усопшая жена Ко мне вернулась, словно Алкестида, Которую у смерти сын Кронида Для мужа отнял в оны времена. Библейской роженицы, что должна Очиститься, была бескровней с вида Она, святая, чья до пят хламида Спадала, белоснежна и длинна. Я разглядеть не мог сквозь покрывало Ее лицо, хоть взор духовный мой Прочел, что, как и встарь, оно сияло Любовью, бесконечной и немой. Но ах! Шагнув ко мне, она пропала, Проснулся я — и свет сменился тьмой.Эндрю Марвелл
На смерть Оливера Кромвеля[225]
Его я видел мертвым, вечный сон Сковал черты низвергнувшего трон, Разгладились морщинки возле глаз, Где нежность он берег не напоказ. Куда-то подевались мощь и стать, Он даже не пытался с ложа встать, Он сморщен был и тронут синевой, Ну словом, мертвый — это не живой! О, суета! О, души и умы! И мир, в котором только гости мы! Скончался он, но, долг исполнив свой, Остался выше смерти головой. В чертах его лица легко прочесть, Что нет конца и что надежда есть.ГЕРМАНИЯ
Георг Рудольф Векерлин
К Германии[226]
Проснись, Германия! Разбей свои оковы И мужество былое в сердце воскреси! От страшной кабалы сама себя спаси, Перебори свой страх! Услышь свободы зовы! Тиранов побороть твои сыны готовы! Не снисхождения у недругов проси, А подлой кровью их пожары загаси, И справедливости восстанови основы! На бога положись и слушай тех князей, Которых он послал для высочайшей цели: Отмстить виновникам погибели твоей, Заступникам твоим помочь в их правом деле! Не медли! Поднимись! Зловещий мрак развей, Чтоб разум и добро безумье одолели!Сон[227]
Увидел я во сне подобье божества: На троне, в золоте, средь мраморного зала… Толпа полулюдей, протиснувшись едва, Молилась на него, тряслась и трепетала. Меж тем фальшивый бог, исполнен торжества, Казнил, и миловал, и, словно с пьедестала Взирая на толпу, произносил слова, Провозглашая в них высокие начала. А небо зрело все… И в сумраке ночном Сгущались облака, шло звезд перемещенье. Лжебог торжествовал, но крепло возмущенье, Лжебог подмял весь мир, и тут ударил гром. Господь осуществил суровое отмщенье, Власть, роскошь превратив в зловонный грязи ком.Мартин Опиц
Образец сонета[228]
Вы, небеса, ты, луг, ты, ветерок крылатый, Вы, травы и холмы, ты, дивное вино, Ты, чистый ручеек, в котором видишь дно, Вы, нивы тучные, ты, хвойный лес мохнатый, Ты, буйный сад, цветами пышными богатый, Ты, знойный край пустынь, где все обожжено, Ты, древняя скала, где было мне дано Созвучие вплести в мой стих витиеватый, — Поскольку я томим любовною истомой К прелестной Флавии, досель мне незнакомой, И только к ней стремлюсь в полночной тишине, Молю вас, небеса, луг, ветер, нивы, всходы, Вино, ручей, трава, сады, леса и воды, Всех, всех молю вас: ей поведать обо мне!Средь множества скорбей
Средь множества скорбей, средь подлости и горя, Когда разбой и мрак вершат свои дела, Когда цветет обман, а правда умерла, Когда в почете зло, а доброта — в позоре, Когда весь мир под стать Содому и Гоморре, — Как смею я, глупец, не замечая зла, Не видя, что вокруг лишь пепел, кровь и мгла, Петь песни о любви, о благосклонном взоре, Изяществе манер, пленительности уст?! Сколь холоден мой стих! Сколь низок он и пуст, Для изможденных душ — ненужная обуза! Так о другом пиши! Пора! А если — нет, Ты жалкий рифмоплет. Ты больше не поэт. И пусть тебя тогда навек отвергнет муза!Пауль Флеминг
Над гробом[229]
Ярость ливней грозовых, Торопливые зарницы, Легкий пар в луче денницы, Полыханье шутих, Вихрь, что прянул и затих, Звон стрелы, что к цели мчится, Хладный лед в тепле гробницы, Эхо средь вершин седых — Если все так мимолетно, И бесплодно, и бесплотно, Что ж тогда земной наш век, Столь же краткий, столь же тленный? Все — ничто, и всей вселенной Символ — ты, о человек!Во здравие любезной[230]
Что во сне, что наяву, Что витает грезой краткой, Что мне страшно, что мне сладко, Что гоню и что зову, Что творю и чем слыву, Что мне весело, что гадко, Мысль, сомнение, догадка, Всё как есть, всё, чем живу, Чем я занят, чем не занят, Что со мною есть и станет, Страх, блаженство, забытье, Каждое мое занятье, Каждый вздох мой, без изъятья, Всё — во здравие твое!Обращение к самому себе[231]
Куда стремишься ты, достойнейшим вослед, По странам колеся, переплывая море, Взбираясь на гору, с дождем и стужей споря, Покоем жертвуя для суеты сует? Зачем приемлешь зло, которым полон свет, В неправде — правду зришь, несчастье — в сущем вздоре, Богатство — в мишуре, всем чужд, с собой в раздоре, У славы не в чести, любовью не согрет? Зачем, от мудрости отрекшись, тешишь беса, Печалишь Гигию и гневаешь Зевеса? В чем цель твоя? Ответь, не опуская глаз! Ты сам себе претишь. Тоска по чуждой доле Всю жизнь твою вверх дном перевернет, тем боле Что твой же ум тебе, как видно, не указ.К ночи, которая была проведена без сна близ возлюбленной[232]
Куда же ты спешишь, спасительная мгла? Я думал, минуло лишь полчаса, и любо Мне было целовать алеющие губы, Что краску пьют с моих и жгут их добела. Но вижу: ты от нас уже почти ушла. Вернись, повремени еще! Ну почему бы Тебе не погодить? Не разрушай так грубо Приюта, что любовь над нами возвела. Твой сын, безгласный сон, обходит темный дом И сеет россыпи блаженных грез кругом — Усни, себя и нас напрасно не тревожа! И так уже вот-вот осветится восток, Пробрезжит тусклый луч сквозь черный твой платок, И чуть покинешь нас — мы разлучимся тоже.Когда она меня отвергла[233]
Уж если весь товар шлет за море купец На корабле одном, уж если безрассудно Он сразу всем рискнет, предугадать нетрудно: В подобной дерзости раскается глупец. Вот так же точно я сгубил себя вконец: Добро мое на дне, разбито в щепки судно, Отчаянье и страх — вот весь барыш мой скудный, Убыток мой — любовь и свадебный венец. О я злосчастнейший! В груди теснятся вздохи, И кругом голова, и сердце как в огне. Я разорен дотла. За что схватиться мне? На что теперь нужны оставшиеся крохи? Богатство кануло, и сознаю, скорбя, Что, потеряв ее, я потерял себя.К самому себе[234]
Будь тверд без черствости, приветлив без жеманства, Встань выше зависти, довольствуйся собой! От счастья не беги и не считай бедой Коварство времени и сумрачность пространства. Ни радость, ни печаль не знают постоянства: Чередованье их предрешено судьбой. Не сожалей о том, что сделано тобой, А исполняй свой долг, чураясь окаянства. Что славить? Что хулить? И счастье и несчастье Лежат в тебе самом!.. Свои поступки взвесь! Стремясь вперед, взгляни, куда ты шел поднесь. Тому лишь, кто, презрев губительную спесь, У самого себя находится во власти, Подвластна будет жизнь, мир покорится весь!Великому городу Москве, в день расставания[235]
Краса своей земли, Голштинии родня, Ты дружбой истинной, в порыве богоравном, Заказанный иным властителям державным, Нам открываешь путь в страну истоков дня. Свою любовь к тебе, что пламенней огня, Мы на восток несем, горды согласьем славным, А воротясь домой, поведаем о главном: Союз наш заключен! Он прочен, как броня! Так пусть во все века сияет над тобою Войной не тронутое небо голубое, Пусть никогда твой край не ведает невзгод! Прими пока сонет в залог того, что снова, На родину придя, найду достойней слово, Чтоб услыхал мой Рейн напевы волжских вод.К Германии
Отчизна, справедлив твой горестный упрек: Я молодость свою провел грешно и праздно, Не исполнял твоих велений безотказно И, вечно странствуя, был от тебя далек. Мать-родина! Прости! Жар любопытства влек Меня из края в край. Я не избег соблазна И покидал тебя ни с чем несообразно, Но ничего с собой поделать я не мог. Я лодка малая, привязанная к судну. Хочу иль не хочу, а следую за ним. И все же навсегда я остаюсь твоим. Могу ли я тебя отвергнуть безрассудно? И в поисках пути, в далекой стороне, Я смутно сознаю: я дома — ты во мне…На слияние Волги и Камы, в двадцати верстах от Самары[236]
Приблизьтесь к нам скорей! Причин для страха нет! О нимфы пермские, о гордые княгини, Пустынных сих брегов угрюмые богини. Здесь тень да тишина. И солнца робок свет. Вступите на корабль, дабы принять привет От нас, кто на устах у всей России ныне, Голштинии сыны, мы здесь — не на чужбине: Незыблем наш союз и до скончанья лет! О Кама, бурных вод своих не пожалей! Ковшами черпай их и в Волгу перелей, Чтоб нас песчаные не задержали мели. И Волга, обновясь, свой да ускорит бег, Призвавши благодать на тот и этот брег, Чтоб глад, и мор, и смерть их ввек терзать не смели.На смерть господина Мартина Опица[237]
Так в Элизийские ушел и ты поля, Ты, кто был наших дней Гомером и Пиндаром, Кто, наделенный их необычайным даром, Жил, с ними славу и бессмертие деля. О герцог наших струн! Немецкая земля, Привыкшая к скорбям, объятая пожаром, Сотрясена досель невиданным ударом И стонет, небеса о милости моля. Вотще!.. Все сметено, все сломлено и смято. Мертва Германия, прекрасная когда-то. Мать умерла, теперь во гроб ложится сын. Пал мститель, пал певец, пал праведник и воин!.. А вам-то что скорбеть? Из вас-то ни один Подобного певца сегодня недостоин.Эпитафия
господина Пауля Флеминга, д-ра мед., кою он сочинил сам в Гамбурге марта 28 дня лета 1640 на смертном одре, за три дня до своей блаженной кончины
Я процветал в трудах, в искусствах и в бою, Избранник счастия, горд именитым родом, Ничем не обделен — ни славой, ни доходом, Я знал, что звонче всех в Германии пою. Влекомый к странствиям, блуждал в чужом краю. Беспечен, молод был, любим своим народом… Пусть рухнет целый мир под нашим небосводом, Судьба оставит песнь немецкую мою! Прощайте вы, господь, отец, подруга, братья! Спокойной ночи! Я готов в могилу лечь. Коль смертный час настал, то смерти не перечь. Она меня зовет, себя готов отдать я. Не плачьте ж надо мной на предстоящей тризне. Все умерло во мне… Все… Кроме искры жизни.Андреас Грифиус
ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ СОНЕТОВ
Все бренно[238]…
Куда ни кинешь взор — все, все на свете бренно. Ты нынче ставишь дом? Мне жаль твоих трудов. Поля раскинутся на месте городов, Где будут пастухи пасти стада смиренно. Ах, самый пышный цвет завянет непременно. Шум жизни сменится молчанием гробов. И мрамор и металл сметет поток годов. Счастливых ждет беда… Все так обыкновенно! Пройдут, что сон пустой, победа, торжество: Ведь слабый человек не может ничего Слепой игре времен сам противопоставить. Мир — это пыль и прах, мир — пепел на ветру. Все бренно на земле. Я знаю, что умру. Но как же к вечности примкнуть себя заставить?!Свадьба зимой[239]
В долинах и в горах еще белым-бело. Теченья быстрых рек еще зажаты льдами. Измучена земля стальными холодами. Деревья замерли, и ветки их свело. Еще седой буран разнузданно и зло Бесчинствует, кружась над нашими садами, И все ж огонь любви, сейчас зажженный вами, Смог чудо совершить, что солнце не смогло! Так розы расцвели, наперекор метели, Воскресшею листвой леса зашелестели, Воспрянули ручьи, отбросив тяжесть льдов… О, больше чем хвала счастливым новобрачным! Цветы для них цветут под зимним небом мрачным!.. Каких же осенью им сладких ждать плодов?!Слезы отечества, год 1636[240]
Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе. Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь, Ревущая труба, от крови жирный меч Похитили наш труд, вконец нас одолели. В руинах города, соборы опустели. В горящих деревнях звучит чужая речь. Как пересилить зло? Как женщин оберечь? Огонь, чума и смерть… И сердце стынет в теле. О, скорбный край, где кровь потоками течет! Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет. Забиты трупами отравленные реки. Но что позор и смерть, что голод и беда, Пожары, грабежи и недород, когда Сокровища души разграблены навеки?!К накрашенной
Ну, что в вас истинного, детище обмана: Вставные челюсти или беззубый рот?! О ваших локонах златых парик ваш врет, А о румянце щек — дешевые румяна. Набор густых белил — надежная охрана. Но если невзначай их кто-нибудь сотрет, Тотчас откроется — скажу вам наперед — Густая сеть морщин!.. А это — в сердце рана! Наружностью всегда приученная лгать, Вы лживы и внутри, так надо полагать, Фальшивая душой, притворщица и льстица! О сердцем лживая! О лживая умом! С великим ужасом я думаю о том, Кто вашей красотой фальшивою прельстится!Невинно страдающему
Огонь и колесо, смола, щипцы и дыба, Веревка, петля, крюк, топор и эшафот, В кипящем олове обуглившийся рот, — С тем, что ты выдержал, сравниться не могли бы. И все ж под тяжестью неимоверной глыбы Твой гордый дух достиг сияющих высот. О, сбудется! Молва тебя превознесет, И лавровый венец смягчит твои ушибы! За дело правое свою ты пролил кровь, И, павши, ты воспрял, умерши, ожил вновь. Ни в чем твоя душа святая не повинна! Но разве наш господь не так же шел на казнь? Свершив великое, преодолеть боязнь Перед распятием — вот долг христианина!К звездам
Светила, что меня манят из горней дали, Лампады, что ночной пронзают небосклон, Играя как брильянт, сияют испокон, Цветы, что на лугах небесных расцветали, Дозорные, Творец, задумав мир в начале, Премудрый, вас назвал точнейшим из имен, Вас Он один считал, вас знает только Он (Мы, смертные слепцы, о чем мы возмечтали!). Предтечи радости, о сколько же ночей Разглядывая вас, я не смыкал очей? Герольды времени, когда же я, с мольбою Взирающий на вас без устали с земли, Вас, что огонь любви в душе моей зажгли, Избавлен от забот, увижу под собою?Картина нашей жизни
Играет человек, покуда он живет В театре мировом, конца не зная драме. Тот — вверх, а этот — вниз, тот хвалится дворцами, Другой — чулану рад, тот — правит, тот — прядет. Что было — то прошло, в чем нынче счастья взлет, Назавтра рушится. И зелень рядом с нами Пожухла и мертва. Мы только гости сами, И с нити шелковой сорвется меч вот-вот. Похожи плотью мы, несходны местом в мире, Тот — в жалком рубище, зато другой — в порфире, Но смерть сравняет всех, сорвав любой наряд. Играйте же в игру у роковой границы, Но помните, когда пир жизни завершится, Мощь, мудрость, честь, добро открыто заблестят.К себе самому[241]
Меня бросает в дрожь, мне страшно поневоле Себя увидеть вдруг — уста, провалы глаз, Бессонницы следы, одышки тяжкий глас И веки, что почти не шевелятся боле. От жажды почернев, язык, слова мусоля, Лепечет невесть что. Душа в который раз Спасителя зовет, плоть смрадна в смертный час. Уходят доктора, и вновь терзают боли. Себе кажусь узлом из кожи, мышц, костей. Лежать — мучительно, сидеть — еще трудней, И ноги не идут, забыв о прежней силе. Где слава, юность, пыл, искусства, что мы чтим? Когда настанет срок, всё обратится в дым, Смерть настигает нас и всё, что мы любили.К миру
Игрушка всех ветров, корабль упрямый мой, Мяч в яростных волнах, один в морском просторе Стремительной стрелой несется, с бурей споря, Чтоб в гавани пристать для сердца дорогой. Когда внезапно мгла скрывала свет дневной, От вспышек молнии пылал мой парус в море, Как часто норд и зюйд я путал, шторму вторя, Что стало с мачтами, бушпритом и кормой! Пора, усталый дух! Сойти настало время. Чего боишься ты? Теперь страданий бремя, И боль свою, и страх ты сбросишь наконец. Прощай, проклятый мир безжалостной стихии! Я вас приветствую, о, берега родные, Покоя вечного сияющий дворец!ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ СОНЕТОВ
Вечер[242]
Короткий день угас. Ночь развернула стяг, И звезды вспыхнули. Плетутся вереницы Работников с полей; притихли звери, птицы. Печаль царит кругом. О, время, скор твой шаг! К причалу мой челнок подходит кое-как. Точь-в-точь как свет померк, так год-другой промчится, И ждет меня, тебя и все вокруг граница. Жизнь здешняя — бега, где вскачь несется всяк. Дай, боже, в скачке мне не принимать участья! Дай устоять в беде, в богатстве, в страхе, в счастье! Пусть твой пребудет свет всегда в моей судьбе! Когда же плоть уснет, дух выпусти на волю, И поздним вечером, из сумрачной юдоли, В последний миг земной возьми меня к себе!Одиночество
Я в одиночестве безмолвном пребываю. Среди болот брожу, блуждаю средь лесов. То слышу пенье птах, то внемлю крику сов, Вершины голых скал вдали обозреваю, Вельмож не признаю, о черни забываю, Стараюсь разгадать прощальный бой часов, Понять несбыточность надежд, мечтаний, снов, Но их осуществить судьбу не призываю. Холодный, темный лес, пещера, череп, кость — Все говорит о том, что я на свете гость, Что не избегну я ни немощи, ни тлена. Заброшенный пустырь, замшелая стена, Признаюсь, любы мне… Что ж, плоть обречена. Но все равно душа бессмертна и нетленна!..Заблудшие
Вы бродите впотьмах, во власти заблужденья. Неверен каждый шаг, цель также неверна. Во всем бессмыслица, а смысла — ни зерна. Несбыточны мечты, нелепы убежденья. И отрицания смешны и утвержденья, И даль, что светлою вам кажется, — черна. И кровь, и пот, и труд, вина и не вина — Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рожденья. Вы заблуждаетесь во сне и наяву, Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству, Как друга за врага, приняв врага за друга, Скорбя и радуясь, в ночной и в ранний час… Ужели только смерть прозреть заставит вас И силой вытащит из дьявольского круга?!Сонет надежды
В дни ранней юности, в дни первого цветенья Я встретиться с чумой успел лицом к лицу. Едва начавши жить, я быстро шел к концу, Исполнен ужаса, отчаянья, смятенья. Болезни, бедствия, безмерность угнетенья Порой не выдержать и стойкому бойцу, А я бессилием был равен мертвецу… Мне ль было превозмочь судьбы хитросплетенья? Не видя выхода, я только смерти ждал… И тут… бог спас меня. Господь мне сострадал! С тех пор, обретши жизнь, усвоил я науку: На грани гибели, в проигранной борьбе — Невидимо господь печется о тебе И в нужный миг подаст спасительную руку.ИЗ ПОСМЕРТНО ИЗДАННЫХ СТИХОВ
На завершение года 1648[243]
Уйди, злосчастный год — исчадье худших лет! Страдания мои возьми с собой в дорогу! Возьми болезнь мою, сверхлютую тревогу. Сгинь наконец! Уйди за мертвыми вослед! Как быстро тают дни… Ужель спасенья нет? К неумолимому приблизившись итогу, В зените дней моих, я обращаюсь к богу: Повремени гасить моей лампады свет! О, сколь тяжек был избыток Мук, смертей, терзаний, пыток! Дай, всевышний, хоть ненадолго дух перевести, Чтоб в оставшиеся годы Не пытали нас невзгоды. Хоть немного радости дай сердцу обрести!На завершение года 1650
Остались позади пожары, голод, мор. Вложивши в ножны меч, свой путь закончив ратный, Вкушает родина мир трижды благодатный. И вместо хриплых труб мы слышим стройный хор. Теперь нам щеки жжет любовь, а не позор… Спадает с сердца гнет беды невероятный… Все вынесло оно: разгул войны развратный, И бешенство огня, и смертный приговор. Боже, все мы испытали, все, что ты послал, снесли! Кто знавал такие муки с сотворения земли, Как народ наш обнищавший? Мы мертвы, но мир способен снова к жизни нас вернуть. Дай нам силу встать из праха, воздух мира дай вдохнуть, Ты, спасенье обещавший!К Евгении[244]
Я в одиночестве. Я страшно одинок. Порой мне кажется, что бедствую в пустыне, Которой края нет, как и моей кручине. И одиночеством меня пытает рок. А между тем настал давно желанный срок: Народы дождались великой благостыни, Окончилась война, и все ликует ныне. Но без твоей любви мне даже мир не впрок. Потерян, удручен, печален, как могила, Отторгнут от тебя, той, без которой мне Все тошно и ничто на всей земле не мило! И проклинать судьбу, и злобствовать я вправе! Но одинок ли я? Ты здесь — в мечте, во сне. И пропадает боль… Так что ж ты значишь въяве?!ИЗ «ВОСКРЕСНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ СОНЕТОВ»
Последний сонет[245]
Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку, В отчаянье стенал над сотнями могил. Утратил всех родных. Друзей похоронил. Мне каждый час сулил с любимыми разлуку. Я до конца постиг страдания науку: Оболган, оскорблен и оклеветан был. Так жгучий гнев мои стихи воспламенил. Мне режущая боль перо вложила в руку! — Что ж, лайте! — я кричу обидчикам моим. — Над пламенем свечей всегда витает дым, И роза злобными окружена шипами, И дуб был семенем, придавленным землей… Однажды умерев, вы станете золой. Но вас переживет все попранное вами!Христиан Гофман фон Гофмансвальдау
На крушение храма Святой Елизаветы[246]
Колонны треснули, господень рухнул дом. Распались кирпичи, не выдержали балки. Известка, щебень, прах… И в этот мусор жалкий Лег ангел каменный с отколотым крылом. Разбиты витражи. В зияющий пролом Влетают стаями с надсадным воплем галки. Умолк органный гул. Собор подобен свалке. Остатки гордых стен обречены на слом. И говорит господь: «Запомни, человек! Ты бога осквернил и кары не избег. О, если б знать ты мог, сколь злость твоя мерзка мне! Терпенью моему ты сам кладешь предел: Ты изменил добру, душой окаменел. Так пусть тебя теперь немые учат камни!»Исповедь гусиного пера
В сей мир принесено я существом простым, Но предо мной дрожат державные короны, Трясутся скипетры и могут рухнуть троны, Коль я вдруг окажусь неблагосклонным к ним. Стихом своих певцов возвышен Древний Рим: Великой доблести начертаны законы, Увиты лаврами героев легионы, А власть иных царей развеяна, как дым! Звучал Вергилия божественного стих, Священный Август льнул к его бессмертной музе… Теперь, Германия, ты превосходишь их: Твой мужественный дух с искусствами в союзе! Так не затем меня возносят над толпой, Чтоб шляпу украшать бездарности тупой!Катарина Регина фон Грейфенберг
О преследуемой и все же неодолимой добродетели[247]
Нет большей радости, чем непреклонной быть И, словно Геркулес, беде сопротивляться, Перед могуществом во прахе не валяться, Мужать в несчастии и тем его избыть, В борении с огнем и громом лавр добыть!.. В страданиях — сердцам и душам закаляться!.. Тому, что говорю, не нужно удивляться: Лишь тот, кто смерть познал, способен жизнь любить! Сломив напор врагов, достиг победы Кир, И Цезарь скипетр свой добыл в суровом споре, Филиппа гордый сын завоевал весь мир Ценой тяжелых войн на суше и на море. Так что они для нас, опасности и беды, Как не зарок небес, как не залог победы?ПРИМЕЧАНИЯ
ИТАЛИЯ
ГВИДО ГВИНИЦЕЛЛИ (Guido Guinizelli, между 1230 и 1240 — около 1276). — Поэт и юрист из Болоньи, основатель философской поэзии «нового сладостного стиля». В своих сонетах и канцонах прославлял одухотворяющую силу любви, а возлюбленную изображал воплощением добродетели и истины. Любовь получила у Гвиницелли мистический оттенок.
Переводы сонетов публикуются впервые.
ГВИДО КАВАЛЬКАНТИ (Guido Cavalcanti, около 1255–1300). — Поэт, друг молодого Данте, один из самых вольнолюбивых умов Флоренции, продолживший и развивший основы поэзии Г. Гвиницелли. В стихах Кавальканти любовь — не только некая возвышающая сила, но и разрушительная, заставляющая жестоко страдать любящего. В лирике Кавальканти в большей степени, чем у Гвиницелли, подчеркнуто философско-спиритуалистическое понимание любви.
Переводы двух последних сонетов публикуются впервые.
ЧЕККО АНДЖОЛЬЕРИ (Сессо Angiolieri, 1260–1312). — Поэт из Сиены, представитель демократического направления тосканской лирики второй половины XIII в. Его перу принадлежит сборник из 150 сонетов, в которых он изображал реальную жизнь, ее радости и невзгоды. Его возлюбленной была некая Беккина, дочь кожевника. Чекко воспевал в своих сонетах триаду: женщину, игру, таверну. Данте в молодости был дружен с Чекко и даже посвятил ему несколько сонетов, убеждая оставить низменные темы.
Переводы сонетов публикуются впервые.
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (Dante Alighieri, 1265–1321). — Великий итальянский поэт раннего Возрождения. Родился во Флоренции, происходил из старинного дворянского рода. Литературную деятельность Данте начал как лирический поэт, рассказав о своей юношеской любви к Беатриче Портинари в книжке «Новая жизнь» (1291–1292), написанной в традициях «нового сладостного стиля». Любовь для Данте — высокое одухотворяющее чувство, окрашенное в религиозно-мистические тона. Данте принимал активное участие в политической жизни родного города, был избран членом коллегии шести приоров, но после поражения партии Белых гвельфов, к которой он принадлежал, был изгнан из Флоренции (1302) и остальные годы своей жизни провел на чужбине. Помимо лирических стихотворений Данте написал три трактата: «Пир» — нечто вроде энциклопедии современных поэту знаний; «О монархии» — изложение политических взглядов поэта и «О народной речи» — первый труд по романскому языкознанию, в котором Данте высказал мысль о необходимости создания единого национального языка, в основу которого должен лечь народный язык. Самым великим произведением Данте является «Божественная комедия», в которой он дал синтез средневековой культуры и утвердил новое понимание человека, характерное для эпохи Возрождения.
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (Francesco Petrarca, 1304–1374). — Крупнейший лирик итальянского Возрождения, ученый-гуманист и мыслитель. Родился в Ареццо в Тоскане, где в изгнании жил его отец, друг и единомышленник Данте. Затем семья Петрарки обосновалась в Авиньоне на юге Франции, где в то время находился папский престол. Петрарка изучал право, принял духовный сан, но всю жизнь оставался светским аббатом, не исполнявшим обязанностей священника. Петрарка стоял во главе старшего поколения итальянских гуманистов. Античность была для него предметом глубоких и серьезных изысканий. Он высоко ценил свои произведения на латинском языке, особенно героико-патриотическую поэму «Африка», описывавшую подвиги Сципиона Африканского и утверждавшую культ античности и идею свободы Италии. За эту поэму Петрарка был увенчан лавровым венком на Капитолийском холме в Риме (1341). Как и Данте, Петрарка горячо любил Италию; он принимал на себя дипломатические поручения, чтобы содействовать благу родины. Не случайно его называли поэтом-миротворцем. Мировая слава Петрарки зиждется не на его латинских сочинениях, а на сборнике итальянских стихов «Канцоньере» («Книга песен»), посвященных возлюбленной поэта Лауре, которую он воспевал 21 год при ее жизни и 10 лет после ее смерти. В любовных сонетах и канцонах Петрарка прославлял земную страсть как высокое одухотворенное чувство. В своих политических канцонах он ратовал за независимость Италии, а в сатирических сонетах обличал пороки папской курии и духовенства. Сборник «Канцоньере» оказал огромное воздействие на всю европейскую литературу Возрождения.
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО (Giovanni Boccaccio, 1313–1375). — Младший современник Петрарки, поэт, новеллист, ученый-гуманист. Внебрачный сын флорентийского купца и француженки, родился в Париже, затем был увезен во Флоренцию. Молодые годы Боккаччо провел в Неаполе, где вместо торговли и юриспруденции (для чего он послан был туда отцом) изучал античных писателей и древние языки. Знакомство с неаполитанскими гуманистами открыло Боккаччо доступ ко двору короля Роберта Анжуйского, покровителя ученых, поэтов, живописцев. Здесь Боккаччо встретил и полюбил побочную дочь короля Роберта Марию д’Аквино, которую он изображал под именем Фьямметты («Огонек»). Первые произведения Боккаччо («Филоколо», «Филострато», «Тезеида») написаны в духе рыцарских романов с использованием античных сюжетов. Боккаччо пробует свои силы в жанре идиллии («Амето»), пишет поэму в октавах «Фьезоланские нимфы», в которой он показал любовь пастуха и нимфы как простое земное чувство. Прозаический роман «Элегия мадонны Фьямметты» (1348) был навеян любовью к Марии д’Аквино, воспоминание о которой Боккаччо сохранил на долгие годы. Самым значительным произведением Боккаччо, прославившим его имя, стал сборник новелл «Декамерон» («Десятидневник», 1352–1354). Боккаччо разработал жанр средневекового рассказа, сделав его выразителем нового ренессансного содержания. В своей любовной лирике Боккаччо шел по стопам Петрарки, однако любовь у Боккаччо более жизненна и реальна.
ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ (Lorenzo Medici, 1449–1492). Некоронованный правитель Флоренции, принадлежал к банкирской семье, захватившей власть в городе в XV в. Лоренцо покровительствовал поэтам, философам, художникам, ученым, сам увлекался поэзией и писал стихи. В противоположность многим гуманистам своего времени, предпочитавшим латинский язык, Лоренцо писал на итальянском языке. В своих пастушеских идиллиях («Коринто», «Амбра») подражал Боккаччо. Лоренцо обращался и к народной поэзии, заимствуя из нее отдельные мотивы, образы и размеры. Он написал две поэмы на бытовые темы: «Ненча из Барберино» и «Пир, или Пьяницы». В своих любовных стихах он подражал Петрарке. Лучшими произведениями Лоренцо по праву считаются его «Карнавальные песни», которые распевались во время карнавальных празднеств.
МАТТЕО МАРИЯ БОЯРДО (Matteo Maria Boiardo, 1441–1494). — Происходил из знатного рода, занимал высокие административные должности при герцогском дворе в Ферраре, которая в эпоху Возрождения была одним из центров ренессансно-рыцарской культуры. Человек блестяще образованный, Боярдо пишет стихи по-латыни, подражая Вергилию, переводит античных писателей на родной язык. Самым значительным произведением Боярдо является рыцарская поэма в октавах «Влюбленный Роланд», оставшаяся незаконченной. Боярдо разработал сюжет героического эпоса в шутливом духе, превратив суровых рыцарей в куртуазных кавалеров. Значительный интерес представляет сборник сонетов и канцон «Канцоньере» (1476), написанный в традициях любовной лирики Петрарки.
ЛУДОВИКО АРИОСТО (Ludovico Ariosto, 1474–1533). — Выдающийся поэт Высокого Возрождения. Происходил из обедневшего дворянского рода, находился на службе у феррарских герцогов. В своей рыцарской поэме «Неистовый Роланд» (1532), в которой он продолжил сюжет «Влюбленного Роланда», Ариосто повествует о новых приключениях героев Боярдо и одновременно прославляет герцогский род д’Эсте. В поэме Ариосто получило отражение умонастроение аристократической среды. По своим художественным достоинствам «Неистовый Роланд» намного превзошел поэму Боярдо. «Неистовый Роланд» также написан октавами, которые под пером Ариосто приобрели необычайную певучесть и легкость. Ариосто написано также 7 сатир в терцинах в подражание Горацию. Ариосто был большим мастером итальянской прозы. Он является отцом ренессансной комедии. Его перу принадлежит 5 комедий, в которых он использовал опыт классического театра. В области лирической поэзии Ариосто развивал традиции Петрарки.
Переводы сонетов публикуются впервые.
ПЬЕТРО БЕМБО (Pietro Bembo, 1470–1547). — Поэт и писатель-гуманист. Принял сан кардинала, жил при папском дворе в Риме. Бембо известен как борец за чистоту итальянского литературного языка (трактат «Рассуждение в прозе о народном языке», 1525). Почитая Данте, Бембо упрекал его в грубости стиля и призывал поэтов подражать поэтической манере Боккаччо и особенно Петрарки, которого считал законодателем «хорошего вкуса». Особое внимание Бембо обращал на изящество формы своих стихов. Бембо является главой целого направления в итальянской и европейской поэзии XVI в., известного под названием «петраркизм». Его перу принадлежит также книга диалогов «Алозанские беседы» (1505), в которой он защищал идею высокой любви в неоплатоновском понимании.
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (Michelangelo Buonarroti, 1475–1564). — Величайший скульптор, зодчий, живописец высокого Возрождения, был также оригинальным поэтом. Родился недалеко от Флоренции в Капрезе в семье управляющего этого города. Был отдан в латинскую школу во Флоренции, но, преодолев сопротивление отца, поступил сначала в мастерскую Доменико Гирляндайо, а затем в художественную школу, основанную Лоренцо Великолепным. Два года Микеланджело провел во дворце Лоренцо, будучи его гостем. Здесь он завязал дружеские отношения с известными поэтами, философами, гуманистами: Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, которые приобщили юного Микеланджело к идеям платоновской Академии, основанной во Флоренции Козимо Медичи. Философия неоплатонизма во многом определила содержание зрелого творчества Микеланджело. В своей поэзии он опирался на творческое наследие Данте и Петрарки. Традиции Петрарки он постепенно преодолевал, а внутреннюю связь с Данте ощущал в течение всей жизни. Поэзия Микеланджело вырастала из духовных запросов его времени — эпохи наступления феодально-католической реакции и кризиса гуманистической культуры Возрождения. В его стихах нашли отражение проблемы, получившие воплощение и в его живописи. Многие из любовно-философских стихотворений Микеланджело, написанных в духе неоплатонизма, посвящены известной поэтессе Виттории Колонна, с которой Микеланджело связывало духовное родство и тесная дружба (1537–1547 гг.). После ее кончины в поэзии Микеланджело усиливаются религиозные раздумья и тема любви сближается с темой смерти. Первое издание стихотворений Микеланджело вышло в свет в 1623 г. со значительными исправлениями, внесенными его племянником поэтом М. Буонарроти-младшим, который приспособил стихи своего великого дяди к вкусам эпохи. Только спустя несколько столетий, когда были исследованы прижизненные списки стихов Микеланджело, появилось подлинное издание его стихотворений (1897).
ФРАНЧЕСКО БЕРНИ (Francesco Berni, 1498–1535). — Поэт-сатирик, создатель пародийно-сатирического бурлескного стиля, который характеризуется тем, что о низменных вещах повествуется высоким слогом. По имени Берни его стиль получил название «бернеско». Берни прославился своими сатирическими рассуждениями в терцинах — «Капиталами» и обличительными сонетами, направленными против духовенства, в частности против пап Адриана VI и Климента VII. В сонетах Берни развил традицию «хвостатого» сонета, доведя количество строк до 20. В своих стихах он противопоставлял изысканной манере П. Бембо и его последователей нарочито грубоватый народный язык с его яркими образами и меткими выражениями.
ТОРКВАТО ТАССО (Torquato Tasso, 1544–1595). — Последний великий поэт итальянского Возрождения, в творчестве которого с особой силой проявилось наступление феодально-католической реакции и крушение гуманистических идеалов. Тассо родился в Сорренто в семье поэта Бернардо Тассо, получил блестящее классическое образование и рано начал писать, увлекшись рыцарской тематикой. Под влиянием Ариосто он пишет юношескую поэму «Ринальдо» и посвящает ее кардиналу Луиджи д’Эсте, на службе у которого он находился. Затем он переходит на службу к феррарскому герцогу Альфонсо II д’Эсте. К этому времени относится написание пасторальной драмы «Аминта» (1573) о любви благородного пастуха к целомудренной нимфе; драма была поставлена при герцогском дворе и имела успех. В пьесе получили отражение отдельные моменты придворного быта, но главное — естественность и психологическая убедительность в обрисовке любовного чувства. Вершиной творчества Тассо является его эпическая поэма «Освобожденный Иерусалим» (1575) об осаде и взятии крестоносцами Иерусалима. Тема поэмы была весьма актуальной в связи с наступлением турок в Европе. В отличие от Ариосто Тассо разработал эту тему серьезно и придал ей религиозную окраску. Мучимый противоречием между гуманистическими идеалами и религиозным аскетизмом, Тассо отдал поэму на суд инквизиции, а затем переработал в религиозно-католическом духе («Завоеванный Иерусалим», 1592). Последние годы жизни поэт провел в скитаниях по Италии, он умер в Риме незадолго до того, как его должны были увенчать лавровым венком на Капитолии. Перу Тассо принадлежит большое число чрезвычайно мелодичных лирических стихотворений, посвященных любви, написанных в изящной и чувствительной манере.
Личность Тассо приобрела известность в литературе благодаря легенде, которая создалась еще при жизни поэта. Согласно этой легенде Тассо был влюблен в Элеонору д’Эсте, сестру Альфонсо II, и за свою любовь подвергся преследованиям со стороны феррарского герцога, который даже посадил его в сумасшедший дом, где поэт испытал унижения и страдания. Однако, как было установлено, любовная страсть Тассо явилась чистым вымыслом, а сам он страдал тяжелым душевным недугом, который еще больше обострился в связи с трагическим разладом в душе поэта. В европейской литературе образ Тассо сделался символом одинокого гения, не понимаемого людьми.
ДЖОРДАНО БРУНО (Giordano Bruno, 1548–1600) (настоящее имя — Филиппо, в монашестве — Джордано, принадлежал к ордену францисканцев). — Ученый и мыслитель, автор сочинений, в которых он развивал идеи Коперника о бесконечности миров и материальности вселенной. За свои идеи Бруно был обвинен римской инквизицией в ереси, процесс продолжался восемь лет. Бруно не отрекся от своих идей и отказался признать их еретическими. Он был сожжен в Риме на Площади Цветов. Бруно выступал против феодально-католической реакции и религиозного фанатизма. Он высказывал свои философские и научные мысли в форме диалогов, чтобы сделать их доступными широким слоям общества: «О причине, начале и едином», «О бесконечности, вселенной и мирах», «О героическом энтузиазме» и др. В борьбе с религиозной идеологией Бруно часто обращался к сатире (диалог «Тайна Пегаса, с приложением Килленского осла»). Перу Бруно принадлежит комедия «Подсвечник» (1582), одна из лучших ренессансных комедий. Бруно выступал против поэтов-«петраркистов», бесконечно повторявших одну и ту же любовную тему; в его поэзии нашли отражение его философские идеи и раздумья.
ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА (Tommaso Campanella, 1568–1639) (подлинное имя — Джан Доменико, в монашестве — Томмазо). — Философ, ученый, поэт, родом из Калабрии. В 15 лет стал монахом; в монастыре занялся изучением не только богословия, но также философии, в том числе античных авторов и гуманистов. Кампанелла интересовался социально-политическими проблемами своего времени. В 1597 г. он возглавил заговор в Калабрии против испанских властей, чтобы в результате восстания освободить Италию от испанского владычества. Он мечтал о новом общественном устройстве. Заговор был раскрыт, Кампанелла оказался в тюрьме. Он провел в заточении долгих 27 лет, подвергаясь пыткам и всевозможным истязаниям. Когда в 1632 г. был начат процесс против Галилея, Кампанелла встал на его защиту. Спасаясь от преследования своих противников, Кампанелла вынужден был бежать во Францию, где и провел последние годы своей жизни. Находясь в тюрьме, он написал самое известное свое сочинение «Город Солнца, или Идеальная республика» (1623) — социальную утопию в форме диалога, в которой Кампанелла, развивая идеи Платона, вслед за Т. Мором стремился обрисовать новый общественный строй без частной собственности. Кампанелла известен также как автор философских, политических и лирических стихотворений.
ДЖАМБАТТИСТА МАРИНО (Giambattista Marino, 1569–1625). — Самый значительный поэт итальянского барокко, получившего в Италии название «маринизм». Уроженец Неаполя, Марино вел жизнь типичного авантюриста, блистал при многих европейских дворах, особых почестей добился в Париже, где ему покровительствовала Мария Медичи. За год до смерти он с триумфом вернулся на родину, пользуясь европейской славой. Марино был плодовитым писателем, писал в самых различных поэтических жанрах. Славу Марино упрочила поэма из 20 песен на мифологическую тему «Адонис» (1623), которую он посвятил Людовику XIII. Интерес представляет сборник стихов «Лира» (1608–1614), в котором в характерном метафорическом стиле Марино прославляет любовь, наслаждение и говорит о быстротечности земных радостей. Марино написал сборник идиллий «Волынка» и книгу «Галерея» (1620), в которую вошли стихотворения, посвященные выдающимся личностям и прославленным произведениям искусства. Марино является также создателем прециозного эпистолярного стиля, которым написаны его многочисленные письма.
ВИНЧЕНЦО да ФИЛИКАЙЯ (Vincenzo da Filicaia, 1642–1707). — Один из зачинателей итальянского классицизма, родился во Флоренции, получил юридическое образование, занимал административные должности в Тоскане. Филикайя был членом Академии делла Круска, боровшейся за чистоту итальянского языка. Противопоставляя свое творчество творчеству поэтов-маринистов, Филикайя разрабатывал высокие жанры и прославился патриотическими одами, написанными на освобождение Вены Яном Собесским от турецкой осады (1683). Патриотизмом дышит и цикл сонетов Филикайи «К Италии», в котором поэт скорбит об угнетении родины иноземными поработителями и о неспособности итальянцев завоевать свободу. Филикайя писал также стихи на религиозные темы.
ИСПАНИЯ
ХУАН БОСКАН-и-АЛЬМОГАВЕР (Juan Boscán у Almogáver, 1490? — 1542). — Уроженец Барселоны, каталонский дворянин Хуан Боскан большую часть жизни провел при дворе «королей-католиков» Фердинанда и Изабеллы, а затем императора Карла V, был участником его итальянского похода, много путешествовал. Связанный с каталонской гуманистической традицией, Боскан в молодости сблизился с итальянским ученым-гуманистом Л. М. Сикуло, с прозаиком Б. Кастильоне, чей знаменитый трактат «Придворный» он великолепно переложил по-кастильски, и с венецианским историком и дипломатом Андреа Наваджьеро, который и посоветовал ему попробовать перенести на испанскую почву итальянские поэтические формы, в том числе сонет, и одиннадцатисложный стих. Первые опыты Боскана были не очень удачны, но затем ему удается создать в своих стихотворениях органический сплав виртуозных форм итальянской поэзии с безыскусственностью и искренностью, присущими испанской поэтической традиции. Стихи Боскана при жизни не были опубликованы и изданы лишь посмертно его вдовой в 1543 г.
ГАРСИЛАСО де ла ВЕГА (Garcilaso de la Vega, 1501? — 1536). — Родился в Толедо, принадлежал к одному из знатнейших родов испанского дворянства. Получил превосходное образование, знал греческий, итальянский, французский и латинский языки. Придворный императора Карла V, Гарсиласо неоднократно и с успехом исполнял его дипломатические поручения, участвовал во всех его военных кампаниях, заслужив уважение бесстрашием в бою. Впав в немилость, был сослан на берега Дуная, но вскоре прощен. В одном из сражений в Провансе был тяжело ранен и через несколько дней скончался в Ницце. В своих стихах Гарсиласо выступает подлинным реформатором испанской поэзии. Освоив вслед за своим другом Босканом многие итальянские поэтические размеры и формы, в том числе и сонет, он придал им такую гармоничность и музыкальность, что «итальянская школа» сразу же приобрела в Испании множество сторонников. Всего Гарсиласо де ла Веге принадлежит 38 сонетов, по большей части посвященных его любви к Изабель Фрейре, фрейлине Марии Габсбургской. Поэтические произведения Гарсиласо были опубликованы вдовой Боскана вместе со стихами покойного супруга в 1543 г.
ЛУИС де ЛЕОН (Luis de León, 1527–1591). — В молодости вступив в монашеский орден августинцев, Л. де Леон был одновременно профессором Саламанкского университета и прославился своими теологическими и моралистическими сочинениями. По доносу одного из университетских схоластов в 1572 г. был брошен в тюрьму инквизиции и обвинен в критике библейских текстов, в переводе на испанский язык и распространении «Песни песней» и в других «прегрешениях». Почти пять лет он провел в застенке, и лишь в конце 1576 г. с него было снято обвинение в ереси и он вернулся к преподаванию. Поэтические произведения Луиса де Леона имели хождение в списках, и лишь незадолго до смерти он подготовил их к печати. Но опубликованы они были только в 1631 г. Франсиско де Кеведо. Поэзия Луиса де Леона положила начало так называемой «саламанкской школе» поэтов, отличительными чертами которой стала склонность к медитации, обсуждению философских проблем человеческого бытия и т. п. В некоторых своих поэмах Луис де Леон останавливается на пороге пантеистического мироощущения, в чем-то предваряя поэзию испанских мистиков.
Переводы сонетов Л. де Леона публикуются впервые.
ФЕРНАНДО де ЭРРЕРА (Fernando de Herrera, 1534–1597). — Глава «севильской» поэтической школы, славившейся своим стремлением к виртуозности и изощренности формы. Смолоду принял духовный сан, всю жизнь прожил в Севилье, посвятив весь свой досуг изучению наук и поэзии. Его поэтическое творчество еще при жизни получило такое признание, что он заслужил эпитет «Божественный» (El Divino). Сам Эррера причислял себя к последователям Гарсиласо де ла Веги. Но в «Примечаниях» (1580) к произведениям своего учителя Эррера подчеркивал главным образом изысканность его поэтической формы и формулировал требование создания поэзии, рассчитанной на избранного читателя, поэзии музыкальной и насыщенной тропами. Можно сказать, что в теории поэтического творчества, как и в своей поэтической практике, Эррера представлял в испанской поэзии маньеризм. В его любовной лирике, посвященной воспеванию платонического чувства к графине Хельвес, маньеризм обнаруживается в экзальтации чувств, эмоциональном перенапряжении, мистическом поиске слияния души поэта с душой любимой женщины. Прижизненное издание сонетов вошло в сборник «Различные произведения» (1582).
Переводы всех сонетов, кроме первых двух, выполнены специально для этого издания.
МИГЕЛЬ де СЕРВАНТЕС СААВЕДРА (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547–1616). — Автор гениального «Дон Кихота» и замечательных «Назидательных новелл», Сервантес прожил жизнь, полную суровых испытаний и лишений. Родившись в Алькала де Энаресе в семье бедного идальго-лекаря, он не смог закончить университет, сражался в рядах испанской армии против турок, был тяжело ранен в сражении при Лепанто (1571 г.). Пять лет, с 1575 по 1580 г., он провел в рабстве в Алжире, а после возвращения на родину добывал жалкие средства к существованию в качестве мелкого государственного чиновника и трижды заключался в тюрьму по ложному обвинению в злоупотреблениях. Умер в крайней нищете. Крупнейший испанский прозаик эпохи Возрождения, самобытный, хотя и не признанный при жизни драматург, Сервантес в молодости писал стихи, среди которых была и большая часть публикуемых ныне сонетов. Возвращается он к сонетной форме и позднее, придавая им чаще ироническое и сатирическое звучание.
ЛУПЕРСИО ЛЕОНАРДО де АРХЕНСОЛА (Lupercio Leonardo de Argensola, 1559–1613). — Арагонский дворянин, Л. Леонардо де Архенсола большую часть жизни прожил в родном Арагоне, здесь закончил университет, служил секретарем у разных вельмож и получил должность историографа Арагона. В конце жизни получил высокое назначение при графе Лемосе, вице-короле Неаполя, где и умер, успев сжечь перед смертью многие из своих сочинений. Автор нескольких учено-гуманистических драм, Л. Леонардо де Архенсола отразил ренессансно-классицистские веяния, стремление к классической гармонии и изяществу в своей лирике. Сборник «Стихи», включающий в себя все сохранившиеся сонеты и другие поэтические произведения братьев Архенсола, был опубликован сыном старшего брата в 1634 г.
БАРТОЛОМЕ ЛЕОНАРДО де АРХЕНСОЛА (Bartolomé Leonardo de Argensola, 1562–1631). — Младший брат Луперсио Леонардо де Архенсолы. Также получил гуманистическое образование в университете Уэски, Сарагосы и Саламанки, в 22 года принял священнический сан и был капелланом императрицы Марии Габсбургской. Вместе с братом прожил несколько лет в Неаполе, где установил контакты со многими итальянскими поэтами. Через несколько лет после смерти брата получил назначение историографом Арагона, входил в различные поэтические академии Сарагосы. Его стихи, удостоенные похвальных отзывов Сервантеса и Лопе де Веги, были опубликованы, как указывалось выше, в 1634 г. Приверженец учено-классицистского направления в ренессансном искусстве, Б. Леонардо де Архенсола обнаруживает большую искренность и простоту, чем его старший брат, нередко обращаясь к простонародной шутке и сатире.
ЛОПЕ ФЕЛИКС де ВЕГА КАРПИО (Lope Félix de Vega Carpio, 1562–1635). — Родился в семье ремесленника-золотошвея в Мадриде и всю жизнь, несмотря на всеевропейскую известность, вынужден был служить секретарем у различных вельмож, чтобы обеспечить относительный материальный достаток и некоторую независимость в обществе. Этим же отчасти было продиктовано его решение принять священнический сан (1614 г.), хотя это мало что изменило в его жизни, полной любовных авантюр. Творчество Лопе де Веги являет собой уникальный пример необыкновенной творческой энергии: его перу принадлежат свыше двух тысяч стихотворных пьес, несколько десятков поэм, романы, новеллы, лирические стихи. Одних его сонетов до нас дошло около трех тысяч. Отодвинутая на задний план драматургическими сочинениями «Феникса талантов», как звали уже при жизни Лопе де Вегу, его лирическая поэзия — одно из самых значительных явлений в истории ренессансной литературы Европы. При жизни его сонеты и другие лирические стихи публиковались в разных поэтических антологиях и до сих пор, по-видимому, не собраны все воедино. Как в своей жизни, так и в творчестве Лопе де Вега наиболее полно воплотил идеалы Возрождения.
ЛУИС КАРРИЛЬО де СОТОМАЙОР (Luis Carrillo de Sotomayor, 1582? — 1610). — Родился в знатной семье в Кордове (или, согласно другим источникам, в Баэне), получил отличное классическое образование в Саламанкском университете. Был рыцарем ордена Сантьяго и командовал несколькими галерами королевского флота. Преждевременная и скоропостижная смерть не позволила ему довести до конца работу над поэтическими произведениями (поэма «Акид и Галатея», «Рыбацкая эклога», 50 сонетов, 18 канцон и несколько романсов), которые были опубликованы в 1611 г. его братом. Поэзия Каррильо представляет собой завершение маньеристской линии в испанской литературе и во многом близка барочному искусству Гонгоры. Несмотря на явные следы незавершенности в некоторых стихотворениях Каррильо, его поэтическое творчество сыграло весьма заметную роль в истории испанской лирики XVII в.
ЛУИС де ГОНГОРА-и-АРГОТЕ (Luis de Góngora у Argote, 1561–1627). — Выдающийся испанский поэт. Родился и большую часть жизни прожил в Кордове. Происходил из старинной дворянской семьи, изучал право и теологию в Саламанкском университете; в 1585 г. получил сан священника и несколько лет провел при дворе, безуспешно добиваясь выгодных бенефиций. В Кордове получил должность архидьякона местного собора, но не раз вызывал недовольство церковных властей «легкомысленным» образом жизни и светскими стихами. Большинство произведений Гонгоры при жизни было известно лишь немногим ценителям поэзии в списках и опубликовано посмертно в сборнике «Сочинения в стихах испанского Гомера» (1627) и вышедшем семь лет спустя собрании его стихотворений. Барочная поэзия Гонгоры положила начало «культизму» (или «гонгоризму»), т. е. «темному стилю», в котором содержание нередко «зашифровано» с помощью сложного синтаксиса, неологизмов, смелых и неожиданных метафор и т. п. Полемика, развернувшаяся вокруг поэтических принципов Гонгоры еще при жизни (против них выступали, например, Кеведо и Лопе де Вега, которые вместе с тем высоко ценили поэтический талант Гонгоры), продолжалась чуть ли не до наших дней.
ФРАНСИСКО де КЕВЕДО-и-ВИЛЬЕГАС (Francisco de Quevedo у Villegas, 1580–1645). — Отпрыск знатного, но обедневшего рода, проведший детство и юность при дворе; стал одним из образованнейших людей своего времени. Выдающийся мыслитель, талантливый государственный деятель, бывший министром Неаполитанского вице-королевства, а затем секретарем Филиппа IV, он за свои критические суждения о политике испанских королей и их фаворитов поплатился изгнанием, а под конец жизни — почти четырехлетним тюремным заключением. Разносторонне одаренный писатель, он вошел в историю испанской литературы как величайший сатирик, автор плутовского романа «История жизни пройдохи…» (издание 1626 г.), памфлетных «Сновидений» (авторское издание 1631 г.) и сборника новелл «Час воздаяния» (1650).
Поэзией Кеведо занимался в течение всей жизни. Его стихи печатались анонимно в различных антологиях и распространялись в рукописных копиях, но отдельным изданием они были выпущены лишь посмертно в сборнике «Парнас, двуглавая гора, обитель девяти кастильских муз» (1648) и «Три последние кастильские музы. Вторая часть испанского Парнаса» (1651). Любовные, философские и сатирические стихи Кеведо — прекрасный образец получившего распространение в Испании концептистского искусства (см. вступительную статью).
ПЕДРО КАЛЬДЕРОН де ла БАРКА (Pedro Calderón de la Barca, 1600–1681). — Принадлежал к родовитому дворянству и получил воспитание в иезуитской коллегии в Мадриде. В университетах Алькала де Энареса и Саламанки он изучал богословие, схоластику, философию и право. В 1619 г. Кальдерон вернулся в столицу и вскоре приобрел известность стихами и главным образом пьесами. С 1625 г. он — признанный придворный драматург, поставщик пьес для придворного театра и «ауто» («священные действа») для религиозных представлений. Он становится кавалером ордена Сантьяго, а в 1651 г. принимает сан священника и получает назначение почетным королевским капелланом. Автор 120 светских пьес, 78 «ауто» и 20 интермедий, Кальдерон к лирической поэзии обращался редко. Публикуемые сонеты извлечены из текста пьес.
ХУАН де ТАССИС-и-ПЕРАЛЬТА, ГРАФ де ВИЛЬЯМЕДИАНА (Juan de Tassis у Peralta, conde de Villamediana, 1582–1622). — Блестящий придворный, один из грандов Испании, участник военных действий Испании во Фландрии; несколько раз подвергался ссылке за свой дерзкий нрав и сатиры, направленные против короля и его фаворитов. По-видимому, это же стало причиной его смерти: он был сражен кинжалом наемного убийцы. Ближайший друг и последователь Гонгоры, в своих поэмах Вильямедиана воспринял от него пристрастие к античным мифологическим сюжетам, склонность к риторизму и пышной орнаментальности речи, нередко затемняющей смысл поэтического произведения. Гораздо оригинальнее его эпиграммы, а также любовные и сатирические сонеты, любимая поэтическая форма Вильямедианы. Поэтические произведения Вильямедианы вышли посмертно (1-е издание — 1629 г., 2-е — 1635 г.)
ПОРТУГАЛИЯ
ФРАНСИСКО СА де МИРАНДА (Francisco Sá de Miranda, 1481–1558). — Принадлежал к знатному роду. Учился в университете в Лисабоне и получил степень доктора наук. Начал поэтическую деятельность в русле традиционной национальной поэзии. В 1521–1526 гг. находился в Италии, вращался в кругу гуманистов, познакомился с итальянской ренессансной поэзией и увлекся ею. По возвращении на родину провозглашает необходимость синтезировать национальную традицию с поэтическими формами и жанрами итальянского Возрождения: он вводит в португальскую поэзию жанры сонета, эклоги, элегии, послания и др., использует новый поэтический размер — одиннадцатисложник с ударением на 6-м и 10-м слогах. В 1530 г. в знак протеста против социальных пороков двора покидает столицу и проводит в сельском уединении почти тридцать лет. В произведениях этого периода критика придворной жизни, завоевательной политики государства, всеобщей коррупции сочетается с мечтой о возврате к Золотому веку человечества, о слиянии с природой, о моральной свободе личности. В сонетах получили отражение искренние переживания любви и тоски по утраченному чувству. Произведения Са де Миранды впервые были опубликованы полностью на основе автографов посмертно, в 1595 г.
АНТОНИО ФЕРРЕЙРА (Antonio Ferreira, 1528–1569). — В поэзии ученик и последователь Франсиско Са де Миранды. Учился в Коимбрском университете и получил степень бакалавра права. Из патриотических побуждений отказывается от использования испанского языка и пишет стихи только по-португальски. В своих теоретических трудах выступает сторонником ренессансно-классицистской школы, проповедует принципы искусства, сформулированные в поэтиках Аристотеля и Горация, а также их итальянских истолкователей, ориентирует португальских поэтов на подражание греческим и латинским образцам. Вводит в португальскую поэзию жанр оды. В сонетах, целиком посвященных теме любви, следует за «петраркистами»; лишь в некоторых из своих сонетов, например, посвященных смерти первой жены, дает волю искреннему и глубокому чувству. Стихи Феррейры были собраны посмертно и напечатаны в 1598 г. под названием «Лузита некие стихи».
ЛУИС де КАМОЭНС (Luis de Camoẽs, 1524 или 1525–1580). — Величайший португальский поэт Камоэнс (правильнее: Камоинш) принадлежал к древнему дворянскому роду, получил прекрасное гуманистическое образование. В результате придворных интриг был отправлен солдатом в Марокко (1549–1551); позднее за дуэль с придворным был приговорен к смерти, но помилован и отправился простым солдатом в Индию, где участвовал в военных экспедициях. В 1570 г. вернулся в Португалию с рукописью почти завершенной грандиозной эпической поэмы «Лузиады» (1572), публикация которой принесла ему всеевропейскую славу, но не избавила от материальных лишений. Камоэнсу принадлежит также большое число лирических произведений различных жанров, в том числе свыше 350 сонетов, посвященных преимущественно теме любви и свидетельствующих о трагическом ощущении дисгармоничности окружающего мира.
ФРАНСИСКО РОДРИГЕС ЛОБО (Francisco Rodriges Lobo, 1579–1621). — Родители Ф. Родригеса Лобо принадлежали к «новым христианам», т. е. обращенным в христианство евреям, что закрыло ему доступ на государственную службу. Поэтическую деятельность начал с романсов (главным образом на испанском языке), опубликованных в сборнике «Романсейро» (1596). В «Эклогах» (1605) и эпической поэме «Коннетабль Португалии» (написана в 1603, опубликована в 1609 г.) ориентируется на поэтические традиции Камоэнса. Большинство сонетов опубликованы в прозаической трилогии пасторальных романов «Весна» (1601), «Пастух-пилигрим» (1608) и «Разочарованный» (1614), в которых нехитрый сюжет призван лишь объединить лирические стихотворения. В творчестве Лобо отчетливо обнаруживаются черты кризиса гуманистических идеалов, маньеризма: глубокое разочарование в ренессансном мироощущении, критика социальных пороков современности, как и тема любви, получают выражение в поэзии Ф. Родригеса Лобо в подчеркнуто усложненных формах, нарочито изысканных поэтических фигурах. Влияние поэтической манеры Камоэнса в его творчестве сменяется ориентацией на «гонгоризм».
ФРАНСИСКО МАНУЭЛ де МЕЛО (Francisco Manuel de Melo, 1608–1666). — Один из самых значительных португальских поэтов барокко. Принадлежал к знатнейшему испано-португальскому роду, получил превосходное образование, участвовал в войне против турок, в Тридцатилетней войне (в Голландии) и в подавлении испанским правительством сепаратистского восстания в Каталонии. После отделения Португалии от Испании подвергался преследованиям со стороны короля Португалии Жоана. По обвинению в убийстве одиннадцать лет просидел в тюрьме, а затем три года провел в изгнании в Бразилии. В 1622 г. после прихода к власти нового короля выполнял важные дипломатические поручения в Париже, Лондоне и Риме. Мировоззрение Ф. М де Мело глубоко пессимистично. Мир, окружающий его, представляется ему жестоким и хаотичным. В «Диалогических апологах» он подвергает резкой критике современное ему общество, в частности власть денег, имея которые можно, по его выражению, «купить даже солнце, прежде чем оно взойдет на небосклон». Трагическое восприятие действительности характерно и для сонетов Ф. М. де Мело, вошедших в сборник «Метрические произведения», опубликованный в Лионе в 1665 г.
ФРАНЦИЯ
ЛУИЗА ЛАБЕ (Louise Labé, около 1525–1565). — Родилась в Лионе, где провела большую часть жизни. Многие знаменитые поэты того времени, собиравшиеся в ее доме — своего рода литературном салоне, посвящали хозяйке свои сочинения. Луиза Лабе — автор трех элегий, 24 сонетов, изданных в 1555 г. В большинстве ее стихов преобладает любовная тема. Предполагают, что сонеты Лабе посвящены поэту Оливье де Маньи.
ПЬЕР де РОНСАР (Pierre de Ronsard, 1524–1585). — Происходил из старинного дворянского рода, получил превосходное гуманистическое образование. Первоначально Ронсар предназначался к военной и дипломатической карьере. Состоя на королевской службе в должности пажа дофина, он совершил несколько путешествий по Европе — в Шотландию, Германию и другие страны. Болезнь (глухота) помешала его карьере. Ронсар становится поэтом. Он — автор пиндарических од, гимнов, элегий, эклог, пасторалей, поэм, циклов сонетов. Первый цикл — «Сонеты к Кассандре» (1552–1556) — посвящен Кассандре Сальвиати, дочери итальянского банкира, с которой Ронсар познакомился в 1545 г. Второй цикл — «Сонеты к Мари» (1556) — посвящен крестьянской девушке Мари Дюпен из Бургейля, жившей при поместье, принадлежавшем двоюродному брату Ронсара. Героиня третьего цикла — «Сонетов к Елене» (1574–1578) — Елена де Сюржер, фрейлина королевы Екатерины Медичи, которую современники за ум и образованность именовали Минервой; состоя на службе у королевы-матери, она активно участвовала в придворных интригах.
ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ (Joachin Du Bellay, 1522–1560). — Родился в провинции Анжу, происходил из старинного аристократического рода. По причине слабого здоровья отказался от военной карьеры, изучал право, древние языки. После знакомства с Ронсаром (1548) принял участие в создании Плеяды. Автор «Защиты и прославления французского языка» (1549). В 1553 г. как секретарь и интендант своего дяди кардинала Дю Белле был вынужден уехать в Рим, где пробыл до 1557 г. Вернувшись в Париж, получил должность каноника в соборе Нотр-Дам. Дю Белле — автор поэтических сборников «Произведения творческого вымысла автора» (1552), «Древности Рима» (1558), «Разные сельские забавы», а также «Пространного рассуждения, обращенного к французскому королю, о положении четырех сословий французского королевства» (1567), сатиры «Придворный поэт» (1559). Его первый сборник сонетов «Олива» испытал воздействие «петраркизма», хотя и свидетельствовал о настойчивых попытках автора отыскать свой собственный путь в поэзии. Сборник «Сожаления» (1558), отразивший его впечатления от римской жизни, отличался исключительной глубиной и самобытностью.
ПОНТЮС де ТИАР (Pontus de Tyard, 1521–1605). — Уроженец Бургундии, Понтюс де Тиар учился в Париже. С 1543 г. начал работать над сонетами, вошедшими в первую книгу «Любовных заблуждений» (1549). Сборник состоял из 69 сонетов, обращенных к знатной, широко образованной даме, которую поэт именует Пазитией, а также из 8 «песен», эпиграмм, «немерных песен». При создании сонетов автор подражал итальянцам и поэту Морису Севу. Вторая и третья книга «Любовных заблуждений» (1550, 1554) были написаны уже под влиянием Плеяды, в основном Ронсара. Кроме того, Понтюс де Тиар — автор цикла «Лирические стихи» (1552–1554), состоящего из од. Он был теоретиком Плеяды; создал два философских диалога «Отшельник» (1552), где развивал некоторые положения «Защиты и прославления французского языка» Дю Белле. Ему принадлежат две книги «Философских рассуждений», комментарии к Библии, переводы с латинского языка и стихи по-латыни. Помимо поэзии, которой Тиар занимался в свободное от служебных обязанностей время, он был церковным деятелем, епископом Шалона-сюр-Сон; занимался он и астрономией.
ОЛИВЬЕ де МАНЬИ (Olivier de Magny, 1529–1562). — Происходил из родовитой дворянской семьи, издавна жившей в старинной провинции Керси. В 1547 г. переехал в Париж, став членом Плеяды. Был секретарем у ряда высокопоставленных особ. Со своим патроном герцогом Жаном д’Авансоном провел несколько лет в Риме, при папском дворе. В Риме подружился с Дю Белле. На пути в Италию в Лионе был принят в доме Луизы Лабе, которая стала его возлюбленной. По возвращении во Францию занимал должность королевского секретаря. Автор сборника «Любовные стихотворения» (1553), состоящего из 120 «петраркистских» сонетов, ряда пиндарических од, цикла «Забавы» (1554), написанного в подражание Катуллу и Овидию; в него входят и оды, написанные в честь поэтов Плеяды. Лучшее его создание — написанный в Риме цикл «Вздохи», где можно обнаружить некоторые совпадения с «Сожалениями» Дю Белле в области философского и социального осмысления мира.
ЭТЬЕН ЖОДЕЛЬ (Etienne Jodelle, 1532–1573). — Родился в Париже в семье крупного буржуа. Учился в коллеже вместе с Белло, путешествовал по Италии и Швейцарии. Вошел в Плеяду в 1553 г. как драматург после создания комедии «Евгения» (1552) и трагедии «Плененная Клеопатра» (1553). Его оды и сонеты были изданы после смерти (1574), их первый сборник (1549) не сохранился. Жодель по праву считается реформатором в драматургии и подлинным новатором в стихах. Он был талантливым актером и оратором, знатоком философии, архитектуры, живописи. Его нрав, независимый и резкий, оказал воздействие на его судьбу: близость к Генриху II окончилась опалой, положение придворного поэта Карла IX вновь привело к немилости и полному разорению. Умер он, всеми забытый.
ЖАН АНТУАН де БАИФ (Jean Antoine de Baif, 1532–1589). — Родился в Венеции. Его отец Лазар де Баиф, видный гуманист, дипломат и поэт, дал сыну превосходное образование, сначала домашнее, затем в одном из коллежей Парижа, где Баиф подружился с Ронсаром. Баиф был одним из первых, кто стал членом Плеяды и поддержал начинания Дю Белле. В эпоху религиозных войн был секретарем Карла IX, епископом в Шалоне. Создатель Академии поэзии и музыки (1570). Хотел реформировать французское стихосложение на новой ритмической основе, по образцу античной поэзии. Первая книга Баифа — сборник од, песен, сонетов «Любовь к Мелине» (1552) — еще несколько подражательная и условная. Более оригинален его второй сборник сонетов «Любовь к Франсине» (1555). Баиф переводил псалмы (1569), издал сборник «Дары французской поэзии в мерных стихах» (1574), а также «Мимы, наставления и пословицы» (1576), состоящие из шестистиший морального, сатирического, философского содержания, принесшие ему подлинную славу. В 1572–1573 гг. Баиф издает свои сочинения в четырех книгах: «Стихотворения», «Любовные стихи», «Игры», «Времяпрепровождения», а в 1586 г. три книги «Мерных песенок».
ЭТЬЕН де ЛА БОЭСИ (Etienne de La Boétie, 1530–1563). — Родился в Дордони, провинции на юго-западе Франции. Получив блестящее образование, Ла Боэси рано проявил себя в литературе и общественной деятельности. Он был советником парламента в Бордо, где подружился с Монтенем. Свои смелые философские и политические идеи Ла Боэси выразил в трактате «О добровольном рабстве» (1577). Любовные стихи Ла Боэси писал под влиянием Плеяды. Сонеты Ла Боэси были впервые опубликованы Монтенем в его «Опытах». Появление стихов было вызвано любовью к Маргарите де Карль, которая стала женой Ла Боэси в 1554 г.
Переводы сонетов «Увы! Как много дней и тягостных ночей…» и «Я преданность твою и верность сердца знаю…» публикуются впервые.
ФИЛИПП ДЕПОРТ (Philippe Desportes, 1546–1606). — Происходил из богатой буржуазной семьи. В юности путешествовал по Италии. С 1570 г. был принят ко двору. Ранние опыты Депорта в поэзии вызвали одобрение Ронсара, который ценил его дарование. Депорт был автором книг сонетов «Любовь к Диане», «Любовь к Ипполите», «Любовь к Клеонисе». Его поэтические сборники были напечатаны в 1573 г., не раз переиздавались и пользовались большим успехом. Он был любимым поэтом Карла IX и Генриха III, которого сопровождал в Польшу после избрания его в 1573 г. польским королем. Отличаясь щедростью, Депорт покровительствовал начинающим поэтам.
ТЕОДОР АГРИППА д’ОБИНЬЕ (Téodor Agrippa d’Aubigné, 1552–1630). — Родился в протестантской семье, получил превосходное образование. Активно участвовал в религиозных войнах, приняв сторону Генриха Наваррского, будущего Генриха IV. По окончании религиозных войн поселился в Женеве (в 1620 г.), сохранив верность своей религии. В 70-х годах XVI в. д’Обинье создал сборник од и сонетов в подражание Плеяде — «Весна», который был издан в 1874 г. Начиная с 1575 г. он работал над главным своим сочинением — циклом «Трагические поэмы» в семи частях («Беды», «Государи», «Золотая палата», «Огни», «Мечи», «Отмщения», «Страшный суд»), изданным в 1616 г.; здесь правдиво описаны горести народа во времена религиозных войн, сатирически изображены деятели католической церкви и двора. Кроме того, он — автор трехтомной «Всемирной истории» (1616–1620), ряда политических памфлетов, романа «Приключения барона Фенеста» (1619, 1630), в котором сильно влияние Рабле.
ФРАНСУА де МАЛЕРБ (François de Malherbe, около 1555–1628). — Родился в нормандском городе Кане, в дворянской семье. В 1605 г., после неудачной попытки сделать карьеру военного, переехал в Париж, где стал одним из видных поэтов при дворе. Он — автор торжественных од и стансов («Королеве Марии Медичи», 1600; «Утешение господину Дюперье по поводу смерти его дочери», 1598; «Молитва за короля, отбывающего в Лимузен», 1605), поэмы «Слезы святого Петра» (1587). Малерб считается основоположником французского классицизма, реформатором французской поэзии.
Переводы сонетов публикуются впервые.
МАРК АНТУАН ЖЕРАР де СЕНТ-АМАН (Marc Antoine Gérard de Saint-Amant, 1594–1661). — Родился в Руане. Сопровождал своих покровителей — маршала де Креки, герцога де Реца, графа д’Аркура — в их военных баталиях и дипломатических миссиях; посетил Англию, Италию, Польшу, Швецию. Гугенот по рождению, в 1624 г. принял католицизм. Живя в Париже, он посещал литературно-аристократический салон маркизы де Рамбуйе, вращался в кругу литературной богемы. Широко образованный, он интересовался науками и искусствами, был знатоком живописи, посещал во Флоренции Галилея, владел английским, итальянским, испанским языками. В 50-х годах XVII в., обратившись к религии, стал вести уединенный образ жизни. Он — автор оды «Уединение», гимна «Виноградная лоза», каприччо «Видения», сонетов, которые воспевали жизнь богемы; оригинальной в художественном плане лирики, созданной в 20-х годах. Кроме того, он был автором бурлескных поэм «Переход через Гибралтар» (1640), «Смехотворный Рим» (1643), «Альбион» (1644) и героической идиллии «Спасенный Моисей» (1653), написанной под влиянием итальянского поэта Марино.
ЖАН ОЖЕ де ГОМБО (Jean Oger de Gombauld, около 1590–1666). — Родился в провинции Сент-Онж, в семье дворянина-гугенота. Прибыл ко двору в последние годы правления Генриха IV; здесь его ждала видная карьера при покровительстве Марии Медичи, Анны Австрийской, кардинала де Ришельё. Гомбо был убежденным последователем Малерба, постоянным посетителем салона маркизы де Рамбуйе, членом французской Академии. Он был плодовитым стихотворцем (сборники «Стихи», 1646; «Эпиграммы», 1637; «Гимны», 1646; «Нравственные послания»). Автор прециозного галантно-героического романа «Эндимион» (1624), пьес для сцены — пасторали «Амаранта» (1630) и трагедии «Данаиды» (1658).
ЖАК ВАЛЛЕ де БАРРО (Jacques Vallée de Barreaux, 1599–1673). — Родился на Луаре, в местечке Шатонеф, в семье интенданта финансов. Учился в иезуитском коллеже, вызывая восхищение своих учителей умом и дарованиями. В 1625 г. получил судейскую должность в Париже, но, не имея никакой склонности к юриспруденции, оставил службу. Вращаясь в парижской богеме, Барро проповедовал откровенно атеистические взгляды. После 1631 г. он совершил долгое путешествие в Италию. После болезни Барро обратился к богу; в конце жизни он вернулся на родину и раскаялся в своем вольномыслии. Его стихотворения (элегии, стансы, сонеты), главным образом, посвящены его возлюбленной — известной красавице Марион Делорм.
ТЕОФИЛЬ де ВИО (Théophile de Viau, 1590–1626). — Происходил из дворянской семьи гугенотского вероисповедания. С юных лет отличался вольнодумством и скептицизмом, за что подвергался неоднократным преследованиям, а в 1619 г. был выслан за пределы Франции.
В 1623 г. после возвращения из ссылки за участие в сборнике «Сатирический Парнас» был арестован и приговорен к сожжению; однако по прошествии двух лет дело пересмотрели и заменили казнь пожизненным изгнанием из Франции. Смерть де Вио не дала свершиться приговору. В своих стихах де Вио продолжает традиции поэзии Плеяды. Он — автор драматургических произведений. Его стихи и трагедия «Пирам и Тисба» (1617) пользовались успехом и оказали воздействие на развитие французской словесности.
Переводы сонетов публикуются впервые.
ФРАНСУА ТРИСТАН ЛЕРМИТ (François Tristan L’Hermite, около 1601–1655). — Происходил из старинного дворянского рода. Был пажем Генриха IV, но из-за дуэли ему пришлось покинуть Париж. Отличаясь независимостью нрава и необузданностью чувств, он не мог подолгу ладить с людьми. Состоя на службе у влиятельной знати (Гастона Орлеанского, брата Людовика XIII; герцога де Гиза и др.), он много путешествовал, посетил разные провинции Франции, Англию, Шотландию, Норвегию. Тристан Лермит много занимался литературой; в 1649 г. его избрали во Французскую Академию. Он считался одним из лучших поэтов своей эпохи. Ему принадлежат сборники «Жалобы Аканты» (1633), «Любовь Тристана» (1638), «Лира Тристана» (1641), «Героические стихи Тристана» (1648). Кроме того, он — автор плутовского романа «Опальный паж» (1643), в котором описаны мытарства его юности, и восьми пьес для театра, первая из которых — трагедия «Марианна» (1637) — имела огромный успех; помимо трагедий его перу принадлежат трагикомедия «Амарилис» (1653), комедия «Паразит» (1654).
ГИЙОМ КОЛЬТЕ (Guillaume Colletet, 1598–1659). — Парижанин по месту рождения и жительства. В молодости был адвокатом. С начала 20-х годов XVII в. принимал активное участие в литературной жизни столицы. Пользовался покровительством кардинала де Ришельё; был членом Французской Академии с момента ее основания (1634). Кольте не любил светской жизни и посещал философские вольнодумные кружки. Почитая Плеяду, Кольте написал несколько трудов по истории французской поэзии: «Жизнь французских поэтов», где изложен большой биографический материал о поэтах Плеяды; «Трактат о сонете», посвященный теории стихотворных жанров; эти труды вошли в книгу Кольте «Поэтическое искусство» (1658). Как поэт Кольте был автором сборников «Эпиграммы» (1653) и «Различные стихи» (1656).
ВЕНСАН ВУАТЮР (Vincent Voiture, 1597–1648). — Сын богатого виноторговца из Амьена, который поставлял вино королевскому двору. Благодаря связям в 1625 г. был представлен маркизе де Рамбуйе и стал завсегдатаем ее салона, где, несмотря на низкое происхождение, пользовался большим уважением благодаря независимости характера, таланту, остроумию, любезному обращению. Ему покровительствовали многие высокопоставленные особы, он занимал видные должности при дворе. Долгие годы Вуатюр оставался главным судьей среди ценителей аристократической литературы. Свои сочинения — стихи и письма — не публиковал, хотя и предназначал их для публичного чтения, что входило в литературную моду его времени.
АНГЛИЯ
ТОМАС УАЙЕТ (Thomas Wyatt, 1503–1542). — Принадлежал к видной аристократической семье, окончил Оксфордский университет. Исполнял дипломатические поручения в Италии, Испании и Франции, впоследствии (в 1541 г.) стал вице-адмиралом. Основная тема поэзии Уайета — любовь и ее тревоги. Он — первый английский поэт, который начал писать сонеты. Испытал сильное влияние Петрарки. Стихи его («Песни и сонеты») наряду с произведениями других авторов были впервые опубликованы книгопродавцем Р. Тоттелем (так называемый Тоттелевский сборник) в 1557 г.
ГЕНРИ ГОВАРД, ГРАФ СЕРРЕЙ (Henry Howard, Earl of Surrey, 1517–1547). — Воспитывался при дворе, участвовал в нескольких сражениях, возглавлял английский флот в битве против Франции (1544). Был заподозрен в претензиях на английский престол и казнен по обвинению в государственной измене. Ученик и последователь Уайета; как и он, принадлежал к школе «петраркистов». Сонеты Серрея, посвященные некой Джеральдине, впервые опубликованы в Тоттелевском сборнике.
ФИЛИП СИДНИ (Philip Sidney, 1554–1586) — Выдающийся поэт и теоретик литературы, дипломат, государственный деятель, ученый, воин. Получил блестящее образование, окончил Оксфордский университет, учился в Европе. Был связан с гуманистами, испытал влияние Петрарки и поэтов французской Плеяды. Сидни первым из английских поэтов обратился к циклу сонетов, объединенных образом возлюбленной. Известен также как автор трактата «Защита поэзии» (1581), в котором изложил свои теоретические взгляды. Он выступает в нем в защиту лирической поэзии и прославляет поэзию героическую. При жизни произведения Сидни не печатались. Работы его были собраны впервые его сестрой графиней Пемброк только в 1589 г. Сидни принадлежит цикл из 108 сонетов — «Астрофил и Стелла» (1580–1584), — посвященный Пенелопе Девере, сестре графа Эссекса. Стелла — Пенелопа, Астрофил — сам Сидни. Здесь он выступает как последователь французских поэтов Ронсара, Дю Белле и других членов Плеяды. Отступая от канона, Сидни вводит в сонет конечный секстет взамен двух терцетов.
ЭДМУНД СПЕНСЕР (Edmund Spencer, 1552–1599). — Крупнейший поэт Англии середины XVI столетия. Окончил Кембриджский университет. В 1579 г. поступил на службу к графу Лестеру. Вскоре он познакомился с племянником Лестера — поэтом Филипом Сидни. С 1580 г. был секретарем английского губернатора Ирландии. Здесь он написал поэму «Королева фей» и цикл из 88 сонетов «Аморетти», которые посвятил своей невесте, а затем жене — Элизабет Бойл. Первым из английских поэтов Спенсер ввел строфу, состоящую из 9 строк (первые восемь — 5-стопный ямб, девятая — 6-стопный ямб) с устойчивой рифмой — ававваваа; эта строфа получила название спенсеровой.
Переводы сонетов 1, 2, 15, 16, 23, 28, 34, 44, 67, 70, 73, 77, 79, 80, 82 публикуются впервые.
УОЛТЕР РЕЛИ (Walter Raleigh, 1552–1618). — Историк и поэт, автор политических трактатов, государственный деятель и мореплаватель, организовал несколько экспедиций в Америку, одну из которых возглавил сам. По обвинению в государственной измене был заключен в Тауэр, где провел более 10 лет. В 1616 г. после неудачной экспедиции в Ориноко Рели было предъявлено обвинение в государственной измене и шпионаже в пользу Испании. Он был предан суду и казнен. Рели — один из самых талантливых поэтов своей эпохи, был широко известен современникам. Около 30 его стихотворений, которые при жизни никогда не печатались, были восстановлены по рукописям XVI–XVII вв.
НИКОЛАС БРЕТОН (Nickolas Breton, 1553? — 1626?). — Автор сатир, романсов, пасторалей, сонетов. Биографических сведений о нем почти не сохранилось. По-видимому, учился в Оксфорде, был автором нескольких поэтических сборников: «Цветение фантазии» (1577), «Паломничество в рай» (1593), «Желания рассудка» (1597), «Благочестивые размышления о душе» (1608). В 1607 г. Р. Джонсон издал сборник сонетов Бретона «Беседка вдохновения». В нем было опубликовано 56 стихотворений, часть которых, как впоследствии оказалось, была написана Уолтером Рели, Филипом Сидни и другими поэтами. Бретону принадлежит лишь 10 сонетов сборника. Их отличает оригинальный ритм и образность.
Переводы сонетов публикуются впервые.
ФУЛК ГРЕВИЛЛ (Fulk Greville, 1554–1628). — Первый барон Брукс, поэт и государственный деятель, наместник княжества Уэллс (1583–1628), министр финансов (1614–1621). Гревилл учился вместе с Филипом Сидни сначала в привилегированной школе Шрусбери, а затем в Кембриджском университете; много путешествовал по континенту, служил в Нормандии французскому королю Генриху IV. Гревилл — автор ряда поэтических сборников, ему принадлежит также биография Сидни. Последователь неоплатоников. В его сонетах, написанных под влиянием Плеяды, отразились философские искания последней четверти XVI столетия в Англии.
Переводы сонетов публикуются впервые.
САМЮЕЛ ДЭНИЕЛ (Samuel Daniel, 1562? — 1619). — Историк, поэт, гуманист. Впервые его сонеты были опубликованы в 1591 г. вместе с «Астрофилом и Стеллой» Сидни. Издатель сборника Ньюмен включил в него 28 произведений Дэниела. Во 2-м издании было опубликовано 50 его сонетов, 23 из них были повторением предыдущего издания. Впоследствии книга неоднократно переиздавалась. Помимо сонетов Дэниелу принадлежат историческая поэма «Гражданская война» (1595) и ряд стихотворений. После смерти Эдмунда Спенсера он стал поэтом-лауреатом, но отказался от звания в пользу Бена Джонсона. Дэниел был также автором труда по теории поэзии — «Защита рифмы» (1602), написанного в ответ на книгу Томаса Кэмпиона «Искусство английской поэзии», где он выступает защитником строгих правил.
Переводы сонетов публикуются впервые.
МАЙКЛ ДРЕЙТОН (Michael Drayton, 1563–1631). — О жизни поэта практически ничего не известно. Создатель эпических поэм и нескольких циклов сонетов. Предполагают, что вдохновительницей сонетов была младшая дочь его покровителя сэра Генри Гудера — Энн. Ей посвящены циклы сонетов «Зерцало идеи» (1594) и «Идея» (1594–1619). «Зерцало идеи» — цикл из 51 сонета. Многие из образов этого цикла восходят к Ронсару. Дрейтон воспевает здесь и земную женщину, и воплощенный в ней идеал. Поэт пишет в торжественно-приподнятом стиле. Для его сонетов характерны экспрессия и выразительность, выгодно отличающие его от эпигонов итальянской поэзии.
Переводы сонетов 7, 21, 44 из цикла «Зерцало идеи» и 0, 8, 20, 50, 61, 63 из цикла «Идея» публикуются впервые.
ФРЕНСИС ДЕЙВИСОН (Fransis Davison, 1575? — 1619?). — Один из наиболее известных поэтов своего времени, сын секретаря королевы Елизаветы I. Френсис Дейвисон был редактором «Поэтической рапсодии» (1603) — одного из последних сборников поэтов-елизаветинцев. Сборник был задуман им как антология собственных произведений, стихов его брата Уолтера и анонимного автора. По предположениям английских литературоведов, этим анонимом могла быть сама Елизавета. Впоследствии в книгу были включены и произведения других авторов. 20 сонетов в ней принадлежали Уолтеру Дейвисону, 42 — Френсису Дейвисону. В сборнике много подражательных стихов. Образцами служат писатели античности: Анакреонт, Марциал, Гораций. В своих сонетах Френсис Дейвисон ориентируется на итальянскую и французскую поэзию.
Переводы сонетов публикуются впервые.
УОЛТЕР ДЕЙВИСОН (Walter Davison, 1581–1608?). — Младший брат и сотрудник Френсиса Дейвисона.
Переводы сонетов публикуются впервые.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (William Shakespeare, 1564–1616). — Величайший драматург и поэт Англии. Шекспиру принадлежит цикл из 154 сонетов, опубликованный (без ведома и согласия автора) в 1609 г., но написанный, по-видимому, еще в 1590-х годах и явившийся одним из самых блестящих образцов западноевропейской лирики эпохи Возрождения. Поэт использовал тип сонета, введенный Г. Серреем, однако значительно расширил и обогатил его тематику. Успевшая стать популярной среди английских лириков форма под пером Шекспира засверкала новыми гранями, вместив в себя обширнейшую гамму чувств и мыслей — от интимных переживаний до глубоких философских раздумий и обобщений. Исследователи давно обратили внимание на тесную связь сонетов и драматургии Шекспира. Эта связь проявляется не только в органическом сплаве лирического элемента с трагическим, но и в том, что идеи и страсти, одухотворяющие шекспировские трагедии, живут и в его сонетах. Так же, как в трагедиях, Шекспир затрагивает в сонетах коренные, от века волновавшие человечество проблемы бытия, ведет речь о счастье и смысле жизни, о соотношении времени и вечности, о бренности человеческой красоты и ее величии, об искусстве, способном преодолеть неумолимый бег времени, и о высокой миссии поэта. Вечная, неисчерпаемая тема любви, одна из центральных в сонетах, тесно переплетена с темой дружбы. В любви и дружбе поэт обретает подлинный источник творческого вдохновения независимо от того, приносят ли они ему радость и блаженство или же муки ревности, печаль, душевные терзания. Тематически весь цикл принято делить на две группы: считается, что первая (1—126) обращена к другу поэта, вторая (127–154) — к возлюбленной — «смуглой леди». Стихотворение, разграничивающее эти две группы (возможно, именно в силу своей особой роли в общем ряду), строго говоря, сонетом не является: в нем лишь 12 строк, смежное расположение рифм (см. с. 384). Неоднократно предпринимались попытки установить имена адресатов шекспировских сонетов, однако эти попытки успехом не увенчались.
ДЖОН ДОНН (John Donne, 1572–1631). — Один из основоположников так называемой «метафизической школы» английской поэзии. Студент Оксфорда и Кембриджа, а потом юридического колледжа, Донн, не закончив образования, отправился в 1596 г. в морскую экспедицию против испанцев с лордом Эссексом. В 1598 г. стал секретарем лорда Эджертона. В 1601 г., тайно обвенчавшись с племянницей своего покровителя, он потерял службу. После смерти жены, в 1611 г. стал священником англиканской церкви, а позже — настоятелем собора св. Павла и известным проповедником. Его творчество — одно из центральных явлений английской поэзии барокко. Он создал совершенно новый тип английского стиха. Суть «метафизической» поэзии — напряженность чувства и мысли — воплощена в изысканных поэтических образах, метафорах. Трагическая поэзия Донна затрагивает множество тем. Центральные среди них — «вечные» проблемы любви, смерти, человеческого «я» и его соотнесенности с миром. Стихи Донна при жизни были известны только в списках. Сам поэт публиковать их не хотел. Первая книга вышла в свет в 1633 г. посмертно, имела шумный успех и неоднократно переиздавалась. «Благочестивые сонеты» (1633) — одна из вершин творчества Донна. Именно в них острее всего ощущается внутренняя противоречивость и сложная динамика его поэзии. В них входят два цикла сонетов: I — семь сонетов «Ла Корона», II — девятнадцать сонетов «Благочестивые размышления», или собственно «Благочестивые сонеты». Стержневая проблема, объединяющая сонеты второго цикла, — проблема отношения к окружающему миру человека, осознавшего неизбежность смерти и стремящегося преодолеть ее, обрести бессмертие. Донн возвращается к структуре сонета Уайета и сочетает ее с построением елизаветинского сонета. От первого он берет октаву с ее симметричностью (хотя и с иной рифмовкой: abbccbba), а от второго — рифмовку заключительной строфы (dedeff).
РОБЕРТ ГЕРРИК (Robert Herrick, 1591–1674). — Ученик драматурга и поэта Бена Джонсона, его последователь в подражании античности. Учился в Кембридже, стал магистром. 1620–1629 гг. провел в Лондоне, где прославился как «поэт-кавалер». В 1629 г. стал священником и получил приход, в котором служил до 1648 г., когда был изгнан из него пуританами. Лирику Геррика отличают гедонистические мотивы; она полна жизнеутверждающего оптимизма.
ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ (George Herbert, 1596–1633). — Один из представителей «метафизической школы» поэзии. Окончил Кембриджский университет, получил церковный сан. В 1630 г. стал настоятелем церкви около Солсбери. Стихи Герберта посвящены религиозным размышлениям, однако, внешне напоминая стихи многих его «благочестивых» современников, отличаются от них мучительным поиском истины. Герберт на новом этапе продолжает развитие барочной образности, характерной для Джона Донна. Сборник его произведений «Храм» был опубликован посмертно (1633) и имел большой успех.
ДЖОН МИЛЬТОН (John Milton, 1608–1674) — Поэт, публицист и политический деятель эпохи английской буржуазной революции. Окончил университет в Кембридже. Там же начал писать стихи, близкие к пуританской поэзии. Несколько лет жил в имении отца, изучая науки и искусства. Наиболее значительными созданиями в этот период стали диптих «Жизнерадостный» и «Задумчивый», пьеса-маска «Комус», элегия «Лисидас». В 1639 г. уехал в Италию, откуда через год вернулся на родину, чтобы принять участие в политической борьбе. В период гражданской войны 1642–1649 гг. Мильтон был известен как публицист, блестяще защищавший дело республики. Был секретарем О. Кромвеля. Впоследствии отошел от политической борьбы. Дух Мильтона не был сломлен реставрацией ненавистной ему монархии в 1660 г. В последние годы жизни он создает лучшие свои произведения — поэмы «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671) и трагедию «Самсон-борец» (1671), принесшие ему всемирную славу. Гораздо менее известен читателям Мильтон как автор сонетов, в которых он отдает дань самым разнообразным темам — любви, долга, борьбы с судьбой, политики. Мильтон использует классическую «петраркистскую» форму сонета, однако чисто условно делит сонет на два катрена и два терцета, сочленяя единством мысли 8-ю и 9-ю строки.
ЭНДРЮ МАРВЕЛЛ (Andrew Marvell, 1618–1676). — Один из поэтов «метафизической школы». Окончил Кембриджский университет. С 1639 г. был учителем в доме генерала-республиканца Ферфакса. Затем стал помощником Мильтона. С 1659 г. — член парламента. В юности испытал влияние Донна. Круг тем, которые он затрагивает в своих стихах, близок тематике донновских сонетов: соотношение человека и вселенной, действий и размышлений, души и тела. Во многом схожа с донновской и образность произведений Марвелла. Однако поздний Марвелл все более тяготеет к классицизму. Он отказывается от пышных метафор, стремится к упрощению языка и экономии образных средств. Стихи Марвелла при жизни напечатаны не были. Книга его произведений впервые была опубликована в 1681 г. («Разные стихи»).
ГЕРМАНИЯ
ГЕОРГ РУДОЛЬФ ВЕКЕРЛИН (Georg Rudolf Weckherlin, 1584–1653). — Родился в Штутгарте в семье чиновника вюртембергского двора. Обучался в Тюбингенском университете, владел многими языками, совершил несколько путешествий по Германии и европейским странам с дипломатическими поручениями. Будучи протестантом, придерживался ярко выраженной антигабсбургской и антикатолической ориентации. После поражения протестантов в битве при Белой горе (1620) покинул Германию и переселился в Англию, где вскоре занял пост государственного секретаря, на котором состоял до самой смерти. В 1616–1619 гг. вышел первый сборник его стихов «Оды и песни» в двух томах, в 1641 г. в Амстердаме — «Духовные и светские стихотворения». Векерлин писал в разных жанрах (оды, песни, послания, сонеты, стихотворения «на случай»). Существенное место в его поэзии наряду с любовными стихотворениями занимают патриотические и политические. Векерлин еще не соблюдает последовательно силлабо-тонического принципа, введенного в немецкую поэзию Опицем, и ориентируется на силлабическую систему французской поэзии. Для него, как и для большинства немецких поэтов XVII в., основными образцами служили Ронсар и поэты Плеяды.
МАРТИН ОПИЦ (Martin Opitz, 1597–1639). — Родился в г. Бунцлау (в Силезии) в семье мясника. Обучался в латинской школе, потом в гимназии. Систематического университетского образования не получил, но с помощью самостоятельных занятий стал одним из самых образованных людей своего времени. В 1619 г. переехал в Гейдельберг — тогда центр позднегуманистической культуры, тесно связанный с Францией. После вторжения испанских войск в Пфальц покинул Германию и жил в Голландии и Дании, усердно занимаясь литературным трудом. В 1621 г. вернулся на родину, некоторое время преподавал в гимназиях. В 1624 г. вышли сборник его стихов и трактат по поэтике «Книга о немецком стихотворстве», сыгравший решающую роль в становлении новых принципов немецкого стихосложения. В нем Опиц обосновывает силлабо-тоническую систему как наиболее соответствующую строю немецкого языка, характеризует разные поэтические жанры, опираясь на античные и ренессансные поэтики. Свои теоретические положения и рекомендации он иллюстрирует собственными стихотворениями. Эти книги принесли Опицу славу и создали ему непререкаемый авторитет, сохранявшийся до конца века. Опиц сочетал литературное творчество с активной государственной и дипломатической деятельностью, выполняя поручения немецких князей, направленные на заключение мира. После резкого усиления контрреформации в Силезии Опиц, исповедовавший лютеранскую веру, переселился в Польшу. Умер в Данциге от чумы. Опиц писал в разных лирических, эпических и драматических жанрах, много переводил с древних и новых языков. В его поэзии важное место занимает патриотическая тема, протест против ужасов войны, мотивы, идущие от неостоической философии. Однако его значение в истории немецкой поэзии определяется прежде всего его теоретическими трудами и борьбой за очищение немецкого литературного языка.
ПАУЛЬ ФЛЕМИНГ (Paul Fleming, 1609–1640). — Родился в Саксонии в семье протестантского пастора. Изучал в Лейпцигском университете философию и медицину. Рано начал писать стихи, сперва на латыни, потом на немецком языке. В 1633 г. получил от своего университетского учителя, известного ученого Адама Олеария, приглашение принять участие в посольской миссии Голштинского герцога Фридриха III в Россию для установления транзитной торговли с Востоком. Флеминг дважды побывал в России (в 1634 и 1636 гг.). После второго, более длительного пребывания в Москве экспедиция отправилась по Волге и Каспийскому морю в Персию. Этапы этого путешествия получили отражение в многочисленных сонетах Флеминга, обычно точно датированных. Они стали первым поэтическим свидетельством впечатлений западноевропейского писателя о России. В 1639 г., по возвращении на родину, Флеминг отправился в Лейден, чтобы получить степень доктора медицины. На обратном пути, в Гамбурге, он заболел и умер на 31-м году жизни. Его стихотворения, которые он успел собрать и подготовить к печати, были изданы в 1646 г. А. Олеарием. Флеминг более, чем кто-либо другой из немецких сонетистов, следовал традициям Петрарки (особенно в ранних стихах). В дальнейшем, в период путешествия, в его поэзии начинают преобладать философские (неостоические) и патриотические мотивы, а поэтическая манера становится более индивидуальной и самостоятельной.
АНДРЕАС ГРИФИУС (Andreas Gryphius, 1616–1664). — Наиболее значительный немецкий поэт эпохи Тридцатилетней войны. Родился в г. Глогау (в Силезии) в семье лютеранского пастора. Долгие годы его родные места были ареной военных действий, мародерства, пожаров и эпидемий. Трагические обстоятельства его ранних лет (смерть родителей, бегство от религиозных преследований, скитания) наложили отпечаток на поэтическое творчество Грифиуса. После окончания данцигской академической гимназии он стал домашним учителем в семье высокопоставленного чиновника австрийского двора Шенборнера, поощрявшего его занятия поэзией и увенчавшего его званием поэта-лауреата. Первый сборник сонетов Грифиуса вышел в 1637 г. В 1638–1643 гг. он читал лекции по естественным и гуманитарным наукам в Лейденском университете. В 1639 г. в Лейдене вышел его сборник «Воскресные и праздничные сонеты» (100 номеров), в 1643 и 1650 гг. — Первая и Вторая книги сонетов. В 1644–1646 гг. Грифиус совершил путешествие по Европе, побывал в Париже и Риме. В 1647 г. вернулся в родные края, полностью разоренные войной. Вскоре он получил приглашения от трех университетов занять профессорскую кафедру, но заключение мира в 1648 г. побудило его отказаться от ученой карьеры и посвятить себя общественной деятельности: он занял пост синдика (главы местного самоуправления) в Глогау, на котором оставался до смерти, отстаивая интересы своих сограждан и единоверцев от притеснений со стороны имперских властей и католических князей. Грифиус писал в разных лирических и драматических жанрах, но главную часть его литературного наследия составляют сонеты. Их основные темы — религиозно-философские, нравственные, патриотические. Любовная тематика мало характерна для Грифиуса. Художественная структура его сонетов отмечена типичными чертами поэтики барокко: обильной метафорикой, антитезами, повторами, напряженной выразительностью в построении фразы. Сохраняя строгую архитектонику сонетной формы, Грифиус вносит в нее ритмическое разнообразие и динамизм, широко применяя переносы и строки разной длины. Сонетное творчество Грифиуса оказало заметное влияние на одного из ведущих мастеров этого жанра в немецкой поэзии нашего времени — Иоганнеса Роберта Бехера.
Переводы сонетов «К звездам», «Картина нашей жизни», «К себе самому», «К миру», «Вечер» публикуются впервые.
ХРИСТИАН ГОФМАН фон ГОФМАНСВАЛЬДАУ (Christian Hofmann von Hofmannswaldau, 1616–1679). — Принадлежит к так называемой «второй силезской школе» поэтов, завершающей развитие немецкой поэзии барокко. Родился в Бреслау (Вроцлаве, в Силезии) в состоятельной семье, незадолго до того возведенной в дворянское звание. Обучался в данцигской академической гимназии, потом в Лейденском университете, владел многими языками. Начиная с 1640-х годов занимал высокие служебные посты, принимал участие в дипломатических переговорах с императорским двором в Вене, много путешествовал. Литературную деятельность начал с переводов итальянских поэтов. В 1663 г. вышел первый сборник его стихов, в 1673 г. — книга избранных стихотворений и переводов. Полные собрания были изданы только посмертно. Гофмансвальдау писал в разных жанрах (оды, послания, стихотворения «на случай», сонеты). В его творчестве преобладает любовная тематика, однако наряду с этим встречаются стихи, трактующие типовые философские мотивы эпохи (тема суетности и бренности человеческой жизни). Поэтика Гофмансвальдау испытала на себе влияние итальянской школы Марино. Она характеризуется повышенной орнаментальностью, изобилует изощренными метафорами, риторическими повторами, обыгрыванием многозначных слов.
КАТАРИНА РЕГИНА фон ГРЕЙФЕНБЕРГ (Catharina Regina von Greiffenberg, 1633–1649). — Родилась в замке Зейсенэгг (в Австрии) в дворянской семье, исповедовавшей протестантизм. С юных лет посвятила себя углубленному изучению философии, истории и богословия. Рано приобщилась к поэзии. В конце 1650-х годов сблизилась с поэтами Нюрнбергского кружка (так называемый «Орден Пегницких пастухов»). Ими в 1662 г. был издан без ее ведома первый сборник ее стихов. На протяжении многих лет Катарина фон Грейфенберг и ее семья подвергались преследованиям со стороны католических властей Австрии. Вследствие этого она вынуждена была покинуть страну и поселиться в Нюрнберге. Перу Катарины фон Грейфенберг принадлежат 250 сонетов, преимущественно на религиозно-философские и нравственные темы. Она является единственной крупной немецкой поэтессой своего времени.
ПЕРЕВОДЫ
ИТАЛИЯ
Гвидо Гвиницелли
* «Хочу я Донне вознести хвалы…» Перевод А. Миролюбовой[248]
* «От боли и тоски я изнемог…» Перевод А. Миролюбовой
Гвидо Кавальканти
Гвидо Кавальканти — к Данте («Вы видели пределы упованья…»). Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
Гвидо Кавальканти — к Данте («О если б я любви достоин был…»). Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Красавиц обольстительные взоры…» Перевод О. Румера
«Ты не видала, госпожа моя…» Перевод О. Румера
Чекко Анджольери
* Жестокая и дерзкая мечта. Перевод Е. Баевской
* Женщина, игра и таверна. Перевод Е. Баевской
Данте Алигьери
ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ»
«Влюбленным душам посвящу сказанье…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Амор рыдает и рыдать должны…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Позавчера я на коне скакал…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Лишь о любви все мысли говорят…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«С другими дамами вы надо мной…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Все в памяти смущенной умирает…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Я часто думал, скорбью утомленный…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Любовь и благородные сердца…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«В ее очах Амора откровенье…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Я чувствовал, как в сердце пробуждался…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Приветствие владычицы благой…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Постигнет совершенное спасенье…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«О столько лет мной бог любви владел!..» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Пусть скорбь моя звучит в моем привете…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«И цвет любви и благость сожаленья…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Глаза мои печальные, не вы ли…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Благая мысль мне говорит пристрастно…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Задумчиво идете, пилигримы…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«За сферою предельного движенья…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
СТИХИ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ПЕРИОДА
Данте Алигьери — к Данте да Майяно («На вас познаний мантия — своя…»). Перевод Е. Солоновича
Данте Алигьери — к Данте да Майяно («Познанье, благородство, мудрый взгляд…»). Перевод Е. Солоновича
К Липпо (Паски де’Барди). Перевод Е. Солоновича
«Вовек не искупить своей вины…» Перевод Е. Солоновича
Данте — к Гвидо Кавальканти. Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«Я ухожу. Виновнику разлуки…» Перевод Е. Солоновича
«О бог любви, прошу, поговорим…» Перевод Е. Солоновича
«Любимой очи излучают свет…» Перевод Е. Солоновича
«Я вам одной — и больше никому…» Перевод Е. Солоновича
«Судьба мне эту встречу подарила…» Перевод Е. Солоновича
СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В ИЗГНАНИИ
«Звучат по свету ваши голоса…» Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
«О сладостный сонет, ты речь ведешь…» Перевод Е. Солоновича
«Две дамы, завладев моей душой…» Перевод Е. Солоновича
Данте — к Чино да Пистойя («Затем, что здесь никто достойных слов…») Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
Данте — к Чино да Пистойя («Амор давно со мною пребывает…»). Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова
Данте — к Чино да Пистойя («Я полагал, что мы навек отдали…»). Перевод Е. Солоновича
«Недолго мне слезами разразиться…» Перевод Е. Солоновича
Франческо Петрарка
ИЗ «КАНЦОНЬЕРЕ»
СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ
I. «В собранье песен, верных юной страсти…» Перевод Е. Солоновича
II. «Я поступал ему наперекор…» Перевод Е. Солоновича
III. «Был день, в который, по Творце вселенной…» Перевод Вяч. Иванова
VII. «Обжорство, лень и мягкие постели…» Перевод А. Эфрон
XIII. «Когда в ее обличии проходит…» Перевод Вяч. Иванова
XV. «Я шаг шагну — и оглянусь назад…» Перевод Вяч. Иванова
XVII. «Вздыхаю, словно шелестит листвой…» Перевод Е. Солоновича
XIX. «Есть существа, которые летят…» Перевод Е. Солоновича
XXXV. «Задумчивый, медлительный, шагаю…» Перевод Ю. Верховского
XLV. «Мой постоянный недоброжелатель…» Перевод Е. Солоновича
XLIX. «По мере сил тебя предостеречь…» Перевод Е. Солоновича
LVII. «Мгновенья счастья на подъем ленивы…» Перевод Вяч. Иванова
LXI. «Благословен день, месяц, лето, час…» Перевод Вяч. Иванова
LXII. «Бессмысленно теряя дни за днями…» Перевод Е. Солоновича
LXV. «Я не был к нападению готов…» Перевод Е. Солоновича
LXXIV. «Я изнемог от безответных дум…» Перевод Вяч. Иванова
LXXV. «Язвительны прекрасных глаз лучи…» Перевод Вяч. Иванова
LXXIX. «Когда любви четырнадцатый год…» Перевод Е. Солоновича
LXXXV. «Всегда любил, теперь люблю душою…» Перевод Ю. Верховского
LXXXVII. «Отправив только что стрелу в полет…» Перевод Е. Солоновича
ХС. «Зефир ее рассыпанные пряди…» Перевод А. Эфрон
XCVI. «Я так устал без устали вздыхать…» Перевод Е. Солоновича
XCVII. «О высший дар, бесценная свобода…» Перевод Е. Солоновича
СХ. «Опять я шел, куда мой бог-гонитель…» Перевод Вяч. Иванова
CXI. «Та, чьей улыбкой жизнь моя светла…» Перевод Вяч. Иванова
CXII. «Сенуччо, хочешь, я тебе открою…» Перевод Е. Солоновича
CXIV. «Покинув нечестивый Вавилон…» Перевод Е. Солоновича
CXXIII. «Внезапную ту бледность, что за миг…» Перевод Вяч. Иванова
CXXXII. «Коль не любовь сей жар, какой недуг…» Перевод Вяч. Иванова
CXXXIV. «Мне мира нет, — и брани не подъемлю…» Перевод Вяч. Иванова
CXXXVII. «Разгневал бога алчный Вавилон…» Перевод Е. Солоновича
CXXXVIII. «Источник скорби, бешенства обитель…» Перевод Е. Солоновича
CXLIII. «Любви очарование исходит…» Перевод Е. Солоновича
CLIV. «Сонм светлых звезд и всякое начало…» Перевод Вяч. Иванова
CLVI. «Я лицезрел небесную печаль…» Перевод Вяч. Иванова
CLVII. «Тот жгучий день, в душе отпечатленный…» Перевод Вяч. Иванова
CLVIII. «Куда ни брошу безутешный взгляд…» Перевод Е. Солоновича
CLIX. «Ее творя, какой прообраз вечный…» Перевод Вяч. Иванова
CLXVI. «Когда бы я остался в том краю…» Перевод Е. Солоновича
CLXXVI. «Глухой тропой, дубравой непробудной…» Перевод Вяч. Иванова
СХС. «Лань белая на зелени лугов…» Перевод Вяч. Иванова
CXCIX. «Прекрасная рука! Разжалась ты…» Перевод Вяч. Иванова
CCXI. «Ведет меня Амур, стремит Желанье…» Перевод А. Эфрон
CCXVIII. «Меж стройных жен, сияющих красою…» Перевод Ю. Верховского
ССXX. «Земная ль жила золото дала…» Перевод Вяч. Иванова
CCXXIII. «Когда златую колесницу в море…» Перевод Вяч. Иванова
CCL. «В разлуке ликом ангельским давно ли…» Перевод Е. Солоновича
CCLI. «Сон горестный! Ужасное виденье!..» Перевод Вяч. Иванова
СОНЕТЫ НА СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ
CCLXVII. «Увы, прекрасный лик! Сладчайший взгляд!..» Перевод Ю. Верховского
CCLXIX. «Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный…» Перевод Вяч. Иванова
CCLXXVIII. «В цветущие, прекраснейшие лета…» Перевод А. Эфрон
CCLXXIX. «Поют ли жалобно лесные птицы…» Перевод Вяч. Иванова
CCLXXXI. «Как часто от людей себя скрываю…» Перевод Ю. Верховского
CCLXXXII. «Ты смотришь на меня из темноты…» Перевод Е. Солоновича
CCLXXXV. «Не слышал сын от матери родной…» Перевод Вяч. Иванова
CCLXXXVII. «Сенуччо мой! Страдая одиноко…» Перевод Ю. Верховского
CCLXXXVIII. «Моих здесь воздух полон воздыханий…» Перевод Ю. Верховского
CCLXXXIX. «Свой пламенник, прекрасней и ясней…» Перевод Вяч. Иванова
CCXCII. «Я припадал к ее стопам в стихах…» Перевод Е. Солоновича
CCCII. «Восхитила мой дух за грань вселенной…» Перевод Вяч. Иванова
СССХ. «Опять зефир подул — и потеплело…» Перевод Е. Солоновича
CCCXI. «О чем так сладко плачет соловей…» Перевод Вяч. Иванова
CCCXII. «Ни ясных звезд блуждающие станы…» Перевод Вяч. Иванова
CCCXV. «Преполовилась жизнь. Огней немного…» Перевод Вяч. Иванова
CCCXXXIII. «Идите к камню, жалобные строки…» Перевод А. Эфрон
CCCXXXV. «Средь тысяч женщин лишь одна была…» Перевод Е. Витковского
CCCXXXVI. «Я мыслию лелею непрестанной…» Перевод Вяч. Иванова
CCCXL. «Мой драгоценный, нежный мой оплот…» Перевод Е. Солоновича
CCCLVI. «Когда она почила в Боге, встретил…» Перевод Вяч. Иванова.
Джованни Боккаччо
Переводы Ю. Корнеева
Лоренцо Медичи
«Уймитесь, не упорствуйте жестоко…» Перевод Е. Солоновича
«Пусть почести влекут неугомонных…» Перевод Е. Солоновича
К фиалке. Перевод С. Шервинского
* «Счастливей нет земли, блаженней крова…» Перевод А. Миролюбовой
* «Вовек не вынести такого света…» Перевод А. Миролюбовой
* «Того желаю, что гнетет меня…» Перевод А. Миролюбовой
* «Тот взгляд лучистый, полонив Амора…» Перевод А. Миролюбовой
* «В печали, со смущенною душою…» Перевод А. Миролюбовой
* «Как тщетно дерзновенье в сердце сиром…» Перевод А. Миролюбовой
* «Блаженна ночь, что сокровенной тьмою…» Перевод А. Миролюбовой
* «Увы, обильный ток прекрасных слез…» Перевод А. Миролюбовой
Маттео Мария Боярдо
«Я видел, как из моря вдалеке…» Перевод Е. Солоновича
* «Пыл юности, любовные затеи…» Перевод Е. Баевской
* «О сердце, обреченное терзанью…» Перевод Е. Баевской
* «— Фиалки, что вы блекнете уныло…» Перевод Е. Баевской
Лудовико Ариосто
СОНЕТЫ К ОСТРИЖЕННЫМ ВОЛОСАМ
* I. «Где золотые проливни волос…» Перевод Е. Баевской
*II. «Не ведаю, найдется ли хрусталь…» Перевод Е. Баевской
* III. «О золотые нити, всякий раз…» Перевод Е. Баевской
Пьетро Бембо
По случаю вторжения Карла VIII. Перевод О. Румера
«Я пел когда-то; сладостно ль звучали…» Перевод Е. Солоновича
«Ты застилаешь очи пеленою…» Перевод Е. Солоновича
* «Когда б тебе, Амур, душой и телом…» Перевод Е. Баевской
* «Потоки ваших золотых кудрей…» Перевод Е. Баевской
Микеланджело Буонарроти
Переводы А. Эфроса
Франческо Берни
Переводы С. Шервинского
Торквато Тассо
Герцогу Винченцо Гонзага. Перевод О. Румера
«В Любви, в Надежде мнился мне залог…» Перевод Е. Солоновича
«Порой мадонна жемчуг и рубины…» Перевод Е. Солоновича
«Ее руки, едва от страха жив…» Перевод Е. Солоновича
«Ровесник солнца, древний бог летучий…» Перевод Е. Солоновича
К Лукреции, герцогине Урбино. Перевод В. Брюсова
* Сравнивая синьору Лауру с лавром, уповает, что когда-нибудь она сжалится над ним. Перевод А. Косс
* Синьоре Лауре Пинья Джильоли. Перевод А. Косс
* Синьору Джустиниано Масдони. Перевод А. Косс
* Рассказывает о том, как увидел свою госпожу на берегах Бренты, и в стихах описывает чудеса, творимые ее красотою. Перевод А. Косс
* Показывает, сколько сладости таится в любовных муках. Перевод А. Косс
* Восхваляет красоту донны, в особенности же красоту ее уст. Перевод А. Косс
* Изъявляет желание принять на себя недуг своей госпожи, дабы она ощутила хоть частицу его любви. Перевод А. Косс
Джордано Бруно
О любви. Перевод М. Дынника
«Единое, начало и причина…» Перевод М. Дынника
«Кто дух зажег, кто дал мне легкость крылий?..» Перевод В. Ещина
Томмазо Кампанелла
Переводы С. Шервинского
Джамбаттиста Марино
Переводы Е. Солоновича
Винченцо да Филикайя
К Италии. Перевод Е. Солоновича
ИСПАНИЯ
Хуан Боскан
«Следы любви — невидимые раны…» Перевод Г. Кружкова
«Мою судьбу любовь предначертала…» Перевод Г. Кружкова
«Кружат созвездья в смене прихотливой…» Перевод В. Дубина
«Живу, хоть и не в радость никому…» Перевод В. Дубина
«Не первый день душа хитрит со мной…» Перевод В. Дубина
«В душе мертво от застарелой боли…» Перевод В. Дубина
«Зачем любовь за все нам мстит сполна…» Перевод Вл. Резниченко
«Легавая, петляя и кружа…» Перевод Вл. Резниченко
«Как сладко спать и мучиться тоскою…» Перевод В. Дубина
«Душа моя со мной играет в прятки…» Перевод Вл. Резниченко
Гарсиласо де ла Вега
«Моря и земли от родного края…» Перевод Вл. Резниченко
«Едва надежда поднялась с колен…» Перевод С. Гончаренко
«Ваш взор вчеканен в сердце мне, сеньора…» Перевод С. Гончаренко
«Я брел по кручам каменным в бреду…» Перевод С. Гончаренко
«Прекрасные наяды! Вы с отрадой…» Перевод М. Талова
«Гляжу на Дафну я оторопело…» Перевод С. Гончаренко
«Да, мягче воска я по вашей воле…» Перевод С. Гончаренко
«Пока лишь розы в вешнем их наряде…» Перевод Вл. Резниченко
«Судьба моя, судьба моей печали!..» Перевод С. Гончаренко
«Когда в соитии с моей душой…» Перевод С. Гончаренко
«Моя щека окроплена слезой…» Перевод Вл. Резниченко
«О ласковые локоны любимой…» Перевод Вл. Резниченко
«О нимфы златокудрые, в ущелье…» Перевод Вл. Резниченко
* «Я думал, предо мною путь прямой…» Перевод А. Косс
Луис де Леон
* «Пришла любовь, с собою увлекая…» Перевод Вс. Багно
* «Ваш облик в памяти хочу сберечь!..» Перевод Вс. Багно
* «Та, что сияла ярче всех светил…» Перевод Вс. Багно
Фернандо де Эррера
Руинам Италики. Перевод П. Грушко
Севилье. Перевод П. Грушко
* «Бреду один пустынею бесплодной…» Перевод А. Косс
* «Дерзнул — и устрашился я; но вот…» Перевод А. Косс
* «Я порешил — опасное решенье!..» Перевод А. Косс
* «Меж скал отвесных, гибельным проливом…» Перевод А. Косс
* «Боль ярую терпеть уж не могу…» Перевод А. Косс
* «О солнце, лезвия твоих лучей…» Перевод А. Косс
* «Вздыхаю — и желал бы, чтоб на волю…» Перевод А. Косс
Мигель де Сервантес Сааведра
«Едва зима войдет в свои права…» Перевод С. Гончаренко
«Когда берет Пресьоса бубен свой…» Перевод А. Косс
«Святая дружба! Ты глазам людей…» Перевод Ю. Корнеева
На катафалк короля Филиппа II в Севилье (Хвостатый сонет) Перевод А. Косс
* На одного ратника, ставшего христарадником. Перевод А. Косс
* На одного отшельника. Перевод А. Косс
Луперсио Леонардо де Архенсола
«О смерти отблеск, злой кошмар, не надо…» Перевод Вл. Резниченко
«Я время вызвал (вытянул!) на бой…» Перевод Д. Шнеерсона
К развалинам Сагунто. Перевод Д. Шнеерсона
«Промаявшись на пашне допоздна…» Перевод Д. Шнеерсона
«Я не страшусь ни злых зыбей, ни шквала…» Перевод Д. Шнеерсона
«Едва лишь солнце тысячами копий…» Перевод Д. Шнеерсона
«Пойми, Хуан, уж так устроен мир…» Перевод Д. Шнеерсона
«Отнес октябрь в давильни виноград…» Перевод П. Грушко
Бартоломе Леонардо де Архенсола
«Открой же мне, о вседержитель правый…» Перевод С. Гончаренко
«Рукоплесканья, Мауро, не в счет…» Перевод Д. Шнеерсона
«Пускай по жилам у тебя бежит…» Перевод Д. Шнеерсона
«Да с чем же ты в законники, Нисето…» Перевод Д. Шнеерсона
«Ты, чьим рукам беспечно доверяла…» Перевод Д. Шнеерсона
«Вот, искупавшись, башенку тюрбана…» Перевод Д. Шнеерсона
«Какие б там ограды и замки…» Перевод Д. Шнеерсона
«Оделся перво-наперво, потом…» Перевод Д. Шнеерсона
«Так ты считаешь, Фабьо, что узор…» Перевод Д. Шнеерсона
«Творец! Решил до смертного конца…» Перевод П. Грушко
«Вот, Нуньо, двух философов портреты…» Перевод П. Грушко
«Сотри румяна, Лаис, непрестанно…» Перевод П. Грушко
Лопе Феликс де Вега Карпио
«Мой преданный, разбитый мой челнок!..» Перевод М. Квятковской
Вавилон. Перевод М. Квятковской
К Ночи. Перевод М. Квятковской
«Уйти — и не уйти, бежать, остаться…» Перевод М. Квятковской
Любовь. Перевод М. Квятковской
«Я говорю, как прежде говорил…» Перевод М. Квятковской
«Дочь времени, что в веке золотом…» Перевод М. Квятковской
Сонет на докуку судебных тяжеб. Перевод М. Квятковской
«Ну, Виоланта! Задала урок!..» Перевод С. Гончаренко
«О, как нехорошо любить притворно!..» Перевод Вл. Пяста
Сонет к розе. Перевод П. Грушко
«О жизнь, твой беглый свет обман для нас!..» Перевод П. Грушко
«О женщина, услада из услад…» Перевод П. Грушко
«Верни ягненка мне, пастух чужой…» Перевод Вл. Резниченко
«Терять рассудок, делаться больным…» Перевод Вл. Резниченко
«Король — легенда есть — был деревом пленен…» Перевод Ф. Кельина
«Как дым, что в небе вычертил почти…» Перевод Вл. Резниченко
* Поэт оправдывается в том, что пишет в низком стиле. Перевод М. Квятковской
* На смерть дона Луиса де Гонгоры. Перевод М. Квятковской
Луис Каррильо де Сотомайор
Об останках дерева, испепеленного Юпитером. Перевод П. Грушко
«Ты пал? О да — ведь ты дерзнул, храбрец…» Перевод А. Косс
«Коль в душу заглянув свою, застану…» Перевод А. Косс
«Служа заблудшему, вы заблудились…» Перевод А. Косс
«Боясь хозяйских окриков и кары…» Перевод А. Косс
О легкости времени и его утрате. Перевод П. Грушко
О приговоре, вынесенном Самсону судьями. Перевод П. Грушко
К Бетису, с просьбой помочь в плаванье. Перевод П. Грушко
Вязу, в утешение. Перевод П. Грушко
Луис де Гонгора-и-Арготе
«О Кордова! Стобашенный чертог!..» Перевод С. Гончаренко
«О влага светоносного ручья…» Перевод С. Гончаренко
«Я пал к рукам хрустальным, я склонился…» Перевод Вл. Резниченко
«Ныне, пока волос твоих волна…» Перевод Вл. Резниченко
«Как загоревшийся в рассветной рани…» Перевод Вл. Резниченко
«Вслед за Авророй алой, золотой…» Перевод Вл. Резниченко
«Выйди, о Солнце, вспыхни, расчерти…» Перевод Вл. Резниченко
«Нимфа, решив венком украсить лоб…» Перевод Вл. Резниченко
«Желая жажду утолить, едок…» Перевод Вл. Резниченко
Сонет, написанный по случаю тяжкого недуга. Перевод Е. Баевской
О тщете человеческой. Перевод П. Грушко
«Вы, сестры отрока, что презрел страх…» Перевод М. Квятковской
«В Неаполь правит путь сеньор мой граф…» Перевод А. Косс
«Не столь смятенно обойти утес…» Перевод П. Грушко
«Вальядолид. Застава. Суматоха!» Перевод С. Гончаренко
Дону Франсиско де Кеведо. Перевод П. Грушко
Даме с ослепительно белой кожей, одетой в зеленое. Перевод Вл. Резниченко
«В озерах, в небе и в ущельях гор…» Перевод Вл. Резниченко
«Зовущих уст, которых слаще нет…» Перевод Вл. Резниченко
«Величественные слоны — вельможи…» Перевод М. Донского
«В могилы сирые и в мавзолеи…» Перевод С. Гончаренко
Надпись на могилу Доменико Греко. Перевод П. Грушко
«Доверив кудри ветру, у ствола…» Перевод Вл. Резниченко
Тщеславная роза. Перевод И. Чежеговой…
Франсиско де Кеведо-и-Вильегас
Вспомни ничтожность прожитого и призрачность пережитого. Перевод А. Гелескула
Вникай, как все возвещает о смерти. Перевод А. Гелескула Другу, который, покинув двор юношей, вошел в преклонный возраст. Перевод П. Грушко
Источая скорбные жалобы, влюбленный предостерегает Лиси, что ее раскаяние будет напрасным, когда ее красота увянет. Перевод И. Чежеговой
К портрету, на котором лицу некой дамы сопутствует изображение смерти. Перевод Д. Шнеерсона
Любовь неизменна за чертой смерти. Перевод А. Гелескула
Наслаждаясь уединением и учеными занятиями, автор сочинил сей сонет. Перевод А. Косс
На смерть графа Вильямедианы. Перевод А. Косс
О том, что происходило в его время, Кеведо рассказывает в следующих сонетах
I. «Четыре сотни грандов круглым счетом…» Перевод А. Косс
II. «Подмешивали мне в вино чернила…» Перевод А. Косс
Обреченный страдать без отдыха и срока. Перевод И. Чежеговой
Определение любви. Перевод И. Чежеговой
О любви к монашенке. Перевод Л. Цывьяна
О человеке бедном и женатом. Перевод Л. Цывьяна
Познай гнет времени и бытия, мытаря смерти. Перевод А. Гелескула
Покой и довольство неимущего предпочтительней зыбкого великолепия сильных мира сего. Перевод А. Косс
Пусть кончится жестокая война, которую ведет со мной любовь. Перевод И. Чежеговой
Предостережение Испании в том, что, став владычицей многих, возбудит она зависть и ненависть многих врагов, а потому ей всегда надо быть готовой оборонить себя. Перевод Л. Цывьяна
Причины падения Римской империи. Перевод А. Косс
Продажному судье. Перевод А. Косс
Река, переполненная слезами влюбленного, да не останется равнодушной к его скорби. Перевод И. Чежеговой
Риму, погребенному под своими руинами. Перевод В. Андреева
Равное преступление почитается неравным, если не равны совершившие оное. Перевод М. Квятковской
Реплика Кеведо Дону Луису де Гонгоре. Перевод П. Грушко
Рассуждение о том, что имеющий многие богатства беден. Перевод М. Квятковской
«Стихий разбушевавшихся игра…» Перевод В. Михайлова
«Те, кто в погоне за твоим товаром…» Перевод Д. Шнеерсона
Педро Кальдерон де ла Барка
«Рассыпанные по небу светила…» Перевод Б. Пастернака
Сонет. Перевод Б. Пастернака
«Взглянув на кудри, коим ночь дала…» Перевод М. Самаева
«Ты видишь розу? Чистой и прекрасной…» Перевод М. Самаева
Хуан де Тассис-и-Перальта, граф де Вильямедиана
Переводы А. Косс
ПОРТУГАЛИЯ
Франсиско Са де Миранда
Переводы А. Косс
Антонио Феррейра
Переводы Л. Цывьяна
Луис де Камоэнс
«Порой Судьба надежду мне дает…» Перевод В. Левика
«Луга, леса в вечерней тишине…» Перевод В. Левика
«Заря во взгляде вашем зажжена…» Перевод Вл. Резниченко
«Мучительно за годом год идет…» Перевод Вл. Резниченко
«Неужто в вас влюбиться — тяжкий грех?..» Перевод Вл. Резниченко
«Уж если я сумел перешагнуть…» Перевод Вл. Резниченко
«Любовь казалась сладкой мне когда-то…» Перевод Вл. Резниченко
«Меняются и время, и мечты…» Перевод В. Левика
«Амур, на мне истратив весь свой пыл…» Перевод Вл. Резниченко
«Ты, римлянка, чиста и совершенна…» Перевод А. Косс
«Дожди с небес, потоки с гор мутят…» Перевод В. Левика
«Я жил, не зная ни тоски, ни слез…» Перевод А. Косс
«Да сгинет день, в который я рожден!..» Перевод В. Левика
«Хоть время день за днем, за часом час…» Перевод Вл. Резниченко
«Недаром я страшился, о сеньора…» Перевод А. Косс
«Сражений гром, кровавая вражда…» Перевод Вл. Резниченко
«Отважны будьте, вы, что влюблены!..» Перевод Вл. Резниченко
«Влекомы ветром, сквозь морские дали…» Перевод Вл. Резниченко
Франсиско Родригес Лобо
«Чего ищу? Чего желаю страстно?..» Перевод И. Чежеговой
«Прекрасный Тежо, сколь же разнородный…» Перевод Е. Витковского
Франсиско Мануэл де Мело
Переводы Вл. Резниченко
ФРАНЦИЯ
Луиза Лабе
«Пока в глазах есть слезы, изливаться…» Перевод Ю. Верховского
«Еще целуй меня, целуй и не жалей…» Перевод Ю. Денисова
«Согласно всем законам бытия…» Перевод Э. Шапиро
«Лишь только мной овладевает сон…» Перевод Э. Шапиро
«Что нас пленяет: ласковые руки?..» Перевод Э. Шапиро
Пьер де Ронсар
ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К КАССАНДРЕ»
«О воздух, ветры, небеса и горы…» Перевод А. Парина
«Кто хочет зреть, как нас Амур сражает…» Перевод С. Шервинского
«Гранитный пик над горной крутизной…» Перевод В. Левика
«Любя, кляну, дерзаю, но не смею…» Перевод В. Левика
«В твоих кудрях нежданный снег блеснет…» Перевод В. Левика
«До той поры, как в мир любовь пришла…» Перевод В. Левика
«Я бы хотел, блистательно желтея…» Перевод А. Парина
«Скорей погаснет в небе звездный хор…» Перевод В. Левика
«Когда, как хмель, что, ветку обнимая…» Перевод В. Левика
«Всю боль, что я терплю в недуге потаенном…» Перевод В. Левика
«Когда ты, встав от сна богиней благосклонной…» Перевод В. Левика
«Когда прекрасные глаза твои в изгнанье…» Перевод В. Левика
«В твоих объятьях даже смерть желанна!..» Перевод В. Левика
«Сотри, мой паж, безжалостной рукою…» Перевод В. Левика
«Нет, ни камея, золотом одета…» Перевод В. Левика
ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ К МАРИ»
«Когда я начинал, Тиар, мне говорили…» Перевод В. Левика
«Меж тем как ты живешь на древнем Палатине…» Перевод В. Левика
«Мари-ленивица! Пора вставать с постели!..» Перевод В. Левика
«Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую!..» Перевод В. Левика
«Любовь — волшебница. Я мог бы целый год…» Перевод В. Левика
«Так ненавистны мне деревни, города…» Перевод М. Талова
«Да женщина ли вы? Ужель вы так жестоки…» Перевод В. Левика
«Мари, перевернув рассудок бедный мой…» Перевод В. Левика
«Ты плачешь, песнь моя? Таков судьбы запрет…» Перевод В. Левика
На смерть Мари. Перевод В. Левика
ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ «СОНЕТОВ К ЕЛЕНЕ»
«Когда в груди ее пустыня снеговая…» Перевод В. Левика
«Ты помнишь, милая, как ты в окно глядела…» Перевод В. Левика
«Хорош ли, дурен слог в сонетах сих, мадам…» Перевод A. Парина
ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ «СОНЕТОВ К ЕЛЕНЕ»
«Кассандра и Мари, пора расстаться с вами!..» Перевод B. Левика
«Да, победили вы. И ныне побежденный…» Перевод Н. Рыковой
«Оставь страну рабов, державу фараонов…» Перевод В. Левика
«Уж этот мне Амур — такой злодей с пеленок!..» Перевод В. Левика
«Когда старушкою, над прялкою склоненной…» Перевод В. Рождественского
«Плыву в волнах любви. Не видно маяка…» Перевод В. Левика
«Чтоб источал ручей тебе хвалу живую…» Перевод В. Левика
РАЗНЫЕ СОНЕТЫ
Переводы В. Левика
СТИХОТВОРЕНИЯ. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСМЕРТНО
Переводы В. Левика
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
«Я высох до костей. К порогу тьмы и мрака…» Перевод В. Левика
Жоашен Дю Белле
ИЗ ЦИКЛА «ОЛИВА»
«Мне ночь мала, и день чрезмерно длится…» Перевод А. Парина
«Я робкому подобен мореходу…» Перевод В. Орла
«Во сне и мир, и счастье ждут меня…» Перевод В. Орла
Идея. Перевод Ю. Верховского
ИЗ ЦИКЛА «ДРЕВНОСТИ РИМА»
«Пришелец в Риме не увидит Рима…» Перевод В. Левика
«Как в поле, где зерно из полной семенницы…» Перевод С. Пинуса
«Стихи мои, вы ждете, что потомки…» Перевод А. Парина
ИЗ ЦИКЛА «СОЖАЛЕНИЯ»
Обращение к книге. Перевод А. Парина
«Блуждать я не хочу в глубокой тьме природы…» Перевод В. Давиденковой
«Не ведая того, что я узнал потом…» Перевод В. Левика
«Нет, ради греков я не брошу галльских лар…» Перевод В. Левика
«Кто влюбчив, тот хвалы возлюбленным поет…» Перевод В. Левика
«Увы! где прежняя насмешка над фортуной…» Перевод В. Левика
«Отчизна доблести, искусства и закона…» Перевод В. Левика
«Когда родной язык сменив на чужестранный…» Перевод В. Левика
«Невежде проку нет в искусствах Аполлона…» Перевод В. Левика
«Служу — я правды от себя не прячу…» Перевод И. Эренбурга
«Когда мне портит кровь упрямый кредитор…» Перевод В. Левика
«Пока мы тратим жизнь и длится лживый сон…» Перевод В. Левика
«Вовеки прокляты год, месяц, день и час…» Перевод В. Левика
«Нет, не тщеславие, не алчность, не расчет…» Перевод В. Давиденковой
«Кто может, мой Байель, под небом неродным…» Перевод В. Левика
«Я не люблю двора, но в Риме я придворный…» Перевод В. Левика
«Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду…» Перевод В. Левика
«Ты Дю Белле чернишь: мол, важничает он…» Перевод В. Левика
«О страсти я молчу, когда я не влюблен…» Перевод В. Орла
«Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок…» Перевод В. Левика
«Ты заблуждаешься (Белло), что все кругом…» Перевод Р. Дубровкина
«Господь, да как же я без бешенства взгляну…» Перевод В. Орла
«Ученым степени дает ученый свет…» Перевод В. Левика
ИЗ ЦИКЛА «СОН»
«Я вижу на верху одной горы строенье…» Перевод А. Парина
«Я видел: скал приют, закрытый лозняком…» Перевод С. Пинуса
Понтюс де Тиар
ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
Сонет к Морису Севу. Перевод В. Орла
«Увидев твой портрет, любой дивится…» Перевод Ю. Денисова
ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
«О низменная чернь, о подлый род…» Перевод В. Орла
ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ «ЛЮБОВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
Созерцая Луизу Лабе. Перевод Ю. Денисова
«Божественный Ронсар, пером умелым…» Перевод В. Орла
Оливье де Маньи
ИЗ ЦИКЛА «ВЗДОХИ»
«Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне?..» Перевод В. Левика
«Благословен тот день, тот месяц, год счастливый…» Перевод Э. Шапиро
«Люблю ее за гордый черный цвет…» Перевод Ю. Денисова
«Блажен, кто вдалеке от города живет…» Перевод Ю. Денисова
«Садись, Гийон, спеши вестями поделиться…» Перевод А. Парина
«О взгляд смущенный, огненные очи…» Перевод Э. Шапиро
«То дерзок я, то страх владеет мною…» Перевод Ю. Денисова
«Служите верою и правдою вельможе…» Перевод В. Дмитриева
К королю. Перевод Ю. Денисова
Этьен Жодель
ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
«Вы первая, кому я посвятил, мадам…» Перевод В. Левика
К Диане. Перевод Г. Кружкова
«Как тот, кто заплутал в лесу непроходимом…» Перевод Э. Шапиро
«Стихи-изменники, предательский народ!..» Перевод В. Левика
«О Господи, да с нас довольно и того…» Перевод В. Орла
Жан Антуан де Баиф
Переводы А. Парина
Этьен де Ла Боэси
«Сегодня солнце вновь струило жгучий зной…» Перевод Е. Витковского
«Прости, Амур, прости — к тебе моя мольба…» Перевод Е. Витковского
«Благословенна светлая весна…» Перевод Е. Витковского
* «Увы! Как много дней и тягостных ночей…» Перевод М. Квятковской
* «Я преданность твою и верность сердца знаю…» Перевод М. Квятковской
Филипп Депорт
«С годами я узрю — за муки воздаянье…» Перевод Ю. Верховского
«Когда я отдохнуть сажусь под тень берез…» Перевод В. Дмитриева
«Бегут за днями дни, как волны в океан…» Перевод Э. Шапиро
«Здесь некогда упал дерзающий Икар…» Перевод В. Рождественского
Агриппа д’Обинье
Надгробные стихи Теодора Агриппы д’Обинье на смерть Этьена Жоделя, парижанина, короля трагических поэтов. Перевод А. Парнаха
«Рыданья горестные, вздох печали…» Перевод А. Ревича
«О сжальтесь, небеса, избавьте от напасти…» Перевод А. Ревича.
«Ронсар, ты щедрым был, ты столько дал другим…» Перевод А. Ревича
«Мила иному смерть нежданная в бою…» Перевод В. Дмитриева
«В неровных бороздах убогие ростки…» Перевод А. Ревича
«На строгий суд любви, когда меня не станет…» Перевод А. Ревича.
Франсуа Малерб
* К королю. Перевод М. Квятковской
* Кардиналу Ришельё. Перевод М. Квятковской
Антуан де Сент-Аман
Трубка. Перевод М. Кудинова
Кутилы. Перевод М. Кудинова
Альпийская зима. Перевод М. Кудинова
Ленивец. Перевод О. Румера
Жан Оже де Гомбо
Я с вами разлучен. Перевод М. Кудинова
Харита прочь ушла. Перевод М. Кудинова
«— О мысли праздные, за радостью былою…» Перевод Э. Шапиро
«Ее не видел я, она мне незнакома…» Перевод Ю. Денисова
«Ты, усомнившийся в могуществе небес…» Перевод В. Дмитриева
Жак Валле де Барро
В могиле Саразэн. Перевод М. Кудинова
Всевышний, ты велик. Перевод М. Кудинова
Сон. Перевод М. Кудинова
Ты отвратительна, о смерть! Перевод М. Кудинова
«Не рваться ни в мужья, ни в судьи, ни в аббаты…» Перевод Ю. Денисова
Теофиль де Вио
* Переводы М. Квятковской
Франсуа Тристан Лермит
Переводы М. Кудинова
Гийом Кольте
«Ласкает все мой взор, на все глядеть я рад…» Перевод М. Замаховской
«Вы брали прелести во всех углах вселенной…» Перевод Ю. Денисова
Поэтическая жалоба. Перевод М. Кудинова
Осмеянные Музы. Перевод М. Кудинова
Время и любовь. Перевод М. Кудинова
Венсан Вуатюр
Переводы М. Кудинова
АНГЛИЯ
Томас Уайет
«Охотники, я знаю лань в лесах…» Перевод В. Рогова
«Нет мира мне, хоть кончена война…» Перевод В. Рогова
«Я терплю и терплю, без конца терплю…» Перевод В. Рогова
* Обманутый влюбленный видит свое заблуждение и намеревается не верить более. Перевод С. Шик
* Влюбленный рассказывает, как он был поражен, взглянув на возлюбленную. Перевод С. Шик
* Влюбленный, созерцавший во сне блаженство любви, сетует, что сон столь краток и обманчив. Перевод С. Сухарева
* Влюбленный уподобляет себя кораблю, застигнутому в море губительным штормом. Перевод С. Шик
* Сетования влюбленного о том, что истинная любовь не встречает взаимности. Перевод С. Сухарева
* Отречение от любви. Перевод С. Шик
Генри Говард, граф Серрей
«Из доблестной Флоренции ведет…» Перевод О. Румера
* Описание весны, когда всё обновляется, и только влюбленный пребывает неизменным. Перевод С. Шик
* Жалоба отвергнутого влюбленного. Перевод С. Шик
* Бренность и вероломство красоты. Перевод С. Шик
Филип Сидни
ИЗ ЦИКЛА «АСТРОФИЛ И СТЕЛЛА»
1. «Пыл искренней любви я мнил излить стихом…» Перевод В. Рогова
3. «Пускай поклонник девяти сестер…» Перевод А. Ревича
4. «Ах, Добродетель! Дай мне отдохнуть…» Перевод Л. Тёмина
5. «Вот истина: глаза — лишь для того…» Перевод Л. Тёмина
6. «В беседах с Музами влюбленные твердят…» Перевод А. Ревича
7. «Когда Природа очи создала…» Перевод И. Озеровой
10. «Ты впрямь двужилен, Разум, коль доныне…» Перевод A. Парина
11. «Любовь! В каком ребячестве пустом…» Перевод Л. Тёмина
16. «Так создан я, что за собой влекли…» Перевод И. Озеровой
18. «Я сознаюсь в ничтожестве своем…» Перевод А. Парина
21. «Ты говоришь, насмешливый приятель…» Перевод B. Орла
23. «Заметив мой угрюмо сжатый рот…» Перевод А. Ревича
27. «Я, погруженный мыслями во тьму…» Перевод А. Парина
28. «О вы, поклонники молвы лукавой…» Перевод А. Ревича
33. «Я мог бы… Страшно! Мог бы… Замолчи!..» Перевод Л. Тёмина
34. «Спроси: „Зачем ты пишешь?“— Для покоя…» Перевод Л. Тёмина
38. «Смыкает сон тяжелые крыла…» Перевод Г. Русакова
40. «Уж лучше стих, чем безысходность стона…» Перевод Г. Русакова
42. «Глаза, красою движущие сферы…» Перевод А. Парина
45. «Так часто Стелле грусть моя видна…» Перевод А. Ревича
47. «Неужто я свою свободу предал?..» Перевод Л. Тёмина
54. «Я не кричу о страсти всем вокруг…» Перевод А. Ревича
55. «О Музы, к вам взывал я столько раз…» Перевод А. Ревича
59. «Ужели для тебя я меньше значу…» Перевод Г. Кружкова
62. «Недавно я, любовью истомленный…» Перевод Л. Тёмина
72. «О Страсть! подруга всех моих невзгод…» Перевод Г. Кружкова
80. «Ты, губка, (что ж!) в надменности права…» Перевод Л. Тёмина
89. «Разлуки хмурая, глухая ночь…» Перевод В. Рогова
94. «О горе, все слова — в твоей лишь воле…» Перевод Л. Тёмина
108. «Когда беда (кипя в расплавленном огне)…» Перевод И. Озеровой
Эдмунд Спенсер
ИЗ ЦИКЛА «АМОРЕТТИ»
* 1. «Блаженны вы, страницы, ибо вам…» Перевод Е. Дунаевской
* 5. «Сочли вы слишком гордой и надменной…» Перевод Е. Дунаевской
* 15. «Сокровища двух Индий истощив…» Перевод Е. Дунаевской
* 16. «Ее глаза — любви моей светила…» Перевод Е. Дунаевской
19. «Лесной кукушки радостный рожок…» Перевод A. Сергеева
* 23. «Жена Улисса ткала пелену…» Перевод Е. Дунаевской
* 28. «В твоей прическе — лавровый листок…» Перевод Е. Дунаевской
30. «Как пламень — я, любимая — как лед…» Перевод B. Рогова
* 34. «В безбрежном океане звездный луч…» Перевод Е. Дунаевской
37. «С таким коварством золото волос…» Перевод А. Сергеева
* 44. «Когда, о золотом руне забыв…» Перевод Е. Дунаевской
54. «Любимая в театре мировом…» Перевод В. Рогова
63. «Теперь, когда я в бурях изнемог…» Перевод В. Микушевича
65. «Окончил путь усталый старый год…» Перевод А. Сергеева
* 67. «Погоней бесконечной изможден…» Перевод Е. Дунаевской
* 70. «У короля любви, что правит нами…» Перевод Е. Дунаевской
72. «Как часто дух мой распрямит крыла…» Перевод В. Рогова
* 73. «Ты далеко, и я с собой в разладе…» Перевод Е. Дунаевской
75. «Я имя милой вздумал написать…» Перевод В. Рогова
* 77. «Во сне я видел или наяву…» Перевод Е. Дунаевской
* 79. «Все восхваляют красоту твою…» Перевод Е. Дунаевской
* 80. «По королевству фей промчал я путь…» Перевод Е. Дунаевской
* 82. «О моя радость, ты — любовь моя…» Перевод Е. Дунаевской
88. «Как брошенный подругой голубок…» Перевод В. Рогова
Уолтер Рели
«Королеве Фей» Спенсера. Перевод О. Румера
Сыну. Перевод Б. Пастернака
Николас Бретон
* Сонет. Перевод С. Шик
* Предварение к Вертограду Николаса Бретона. Перевод С. Шик
Фулк Гревилл
ИЗ ЦИКЛА «CAELICA»
* 4. «О звезды в синеве ночной…» Перевод Е. Дунаевской
* 7. «От века мир живет своим движеньем…» Перевод Е. Дунаевской
* 16. «Земля, ты мнишь, что в небе нет сиянья…» Перевод Е. Дунаевской
Сэмюел Дэниел
* Переводы С. Сухарева
Майкл Дрейтон
ИЗ ЦИКЛА «ЗЕРЦАЛО ИДЕИ»
Amour 1. «Прими, о дева, горестный итог…» Перевод А. Сергеева
* Amour 7. «Помедли, Время! Насладись сполна…» Перевод Е. Дунаевской
* Amour 21. «Погубит время наши письмена…» Перевод Е. Дунаевской
Amour 25. «Осиленное мраком, солнце дня…» Перевод А. Сергеева
* Amour 44. «Как молоты на сердце-наковальне…» Перевод Е. Дунаевской
Amour 45. «Глухая ночь, кормилица скорбей…» Перевод А. Сергеева
ИЗ ЦИКЛА «ИДЕЯ»
* 0. К читателю этих сонетов. Перевод Е. Дунаевской
6. «Сколь многих пышных суетных особ…» Перевод А. Сергеева
* 8. «Я слишком рано встречу смертный час…» Перевод Е. Дунаевской
* 20. «Я одержим твоею красотой…» Перевод Е. Дунаевской
* 50. «В далеких странах выдуман закон…» Перевод Е. Дунаевской
51. «Как часто время за года любви…» Перевод А. Сергеева
* 61. «Ну, что ж, обнимемся и — навсегда прощай…» Перевод Е. Дунаевской
* 63. «О милая, я битвой изможден…» Перевод Е. Дунаевской
Фрэнсис Дейвисон
* I. Строки, посвященные первой любви поэта. Перевод С. Шик
* III. На разлуку с ней. Перевод С. Шик
Уолтер Дейвисон
I. Поэт молит о прощении за созерцание возлюбленной, свою любовь к ней и стихи. Перевод С. Шик
* VII. На слезы возлюбленной. Перевод С. Шик
Уильям Шекспир
Переводы С. Маршака
Джон Донн
ИЗ ЦИКЛА «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СОНЕТЫ»
1. «Ты сотворил меня — и дашь мне сгинуть?..» Перевод А. Парина
3. «О если бы могли глаза и грудь…» Перевод Г. Русакова
5. «Я малый мир, созданный как клубок…» Перевод А. Парина
* 7. «На призрачных углах земли звучанье…» Перевод Б. Томашевского
10. «Смерть, не кичись, когда тебя зовут…» Перевод Г. Кружкова
12. «Зачем вся тварь господня служит нам…» Перевод А. Сендыка
Роберт Геррик
Тема книги. Перевод А. Сендыка
Пленительность беспорядка. Перевод Г. Русакова
Джордж Герберт
Церковная молитва. Перевод С. Бычкова. 393
Джон Мильтон
Переводы Ю. Корнеева
Эндрю Марвелл
На смерть Оливера Кромвеля. Перевод А. Сендыка
ГЕРМАНИЯ
Георг Рудольф Векерлин
К Германии. Перевод Л. Гинзбурга
Сон. Перевод Л. Гинзбурга
Мартин Опиц
Образец сонета. Перевод Л. Гинзбурга
Средь множества скорбей. Перевод Л. Гинзбурга
Пауль Флеминг
* Над гробом. Перевод Е. Баевской
* Во здравие любезной. Перевод Е. Баевской
* Обращение к самому себе. Перевод Е. Баевской
* К ночи, которая была проведена без сна близ возлюбленной. Перевод Е. Баевской
* Когда она меня отвергла. Перевод Е. Баевской
К самому себе. Перевод Л. Гинзбурга
Великому городу Москве, в день расставанья. Перевод Л. Гинзбурга
К Германии. Перевод Л. Гинзбурга
На слияние Волги и Камы, в двадцати верстах от Самары. Перевод Л. Гинзбурга
На смерть господина Мартина Опица. Перевод Л. Гинзбурга
Эпитафия господина Пауля Флеминга, д-ра мед., кою он сочинил сам в Гамбурге марта 28 дня лета 1640 на смертном одре, за три дня до своей блаженной кончины. Перевод Л. Гинзбурга
Андреас Грифиус
ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ СОНЕТОВ
Все бренно… Перевод Л. Гинзбурга
Свадьба зимой. Перевод Л. Гинзбурга
Слезы отечества, год 1636. Перевод Л. Гинзбурга
К накрашенной. Перевод Л. Гинзбурга
Невинно страдающему. Перевод Л. Гинзбурга
* К звездам. Перевод М. Карп
* Картина нашей жизни. Перевод М. Карп
* К себе самому. Перевод М. Карп
* К миру. Перевод М. Карп
ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ СОНЕТОВ
* Вечер. Перевод М. Карп
Одиночество. Перевод Л. Гинзбурга
Заблудшие. Перевод Л. Гинзбурга
Сонет надежды. Перевод Л. Гинзбурга
ИЗ ПОСМЕРТНО ИЗДАННЫХ СТИХОВ
На завершение года 1648. Перевод Л. Гинзбурга
На завершение года 1650. Перевод Л. Гинзбурга
К Евгении. Перевод Л. Гинзбурга
ИЗ «ВОСКРЕСНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ СОНЕТОВ»
Последний сонет. Перевод Л. Гинзбурга
Христиан Гофман фон Гофмансвальдау
На крушение храма Святой Елизаветы. Перевод Л. Гинзбурга
Исповедь гусиного пера. Перевод Л. Гинзбурга
Катарина Регина фон Грейфенберг
О преследуемой и все же неодолимой добродетели. Перевод Л. Гинзбурга.
Примечания
1
Буало. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 70.
(обратно)2
Бехер И. Р. Философия сонета, или Маленькие наставления по сонету / / Вопр. лит. 1965. № 10. С. 194.
(обратно)3
Герасимов К. С. Диалектика канонов сонета // Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, 1985. С. 33.
(обратно)4
Брюсов В. Ремесло поэта / / Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 174.
(обратно)5
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 434.
(обратно)6
См.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
(обратно)7
Буало. Указ. соч. С. 70.
(обратно)8
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 382.
(обратно)9
См.: Веселовский А. Н. Петрарка в поэтической исповеди «Canzoniere». СПб., 1912.
(обратно)10
Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды: Становление литературной школы. М., 1976. С. 148.
(обратно)11
Цит. по: Мönch W. Das Sonett: Gestalt und Geschichte. Heidelberg, 1955. S. 94.
(обратно)12
Еремина С. И. Орфей с берегов Тежо / / Камоэнс Л. де. Лирика. М., 1980. С. 18.
(обратно)13
История всемирной литературы: В 9 т./ АН СССР, Ин-т мировой лит. имени А. М. Горького. М., 1985. Т. 3 / Отв. ред. Н. И. Балашов. С. 240.
(обратно)14
Там же. С. 260.
(обратно)15
Цит. по: Cruttwell, Patrick. The English sonnet. [London], 1966. P. 5.
(обратно)16
Володарская Л. И. Первый английский цикл сонетов и его автор // Сидни Ф. Астрофил и Стелла: Защита поэзии. М., 1982. С. 274.
(обратно)17
Сонет был ответом поэта на первый сонет Данте из «Новой жизни» («Влюбленным душам посвящу сказанье…»).
(обратно)18
Амор (Любовь) олицетворяет даму сердца поэта.
(обратно)19
Мудрец — Г. Гвиницелли.
(обратно)20
Монна Ванна — Джованна, возлюбленная Г. Кавальканти, которую он воспевал под именем Примавера («Весна»). Монна Биче — Беатриче, которая в этом сонете выступает также под именем Амор.
(обратно)21
Данте да Майяно — малоизвестный флорентийский поэт, ответивший, как и Г. Кавальканти, на первый сонет «Новой жизни».
(обратно)22
Стихотворение написано в форме так называемого «удвоенного сонета». Липпо Паски де'Барди — флорентийский поэт, друг Данте.
(обратно)23
…Безвестной деве платье сшей — сшить нагой деве платье — метафора, означающая сочинить станцы (стихи, состоящие из небольших строф, отличающихся смысловой законченностью).
(обратно)24
Гаризенда — старинная наклонная башня в Болонье.
(обратно)25
Образ ладьи, уносящей путников к земле обетованной, заимствован из рыцарских романов Артуровского цикла, популярных во времена Данте. Лапо Джанни — флорентийский поэт, друг Данте.
(обратно)26
Ладжа (Аладжа) — возлюбленная Лапо. Та, чье тридцать тайное число — одна из красивейших донн Флоренции, из имен которых Данте сложил сирвенту. Очевидно, это «дама-ширма», о которой Данте говорит в «Новой жизни» (гл. V–VI).
(обратно)27
Любезный маг — очевидно, волшебник Мерлин, помогавший в делах королю Артуру.
(обратно)28
Словами «Вы, движущие третьи небеса» начинается первая канцона второго трактара в «Пире» Данте.
(обратно)29
Чино да Пистойя — поэт и юрист, друг Данте, вместе с которым Данте изучал право в Болонском университете. Чино принадлежал к партии Черных гвельфов и был изгнан из Пистойи, когда власть в городе захватили Белые гвельфы (1303).
(обратно)30
Сонет направлен против папы Кинмерта V и французского короля Филиппа IV Красивого.
(обратно)31
Речь идет о годовщине смерти Иисуса Христа (6 апреля). Этот день в 1327 г., когда произошла первая встреча Петрарки с Лаурой, приходился на страстную пятницу.
(обратно)32
Гиппокрена — ключ на вершине Геликона в Беотии, который образовался от удара копытом Пегаса и обладал свойствами вдохновлять поэтов (греч. миф.). В переносном смысле — источник вдохновения. Этот сонет, как и некоторые другие, включенные Петраркой в «Канцоньере», относится к обличительно-сатирическим стихотворениям поэта.
(обратно)33
Этот же сонет перевел И. А. Бунин:
Когда, как солнца луч, внезапно озаряет Любовь ее лица спокойные черты, Вся красота других, бледнея, исчезает В сиянье радостном небесной красоты. Смирясь, моя душа тогда благословляет И первый день скорбей, и первые мечты, И каждый час любви, что тихо подымает Мой дух, мою любовь до светлой высоты. Свет мысли неземной лишь от нее исходит. Она того, кто вдаль последует за ней, Ко благу высшему на небеса возводит По правому пути, где нет людских страстей. И, полон смелостью, любовью вдохновенный, Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной! (обратно)34
«Есть существа, которые летят…». Этот сонет перевел Г. Р. Державин и назвал его «Прогулка»:
Находятся с таким в природе твари зреньем, Что быстро свой взносить на солнце могут взор; Но суть и те, кому луч вреден удареньем, А под вечер они выходят лишь из нор. Иные ж некаким безумным вожделеньем И на огонь летят, красот в нем зря собор; Но лишь касаются, сгорают мановеньем, И я бедняк сих толп и образ и позор! Бессилен будучи сносить лучи светила, Которым я прельщен, — ни тени, коя б скрыла Меня где от него, ни места я не зрю; Но с потупленными, слезящими очами Влекусь чрез силу зреть на солнце меж женами, Не мысля, ах! о том, хоть ею и сгорю. (обратно)35
Этот сонет перевел Г. Р. Державин, назвав его «Задумчивость»:
Задумчиво, один, широкими шагами Хожу и меряю пустых пространство мест; Очами мрачными смотрю перед ногами, Не зрится ль на песке где человечий след. Увы! я помощи себе между людями Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет; Веселье коль прошло, грусть обладает нами, Зол внутренних печать на взорах всякий чтет. И мнится, мне кричат долины, реки, холмы, Каким огнем мой дух и чувствия жегомы, И от дражайших глаз что взор скрывает мой. Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, дальних, Куда любовь моя в мечтах моих печальных Не приходила бы беседовать со мной. (обратно)36
Нарцисс — прекрасный юноша, который, увидев свое отражение в источнике, влюбился в него и умер от любви. Боги превратили Нарцисса в цветок (греч. миф.).
(обратно)37
Речь идет об Авиньоне в Провансе и о церкви Святой Клары, где Петрарка впервые увидел Лауру. Этот сонет много раз переводился на русский язык. Приводим перевод В. Я. Брюсова:
Благословен тот вечер, месяц, год, То время, место, та страна благая, Тот край земной, тот светлый миг, когда я Двух милых глаз стал пленник в свой черед. Благословенна ты, боль, роковая, Что бог любви нам беспощадно шлет, И лук его, и стрел его полет, Разящих сердце, язвы растравляя. Благословенны речи все, где я Ее назвал, печали не тая, Желанья все, все жалобы, все стоны! Благословенны вы, мои канцоны, Ей спетые, все мысли, что с тоской Лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной. (обратно)38
Сенуччо дель Бене — флорентийский поэт, друг Петрарки, принадлежал к партии Белых гвельфов, жил как изгнанник в Авиньоне.
(обратно)39
т. е. Авиньон, где в то время находился папский престол. Петрарка жил в небольшом местечке в долине реки Сорги Воклюзе в 15 милях от Авиньона.
(обратно)40
Другой султан — иносказание — новый папа. Багдад — т. е. Рим. Имеется в виду, что новый папа перенесет снова в Рим папский престол.
(обратно)41
Император Константин (274–337), утвердивший христианство государственной религией Римской империи, по мысли Петрарки, осудил бы пороки папской курии.
(обратно)42
В этом сонете, полном иносказаний, Петрарка противопоставляет латинскую поэзию («достойные плоды»), которую он считал истинным призванием поэта, стихам на итальянском языке («сорная трава»), которые он относил к «низшей поэзии».
(обратно)43
Кастальская вода — источник на горе Парнас, посвященный Аполлону и Музам (греч. миф.). В поэтическом языке означает «источник вдохновения».
(обратно)44
Сонет построен на причудливой игре метафор и иносказаний. Лань белая — Лаура; белый цвет — цвет чистоты. В час утренний — на заре жизни Петрарки. Промеж двух рек — между Соргой и Дюрансой (приток Роны). Убор златых рогов — золотые косы Лауры. Вязь алмазных (неистребимых) слов: «Я Кесарем в луга… отпущена…» — Петрарка использует по отношению к Лауре легенду об оленях Цезаря, которые были выпущены им на свободу, а на их ошейниках была надпись: «Не тронь меня! Я принадлежу Цезарю». Полдневная встречала Феба грань — в момент написания сонета Петрарка приближался к 35 годам — середине жизненного пути.
(обратно)45
Прекрасная гостиница — земная оболочка, которую покинула душа Лауры.
(обратно)46
Петрарка описывает две смерти: Лауры (Лавр зеленый) и своего покровителя кардинала Джованни Колонна (Столп мой стройный), умершего через три месяца после Лауры. От Индии до Мавра — Мавританским морем во времена Петрарки называли Атлантический океан. Приводим перевод этого сонета, сделанный К. И. Батюшковым:
Колонна гордая! о лавр вечнозеленый! Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад! Ни там, где Инд течет, лучами опаленный, Ни в хладном севере для сердца нет отрад!.. Все смерть похитила, все алчная пожрала, Сокровище души, покой и радость с ним! А ты, земля, вовек корысть не возвращала, И мертвый нем лежит под камнем гробовым! Все тщетно пред тобой: и власть и волхвованье; Таков судьбы зачет!.. Почто ж мне доле жить!.. Увы! Чтоб повторять в час полночи рыданья И слезы вечные на хладный камень лить! Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье! Я в будущем мое блаженство основал; Там пристань видел я, покой и утешенье, — И все с Лаурою в минуты потерял.В переводе не выдержана сонетная форма. Есть перевод этого сонета И. И. Козлова.
(обратно)47
Сонет написан на смерть Сенуччо дель Бене (1349). Петрарка просит его передать поклон пребывающим на небе Венеры поэтам, воспевавшим любовь: Гвиттоне д’Ареццо, Чино да Пистойя, Данте и Франческино дельи Альбици.
(обратно)48
Ее вернуть на родину огней — вернуть Лауру на небо Венеры, с которого душа ее снизошла на землю.
(обратно)49
В круг третий душ — т. е. на небо Венеры.
(обратно)50
Прокна — ласточка, Филомела (Филомена) — соловей (см. примеч. 77).
(обратно)51
Юпитер счастлив — дочка расцвела — имеется в виду Венера, богиня любви и красоты, по одной версии мифа — дочь Юпитера, по другой — вышла из морской пены (римск. миф.).
(обратно)52
т. е. к могиле Лауры.
(обратно)53
Царь Итаки — Одиссей (греч. миф).
(обратно)54
Байя — курортная местность под Неаполем, славившаяся своими термами и лечебными минеральными источниками; здесь часто собиралось аристократическое общество.
(обратно)55
Сонет написан на смерть Фьямметты.
(обратно)56
Сонет написан по поводу смерти Петрарки.
(обратно)57
Перевод этого сонета и всех последующих публикуется впервые.
(обратно)58
Перевод этого и двух следующих сонетов публикуется впервые.
(обратно)59
Береника — Иудейская царица, возлюбленная римского императора Тита.
(обратно)60
Французский король Карл VIII (1470–1498) был призван в Италию правителем Милана Лодовико Моро, который стремился с помощью иностранных войск укрепить свою власть.
(обратно)61
Перевод этого и следующего сонетов публикуется впервые.
(обратно)62
Лал — драгоценный камень, рубин, яхонт.
(обратно)63
Сонет обращен к другу и любимцу Микеланджело Томмазо Кавальери, воплотившему в себе, по мысли поэта, идеальный образ духовной и физической красоты человека.
(обратно)64
Мета — цель.
(обратно)65
Сонет обращен к статуе Ночи на гробнице Джулиано Медичи в капелле Медичи во Флоренции.
(обратно)66
Этот и многие другие сонеты посвящены поэтессе Виттории Колонна.
(обратно)67
Сонет обращен к Т. Кавальери.
(обратно)68
Сонет обращен к Джорджо Вазари, известному архитектору, художнику и историку искусства, автору «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», который с глубоким почтением писал в своей книге о Микеланджело.
(обратно)69
Папа Адриан VI — суровый фанатик, пытавшийся реформировать итальянскую церковь по образцу испанской.
(обратно)70
Речь идет о Франческо Бенчи, секретаре папского двора.
(обратно)71
Трифон — племянник Ф. Бенчи, помогавший ему в делах.
(обратно)72
Винценцо Гонзага — наследный мантуанский герцог, по просьбе которого Альфонсо II согласился освободить Тассо из больницы Св. Анны (1586).
(обратно)73
Переводы этого и всех следующих сонетов публикуются впервые.
(обратно)74
Лаура Пинья Джильоли — дочь известного при феррарском дворе философа и поэта Джован Баттиста Пинья.
(обратно)75
Этот и следующий сонеты входят в диалог «О причине, начале и едином» (1584).
(обратно)76
Сонет входит в диалог «О бесконечности, вселенной и мирах» (1584).
(обратно)77
И Прокна отвечает соловью — имеется в виду греческий миф о Прокне, муж которой Терей опозорил ее сестру Филомену. В отместку Прокна убила своего сына и его мясом накормила мужа, который хотел убить обеих сестер. Зевс превратил Прокну в ласточку, Филомену — в соловья, а Терея — в удода (греч. миф.).
(обратно)78
Наяды — нимфы рек, ручьев и озер.
(обратно)79
Дафна — нимфа, дочь земли Геи и бога рек Пенея; по просьбе отца боги, дабы спасти нимфу от преследований влюбленного в нее Аполлона, превратили ее в лавровое дерево (греч. миф.).
(обратно)80
Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)81
Как и предыдущий, этот сонет является неправильным, «хвостатым». Сервантес к ним прибегал в сатирических целях. Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)82
Кампусано — нищий поручик, надеющийся выбраться из нищеты с помощью брака по расчету, — центральный персонаж новеллы Сервантеса «Обманная свадьба». Индии — старинное испанское название Нового Света. Магдалина — имеется в виду последовательница Христа Мария Магдалина, в некоторых христианских легендах изображаемая блудницей. Святой Гиларий — один из отцов церкви. Сервантес играет здесь на созвучии имени святого (Hilario) с испанским словом hilaridad — веселость, смех. Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)83
Сагунто — город неподалеку от Валенсии. Основанный римлянами, он во второй Пунической войне, в 219 г. до н. э., подвергся осаде войсками Карфагена под командованием Ганнибала, и жители его предпочли гибель позору плена. Разрушенные сооружения римлян сохранились до наших дней.
(обратно)84
…Таким Европе | Предстал, красуясь, грозный властелин. — согласно мифу, Зевс похитил красавицу Европу, дочь финикийского царя, превратившись в быка (греч. миф.).
(обратно)85
Ибер — древнее название реки Эбро; Монкайо — часть горной цепи в Арагоне; Таис — куртизанка; согласно преданию, возлюбленная Александра Македонского и Птолемея I.
(обратно)86
Готы — германское племя, активно участвовавшее в завоевании Римской империи. В частности, вестготы (западные готы) в V в. завоевали Пиренейский полуостров и основали здесь свое королевство. Все знатнейшие дворянские семьи в Испании считали, что происходят от готов.
(обратно)87
Ганнибал (247 или 246–183 до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, одержавший ряд побед над римлянами в ходе второй Пунической войны. Гален (ок. 130 — ок. 200) — знаменитый римский врач.
(обратно)88
В сонете бичуется родина Лопе де Веги — Мадрид. Элизий (Елисейские поля) — поля блаженных, куда попадают после смерти праведники (греч. миф.). Турия (Гуадалавиар) — река, протекающая близ Валенсии, где Лопе де Вега жил после изгнания из Кастилии, в 1588–1590 гг.
(обратно)89
Сирены — легендарные демонические существа, заманивавшие жертв прекрасным пением. Проплывая мимо острова сирен, Одиссей привязал себя к мачте корабля, залив воском уши своих товарищей по плаванию (греч. миф.).
(обратно)90
Первый перевод этого стихотворения на русский язык был сделан в 1806 г. В. А. Жуковским. Вот он:
За нежный поцелуй ты требуешь сонета, Но шутка ль быть творцом четырнадцати строк На две лишь четки рифм? Скажи сама, Лилета: «А разве поцелуй безделка?» Дай мне срок! Четыре есть стиха, осталось три куплета. О Феб! о добрый Феб! не будь ко мне жесток, Хотя немножечко парнасского мне света! Еще строфа! Смелей! Уж берег недалек! Но вот уж и устал! О мука, о досада! Здесь, Лила — поцелуй! тут рифма и — надсада! Как быть? Но бог помог! еще готов терцет! Еще б один — и все! пишу! хоть до упада! Вот!.. Вот! почти совсем!.. О радость, о награда! Мой, Лила, поцелуй, и вот тебе сонет! (обратно)91
Сонет взят из пьесы «Перибаньес и командор Оканьи».
(обратно)92
Перевод этого и следующего сонетов публикуется впервые.
(обратно)93
Бетис — старинное название реки Гвадалквивир. Сенеки — имеются в виду уроженцы древней Кордовы: Сенека-Риторик (ок. 61 г. до н. э. — 38) и его сын, философ, драматург и наставник императора Нерона (Сенека-философ, 2—66). «Одиночества» — крупнейшая поэма Гонгоры. Друг Полифема — имеется в виду также Гонгора, автор «Предания о Полифеме и Галатее».
(обратно)94
Герой сонета — Фаэтон, сын бога солнца Гелиоса. С разрешения отца он взялся управлять его солнечной колесницей, но слишком приблизился к земле, и Зевс, чтобы не погубить в страшном пламени землю, поразил Фаэтона молнией, и тот горящим факелом упал в реку Эридан. Гелиады — сестры Фаэтона, горько оплакивавшие смерть брата, были превращены богами в тополя, а их слезы затвердели в янтаре (греч. миф.).
(обратно)95
Далила — филистимлянка, хитростью выведала тайну богатырской силы своего супруга, могучего Самсона, усыпила его, велела «остричь семь кос с головы его», и потом, обессилевшего, выдала своим соотечественникам, а те выкололи ему глаза (библ. миф).
(обратно)96
Левантом в Испании называют средиземноморское побережье восточных районов полуострова.
(обратно)97
Сонет написан в 1585 г. во время пребывания Гонгоры вдали от родной Кордовы, в Гренаде, «где средь чужого края течет Хениль…».
(обратно)98
Фавоний — образное обозначение легкого теплого ветерка (лат.). Флора — богиня цветов (рим. миф.).
(обратно)99
…Сник у генуэзца в кабале — в то время Генуя была центром банковско-ростовщической деятельности.
(обратно)100
Ласарильо (уменьшительное от Ласаро — исп. вариант имени Лазарь) — герой анонимной плутовской повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554); одно время Ласарильо был поводырем у жестокого слепца. Тормес — река, протекающая близ Саламанки и впадающая в Дуэро.
(обратно)101
См. примечание 94 о Фаэтоне.
(обратно)102
Первая строфа отражает разочарование, пережитое Гонгорой после неудачных попыток попасть в свиту графа де Лемоса, назначенного вице-королем Неаполя, или герцога де Ферма, направлявшегося с дипломатической миссией во Францию.
(обратно)103
Сонет написан в 1603 г. С 1600 по 1605 г. Вальядолид был объявлен Филиппом III столицей Испании. При въезде в новую столицу каждый должен был представить опись ввозимого имущества чиновнику, осуществлявшему надзор, некоему Дьего де Айала.
(обратно)104
В этом сонете отчетливо проявилась неприязнь, с которой относились друг к другу Гонгора, с одной стороны, и Кеведо и Лопе де Вега (теренцианец Лопе) — с другой. Анакреон (Анакреонт) — древнегреческий поэт-лирик, с которым Гонгора иронически сравнивает Кеведо.
(обратно)105
Сонет представляет собой переложение сонета итальянского поэта Луиджи Гротто (1541–1585), слепого от рождения. Как будто эти слезы лил не я, а сам Орфей — согласно преданию, искусство певца и музыканта Орфея обладало такой магической силой, что ему покорялись не только люди, но и звери (греч. миф.).
(обратно)106
Вольный перевод сонета Тассо, написан в 1584 г. Нектар, что за пирами Юпитеру подносит Ганимед — сын троянского царя Ганимед за красоту был похищен Зевсом и стал виночерпием богов на Олимпе (греч. миф.).
(обратно)107
Сонет создан в 1588 г. Одним из импульсов его написания было то, что в 1581 г. губернатор Явы прислал в дар Филиппу II несколько слонов и носорога.
(обратно)108
Сонет, написанный в 1615 г., представляет собой эпитафию великому живописцу Доменико Теотокопули, прозванному Эль Греко (исп. — грек.) Ирида — богиня радуги; Морфей — бог сновидений (греч. миф.). Куренье древа савского — имеется в виду ладанное дерево из Аравии, где, согласно легенде, когда-то существовало Савское царство.
(обратно)109
Ты не по консулам считаешь годы — В Древнем Риме консулов избирали на год.
(обратно)110
Меня напрасно привязали к рее — Ты напоешь погибель кораблю — см. примеч. 89.
(обратно)111
Дон Хосеф — Хосе Антонио Гонсалес де Салас (1558? — 1651), испанский гуманист, издатель и друг Кеведо; поэт послал ему этот сонет незадолго до своего ареста (1639 г.).
(обратно)112
Изгнанница Астрея — богиня справедливости, которую испорченность людских нравов заставила покинуть землю (греч. миф.).
(обратно)113
Брыжи — воротники.
(обратно)114
Гот — см. примеч. 86. Брак с Арагоном… дал тебе земли обеих Сицилий — в 1442–1443 гг. арагонский король завоевал королевство обеих Сицилий (Сицилию и Неаполь); в результате брака арагонского принца Фердинанда и кастильской принцессы Изабеллы (1469) королевство обеих Сицилий вошло в состав объединенной Испании. Гордым Миланом твой меч овладел — Милан вошел в состав империи испанских Габсбургов в 1526 г., после победы императора Карла V над королем Франции Франциском. Ты Португалию дланью железной | держишь — с 1580 по 1640 г. Португалия была присоединена к Испании.
(обратно)115
Ясон — греческий герой, совершивший множество подвигов и добывший золотое руно (греч. миф.)…Удавись мошною, как Иуда — по испанскому поверью, Иуда повесился на своем длинном кошеле.
(обратно)116
Тир — древний финикийский город, славившийся своей торговой деятельностью.
(обратно)117
Из Марсова колена — т. е. из воинов. Телемсен — область в Алжире, в те времена один из центров пиратства.
(обратно)118
Санбенито — позорные колпаки, одевавшиеся на головы осужденных инквизицией, а также списки осужденных. Церера — богиня земледелия и плодородия (рим. миф.); Гермес — вестник богов, бог торговли (греч. миф.).
(обратно)119
Рукописное собрание своих стихотворений Са де Миранда послал юному наследному принцу Жоану (ум. в 1554 г.).
(обратно)120
Сонет повествует о римлянке Лукреции, которую подверг насилию сын тирана Тарквиния. Чтобы смыть позор, она покончила жизнь самоубийством.
(обратно)121
Тежо (исп. Тахо) — река в Испании и Португалии, впадающая в Атлантический океан.
(обратно)122
С троянцами, поверившими в ложь, | Расправились наперсники Паллады — в войне против Трои, согласно гомеровским поэмам, Афина-Паллада выступала на стороне греков.
(обратно)123
Гастин — Гастинский лес на берегу реки Луар (приток Сарты) близ родового поместья Ронсара.
(обратно)124
Денизо — Никола Денизо (1515–1559), поэт и художник, учился в коллеже вместе с Ронсаром, был в дружеских отношениях с поэтами Плеяды.
(обратно)125
Так предсказала нимфа — намек на греческую пророчицу Кассандру, предсказавшую царю Агамемнону его судьбу (греч. миф.).
(обратно)126
Всю боль… | Стрелой любви пронзен, о Феб, изведал ты — Бог солнечного света Феб (Аполлон) полюбил простую смертную — Кассандру, и она дала согласие вступить с ним в брак, если он наделит ее пророческим даром; однако, получив этот дар, Кассандра отвергла его любовь (греч. миф.). Ксанф — река, протекавшая недалеко от Трои (Илиона). Луар — река во Франции, впадающая в Сарту. Вандом — Вандомский край, ныне департамент Луар-и-Шер.
(обратно)127
Подобна ты другой, пеннорожденной — т. е. Афродите, богине любви и красоты, возникшей из морской пены (греч. миф.).
(обратно)128
Протей — вещий морской бог, умевший изменять свой облик (греч. миф).
(обратно)129
Палатин — один из семи холмов Рима.
(обратно)130
Коридон — условное имя слуги, заимствованное из «Буколик» Вергилия (эклоги II и VII). Белло — Реми Белло (1528–1577), поэт, соратник Ронсара, примкнул к Плеяде, был тонким певцом природы, мастером пейзажа.
(обратно)131
Иппокрена (Гиппокрена) — см. примечание 32.
(обратно)132
Елена — в сонетах, посвященных Елене де Сюржер, Ронсар часто обращается к образу гречанки Елены, жены спартанского царя Менелая, похищенной сыном царя Трои Парисом, что послужило поводом к войне между греками и троянцами, которая описана в «Илиаде» Гомера.
(обратно)133
Иордан — река в Палестине, символ нравственного обновления. Следуя Ветхому завету, Ронсар отождествляет пребывание при дворе с рабством евреев в Египте, а удаление от двора — с уходом в «землю обетованную».
(обратно)134
Коридон — см. примечание к сонету «Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую!..».
(обратно)135
Сонет обращен к Шарлю де Гизу, кардиналу Лотарингскому (1525–1574).
(обратно)136
Эскулап — бог врачевания, сын Феба (рим. миф.).
(обратно)137
Необщею дорогой Аполлона — Де Белле не раз утверждает, что, никому не подражая, он идет в поэзии своим оригинальным путем. Лоррен — кардинал де Гиз, друг дяди Дю Белле.
(обратно)138
Лары — души предков, покровители домашнего очага (рим. миф.). Дю Белле заявляет, что ради своего, национального, французского, он не будет подражать чужеземным образцам, как бы прекрасны они ни были. Горация своим не возглашу законом — имеется в виду «Послание к Писонам», или «Наука поэзии» Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.), где изложены теоретические взгляды Горация на литературу и принципы, которым он следовал в своей поэтической практике.
(обратно)139
Сонет написан как ответ на письмо и сонет Ронсара, который корил Дю Белле за то, что тот, живя в Риме, забыл юношеские клятвы и вновь стал писать стихи на латинском языке. Тоскана — область в Италии. Овидий — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 18), римский элегический поэт, сосланный императором Августом в 8 г. на далекую окраину империи, на берег Черного моря, в район нынешней Констанцы. Для Овидия опала была подлинной катастрофой. Освоившись в новой обстановке, он пишет стихи на местном гетском языке.
(обратно)140
Шестью годами жизни — время от отъезда Дю Белле в Италию до его возвращения во Францию и окончания работы над сборником «Сожаления».
(обратно)141
Буше — Этьен Буше, секретарь французского посольства в Риме в то время, когда там был Дю Белле; лицо духовного звания.
(обратно)142
Панжас — Жан де Пардайян де Панжас, поэт, член Бригады, одновременно с Дю Белле служил в посольстве в Риме, будучи в свите кардинала Жоржа д’Арманьяка. Маньи — там, где велит всесильный Авансон — Оливье де Маньи служил секретарем французского посла Жана д’Авансона в Ватикане. Генрих — французский король Генрих II (1519–1559).
(обратно)143
Дю Белле обыгрывает здесь первую строку знаменитого LXI сонета Петрарки («Благословен день, месяц, лето, час…», пер. Вяч. Иванова), придавая ей прямо противоположное значение. Недоброй птице внял — древние греки и римляне по полету и крику птицы предсказывали будущее. Когда Сатурн и Марс в союзе против нас — в средние века события жизни человека связывали с движением небесных светил.
(обратно)144
Байель — Луи Байель, друг Дю Белле; состоял в свите кардинала Дю Белле; знакомил поэта с художественными памятниками Рима.
(обратно)145
Морель — Жан Морель д’Эмбрен (1511–1580), ученик Эразма Роттердамского, занимал при дворе значительные должности, друг многих поэтов и Дю Белле; с ним Дю Белле советовался насчет своих сочинений.
(обратно)146
Дю Белле здесь говорит о том, что ему тягостна его должность управителя по делам финансов.
(обратно)147
Белло — см. примеч. 130.
(обратно)148
Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем? — Этьен Жодель в своем стихотворении «К Музе» сетовал на неблагодарность современников по отношению к поэтам. В оригинале названа Каллиопа, муза эпической поэзии, старшая из девяти муз (греч. миф.).
(обратно)149
Смарагд — минерал изумрудного цвета.
(обратно)150
Морис Сев (1501–1546) — поэт, глава «лионской» поэтической школы.
(обратно)151
Лаэртид — Одиссей, сын Лаэрта, царя Итаки.
(обратно)152
Дезотель — Гийом Дезотель (1529–1581), поэт, убежденный сторонник Плеяды.
(обратно)153
Горд — Жан-Антуан Симион, сеньор де Горд (1525–1562), французский дипломат, друг Маньи и Дю Белле. Когда ж конец войне? — речь идет о войне, которую Франция вела на территории Италии в 50-х годах XVI в.
(обратно)154
Сонет написан в подражание сонету LXI Петрарки.
(обратно)155
Паскаль — Пьер де Паскаль (1531–1590), историограф Генриха II. Как быстро строят Лувр? — Строительство Лувра (королевской резиденции в Париже) было начато при Филиппе-Августе в 1204 г., оно продолжалось при Франциске I, Генрихе II, Людовике XIII; при Людовике XIV была возведена величественная колоннада; только в 1848 г. завершение строительства Лувра было отмечено специальным правительственным декретом. Нормандка — Диана де Пуатье (1499–1566), фаворитка Генриха II, которая пользовалась неограниченным влиянием на короля.
(обратно)156
Существует сонет Луизы Лабе, который отличается от этого сонета лишь заключительными терцинами.
(обратно)157
Сонет написан в подражание сонету CXXXIV Петрарки («Мне мира нет, — и брани не подъемлю…», пер. Вяч. Иванова).
(обратно)158
Этот, следующий и другие сонеты Жоделя посвящены Клод-Катрин де Клермон-Дампьер, жене маршала де Реца; она была хозяйкой литературного салона, отличалась красотой и умом.
(обратно)159
Диана — в греческой мифологии Артемида, первоначально была богиней плодовитости, покровительницей, животных и охоты; затем становится богиней подземной, охраняющей души умерших в подземном царстве, а также богиней Луны, вытесняя культ древней богини Селены; позднее — богиня-девственница, покровительница женского целомудрия. Ахерон — одно из названий подземного царства, преисподней (греч. миф.). Эвмениды, или Эриннии — богини возмездия и хранительницы государственного порядка (греч. миф.). Плутон — бог подземного царства; первоначально олицетворял подземный мрак; другое его имя — Аид, т. е. невидимый (отсюда «ад»); позднее — бог, посылающий богатство (греч. миф.). Цинтия, или Кинфия — эпитет богини Артемиды (Дианы) (греч. миф.). Геката — сначала — богиня Луны, суда и искупления, потом — богиня колдовства, заклинаний (она вызывает умерших, насылает зло). Артемида (Диана) отождествлялась с Гекатой (греч. миф.).
(обратно)160
При Генрихе — имеется в виду Генрих II. Мирный договор — перемирие, заключенное в Восселе в 1556 г. между Францией и Испанией на 5 лет. Мы в двух баталиях лишились враз всего — союзник Испании Эмманюэль Филибер герцог Савойский, нарушив в 1557 г. Воссельское перемирие, нанес французским войскам тяжелое поражение при Сен-Кентене (Пикардия), а вскоре и завоевал этот город. И смуту принесло нам примиренье в дар — имеются в виду религиозные войны между католиками и гугенотами. Великий Государь заколот на турнире — Генрих II погиб от удара в глаз копьем на турнире в 1559 г. За ним и два других попали под удар — король Франциск II, внезапно умерший в декабре 1560 г., и Карл IX, погибший во время одной из религиозных войн в 1574 г.
(обратно)161
Жак Таюро (1527–1555) — поэт, друг членов Плеяды; принимал участие в войнах Франциска I в Италии. Сонеты и оды Таюро были изданы в 1554 г.
(обратно)162
Этот и следующий сонеты взяты из цикла «Любовь к Мелине». По собственному признанию Баифа, образ Мелины им вымышлен.
(обратно)163
Сонет посвящен Франсуазе де Женн, которую Баиф встретил в 1554 г. в Пуату, куда он приехал вместе с Жаком Таюро.
(обратно)164
Церера — см. примечание 118. Маргерит — Маргарита де Карль. Медок — местность в долине Жиронды, на юге Франции.
(обратно)165
Икар — сын Дедала, греческого архитектора, строителя лабиринта на Крите. Дедал, заключенный в лабиринт, бежал оттуда со своим сыном от преследований царя Миноса, сделав искусственные крылья. Икар неосторожно подлетел близко к солнцу, воск, скрепляющий крылья, растаял, и Икар, упав в море, утонул (греч. миф.). В литературе полет Икара стал символом тщеты и смелости дерзаний человека. Как олицетворение всего быстротечного в жизни образ Икара часто использовался Депортом.
(обратно)166
Этьен Жодель скончался в июле 1573 г. Его памяти д’Обинье посвятил оду и четыре сонета, изданные отдельной книгой в 1574 г.
(обратно)167
Этот и два следующих сонета посвящены Диане Сальвиати, племяннице Кассандры Сальвиати, которую воспел Ронсар. Со своей возлюбленной д’Обинье познакомился в замке Тальси, где он выздоравливал после ранения в одном из боев гугенотов и католиков, а девушка ухаживала за ним.
(обратно)168
Сонет посвящен французскому королю Людовику XIII (1601–1643). Гидре мятежа — речь идет о сопротивлении политике абсолютизма французской знати, которая лишилась своих политических функций.
(обратно)169
Арман-Жан дю Плесси, кардинал де Ришельё (1585–1642) — выдающийся государственный деятель, первый министр при Людовике XIII. Эсон — отец Ясона, который плавал в Колхиду за золотым руном. Волшебница Медея возвратила Эсону молодость (греч. миф.). В литературе он стал символом магического омоложения.
(обратно)170
Бодуэн — Жан Бодуэн (1564–1650), поэт и переводчик, один из первых членов Французской Академии.
(обратно)171
Харита — условное имя героини в пасторальной поэзии.
(обратно)172
Эрот, или Эрос — древнегреческое обозначение стихийного жизненного начала в природе человека, ставшее символом любовной страсти.
(обратно)173
Жан-Франсуа Саразэн (1603–1654) — французский поэт.
(обратно)174
Митридат — Митридат Великий (123—63 гг. до н. э.), понтийский царь, непримиримый враг римлян. По преданию, еще смолоду в постоянной борьбе с придворными интригами и заговорами изучил все ядовитые растения и приучил себя к самым опасным ядам. Лестригон: лестригоны — людоеды, жившие на Сицилии (греч. миф.).
(обратно)175
Кибела, или «Великая мать» — малоазийское божество, почиталось главным образом как производительная сила природы и источник жизни.
(обратно)176
Еще хранит, Ронсар, твоих шагов печать — Кольте купил в Париже дом, который ранее принадлежал Ронсару; этот дом и воспет в сонете.
(обратно)177
Гера — одна из богинь греческого Пантеона, жена Зевса. Аврора — богиня утренней зари. Фетида — старшая дочь морского бога Нерея. Пегас — крылатый конь, символ поэтического гения. Камена — покровительница искусств, в поэзии отождествлялась с музой (греч. миф.).
(обратно)178
Парнас — гора в древней Греции, посвященная Аполлону и Музам.
(обратно)179
Урания — муза астрономии (греч. миф.); в эпоху Возрождения и позже считалась покровительницей высокой поэзии; здесь, по-видимому, — вымышленное имя возлюбленной.
(обратно)180
Влюбленная в Цефала — Эос, богиня утренней зари; Цефал, или Кефал — сын царя Фессалии Гермеса; на охоте непредумышленно убил свою жену Прокриду и в отчаянии бросился в морс с высокой скалы (греч. миф.). Филиса — условное имя возлюбленной.
(обратно)181
Переделка сонета СХС Петрарки («Лань белая на зелени лугов…», пер. Вяч. Иванова). Предполагают, что этот сонет был посвящен Анне Болейн, возлюбленной, а затем жене Генриха VIII.
(обратно)182
Переделка сонета CXXXIV Петрарки («Мне мира нет, — и брани не подъемлю…», пер. Вяч. Иванова).
(обратно)183
Переводы этого и всех последующих сонетов Т. Уайета публикуются впервые.
(обратно)184
Камбрия — поэтическое название Уэллса, происходящее от названия народа кимвров. Гендстон — поместье в графстве Хердфордшир, принадлежавшее Генри Кери, лорду Гендстону (1524–1596). Гемптон — в XVI в. местность недалеко от Лондона, где находилась резиденция короля Генриха VIII (1509–1547). А Виндзор злой нас разлучает ныне — в это время Серрей находился там в государственной тюрьме.
(обратно)185
Сонет представляет собой подражание СССХ сонету Петрарки («Опять зефир подул — и потеплело…», пер. Е. Солоновича). Переводы этого и двух последующих сонетов публикуются впервые.
(обратно)186
Сонет написан 6-стопным ямбом. Автор выступает в нем как сторонник подражания природе, а не слепого копирования древних.
(обратно)187
В этом сонете развивается тема подражания природе. Пиндар (552 г. до н. э. — ?), древнегреческий поэт, прославившийся гимнами в честь победителей Олимпийских игр.
(обратно)188
Сидни сожалеет о том, что не предложил Пенелопе Девере стать его женой и способствовал ее браку с лордом Ричем. Парис мою Елену не сманил — см. примечание 132.
(обратно)189
Сидни прибегает к приему, не характерному для елизаветинского стиха, — приему чередования двух повторяющихся рифм.
(обратно)190
«Аморетти» (итал.) — здесь: любовные послания.
(обратно)191
Лалы — см. примечание 62.
(обратно)192
Улисс — латинизированный вариант имени Одиссей. Жена пропавшего Улисса Пенелопа обещала вновь выйти замуж, как только она изготовит свадебное покрывало. Чтобы отодвинуть срок новой свадьбы, каждую ночь она распускала ту часть покрывала, которую соткала днем (греч. миф.).
(обратно)193
Дафна — см. примечание 79.
(обратно)194
Орфей — см. примечание 105.
(обратно)195
Аталанта — дева-охотница, участница похода аргонавтов за золотым руном, дала обет безбрачия. Всем сватавшимся к ней она предлагала состязаться в беге, а затем, настигая убегавшего, убивала. Аталанта была побеждена Меланионом, который выбрасывал на бегу золотые яблоки. Подбирая их, Аталанта проиграла (греч. миф.).
(обратно)196
Спенсер говорит здесь об окончании работы над своей поэмой.
(обратно)197
Поэма Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590–1596) развивает традиции античного эпоса и поэм итальянского Возрождения. Поэт создает в ней сказочный мир, заимствуя сюжет из «Смерти короля Артура» Томаса Мелори. Поэма пользовалась огромным успехом. Лаура — героиня сонетов Петрарки.
(обратно)198
Сонет обращен к сыну поэта, впоследствии трагически погибшему во время экспедиции в Ориноко.
(обратно)199
«Caelica» (лат.). — здесь: небесная.
(обратно)200
Сонет имеет необычную форму: в отличие от традиционного сонета в нем четыре катрена.
(обратно)201
Гревилл в соответствии со своими неоплатоническими взглядами прославляет диалектику развития. Природа… бесформенности форму придает — неоплатоники считали, что природа является организующим началом, посредством которого дух воплощается в материи. Мира (греч.) — здесь: мировая душа (anima mundi), воплощенная в земном обличье. Здесь автор нарушает привычную форму сонета, увеличивая его на один катрен.
(обратно)202
В сонете сделана попытка передать основную идею неоплатоников о том, что человеческая душа, рожденная, как и мировая душа, из вечного Логоса, может, порвав с чувственным началом, приблизиться к божеству еще в земной жизни.
(обратно)203
Леандр — юноша из Абидоса, возлюбленный Геро, жрицы Афродиты в Сесте. Каждую ночь ради свидания с ней переплывал Геллеспонт (Дарданеллы). Леандр утонул во время бури; увидев его труп, Геро в отчаянии бросилась в море. (греч. миф.).
(обратно)204
Amour (фр.) — здесь: любовное послание.
(обратно)205
Сизиф — царь Коринфа, хитроумно обманувший Зевса и богиню смерти Танатос. За обман и разбой Сизиф был сурово наказан в царстве мертвых Аиде. Он должен был вкатывать в гору тяжелый камень, который постоянно срывался вниз (греч. миф.). Иксион — царь лапифов в Фессалии. После свадьбы с дочерью Денония Дией убил своего тестя, домогаясь наследства. Допущенный в сонм богов на Олимпе, пытался соблазнить Геру. За все это он по воле Зевса был привязан к огненному колесу и обречен на вечные муки (греч. миф.).
(обратно)206
В этом сонете Дрейтон излагает свою эстетическую программу, противопоставляя энергию и выразительность своей поэзии вялому ритму и слезливости эпигонов Петрарки.
(обратно)207
Несчастье Эссекса — граф Эссекс был казнен в 1601 г. как глава заговора против Елизаветы I. Покой Тирона — в 1599 г. Эссекс, будучи командующим английской армией в Ирландии, заключил перемирие с главой ирландских повстанцев графом Тиронским. Королевы смертный час — Елизавета умерла в 1603 г. Ее преемником стал сын Марии Стюарт Иаков I (шотландский король Иаков VI). С Испанцем лад — Иаков I заключил в 1604 г. мирный договор с Испанией. С Голландией разрыв — согласно договору с Испанией Англия прервала отношения с республиканской Голландией, боровшейся против Испании.
(обратно)208
Этот исполненный гневного пафоса и едва ли не самый горький во всем цикле сонет-исповедь переводили на русский язык многие переводчики. Лучшие переводы принадлежат О. Румеру, С. Маршаку, Б. Пастернаку и А. Финкелю. Приводим сонет в переводе Б. Пастернака:
Измучась всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк И как шутя живется богачу, И доверять, и попадать впросак, И наблюдать, как наглость лезет в свет, И честь девичья катится ко дну, И знать, что ходу совершенствам нет, И видеть мощь у немощи в плену, И вспоминать, что мысли заткнут рот, И разум носит глупости хулу, И прямодушье простотой слывет, И доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да другу трудно будет без меня.Приводим также перевод А. Финкеля:
Устал я жить и умереть хочу, Достоинство в отрепье видя рваном, Ничтожество, одетое в парчу, И Веру, оскорбленную обманом. И Девственность, поруганную зло, И почестей неправых омерзенье, И Силу, что коварство оплело, И Совершенство в горьком униженье. И Прямоту, что глупой прослыла, И Глупость, проверяющую Знанье, И робкое Добро в оковах Зла, Искусство, принужденное к молчанью. Устал я жить и смерть зову, скорбя. Но на кого оставлю я тебя?! (обратно)209
Приводим также перевод этого сонета, выполненный Б. Пастернаком:
То время года видишь ты во мне, Когда из листьев редко где какой, Дрожа, желтеет в веток голизне, А птичий свист везде сменял покой. Во мне ты видишь бледный край небес, Где от заката памятка одна, И, постепенно взявши перевес, Их опечатывает темнота. Во мне ты видишь то сгоранье пня, Когда зола, что пламенем была, Становится могилою огня, А то, что грело, изошло дотла. И это видя, помни: нет цены Свиданьям, дни которых сочтены. (обратно)210
Сонет полемически направлен против идеализации женского образа: Шекспир рисует здесь образ реальной земной женщины, милой сердцу поэта.
(обратно)211
Сонеты 153 и 154 написаны на тему, чрезвычайно популярную в Европе конца XVI в. Сюжет об Амуре (Купидоне), заснувшем в тенистой роще, и о нимфах, окунувших его факел в источник, использовали до Шекспира Пьер де Ронсар, Луиджи Грото, Джон Флетчер и другие поэты. Сюжет этот восходит к эпиграмме греческого писателя V–VI вв. Мариана Схоластика.
(обратно)212
Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)213
Один из самых знаменитых сонетов Донна, в котором он провозглашает торжество человека над смертью. Облаченный в форму традиционного христианского толкования смерти как переходного состояния перед вечной жизнью, сонет перекликается по своему содержанию с сонетами эпохи Возрождения. Приводим также перевод этого сонета, выполненный Б. Томашевским (перевод публикуется впервые):
Отринь гордыню, смерть! Тебя зовут Всесильною, но ты совсем иная. Что губишь ты людей — молва пустая, Даже меня убить — напрасный труд. Отдых и сон с тебя пример берут, Два этих слова — предвкушенье рая. Покой костям и душам сон вручая, Знай — легионы за тобой пойдут. Ты — раб владык, случайности и рока, Война, недуги, яд — твой страшный путь… Но ведь от мака легче нам заснуть, — Нет, в самохвальстве ты зашла далеко. В коротком сне ты вечность нам вернешь Бессмертную: Смерть, ты сама умрешь! (обратно)214
Поэт прославляет здесь человека, в муках обретающего понимание бытия.
(обратно)215
В начале гражданской войны в сентябре 1642 г. королевские войска пытались захватить Лондон. Эмафиец — Александр Македонский. …Стих творца «Электры» спас Афины — после взятия Афин спартанский военачальник Лисандр отказался от решения продать жителей города в рабство, услышав, как афинянин поет песнь из «Электры» Еврипида.
(обратно)216
Как Руфь и как Мария — обе женщины, согласно библейскому преданию, пожертвовали личным благополучием ради счастья родины.
(обратно)217
Сонет написан в 1643 г., после того как парламент принял закон об ограничении веротерпимости. Прелат верховный — епископ Лод, глава англиканской церкви. Многоприходность — право одного пастора управлять несколькими приходами. А. С. — Адам Стюарт, шотландский богослов. Резерфорд — предводитель шотландских кальвинистов. Томас Эдвардс — англиканский пресветерианин. Тридентский собор (1545–1553) — съезд церковников, ознаменовавший решительный поворот в сторону контрреформации.
(обратно)218
Сонет посвящен другу Мильтона, композитору Генри Лоузу (1595–1662), писавшему музыку на стихи английских поэтов. Мидас — фригийский царь, награжденный ослиными ушами за то, что во время музыкального состязания между Аполлоном и Паном отдал предпочтение игре последнего (греч. миф.).
(обратно)219
Сонет посвящен памяти жены Джорджа Томсона, лондонского книготорговца.
(обратно)220
Томас Ферфакс (1612–1671) — политический и военный деятель английской революции. Осада Колчестера происходила в 1648 г., когда в городе начался мятеж сторонников короля. Попирая Лигу, Север снова | Простер крыла драконьи над страной — шотландская армия вторглась в Англию, нарушив договор, заключенный в 1643 г.
(обратно)221
Сонет посвящен вождю английской революции. Дарвен, Данбар, Вустер — названия мест, где Кромвель одерживал победы над шотландской армией.
(обратно)222
В 1655 г. войска герцога Евгения Савойского перебили часть населения побежденного ими Пьемонта. Жители города обратились к Кромвелю с просьбой выразить протест. Мильтону было поручено составить его. Тройной тиран — намек на головной убор папы Римского, символизирующий юридическую, законодательную и церковную власть. Блудница вавилонская — римская церковь.
(обратно)223
Мильтон ослеп в 1652 г.
(обратно)224
Сонет написан в 1658 г. Алкестида — жена царя Адмета, которая сошла вместо него в царство мертвых. Сын Кронида (Зевса) — Геракл (греч. миф.).
(обратно)225
Сонет написан в 1658 г. и посвящен памяти вождя английской буржуазной революции.
(обратно)226
Сонет отражает политические позиции Векерлина по отношению к воюющим сторонам в Тридцатилетней войне. Тираны — подразумеваются австрийский император и князья, входившие в католическую Лигу. …Слушай тех князей — имеются в виду шведский король Густав Адольф и немецкие князья, входившие в протестантский союз.
(обратно)227
В сонете получили выражение антикатолические настроения Векерлина. Фальшивый бог — католическая церковь. …Ударил гром — подразумевается Реформация.
(обратно)228
В подлиннике не имеет заглавия. Опиц приводит его в VII главе «Книги о немецком стихотворстве» как иллюстрацию правил, обязательных для этого жанра. При этом он оговаривает, что «частично заимствовал его у Ронсара». На самом деле сонет представляет собой довольно близкое переложение сонета Ронсара «Гранитный пик над горной крутизной…».
(обратно)229
Датируется 1632 г., развивает типичную для поэзии немецкого барокко тему бренности и быстротечности человеческой жизни, в целом не характерную для Флеминга. Как и следующий сонет, представляет крайне редкий для этого жанра случай использования хорея (обычный размер сонета для силлабо-тонического стихосложения — пяти- или шестистопный ямб). Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)230
Относится к раннему периоду (до 1633 г.). Строится на излюбленных принципах поэтики барокко: антитезах и синтаксическом параллелизме, поддержанном подвижным, убыстренным ритмом (четырехстопным хореем). Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)231
Написан в 1633 г. в предверии путешествия в Россию. …От мудрости отрекшись… — имеются в виду занятия медициной в Лейпцигском университете. Гигия (Гигиейя) — дочь Асклепия, богиня здоровья (греч. миф.). Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)232
Стихотворение написано во время пребывания Флеминга в Ревеле (Таллине) в промежутке между двумя путешествиями в Россию. Адресовано Эльзабе Нихузен, дочери ревельского купца, с которой Флеминг обручился. Во время его путешествия в Персию она вышла замуж за другого. Твой сын — Морфей, бог сна (греч. миф.). Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)233
Написано в 1635 г. в Ревеле, адресовано также Эльзабе Нихузен. Перевод сонета публикуется впервые.
(обратно)234
Написано в 1636 г. Выражает основные принципы стоической философии.
(обратно)235
Датирован 25 июня 1636 г. в день отплытия экспедиции из Москвы. Союз наш заключен — подразумевается согласие России предоставить Голштинской миссии право транзитного следования в Персию. Сонет в 1755 г. был переведен А. П. Сумароковым:
Сонет великому граду Москве
О ты, союзница Голштинския страны, В российских городах под именем царицы: Ты отверзаешь нам далекие границы К пути, в который мы теперь устремлены. Мы рек твоих струей к пристанищу течем, И дружество твое мы возвестим Востоку; Твою к твоим друзьям щедроту превысоку По возвращении на Западе речем. Дай, небо, чтобы ты была благополучна, Безбранна, с тишиной своею неразлучна; Чтоб твой в спокойствии блаженный жил народ! Прими сии стихи. Когда я возвращуся, Достойно славу я твою воспеть потщуся, И Волгу похвалой промчу до Рейнских вод. (обратно)236
Датирован 17 августа 1636 г. Географическое указание в заглавии ошибочно.
(обратно)237
Один из нескольких сонетов, написанных Флемингом в июне 1638 г. под впечатлением ложного известия о смерти Опица. …Гомером и Пиндаром — имеются в виду жанры, в которых писал Опиц, подражая античным авторам, — эпические поэмы и оды. Пиндар (ок. 518–442 до н. э.) — древнегреческий поэт, в своих одах воспевал олимпийские состязания.
(обратно)238
В первой редакции (1637 г.) сонет имел латинское название «Vanitas, vanitatum et omnia vanitas» («Суета сует и всяческая суета»). Это одна из основных тем творчества Грифиуса.
(обратно)239
Заглавие в подлиннике: «На свадьбу Годфреда Эйхгорна и Розины Штольц», датировано 20 января 1637 г. Являясь стихотворением «на случай», сонет приобретает, однако, обобщающее значение — зима выступает как символ суровых испытаний военного времени.
(обратно)240
Один из самых знаменитых сонетов Грифиуса, послужил толчком для создания сонета И. Р. Бехера «Слезы отечества, год 1936». Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет — Тридцатилетняя война началась в 1618 г.
(обратно)241
Сонет написан по конкретному биографическому поводу (после тяжелой болезни), но одновременно опирается на литературную традицию, близко перекликаясь с сонетом Ронсара «Я высох до костей. К порогу тьмы и мрака…»
(обратно)242
Входит в цикл из четырех сонетов: «Утро», «Полдень», «Вечер», «Полночь», открывающий Вторую книгу сонетов и символизирующий четыре периода человеческой жизни.
(обратно)243
Этот год был последним годом войны. 24 октября 1648 г. был заключен Вестфальский мир.
(обратно)244
Под этим именем Грифиус воспевал Элизабет Шенборнер, дочь своего покровителя. Ей посвящены шесть сонетов, написанных в разное время. В 1637 г. Элизабет, тогда четырнадцатилетняя девочка, возложила на голову молодого поэта лавровый венок поэта-лауреата. В 1647 г. Элизабет вышла замуж. Точная дата сонета не установлена, однако из контекста явствует, что он написан после 1648 г.
(обратно)245
Завершает сборник «Воскресные и праздничные сонеты». Написан, скорее всего, в 1637 г., после смерти двух близких Грифиусу людей — Георга Шенборнера и нежно любимой поэтом мачехи, заменившей ему рано умершую мать. Тогда же старший брат Грифиуса Пауль с семьей вынужден был бежать из города Фрейштадта, спасаясь от преследований со стороны воинствующих католиков. Оболган, оскорблен и оклеветан был — речь идет о нападках, которым Грифиус подвергся за свое стихотворение «Гибель города Фрейштадта», обличавшее ужасы войны.
(обратно)246
10 августа 1649 г. рухнула колонна, поддерживающая орган в церкви Св. Елизаветы в Бреслау, через три дня обрушилась вся церковь. Это событие приобретает в сонете иносказательное значение: подобно другим силезским поэтам-протестантам, Гофмансвальдау болезненно реагировал на проводимую в его родных местах контрреформацию.
(обратно)247
Сонет развивает типичный мотив неостоической философии, широко представленной в немецкой поэзии XVII в. — твердость духа перед лицом испытаний и верность своим убеждениям. Для автора эта тема имеет не только общефилософское, но и личное, автобиографическое значение. Кир II Великий (? — 530 до н. э.) — древнеперсидский царь, прославившийся своими победами. Филиппа гордый сын — Александр Македонский (356–323 до н. э.)
(обратно)248
Звездочками помечены переводы сонетов, выполненные специально для данного сборника.
(обратно)



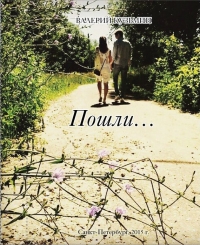


Комментарии к книге «Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев