Анатолий Пискунов Ковчег XXI
ВОПРЕКИ И БЛАГОДАРЯ (вместо предисловия)
Стихам Анатолия Пискунова свойственна щемящая интонация, напоминающая рубцовско-есенинскую… Такие поэты приходят в момент активизации социальной тектоники, обострения хронических недугов общества, они появляются как народные целители. Когда официально предлагаемые лекарства бессильны помочь государственному организму, народ прибегает к проверенным средствам спасения. Одной из вековечных панацей для нас является слово правды, направленное прямо в эпицентр боли.
Край ты мой, задешево распроданный
слугами народа и купечеством,
был уже и мачехой, и родиной.
Станешь ли еще кому Отечеством?
Со своей растерзанной страной я делю все беды и
невзгоды,
чувствуя затылком и спиной стылое дыхание свободы.
Есть у поэта стихи, цитировать которые фрагментами невозможно. Настолько в них сцеплено внутреннее содержание. Они, как правило, отличаются высоким качеством отделки и неподдельным чувством горечи за то, что случилось со всеми нами в теперь уже довольно отдаленное время. Стихов такого эмоционально-патриотического накала, как ДОНУЗААВ, посвященных бывшей средиземноморско-атлантической эскадре Черноморского флота СССР, в современной поэзии до Пискунова я не знаю.
Время беспутно, и спутаны карты. В памяти озера
поступь эскадры.
Блекнет, как лица на выцветшем фото, слава былая
бывалого флота.
Видят во снах океанские мили старые, ржавые, рыжие
цепи —
те, на которые флот посадили, чтоб охранял одичалые
степи.
Склянки не звякнут, сирены не рыкнут. Картой крапленою
лоция бита.
Цепи на солнце потерянно дрыхнут. База военная богом
забыта.
К Черному морю махнем дикарями. Клево в обнимку
лежать с якорями.
Солоновата слеза Донузлава. Слава эскадре!
Посмертная слава.
А возьмите его стихи о природе. Как же ощутима близость к линии Тютчева – Бунина в русской поэзии! И в то же время налицо самобытность автора.
В его мире трепещет, как живой, осенний куст, «битком набитый перелетной стаей». Здесь свет вечерний льется, «словно сонного колодца невесомая вода». Здесь клен, как человек, «мольбу возносит к небесам», и весенний день «рассыпал одуванчики, взорвал березовые почки», и трава «пропахла солнцем, вечностью и мятой», и «Путем пробежала Млечным вековая степная дрожь»…
Как чаще всего формируется поэт? Через общение с теми, кто терпеливо слушает его стихи.
Поэту нужно говорить с миром. Так, по ступенькам, ведущим вверх, и движется он сквозь щадящие тернии своего начала к жестоким зарослям мастерства, где ждут его колючки и шипы проб и ошибок, насмешки и глумление невежд, зависть других начинающих… И не лавровый, а терновый венец ждет его, если он поэт.
Поэтическая судьба Анатолия Пискунова поразительна. В молодые годы мы были рядом, но я (тогда уже активно
пишущий) ни сном ни духом не знал, что мы с ним одного поля ягоды – оба точим перья.
И вдруг теперь он появился в пространстве русской поэзии как никому из признанных литераторов не известный автор. Как умудрился не засветиться, обладая таким талантом, и как достиг такого уровня в своем творческом подполье, неведомо никому.
Да, поэзия, если она есть, существует вопреки и благодаря тому, что ей противостоит… Жаль, конечно, что не всем удается вкусить от ее величия хотя бы глоток самообольщения, но многим поистине замечательным мастерам приходится перебиваться суррогатами горького осознания, что ты и твое достояние никому не понадобились.
К счастью, Анатолию Пискунову повезло. Его творческий дар, скрываемый долгие годы под спудом, не задохнулся: не остался на уровне милого любительства, не выродился в глупую, а то и, чего хуже, агрессивную графоманию. Его открыли (сначала для себя!) люди сведущие, в том числе издатели, и не пожалели сил, чтобы поддержать мало кому известного поэта.
И еще. Необъятный Интернет дал этому имени такой простор для реализации, который снился, быть может, только самым обласканным судьбой стихотворцам бумажного века. Анатолия Пискунова сегодня знают десятки тысяч истинных ценителей поэзии, посещающих социальные сети. И число это растет.
Если же Интернет и в самом деле своеобразный филиал Ноосферы, где Провидение собирает все лучшие духовные достижения земной жизни, то нам, ценителям творчества Анатолия Пискунова, можно с облегчением и надеждой вздохнуть. Наши неведение, безучастие, невольное равнодушие будут прощены, хотя бы как не имеющие теперь никакого значения.
Валерий Митрохин
член Союза писателей России,
Крым
Книга судьбы. Стихи 2013 года
Маятник
Я лучусь, будто весть о победе;
как фанфары на солнце, горю.
Так сияние чищеной меди
возвещает успех и зарю.
А назавтра, в себе разуверясь,
немоту испытаю и страх,
и надежды истлеют, как ересь
на высоких и жадных кострах.
То забьюсь я в угрюмые щели,
то воспряну, победу трубя.
О, несносные эти качели —
от неверия к вере в себя!
Это счастье мне выпало снова,
это лихо лихое сполна —
объезжать непокорное слово,
удалого седлать скакуна.
Беспощадна сомнений отрава.
Но, не видя путей по прямой,
то налево качнется, то вправо
неприкаянный маятник мой.
В ожидании весны
Весна внезапно подступила, и мир опять сошел с ума.
Небесной синью ослепило снега, прохожих и дома.
Пытался мой корявый почерк отобразить молитву
крон,
переполох древесных почек и треволнения ворон.
И ничего не получалось, витали мысли, словно дым.
Натура точно насмехалась над упражнением моим.
Тогда я бросил это дело. Но лишь перо на грунт легло,
оно и трепетное тело, и тягу к небу обрело.
И встало, дрогнув, на крыло.
Зимнее утро
Ночь, охриплая собака, звезды, холод и века,
дочь бессонницы и мрака – среднерусская тоска.
А наутро – тучи в клочья, скрипы дворницких лопат,
речь воронья да сорочья – нарочита, невпопад.
Из подъезда, дверью гулкой салютуя декабрю,
выбираюсь на прогулку и рассвет благодарю
за старательных таджиков, расчищающих Москву.
А еще за что, скажи-ка? – Да за то, что я живу
и донашивать ботинки, и протаптывать могу
первозданные тропинки в ослепительном снегу.
И за то, что, не дождавшись образумленной зари,
словно за ночь настрадавшись, угасают фонари.
Ночные страхи
Переулки глухи, гулки, тени гонятся за мной.
Что за глупые прогулки под недоброю луной?
Эй, спокойно, без истерик, и пугаться не спеши!
Впереди короткий скверик и, похоже, ни души.
Как же, будешь беззаботен, если возится в кустах
и глядит из подворотен распоясавшийся страх.
Все тревоги по дороге, если в окнах ни огня.
Перепуганные ноги отделились от меня,
и шаги все чаше, чаще, и все громче сердца стук…
Только светит шар молчащий, зацепившийся за сук.
Только на рассвете
Говорят, что только на рассвете
смерть и незаметна, и легка.
Широко забрасывает сети
в этот час недобрая рука.
Небосвод под утро пуст и бледен,
как бумаги девственный листок.
На слова беспомощные беден
заревом не тронутый восток.
Лишь на миг забудутся сиделки,
от ночных забот едва дыша,
тут же вдоль обоев и побелки
проскользнет незримая душа.
Не смущая жалобами близких
и пока восток едва белес,
невзначай уходит, по-английски,
под покров надгробий и берез.
… Долго наблюдал я, как светало.
Разливалось утро, как река.
Только что-то вдруг затрепетало
и, как моль, коснулось потолка.
Январь спешит
Январь спешит. Мы им не дорожим, он бесится, он этим
нас изводит,
и вьюгою пугает, и уходит. И зол, и потому неудержим.
Его дыханье чувствую во сне, неслыханно тяжел ледовый
панцирь.
И ветки под окном трещат, как пальцы, ломаясь
в неуступчивой возне.
От царства отрекается январь, не видя в нас почтения и
страха.
Снега на нем как шапка Мономаха. Сияет сквозь метелицу
фонарь.
Гляжу в себя печально я
Гляжу в себя печально я, дыханье затая:
живет во мне песчаная случайная змея.
Не видывал такого я, не чуял и во сне, —
слепая, бестолковая, очковая во мне.
И на свету сознания, и в омуте забот
коварное создание обиды стережет.
Покусывая, мучая, ты душу холоди,
змея моя гремучая, лежащая в груди!
Скажу кому угодно я, прочувствовав нутром:
ты в сказке подколодная, на деле – под ребром.
Тесей
Боги ли шепнули мне: «Беги!», я ль решил, что сделать это
вправе…
Долог путь к известности и славе – коротки к бесславию
шаги.
Уходя, тебя на берегу спящей, беззащитною оставлю.
И хотя еще себя прославлю, оправдаться так и не смогу.
Образ твой сумею сохранить – сгубленной запомню,
неповинной.
Свяжет нас незримой пуповиной та твоя спасительная нить.
Оттого что стихнут голоса или пустота возникнет рядом,
ты очнешься и тревожно взглядом черные догонишь
паруса.
Потрясенно выдохнешь: злодей, раненой волчицею
завоешь.
Быть неблагодарными всего лишь качество врожденное
людей.
Все как есть покажется игрой, выдумкой никчемной и
нескладной.
То, как поступлю я с Ариадной, эллины простят, ведь я
герой.
В ресторанчике приморском
В ресторанчике приморском, на терраске,
где прохладно ближе к вечеру и сыро,
пивом пенным я смывал дневные дрязги,
пыль дорожную и все обиды мира.
Я проматывал открыто, без утайки,
состояние души пивным бокалом.
И глядел, как непоседливые чайки
режут небо по немыслимым лекалам.
Над акациями ветер поднимался
и сгущалось и темнело голубое…
И все лучше, все яснее понимался
ровный говор черноморского прибоя.
У скал и возле трепетной воды
У скал и возле трепетной воды,
на улице, причале и перроне,
в Беляеве, Женеве и Вероне
искал я затаенные следы.
Атланты с экскурсантами глазели на
то, как я, невежа и плебей,
в Москве, Афинах, Вене и Марселе
распугивал вальяжных голубей.
В степи, что нянчит спеющие злаки,
в угрюмых, цепенеющих горах,
осиливая время, лень и страх,
отыскивал я спрятанные знаки.
Нашел. Но никому не говорю,
что выронил находку из перчаток —
души неугасимый отпечаток,
похожий на пропавшую зарю.
Историк
Прошлое, как сено, вороша:
летописи, были, кривотолки, —
суетная мается душа
в поисках мифической иголки.
Умная, пытливая рука,
истины отыскивая крохи,
каменные щупает века,
бронзовые трогает эпохи.
Молью лет изъедены меха,
с надписей слетела позолота.
В ноздри набивается труха,
душат испарения болота.
Но историк, тужась и ворча,
знай полощет камушки в корыте,
и душа трепещет, как свеча,
на ветру сомнений и открытий.
Я два и два сложил
Я два и два сложил, я их связал
и стопку бросил в угол по привычке.
Душа теперь похожа на вокзал,
куда не ходят даже электрички.
Тут залы ожидания в пыли,
а живопись на стенах коридора
причудливей фантазии Дали,
разнузданнее кисти Сальвадора.
Умолкла безалаберная речь,
ушла она с букетами, вещами.
Ни сладкого тепла счастливых встреч,
ни слез тебе, ни трепета прощаний.
Ослеп, оглох и онемел перрон,
и рельсы обленившиеся ржавы.
И сумрачно, как после похорон
судьбы, любви, надежды и державы.
Книга судьбы
В книге судьбы не найти оглавления,
не разобрать ненаписанных строк.
Шумно страницы листает волнение, только никак не найдет эпилог.
То ли с надеждою, то ли с тревогою,
сутки за сутками, лист за листом,
ищет измученно зрение строгое,
чем и когда завершается том.
Все, что начертано, не исполняется, —
ереси планов и лесть ворожбы…
Время подходит и тихо склоняется
над незаконченной книгой судьбы.
Свет вечерний. Стихи 2008–2012 годов
Снегопад
Срывался – и переставал, но это не каприз.
Не плутовал, не бастовал: набрасывал эскиз.
Он был как будто не готов к искусству января.
Тянулся нехотя на зов слепого фонаря.
Лениво поверху скользил. И все-таки к утру
созрел – и миф изобразил резьбой по серебру.
Березы в ряд, узор оград, газоны вдоль дорог.
И город стал, как на парад, величествен и строг.
А снег бестрепетно глядел на почести ему.
Как будто разом охладел к успеху своему.
Поэзия
Январь с его недобрыми богами оконная оплакивала
створка.
Пока богему нежили Багамы, поэты прозябали
на задворках.
Не надписи на банковском билете, не ласки куршавельских
содержанок, —
поэтов порождает лихолетье и приступы обиды
за державу.
Поэзия Сибирью прирастает и Старым укрепляется
Осколом.
На холоде тягучая, густая, не колой запивается – рассолом.
Поэзия продукция изгнаний, напитков алкогольных и
солений…
Собою пересчитываю грани, углы тугие с иглами
Вселенной.
Свистят пурги распущенные плети,
звенят мороза бронзовые розги.
Заходятся немеряно в поэте заплаканные дети и подростки.
На небосводе строки многоточий. Уставилась галактика
недобро.
Душа моя стихами кровоточит, и ноют
переломанные ребра.
Трещит зима в березовых суставах. Крещенская карга
царит на свете.
Поэт озяб? Его согреет слава. Лавровым одеялом.
После смерти.
Свет вечерний
Свет вечерний мягко льется безо всякого труда,
словно сонного колодца невесомая вода.
Есть часы такие в сутках: видно все издалека.
Снег поскрипывает чутко под нажимом каблука.
Гаснет зарево заката. Не светло и не темно.
– Было так уже когда-то? – Верно, было. Но давно.
Короба пятиэтажек. Так же сыпался снежок.
И девичий точно так же торопился сапожок.
Я такими вечерами с восходящею луной
шлялся, юный, кучерявый, и влюблялся в шар земной.
Но теперь-то – год от году – затруднительней идти.
Не дает прибавить ходу сердце, сдавшее в пути.
Только свет маняще льется сквозь года и холода,
как былинного колодца животворная вода.
Перед весной
Хватит нам о пасмурном, о грустном. От окна повеяло
свежо.
То ли тополек суставом хрустнул, то ли хрупнул
утренний снежок.
Затаился март уже вблизи, но чертит зиму чуткое перо:
скользкую дорогу к магазину и каток ледовый до метро.
Праведно и тихо, словно в храме. Клен мольбу возносит
к небесам.
Вот и весь пейзаж в оконной раме. Остальное выдумаешь
сам.
Отец
Где же, где, в какой такой стране
дом ночной похож на теплый кокон?
Дальний свет скользнул по стеклам окон —
и поплыли тени по стене.
Сколько лет летела световых
трепетная весть от фар заблудших?
Тьма звезду преобразует в лучик,
тонкий луч надежды для живых.
Кто этот задумчивый юнец?
Чьи черты сквозь годы проступили,
через родовые кольца пыли?
Я ли это? Дед ли мой? Отец!..
Ностальгия
Смеркается рано, и комнаты в сумраке тонут.
И дремлется дому, волною накрытому сонной.
Вот я на кургане, что плугом еще не затронут.
По степи несомый, от облака след невесомый.
Желанье простое: еще постоять наверху бы —
детали любые, подробности лета замечу.
Пусть маки раскроют по-девичьи влажные губы
тому, что забыли, – горячему ветру навстречу.
О, сон, эта небыль, где мы начинаемся сами,
где родины небо не может не быть небесами,
где детские руки ласкают лукавые маки.
Где тело гадюки мгновенно готово к атаке.
Лежебока
Лежу себе я на диванчике, не замечаю с этой точки,
что день рассыпал одуванчики, взорвал березовые почки.
Я пребываю в неизвестности в своей прокуренной каморке
о том, что солнце в нашей местности насквозь прожарило
пригорки.
Прошита стрелами калеными, зима кончается в овраге.
И, торжествуя, липы с кленами салатные взметнули флаги.
А я по-прежнему в затворниках и не пойму в своих пенатах,
откуда столько рвенья в дворниках и страсти в голосе
пернатых.
Сад
В ночи пахнёт угаданно давнишним, и память поведет
упрямо вспять.
О, было время яблоням и вишням объятья лепестками
осыпать!
И сладко так, и славно так дышалось в охваченном
восторгами саду.
Не зря порой охватывает жалость: ни сада, ни себя в нем
не найду.
Что ж, так вот и состарюсь я, жалея о том, что не вернуть
весну мне ту,
когда качнулись ветки, тяжелея в сияющем, как облако,
цвету?
И лишь во сне, в беспамятстве, в ночи
цветут сады Курмана-Кемельчи [1] .
Кораблик
Проснись этим утром воскресным, излюбленным
у детворы,
и делом займись интересным, занятней азартной игры.
Возьми стапеля табуретки в прокуренной кухне моей.
Построй катерок из газетки, грозу записную морей.
Беги за пределы квартиры к аллее, где лужи свежи.
Брутально, как все командиры, швартовы отдать прикажи.
Пускай неустанно несется по воле раскованных вод,
купается в заводи солнца безмачтовый твой пароход.
Бесхитростный детский кораблик, неужто ты все еще цел?
Истории грозные грабли не взяли тебя на прицел?
Все глубже вода, холоднее. Газетная сникла труба.
И ветры гуляют над нею, и строгая смотрит судьба.
Но славен поход каботажный. Матросы чисты и честны.
И тонет кораблик бумажный в искрящейся бездне весны.
Земля моя
Земля моя, не признанная раем,
за грядками лежала, за сараем.
К известным не причислена красотам,
оперена непуганым осотом.
И все-таки она была в порядке.
Ветра в бурьяне затевали прятки.
Трава казалась пятками примятой.
Пропахла солнцем, вечностью и мятой.
Воробышек
Воробышек ворочается в луже,
взъерошенный и никому не нужный.
Забыв, что бытие угрюмо, бренно,
барахтается в ней самозабвенно.
К чему ему, негоднику, догадки
об острых коготках или рогатке.
Малы и клюв, и помыслы, но ишь как
стучит миниатюрное сердчишко!
Пернатый забияка и кутила,
он, огненною лужицей дразним,
расталкивает сонное светило
и силой детской меряется с ним.
Крымский дворик
Во дворе земли клочок, не угодья – цветничок.
За подобием оградки влаги жаждущие грядки,
детский мячик и волчок.
Это что за следопыт ходит по двору, пыхтит?
Под стрехой гнездо касатки. Молочай попался сладкий.
Вечер окна золотит.
От крылечка до калитки влажный, липкий след улитки.
Материнские улыбки затеваются в окне…
Неужели это мне?
Ковчег
Небо роняет зарницы в осклизлую кадку.
Звяканье капель как цокот ночной каблука.
Время течет, подмывая замшелую кладку,
струи свиваются в месяцы, годы, века.
Вечность шуршит по кустам, неудобьям и тропам,
нас обступает, как ливень, белесой стеной.
Пахнет историей, сыростью, мхами, потопом,
и набирает команду насупленный Ной.
Он из себя-то спасителя, знаю, не корчит
и не потребует почестей, званий, наград.
На> борт ковчега безвестный поднимется кормчий —
тот, что в бессмертье сойдет на горе Арарат.
Вот такое кино
Вот такое кино: я давно уж москвич москвичом.
И созвездий рядно над моим не пылится плечом.
Осиянно везде. Словно черпали свет решетом.
Только места звезде нету в небе моем обжитом.
Я живу втихаря и не зря ото всех утаив
канитель фонаря и ночной Каламитский залив.
Полуночницы смех. И напрягшихся звезд имена.
И дорожку – из тех, что, вздыхая, стелила луна.
Потому я и жив, что в себе я храню до сих пор
и прибоя мотив, и плывущий по небу собор.
Маету маяка. И его будоражащий свет.
Через годы, века. Через тысячу прожитых лет.
Дом
Поразвеяло нас по большим городам.
Опустели давно родовые дворы.
Но влеченье туда, к облакам и прудам,
объявляется все же с недавней поры.
Как я ждал, как свидание то предвкушал,
как себя за разлуку привык я корить…
Этот сад оскудел, этот дом обветшал,
покосился забор – и ворот не открыть.
Нет ни матери тут, ни родного отца.
Паутина в окне, в огороде осот.
И никто никого не окликнет с крыльца,
и заветную почту никто не несет.
Эти двери ничьих не дождутся внучат.
В одичалом саду топоры застучат.
Соловьи замолчат, ощущая нутром:
отчужденный, надменный возвысится дом.
В потемках
Долетело, дошло сказанье, дотянулось из уст в уста.
Породило его касанье перекличку воды, куста.
И по легкой его походке, по движению облаков
мне почудилось: одногодки – я и чуткая тьма веков.
Я себе показался вечным, как река, и луна, и рожь.
И Путем пробежала Млечным вековая степная дрожь.
То ли птица страдала где-то, понарошку или скорбя.
То ль поскрипывала планета, обращаясь вокруг себя.
Время любви
Выпадет каждому время негромких речей,
ладно журчат они, словно тихоня ручей.
Так вот воркуют безумные голуби между собой
или толкует о чем-то песчаному пляжу прибой.
Мягкое ластится слово, как беличий мех,
медленными поцелуями давится смех.
Это мгновение вдоха и страсти становится вдруг
целой эпохой коротких свиданий и долгих разлук.
Эрой-изгоем с клюкой и холщовой сумой.
И ледниковой окрестностью жизни самой.
Весенний дождь
Весенний дождь не морок вам осенний, тоску и скуку
сеющий с утра.
Ликует май – счастливая пора коротких гроз и сладких
потрясений.
Насупит брови небо грозовое – ни ночи в нем не выискать,
ни дня.
Но вдруг живое все и неживое, зажмурившись, отпрянет
от огня.
И тут с небес обрушится, непрошен, потоп, – не укротит его
никто.
Просыплется немеряно горошин сквозь частое, густое
решето.
Еще веселый плут по луже лупит и лопаются шумно
пузыри,
но гром уймется, нехотя отступит и запад распахнется для
зари.
И зрением, и слухом, и нутром улавливаю вечности
движенье.
Весна ведет огонь на пораженье, и вздрагивает эхо
под ребром.
Сирень цветет
Весны и лунной одури слияние. Как будто кровь отхлынет
от лица,
сойдет с небес лиловое сияние на ветки, наши веки и
сердца.
Не легок на подъем теперь, с годами я
(налог на прегрешения таков).
Но вновь затеет май свои гадания сиреневою массой
лепестков.
Не все приметы верные сбываются: ромашки лгут и
тешится таро.
Но куст зацвел – дыхание сбивается, проснулся бес
и просится в ребро.
Парад
Гремит оркестр, и май проходит маршем, как эти кучевые
облака.
Мы щуримся, ему вдогонку машем, пока приподнимается
рука.
Небрит, обрюзг, одет не по погоде, стою на возвышенье
в аккурат.
И кажется: то жизнь моя проходит – ни денег, ни бряцания
наград.
Беснуется лохматый барабанщик, ударник музыкального
труда.
И движется соцветие рубашек: парадный шаг печатают
года.
Звездочеты
Мицар мерцал, и маячил Алголь. Трое лакали впотьмах
алкоголь.
В сучьях антенн изнывала Венера. Встала Луна, поиграла
на нервах
и за ближайшую тучку зашла: видно, смутилась.
Такие дела.
Темные речи вели тополя. За день устав, отдыхала земля.
Трое сидели на детской площадке – там, где качели
скрипучие шатки.
Словно сквозь мутное вея стекло, звездное небо над ними
текло.
Двор отошел, опустел до утра. Лишь у троих
ни кола ни двора.
Время лихое вертелось лисою, втюхало водку с дурной
колбасою.
…Только и дел им, что Вегу стеречь, пить и вникать
в тополиную речь.
Я не знаю
Я не знаю, на каком ты языке думаешь, читаешь, говоришь.
Соки пьешь, вино испанское, саке. Едешь в Кострому или
Париж.
Над тобою нависают небеса. От безумия спасают чудеса.
Солнце изо всех стволов палит, и земля тебе вослед пылит.
Я не ведаю, кто враг, а кто кумир, покоряешь Пляс Пигаль
или Памир,
только точно знаю: над тобой неба зонт открылся голубой.
Летний зной идет по городу в гурьбе, в легкие одежды
облачась.
Кто-то влажный сохнет по тебе. Но об этом не сегодня.
Не сейчас.
Лучше мы о том, что день стоит, как настой горячих трав и
облаков.
А еще – что жизнь как раз и состоит из таких вот
разных пустяков.
Пикник
Скакать, как мальчишка, по лугу лететь босиком,
пиная мячишко и пульс ощущая виском.
Бежать, задыхаясь, и небу нести эту весть —
о том, что уха есть и нам ее дымную есть.
Босыми ногами траву молодую ласкать.
И в шуме и гаме кукушку-считалку искать.
И знать, зарекаясь от СПИДа, тюрьмы и сумы,
о том, что река есть и, каюсь, что есть еще мы.
Что в мире наживы бесплатно текут облака.
И мы еще живы, пока не унять поплавка.
Велосипед
По пыльной ли тропе, густой траве ли,
на славу дребезжа, катился велик.
Была чрезмерно узкою тропа ли,
в пыли тугие шины ль утопали, —
бежал велосипед неторопливо
и выглядел до чертиков счастливо.
Педали те прокручивались гордо.
Горланилось во все ребячье горло.
Пружинили слова до небосвода.
Стояла превосходная погода.
Лето
Повеяло июнем – и качнулся, слегка тряхнул короной
василек.
И я прозрел, а может быть, очнулся, как чуткий
встрепенулся мотылек.
И видно стало тут как на ладони, да так, что закружилась
голова.
И небо все синее, все бездонней, и солнцем избалована
трава,
и пух белесый вдоль обочин стелется, и немо проплывают
облака.
И счастья перламутровое тельце слетает с долговязого
цветка.
День июньский
Взгляду – высь, дорогу – каблукам, день июньский светел и
лукав.
Птица потянулась к облакам, каплю посадила на рукав.
Господи, какие тут дела – побоку возню и ремесло.
Время закусило удила, бешено куда-то понесло.
Толку что ли горе горевать, лаптем щи хлебать из лебеды?
Скоро абрикосы воровать, обносить вишневые сады.
Будет память бережно хранить, будто ей вручили на века,
мотылька, и трепетную нить, и скольженье крохи-паука.
Букет
Букет особенный найду, где розы хороши.
Отдам торговке на ходу последние гроши
И те цветы преподнеся, слова произнесу.
В них будет правда, но не вся, которую несу.
Она останется во мне – таиться и терзать.
И ни всерьез и ни во сне об этом не сказать.
Я не отвечу на вопрос один и на двоих…
Но разве трепет этих роз нежнее губ твоих?
Тебе открыться не смогу, не жди, не хмурь бровей.
И лишь навеки сберегу я в памяти своей —
не для расспросов и анкет и красного словца —
разлукой пахнущий букет у твоего лица.
В ред. 2011
Жажда
По неудобьям и на зное дорога долгая легла.
Чужое пекло, наносное, из африканского угла.
Жарище нет конца и края, земля тверда – не угрызем.
И с нами вместе умирая, дождями бредит бурозем.
Бежать. Идти. Потом ползти. Терять сознание от жажды.
И не упасть в конце пути. Такое выдержит не каждый.
Губами к лужице припасть, изображающей копытце,
и всласть, и досыта напиться, перемениться и пропасть.
Яблоко
Укатанная, легкая дорожка
в безоблачную метит синеву.
Как будто подустала плодоножка —
и плод безвольно валится в траву.
Я падалицу трогаю ногою.
А в небе, в недоступной вышине,
красуется румяное, нагое,
увы, не предназначенное мне.
Мы так живем: судьбу кляня, эпоху,
к родному прикипая уголку,
вынашивая замыслы, что кроху,
выхаживая хворых, как строку.
Не ценится что запросто дается,
не требуя расходов и забот.
А счастье это то, что остается
за вычетом несчастий и невзгод.
Казнь
Почаще джин, пореже тоник. Да, так вот и случилось это
грехопадение во вторник. А тут – недобрая примета:
в четверг шел дождик. Он и в среду катился крупными
слезами.
Приговорен был я к расстрелу твоими строгими
глазами.
Гремели яростно кастрюли. Стыдливо рдело ушко загса.
И я поерзывал на стуле (он электрическим казался).
Хрустели жадно вилки-ложки, побито всхлипывали плошки.
Я был развенчан и повержен и в полдень должен быть
повешен.
Инопланетные тарелки садились в мойку с ускореньем.
Я тосковал о сигаретке, хоть и завязано с куреньем.
Но вот посуда сократила витки полетного вращенья.
Я не заслуживал прощенья. Но ты вздохнула. И простила.
Таврия
О, как тени коротки́ лесопосадки! Абрикосы зелены,
тверды, несладки.
Задыхаются акации на зное. Лень тут местная, иное
завозное.
Мы рискуем головами и плечами. Все прострелено
горячими лучами.
По-лягушечьи (икру как будто мечем) рты разинем,
а дышать как раз и нечем.
Видно, долго в отдалении росли мы. Попригнулись,
будто сгорбились, маслины.
Только тени тополей, когда-то тощих, на дорогу налегли
заметно толще.
Как нам это от рождения знакомо: пыль степная
и пожухлая солома,
зноя веянье! От первого мгновенья и до финишного вздоха,
дуновенья…
Одиссей
– Не со щитом, так на щите вернусь, – я смолоду вещал.
И вот я здесь, как обещал. Хромой, слепой и в нищете.
Ну, что ж, едва мы за порог, навстречу – беды и грехи.
Да, каждый в юности Ахилл, но пятку вряд ли кто берег.
Окопы долгие кляня (себя и клятвы заодно),
дурной войны цедил вино, дарил троянского коня.
Мы Трою взяли, мы смогли, она в руинах и в пыли.
А где шатался я с тех пор? О, это долгий разговор…
Не на щите, но со щитом – живой я все-таки, прости.
А что там было по пути, о том когда-нибудь потом.
Перевоз
Под облаком, что дымчатым пером располагается
на небосводе,
неспешно продвигается паром, открытый разгулявшейся
погоде.
Вечерние негромки голоса. Вода не терпит суеты и скуки.
Прибрежная все ближе полоса. Волна плевки качает
и окурки.
А вот и луг на сонном берегу. Он к небу поднимается
полого,
и грунтовая пыльная дорога, как заяц, там петляет на бегу.
И все, что неожиданно сошлось
в одной никем не выдуманной точке,
огнем заката долгим обожглось и тихо застывает
в этой строчке.
Жизнь
Текла. То яростно лилась и в клочья скоростью рвалась.
То неторопко изливалась – ползла, как будто издевалась.
То залегала непрозрачно среди осинок и низин.
И вырывалось аммиачно дыханье тяжкое трясин.
То стекла рушила со звоном. И поддавала под ребро.
Сквозило смехом и озоном ее счастливое нутро.
Ах, эта жизнь, ее поток и то неровное теченье!
Заботы, беды, увлеченья – такой мучительный восторг…
Голубь
На балконе под нами курит забулдыга или балбес.
Тихий голубь в окне воркует, будто мало ему небес.
Детской мало ему площадки, свалки, всяких иных углов,
ограждения или брусчатки, в меди выполненных голов.
Где прошла для него граница и запрет для него каков?
Почему-то он сторонится горделивых особняков.
Не в чести у него Рублевка – дом панельный как дом
родной.
Оседлал подоконник ловко и воркует как заводной.
Я прошу, коль беда случится, почивальни последней близ
обживись, голубая птица, обихаживай обелиск!
Валаам
Угрюмый остров Валаам стегнул колокола.
Тоска с лазурью пополам над явью потекла.
Над отчужденностью камней, над соснами, травой,
мускулатурою корней, моею головой.
Густая, медленная медь сумела втолковать
о том, что вечна только смерть, которой наплевать
на всякий тут житейский сор и мелкие дела.
Что есть лишь Ладога. Простор. Покой. Колокола.
В пути
Ни счастья ни горя, ни сраму ни славы…
Года убывают во мглу, как составы,
грохочут на стыках оглохшие дни,
за ними вечерние слепнут огни.
Пространство и время склоняют к смиренью.
Но стоит повеять лукавой сиренью, —
кусты и как будто пустые дома
луна восходящая сводит с ума.
Сияние сонное в щели сочится.
Ничто не случилось и вряд ли случится.
Лишь сердце выскальзывает из оков
навстречу теченью ночных облаков.
Бессонная вечность устало струится.
И хочется жить и к чему-то стремиться,
коль тянутся к небу и тополь, и клен
и лунной пыльцою весь мир опылен.
Грустит на перроне помятая слава,
Бросается марш под колеса состава,
и стык ощущает безудержный ход:
еще… И еще… И еще один год.
Душа и тело
Решит затюканное тело не знать, не видеть ни шиша.
Скажи, ты этого хотела, иезуитская душа?
Оно, блаженное, знавало угар сиреневых ветвей,
пьянящий запах сеновала и благовоние церквей.
Гнусавил дух неугомонный о муке вечной за грехи.
А непокорные гормоны гоняли плоть, как пастухи.
В тоске ли, радости, обиде ль, я жил, волнуясь и греша…
Свою повинную обитель прости, надменная душа!
На галерах
Созвучия в речах ищу повсюду – в молве друзей и ругани
врагов.
Невольник я, закованный в посуду, плывущую в моря без
берегов.
Галерник я, спина блестит от пота, мозолями фиксирую
весло.
Поэзия не праздник, но работа, соленое от пота ремесло.
В стихах важны сочувствие и мера. И точность,
и раскованность нужны.
Я каторжник, и движется галера,
поскольку группы мышц напряжены.
Да, где б я ни был, – в Ялте и Казани, – в пустой истоме
и в пылу хлопот,
поэзия, ты служба наказаний, прораб угрюмый
каторжных работ.
Не ведаю ни отдыха, ни сна я. И знаю: как приспичит
умирать,
со мной полягут книжка записная и школьная,
что в клеточку, тетрадь.
На курорт
Еще раз дернулся состав – и встал на место, как сустав.
И все задвигалось в вагоне (я
гляжу, всегда в конце агония.
Подвох для каждой из эпох – толчок, тупик, переполох).
Вагона прибывшее тело парализованно глядело
на конкуренции оскал. Колебля мышцу и вокал,
орава билась оголтело: менял, таксистов, зазывал.
И площадь встречная галдела, набрасываясь на вокзал.
А к побережью полным ходом трамвай катился по прямой.
Тянуло водорослью, йодом, раскрепостившимся народом,
гальюном, трюмом и кормой. Хотелось, кажется, домой.
Сердцу прикажу остановиться
Сердцу прикажу остановиться, или так само решит оно.
В общем, как веревочке не виться, от судьбы уйти
не суждено.
И к делам великим, и к делишкам бог небытия неумолим.
Жаль, пичуга жмотничает слишком – та, что счет
годам ведет моим.
Впрочем, не волнуйся и не сетуй. Лучше эти краткие часы проведи за дружеской беседой и куском одесской колбасы.
Посидим по-нашему, по-русски, под отпотевающий стакан.
Из-за крыш вознесся месяц узкий и кривой, как ханский
ятаган.
Бабье лето теплится над Крымом. Смотрит во Вселенную
окно.
Меркнет мир, затянут будто дымом или погружается
на дно.
Ночью
Высокий шалый гром без церемоний
врывается и шарит по углам.
Ломаются сухие ветки молний
и падают охапками к ногам.
Над улицей, двором и чьей-то грядкой
нальется зорким светом высота.
Полнеба озаряется догадкой,
к чему земная наша маета,
кому нужны и трепет, и отвага —
те хлопоты, которые пусты.
И хлынет очистительная влага,
врачуя крыши, окна и кусты.
Со вздохами, ворчанием и звоном
уйдет гроза, успев перемешать
елей сирени с елочным озоном…
Дыши, пока дозволено дышать!
Июль на юге
Безумное солнце траву прошивало
и кожу, где прежде змея проживала.
Сквозь низкий кизил и высокий осот
на землю сквозили рентген восемьсот.
Пощады не ждали (тут все-таки юг!)
линялые дали вина и гадюк.
И ржавы суставы в иссохшихся травах,
и тени дырявы акаций корявых.
И где бы я ни был, томилось высоко
горючее небо седого Востока.
Июль перевеивал кудри мои.
Потерянно
реяла
кожа змеи.
Крым
Боги балуют вершинами скупо, разве что кочек не счесть.
Крым это Крым. Безусловно, не купол мира, но кое-что
есть.
Властвует, скажем, над Ялтой Ай-Петри, как ретроградный
режим.
Уровень моря под ним в километре с гаком, довольно
большим.
Сколько на свете бесцельных преград, но
с ними не каждый на ты.
Я там бывал, не поймите превратно, даже плевал с высоты.
В воду опущена пасть Аю-дага, хлещет соленый восход.
А на горбу перевозит, бедняга, сосны, как тягловый скот.
Бухта лазурная в солнечных бликах, сумрачных глыб
кавардак,
в галечной россыпи сыпь сердолика, – это и есть Карадаг.
Примет меня, коль придется несладко, славная та сторона.
Вон Чатырдага тугая палатка в зыбкой лазури видна.
Ширь ледяная совсем не мила им, этому складу высот.
Ясно, они не под стать Гималаям, но на легенды везет.
Ты утюгами хребтов не придавлен. Как эта даль хороша!
Соткана вся из былин и преданий горного Крыма душа.
Облако
Облако белесо и кудлато. Сонное спокойствие храня,
тянется из августа куда-то, где пока тебя нет и меня.
Блещет над лощиной, по которой ползаем, идем или
бежим.
И над башней, пашней и конторой легкий ход его
неудержим.
Вот оно пока еще в зените – ненадолго, судя по всему.
Тужатся невидимые нити, не дают покоиться ему.
Я гляжу до головокруженья в гулкую, как церковь, пустоту
и на безустанное скольженье – к вечности, за синюю черту.
Свобода
Нам с тобой в диковину счета за курорты, яхты, снегоходы.
Кто там уверял, что нищета дарит ощущение свободы?
Дикий Диоген? Или Сократ? Их собрат, царапавший
пергамент?
Умники болтали, что с деньгами хуже, чем без бабок,
во сто крат.
В юности мы млеем у костра, к старости проходит это
вроде.
Хоть монета явно не сестра, все ж родня какая-то свободе.
Пусть я не разут и не раздет, но, как нитки бус, висят
заботы.
И не мне заморский президент жалует щедроты
от банкноты.
Со своей растерзанной страной я делю все беды и
невзгоды,
чувствуя затылком и спиной стылое дыхание свободы.
На песке
Еще лукаво стелется прибой, и волны обходительны,
не грубы.
Еще не зацелованы тобой мечтательные, трепетные губы.
Подруга поправляет волосок, спадающий из челки
то и дело,
и смахивает солнечный песок с оплавленного девичьего
тела.
Пока что не невеста, не жена. Ты все еще любуешься
украдкой,
как ладно сложена и как она колдует над кокетливою
прядкой.
Не знаешь ты, что ждет вас впереди, в пути держаться
порознь или вместе.
Но пусть исход событий не известен – как сладко что-то
мается в груди!
Луна изливает античную скуку
Луна изливает античную скуку. Гляжу и никак не пойму,
какую же скорость придали окурку, несущему искры
во тьму.
Небесную ткань прокололо светило соседнего дома левей.
И что за гуляке ума не хватило не петь, коль запел соловей.
Стою на балконе, держась за перила, поскольку
нетвердо стою.
Мне птаха пернатую душу открыла, охотясь на душу твою.
Я этих рулад и не слыхивал сроду, слезу высекают они.
Беззвучно плывут по высокому своду миров бортовые огни.
Речка
Путь порой отыскивают ноги. Вот и речку сыщешь
без труда:
словно перья веера, туда сходятся избитые дороги.
Время мы, увы, не бережем, и граница водная все ближе.
Слышно, как волна лениво лижет берег, обнесенный
камышом.
Запад в остывающем огне, синь загустевает на востоке.
Что-то нервно ерзает в осоке, чуждое, не видимое мне.
Вечна та борьба или возня, ровен ход воды неторопливой.
Но в тени под горбящейся ивой лодка дожидается меня.
Ведая, что я не убегу, перевозчик сумрачный не ропщет.
А заря высматривает рощи на другом, отлогом берегу.
Спальный район
Спальный рай, московская окраина.
Дождик об унынии заботится.
Молодость, которая украдена,
пахнет наркотой и безработицей.
Девоньки с вульгарными сережками.
Парни возле тачек раскуроченных.
Жизнь кривыми движется дорожками
вдоль ножей и рашпилей заточенных.
На задворках пьяных и обкуренных
под угрюмым небом и березками
вымахнут Кропоткины, бакунины
с крашеными Софьями перовскими.
Вылетят на байках наши ангелы,
под нулевку стриженные, наголо.
Головой покачивая бритою,
миру поддадут бейсбольной битою.
Край ты мой, задешево распроданный
слугами народа и купечеством,
был уже и мачехой, и родиной.
Станешь ли еще кому Отечеством?
Ретро
И прошлое с нами, и сами мы зыбкое ретро.
Летит над лесами Нагорная проповедь ветра,
во флоре плешивой едва различим шепоток.
Мы ветхи, но живы. А что еще нужно, браток!
Пускай мы дождями, туманами сыты по горло.
Но только с годами желанна любая погода.
И запад померкнет, и снова займется восток,
и землю повергнет в осиновый трепет виток.
Сквозит нешутейно, и вот развиднело под вечер.
Березки желтеют – горят поминальные свечи.
Прощаемся с летом, и год закусил удила.
Но я не об этом? Об этом! Такие дела…
Линька
Она страдала. Тягостно зудела ее, увы, ветшающая кожа.
Змея старухой не была, но все же обновки тупо требовало
тело.
Порой гляжу я не без удивленья на собственные
выцветшие строки.
У каждой мысли, рифмы, выраженья свои, как видно,
жизненные сроки.
Как той змее, что свежих одеяний столь часто доводилось
добиваться,
душе моей, лежащей на диване, хотелось возрождения,
новаций.
Я думаю, а может, все же зря я терзания рептилии озвучил?
Она текла, колючки одаряя лохмотьями судьбы своей
ползучей.
Вот так и я. Взметнется сквозняками стихов забытых
вяленая строчка —
и словно неприкаянно на камне души блеснет
пустая оболочка.
Змея теряла прежнюю оправу, страстей смертельных шину
слюдяную.
А я? Не отскоблю ни седину я, ни добрую и ни худую славу.
Нервы
Закусила удила… Плохи были бы дела?!
Но потом поладила. Прилегла, погладила.
Вслушивалась, тихая, что тут, за гардиной, —
сердце, что ли, тикает за моей грудиной?
…Штора тонкая светилась. Ты как будто поняла.
Полежала, подхватилась и цветочки полила.
Змея
Опять линяю. Сбрасываю кожу —
обновка глянцевитая под ней.
От этих перемен я, подытожу,
не стану ни добрее, ни подлей.
Не важно, что за прелести наряда.
Но главное, наверно, каково
количество накопленного яда
и качество смертельное его.
Штормит
Пасутся слепые барашки
на поле глубокой тоски.
Как будто гадальной ромашки
по ветру летят лепестки.
Наверное, так вот и пращур,
откинув на время топор,
в восторге глядел на кипящий
и солью слепящий простор.
И так же, возможно, захочет
потомок мой через года
взглянуть, как над бездной клокочет
и дышит бедою вода.
Шахидка
Толпа московская пестра. И в ней без трепета и страха
идет чеченская сестра – вдова джигита, дочь Аллаха.
Строга душа, темна накидка. Но взгляд, как лезвие, блестит.
Упрямо движется шахидка, несет невидимый пластит.
Они придумали хитро’: за мужа месть, мол, неподсудна.
И, мол, у станции метро всегда бывает многолюдно.
Разлад велик, а век жесток, расчеты кровью за обиды.
Угрюмо странствуют шахиды. Что ж, дело тонкое, восток…
Она все это совершит, но посомневается слегка.
В конце концов, за беззащитных Аллах простит. Наверняка.
На Стиксе
Из тела душу вынув, отвели бесплотную ее на край земли.
На Стиксе как на Стиксе: камыши, пустырь и переправа для
души.
Пустая плоскодонка на реке, и берег золотится вдалеке.
Старик угрюмый, в рубище. Харон? Какая встреча после
похорон!
Ты, лодочник, увы, взимать мастак
обол, античный вроде бы пятак.
Не нужно провожатого. Я сам разведаю дорогу к небесам.
Но если суждено торчать в аду, тропу туда тем более найду.
Опять ни облачка на небе
Опять ни облачка на небе, в душе ни горести, ни зла.
Заказан осенью молебен во славу света и тепла.
Мотив, известно, незатейлив.
Но звуки женственно добры.
Осин с березами запели многоголосые хоры.
Какие солнечные числа для песен осень отвела!
Звучат возвышенно и чисто лучистых дней колокола.
Всего отпущено по смете: и медь, и золото в листве.
И думать не к чему о смерти, когда ни тучки в синеве.
Дождик ленивый
Дождик ленивый в окошко накрапывал.
Я в чебуречной талант свой закапывал.
Или откапывал? Кто его знает…
Важно, что был я действительно занят.
Пальцем водил по дубовой столешнице.
Хохломолдавской подмигивал грешнице.
Обалдевал от свинины без жира —
той, что, возможно, собакой служила.
Пьяный, обкуренный бог помещения,
точка московская, повар кавказский,
вот уж спасибо вам за угощение
мертвой водицей, добытою в сказке.
Уксусно прыскали в нёбо соления.
Прыгали стулья: летела Вселенная.
Грязное небо в воде пресмыкалось.
Плавали в небе окурки. Смеркалось.
Пегас
Недолго запад был в огне. Закат помедлил и погас.
Ты жеребца подвел ко мне: «Знакомься, – вымолвил, —
Пегас!»
Но я не поднял даже глаз: мол, эти скачки не для нас,
а электричество и газ милей дороги на Парнас.
Седлай кудлатого коня, скачи в изорванную ночь.
А мне тревожиться невмочь. Оставь, пожалуйста, меня.
Я стар, я вымотан и слаб, суставы скованы сольцой.
Не иноходца мне – осла б! И не галопом, а трусцой.
Тягуч осенний сон земли, и дождь окно мое кропит.
Но я не сплю, пока вдали несется цоканье копыт.
Донузлав
Время беспутно, и спутаны карты. В памяти озера
поступь эскадры.
Блекнет, как лица на выцветшем фото, слава былая
бывалого флота.
Видят во снах океанские мили старые, ржавые, рыжие
цепи —
те, на которые флот посадили, чтоб охранял одичалые
степи.
Склянки не звякнут, сирены не рыкнут. Картой крапленою
лоция бита.
Цепи на солнце потерянно дрыхнут. База военная богом
забыта.
К Черному морю махнем дикарями. Клево в обнимку
лежать с якорями.
Солоновата слеза Донузлава. Слава эскадре!
Посмертная слава.
С возрастом
С возрастом уместнее икона, оберег, иной счастливый знак…
В оторопи утреннего клена чуткий зарождается сквозняк.
Ввысь он поднимается, срывает алого рассвета паруса.
Жаль, чудес на свете не бывает, но извечна вера в чудеса.
Душу тронет легкая досада, как порыв незримый ветерка.
Дрогнут белый свет и тени сада, и скользнут немые облака.
У костра
Всякий напрасный вздор сонно несет река.
Сладко хрустит костер косточкой сушняка.
Дрема глухой страны. Звезд надо мной не счесть!
Вызнать бы у луны, где я и кто я есть.
В темени далеко фара скользит лучом.
Думается легко. Вроде бы ни о чем.
Хрустальное утро
Утро сквозило кристальное.
Лужи трещали хрустальные.
Лес, до последнего листика,
в жесть переплавила мистика.
Так и забудутся летние —
травное великолепие
и безупречная пластика
в мелкой воде
головастика.
Венера
Дождь за окнами. Прохлада. Под охраной, в тишине
спит античная Эллада, улыбается во сне.
В зал войду, еще не зная, что пойму я наконец:
это вечности связная, это гения гонец
И растроганное зренье затуманится слегка,
лишь известное творенье вынырнет издалека.
Изменяются манеры и ваянья, и письма.
И прообразы Венеры обновляются весьма.
Паву высечет земную чья-то юная рука.
Только сердце ждет иную, пережившую века.
И понятнее, чем прежде, и заметней станет вдруг:
это памятник надежде без одежды и без рук.
Нет, она прошу прощенья, никакой не идеал.
Это веры воплощенье в неживой материал.
Славься, каторга исканий, вся в мозолях и в крови, —
та, что высекла из камня искру вечную любви!
Кто это выдумал
В. Митрохину
Кто это выдумал? Осени долгой свечение
все еще теплится в рощицах и между строк.
Облака белого неуловимо влечение.
Неба вечернего тихий, неясный восторг.
Золотом соткано знамя над всеми высотками.
Воздух такой, что не выдохнуть имя без слез.
Кто этот ловкий, кто вырезал озеро с лодками,
сладил сусальный багет из осин и берез?
Кем это создано и на мгновение созвано —
к сонному берегу вечности, кромке веков?
Тянутся тени к востоку легко, неосознанно,
и продолжается в кронах возня сквозняков.
Осенняя ночь
Ночь ходила смутная, глухая, для грехов удобная вполне.
Ударялась, чем-то громыхая. Колыхала космы по стене.
Дерево продрогшее стучалось то и дело в стылое окно.
Только почему-то не случалось то, чему случиться суждено.
Все лететь, наверно, не хотели, прятались, ленивые, вдали
легкие посланники метели – белые мохнатые шмели.
На пляже
Я начертал на зорьке письмена у берега морского на виске,
заветные вписал я имена мысками туфель на сыром песке.
Но солнце поднатужилось едва – и высох, и просыпался
песок.
Волна любовно гладила слова, за слогом перевеивая слог.
Пылает юг, и плавится восток, и запад распаляется в ответ.
И всем не до меня и не до строк – из тех, что перечитывал
рассвет.
Осенний курорт
Печаль забвенья в сквере, на газоне, печать ее на дамочке
с собачкой.
Курорт уже впадает в межсезонье, точнее именуемое
спячкой.
Ко сну приготовление включает в себя дежурный ужин
и прогулку
к ощипанному парку, переулку, большой воде, баюкающей
чаек.
Терзается вода, не замечая тебя, меня, хохлушек
с омичами.
Колеблется и слушает вполуха, о чем бурчит никчемная
старуха.
Судьба
Размечены пути в пространстве мглистом —
и в этом ушлом веке, и в античном…
Во Франции я вырос бы голлистом,
поскольку был де Голль харизматичным,
как дева Орлеанская, пожалуй.
В ее бы состоял я, верно, войске,
по-братски относился к ней, по-свойски,
хотя и преклонялся перед Жанной.
С воинственными взглядами своими
спартаковцем я стал бы в Древнем Риме.
Но если б невзначай ошибся классом,
то тут уж оказался явно с Крассом.
Тщеславие – примета не к добру, но
мы все мечту о подвиге лелеем.
И кажемся себе Джордано Бруно,
живя и умирая Галилеем.
Тепло
Безвестной воле повинуясь, оно на улицы вернулось.
Извне лилось и в мир текло телесно-нежное тепло.
И словно не было ненастья. Легки, ленивы сквозняки,
неуловимы, будто счастье, твоей касаются руки.
На воле
друзьям по перу,
В. Митрохину и Е. Винокур
Душе моей наскучили перила,
измучили оглобли, удила.
И вот она взяла и воспарила,
поскольку пару крыльев обрела.
Презревшая земного притяженья
привычную, обыденную власть,
она, едва над бытом поднялась,
почувствовала головокруженье.
Какая даль, чеканная, резная!
Свобода – без опаски не вздохнуть.
И кружится душа моя, не зная,
лететь ли ввысь, назад ли повернуть.
Времена
Где те века, что вытесаны в камне, —
грязны, необразованны, грубы?
А двадцать первый выкроен из ткани,
которой обиваются гробы.
Где время то, отлитое из бронзы?
В курганы улеглись его вожди.
Не воины теперешние бонзы,
но то же властолюбие в груди.
Где эра, громыхнувшая железом?
С кастетом и теперь она, с обрезом.
И гвозди для Христа и Спартака
куются и сейчас наверняка.
Своей эпохи кто из нас не узник?
Для новой веры нет оков и стен.
И сеют козни чьей-то телекузни
кресты и полумесяцы антенн.
Пусть разнятся иуды и герои,
одна на все столетия печать:
повязаны большой и малой кровью,
которую прогрессом величать.
Куст
Стоял – метла метлой, – облезлый, старый.
И вдруг воспрянул. И затрепетал.
Битком набитый перелетной стаей,
ночлежкой для нее, усталой, стал.
Оживший, как восточные игрушки,
покрытый шевелящейся листвой,
от самой нижней ветви до макушки
он был от удивленья сам не свой.
Внутри него ворочались, порхали,
менялись на уютные места.
Был вечер тот, наверно, эпохален
для темного сквозящего куста.
Приюта крест
нечаян был и тяжек.
Но прутья не посмели, не смогли
стряхнуть его – и никли до земли,
покачивая млеющих бродяжек.
Без ропота, унынья и корысти
с обмякшей стаей плыли в темноту.
И мнились осовелому кусту
лиловые увесистые кисти.
Непогода
Моросящего дня кабала,
ни заката тебе, ни восхода.
Безупречною осень была —
бездорожье теперь, непогода…
Сквозняками ходи по Руси,
раздувай парусами карманы,
деревянные свечи гаси,
окуная в тоску и туманы.
Золотые лампады круши,
приближая к седому пределу.
В нашем небе не стало души,
потому-то и холодно телу.
Выметай этот лиственный сор,
отзвеневший осенней сусалью.
Обезболивай сонный простор
холодов обжигающей сталью.
И крутись и вертись допоздна —
и замри на пороге с разбега.
Разъясняется даль. Тишина.
Предвкушение первого снега.
Поздняя любовь
Одежды дня кроит ирония, к лицу наряды палачам…
Твое дыхание неровное ловлю с тревогой по ночам.
При свете дня в обличье хана я – и груб, и холоден с тобой.
А ночью слушаю дыхание, пугаясь паузы любой.
Мольбы мои обычны в сумерках: не покидай меня, живи!
Считается все это в сумме как явленье позднее любви.
Сам по себе
Я сам по себе. И не ваш, и ничей.
Я беглый, как этот весенний ручей.
Свобода, свобода и только свобода —
от края оврага и до небосвода.
Рассыплется снег и пригреет едва,
как пустится в пляс молодая трава.
Кленовые почки возьмут и взорвутся —
и стайки, и строчки на зов отзовутся.
Я сам по себе. И ничей. И не ваш.
Весна это мой заполошный реванш.
На солнце земля сгоряча задымится.
В ночи соловей невзначай затомится.
И месяц потянется, легкий и тонкий,
чтоб мальчик полез целоваться к девчонке.
И ты непременно со мною поладишь.
Коль из-под скорлупки проклюнется ландыш.
Я сам по себе. Я почти что ничей,
тебя не считая, детей и врачей.
Еще не считая, конечно, внучат,
которые ножками в двери стучат.
Еще – моложавых, нержавых друзей,
которым пора к ротозею в музей.
Еще не считая
России и Крыма.
И жизни,
которая
неповторима.
Горизонт. Стихи 2001–2006 годов
Мать
Вначале было слово. Или голос,
которым слово произнесено.
Энергией любви напоено,
сквозь панцирь первозданный прокололось.
Так над собой выбрасывает колос
лелеянное почвою зерно.
То слово было с самого начала —
отсчет с него душа и повела.
В нем неизменно музыка звучала,
мелодия участья и тепла.
И становилась точною примета.
Затвердевали взгляд и ритуал.
И легкий абрис каждого предмета
значение и цвет приобретал.
В Начале было Слово. Это – правда,
ученых возмутившая придир.
…Узка плита, тесна ее ограда.
За ними ты, создавшая весь мир.
В коконе
Его качали в колыбели, когда темнело за окном,
и что-то ласковое пели, и что-то грустное притом.
Большие тени косолапо расхаживали по стене,
и керосиновая лампа плыла в заплаканном окне.
Осоловелыми глазами следил он, как над фитильком
легко приплясывало пламя дразнящим белым языком.
Считали ходики устало мгновенья тающего дня.
В стеклянной колбе трепетала душа пугливая огня.
Младенцу пели о красивом, что так далёко от избы,
и сладко пахло керосином в неясном коконе судьбы.
Пробуждение
Во тьме, в тепле душа мертвецки спит,
как зерна в почве, зноем изнуренной.
Но тут упрется в землю дождь ядреный,
вода живая душу окропит.
И вот уже без всякой проволочки
очнется жизнь в оплывшей оболочке.
Готова дерзко выстрелить ростком —
и в мир попасть, который незнаком.
Дождя! Грозы!..
Родник
Из-под корней, камней замшелых сочится крохотный
родник.
Из тьмы немыслимой пришелец на свет нечаянно проник.
Он тихо тычется в ладони слепым, доверчивым щенком,
и мир запруд, плотин и тоней ему пока что не знаком.
Еще не знает русла толком и так чиста его вода.
Но с каждым ливнем и притоком растет и движется туда,
где лозняки к волне приникли. Где солнце с ветром заодно.
Где стать ему рекой великой и к морю выйти суждено.
Туда, где ширь, тоска, свобода, закат огромен и суров,
и празден облик теплоходов, и хищен профиль крейсеров.
Оттепель
По площадям и перекресткам и с крыши каждой потекло.
Уличено в коварстве скользком асфальта мокрое стекло.
Пласты крупитчатого снега сосут, ветшая, теплоту,
и ртутный столбик без разбега берет апреля высоту.
Заборист воздух, как настойка. Но радость тем омрачена,
что это оттепель. И только. Ненастоящая весна…
Утро
Еще не слышно говора дневного.
И пасмурно, и тихо, и тепло.
Как будто утро взвешивает слово,
какое бы оно произнесло.
О месте – том осколке мирозданья,
чью пыль сейчас на обуви несем.
О времени текучем. Обо всем.
И каждый миг рассветного молчанья
заметен, осязаем и весом.
Мы движемся – летим или бредем, —
отдав себя дорогам и кликушам,
когда б остановиться и послушать
вот эту тишину перед дождем.
Счастье
От суеты большой вдали взрослели мы неторопливо.
Так вырастают корабли на грани неба и залива.
Мы той неспешностью терзались, как будто радость
это блиц.
О, деревень пустая зависть к огню бенгальскому столиц!
Повыжгло краски на планете, и синь повыцвела небес.
Мы чуда ждали, а на свете в обрез, наверное, чудес.
Нетерпеливые, спешили из отчих мест до самых звезд.
За нами шлейф тянулся пыли и прегрешений вился хвост.
О славе сладостно мечталось. Из вереницы тусклых дней
тянуло к мареву огней. Мы счастья ждали. Оказалось,
мы были счастливы, когда
металась чайка, размечала поставленные невода
и между сваями причала вздыхала, ерзая, вода.
Закат
Закат медлительный погас. Темнеют перья облаков,
и звезды светятся для нас сквозь толщу пыльную веков.
Стоит высокая луна, и веет скошенной травой.
На свете есть лишь ты одна. Мы не расстанемся с тобой.
Восходит вечность над землей и Млечным движется Путем
лишь оттого, что ты со мной, лишь потому, что мы вдвоем.
Звенят составы вдалеке, летя в неведомую тьму.
Твоя рука в моей руке, и сладко сердцу моему.
Мадонна
Поля истории во мгле. Но если честно разобраться,
то все, что было на земле, всего лишь смена декораций.
Идут века. И в тех веках живет усталая мадонна
и, стоя на крылечке дома, младенца держит на руках.
Не уяснили до сих пор мы и, может быть, поймем едва,
что бытие меняет формы, не изменяя существа.
Прикрыв махровым полотенцем тугой источник молока,
мадонна новая с младенцем на время смотрит свысока.
Закат во всем великолепии. Гляжу, взволнованно дыша.
Текут века, тысячелетия. Мадонна держит малыша.
После ненастья
К полудню плавно тучи разошлись.
Так театральный занавес отходит.
Открылись
ослепительная высь,
и даль, и капля каждая в природе.
Как славно, что ненастье позади.
Хотя тут ничего и нет такого,
но песня занимается в груди —
мелодия, сбежавшая от слова.
Воспел бы я, умей, конечно, петь,
окрестность и заоблачную область.
Я кисть бы взял, сумей запечатлеть
обласканную красками подробность.
Объяты солнцем улица и двор.
И даль ясна, и день такой хороший.
И перед самым домом косогор ликует,
одуванчиком поросший.
Выбор
Пасмурно. Тихо. Смеркается.
Впору понять и решить,
нужно грешить или каяться?
Каяться! Чтобы грешить…
В мае
В. М. Горюнову
Солнечно. И грустно отчего-то. В высь идя у мира на виду,
лемех серебристый самолета пухнущую тянет борозду.
Мне бы никуда не торопиться, не искать иных на свете
мест,
коли здесь невидимая птица теньканьем никак не надоест.
Я тут ничего не понимаю. Только разволнуется сирень,
если вдруг откуда-то по маю ласточки скользнет немая
тень.
Что же отзовется в сердце сладко? —
Птица, что в кустарнике поет?
Молнией мелькнувшая касатка?
Искоркой блеснувший самолет?..
Молодка
Покачивая бедрами, вышагивает с ведрами.
Пружинит коромысло, и напевчик легкомысленный.
По тропочке, по узенькой, восходит от реки.
Балдеют, как от музыки, юнцы и старики.
Идет она, не прячется, в селе – что в туфле гвоздь.
Горячим телом платьице просвечено насквозь.
Как будто слепнет, щурится на кралю местный сноб.
А где-то клохчет курица, и по спине озноб.
Июнь
Канва проселочной дороги. Колючки. Пыль. Чертополох.
Но если не глядеть под ноги, то этот путь не так уж плох.
Беспечен, зелен и восторжен, воркует мир со всех боков.
И нет возвышенней и строже похода летних облаков.
Стожары
Опрометчивая ночь. Обольстительная речь.
И себя не превозмочь, и тебя не уберечь.
Нет вины ли, есть вина, – это, в общем, все одно.
Заплатить за все сполна в нашей жизни суждено.
К электричке опоздать. В стороне блуждать чужой.
И Стожары опознать обмирающей душой.
В ред. 2003
В мире медленных ночей
В мире медленных ночей, где луна над головой,
то мне чудится: я свой, то мне кажется: ничей.
В мире малых скоростей засыпает шар земной.
То ль скрипучий коростель, то ли кто-нибудь иной
на листе и бересте ворожит над тишиной.
В мире милых мелочей, кукол, мишек и мячей,
засыпает детвора. Птицы спят – и мне пора.
Нездешний свет
Резкий нездешний свет в окна плеснулся, в лужи.
Лиц у прохожих нет, лишь первобытный ужас.
Ясно ли, почему рык исполинский грома,
блеск, изорвавший тьму, – сызмальства все знакомо.
Будто, бредя из снов и вековых становищ,
трубный издало зов стадо былых чудовищ.
Это пришла гроза, рвет на себе рубахи,
в наших ища глазах предков слепые страхи.
Как паникует мозг, если внезапно брошен
молнии ломкий мост между живым и прошлым.
В подземном переходе
Вверху июнь, горит закат. А тут, в подземном переходе,
безотносительно к погоде слепой колдует музыкант.
Безликой тьме наперекор, наперерез бегущей массе
толкнет лады незрячий мастер и первый выбросит аккорд.
Давай, болезный, жарче сыпь! Как тесно станет
разговорам,
когда высоким переборам добавят мужества басы.
Постой, прохожий, оглянись! В кругу тревог, забот, метаний
рванет безокий гармонист меха твоих воспоминаний.
Как будто в темном этом схроне ему, безглазому, светло.
Разбудит наигрыш гармони что в душах сонно залегло.
Напомнит давними словами, напевом, узнанным едва,
что песня, преданная нами, как родина, еще жива.
Менялись мы
Волнуясь, будто клубы дыма или полотнища знамен,
менялись мы неудержимо на лютом сквозняке времен.
Ничьих ошибок не прощали, обмана, плутовства, измен.
И лишь в себе не замечали неумолимых перемен.
Однажды с отстраненной точки в себя вглядимся,
чуть дыша.
В родной телесной оболочке чужая залегла душа.
Смерть актера
Актер умирал. Не мечом бутафорским заколот,
упав театрально и руки раскинув картинно.
Его добивали безденежье, старость и голод.
Известное дело, привычное ныне, рутина…
Актер умирал. Не на съемочной рухнув площадке,
чтоб охнули после, дивясь эпизоду расстрела.
Лежал на матрасе, как будто на мокрой брусчатке,
и запах мочи восходил от немытого тела.
Актер умирал. И совсем не в процессе старенья
таилась его преждевременной смерти причина.
Хотя навсегда изменились пространство и время,
себе изменить не сумел настоящий мужчина.
Актер умирал. Не на сцене, как это бывало,
к богам обращаясь, партеру, галерке, балконам.
Актер умирал – и сползало его одеяло
с последних иллюзий. По всем театральным законам.
Реквием
Памяти В. М. Кузнецова
Грубые трубы рыдали. Плакала пьяная медь.
Горе слепыми рядами строила строгая смерть.
Свежесть отваленной глины – запах отпетой беды.
Плыли печальные гимны, словно разорванный дым.
Залпы хрустели прощально. Будто, во мрак уходя,
резко рвалась и трещала тонкая ткань бытия.
Шаткая встала ограда из неживого венка,
чтобы колонной парада в небе пошли облака.
На Руси
На Руси как на Руси.
Паства та же. Те же боги.
На проселочной дороге
скучный дождик моросит.
Все как было. Все как будет.
Зыбкий ветер лужи студит.
Сотни верст исколеси —
на Руси как на Руси…
Кукушка
Я дома. Посажен в подушки. В окошке столетник с геранью.
Мне чудится голос кукушки. Я верю ее кукованью.
Ты вовсе не глупая лгунья, лесная гулена и врушка.
Ты помнишь? – Начало июня. Залитая солнцем опушка.
Тебя я просил не скупиться, и ты, не скупясь, куковала.
Столетье пророчила птица, вещунья лесного привала.
Не зря колдовала… В итоге спасибо хирургу Моздока:
в обмен на пропащие ноги не дал он загнуться до срока,
назначенного ворожеей крылатой из кукольной рощи.
Ведунья, скажи, неужели все было страшнее и проще?
Спасибо пернатой гадалке за скрип госпитальной каталки,
за ангела в белом халате, менявшего судна в палате.
Колдунья березовой сказки, бессмертие ты возвещала.
И лишь об одном умолчала. Насчет инвалидной коляски…
Руины
Угрюмо, хоть и солнечно, в руинах
обрушенного древностью дворца.
Гнездовье здесь испугов беспричинных,
змеящихся в бурьяне без конца.
Тут ящерки скользят неуловимо,
как тени торопливых облаков.
Легенда тут неясная хранима
в безмолвии плюща и лопухов.
Потугами земного притяженья
мгновения спрессованы в века.
Все кануло: пиры, балы, сраженья,
любовь, раздоры, горечь и тоска.
Забыты все: и кто воздвигнул стены,
и кто тут жил, и кто служил ему.
А что таится в шепоте растений,
известно только Богу одному.
И чудится, что кроме нас на свете
руины лишь и запах чебреца.
И вымощена плитами столетий
дорога без начала и конца.
Млечный Путь
Уютны летние потемки. Шумы вечерние негромки.
Фонарь зажегся на столбе. Я размышляю о судьбе.
Над холостяцкою закуской о благе думаю, о зле.
Недобрый гений мысли русской, мостится водка на столе.
Грущу о времени бегущем и звезд изогнутом ковше.
О том, что сумерки все гуще в окне вечернем и душе.
О полосе туманно-млечной, где блещет и моя звезда.
Седой тропе, рутинной, вечной, из ниоткуда в никуда.
Горизонт
Когда-то буду хром. Возможно, глух.
А может быть, еще к тому ж и слеп.
Оглянешься – захватывает дух
от бездны, простирающейся вслед.
Хотя глядишь назад как будто вниз, поверь,
тут восхожденье ни при чем.
Я знаю, что житье не альпинизм,
не шастанье с котомкой за плечом.
Пусть кажется, что пропасти озон
остуживает голову и грудь, —
увы, горизонтален этот путь.
И так недосягаем горизонт.
Поезд
На юг шальной и север строгий, усталый запад и восток
несут железные дороги ковчеги веры и тревог.
Пугая сосны и сирени, сквозняк зеленый поездов
летит сквозь чахлые деревни к перронам ветхих городов.
Плывут огромные просторы, бездумно внемля голосам
и ритмам тем, что поезд скорый диктует сонным небесам.
И вновь на каждом перегоне из запыленного окна
вся наша жизнь как на ладони во всех подробностях видна.
Мы здесь от самого рожденья. И нет ли нашей тут вины,
что полосою отчужденья мы от земли отделены.
Неугомонные колеса твердят без устали вопрос,
чьи судьбы там летят с откоса и долгим будет ли откос.
И ничего не изменить! В вагоне храп, и мат, и пьянство.
Звенит путей стальная нить, сшивая время и пространство.
На малой родине
Нам есть чем с однокашником седым за долгую разлуку
поделиться.
На кухне, как бывало, посидим, и за полночь общение
продлится.
Я выйду к загустелым небесам, извечному глубокому
покою.
Взгляну _ и не поверится глазам: я родину не видывал
такою.
Я не призна́ю родины своей! Луна переиначивает сушу,
струится Млечный Путь, и соловей отводит песнопениями
душу
Протяжное дыханье сквозняка затронуло созвездия
и травы.
И слышно, как незримые составы пронизывают полночь
и века.
Родина
Волнуются полуночные клены.
Светильники сквозят через листву,
и тени, содрогаясь изумленно,
терзают мостовую и траву,
прижавшуюся к извести заборов.
Хоронят осовелые дворы
невнятные обрывки разговоров
и вопли запоздалой детворы.
Прохожие встречаются все реже.
Все тише, все безлюдней в городке.
Последнего трамвая звон и скрежет
уносятся, стихая вдалеке.
На захолустной улочке зеленой,
где я душой, наверно, до сих пор,
усталые ворочаются клены,
ведя со сквозняками разговор.
Ни горечи не ведаю, ни гнева,
избавлен от сумятицы дневной.
Теней ночных подрагивает невод,
удерживая скользкий шар земной.
Из В. Шекспира. Сонет 66 (вольный перевод)
Не хочется мне жить на свете белом,
Где властвуют ничтожество и слизь,
И где от идеалов отреклись,
Достоинство в удел оставив бедным,
Где на коне спесивое притворство,
Где совершенство вызывает смех,
И честь девичья в лапах сутенерства,
И власть нужна богатству для потех.
Не скрипнет непокорное перо,
И корчится наука от удушья,
И правду окрестили простодушьем,
И служит злу плененное добро.
Забыть бы все, уйти, но как, любя,
Оставить в одиночестве тебя.
Казалось мне
Казалось мне, я знаю в жизни толк.
И цену знаю делу и словам.
Тому, как поднимается восторг
весенний по березовым стволам.
И радуги свисают по бокам
подвинувшихся к западу дождей.
И люди поклоняются богам,
ухватками похожим на людей.
Казалось мне, я ловок и умен.
И не чета мне жулик и прохвост.
И вечно будет в небе миллион
сиять высоких звездочек и звезд.
Казалось мне…
Черное море
Рыбацкое что-то запрятано у нас на задворках души.
Разбужены лунными пятнами, кипят на ветру камыши.
Бегу от уютного быта я на море, где зябко плечам
и небо такое открытое бывает над ним по ночам.
Пускаю лесу осторожно я в античную толщу воды.
А с весел стекает восторженно сияние летней звезды.
И лодка неловко качается на россыпи зыбких огней.
И ночь никогда не кончается. И месяц лукавый над ней.
Под луной
Протянулась в небо пуповина – голубая, тонкая, тугая.
Соловьев запела половина, половина замерла другая.
По земле и тротуарной плитке, смутные, как детское
влеченье,
стлались виноградные улитки запятыми в графике
вечерней.
Слюдяное лунное свеченье в мимолетной хмаре потонуло.
Как реки придонное теченье, сквозняками в мире
потянуло.
Расторопно, ровно, будто пламя, загудели клены
с тополями.
Все знакомо, родственно и мило, потому и сердце
защемило.
Слов происхождение туманно. Что сказать хотели,
неизвестно,
почему-то называя малой родину, которой в сердце тесно.
Слово
А. А. Васильеву
В толпе, гудящей бестолково, где на ходу, где на бегу,
ты вдруг почувствуешь, как слово в твоем чеканится мозгу.
Оно сродни тоске заката, его холодному огню,
как было родственно когда-то рассвету, молодости, дню.
Прости!
Все круче лет истертые ступени —
с подъема, запыхавшись, не запеть.
Испытывал так долго я терпенье
твое, как, может, незачем терпеть.
Любя тебя, добра тебе желая,
я столько зла в судьбу твою привнес.
И если где и есть вода живая,
то, знаю, состоит она из слез.
Обидные слова и прегрешенья —
все в памяти твоей сбережено.
И рад бы я вымаливать прощенье,
да только запоздалое оно.
Я не был целомудренной особой,
не выдался примерный семьянин.
И все-таки прости меня, попробуй!
Хоть раз еще. Потом еще один…
На Абдале [2]
Мы ступим, задохнувшись, на пригорок —
и словно восхожденье совершим.
Игрушечным окажется наш город,
а кладбище покажется большим.
Нам холодно на этом косогоре,
где выверенно, без обиняков,
изваяно и вытесано горе
трудами безустанных мастаков.
Тут вольно сквознякам, как на вокзале.
Смыкаются волненье и покой.
И сходятся немеряные дали
с кладбищенской давящей теснотой.
Как часто тут печальные утраты
надгробьями на склонах проросли.
Но вновь ковшом отыскивает трактор
лоскут необихоженной земли.
Неброские цветы несем в печали.
Приметы нашей памяти просты:
в согласии ютятся на Абдале
бесхитростные звезды и кресты.
Гонимые высокими ветрами,
летят века немыми облаками.
И кажется, что зябкий косогор
плывет за ними в солнечный простор.
Вопрос
В созвучье солнечного лета – и легком лепете берез,
и звоне праздничного света – мне чей-то чудится вопрос.
Я окликаю – нет ответа. И понимаю вдруг, что это
поспешно времени сквозняк листает жизнь мою без
спроса,
где все написано не так. И на полях ее, как мак,
пылает возмущенно знак редакционного вопроса.
Без нас
Уйдем и мы, кто рано, кто нескоро, в неведомую тьму
иных миров.
Без нас июнь отважный с косогора смахнет однажды
пену клеверов.
Туда, где нет ни шороха, ни света, затянет жадно черная
дыра,
чтоб сумерки пылающего лета без нас общебетала детвора.
Без нас назначат новые свиданья березы, подворотни и
мостки.
Без нас от ожидания гаданья ромашек содрогнутся
лепестки.
Не жалуясь богам и не стеная, погрузимся в пучину
вечных вод,
и пусть уж дальше молодость иная встречает свой
ликующий восход.
По течению
Сплавляемся. Покачивает лодку
на зыбких отражениях огней.
И полночь поправляет, как пилотку,
зеленый серп, заломленный на ней.
Ленивые поплескивают волны,
высокие колыша камыши.
Мы весла уронили, мы безвольны,
у нас оцепенение души.
В последний раз мы выпростали сети.
Простор над нами, звезды и покой.
И, кажется, прекрасней нет на свете
раскинувшейся ночи над рекой.
На реке
А. А. Асееву
Пыл зари почти не виден, но еще светла река.
Из дневного пекла выйдя, застывают облака.
Я рыбачить не обучен, не кляни меня со зла
за неопытность уключин и волнение весла.
Я один такой, наверно, – бестолковый, молодой,
млеющий благоговейно над кочующей водой.
Бог ли с теми городами, с их извечной суетой,
если плещется под нами космос темный и простой.
Он в руках трепещет ловких, цепко схвачен рыбаком,
и стучит по днищу лодки зазевавшимся хвостом.
Нервно вздрагивают сети. Ловит зеркало воды
свет унесшихся столетий – след исчезнувшей звезды.
Куликово поле
Рассвет как полоска кровавой помады.
По улице хлестко ударят команды.
С уютных полатей, от бабьих подолов
погонит нас, братья, веление долга.
Икон нелюдимых коснемся губами,
оконных слюдинок – высокими лбами.
Прискорбно на проводах этих рисковых.
Не скоро подворий коснутся подковы.
На тысячу лет мы подтянем подпруги.
Помашут вослед сыновья и подруги.
Скрываются села. Туги, как пружины,
качаются в седлах лихие дружины.
Владимир и Суздаль, спешите к Коломне,
мы двинем отсюда единой колонной.
Лаптями тяжелую пыль поднимая,
пойдут ополченцы Москвы на Мамая.
… Сентябрьское утро в наплывах тумана,
как страх и отвага в одном человеке.
Отряды Донского, орда басурмана
готовы сойтись. И сойдутся навеки.
Останутся горы высокие трупов,
состарится горе во вдовьих тулупах.
И славы, и крови – коню по колено.
Истлеют герои, да слава нетленна.
Охотник, и смерд, и рыбак бородатый
прослыли навек Неизвестным солдатом.
Над нашим покоем бурьяну колоться.
История помнит одних полководцев.
Лишь в случае крайнем найдется анкета —
юнцу в назиданье – бойца Пересвета.
Узоры над нами плетет повилика.
Бояре с князьями пируют, не слыша,
как тянется жадно к победе великой
смертельное жало царя Тохтамыша.
Зловеще и гневно над Русью распятой
расколется небо кометой хвостатой.
И в каждом столетье верховной интригой
отыщутся плети для нового ига.
…И снова рассвет как полоска помады.
Но пуст кабинет, отдающий команды.
Клубится трава на могилах забытых.
Пусть плоть не жива, но душа не убита!
И в кованый топот губительной силы
вплетается шепот: «По ко-ням, Рос-си-я…»
Друзья
А. Т. Мозлоеву
Все реже мы встречаемся с друзьями.
Все чаще расстаемся навсегда,
на прошлом ставя крест. А над крестами
восходит одинокая звезда.
Дрожит она: не то ее знобит,
не то тревожно ей на небосводе.
Все дальше друг от друга нас уводит
безжалостная заданность орбит.
Устала плоть, изношена, ветха.
Ворочается мысль в окладе тесном.
В ином обличье, даже бестелесном,
увидеться ли нам через века?
Мертвы Иерихон и Колизей,
без рук фигурки барышень античных.
Не так ли в наше время архаичны
законы притяжения друзей?
И все же станет холодно, когда
пространство тень вечерняя заполнит
и в сумерках над городом и полем
очнется сиротливая звезда.
Полдень
Спокойно и просторно в мире было
и видно высоко и далеко.
Неудержимо лето уходило.
Так на огне сбегает молоко.
Куда-то за безвестные селенья,
за край земли, который незнаком,
июля шелковистые мгновенья
высотным относило сквозняком.
На землю тень от облака ложилась,
и трепетала встречная трава.
И веяло забытым, и кружилась,
как будто молодая, голова.
Под вечер
Дождь не искал иные адреса.
Стучался к нам, назойлив, бесконечен,
и лишь когда осталось полчаса
до сумерек, ушел он. И под вечер
высокие раскрылись небеса.
И солнце так поспешно просияло,
как лишь живое может просиять.
Как будто торопилось излучать —
и то, что прежде, может, недодало,
и что еще придется недодать.
Курортный вальс
Волна набегает на берег песчаный,
смывая следы без труда.
– Давайте простимся светло и печально!
– На месяц? На год?
– Навсегда!
Давно я не верю в чудесные сказки,
не верю в счастливые сны.
Я знаю, что осень веселые краски
ворует у щедрой весны.
Беспечного вальса пьянящие звуки
затихли в моих городах.
И горькие зерна грядущей разлуки
в медовых дозрели плодах.
Последний наш вечер, как первый экзамен,
и звезд над курортом не счесть.
Спасибо за то, что мы встретились с вами,
спасибо за то, что вы есть.
Волна набегает на берег песчаный,
впотьмах отнимая следы.
И кажется, будто у нас за плечами
ни прожитых лет, ни беды.
Любовь
– Жалко мне тебя!
Одна, чай, пропадешь без меня в деревне…
(из разговора в палате для тяжелобольных)
Утомленная палата у заката на виду.
Смотрят окна виновато на щемящую беду.
В витражах, автомобилях остекление зажглось.
Все как в сказке: «Жили-были…» Жаль, что дальше
не сошлось.
Отражение заката вянет в окнах и прудах.
Что-то стало грустновато, и причина не в годах.
Я не ангел и не агнец. И не нужен – вот те крест! —
неразборчивый диагноз, утешительный заезд.
У заката цвет недужный. Время врач или палач?
Изводить себя не нужно. Коль захочется, поплачь.
Это быль, а то и небыль: я, наверное, вернусь.
Легкой тучкой в летнем небе ль, сквозняком ли обернусь.
Ни к чему пустые речи, поминание вином.
Неизбежно счастье встречи, пусть и в облике ином.
Я вернусь! Войду без стука, наяву или во сне,
голосами наших внуков и сиянием в окне.
Обещаю, я вернусь. Обернусь кустом сирени,
лучшим из стихотворений. Обязательно. Клянусь!
В Перхушкове
На долгий день окончится лимит,
отпущенный светилом и судьбой.
За лесом электричка прогремит
и звуки все утащит за собой.
Такая тут нахлынет тишина
и простоит до самого утра,
что, кажется, повымерла страна,
густого не считая комара.
Забыты мы и миру не нужны.
И нам он чуждым кажется, пока
за городьбой зубчатой сосняка
беснуется шаманий глаз луны.
Вдвоем
Разметало мое поколение
по углам, в забытье, в темноту.
Мы остались, наверно, последние,
не разнявшие рук на лету.
Раздвигается наша Вселенная,
излучая слабеющий свет.
Мы вдвоем, а вокруг ни селения
на ближайшее множество лет.
Сквозь земные уходят расщелины
наши близкие в звездную глушь.
Обозначено красным смещением
расставание родственных душ.
Задержался на этом разъезде я,
где мгновений осталось в обрез.
И рисует былые созвездия
престарелая память небес.
Разбегаются чьи-то галактики —
хвостовые горят фонари.
Но, как прежде, в домашнем халатике
ты встречаешь меня у двери.
Не слабей же, объятие страстное,
разлучающим вихрям назло,
чтобы вдаль под смещение красное
нас по-прежнему вместе несло.
Усталость
Я вдруг почувствовал усталость
и в каждой клетке лишний вес.
Как будто у меня осталось и сил,
и времени в обрез.
Но нет желанья торопиться,
беречь и год, и день, и час.
Исчезло даже любопытство
к тому, что будет после нас.
И все, на чем судьба держалась,
вперед безудержно гоня, прошло.
Осталась только жалость.
К тебе. Тебе, но без меня.
Бабье лето
Ну, вот и все, пора подбить итоги,
доходы лета посчитать в уме.
Пожухлой желтью краплены дороги,
ведущие от осени к зиме.
Куда бы озабоченно ни шел ты,
поблизости совсем или вдали,
багровым, фиолетовым и желтым
испятнана родная часть земли.
Наряден тихий мир, как именинник.
Сияет ясной осени свеча.
И льнет к лицу летучий паутинник,
щетинистую щеку щекоча.
Запоздалое тепло
Нежданно просветлело, развиднелось.
Ненастье словно выронило власть,
и солнца неожиданная смелость
ликующе на землю пролилась.
И то, что от осклизлости устало,
безрадостно лежало, тяжело, —
как будто просияло, заблистало
в ответ на запоздалое тепло.
Гляди, какие тучи на подходе!
Об оттепели осень солгала.
Но так хотелось нежности природе.
Решилась обмануться – и смогла.
Переселение душ
Облезлый отыщется скверик в угрюмой зеркальности луж.
В бессмертье захочется верить и в переселение душ.
Упрямо считаем ошибкой синюшную ленту беды.
Останусь я в памяти зыбкой наморщенной ветром воды.
И в зеркале том, у скамейки, я вдруг обнаружу себя
взъерошенным, шумным и мелким, не значимее воробья.
Ветераны
Вымотавшись в закоулках звездных,
наши подустали телеса.
Ждут вестей холодных и серьезных
лысые осенние леса.
Кажется, и зим уже не счесть нам,
так же как и лет не перечесть.
Мы еще побудем и исчезнем,
как, наверно, динозавр исчез.
Ясно, мы на грани вымиранья.
Но земля наследует от нас
красные легенды и сказанья.
И еще – наград иконостас.
Мамонт
Все толще лед. Но я еще не вымер.
И зябкая родня живет окрест.
И нас метлой безжалостной не вымел
слепой доисторический прогресс.
У фауны по-прежнему в фаворе:
могуча поступь, величава стать.
И тот, кто мелок, жаден и проворен,
меня завидев, должен трепетать.
Чуток еще продержимся пока мы,
хотя все неуютнее в лесу.
Ледовые расставлены капканы,
период ледниковый на носу.
Природа словно мачеха скупая.
Плетемся мы, в развитии отстав.
И смотрим, как угрюмо наступает
великий и глобальный ледостав.
Последнее тепло
Отпустило. Потеплело. Накатила благодать.
Все, что лето не успело, осень силится раздать.
Вызревает лютый холод в сизых зернах облаков.
Но пока тепло. И молод легкий цокот каблуков.
Память
Столько в чулане своем берегу
хлама невиданной пробы.
…Синие тени на белом снегу.
Словно резные сугробы.
Негде хранить, а выбрасывать жаль:
копится мелочь любая.
Солнце. Февраль. И слепящая даль,
белая и голубая.
Рухляди груды в моей кладовой —
уйма сокровищ таится.
Бездна лазурная над головой.
Сизая сиплая птица.
Тесен деревьям оклад серебра.
Время навеки застыло.
Да, это было как будто вчера.
Если когда-нибудь было…
Как тихо на земле
Как яблока бока, закат оранжев.
Отчетлив каждый дальний уголок.
И чудится, что все, что было раньше,
всего лишь затянувшийся пролог.
А может, и не с нами это было,
что жизнью в изумлении зовем?
Иглой слепящей облако пробило —
и мы в луче пылинками плывем.
Все ближе громыхание финала.
Но я упрямо верю, что пока
всего лишь увертюра прозвучала
к тому, чему звенеть еще века.
Снова март
День лучист, и снег вот-вот растает.
Зябнет и кружится голова.
Если слов для песни не хватает,
значит, надо выдумать слова.
Снова март, и ладно все на свете.
Дышится свободно и легко.
Так светло, что верится в бессмертье.
И до горизонта далеко.
С годами
С годами все скучней и проще. На все взираю свысока.
Смутны березовые рощи. Угрюмы думы сосняка.
Настыли души, загрубели. Не принимаются всерьез
отвага сосен корабельных и легкомыслие берез.
У самого края
У самого края, по бровке, по кромке
огромного поля, у звезд на виду,
бреду я. Ты слышишь мой голос негромкий?
Ты видишь, как медленно, тяжко иду?
Когда-то казалось, что мы всемогущи,
что юности вовсе не будет конца…
Шаги все короче, звучанье все глуше,
и тонут во тьме очертанья лица.
В ночи ни тепла, ни печали, ни гнева —
всего, что имело значение днем.
Я движусь – и путь упирается в небо,
и звезды встречают озябшим огнем.
Примечания
1
Курман-Кемельчи – крымско-татарское название села.
2
Абдал – возвышенность на окраине Симферополя, занятая под кладбища.




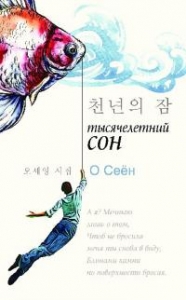
Комментарии к книге «Ковчег XXI», Анатолий Петрович Пискунов
Всего 0 комментариев