Александр Кушнер Времена не выбирают…
Шестидесятые
«Когда я очень затоскую…»
Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную,
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть —
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.
Рисунок
Ни царств, ушедших в сумрак,
Ни одного царя —
Ассирия! – рисунок
Один запомнил я.
Там злые ассирийцы
При копьях и щитах
Плывут вдоль всей страницы
На бычьих пузырях.
Так чудно плыть без лодки!
И брызги не видны,
И плоские бородки
Касаются волны.
Так весело со всеми
Качаться на волне.
«Эй, воин в остром шлеме,
Не страшно на войне?
Эй, воин в остром шлеме,
Останешься на дне!»
Но воин в остром шлеме
Не отвечает мне.
Совсем о них забуду.
Бог весть в каком году
Я в хламе рыться буду —
Учебник тот найду
В картонном переплете.
И плеск услышу в нем.
«Вы всё еще плывете?» —
«Мы всё еще плывем!»
Графин
Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь?
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты
Несчастных тех, что умерли от жажды.
Что делать мне?
Отпить один глоток,
Подняв стакан? И чувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга.
«Декабрьским утром черно-синим…»
Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкою трешь.
Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрей.
В слезах, под теплыми платками,
Проносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.
И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу. ёё
«О здание Главного штаба!…»
О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.
О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.
Под плащ его серый, под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.
Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.
И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознанье
Таинственной зыбкости их.
Старик
Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалека
Глядящего на птицу?
Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.
Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.
Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.
И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.
Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже – по ту,
А дерево – по эту.
«Бог семейных удовольствий…»
Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты, как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.
Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,
И ночную тишину.
Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.
Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлеченьях и цветах.
Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь
И сажаешь нас по кругу
И не можешь нас постичь!
Мы и впрямь к столу присядем,
Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.
Велосипедные прогулки
Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое – на елке.
И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.
Какой высокий зной палящий!
Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаще,
И даль, и не с кем поделиться.
Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.
Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.
Где время? Съехав на запястье,
На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.
«Уехав, ты выбрал пространство…»
Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться —
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.
Ночной дозор
На рассвете тих и странен
Городской ночной дозор.
Хорошо! Никто не ранен.
И служебный близок двор.
Голубые тени башен,
Тяжесть ружей на плече.
Город виден и не страшен.
Не такой, как при свече.
Мимо вывески сапожной,
Мимо старой каланчи,
Мимо шторки ненадежной,
Пропускающей лучи.
«Кто он, знахарь иль картежник,
Что не гасит ночью свет?» —
«Капитан мой! То художник.
И клянусь, чуднее нет.
Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.
Не поймешь по правде даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы – ночная стража
В этих стенах, то ли он».
Гофман
Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст – только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь —
В бюрократической машине той скрипеть.
Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, превозмогая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.
На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», – говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» – умоляет Теодор.
«Идем налево, – оба слышат, – и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,
«Но все равно она, – вздыхает Амадей, —
Судебных записей милей и повестей».
Два наводненья
Два наводненья, с разницей в сто лет,
Не проливают ли какой-то свет
На смысл всего?
Не так ли ночью темной
Стук в дверь не то, что стук двойной, условный.
Вставали волны так же до небес,
И ветер выл, и пена клокотала,
С героя шляпа легкая слетала,
И он бежал волне наперерез.
Но в этот раз к безумью был готов,
Не проклинал, не плакал
Повторений боялись все.
Как некий скорбный гений,
Уже носился в небе граф Хвостов.
Вольно же ветру волны гнать и дуть!
Но волновал сюжет Серапионов,
Им было не до волн – до патефонов,
Игравших вальс в Коломне где-нибудь.
Зато их внуков, мучая и длясь,
Совсем другая музыка смущала.
И с детства, помню, душу волновала
Двух наводнений видимая связь.
Похоже, дважды кто-то с фонаря
Заслонку снял, а в темном интервале
Бумаги жгли, на балах танцевали,
В Сибирь плелись и свергнули царя.
Вздымался вал, как схлынувший точь-в-точь
Сто лет назад, не зная отклонений.
Вот кто герой! Не Петр и не Евгений.
Но ветр. Но мрак. Но ветреная ночь.
Монтень
Монтень вокруг сиянье льет,
Сверкает череп бритый,
И, значит, вместе с ним живет
Тот брадобрей забытый.
Монтеня душат кружева
На сто второй странице —
И кружевница та жива,
И пальчик жив на спице.
И жив тот малый разбитной,
А с ним его занятье,
Тот недоучка, тот портной,
Расшивший шелком платье.
Едва Монтень раскроет рот,
Чтоб рассказать о чести,
Как вся компания пойдет
Болтать с Монтенем вместе.
Они судачат вкривь и вкось,
Они резвы, как дети.
О лжи. О снах. О дружбе врозь.
И обо всем на свете.
Варфоломеевская ночь
В ряду ночей одну невмочь
Забыть. Как в горле ком.
Варфоломеевская ночь,
Стоишь особняком.
Я напрягаю жадный слух
И слышу: ты гудишь,
Из окон гонишь серый пух
И ломом в дверь стучишь.
Тот был в дверях убит, а тот
Задушен в спальне был.
«Ты кто, католик? гугенот?»
А он со сна забыл.
А этот вовсе ничего
Не понял – гул шагов.
Один сказал: «Коли его!»
Другой сказал: «Готов».
А тот лицом белей белья,
Мертвей своих простынь.
«Католик я! Католик я!» —
«Бог разберет. Аминь».
Иной был пойман у ворот —
И страх шепнул: соври.
«Ты кто, католик?» – «Гугенот». —
«Так вот тебе, умри!»
Так вот тебе! Так вот тебе!
Копьем из темноты.
Валяйся с пеной на губе.
И ты! И ты! И ты!
«Свечу сюда!» – «Не надо свеч!
Сказал, гаси ее!»
Не ночь, а нож. Не ночь, а меч.
Сплошное остриё.
Дымилась в лужах кровь, густа,
И полз кровавый пар.
О ночь, ты страшный сон Христа,
Его ночной кошмар.
«Удивляясь галопу…»
Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.
Сколько раз хоронили,
Славя конскую стать,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.
Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,
И блестят в Амстердаме
Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.
Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав
Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.
Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,
И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.
«Я в плохо проветренном зале…»
Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.
Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы раз пять умирал.
Там пляску пускали за пляской,
Летела щепа из-под ног —
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.
Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.
Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.
И господи, как захотелось
На волю, на воздух, на свет,
Чтоб там не плясалось, не пелось,
А главное, музыки нет!
«Танцует тот, кто не танцует…»
Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.
А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади – вдвойне!
«Чего действительно хотелось…»
Чего действительно хотелось,
Так это города во мгле,
Чтоб в небе облако вертелось
И тень кружилась по земле.
Чтоб смутно в воздухе неясном
Сад за решеткой зеленел
И лишь на здании прекрасном
Шпиль невысокий пламенел.
Чего действительно хотелось,
Так это зелени густой.
Чего действительно хотелось,
Так это площади пустой.
Горел огонь в окне высоком,
И было грустно оттого,
Что этот город был под боком
И лишь не верилось в него.
Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой идущего впотьмах.
И в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось больших доказательств,
Чем те, что были под рукой.
«Закрою глаза и увижу..«
Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу,
И солнце, и вид на Неву.
В каком-то печальном прозренье
Увижу свой день роковой,
Предсмертную боль, и хрипенье,
И блеск облаков над Невой.
О боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.
Любое стерпеть униженье
Не больно, любую хулу
За легкое это движенье
С замахом полы за полу.
За вечно наставленный ворот,
За синюю невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить.
«Но и в самом легком дне…»
Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.
Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.
«Два лепета, быть может бормотанья…»
Два лепета, быть может бормотанья,
Подслушал я, проснувшись, два дыханья.
Тяжелый куст под окнами дрожал,
И мальчик мой, раскрыв глаза, лежал.
Шли капли мимо, плакали на марше.
Был мальчик мал,
куст был намного старше.
Он опыт свой с неведеньем сличил
И первым звукам мальчика учил.
Он делал так: он вздрагивал ветвями
И гнал их вниз, и стлался по земле,
А мальчик то же пробовал губами,
И выходило вроде «ле-ле-ле»
И «ля-ля-ля». Но им казалось: мало!
И куст старался, холодом дыша,
Поскольку между ними не вставала
Та тень, та блажь, по имени душа.
Я тихо встал, испытывая трепет,
Вспугнуть боясь и легкий детский лепет,
И лепетанье листьев под окном —
Их разговор на уровне одном.
«То, что мы зовем душой…»
То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;
То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, —
Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты – свободна.
«Свежеет к вечеру Нева…»
Свежеет к вечеру Нева.
Под ярким светом
Рябит и тянется листва
За нею следом.
Посмотришь: рядом два коня
На свет, к заливу
Бегут, дистанцию храня,
Вздымая гриву.
Пока крадешься мимо них
Путем чудесным,
Подходит к горлу новый стих
С дыханьем тесным.
И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.
Известный, в сущности, наряд.
Чужая мета:
У Пастернака вроде взят,
А им – у Фета.
Но что-то сердцу говорит,
Что всё – иначе.
Сам по себе твой тополь мчит
И волны скачут.
На всякий склад, что в жизни есть
С любой походкой —
Всех вариантов пять иль шесть
Строки короткой.
Кто виноват: листва ли, ветр?
Невы волненье?
Иль тот, укрытый, кто так щедр
На совпаденья?
«Нет, не одно, а два лица…»
Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.
В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик – моль,
Зачем глаза его намокли?
И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.
Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.
Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.
«Среди знакомых ни одна…»
Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впав в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.
Я так и думал бы, что бред
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.
Разговор
Мне звонят, говорят: – Как живете?
– Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.
А у вас что? Содом? Суматоха?
– И у нас, – отвечает, – неплохо.
Муж уехал. – Куда? – На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок.
– Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?
Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня.
– И на нас, – отвечает, – находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что… Я б зашла… да потом
Будет плохо. – Спасибо на том.
Этот вечер свободный
Т.
Этот вечер свободный
Можно так провести:
За туманный Обводный
Невзначай забрести
Иль взойти беззаботней,
Чем гуляка ночной,
По податливым сходням
На кораблик речной.
В этот вечер свободный
Можно съежиться, чтоб
Холодок мимолетный
По спине и озноб,
Ощутить это чудо,
Как вино винодел,
За того, кто отсюда
Раньше нас отлетел.
Наконец, этот вечер
Можно так провести:
За бутылкой, беспечно,
Одному, взаперти.
В благородной манере,
Как велел Корнуол,
Пить за здравие Мери,
Ставя кубок на стол.
«Он встал в ленинградской квартире…»
Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.
Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
– Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.
Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей…
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.
«Когда тот польский педагог…»
Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами Бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?
Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.
Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.
Поклонение волхвов
В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.
И что-то, словно ореол,
Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.
Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, щурились в углу
Теленок и корова.
Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал всё это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.
И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.
Весь ужас мира, испокон
Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заворожен,
Подался на мгновенье.
Под стать библейской старине
В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.
Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.
«Пусть кто-то в ней жизнь узнает…»
Пусть кто-то в ней жизнь узнает.
Как сыщик, за ней примечает,
А музыка тем и живет,
Что нас к забытью приучает.
И стынешь, за кресло схватясь,
В тот час, как даруется ею
Не с этими залами связь,
А с будущей жизнью твоею.
Картин не рисует, не лги!
Знакомая, всё незнакома —
Так мысли ее далеки
От женщин, и счастья, и дома.
О, вся забытье, благодать!
Укор для тоски и неверья.
И совестно к ней приплетать
Дороги, поля и деревья.
Два голоса
Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой
синей не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.
– Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.
– Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью
вместе, не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.
– Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.
– Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью – свеченье,
днем – сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.
«Жить в городе другом – как бы не жить…»
Жить в городе другом – как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется – расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!
Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече – оживаешь.
Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.
На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?
Памяти анны ахматовой
1. «Волна темнее к ночи…»
Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она – молчит.
Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.
Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.
Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.
Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж…
Но этой, слава богу,
Ее не удивишь.
Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.
Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со стихом.
Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.
2. «Поскольку скульптор не снимал…»
Поскольку скульптор не снимал
С ее лица посмертной маски,
Лба крутизну, щеки провал
Ты должен сам предать огласке.
Такой на ней был грозный свет
И губы мертвые так сжаты,
Что понял я: прощенья нет!
Отмщенье всем, кто виноваты.
Ее лежание в гробу
На Страшный суд похоже было.
Как будто только что в трубу
Она за ангела трубила.
Неумолима и строга,
Среди заоблачного зала
На неподвижного врага
Одною бровью показала.
А здесь от свечек дым не дым,
Страх совершал над ней облёты.
Или нельзя смотреть живым
На сны загробные и счеты?
«Вижу, вижу спозаранку…»
Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.
И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользающую нить.
Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.
Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.
Венеция
Венеция, когда ты так блестишь,
Как будто я тебя и вправду вижу,
И дохлую в твоем канале мышь,
И статую, упрятавшую в нишу, —
Мне кажется, во дворик захожу
Свисает с галереи коврик. Лето.
Стоит монах. К второму этажу
С тряпьем веревку поднял Каналетто.
Нет, Тютчев это мне тебя напел.
Наплел. Нет, это Блок тебя навеял.
Нет, это сам я фильм такой смотрел:
Француз вояж в Италию затеял,
Дурак француз, в двубортном пиджачке.
Плеск голубей. Собор Святого Марка.
О, как светло! Крутись на каблучке.
О, как светло, о, смилуйся, как ярко!
«Четко вижу двенадцатый век…»
Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь – там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?
Сирень
Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.
Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но вглядись в эти вспышки и блестки:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и щурил глаза.
Тем сильней у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависающий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.
Стог
Б. Я. Бухштабу
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал.
А. Фет
Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.
Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но Бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.
Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!
«Еще чего, гитара!…»
Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.
«Жизнь чужую прожив до конца…»
Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.
Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.
Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.
Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.
«Казалось бы, две тьмы…»
Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.
Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, —
Меня в нем только нет».
Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.
«На Мойке жил один старик…»
На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но всё равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.
А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
– Вы б столковались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!
Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?
«Зачем Ван Гог вихреобразный…»
Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня точкой неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?
Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?
Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?
«Путешествие…»
Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, ластятся, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.
Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.
Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: «Себя ты не мучай,
Детские страхи откинь».
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.
Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.
«Читая шинельную оду…»
Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед —
Всё то, что зовется: от Кушки
До Карских студеных Ворот.
Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит в затылок, как зверь,
Когда ледяными ночами
Не спишь и косишься на дверь.
Большая удача – родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа над тесным столом.
Буквы
В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черенки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.
А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщичок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!
Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй… Ну что ты? Что ты?
«И если в ад я попаду…»
И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.
Всё счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море…
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.
«Вот сижу на шатком стуле…»
Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напареули,
Что осталось от гостей.
Мы печальны – что причиной?
Нас не любят – кто так строг.
Всей спиною за гардиной
Белый чувствую снежок.
На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом всё прекрасней
Снег и запах легких вин.
И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья и терпенья
И немыслимых вещей.
«Скатерть, радость, благодать!…»
Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Боже мой! Еще живу!
Всё могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!
Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!
Семидесятые
«Эти вечные счеты, расчеты, долги…»
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.
Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.
Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
«У меня зазвонил телефон…»
У меня зазвонил телефон.
То не слон говорил. Что за стон!
Что за буря и плач? И гудки?
И щелчки, и звонки. Что за тон!
Я сказал: «Ничего не слыхать».
И в ответ застонало опять,
Загудело опять, и едва
Долетали до слуха слова:
«Вам звонят из Уфы». – Перерыв.
«Плохо слышно, увы». – Перерыв.
«Все архивы Уфы перерыв,
Не нашли мы, а вы?» – Перерыв.
«Все труды таковы, – говорю. —
С кем, простите, сейчас говорю?»
«Нет, простите, с кем мы говорим?
В прошлый раз говорили с другим!»
Кто-то в черную трубку дышал.
Зимний ветер ему подвывал.
Словно зверь, притаясь, выжидал.
Я нажал рычажок – он пропал.
Сон
Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской… вид туманный…
Стачек, Трефолева… стой!
Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Всё смешалось… не понять…
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.
Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.
Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?
Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.
Вид у нас какой-то сирый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.
Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.
Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.
«Кто-то плачет всю ночь…»
Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.
Вот затих. Вот опять.
«Спи, – ты мне говоришь, – показалось».
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!
Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.
Только дети – и те,
Услыхав: «Как не стыдно?» – смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.
Кто-то плачет вблизи.
«Спи, – ты мне говоришь, – я не слышу».
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.
Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать —
«Подожди, – говоришь, – кто-то плачет!»
«Человек привыкает…»
Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.
Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.
Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.
Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.
«Конверт какой-то странный, странный…»
Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, – так, какой-то кустик.
И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.
«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.
Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».
Лавр
Не помнит лавр вечнозеленый,
Что Дафной был, и бог влюбленный
Его преследовал тогда;
К его листве остроконечной
Подносит руку первый встречный
И мнет, не ведая стыда.
Не помнит лавр вечнозеленый,
И ты не помнишь, утомленный
Путем в Батум из Кобулет,
Что кустик этот глянцевитый,
Цветами желтыми увитый,
Еще Овидием воспет.
Выходит дождик из тумана,
Несет дымком из ресторана,
И Гоги в белом пиджаке
Не помнит, сдал с десятки сдачу
Иль нет… а лавр в окне маячит…
А сдача – вот она, в руке.
Какая долгая разлука
И блекнет память, и подруга
Забыла друга своего,
И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало,
Никто не помнит ничего.
«Ну прощай, прощай до завтра..«
Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.
Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Еще поздней.
Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теребить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.
Что ж тянуть, стоять в передней.
Да и можно ль быть точней?
До черты прощай последней,
До смертельной. И за ней.
«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь..«
Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив – и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.
Умереть – это значит шуметь на ветру
Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть – это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.
Умереть – расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть – это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.
«Расположение вещей…»
Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.
Сюда – цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином – туда.
«Скажи, ты счастлив?» – «Нет». – «А так?»
«Почти». – «А так?» – «О да!»
«Какое счастье, благодать…»
Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!
Пока мы спали, ты и я,
В саду листва шумела
И с неба темные края
Сверкали то и дело.
Пока мы спали, у стола
Чудак с дремотой спорил,
Но спал я, спал, и ты спала,
И сон всех ямбов стоил.
Мы спали, спали… Наравне
С любовью и бессмертьем
Давалось даром то во сне,
Что днем – сплошным усердьем.
Мы спали, спали, вопреки,
Наперекор, вникали
В узоры сна и завитки,
В детали, просто спали.
Всю ночь. Прильнув к щеке щекой.
С доверчивостью птичьей.
И в беззащитности такой
Сходило к нам величье.
Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье – сон вдвоем,
Кто нам позволил это?
«Уходит лето. Ветер дует так..«
Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето – жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.
По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно, где синь и пароходы.
Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.
Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
И женщины уходят всё быстрей,
Почти бегом, опережая слезы.
«О, слава, ты так же прошла за дождями…»
О, слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настает.
Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.
Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.
Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.
«Умереть, не побывав в Париже…»
Умереть, не побывав в Париже,
Не такая уж беда.
Можно выбрать что-нибудь поближе.
Есть другие города.
Спутник наш в метелях и вожатый,
Разве он угрюм
Оттого, что вместо луврских статуй
Он увидел Арзрум?
Всё же кое-что в тумане видно:
Обелиск, Мулен де ла Галетт…
Александр Сергеевич, мне стыдно,
Что я был в Париже, а вы – нет.
Как у вас лимоном полночь дышит
И Лаура для гостей поет,
А вдали, на севере – в Париже
Дождь идет.
Побывав дней пять в чужой столице,
Поглазев на Нотр-Дам,
Кто у нас стихов о загранице
Не писал, с бравадой пополам?
Только вы, в сугробах утопая
На глухом Конюшенном мосту.
Ненавижу Николая
За его железную узду!
Страшен Мойки вид мемориальный,
Роковой оттенок синевы,
Полумертвый и полуподвальный,
Где лежали вы.
Как боюсь я вот таких диванов,
Скрытых тех пружин.
Взгляд бежит от хроник и романов
Словно впрыснут атропин.
От любви. От выстуженной Леты.
От зимы, сжимающей виски.
От чего еще с ума поэты
Сходят? От тоски.
Ах, какой широкою метелью
К ночи тянет ледяной.
Говорят, вы учите веселью
И гармонии сплошной.
Сделайте ученику плохому
Милость, дайте знак,
Что теперь у вас всё по-другому,
Веселей, не так…
Как при хмурой он хорош погоде,
Фиолетов, рыж!
Или там, где вы теперь живете,
Не проблема – дождик и Париж?
Вместо статьи о вяземском
Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел;
Те умерли вдали, а те погибли.
С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.
Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел,
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачнею.
В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденея.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.
Он сам себе забвенье предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим всё как есть.
Оставим всё как есть: как будто нету.
Пойдем же вдоль мойки, вдоль мойки…
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженых лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.
Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.
Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна
То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,
Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.
Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,
Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,
Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.
Потом через Невский, с разбегу,
Всё прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.
И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плавясь на шпиле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! —
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.
Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.
Дом Связи – как будто коробка
И рядом еще коробок.
И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.
И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.
Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый
Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!
Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я всё отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней..
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!
Посещение
Приятель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?
– Ах, маменькин этот сынок?
– Ну, ну, – отвечаю, – полегче.
Вчера я прилег,
Смежил на мгновенье ресницы —
Вломился в мой сонный висок
Обугленный гость, словно рок,
С цветком сумасшедшим в петлице.
Смешался на миг,
Увидев, как я растерялся.
И в свитере снова возник,
И что-то бубнил, и на крик,
Как невская чайка, срывался.
Вздымала Нева
За ним просмоленную барку.
Полдня разгружал он дрова.
На небо взглянул – синева.
Обрадовался, как подарку.
Потом у перил
Стоял, выправляя дыханье.
Я счастлив, что он захватил
Другую эпоху, ходил
За справками и на собранье.
Как будто привык.
Дежурства. Жилплощадь. Зарплата.
Зато – у нас общий язык.
Начну предложенье – он вмиг
Поймет. Продолжать мне не надо.
«Едкий дымок мандариновой корки…»
Едкий дымок мандариновой корки.
Колкий снежок. Деревянные горки.
Всё это видел я тысячу раз.
Что же так туго натянуты нервы?
Сердце колотится, слезы у глаз.
В тысячный – скучно, но в тысяча первый…
Весело вытереть пальцы перчаткой.
Весело с долькой стоять кисло-сладкой.
Всё же на долю досталось и мне
Счастья, и горя, и снега, и смеха.
Годы прошли – не упало в цене.
О, поднялось на ветру, вроде меха!
«Себе бессмертье представляя…»
Себе бессмертье представляя,
Я должен был пожать плечом:
Мне эта версия благая
Не говорила ни о чем.
Как вдруг одно соображенье
Блеснуло ярче остальных:
Что, если вечность – расширенье
Всех мимолетностей земных?
Допустим, ты смотрел на вилку,
Не видя собственной руки,
Двух слив, упавших за бутылку,
И раскрасневшейся щеки.
Теперь ты сможешь на досуге
Увидеть вдруг со всех сторон
Накрытый стол, лицо подруги,
Окно, деревья, небосклон.
«Быть нелюбимым! Боже мой!…»
Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.
Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.
Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дождаться.
Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.
Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!
«Как люблю я полубред…»
Как люблю я полубред
Книг, стареющих во мраке,
Те страницы, что на свет —
Словно денежные знаки.
И поэтов тех люблю,
Что плывут в поля иные,
Словно блики по стеблю
Или знаки водяные.
Блеск бумаги желт и мглист.
Как лошадка, скачет строчка.
Всё разнять стремишься лист,
Словно слиплось три листочка.
Словно там-то, среди трех,
Второпях пропущен нами,
Самый тихий спрятан вздох,
Самый легкий взмах руками.
В кафе
В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любуется он
На мизинце своем волосатом.
Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек, – он говорит, – позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».
Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.
Он волшебный! хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.
Повернуть бы еще раз – и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень… на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?
А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень – но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется – мало!
То ли рыжего друга в дверях увидать?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?
Белые ночи
Пошли на убыль эти ночи,
Еще похожие на дни.
Еще кромешный полог, скорчась,
Приподнимают нам они,
Чтоб различали мы в испуге,
Клонясь к подушке меловой,
Лицо любви, как в смертной муке
Лицо с закушенной губой.
«В тот год я жил дурными новостями…»
В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.
И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.
«Взметнутся голуби гирляндой черных нот…»
Взметнутся голуби гирляндой черных нот.
Как почерк осени на пушкинский похож!
Сквозит, спохватишься и силы соберешь.
Ты старше Моцарта, и Пушкина вот-вот
Переживешь.
Друзья гармонии, смахнув рукой со лба
Усталость мертвую, принять беспечный вид
С утра стараются, и всё равно судьба
Скупа, слепа,
К ним беспощадная, зато тебя щадит.
О, ты-то выживешь! залечишь – и пройдет.
С твоею мрачностью! без слез, гордясь собой,
Что сух, как лед.
А эта пауза, а этот перебой —
Завалит листьями и снегом заметет.
С твоею тяжестью! сырые облака
По небу тянутся, как траурный обоз,
Через века.
Вот маска с мертвого, вот белая рука —
Ничто не сгладилось, ничто не разошлось.
Они не вынесли, им не понятно, как
Живем до старости, справляемся с тоской,
Долгами, нервами и ворохом бумаг…
Музейный узенький рассматриваем фрак,
Лорнет двойной.
Глядим во тьму.
Земля просторная, но места нет на ней
Ни взмаху легкому, ни быстрому письму.
И всё ж в присутствии их маленьких теней
Не так мучительно, не знаю почему.
«Исследовав, как Критский лабиринт…»
Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.
Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире – та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.
От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.
Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,
Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.
Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.
Звонит мне под вечер приятель, дуя в трубку.
Плохая слышимость. Всё время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?
О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз
Водою в шлюзе,
Всё прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.
Взамен любовной переписки
Сергею Коробову
Взамен любовной переписки,
Ее свободней и точней.
Слетают письма от друзей
С нагорных троп и топей низких,
Сырым пропахшие снежком,
Дорожной гарью и мешком,
Погодой зимней и ненастной.
И на конверте голубом
Чернеет штамп волнообразный.
Собой расталкивая мрак,
То из Тюмени, то с Алтая.
И ходит строчка стиховая
Меж нами, как масонский знак.
Родную душу узнаю,
На дальний оклик отвечаю,
Как будто на валу стою.
Соединить бы всю семью,
Да как собрать ее – не знаю.
Руины
Для полного блаженства не хватало
Руин, их потому и возводили
В аллеях из такого матерьяла,
Чтобы они на хаос походили,
Из мрамора, из праха и развала,
Гранитной кладки и кирпичной пыли.
И нравилось, взобравшись на обломок,
Стоять на нем, вздыхая сокрушенно.
Средь северных разбавленных потемок
Всплывал мираж Микен и Парфенона.
Татарских орд припудренный потомок
И Фельтена ценил, и Камерона.
Когда бы знать могли они, какие
Увидит мир гробы и разрушенья!
Я помню с детства остовы нагие,
Застывший горя лик без выраженья.
Руины… Пусть любуются другие,
Как бузина цветет средь запустенья.
Я помню те разбитые кварталы
И ржавых балок крен и провисанье.
Как вы страшны, былые идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья,
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!
Вот человек, похожий на руину.
Зияние в его глазах разверстых.
Такую брешь, и рану, и лавину
Не встретишь ты ни в Дрезденах, ни в Брестах.
И дом постыл разрушенному сыну,
И нет ему забвения в отъездах.
Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.
В развале этом, правильно-дотошном,
Зачем искать другой, кроваво-ржавый?
Мы знаем, где искать руины: в прошлом.
А будущее ни при чем, пожалуй.
Сгинь, призрак рваный в мареве сполошном!
Останься здесь, но детскою забавой.
«Слово «нервный» сравнительно поздно…»
Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломным сознаньем и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните… ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: – Нельзя ли без нервов?
– Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
– Ты припомнил бы мне еще тапки.
– Ведь девятое только число, —
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.
«Я шел вдоль припухлой тяжелой реки…»
Я шел вдоль припухлой тяжелой реки,
Забывшись, и вздрогнул у моста Тучкова
От резкого запаха мокрой пеньки.
В плащах рыбаки
Стояли уныло, и не было клева.
Свинцовая, сонная, тусклая гладь.
Младенцы в такой забываются зыбке.
Спать, глупенький, спать.
Я вздрогнул: я тоже всю жизнь простоять
Готов у реки ради маленькой рыбки.
Я жизнь разлюбил бы, но запах сильней
Велений рассудка.
Я жизнь разлюбил бы, я тоже о ней
Не слишком высокого мнения. Будка,
Причал, и в коробках – шнурочки червей.
Я б жизнь разлюбил, да мешает канат
И запах мазута, веселый и жгучий.
Я жизнь разлюбил бы – мазут виноват
Горячий. Кто мне объяснит этот случай?
И липы горчат.
Не надо, оставьте ее на меня,
Меня на нее, отступитесь, махните
Рукой, мы поладим: реки простыня,
И складки на ней, и слепящие нити
Дождливого дня.
Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне.
Как будто прикручен к ней этим канатом.
«Времена не выбирают…»
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.
Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
Разговор в прихожей
Не наговорились. В прихожей, рукой
С четвертой попытки в рукав попадая,
О Данте, ни больше ни меньше, с такой
Надсадой и страстью заспорить: – Ни рая,
Ни ада его не люблю. – Подожди,
Как можно… – (И столько же тщетных попыток
Открыть без хозяина дверь, позади
Торчащего.) – Вся эта камера пыток
Не может нам искренне нравиться. – Он
Подобен Всевышнему. – Что же так скучен?
– Ну, знаешь… – И с новым запалом вдогон
Трясущему дверь: – Если ты равнодушен,
То это не значит еще… И потом,
Он гений и мученик. – В чьем переводе
Читал ты его? Где мой зонт? – Не о том
Речь, в чьем переводе. Подобен породе
Гранитной, с вкрапленьями кварца, слюды.
И магма метафор, и шахта сюжета.
Вот зонт. Кстати, в моде складные зонты.
– Твой мрамор и шпат – из другого поэта,
Не Данте нашедшего в них, а себя,
Черты своего становленья и склада.
По-моему, век наш, направо губя
Людей и налево, от Дантова ада
Наш взор отвратил: зарывали и жгли
И мыслимых мук превзошли варианты… —
Опомнюсь. Мы что, подобрать не могли
Просторнее места для спора о Данте?
«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна…»
Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.
Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть, что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.
Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет. Он плачет.
Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье поблизости, в том, что привычно,
Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, каменея, к Харону вторично.
Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.
«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах…»
Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.
В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.
Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадать и опять, становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.
О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.
И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.
«Придешь домой, шурша плащом…»
Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.
Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственней всего.
Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.
Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвесть.
– Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, – скажет, – есть.
И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.
Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.
Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.
Как мир качается – держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственней еще?
«Ты так печальна, словно с уст…»
Ты так печальна, словно с уст
Слететь признание готово.
Но ты молчишь, а впрочем, Пруст
Сказал об этом слово в слово,
Что лица женские порой
У живописцев на полотнах
Полны печали неземной,
Последних дум бесповоротных,
Меж тем как смысл печали всей
И позы их и поворота —
Они глядят, как Моисей
Льет воду в желоб – вся забота!
«Любил – и не помнил себя, пробудясь…»
Любил – и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.
И отдых кончался при мысли о ней,
Недолог же он! И опять – наважденье.
Любил – и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушенье
Расстаться с собой на виду у вещей.
И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.
Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письмена, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.
Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знанье причин,
А знанье причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.
Любил – и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв – молодым
Быть; старым и всё это вынесшим – лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.
Любил – и теперь еще… нет, ничего
Подобного больше, теперь – всё в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторки, и сборки, и складки.
Любил… о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил – и любил.
«Испорченные с жизнью отношенья…»
Испорченные с жизнью отношенья
Не скрасит мела снежного крошенье,
Намыливает лишь сильней петлю.
Не позвонишь ей в день рожденья,
Не скажешь: «Глупая, помиримся, люблю!»
Она теперь с другими дружбу водит
И улыбается другим.
Мы что-то поняли в ее природе,
Чего стесняется она, изъяна вроде,
Порока вроде, – вот и льнет не к нам, а к ним.
Ей с ними весело, а мы с ней сводим счеты.
Уличена во лжи, как мелкое жулье,
Забыла ноты,
Стихи, запуталась, превысила расходы,
И в унижении мы видели ее.
И это – мелочи, и если называем
Их, то с тем умыслом, чтоб сути не задеть.
Петляем.
«С какою нечистью…» – И фразу заметаем
Снежком, наброшенным на эту тьму, как сеть.
Где ты была, когда, лицом уткнувшись в стену,
Пластом лежали мы, мертвей, чем талый наст?
Кого на смену
Нам присмотрела ты и вывела на сцену?
Влюблен ли он, как мы, и быстр, и языкаст?
«Нас не растрогает, – кричим, – твой вроде мела
Снег и дрожание заплывших тополей!
И есть всему предел, тебе лишь нет предела.
Ты надоела!»
И видим с ужасом: мы надоели ей.
Куст
Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.
Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.
Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.
«Какое чудо, если есть…
Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!
Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда всё тайна, всё секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.
Пиры
Андрею Смирнову
Шампанское – двести бутылок,
Оркестр – восемнадцать рублей,
Пять сотен серебряных вилок,
Бокалов, тарелок, ножей,
Закуски, фазаны, индейки,
Фиалки из оранжерей, —
Подсчитано всё до копейки,
Оплачен последний лакей.
И давнего пира изнанка
На глянцевом желтом листе
Слепит, как ночная Фонтанка
С огнями в зеркальной воде.
Казалось забытым, но всплыло,
Явилось, пошло по рукам.
Но кто нам расскажет, как было
Беспечно и весело там!
Тоскливо и скучно! Сатира
На лестнице мраморный торс.
Мне жалко не этого пира
И пара, а жизни – до слез.
Я знаю, зачем суетливо,
Иные оставив миры,
Во фраке, застегнутом криво,
Брел Тютчев на эти пиры.
О, лишь бы томило, мерцало,
Манило до белых волос…
Мне жалко не этого бала
И пыла, а жизни – до слез,
Ее толчеи, и кадушки
С обшарпанной пальмою в ней,
И нашей вчерашней пирушки,
И позавчерашней, твоей!
«Быть классиком – значит стоять на шкафу…»
Быть классиком – значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.
Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться – куска проглотить
Не мог при свидетелях, – скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?
Быть классиком – в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.
Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.
«Ребенок ближе всех к небытию…»
Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забытью
Под зыбкие младенческие песни.
Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.
Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.
Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он – при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне.
Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве – забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядись в него: вот-вот его разбудят.
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов…»
Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать – пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!
Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид – вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.
Посещение
Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч —
Их вид меня смутил.
Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?
Неузнаваем лик
Земли – и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой нарос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!
Элегии чужды
Привычкам нашим, – нам
И нет прямой нужды
Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.
В журнале «Крокодил»
Гуляет диплодок,
Как символ грозных сил,
Похожий на мешок.
Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.
Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет.
Бледней, чем райский сад.
Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот – ты был в раю,
Но, видимо, забыл.
Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты вклеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.
А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.
Дрожание ресниц,
Сердечной правды пыл.
Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.
Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.
Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж, —
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.
Мемориальных букв,
На белом – золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.
Луга сползают в смерть,
Как скатерть с бахромой.
Быть может, умереть —
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.
Смеркается. Друзей
Всё меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство – это слух
И зренье, а не страх.
Продрался напролом,
Но луга не нашел.
Давай и мы уйдем
Легко, как он ушел.
Ты думал удивить
Набором перемен,
Накопленных тобой,
Но мокрые кусты
Не знают, с чем сличить
Отцветшие черты,
Поблекший облик твой,
Сентиментальных сцен
Стыдятся, им что ты,
Должно быть, что любой.
И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир —
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.
«Был туман. И в тумане…»
Я. Гордину
Был туман. И в тумане
Наподобье загробных теней
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.
Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.
А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развеян, разбит.
И тогда – ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.
Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея – прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретилась ты на пути.
Мне в истории нравятся фантасмагория, фанты,
Всё, чего так стыдятся историки в ней.
Им на жесткую цепь хочется посадить варианты,
А она – на корабль и подносит им с ходу – сто дней!
И за то, что она не искусство для них, а наука,
За обидой не лезет в карман.
Может быть, она мука,
Но не скука. Я вышел во двор, пригляделся: туман.
Сложив крылья
Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.
Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.
Как богаты мы были, да всё потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск – и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали.
Царь Эдип.
Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.
И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.
И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.
Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»
Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?
Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершённое втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.
Может быть, в том, что бабочка знойные крылья сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем – и вспорхнет, и очнется, принцесса Брамбила
В разноцветной пыли!
«Сентябрь выметает широкой метлой…»
Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.
Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся – и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.
Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!
«Стой стороны любви, с той стороны смертельной…»
С той стороны любви, с той стороны смертельной
Тоски мерещится совсем другой узор:
Не этот гибельный, а словно акварельный,
Легко и весело бегущий на простор.
О боль сердечная, на миг яви изнанку,
Как тополь с вывернутой на ветру листвой,
Как плащ распахнутый, как край полы, беглянку
Вдруг вынуждающий прижать пальто рукой.
Проси, чтоб дунуло, чтоб с моря в сад пахнуло
Бодрящей свежестью волн, бьющихся о мыс,
Чтоб слово ровное нам ветерком загнуло —
И мы увидели его ворсистый смысл.
«Как клен и рябина растут у порога…»
Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть – всё равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.
«Если камешки на две кучки спорных…»
Е. Невзглядовой
Если камешки на две кучки спорных
Мы разложим, по разному их цвету,
Белых больше окажется, чем черных.
Марциал, унывать нам смысла нету.
Если так у вас было в жестком Риме,
То, поверь, точно так и в Ленинграде,
Где весь день под ветрами ледяными
Камни в мокром красуются наряде.
Слышен шелест чужого разговора.
Колоннада изогнута, как в Риме.
Здесь цветут у Казанского собора
Трагедийные розы в жирном гриме.
Счастье – вот оно! Театральным жестом
Тень скользнет по бутонам и сплетеньям.
Марциал, пусть другие ездят в Пестум,
Знаменитый двукратным роз цветеньем.
«И пыльная дымка, и даль в ореоле…»
И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роща в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Что мышь полевую находит в кармане.
Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За Господа Бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.
Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской, —
Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?
Восьмидесятые
«Небо ночное распахнуто настежь – и нам…»
Небо ночное распахнуто настежь – и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки… Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.
Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.
Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся – вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму – и подавно.
Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой.
Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная —
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.
Ночная бабочка
Пиджак безжизненно повис на спинке стула.
Ночная бабочка на лацкане уснула.
Где свет застал ее – там выдохлась и спит.
Где сон сморил ее – там крылья распластала.
Вы не добудитесь ее: она устала.
И желтой ниточкой узор ее прошит.
Ей, ночью видящей, свет кажется покровом
Сплошным, как занавес, но с краешком багровым.
В него укутанной, покойно ей сейчас.
Ей снится комната со спящим непробудно
Во тьме, распахнутой безжалостно и чудно,
И с беззащитного она не сводит глаз.
«По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам…»
По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.
За милою тенью, тебя поджидающей там.
Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
Ах, с самого детства никто тебя так не водил!
По рощам блаженных, по волнообразным, густым,
Расчесанным травам – лишь в детстве ступал по таким!
Никто не стрижет, не сажает их – сами растут.
За милою тенью. – «Куда мы?» – «Не бойся. Нас ждут».
Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно,
Куда с детским садом в три года меня привезли, —
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.
По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди
Такую родную, как эти грибные дожди,
Такую большую – не меньше, чем та, что была.
И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.
«Страна, как туча за окном…»
Страна, как туча за окном,
Синеет зимняя, большая.
Ни разговором, ни вином
Не заслонить ее, альбом
Немецкой графики листая,
Читая медленный роман,
Склонясь над собственной работой,
Мы всё равно передний план
Предоставляем ей; туман,
Снежок с фонарной позолотой.
Так люди, ждущие письма,
Звонка, машины, телеграммы,
Лишь частью сердца и ума
Вникают в споры или драмы,
Поступок хвалят и строку,
Кивают: это ли не чудо? —
Но и увлекшись, начеку:
Прислушиваются к чему-то.
«Нет лучшей участи, чем в Риме умереть…»
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.
Нет лучшей участи… похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи, – твержу… Когда б не тень,
Не тень смертельная… Постой, я не об этом.
Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеокими, как пламя, небесами
Там воин мраморный не в силах встать с колен,
Лежат надгробия, как тени под глазами.
Нет лучшей участи, чем в Риме… Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к Богу.
Нет лучшей участи, – твержу… Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.
Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.
«В тридцатиградусный мороз представить света…»
В тридцатиградусный мороз представить света
Конец особенно легко.
Трамвай насквозь промерз. Ледовая карета.
Сухое, пенное, слепое молоко.
И в наших комнатах согреться мы не в силе.
Кроваво-красную не взбить в прожилке ртуть.
Весь день в России
За край и колется, и страшно заглянуть.
Так вот он, оползень! Они смешны с призывом
В мороз открытыми не оставлять дверей.
Сыпучий оползень с серебряным отливом.
Как в мире холодно, а будет холодней.
Так быстро пройден путь, казавшийся огромным!
Мы круг проделали – и не нужны века.
Мне всё мерещится спина в дыму бездомном
Того нелепого, смешного седока.
Он ловит петельку, мешать ему не надо.
Не окликай его в тумане и дыму.
Я мифологию Шумера и Аккада
Дней пять вожу с собой, не знаю, почему.
Всех этих демонов кто вдохновил на буйство?
То в плач пускаются, то в пляс.
Бог просит помощи, его приводят в чувство.
Табличка с текстом здесь обломана как раз.
Табличке глиняной нам не найти замену.
Жаль царств развеянных, жаль бога-пастуха.
Как в мире холодно! Метель взбивает пену.
Не возвратит никто погибшего стиха.
Снег
Ах, что за ночь, что за снег, что за ночь, что за снег!
Кто научил его падать торжественно так?
Город и все его двадцать дымящихся рек
Бег замедляют и вдруг переходят на шаг.
Диск телефона не стану крутить – всё равно
Спишь в этот час, отключив до утра аппарат.
Ах, как бело, как черно, как бело, как черно!
Царственно-важный, парадный, большой снегопад.
Каждый шишак на ограде в объеме растет,
Каждый сучок располнел от общественных сумм.
Нас не затопит, но, видимо, нас заметет:
Всё Геркуланум с Помпеей приходят на ум.
В детстве лишь, помнится, были такие снега,
Скоро останется колышек шпиля от нас,
Чтобы Мюнхаузен, едущий издалека,
К острому шпилю коня привязал еще раз.
«Что мне весна? Возьми ее себе!…»
Что мне весна? Возьми ее себе!
Где вечная, там расцветет и эта.
А здесь, на влажно дышащей тропе,
Душа еще чувствительней задета
Не ветвью, в бледно-розовых цветах,
Не ветвью, нет, хотя и ветвью тоже,
А той тоской, которая в веках
Расставлена, как сеть; ночной прохожий,
Запутавшись, возносит из нее
Стон к небесам… но там его не слышат,
Где вечный май, где ровное житье,
Где каждый день такой усладой дышат.
И плачет он меж Невкой и Невой,
Вблизи трамвайных линий и мечети,
Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.
Павловск
Холмистый, путаный, сквозной, головоломный
Парк, елей, лиственниц и кленов череда,
Дуб, с ветвью вытянутой в сторону, огромной,
И отражающая их вода.
Дуб, с ветвью вытянутой в сторону, огромной,
С вершиной сломанной и ветхою листвой,
Полуразрушенный, как старый мост подъемный,
Как башня с выступом, военный слон с трубой.
И два-три желудя подняв с земли усталой,
Два-три солдатика с лежачею судьбой,
В карман их спрятали… что снится им? Пожалуй,
Рим, жизнь на пенсии и домик типовой.
Природа, видишь ли, живет, не наблюдая,
Вполне счастливая, эпох, веков, времен,
И ветвь дубовая привыкла золотая
Венчать храбрейшего и смотрит: где же он?
И ей на вышколенных берегах Славянки,
Где слиты русские и римские черты,
То снег мерещится и маленькие санки,
То рощи знойные и ратные ряды.
«В одном из ужаснейших наших…»
В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов,
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.
Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
А ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.
«И хотел бы я маленькой знать тебя с первого дня…»
И хотел бы я маленькой знать тебя с первого дня,
И когда ты болела, подушку взбивать, отходить
От постели на цыпочках… я ли тебе не родня?
Братья? Сорок их тысяч я мог бы один заменить.
Ах, какая печаль – этот пасмурный северный пляж!
Наше детство – пустыня, так медленно тянутся дни.
Дай мне мяч, всё равно его завтра забросишь, отдашь.
Я его сохраню – только руку с мячом протяни.
В детстве так удивительно чувствуют холод и жар.
То знобит, то трясет, нас на все застегнули крючки.
Жизнь – какой это взрослый, таинственный, чудный кошмар!
Как на снимках круглы у детей и огромны зрачки!
Я хотел бы отцом тебе быть: отложной воротник
И по локти закатаны глаженые рукава,
И сестрой, и тем мальчиком, лезущим в пляжный тростник,
Плечи видно еще, и уже не видна голова.
И хотел бы сквозить я, как эта провисшая сеть,
И сверкать, растекаясь, как эти лучи на воде,
И хотел бы еще, умерев, я возможность иметь
Обменяться с тобой впечатленьем о новой беде.
«На выбор смерть ему предложена была…»
На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.
У греков – жизнь любить, у римлян – умирать,
У римлян – умирать с достоинством учиться,
У греков – мир ценить, у римлян – воевать,
У греков – звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков – жизнь любить, у греков – торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков – воск топить и умирать – у римлян.
Сон
В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.
Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.
И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладною рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.
Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.
Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.
Не помню, как заснул и сколько спал – мгновенье
Иль век? – когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: «Патрокл сражен!»
Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. Еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.
«Я знаю, почему в Афинах или Риме…»
Я знаю, почему в Афинах или Риме
Поддержки ищет стих и жалуется им.
Ему нужны века, он далями сквозными
Стремится пробежать и словно стать другим,
Трагичнее еще, таинственней, огромней.
И эхо на него работает в поту.
Он любит делать вид, что все каменоломни
В Коринфе обошел, все дворики в порту.
Он в наш вбегает день – идет снежок мучнистый,
Автобус синий дым волочит, как крыло,
И к снегу подмешав как будто прах кремнистый,
Стих смотрит на людей и дышит тяжело.
Сейчас он запоет, заплачет, зарыдает,
Застонет, завопит… но он заводит речь
Простую, как любой, кто слишком много знает,
Устал – и всё равно не сбросит тяжесть с плеч.
«Как пуговичка, маленький обол…»
Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке всё всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.
«Когда шумит листва, тогда мне горя мало…»
Когда шумит листва, тогда мне горя мало.
Отпряну, посмотрю на зрелый возраст свой;
Мне лишь бы смысл в стихах листва приподнимала,
Братался листьев шум со строчкой стиховой.
О, как я далеко зашел, как затуманен!
К вечерней ближе я, чем к утренней заре.
Теперь какой-нибудь Филипп Аравитянин
Мне ближе, может быть, чем мальчик во дворе.
Ветрами ли, песком, враждой ли исцарапан,
Изъевшей ли висок частичкой бытия,
Глядит поверх голов солдатский император,
И складочка у губ от горького питья.
Но так листва шумит, что, чем бы ни томила
Жизнь, весело сидеть за письменным столом.
На зло найдется зло, да и на силу сила,
И я – про шум листвы, а вовсе не о том.
«Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!…»
Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.
Как будто Тацита читала эта крона
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.
Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынущий среди пустынных вод?
Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный – и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело давнее), кроме тебя, прости.
«По эту сторону таинственной черты…»
По эту сторону таинственной черты
Синеет облако, топорщатся кусты,
По эту сторону мне лезет в глаз ресница,
И стол с приметами любимого труда
По эту сторону, по эту… а туда,
Туда и пуговице не перекатиться.
Свернет, покружится, решится замереть.
Любил я что-нибудь всю жизнь в руке вертеть,
Пора разучиваться. Перевоспитанье
Тьмой непроглядною, разлукой, немотой.
Как эта пуговичка, я перед чертой
Кружусь невидимой, томленье, содроганье.
Подражание древним
Никто не знает флага той страны.
В морском порту, где столько полосатых
И звездчатых, где синие видны,
И желтые, и в огненных заплатах,
Его лишь нет. Он бел, как облака.
Как майская земля, такой он черный.
Никто не знает флага, языка,
Ландшафт ее равнинный или горный?
Никто не знает флага той страны,
Что глиняного старше Междуречья.
Быть может, все мы там обречены
На хаттское и хеттское наречье.
Никто не знает флага, языка,
Он запылен, как кровельщика фартук.
Пока мы здесь, пока твоя рука
Лежит в моей, что Иштар нам, что Мардук?
Никто не знает флага той страны.
Оттуда корабли не приплывали.
Быть может, в языке сохранены
Праиндоевропейские детали.
Что там, холмы, могучая река?
Кого там ценят, Будду или Плавта?
Никто не знает флага, языка.
Ни языка, ни флага, ни ландшафта.
«Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!…»
Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!
Здесь и весна, и страсть, и гордый Ипполит
С собакой и конем, не сдерживая шага,
От мачехи письмо отвергнуть норовит.
Стояли долго мы пред мраморным рассказом,
Смерть жизнью с четырех сторон окружена
И льнет к морским волнам, ступеням и террасам,
К охоте и любви, за камнем не видна.
Там кто-то горько спит, – живые только сладко
Спят, – мерно обойдя его со всех сторон,
Мы видим: жизнь и смерть – единая двойчатка,
На смертном камне мир живой запечатлен.
Конюших провести беспечною гурьбою,
Кормилицу пригнуть, морской раскинуть вал…
Жизнь украшает смерть искусною резьбою,
Без смерти кто бы ей сюжеты обновлял?
«И если спишь на чистой простыне…»
И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок,
Под утюгом так высохла, на солнце?
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.
«Мне кажется, что жизнь прошла…»
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры…
На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,
Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой… еще сказать хочу…
Не помню, что хочу… неважно.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была
К знакомым гостья, – стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, – и жизнь вернулась.
«Жизнь кончилась, а смерть еще не знает…»
Жизнь кончилась, а смерть еще не знает
Об этом. Паузу на что употребим?
На строки горькие, в которых западает
Смысл, словно клавиши, – не уследить за ним.
Шумите, круглые, узорные, резные,
Продолговатые, в прожилках и тенях!
Уже отчетливо видны края иные,
Как берег в трещинах, провалах и камнях,
Изрытый бурями, и видишь: не приткнуться.
Мне жизнь привиделась страшней, чем страшный сон,
Я охнул, дернулся – и некуда проснуться:
Всё та же комната, всё тот же телефон.
И всё же в радости ее назвать прекрасной
Неосмотрительно, и гибельной – в беде.
Как всё изменчиво! И тополь, то ненастный,
То ослепительный, клубится в высоте.
Флейтист
Откуда родом бронзовый флейтист?
Мне флейты родниковый снится голос.
Не с Крита ли, который так дуплист
И вытянут? Эвбея, Скирос, Родос…
Он голову чуть набок наклонил.
Он видит, что и звезды звуку рады.
Он думает: кто в море накрошил,
Как в миску с супом, черствые Спорады?
Других вопросов он не задает.
Кто флейту изобрел, ему известно.
Упала к нам с озвученных высот —
Теперь на ней играют повсеместно.
Кинь что-нибудь – мы подберем с земли
И к надобностям смертным приспособим.
Он ерзает, и руки затекли,
И холодно, и смотрит исподлобья.
Но, выщербленный, он не видит нас
За скважистыми, как скала, веками.
А палец в круглой дырочке увяз,
И жизнь согрета теплыми губами.
Пчела
Пятясь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатей!
Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась – неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?
Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.
На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.
Я засмотрелся – и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.
Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть – ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?
«Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом…»
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо:
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном,
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах, прохлада!
Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.
Боже мой, разве общий какой-нибудь замысел здесь
Представим – эта тень так привольно и сладостно дышит,
И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь,
Как попоной, и ветер сдвигает ее и колышет.
А когда, раскачавшись, совсем ее сдернет, – глаза
Мы зажмурим на миг от июньского жесткого света.
Потому и трудны наши дни, и в саду голоса
Так слышны, и светло, и никем не задумано это.
Бог с овцой
Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.
Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолустье.
А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.
Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке, свыкается с ролью.
Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты;
И припала бы к Божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.
«Камни кидают мальчишки философу в сад…»
Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию – там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.
Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а всё потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.
Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог – это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и накрапах.
То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном, смысле.
Бог – совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.
Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В Боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог – это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.
«Кавказской в следующей жизни быть пчелой…»
Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синею скалой,
Там липы душные, там глянцевые кроны.
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не насладился я речной волной зеленой.
Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист.
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.
Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверяясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.
«Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой…»
Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой
Модели, которой прообразом гипсовый слепок
Служил – с беломраморной, римской, отрытой в одной
Из вилл рядом с Тиволи; долго она под землей
Лежала, и сон ее был безмятежен и крепок.
А может быть, снился ей эллинский оригинал,
До нас не дошедший… Мы копию с копии сняли.
О ряд превращений! О бронзовый идол! Металл
Твой зелен и пасмурен. Я, вспоминая, устал,
А ты? Еще помнишь о веке другом, матерьяле?
Ты всё еще помнишь… А я, вспоминая, устал.
Мне видится детство, трамвай на Большом, инвалиды,
И в голосе диктора помню особый металл,
И помню, кем был я, и явственно слишком – кем стал,
Всё счастье, всё горе, весь стыд, всю любовь, все обиды.
Забыть бы хоть что-нибудь! Я ведь не прежний, не тот,
К тому отношения вовсе уже не имею.
О сколько слоев на мне, сколько эпох – и берет
Судьба меня в руки и снова скоблит и скребет,
И плавит, и лепит, и даже чуть-чуть бронзовею.
«Поэзия – явление иной…»
Поэзия – явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Присмотримся же к призрачному средству
Попасть туда, попробуем прочесть
Стихотворенье с тем расчетом,
Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть
За тем трехсложником, за этим поворотом.
Вот рай, пропитанный звучаньем и тоской,
Не рай, так подступы к нему, периферия
Той дивной местности, той почвы колдовской,
Где сердцу пятая откроется стихия.
Там дуб поет.
Там море с пеною, а кажется, что с пеньем
Крадется к берегу; там жизнь, как звук, растет,
А смерть отогнана, с глухим поползновеньем.
«В полуплаще, одна из аонид…»
В полуплаще, одна из аонид,
Иль это платье так на ней сидит?
В полуплюще, и лавр по ней змеится.
«Я чистая условность, – говорит, —
И нет меня», – и на диван садится.
Ей нравится, во-первых, телефон:
Не позвонить ли, думает, подружке?
И вид в окне, и Смольнинский район,
И тополей кипящие верхушки.
Каким я древним делом занят! Что ж
Всё вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!
А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла
Ты дивный плач по храбрым и убитым.
Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя – на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.
Из запасника ( три стихотворения )
1. Наши поэты
Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Блок по-немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Ахматовой высокопарен слог.
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость – вот порок.
Есть вычурность в строке у Мандельштама.
И Заболоцкий в сердце скуповат.
Какое счастье – даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!
2. Аполлон в снегу
Колоннада в снегу. Аполлон
В белой шапке, накрывшей венок,
Желтоватой синицей пленен
И сугробом, лежащим у ног.
Этот блеск, эта жесткая резь
От серебряной пыли в глазах!
Он продрог, в пятнах сырости весь,
В мелких трещинах, льдистых буграх.
Неподвижность застывших ветвей
И не снилась прилипшим к холмам,
Средь олив, у лазурных морей
Средиземным его двойникам.
Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел.
Здесь, на фоне огромной страны,
На затянутом льдом берегу
Замерзают, почти не слышны,
Стоны лиры и гаснут в снегу,
И как будто они ничему
Не послужат ни нынче, ни впредь,
Но, должно быть, и нам, и ему,
Чем больнее, тем сладостней петь.
В белых иглах мерцает душа,
В ее трещинах сумрак и лед.
Небожитель, морозом дыша,
Пальму первенства нам отдает,
Эта пальма, наверное, ель,
Обметенная инеем сплошь.
Это – мужество, это – метель,
Это – песня, одетая в дрожь.
1975
3
В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели. Италия, прощай!
Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завернутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильем,
Каналами изрезанная сплошь.
Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей,
С каналами? С каналами, мой друг.
Подмочены мои анкеты; где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.
Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не вытащишь на свет:
Прогнило все. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия
Лирическая лишь величина.
Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий… Вам и невдомек,
В какой стране прекрасной вы живете!
Каких еще нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.
Италия, прощай!
В воображенье
Ты еще лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадежна
И разрушает образ, и убого
Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!
Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там, в тенечке,
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я рану залечу.
А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдясь сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрестках топчутся красотки.
Иль вспоминают стены Колизея
И Перуджино… эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают – толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» – «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.
1976
«Горячая зима! Пахучая! Живая!…»
Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Мильоны знойных звезд лелея на весу.
Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.
Теперь бредем вдвоем, а третья – с нами рядом
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон,
Расшитым рукавом, распахнутым халатом
Махнет у самых глаз, – волшебный, чудный сон!
Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.
Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.
«Наш северный модерн, наш серый, моложавый…»
Наш северный модерн, наш серый, моложавый,
Ампиру не в пример, обойден громкой славой
И, более того, едва не уличен
В безвкусице, меж тем как, сумрачно-шершавый,
Таинствен, многолик и неподделен он.
Вот человечный стиль, для жизни создан частной,
Чтобы автомобиль во двор дугообразный
Въезжал, а там цвели сирень и барбарис.
Нарядных окон ряд, – прозрачный стиль, глазастый!
Никто не виноват, что тучей век навис.
Та музыка сошла, поэзия завяла.
Не то чтоб ремесла, – тепла в них было мало,
Но камень устоял, песчаник и гранит.
И каменной сове всё видно с пьедестала:
И нас переживет, и век пересидит.
Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и жгуты чугунные за милых
Наставников сойти в младенчестве смогли,
Воспитывая глаз, и всё, что было в силах,
Всё делали для нас, в ущербе и пыли.
«Каморка лифта тащится, как бы везет в гору…»
Каморка лифта тащится, как бы везет в гору,
Скрипя; в сравненьи с теми, кто живет низко,
Я – горец; стадо коз мне завести впору,
Пасти над краем пропасти их, не боясь риска.
Когда Катулл во Фригию попал в свите
Наместника, он видеть мог пейзаж вроде
Того, что мы в окошечко с тобой видим.
Скалистый мрачный срез; очнись: сейчас сходим.
Французский ключ вставляется в замок просто.
Но знаешь, иногда мне жизнь моя странной
И непривычной кажется: в ее гнезда
И щели не попасть боюсь, как тот пьяный.
Жизнь тесная, крутая, но другой – нету.
Какая есть, такую и любить будем.
Откроем дверь, зажмуримся. Любовь к свету,
Должно быть, в прежней жизни внушена людям.
Не знаю, кто печалится, а я – весел.
О, лишь бы за окном синел родной город!
Душа намного старше этих стен, кресел,
Комода – века два ему, он так молод!
«Кто едет в купе и глядит на метель…»
Кто едет в купе и глядит на метель,
Что по полю рыщет и рвется по следу,
Тот счастлив особенно тем, что постель
Под боком, и думает: странно, я еду
В тепле и уюте сквозь эти поля,
А ветер горюет и тащится следом;
И детское что-то, заснуть не веля,
Смущает его в удовольствии этом.
Как маленький, он погружает в пургу
Себя, и глядит, отстранясь удивленно,
На поезд, и всё представляет в снегу
Покатую, черную крышу вагона,
И чем в представленье его холодней
Она и покатей, тем жить веселее.
О, спать бы и спать среди снежных полей,
Заломленный кустик во мраке жалея.
Наверное, где-нибудь и теплых краях
Подобное чувство ни взрослым, ни детям
Неведомо; нас же пленяет впотьмах
Причастность к пространствам заснеженным этим.
Как холоден воздух, еще оттого,
Что в этом просторе, взметенном и пенном,
С Карениной мы наглотались его,
С Петрушей Гриневым и в детстве военном.
Перед войной ( Воспоминание )
За кулисами сидят, открыта дверь из артистической,
В суконных гимнастерках, пиджаках.
Это – шефы. Это – сон такой, наверное, провидческий.
Актеры с ними, пиво на паях.
Сцена чуть видна отсюда из-за штор, фанерных ящиков,
Невероятных складок и завес.
Там, на сцене, флорентийская чума, актеры в плащиках,
А здесь – пивной, житейский интерес.
Там, на сцене, клочья дыма, пир горой и декламация,
Оттуда, отпылав и умерев,
Прибегают за кулисы, где горторг и авиация
Средь юношей сидят чумных и дев.
Друг мой, что это? Не жгущейся бывает ли история?
Совпавшему с минутой роковой,
Мне с младенчества близка в дыму густом фантасмагория
И, гибельная, кажется родной.
Посмотри, сейчас колпак бумажный снимет эта потная,
В бубенчиках, и скажет: «Духота!»
Это сон такой мне снится. И не тень ли мимолетная
Легла на них, грядущая беда?
«Почему, Иван Лукьяныч, я актриса, а не летчица?»
Мочальная чуть держится коса.
Дезинфекционный дым со сцены понизу волочится,
Окутывает жизнь и ест глаза.
Стол бутылками заставлен. О, какое освещение
Багровое! Подглядывать нельзя.
Всё кончается: и сон, и фильм, и флирт, и угощение,
И жизнь, и жизнь почти что вышла вся.
Ель
За то, что ель зимой зеленой быть умеет,
За то, что все мертвы – она одна жива
И в зимнем холоде, когда душа немеет,
Свои боярские вздымает рукава, —
Так дышат падуги на сцене и кулисы,
В театре, помните, свой бродит ветерок, —
Вечнозеленая, как лавр и кипарисы,
Но тех, изнеженных, сиять поставил Бог
У моря синего на белом солнцепеке,
За то, что ель зимой так чудно зелена,
Люблю понурую, – опережая сроки,
Твердит, что вечная нам предстоит весна.
Твердит, что вечная… Рукою ветвь заденешь,
Как будто частую погладишь бахрому.
Люблю колючую, ей как-то больше веришь:
Ведь если колется, то лгать ей ни к чему?
«На самом деле, мысль, как гость…»
На самом деле, мысль, как гость,
Заходит редко, чаще – с нами
Тоска, усталость, радость, злость
Иль безразличие. Часами,
Нет, не часами, – днями! – тьма
Забот, рассеянье, обрывки
Фраз, вне сознанья и ума,
Заставки больше, перебивки.
Вцепился куст в земную пядь,
И сучья черные так кривы…
Нельзя же мыслями назвать
Все эти паузы, наплывы…
Зато какое торжество,
Блаженный миг неотразимый,
Когда – заждались мы его! —
Гость входит чудный, нелюдимый.
«Как мы в уме своем уверены…»
Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, исступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно…
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначальна?
Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью – что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.
Новорожденная листва
Новорожденная листва:
Пучки, оборки, кружева,
Воротнички, манжетки.
То в трубку свернутый листок,
То словно сложенный платок,
То на манер салфетки.
На всех деревьях и кустах
Ее сжимают в кулаках,
В горстях, несут в щепотке,
И тут же – душные цветки,
Метелки, зонтики, щитки,
И кисточки, и щетки.
Кто шелковист, кто глянцевит,
Кто белым войлоком подбит,
Но тополь всех чуднее:
Он так неряшливо цветет,
И красных гусениц приплод
Под ним шуршит в аллее.
Стареем мы, а мир цветет!
Спасибо, не наоборот.
Признайся, было б хуже,
Когда бы мир слабел, дряхлел,
А ты бы цвел и зеленел
Средь тления и стужи.
И вспоминал бы ты с тоской
Не возраст юношеский свой,
А блеск и зелень мира,
И шел бы, молод и здоров,
Средь лип венозных и дубов,
Скудеющего пира.
«Смысл жизни – в жизни, в ней самой…»
Смысл жизни – в жизни, в ней самой.
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За всё, что высилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.
Микеланджело
Ватикана создатель всех лучше сказал: «Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится тоже,
Как изделье того же ваятеля…» Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей.
Растрепались кусты… Я представил, что нас провели
В мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова… Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всём остальном доверяли.
Эта стать, эта мощь, этот низко надвинутый шлем…
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.
«Не спрашиваю, где теперь душа?…»
Не спрашиваю, где теперь душа?
Но где теперь твой острый слух и зренье?
Ныряет стриж. Но нет без них стрижа.
Ни белых крон, кипящих в отдаленье.
Кому отдал хрусталик чудный свой,
В коробочку его замкнул какую?
Как если бы пришел к себе домой,
Свет не зажег, разделся, лег вслепую.
А тонкий слух улиткой был завит.
И так любовно льнуло осязанье
К поверхностям… Души не жаль! Томит
Совсем не с ней, а с миром расставанье.
Белые стихи
Не я поклонник белого стиха.
Поэзия нуждается в преградах,
Препятствиях, барьерах – превзойти
Наш замысел ей помогает рифма:
Прыжок – и мы кусты перемахнули
И пролетели через ров с водой.
Что губит белый стих? Один и тот же
Мотивчик: вспоминается то «Вновь
Я посетил…», то «Моцарт и Сальери».
Открытие берется напрокат,
Как рюмочки иль свадебный сервиз,
Весь в трещинах, перебывав во многих
Неловких и трясущихся руках.
И если то, что я сейчас пишу,
Читается с трудом, то по причине,
Изложенной здесь, уверяю вас.
Хотя, конечно, два-три виртуоза
Сумели так разнообразить этот
Узор своим необщим речевым
Особенным изгибом, что не вспомнить
Никак нельзя такое, например:
«Раз вы уехали, казалось нужным
Мне жить, как подобает жить в разлуке:
Немного скучно и гигиенично».
А все-таки и здесь повествованье
Живет за счет души и волшебства.
В туманный день лицейской годовщины
Я приглашен был школой-интернатом
На выступленье в садике лицейском
У памятника. Школьники читали
Стихи, перевирая их. Затем
Учительница: «Представляю слово, —
Сказала, – ленинградскому поэту
(так и сказала громко: «представляю»).
Он нам своих два-три стихотворенья
Прочтет», – что я и сделал, не смутясь.
По-видимому, школьники ни слова
Не поняли. Но бронзовый поэт,
Казалось, слушал. Так и быть должно,
Тем более, что все стихи всегда —
Про что-то непонятное, не станет
Нормальный человек писать стихи.
«Друзья мои, прекрасен наш союз!» —
Еще понятно; всё, что дальше, – дико:
«Он как душа неразделим и вечен».
И как это? «Под сенью дружных муз»?
Когда б не Александр Сергеич, в ссылке
Томившийся, погибший на дуэли,
Перечивший царю и Бенкендорфу,
Никто бы нас не звал на торжества…
Подписанную затолкав путевку
В карман нагрудный, я побрел к вокзалу
В задумчивости, разговор ведя
Таинственный… не то кивок в ответ,
Не то пожатье бронзовой десницы…
И только тут увидел лип и кленов
Сплошную, как в больнице, наготу.
И только тут подобие волненья
Почувствовал или намек на смысл.
Стоял на тихой улочке, на самом
Ее углу – прелестный, с мезонином,
Старинный домик, явно подновленный,
Ухоженный, с доской мемориальной.
Так вот он, дом Китаева! Так вот
Где парочка счастливая, но втайне
На гибель обреченная, жила
В холерном ом… Я вошел,
Купил билет… Безлюдье и сверканье.
Как царский камердинер был бы этим
Роскошеством приятно удивлен!
Дом никогда таким нарядным не был.
Но, впрочем, мебель сборная, картинки
На стенах, текст, составленный тактично, —
Меня ничто, ничто не задевало,
Вот только полукруглая одна
Верандочка, стеклянная игрушка,
Построенная для игры в лото
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная,
Непрочная, верандочка, залог
Другой какой-то, невозможной жизни,
Кусочек рая, выступ, выход – как
Его искал потом он, – неприметный,
Такой простой, засыпанный сухими
Сережками, стручками, – не нашел!
«Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю…»
Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.
Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горящей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.
О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.
Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет —
Вот и всё, да струя голубого табачного дыма.
Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.
«А то, что было не для взора…»
А то, что было не для взора
Чужого, что, на ветерке
Плеща, от сада скрыла штора,
Когда, на шелковом шнурке
Скользнув, упала без зазора,
Дыша, как парус на реке, —
Не блажью было, не позора
Утайкой (им, щекой к щеке
Припавшим, было не до хора
Птиц, щебетавших в лозняке) —
А продолженьем разговора
На новом, лучшем языке!
«Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить…»
Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить.
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!
До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.
Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!
За тысячи лет золотого молчанья, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти – вот что мне нравится здесь.
О тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.
О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.
«Что за радость – в обнимку с волной…»
Что за радость – в обнимку с волной,
Что за счастье – уткнувшись в кипящую гриву густую,
Этот дивный изгиб то одной обвивая рукой,
То над ним занося позлащенную солнцем другую,
Что за радость – лежать, —
Что за счастье – ничком, в развороченной влаге покатой,
Эту вогнутость гладя, готовую выпуклой стать,
Без единой морщины, и скомканной тут же, и смятой!
Он еще это вспомнит, зарывшийся в воду пловец,
Эта влажная прелесть пройдет у него перед взором
Нежной ночью, построившей свой мотыльковый дворец
С поцелуями и разговором,
Он поймет, почему так шумит и томится волна,
И на берег ночной набегает,
И на что она ропщет и сетует так, не видна
В темноте, и камнями скрипит, и песок загребает.
«Морская тварь, свернушись на песке…»
Морская тварь, свернушись на песке,
В конвульсиях, сверкала и мертвела,
И капелька на каждом волоске
Дрожала… Кто ей дал такое тело
Граненое, – спросить хотелось мне, —
Скульптурное, хоть ставь сейчас на полку?
Баюкать сокровенное на дне,
Во тьме его лелеять втихомолку!
Мерещился мне чуть ли не укор.
Все таинства темны и целокупны.
Готический припомнил я собор,
Те статуи, что взгляду недоступны.
Ремонтные леса нужны, чтоб влезть
Знаток сумел к ним, сумрачным, однажды.
Достаточно того, что это есть.
А ты б хотел, чтоб видел это каждый?
«Морем с двенадцатого этажа…»
Морем с двенадцатого этажа,
Как со скалы, любоваться пустынным
Можно, громадой его дорожа,
Синим, зеленым, лиловым, полынным,
Розовым, блеклым, молочным, льняным,
Шелковым, вкрадчивым, пасмурным, грубым,
Я не найдусь, – ты подскажешь, каким,
Гипсовым, ржавым, лепным, белозубым,
Мраморным. Видишь, я рад перерыть,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным – радость какая!
Что за текучий, трепещущий свет!
Как хорошо на летящем балконе!
Видишь ли, я не считаю, что нет
Слов, я и счастья без слов бы не понял.
«Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный…»
Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,
Как сбрасывает он обвисшую кору,
Сухой, неосторожный!
Для запахов никак я слов не подберу.
А в знойной вышине как будто десять шапок,
Так зеленью кустистой он накрыт.
Не память, не любовь, всего сильнее запах,
Который ускользнуть навеки норовит.
Вот то, чему и впрямь на свете нет названья.
Нельзя определить, понять через другой,
Сравнить… вот вещь в себе… молчит воспоминанье,
Воображенье спит… напрасен оклик твой.
Не отзовется тот, кто терпким, вездесущим,
Когда под ним стоишь, склонялся, обступал.
Он там, вдали от нас, прекрасен и запушен,
Как бы волшебный круг сплошной образовал,
Магический… зато когда-нибудь, хоть в жизни
Совсем другой, вернись под пышный свод, —
И он тебе вручит и нынешние мысли,
И знойный этот день в сохранности вернет.
Дворец
В этих креслах никто никогда не сидел,
На диванах никто не лежал,
Не вершил за столом государственных дел,
Малахитовый столбик в руках не вертел
И в шкатулке наборной бумаг не держал;
Этот пышный, в тяжелых кистях, балдахин
Не свисал никогда ни над чьей головой,
Этот шелк и муслин,
Этот желто-зеленый, лиловый прибой;
Этот Рим, эта Греция, этот Париж,
В прихотливо-капризный построившись ряд,
Эта дивная цепь полуциркульных ниш,
Переходов, колонн, галерей, анфилад,
Этот Бренна ковровый, узорный, лепной,
Изумрудный, фиалковый, белый, как мел,
Камерона слегка потеснивший собой,
Воронихин продолжил, что он не успел, —
Это невыносимо.
Способность души
Это выдержать, видимо, слишком мала.
Друг на друга в тиши,
Чуть затихнут шаги и придвинется мгла,
Смотрят вазы, подсвечники и зеркала.
Здесь, как облако, гипсовый идол в углу;
Здесь настольный светильник, привыкнув к столу,
Наступил на узор, раззолоченный сплошь,
Так с ним слившись, что кажется, не отдерешь.
Есть у вещи особое свойство – светясь
Иль дымясь, намекать на длину и объем.
И не вещи люблю, а предметную связь
С этим миром, в котором живем.
И потом, если нам удалось бы узор
Разгадать и понять, почему
Он способен так властно притягивать взор,
Может быть, мы счастливей бы стали с тех пор,
Ближе к тайне, укрытой во тьму.
Это залы для призраков, это почти
Итальянская вилла, затерянный рай,
Затопили дожди,
Завалили снега, невозможно зайти,
Не шепнув остающейся жизни: прощай!
Рукотворный элизий с расчетом на то,
Чтобы, взглядом смущенным скользнув по нему,
Проходили гуськом; в этой спальне никто
Не лежал в розовато-кисейном дыму.
А хозяева этих небес на земле,
Этих солнечных люстр, этих звездчатых чаш
Жили ниже и, кажется, в правом крыле.
Золочено-вощеный, предметный мираж!
Всё же был поцелован однажды среди
Этих мраморных снов я тайком, на ходу.
Мы бродили по залам и сбились с пути.
Я хотел бы найти,
Умерев, ту развилку, паркетину ту.
Это чудо на фоне январских снегов,
Афродита, Эрот и лепной виноград,
Этот обморок, матовость круглых белков,
Эта смесь всех цветов, и щедрот, и веков,
А в зеркальном окне – снегопад,
Эти музы, забредшие так далеко,
Что дорогу метель замела,
Ледяное, сухое, как сыпь, молоко,
Голубая защита стекла, —
В этом столько же смелости, риска, тоски
Или дикости, – как посмотреть, —
Сколько в жизни, что ждет, потирая виски,
Не начну ль вспоминать и жалеть
Об исчезнувшей. Нет, столько зим, столько дел,
И забылось, и руку разжал.
И потом, разве снег за окном поредел?
И к тому ж в этих креслах никто не сидел
И в шкатулке бумаг не держал.
«Низкорослой рюмочки пузатой…»
Низкорослой рюмочки пузатой
Помнят пальцы тяжесть и объем
И вдали от скатерти измятой,
Синеватым залитой вином.
У нее такое утолщенье,
Центр стеклянной тяжести внизу.
Как люблю я пристальное зренье
С ощущеньем точности в глазу!
И еще тот призвук истеричный,
Если палец съедет по стеклу!
И еще тот хаос пограничный,
Абажур, подтянутый к столу.
Боже мой, какие там химеры
За спиной склубились в темноте!
И какие страшные примеры
Нам молва приносит на хвосте!
И нельзя сказать, что я любитель,
Проводящий время в столбняке,
А скорее, слушатель и зритель
И вращатель рюмочки в руке.
Убыстритель рюмочки, качатель,
Рассмотритель блещущей – на свет,
Замедлитель гибели, пытатель,
Упредитель, сдерживатель бед.
«Тарелку мыл под быстрою струей…»
Тарелку мыл под быстрою струей
И всё отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, – одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей…
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.
Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято-волнистым…
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.
«Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон…»
Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон…
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, подержи на руке, как цепочку.
Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять.
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь,
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.
Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и стулу.
На таком расстоянье и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.
Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я, – никто мне не скажет, не знаю.
Словно мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет,
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.
«Перевалив через Альпы, варварский городок…»
Перевалив через Альпы, варварский городок
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
«О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?»
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: «Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым
или третьим в Риме…»
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть —
с окрестностями заводскими.
И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье
спит —
Укачало его, – спрошу: «Как ты думаешь, изменился
Человек или он всё тот же, словно пиния и самшит?»
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему
приснился.
Перед статуей
В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая
вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный… здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.
Кончик пальца смочил я в застойной воде дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.
Что такое бессмертие, память, удачливость, власть, —
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень, – наложены трещинки густо.
Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цезарей помнят едва ли…
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.
Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет… но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.
«Гудок пароходный – вот бас; никакому певцу…»
Гудок пароходный – вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.
Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем – нас встретят, введут во дворец и полюбят.
Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.
На ощупь, во мраке… Густому, как горе, гудку
Ответом – волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.
Как будто все чудища Древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры…
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.
«За дачным столиком, за столиком дощатым…»
За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
За старым столиком… слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком… почти развоплощенье…
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.
В саду за столиком… А дело в том, что слишком
Душа привязчива… и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.
«В лазурные глядятся озера́…»
В лазурные глядятся озера́…
Тютчев
В лазурные глядятся озера́
Швейцарские вершины, – ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На хо́лмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгну́ть, так словно шевели́тся.
Пока еще язык не затвердел,
В нем ре́звятся, уча пенью́ и вздохам.
Резе́да и жасмин… Я б не хотел
Исправить всё, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачко́,
Из племени духо́в, – ее смутивший
Рассеется призра́к, – и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей!
«В любительском стихотворенье огрехи страшней…»
В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то всё дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.
Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Всё благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.
За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю, – да мне доверяют, увы.
Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд, —
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.
«Как любит памятники маленький народ!…»
Как любит памятники маленький народ!
Все скверы бронзою уставлены, гранитом.
Как благодарен он! Какую воздает
Он честь ботаникам своим незнаменитым,
Микробиологам, писателям, врачам!
Зато у нас в садах, под сенью их широкой,
Лишь ветры тешатся да звезды по ночам
Сверкают в прорезях с надеждой и тревогой.
И мне не кажется, что здесь была бы медь
Уместна громкая и цоколь глянцевитый.
Всем не воздать в веках и всех не разглядеть,
Сплошной не выказать заботы домовитой.
Что может, с фалдами, при медленной ходьбе
Чуть расходящимися, тень внушить, в металле?
Не ту ли тяжкую уверенность в себе,
С которой, может быть, мы б душу потеряли?
Воспоминания
Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Сопротивленье),
нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало…
«Как дома хорошо, – вернувшись из больницы…»
Как дома хорошо, – вернувшись из больницы,
Где друга навещал иль сам лежал с тоской
На пару, ощутишь по-новому; так птицы,
Наверное, к черте летят береговой.
Иначе надо жить, счастливей, энергичней,
Пронзительней в сто крат, опасней, горячей,
Привычный видеть мир в подсветке пограничной
И трепетных тенях больничных тех ночей,
Какой на всём лежит волшебный отблеск медный!
В опавшую листву завернуты ежи,
Многоразлучный мир древесный, многодетный.
Иначе надо жить, не знаю как, – скажи!
Летит на яркий свет мучительное слово,
Добытое в огне и горечи земной.
Жить надо… – в дневнике есть запись у Толстого, —
Как если б умирал ребенок за стеной.
Жить надо на краю… чего? Беды, обрыва,
Отчаянья, любви, всё время этот край
Держа перед собой, мучительно, пытливо,
Жить надо… не могу так жить, не принуждай!
И в скверике под вязом…
Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, – над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом,
И в море под звездой, тем более – в тени
Клинических палат с их бредом и бинтами.
И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, – ведь он менялся с нами.
Бог – это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас, и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, – не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.
Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиленье.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.
«Трагедия легка: убьют или погубят…»
Трагедия легка: убьют или погубят —
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой.
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят,
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой,
Безвыходные сны, бесстыдные невзгоды,
Бессмертная латынь рецептов и микстур,
Придет грузотакси, разъезды и разводы,
Потупится сосед, остряк и балагур.
Гуляет во дворе старик с больным ребенком,
И жимолость им вслед пушистая шумит.
Что ж, лучше б алкашом он был или подонком?
Всех бед не перечесть, не высказать обид.
Есть ужасы, что нам, должно быть, и не снились.
Под шторку на окне просунутся лучи.
Ты спишь? Не за тебя ль в соседней расплатились
Квартире толчеей и криками в ночи?
«Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка…»
Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка,
Полужучок. Но как у нас из-под руки
Стремглав она бежит! Вот пауза, заминка.
Вот снова мелкий бег, зигзаги и рывки.
И можно ль не бежать, и можно ль не бояться?
Страх – вот что всех иных, священных чувств древней.
Не помню, кто бежал так, бросив щит, – Гораций?
Соринкой лучше быть: поди ее прибей!
Жучок, товарищ мой, зазорный брат забытый,
Засунутый бог весть в какую пыль, сухой,
Запуганный, – задет слепой твоей обидой,
Что вижу? Голый страх, защитный страх живой.
Не память, не любовь, не жажда приключений
Роднит живущих нас, на поиски добра,
А страх, бессмертный страх… Тем храбрость драгоценней!
Соринка, стать жучком решившись, так храбра.
«Надгробие. Пирующий этруск…»
Надгробие. Пирующий этруск.
Под локтем две тяжелые подушки,
Две плоские, как если бы моллюск
Из плотных створок выполз для просушки
И с чашею вина застыл в руке,
Задумавшись над жизнью, полуголый…
Что видит он, печальный, вдалеке:
Дом, детство, затененный дворик школы?
Иль смотрит он в грядущее, но там
Не видит нас, внимательных, – еще бы! —
Доступно человеческим глазам
Лишь прошлое, и всё же, крутолобый,
Он чувствует, что смотрят на него
Из будущего, и, отставив чашу,
Как звездный свет, соседа своего
Не слушая, вбирает жалость нашу.
«Он, о себе говоривший, что крупного плана…»
Он, о себе говоривший, что крупного плана
Видеть не может без слез на экране, – шутя
Это сказал, – всё равно, даже хвостик барана
Маленький, толстый, тем более – струи дождя,
В фильме как будто бегущие вскачь, и малина,
Белые, острые, цепкие листья ее,
Взгляд человеческий, женское платье, овчина
Желтая, жесткая, жаркая, просто тряпье
Или репейник, тем более – цепкая дверца
Автомобильная, кто обращается с ней
Так осмотрительно? – щелкнула, – екнуло сердце,
К псковскому поезду! – потные лица детей,
Он, замороченный лефовскими остряками,
С ними не спевшийся, хоть и пристегнутый к ним, —
Как на экране глаза голубеют белками!
Нет, кроме шуток, и Бог, если есть, – нелюдим,
Полка вагонная, плащ, на крючок аккуратно
Кем-то повешенный, кажется, нет ничего
Будничней, господи, жилки венозные, пятна
Старческих рук, это счастье смертельно, громадно,
Весь он в слезах – и не надо смотреть на него!
«Ты не права – тем хуже для меня…»
Ты не права – тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, – ничто не в помощь ей.
Неутолимое страданье
В глазах и логика, чем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.
Постройка шаткая возведена тоской
И болью, – высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всём, проси забыть, – так надо.
Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием – добиться
Прощенья можем мы. О, дщери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, всё знающая, – жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековою.
«Как писал Катулл, пропадает голос…»
Как писал Катулл, пропадает голос,
Отлетает слух, изменяет зренье
Рядом с той, чья речь и волшебный образ
Так и этак тешат нас в отдаленье.
Помню, помню томление это, склонность
Видеть всё в искаженном, слепящем свете.
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность.
Наш поэт даже книгу назвал так: «Сети».
Лет до тридцати пяти повторяем формы
Головастиков-греков и римлян-рыбок.
Помню, помню, из рук получаем корм мы,
Примеряем к себе беглый блеск улыбок.
Ненавидим и любим. Как это больно!
И прекрасных чудовищ в уме рисуем.
О, дожить до любви! Видеть всё. Невольно
Слышать всё, мешая речь с поцелуем.
«Звон и шум, – писал ты, – в ушах заглохших,
И затмились очи ночною тенью…»
О, дожить до любви! До великих новшеств!
Пищу слуху давать и работу – зренью.
«Размашистый совхоз Темрюкского района…»
Размашистый совхоз Темрюкского района,
Пшеничные поля да пыльный виноград.
Кто б думал, что найдут при вспашке Аполлона?
Кто жил здесь двадцать пять веков тому назад?
Надгробие – солдат в коринфском шлеме чудном,
Сначала тракторист решил, что это клад…
Азовская жара с отливом изумрудным,
Кто б думал, что и ты в волшебный встанешь ряд?
Однажды я сидел в гостях у старой тетки
Моей жены, пил чай из чашки голубой,
Старушечья слеза и слабый голос кроткий,
Но выяснилось вдруг из реплики сухой,
Что это про нее, про девочку в зеленом,
Представьте, кушаке написано в стихах
У Анненского… Как! Мы рядом с «Аполлоном»,
Вблизи шарманки той, от скрипки в двух шагах!
«Увидеть то, чего не видел никогда…»
Увидеть то, чего не видел никогда, —
Креветок, например, на топком мелководье.
Ты, жизнь, полна чудес, как мелкая вода,
Жирны твои пески, густы твои угодья.
От гибких этих тел, похожих на письмо
Китайское, в шипах и прутиках, есть прок ли?
Не стоит унывать. Проходит всё само.
Креветка, странный знак, почти что иероглиф.
Какие-то усы, как удочки; клешни,
Как веточки; бог весть, что делать с этим хламом!
Не стоит унывать. Забудь, рукой махни.
И жизнь не придает значенья нашим драмам.
Ей, плещущейся, ей, текущей через край,
Так весело рачков качать на скользком ложе,
И мало ли, что ты не веришь в вечный май:
Креветок до сих пор ведь ты не видел тоже!
Как цепкий Ци Бай-ши с железной бородой
В ползучих завитках, как проволока грубой,
Стоять бы целый день над мелкою водой,
Готовой, как беда, совсем сойти на убыль.
Подражание древнекитайскому
О весна, не спеши, подожди,
Ведь еще не зачитан приказ
Императорский, значит, в пути
Он еще, не добрался до нас,
И глицинии, как зацвести
Ни хотят, а должны подождать,
Пусть придержат цветочки в горсти.
Где же свиток: столбцы и печать?
Вот когда мы получим его,
Вот тогда зацветет бальзамин.
Почему все мы ждем одного?
Потому что у нас он один!
Он расшитым махнет рукавом,
Благодатью повеет на нас, —
И поздравим себя с мотыльком,
Прихотливо ласкающим глаз.
Фреска
Святой Иоаким, конечно, сладко спит
В то время, как к нему слетает ангел с вестью.
Весь день в моем окне рыдает дождь навзрыд,
Да как и не стенать, имея дело с жестью?
А козочки даны, овечки и цветы
Затем, чтоб мы с тобой не усомнились в чуде:
Ведь если видит скот, уже не станешь ты
Оспаривать всё то, чего не видят люди.
Еще бы! Надо жить в рассветные века,
Где если дождь идет, то теплый и нестрашный.
Как громко дождь стучит, угрюмей кулака,
Пронзительней ножа, визгливый, рукопашный!
В такие дни молчит настольный календарь,
И хочет быть листок скорее перекинут.
Где радуги привет, как в детстве было, встарь?
Сплошной железный дождь, как занавес, задвинут.
То жалуясь тебе, то требуя с тебя
Какой-то давний долг, за вечностью забытый.
А радуга не здесь, пленяя и слепя,
Дрожит, а там, где спит пастух, плащом накрытый…
«Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем…»
Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем
Увидеть «Олимпию» в Лувре и «Краснобородку с угрем»,
Потом «Натюрморт» в Авиньоне и в Цюрихе – «Гавань в Бордо»,
А в Кливленде, в частном собранье, «Пионы» не видел никто!
Потом оказаться в Нью-Йорке, – истратить ему на билет
Не жаль подотчетную сумму – за черный и розовый цвет,
За даму в костюме эспады и охрой намеченный рот.
Как он обогнал наши взгляды на жизнь и добычу щедрот!
Он где-то на новой странице и чуть ли уже не в Нанси,
Чтоб к девушке розоволицей нежней присмотреться вблизи
Каких-то случайных цветочков, зовут ее Мери Лоран,
А в Лондоне розовой мочкой пленяет она англичан,
Истлела та беличья шубка, но вечно живет полотно.
Что гонит по белому свету? Да так, увлеченье одно.
Ведет в галереи причуда, заводит каприз во дворцы.
Достаточно знать, что кому-то доступны такие концы.
Он в ухо художнику дышит, за ним поспевая для нас,
Он жаркую книгу напишет про зорко прищуренный глаз,
Его дорогие скитанья, его золотые права —
Всей жизни его оправданье, и кругом идет голова!
«Ну, музыка, счастливая сестра…»
Ну, музыка, счастливая сестра
Поэзии, как сладкий дух сирени,
До сердца пробираешь, до нутра,
Сквозь сумерки и через все ступени.
Везде цветешь, на лучшем говоришь
Разнежившемся языке всемирном,
Любой пустырь тобой украшен, лишь
Пахнет из окон рокотом клавирным.
И мне в тени, и мне в беде моей,
Средь луж дворовых, непереводимой,
Не чающей добраться до зыбей
Иных и круч и лишь в земле любимой
Надеющейся обрести привет
Сочувственный и заслужить вниманье,
Ты, музыка, и подаешь нет-нет
Живую мысль и новое дыханье.
«На череп Моцарта, с газетной полосы…»
На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?
Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!
Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.
Марш – в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, «Свадьбу Фигаро» забыв и всю браваду.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.
Тсс… Где-то музыка играет… Где? В саду.
Где? В ссылке, может быть… Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.
Девяностые
«"Слава – это солнце мертвых"…»
«Слава – это солнце мертвых».
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.
Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался, как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.
Фивы рядом с нами, Троя.
Не похож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.
Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил, любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.
Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман
Нам он был как обещанье
Незакатных волн и стран.
Городские расстоянья,
Разбежавшиеся мысли…
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.
«ёНе так ли мы стихов не чувствуем порой…»
Не так ли мы стихов не чувствуем порой,
Как запаха цветов не чувствуем? Сознанье
Притуплено у нас полдневною жарой,
Заботами… Мы спим… В нас дремлет обонянье…
Мы бодрствуем… Увы, оно заслонено
То спешкой деловой, то новостью, то зреньем.
Нам прозу подавай: всё просто в ней, умно,
Лишь скована душа каким-то сожаленьем.
Но вдруг… как будто в сад распахнуто окно, —
А это Бог вошел к нам со стихотвореньем!
«Как ночью берегом крутым…»
Как ночью берегом крутым
Ступая робко каменистым.
Шаг, еще шаг… За кем? За ним.
За спотыкающимся смыслом.
Густая ночь и лунный дым.
Как за слепым контрабандистом.
Раскинув руки, над обрывом,
И камешек то там, то тут
Несется с шорохом счастливым
Вниз: не пугайся! Темный труд
Оправдан будничным мотивом.
Я не отдам тебя, печаль,
Тебя, судьба, тебя, обида,
Я тоже вслушиваюсь в даль,
Товар – в узле, всё шито-крыто.
Я тоже чернь, я тоже шваль,
Мне ночь – подмога и защита.
Не стал бы жить в чужой стране
Не потому, что жить в ней странно,
А потому, что снится мне
Сюжет из старого романа:
Прогулка в лодке при луне,
Улыбка, полная обмана.
Где жизнь? Прокралась, не догнать.
Забудет нас, расставшись с нами.
Не плачь, как мальчик. Ей под стать
Пространство с черными волнами.
С земли не станем поднимать
Монетку, помнишь, как в Тамани?
Ночная музыка
Ночная музыка сама себе играет,
Сама любуется собой.
Где чуткий слушатель? Он спит. Он засыпает.
Он ищет музыку руками, как слепой.
Ночная музыка резвится, как наяда
В ручье мерцающем, не видима никем.
Ночная музыка, не надо!
Не долетай до нас, забудь о нас совсем.
Мы двери заперли и окна затворили.
Жить осмотрительно, без счастья и страстей —
О, чем не заповедь! Ты где, в автомобиле?
На кухне у чужих людей?
Но те, кто слушают, скорей всего не слышат.
Я знаю, как это бывает: кофе пьют,
Узор, что музыкою вышит,
Не отличим для них от нитей всех и пут.
И только тот, кто ловит звуки
За десять стен от них и множество дверей,
Тот задыхается от счастья, полный муки:
Он диких в комнату впустил к себе зверей.
Любовь на кресло
С размаха прыгает, и Радость – на кровать,
И Гнев – на тумбочку, всё ожило, воскресло,
Очнулось, вспомнилось, прихлынуло опять.
«Сторожить молоко я поставлен тобой…»
Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать.
Умерев, как бы рад я минуте такой
Был: воскреснуть на миг, пригодиться опять.
Не зевай! Белой пеночке рыхлой служи,
В надувных, золотых пузырьках пустяку.
А глаголы, глаголы-то как хороши:
Сторожить, убежать, – относясь к молоку!
Эта жизнь, эта смерть, эта смертная грусть,
Прихотливая речь, сколько помню себя…
Не сердись: я задумаюсь – и спохвачусь.
Я из тех, кто был точен и зорок, любя.
Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко… столько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей… пенная, белая страсть;
Как морская волна, окатившая нас.
Тоже, видимо, кто-то тогда начеку
Был… О, чудное это, слепое «чуть-чуть»,
Вскипятить, отпустить, удержать на бегу,
Захватить, погасить, перед этим – подуть.
Водопад
Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг, —
Вот кто всё берет от жизни, погибая каждый миг.
Весь Шекспир с его витийством – только слепок, младший брат,
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,
В каменном амфитеатре все заполнены места!
Пусть церквушка на церквушке там вздымаются, подряд,
Как подушка на подушке горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим —
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!
Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!
Он живой, а ты – живущий, поживающий, слегка
Умирающий, жующий жизнь, желанья, облака…
«Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки…»
Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.
Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.
Тем пронзительней южные краски,
Полыхание роз, пенный гребень на синей волне,
Не желающий знать ничего о смертельной развязке,
Подходящий с упреком ко мне.
Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.
Отшучусь, может быть.
Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,
Всё не можешь о смерти забыть,
Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,
Продеваешь в ушко синеокое черную нить.
Аполлон в траве
В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.
Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.
Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давильне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.
Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.
Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.
«Две маленьких толпы, две свиты можно встретить…»
Две маленьких толпы, две свиты можно встретить,
В тумане различить, за дымкой разглядеть,
Пусть стерты на две трети,
Задымлены, увы… Спасибо и за треть!
Отбиты кое-где рука, одежды складка,
И трещина прошла, и свиток поврежден,
И все-таки томит веселая догадка,
Счастливый снится сон.
В одной толпе – строги и сдержаны движенья,
И струнный инструмент поет, как золотой
Луч, боже мой, хоть раз кто слышал это пенье,
Тот преданно строке внимает стиховой.
В другой толпе – не лавр, а плющ и виноградный
Топорщится листок,
Там флейта и свирель, и смех, и длится жадный
Там прямо на ходу большой, как жизнь, глоток.
Ты знаешь, за какой из них, не рассуждая,
Пошел я, но – клянусь! – свидетель был не раз
Тому, как две толпы сходились, золотая
Дрожала пыль у глаз.
И знаю, за какой из них пошел ты, бедный
Приятель давних дней, растаял вдалеке,
Пленительный, бесследный
Проделав шумный путь в помятом пиджаке…
«Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет…»
Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен, – ах, сирены с безумными их голосами! —
Ни циклопов, – привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Всё в порядке у них, и над каждым – дежурный портрет.
Нет разбойников, нимф,
Это всё – на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.
Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны…
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.
Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.
А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, всё сказал, что хотел, не солгал никому, —
И остался неведом.
В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!
Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой – твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает – зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!
Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране…
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо.
«В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся…»
В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,
Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами;
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.
Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по глянцу
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень… Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие… их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно… Увидим: не шутит,
И вздохнем, и простимся… помашем рукою вослед.
«Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах…»
Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах
Ты легла на скамью, от траяновых стен – в двух шагах
В трикотажном костюмчике, – там, где кипела вражда,
Где Катулл проходил, бормоча: «Что за дрянь, сволота!»
Как усталостью был огорчен я твоей, уязвлен
Тем, что не до камней тебе этих, побитых колонн,
Как стремился я к ним, как я рвался, не чаял узреть.
Ты мне можешь испортить всё, всё, даже Рим, даже смерть!
Где мы? В Риме! Мы в Риме. Мы в нем. Как он желт, кареглаз!
Мы в пылающем Риме вдвоем. Повтори еще раз.
Как слова о любви, повтори, чтоб поверить я мог
В это солнце, в крови растворенное, в ласковый рок.
Ты лежала ничком в двух шагах от теней дорогих.
Эта пыль, этот прах мне дороже всех близких, родных.
Как усталость умеет любовь с раздраженьем связать
В чудный узел один: вот я счастлив, несчастен опять!
Вот я должен сидеть, ждать, пока ты вздохнешь, оживешь.
Я хотел бы один любоваться руинами… Ложь.
Я не мог бы по прихоти долго скитаться своей
Без тебя, без любви, без родимых лесов и полей.
«Если кто-то Италию любит…»
Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.
Если Англию – тоже понятно.
И тем более – Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела… Ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь – поймешь.
Но Россию со всей ее кровью…
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, – неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.
«Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны…»
Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны,
Как пойти, торопясь, по пути рассудительных стран.
Все другие дороги безумны, бездомны, страшны, —
Так я думаю, с книгой садясь на диван.
Рассужденья разумны мои – потому не верны.
И за доводом лезть надо в самый глубокий карман.
А в глубоком кармане, внутри пиджака, на груди —
Роковая записочка, скомканный, смятый листок,
И слова полустертые неразличимы почти,
И читать надо тоже не прямо ее – между строк:
Будь что будет, а будет у нас впереди
То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог.
Каждый раз выбирает Россия такие пути,
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.
«Запиши на всякий случай…»
Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но… кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.
«Мы останавливали с тобой…»
Я список кораблей прочел до середины…
О. Мандельштам
Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!
И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.
Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофер
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковер.
Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешел ручей.
Но сверх счетчика фунт я давал на чай —
И шофер говорил: «О\'кей!»
Потому что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертия нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.
Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошел…
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочел?
Троя
Т. Венцлове
– Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, —
Сказал приятель, – с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… – Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, – и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя – с этот дворик,
Вся Троя – с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
«В отчаянье или в беде, беде…»
В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.
Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный
Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым…
Названья хочешь знать несчастий? Утаю
Их; куст клубится толстокожий.
Как там, у Пушкина: «всё на главу мою…»
Что всё? Не спрашивай: у всех одно и то же.
О кто бы ни был ты, тебе уже не так
Мучительно и одиноко.
Пройдись по комнате иль на диван приляг.
Жизнь оправдается, нежна и синеока.
«Мне, видевшему Гефсиманский сад…»
Мне, видевшему Гефсиманский сад,
Мне, гладившему ту листву рукою,
Мне, прятавшему в этой жизни взгляд
От истины, взирающей с тоскою
На нас, – за что такой подарок мне,
Евангельских стихов у Пастернака
Не любящему, как бы не вполне
Им верящему, как бы сделать шага
Не смеющему в направленье слез,
Струившихся в ту ночь, – иллюстративны
Все, все стихи на эту тему, – гроз
Ночных спонтанны вспышки и наивны!
Мне, видевшему в том саду цветы:
Тюльпаны, маки, розы, маргаритки,
Мне, может быть, ступавшему в следы
Те самые при входе у калитки,
Влекомому толпой туристской, – мне,
Про Мастера роман и Маргариту
Не ценящему: ведь о сатане
Слишком легко писать, в его защиту
И к славе, упрощается сюжет,
Разбитый изначально на два плана, —
За что мне эта зелень, этот свет?
А ни за что! Как ты сказал: спонтанно?
«Разве можно после Пастернака…»
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! – звезды мне из мрака
Говорят, – вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, – клей и позолота, —
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка – это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта.
Конькобежец
Зимней ласточкой с визгом железным
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.
Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, – никак!
Посмотри: вылезают голени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.
Реже, реже ступай, конькобежец…
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен – и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.
Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, —
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,
Между прочим, – и это открытье
Веселит, – из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!
Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость – и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся к тебе и поймем
То, что ласточки в воздухе пишут
Или ветви рисуют на нем.
Не расстаться с тобой мне, – пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве, – не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.
«Там, где весна, весна, всегда весна, где склон…»
Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!
А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.
Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.
За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за ни за что,
За je vous aime, ich liebe.
«Мне приснилось, что все мы сидим за столом…»
О. Чухонцеву
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: «Чур, – говорит, – без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!»
А туда, где сидит Председатель, взглянуть…
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь…
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто… Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас…
Последний поэт
Оно шумит перед скалой Левкада…
Е. Баратынский
Что ни поэт – то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний,
Что поднимается на волнолом
Вал, как бы прятавшийся за соседний,
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.
Стой! Не бросайся с Левкадской скалы.
Взгляд задержи на какой-нибудь вещи:
Стулья есть гнутые, книги, столы,
Буря дохнет – и листочек трепещет,
Нашей ища на ветру похвалы.
Больше в присыпанной снегом стране
Нечего делать певцу с инструментом
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне
Сумрачном: будем с партнером, с агентом
Курс обсуждать, говорить о зерне.
Я не гожусь для железных забот.
Он не годится. Мы все не подходим.
То-то ни с места наш парусный флот
В век, обнаруживший смысл в пароходе:
Крым за полдня, закипев, обогнет.
На конференции по мировой
Лирике, к Темзе припавшей и Тибру,
Я, вспоминая огни над Невой
Парные, сопротивлялся верлибру.
О, со скалы не бросайся, постой!
Кроме живой, что змеится, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь – прочная связь:
«Я», – говорю на вопрос: кто последний?
Друг, не печалься, за мной становясь.
«Я посетил приют холодный твой вблизи…»
«Я посетил тебя, пленительная сень…»
Е. Баратынский
Я посетил приют холодный твой вблизи
Могил товарищей твоих по русской музе,
Вне дат каких-либо, так просто, не в связи
Ни с чем, – задумчивый, ты не питал иллюзий
И не одобрил бы меня,
Сказать спешащего, что камень твой надгробный
Мне мнится мыслящим в холодном блеске дня,
Многоступенчатый, как ямб твой разностопный.
Да, грузный, сумрачный, пирамидальный, да!
Из блоков финского гранита.
И что начертано на нем, не без труда
Прочел, – стихи твои, в них борется обида
И принуждение, они не для резца,
И здешней мерою их горечь не измерить:
«В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца».
Пусть простодушие их первый смысл возьмет
Себе на память, мне-то внятен
Душемутительный и двухголосый тот
Спор, двуединый, он, так скажем, деликатен,
И сам я столько раз ловил себя, томясь,
На раздвоении и верил, что Незримый
Представит доводы нам, грешным, устыдясь
Освенцима и Хиросимы.
Лети, листок
Понурый, тлением покрытый, пятипалый.
На скорбный памятник, сперва задев висок
Мой, – мысль тяжелая – и бедный жест усталый,
Жгут листья, вьющийся обходит белый дым
Тупые холмики, как бы за грядкой грядку.
И разве мы не говорим
С умершим, разве он не поправляет прядку?
И, примирение к себе примерив, я
Твержу, что твердости достанет мне и силы
Не в незакатные края,
А в мысль бессмертную вблизи твоей могилы
Поверить, – вот она, живет, растворена
В ручье кладбищенском и дышит в каждой строчке,
И в толще дерева, и в сердце валуна,
И там, меж звездами, вне всякой оболочки.
«Смерть и есть привилегия, если хотите знать…»
Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем… быть камнем нельзя, лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,
Простоквашей спасавшийся, – не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.
Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры… Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов… Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унизившись до вранья…
Привилегия, да, и как всякая льгота, жжется.
Сахарница
Памяти Л. Я. Гинзбург
Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.
Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, – но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.
И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, – попроще, победней, —
Все так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.
Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
Венеция
Знаешь, лучшая в мире дорога —
Это, может быть, скользкая та,
Что к чертогу ведет от чертога,
Под которыми плещет вода
И торчат деревянные сваи,
И на привязи, черные, в ряд
Катафалкоподобные стаи
Так нарядно и праздно стоят.
Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин,
И казалось, что эти ступени,
Бархатистый зеленый подбой
Наш мурановский сумрачный гений
Афродитой назвал гробовой.
Разрушайся! Тони! Увяданье —
Это правда. В веках холодей!
Этот путь тем и дорог, что зданья
Повторяют страданья людей,
А иначе бы разве пылали
Ипомеи с геранями так
В каждой нише и каждом портале,
На балконах, приветствуя мрак?
И последнее. (Я сокращаю
восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем,
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, обид
Нет, – волненьем, счастливой бедою.
Все течет. И при этом горит.
«Я смотрел на поэта и думал: счастье…»
Памяти И. Бродского
Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом,
Потому что и то и другое властью
Называется, и под его нажимом
Мы б и года не прожили – всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбеманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, – и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!
«Как нравился Хемингуэй…»
Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей, —
Другая жизнь и берег дальний…
И спились несколько друзей
Из подражанья, что похвальней,
Чем спиться просто, без затей.
Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю, – только Кафке),
С утра – в любой полуподвал
По полстакана – для затравки —
И день дымился и сверкал!
Зато в их прозе дорогой
Был юмор; кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея…
Зато когда на свете том
Сойдетесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрем, умрете,
Да не останусь за бортом, —
Меня, непьющего, возьмете
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном.
«Всё нам Байрон, Гёте, мы, как дети…»
Всё нам Байрон, Гёте, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.
У него в небесном кабинете
Пахнет мятой с сиверских полей.
Он встает, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груду бревен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.
Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: этого… того…
Сколько бед на горьком этом свете!
Загляденье, радость, волшебство!
«Когда страна из наших рук…»
М. Петрову
Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.
Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло…
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!
Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летящий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!
«Когда б я родился в Германии в том же году…»
«…тише воды, ниже травы…»
А. Блок
Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, – давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло – я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной – и выжить был все-таки шанс у меня.
И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть
С гербом и печатью районного загса билет
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы
И тише воды. Средь безумного вихря планет!
И смотрит бесслезно, ответа не зная, увы,
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.
«Когда бы град Петров стоял на Черном море…»
Когда бы град Петров стоял на Черном море,
Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
Мы б жили без тоски и холода во взоре,
По милости судьбы и к ней попав в фавор.
В каналах бы тогда плескались нереиды,
Не так, как эта тварь в снегу и синяках,
Не снились бы нам сны, не мучили обиды,
И был бы здравый смысл в героях и богах.
Когда бы град Петров с горы, как виноградник,
Шпалерами сбегал к уступчатым волнам,
Не идол бы взлетал над бездной, Медный Всадник
Не мчался б, приземлясь, по трупам, по телам.
Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели,
Венеция б в веках подругой нам была,
Лазурные бы сны под веками пестрели,
Геракловы столпы, Икаровы крыла.
«Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку…»
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.
Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орел,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.
Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чем не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморенная послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.
«Греческую мифологию…»
А. Штейнбергу
Греческую мифологию
Больше Библии люблю,
Детскость, дерзость, демагогию,
Верность морю, кораблю.
И стесняться многобожия
Ни к чему: что есть, то есть.
Лес дубовый у подножия
Приглашает в гору лезть.
Но и боги сходят запросто
Вниз по ласковой тропе,
Так что можно не карабкаться —
Сами спустятся к тебе.
О, какую ношу сладкую
Перенес через ручей!
Ветвь пробьется под лопаткою,
Плющ прижмется горячей.
И насколько ж ближе внятная
Страсть влюбленного стиха,
Чем идея неопрятная
Первородного греха.
«Фету кто бы сказал, что он всем навязал…»
Фету кто бы сказал, что он всем навязал
Это счастье, которое нам не по силам?
Фету кто бы сказал, что цветок его ал
Вызывающе, к прядкам приколотый милым?
Фету кто бы шепнул, что он всех обманул,
А завзятых певцов, так сказать, переплюнул?
Посмотреть бы на письменный стол его, стул,
Прикоснуться бы пальцем к умолкнувшим струнам!
И когда на ветру молодые кусты
Оживут, заслоняя тенями тропинку,
Кто б пылинку смахнул у него с бороды,
С рукава его преданно сдунул соринку?
«Всё знанье о стихах – в руках пяти-шести…»
Всё знанье о стихах – в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою, а кто бы знал без нас,
Что Батюшков, уйдя под воду, вроде Байи,
Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз,
Живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.
И памятник, глядишь, поставят гордецу,
Ушедшему в себя угрюмцу и страдальцу,
Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу
Стереть с него грозя: прижаты палец к пальцу —
И пестрое крыло, зажатое меж них,
Трепещет, обнажив бесцветные прожилки.
Тверди, но про себя, его лазурный стих,
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.
«Стихи – архаика. И скоро их не будет…»
Стихи – архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас по утру, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.
Прощай, речь мерная! Тебе на смену проза
Пришла, и Музы-то у опоздавшей нет,
И жар лирический трактуется как поза
На фоне пристальных журналов и газет.
Я пил с прозаиком. Пока мы с ним сидели,
Он мне рассказывал. Сюжет – особый склад
Мировоззрения, а стих живет без цели,
Летит, как ласточка, свободно, наугад.
И третье, видимо, нельзя тысячелетье
Представить с ямбами, зачем они ему?
Всё так. И мало ли, о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.
В новом веке
«Сначала ввязаться в сраженье, ввязаться в сраженье!…»
Сначала ввязаться в сраженье, ввязаться в сраженье!
А там поглядим, – говорил молодой Бонапарт.
Но пишется так же примерно и стихотворенье,
Когда вдохновенье ведет нас и, значит, азарт!
А долгие подступы, сборы, рекогносцировка, —
Позволь мне без них обойтись, отмахнуться позволь:
Так скучно, по пунктам, что даже представить неловко,
Пускай диспозицию Бенигсен пишет и Толь.
Шумите, кусты! Хорошо превратить недостаток
В достоинство. Мчитесь как можно быстрей, облака!
Короче, – твержу я себе. И всегда был я краток.
Тоска обжигала. И радость была велика.
«Так быстро ветер перелистывает…»
Так быстро ветер перелистывает
Роман, лежащий на окне,
Как будто фабулу неистовую
Пересказать мечтает мне,
Так быстро, ветрено, мечтательно,
Такая нега, благодать,
Что и читать необязательно,
Достаточно перелистать.
Ну вот, счастливое мгновение,
И без стараний, без труда!
Все говорят, что скоро чтение
Уйдет из мира навсегда,
Что дети будут так воспитаны, —
Исчезнут вымыслы и сны…
Но тополя у нас начитаны
И ветры в книги влюблены!
«Верю я в Бога или не верю в бога…»
Верю я в Бога или не верю в бога,
Знает об этом вырицкая дорога,
Знает об этом ночная волна в Крыму,
Был я открыт или был я закрыт ему.
А с прописной я пишу или строчной буквы
Имя его, если бы спохватились вдруг вы,
Вам это важно, Ему это все равно.
Знает звезда, залетающая в окно.
Книга раскрытая знает, журнальный столик.
Не огорчайся, дружок, не грусти, соколик.
Кое-что произошло за пять тысяч лет.
Поизносился вопрос, и поблек ответ.
И вообще это частное дело, точно.
И не стоячей воде, а воде проточной
Душу бы я уподобил: бежит вода,
Нет, – говорит в тени, а на солнце – да!
«Первым на сцену является белый шиповник…»
Первым на сцену является белый шиповник,
Чтобы, наверное, знали, кто первый любовник,
О, как он свеж, аккуратен и чист, – как Пьеро!
Вот кто, наверное, всех обольщений виновник,
Снов и иллюзий: печаль и сплошное добро!
Он не отцвел еще, как зацветает махровый,
Душный, растрепанный, пышный, свекольно-лиловый,
Так у художников в ярком трико Арлекин
Смотрит с полотен, всё в скользкую шутку готовый
Вдруг обратить, ненадежный такой господин.
Третьим приходит, как шелк ослепительно-алый,
С желтой середкой рассеянный гость запоздалый,
Нами любимый всех больше и дикой пчелой.
Кто им порядок такой предписал, тот, пожалуй,
Знает, что делает, прячась за вечною мглой.
«Это песенка Шуберта, – ты сказала…»
Это песенка Шуберта, – ты сказала.
Я всегда ее пел, но не знал, откуда.
С нею, кажется, можно начать сначала
Жизнь, уж очень похожа она на чудо!
Что-то про соловья и унылый в роще
Звук, немецкая роща – и звук унылый.
Песня тем нам милей, чем слова в ней проще,
А без слов еще лучше, – с нездешней силой!
Я всегда ее пел, обходясь без смысла
И слова безнадежно перевирая.
Тьма ночная немецкая в ней нависла,
А печаль в ней воистину неземная.
А потом забывал ее лет на десять.
А потом вновь откуда-то возникала,
Умудряясь дубовую тень развесить
Надо мной, соблазняя начать сначала.
«Смысл постичь небесный, сущность бледную…»
Смысл постичь небесный, сущность бледную
Райских рощ, мерцания зеркал…
Камеру сменить велосипедную
В десять раз трудней, но я – менял!
Перепачкав руки, плоский гаечный
Ключ просунув между колесом
И резиной, – так что вздох упадочный
Мне смешон, мистический излом.
Боже мой, дорога поселковая
С бабочкой, привыкшей падать ниц,
Как листок, плашмя, – дымно-пунцовая,
Пыльная, не различая спиц.
Вот чего не будет там, наверное,
Это гайки, тормоза, цепи,
Контргайки и ключа резервного,
Черт бы их побрал, но… потерпи.
«За землетрясенье отвечает…»
За землетрясенье отвечает
В Турции Аллах – не Саваоф.
Суток семь душа не отлетает,
Если молод узник и здоров.
Поисковая собака лает
От него за тысячу шагов.
Он, звериной жаждою замучен,
Подыхает в каменном гробу
В испражненьях, в крошеве колючем,
Тьме бетонной, с ссадиной на лбу.
Дольше взрослых мучаются дети
На предсмертной, страшной той стезе.
Помолчите в церкви и мечети,
На газетной вздорной полосе
И на богословском факультете,
Хоть на день, на два заткнитесь все!
«В Италии, на вилле, ночью зимней…»
«И кипарисной рощей заслонясь…»
Тютчев
В Италии, на вилле, ночью зимней,
Бесснежной и нестрашной, на дворец
Смотрел я. Бог поэтов, расскажи мне,
В чем жизни смысл и счастье наконец,
И бог, а он действительно на крыше
Стоял средь статуй, предводитель муз,
И всматривался в парк, где жили мыши
И ёж шуршал, – и бог, войдя во вкус,
Мне кое-что поведал: счастье – это
Незнание о будущем, при всём
Доверии к нему; не надо света,
Еще раз луг во мраке обойдем
И удивимся сумрачному чуду
Прогулки здесь, за тридевять земель
От дома, листьев пасмурную груду
Приняв на грудь, как русскую метель.
Всё может быть! Наш путь непредсказуем,
Считай своей миланскую листву.
Мы и слова, наверное, рифмуем,
Чтоб легче было сбыться волшебству,
Найти узор – спасенье от недуга
Топорных фраз и гибельных идей, —
То не твоя, то русских рифм заслуга,
Подсказка живших прежде нас теней,
Судьба петляет, если не стремится
Речь выпрямлять, как проза ей велит,
И с нами бог: на юге он, как птица,
Живет, вдали от северных обид.
«Придется Святому, когда воскресенье…»
Придется Святому, когда воскресенье
Телесное будет объявлено, кости
Свои собирать по церквям, в отдаленье
Стоящим, аббатствам, как шляпы и трости:
Колено – в Перудже на бархатной ткани,
Расшитой серебряной нитью, ключица —
На пухлой подушке парчовой в Милане,
Усыпана розами; кто поручится,
Что не потерялись бедро или голень,
Которую видели в пышной укладке
Лежащею с перстнем Крестителя вровень,
Кто, сведущий, скажет: «Теперь всё в порядке?»
Кто всё это, как инструмент музыкальный,
Собрав, дорогие чехлы и футляры
Отбросив, вдохнет в него жизнь, погребальный
Отвергнув мотив, отменяя кошмары,
Кто сложит опять Вифлеемские ясли
По щепкам разбросанным, втайне хранимым,
Кто предусмотрителен так и запаслив,
Ни тленом души не запачкав, ни дымом?
Альпы
Над Альпами я пролетал лепными,
Похожими на завитки-волюты,
И, снежными, я любовался ими,
Античные я вспоминал причуды:
Антаблемент, все эти ухищренья
Несущих балок, фриза, архитрава,
Казалось, там клубятся в запустенье
Былая доблесть и чужая слава.
И думал я о римских легионах,
В снегу идущих через перевалы,
Лугах альпийских, храмах и колоннах,
Германцы мне мерещились и галлы,
Ущелья мне являлись и стремнины,
Перебирал века я и народы,
И ледники мерцали, как павлины,
И водопад шумел рыжебородый.
В попонах шли внимательные кони,
В лучах сверкали снежные карнизы,
И папский двор в узорном Авиньоне
Подарков ждал из Падуи и Пизы,
А впрочем, я и карту знаю плохо,
И не в ладах с историей лоскутной,
И мысль моя пугается подвоха
И собственной своей природы смутной.
Не демон я, не дух-экзаменатор,
Чтоб так летать над грешною землею,
Не ястреб, я гляжу в иллюминатор,
А надоест – щитком его прикрою,
И если там, внизу, Наполеона
Я различаю синие дружины,
Сползающие с пушками со склона,
То это сон, волшебные картины!
И я себя одергиваю: мысли,
Похожие на облачные клочья,
Летят сквозь нас, поди их перечисли!
Но всё казалось: взгляд сосредоточь я
И задержи – проступит из тумана
То, что назвал Волшебною горою
Дотошный автор старого романа,
Который мне так нравился, не скрою.
Теперь его, наверное, не стал бы
Читать, – такой занудно-философский,
Но до чего же нравились мне Альпы
И доктора и Беренс, и Кроковский,
Каких надежд на век ни возлагали!
Как был он бодр, по-юношески влюбчив!
И пенилось шампанское в бокале,
И к вере в разум прибавляли случай.
Теперь иллюзий нет: тысячелетье
Нас не заставит лучше быть и жарче;
Предпочитаю, сумрачный, лететь я,
Смотреть на Альпы сверху, как на ларчик,
Не открывая лаковую крышку,
Не увлекаясь ярким содержимым,
Не веря в разум, – только в передышку,
Считая доблесть словом, славу – дымом…
«Достигай своих выгод, а если не выгод…»
Достигай своих выгод, а если не выгод,
То Небесного Царства, и душу спасай…
Облака обещают единственный выход
И в нездешних полях неземной урожай,
Только сдвинулось в мире и треснуло что-то,
Не земная ли ось, – наклонюсь посмотреть:
Подозрительна мне куполов позолота,
Переделкинских рощ отсыревшая медь.
И художник-отец приникает к Рембрандту
В споре с сыном-поэтом и учится сам,
Потому что сильней, чем уму и таланту,
В этом мире слезам надо верить, слезам.
И когда в кинохронике мальчик с глазами,
Раскаленными ужасом, смотрит на нас,
Человечеством преданный и небесами, —
Разве венчик звезды его желтой погас?
Видит Бог, я его не оставлю, в другую
Веру перебежав и устроившись в ней!
В христианскую? О, никогда, ни в какую:
Эрмитажный старик не простит мне, еврей.
Припадая к пескам этим желтым и глинам,
Погибая с тряпичной звездой на пальто,
Я с отцом в этом споре согласен, – не с сыном:
Кто отречься от них научил его, кто?
Тянут руки к живым обреченные дети.
Будь я старше, быть может, в десятом году
Ради лекций в столичном университете
Лютеранство бы принял, имея в виду,
Что оно православия как-то скромнее:
Стены голы и храмина, помнишь? пуста…
Но я жил в этом веке – и в том же огне я
Корчусь, мальчик, и в небе пылает звезда…
«Дети в поезде топают по коридору…»
Дети в поезде топают по коридору,
Или входят в чужие купе без разбору,
Или, с полки упав, слава богу, что с нижней,
Не проснувшись, полночи на коврике спят;
Плачут; просят купить абрикосы им, вишни;
Лижут скобы, крючки, все железки подряд;
Пятилетняя девочка в клетчатой юбке
Мне старалась понравиться, вся извелась,
Извиваясь, но дядя не шел на уступки,
Книгой от приставаний ее заслонясь,
А поддался бы, дрогнул – и всё: до Тамбова,
Где на дождь, наконец, выходила семья,
Должен был бы подмигивать снова и снова…
Там, в Тамбове, будь умницей, радость моя!
Дети в поезде хнычут, смеются, томятся,
Знать не знают, куда и зачем их везут;
Блики, отблески, пыльные протуберанцы,
Свет, и тень, и еловый в окне изумруд;
Но какой-нибудь мальчик не хнычет, не скачет,
Не елозит, не виснет на ручках, как все,
Только смотрит, к стеклу прижимая горячий
Лоб, на холмы и долы в их жаркой красе!
«Старость тем хороша, что не надо ходить к гадалке…»
Старость тем хороша, что не надо ходить к гадалке:
Жизни мало осталось, и эти остатки жалки,
А насчет белой лошади, белых мужчин, голов —
Я не знаю, как нам относиться к мадам Кирхгоф.
Нагадала-таки эта немка в слепом усердье
Смерть ему в тридцать семь: если же не случится смерти,
Проживешь еще долго, – был выбор, был выход, был!
Да не вынес, не выдержал, – жаркая кровь – вспылил!
Что-то есть, друг Горацио, что мудрецам неясно.
Жизнь ужасна, прекрасна, а смерть небесам причастна
И просматривается гадалкой в окрестной мгле.
Небеса что-то знают заранее о земле.
Что-то знают. Как пламенный полог, горят над нею,
Опекают свою задачу, следят затею,
Снисходительны к немке, смешной проводнице зла,
Ей подбрасывая крошки со своего стола.
Мне смириться с такой постановкой вопроса трудно.
Жить воистину страшно, печально на свете, чудно,
Гаснут зимние звезды, и в девять часов утра
Суеверье томит – веры сумрачная сестра.
«Что-то более важное в жизни, чем разум…»
«О, если б без слова…»
Фет
Что-то более важное в жизни, чем разум…
Только слов не ищи, не подыскивай: слово
За слово – и, увидишь, сведется всё к фразам
И не тем, чем казалось, окажется снова.
И поэтому только родное дыханье
И пронзительно-влажной весны дуновенье,
Как последнее счастье, туманят сознанье,
Да заведомо слабое стихотворенье
Доверявшего смутному чувству поэта,
Обманувшего структуралистов: без слова
Он сказаться сумел… Боже мой, только это
Мне еще интересно, и важно, и ново…
Прощание с веком
А. Арьеву
Уходя, уходи, – это веку
Было сказано, как человеку:
Слишком сумрачен был и тяжел.
В нишу. В справочник. В библиотеку.
Потоптался чуть-чуть – и ушел.
Мы расстались спокойно и сухо.
Так, как будто ни слуха, ни духа
От него нам не надо: зачем?
Ожила прошлогодняя муха
И летает, довольная всем.
Девятнадцатый был благосклонным
К кабинетным мечтам полусонным
И менял, как перчатки, мечты.
Восемнадцатый был просвещенным,
Верил в разум хотя бы, а ты?
Посмотри на себя, на плохого,
Коммуниста, фашиста сплошного,
В лучшем случае – авангардист.
Разве мама любила такого?
Прошлогодний, коричневый лист.
Все же мне его жаль, с его шагом
Твердокаменным, светом и мраком.
Разве я в нем не жил, не любил?
Разве он не явился под знаком
Огнедышащих версий и сил?
С Шостаковичем и Пастернаком
И припухлостью братских могил…
«Посчастливилось плыть по Оке, Оке…»
Посчастливилось плыть по Оке, Оке
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,
И, представь себе, пели по всей реке
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.
Я не знал, что такое возможно, – мне
Представлялся фантазией до тех пор,
Поэтическим вымыслом, не вполне
Адекватным реальности, птичий хор.
До тех пор, но, наверное, с той поры,
Испытав потрясенье, поверил я,
Что иные, нездешние, есть миры,
Что иные, загробные, есть края.
И, сказать ли, еще из густых кустов
Ивняка, окаймлявших речной песок,
Долетали до слуха обрывки слов,
Женский смех, приглушенный мужской басок.
То есть голос мужской был, как мрак, басист,
И таинственней был женский смех, чем днем,
И, по здешнему счастью специалист,
Лучше ангелов я разбирался в нем.
А какой это был, я не помню, год,
И кого я в разлуке хотел забыть?
Назывался ли как-нибудь пароход,
«Композитором Скрябиным», может быть?
И на палубе, верно, была скамья,
И попутчики были, – не помню их,
Только путь этот странный от соловья
К соловью, и сверканье зарниц ночных!
«Подсела в вагоне. «Вы Кушнер?» – «Он самый…»
Подсела в вагоне. «Вы Кушнер?» – «Он самый».
«Мы с вами учились в одном институте».
Что общее я с пожилой этой дамой
Имею? (Как страшно меняются люди
Согласно с какой-то печальной программой,
Рассчитанной на проявленье их сути.)
Природная живость с ошибкой в расчете
На завоеванье сердец и удачи,
И господи, сколько же школьной работе
Сил отдано женских и грядкам на даче!
«Я Аня Чуднова, теперь узнаете?»
«Конечно, Чуднова, а как же иначе!»
«Я сразу узнала вас. Вы-то, мужчины,
Меняетесь меньше, чем женщины». – «Разве?»
(Мне грустно. Я как-то не вижу причины
Для радости – в старости, скуке и язве.)
«А помните мостик? Ну, мостик! Ну, львиный!»
(Не помню, как будто я точно в маразме.)
«Не помните… Я бы вам все разрешила,
Да вы не решились. Такая минута…»
И что-то прелестное в ней проступило,
И даже повеяло чем-то оттуда…
В Антропшине вышла… О, что это было?
Какое тоскливое, жалкое чудо!
Галстук
Есть галстук: служит мне лет тридцать, темно-синий.
Смелее был бы я, так черный бы завел.
Печальный компромисс. Горгон боюсь, эриний
Ввиду грядущих драм и безнадежных зол
И в ящик каждый раз убрать его подальше,
Поглубже норовлю, чтоб он мне на глаза
Не попадался. Есть, есть что-то здесь от фальши
И слабости души: все видят небеса.
Да, раза два в году, а то и три, четыре —
Чем дольше я живу, тем чаще нужен мне
Он, жалкий, – страшно жить и скользко в этом мире.
Не надо объяснять, не правда ли, вполне
Понятно и без слов, что прочен старый узел,
Что, в петлю головой ныряя, как в хомут,
Иду туда, где рок все к яме свел и сузил,
Туда, куда и все, потупившись, идут.
«В декабре я приехал проведать дачу…»
В декабре я приехал проведать дачу.
Никого. Тишина. Потоптался в доме.
Наши тени застал я с тоской в придачу
На диване, в какой-то глухой истоме.
Я сейчас заплачу.
Словно вечность в нездешнем нашел альбоме.
Эти двое избегли сентябрьской склоки
И октябрьской обиды, ноябрьской драмы;
Отменяются подлости и наскоки,
Господа веселеют, добреют дамы,
И дождя потоки
Не с таким озлоблением лижут рамы.
Дверь тихонько прикрыл, а входную запер
И спустился во двор, пламеневший ало:
Это зимний закат в дождевом накрапе
Обреченно стоял во дворе, устало.
Сел за столик дощатый в суконной шляпе,
Шляпу снял – и ворона меня узнала.
«Сегодня странно мы утешены…»
Сегодня странно мы утешены:
Среди февральской тишины
Стволы древесные заснежены
С одной волшебной стороны.
С одной – все, все, без исключения.
Как будто в этой стороне
Чему-то придают значение,
Что нам понятно не вполне.
Но мы, влиянию подвержены,
Глядим, чуть-чуть удивлены,
Так хорошо они заснежены
С одной волшебной стороны.
Гадаем: с южной или западной?
Без солнца не определить.
День не морозный и не слякотный,
Во сне такой и должен быть.
Но мы не спим, – в полузабвении
По снежной улице идем
С тобой в волшебном направлении,
Как будто, правда, спим вдвоем.
«Обратясь к романтической ветке…»
Обратясь к романтической ветке,
Поэтической ветке родной,
Столько раз ради трезвости меткой
Из упрямства отвергнутой мной,
Я сказал бы им, братьям горячим,
Как мне пусто и холодно тут!
Я не лью свои слезы, я прячу.
Дайте плащ поносить! Не дадут.
– Надо вовремя было из комнат
На корабль трехмачтовый взбегать,
Незаметною ролью и скромной
Не пленяться, обид не глотать,
Надо было не чашку и блюдце
И не скатерть любить на столе,
Надо было уйти, отвернуться
От всего, что любил на земле.
– Дорогие мои, не судите
Так же быстро, как я вас судил,
Восхищаясь безумством отплытий,
Бегств и яркостью ваших чернил,
Мне казалось, что мальчик в Сургуте
Или Вятке, где мглист небосвод,
Пусть он мной восхищаться не будет,
Повзрослеет – быть может, поймет.
– Надо было, высокого пыла
Не стесняясь, порвать эту сеть,
Выйти в ночь, где пылают светила,
Просиять в этой тьме и сгореть.
Ты же выбрал земные соцветья
И огонь белокрылый, дневной,
Так сиди ж, оставайся в ответе
За все слезы, весь ужас земной.
«Поскольку я завел мобильный телефон…»
Поскольку я завел мобильный телефон, —
Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
Что был, не правда ли, горячий голос брата.
По музе, городу, пускай не по судьбам,
Зато по времени, по отношенью к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там,
Или не скучно там, и, отметя полову,
Точнее видят смысл, сочувствуют слезам.
Подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?
Тогда мне незачем стараться: ты и так
Все знаешь в точности как есть, без искажений,
И недруг вздорный мой смешон тебе – дурак
С его нескладицей примет и подозрений,
И шепчешь издали мне: обмани, приляг,
Как я, на век, на два, на несколько мгновений.
«Люди, кем-то замечено, делятся также на тех…»
Люди, кем-то замечено, делятся также на тех,
Кто кидается мяч, перепрыгнувший через ограду,
Игрокам перебросить за прутья, сквозь пихтовый мех,
Нетерпение их разделяя вполне и досаду,
И на тех, кто не станет за вещью бросаться чужой:
За перчаткой, упавшей из рук незнакомца, за шляпой…
Я не знаю, кто лучше, второй ли, с закрытой душой,
Погруженной в себя, или первый, готовый с растяпой
Разделить его промах: у первого, может быть, нет
Настоятельных мыслей, к себе приковавших вниманье,
Между тем как второй… Впрочем, кто его знает… На свет
Не рассмотришь ни ум, ни тоску, ни изъян в воспитанье.
«Иисус к рыбакам Галилеи…»
Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришел
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да еще при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети,
Да мельканье порывистых птиц.
А с другой стороны, неужели
Ни Овидий Его, ни Катулл
Не заметили б, не разглядели,
Если б Он к ним навстречу шагнул?
Не заметили б, не разглядели,
Не пошли, спотыкаясь, за Ним, —
Слишком громко им, может быть, пели
Музы, слава мешала, как дым.
Современники
Никому не уйти никуда от слепого рока.
Не дано докричаться с земли до ночных светил!
Все равно, интересно понять, что «Двенадцать» Блока
Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил».
Как он там, в дневнике, записал: «Я сегодня гений»?
А сейчас приведу ряд примеров и совпадений.
Гуляет ветер. Порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Через болота и пески
Идут звериные полки.
И счастлив Ваня, что пред ним
Враги рассеялись, как дым.
Пиф-паф! – и буйвол наутек.
За ним в испуге носорог.
Пиф-паф! – и сам гиппопотам
Бежит за ними по пятам.
Трах-тах-тах! И только эхо
Откликается в домах.
Но где же Ляля? Ляли нет!
От девочки пропал и след.
А Катька где? Мертва, мертва!
Простреленная голова.
Помогите! Спасите! Помилуйте!
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая…
Крокодилам тут гулять воспрещается.
Закрывайте окна, закрывайте двери!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
И больше нет городового.
И вот живой
Городовой
Явился вмиг перед толпой.
Ай, ай!
Тяни, подымай!
Фотография есть, на которой они вдвоем:
Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице?
Блок как будто присыпан золой, опален огнем,
Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый.
Боже мой, не спасти его. Если бы вдруг спасти!
Не в ночных, – в медицинских поддержку найти светилах!
Мир, кренись,
пустота, надвигайся,
звезда, блести!
Блок глядит на него, но Чуковский помочь не в силах.
«Мандельштам приедет с шубой…»
Омри Ронену
Мандельштам приедет с шубой,
А Кузмин с той самой шапкой,
Фет тяжелый, толстогубый
К нам придет с цветов охапкой.
Старый Вяземский – с халатом,
Кое-кто придет с плакатом.
Пастернак придет со стулом,
И Ахматова с перчаткой,
Блок, отравленный загулом,
Принесет нам плащ украдкой.
Кто с бокалом, кто с кинжалом
Или веткой Палестины.
Сами знаете, пожалуй,
Кто – часы, кто – в кубках вины.
Лишь в безумствах и в угаре
Кое-кто из символистов
Ничего нам не подарит.
Не люблю их, эгоистов.
«Английским студентам уроки…»
Английским студентам уроки
Давал я за круглым столом, —
То бурные были наскоки
На русской поэзии том.
Подбитый мундирною ватой
Иль в узкий затянутый фрак,
Что Анненский одутловатый,
Что им молодой Пастернак?
Как что? А шоссе на рассвете?
А траурные фонари?
А мелкие четки и сети,
Что требуют лезть в словари?
Всё можно понять! Прислониться
К зеленой ограде густой.
Я грозу разыгрывал в лицах
И пахнул сырой резедой.
И чуть ли не лаял собакой,
По ельнику бьющей хвостом,
Чтоб истинно хвоей и влагой
Стал русской поэзии том.
…………………………………………………..
Английский старик через сорок
Лет, пусть пятьдесят-шестьдесят,
Сквозь ужас предсмертный и морок
Направив бессмысленный взгляд,
«Не жизни, – прошепчет по-русски, —
А жаль ему, – скажет, – огня».
И в дымке, по-лондонски тусклой,
Быть может, увидит меня.
«По безлюдной Кирочной, вдоль сада…»
По безлюдной Кирочной, вдоль сада,
Нам навстречу, под руку, втроем
Шли и пели – молодость, отрада! —
И снежок блестел под фонарем,
В поздний час, скульптурная Эллада,
Петербургским черным декабрем.
Плохо мы во тьме их рассмотрели.
Девушки ли, юноши ли мне
Показались девушками? Пели.
Блоку бы понравились вполне!
Дружно, вроде маленькой метели.
Я еще подумал: как во сне.
Им вдогон смотрели мы, как чуду
Неземному, высшему – вослед:
К Демиургу ближе, Абсолюту,
Чем к сцепленью правил и примет.
Шли втроем и пели. На минуту
Показалось: горя в мире нет.
«Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом…»
Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом,
Не люблю арабов с их маслянистым взором и фанатизмом,
Не люблю евреев с их нахальством и самоуверенностью,
Англичан с их снобизмом, скукой и благонамеренностью,
Немцев с их жестокостью и грубостью,
Итальянцев с плутовством и глупостью,
Русских с окаянством, хамством и пьянством,
Не люблю испанцев, с тупостью их и чванством,
Северные не люблю народности
По причине их профессиональной непригодности,
И южные, пребывающие в оцепенении,
Переводчик, не переводи это стихотворение.
Барабаны, бубны не люблю, африканские маски, турецкие сабли.
Неужели вам нравятся фольклорные ансамбли?
Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу,
Отвечал: ни к какому. Любил природу.
Сосед
Вот он умер,
сосед наш с третьего этажа.
Слава богу, он умер, жизнью не дорожа.
С той поры, как жена умерла, стал спиваться он
так, как будто за нею, ушедшей, спешил вдогон.
И собачка спешила на лапах кривых за ним,
не успела, отстала,
прибилась теперь к чужим.
В лифте как-то его мы спросили, как он живет?
Шмыгнул носом, заплакал, смутился, сказал: «Ну вот».
Помотал головой. Настоящее горе слов
не имеет.
Недаром так стыдно своих стихов.
И прозванье поэта всегда было дико мне.
И писал всего лучше я о тополях в окне.
На шестом этаже они вровень с душой кипят,
а на третьем
в их толще безвылазно тонет взгляд.
Покровительствуют мимолетным и легким снам.
Их еще не срубили, но срубят, – сказали нам.
Эту жизнь я смахнул бы, клянусь, со стола – рукой
вместе с бронзовым Вакхом в веночке, —
да нет другой!
Учинил бы скандал тем решительней, что не ждут
от меня безответственных выходок и причуд.
Уж затихли – и вдруг закипают опять в окне.
Или он, запыхавшись, подходит сейчас к жене?
«Станешь складывать зонт – не дается…»
Станешь складывать зонт – не дается.
Так и этак начнешь приминать,
Расправлять и ерошить уродца,
Раскрывать и опять закрывать.
Перетряхивать черные фалды,
Ленту с кнопкой искать среди них.
Сколько складок таких перебрал ты,
Сколько мыслей забыл проходных!
А на что эти жесткие спицы
Так похожи, не спрашивай: кто ж
Не узнает в них тютчевской птицы
Перебитые крылья и дрожь?
А еще эта, видимо, старость,
Эта жалкая, в общем, возня
Вызывают досаду и ярость
У того, кто глядит на меня.
Он оставил бы сбитыми складки
И распорки: сойдет, мол, и так…
Не в порядке, а в миропорядке
Дело! Шел бы ты мимо, дурак.
«Разветвлялась дорога, но вскоре сходились опять…»
Разветвлялась дорога, но вскоре сходились опять
Обе ветви – в одну. Для чего это нужно, не знаю.
Для того ль, чтобы нам неизвестно кого переждать
Можно было: погоню? Проскочит – останемся с краю
Не замечены, в лиственной, влажно-пятнистой тени.
Или, может быть, лишний придуман рукав, ответвленье
Для мечтателей тех, что желают остаться одни
И, мотор заглушив, услыхать соловьиное пенье?
Пролетай, ненавистная, страстная жизнь, в стороне,
Проезжай, клевета, проносись, помраченье, обида.
Постоим под листвой – и душа встрепенется во мне,
Оживет, – с возвращеньем, причудница, эфемерида!
Что бы это ни значило, я перед тем, как уснуть,
Иногда вспоминаю счастливую эту развилку —
И как будто мне рок удается на миг обмануть —
И кленовый, березовый шум приливает к затылку.
«В каком-нибудь Торжке, домишко проезжая…»
В каком-нибудь Торжке, домишко проезжая
Приземистый, с окном светящимся (чужая
Жизнь кажется и впрямь загадочней своей),
Подумаю: была бы жизнь дана другая —
Жил здесь бы, тише всех, разумней и скромней.
Не знаю, с кем бы жил, что делал бы, – неважно.
Сидел бы за столом, листва шумела б влажно,
Машина, осветив окраинный квартал,
Промчалась бы, а я в Клину бы жил отважно
И смыслом, может быть, счастливым обладал.
В каком-нибудь Клину, как на другой планете.
И если б в руки мне стихи попались эти,
Боюсь, хотел бы их понять я – и не мог:
Как тихи вечера, как чудно жить на свете!
Обиделся бы я за Клин или Торжок.
«Ты мне елочки пышные хвалишь…»
Ты мне елочки пышные хвалишь
Мимоходом, почти как детей.
Никогда на тропе не оставишь
Без вниманья их темных затей:
На ветру они машут ветвями
И, зеленые, в платьях до пят
Выступают гуськом перед нами,
Как инфанты Веласкеса, в ряд.
Полупризрачность, полупрозрачность,
Полудикость и взглядов косых
Исподлобья врожденная мрачность,
Затаенные колкости их.
Вот пригладят им брови и челки,
Поведут безупречных на бал.
Как тебе мои чинные елки?
Хорошо я о них рассказал?
«Долго руку держала в руке…»
Долго руку держала в руке
И, как в давние дни, не хотела
Отпускать на ночном сквозняке
Его легкую душу и тело.
И шепнул он ей, глядя в глаза:
«Если жизнь существует иная,
Я подам тебе знак: стрекоза
Постучится в окно золотая».
Умер он через несколько дней.
В хладном августе реют стрекозы
Там, где в пух превратился кипрей, —
И на них она смотрит сквозь слезы.
И до позднего часа окно
Оставляет нарочно открытым.
Стрекоза не влетает. Темно.
Не стучится с загробным визитом.
Значит, нет ничего. И смотреть
Нет на звезды горячего смысла.
Хорошо бы и ей умереть.
Только сны и абстрактные числа.
Но звонок разбудил в два часа —
И в мобильную легкую трубку
Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,
Как сквозь тряпку сказал или губку.
…………………………………………………
Я-то думаю: он попросил
Перед смертью надежного друга,
Тот набрался отваги и сил:
Не такая большая услуга.
«На острове Висбю я видел в музее…»
На острове Висбю я видел в музее
Скелеты двух викингш (а как бы назвали
Вы девушек-викингов?) Бусы на шее.
О, сколько достоинства в них и печали!
Как будто от старости и увяданья
Красавицы выбрали лучшее средство.
Как некогда Пушкин сказал о Татьяне,
Вульгарности не было в них и кокетства.
А только изящество, только смиренье,
На диво всем странникам и вертопрахам,
Всем циникам, к ним подходящим в смущенье.
Прямая победа над смертью и страхом.
«Это чудо, что все расцвели…»
Это чудо, что все расцвели,
Все воспрянули разом, воскресли,
Отогрелись и встали с земли,
Улыбнулись друг другу все вместе,
И в душе ни обиды, ни зла,
Ни отчаянья не затаили:
Смерть была, но, как видишь, прошла.
Видишь: Лазаря нету в могиле.
Снова в трубочку дует нарцисс
И прозрачна на нем пелерина.
Как не славить тебя, Дионис?
Не молиться тебе, Прозерпина?
Одуванчик и мал, да удал,
Он и в поле всех ярче и в сквере.
Если б ты каждый год умирал,
Ты бы тоже в бессмертие верил.
Бокс
Незнакомец меня пригласил прийти
На боксерский турнир. Раза три звонил:
«Вам понравится. Кое-кто есть среди
Молодых. Вы увидите пробу сил.
Это очень престижное меж своих
И ответственное состязанье, счет,
Как по Шкловскому, гамбургский». Я притих
И на третий раз, дрогнув, сказал: «Идет».
Он заехал за мной на машине; лет
Сорока, – я решил, на него взглянув,
К переносице как бы сходил на нет
Нос и чем-то похож был на птичий клюв.
Он сказал еще раньше, когда звонил,
Что когда-то стихи сочинял, но спорт
Забирает всё время, всю страсть, весь пыл,
В прошлом он чемпион, а в стихах нетверд.
Но они его манят игрой теней,
Отсветами припрятанного огня,
А еще, как бы это сказать точней? —
Стойкой левостороннею у меня.
Что польстило мне, но согласиться с ним
Я не мог ни тогда, ни сейчас в душе:
Бокс есть бокс, и другим божеством храним,
И смешон бы в трусах был я, неглиже…
В зале зрителей было немного, лишь
Те, кто боксом спасается и живет.
Одному говорил он: «Привет, малыш».
О другом было сказано: «пулемет».
А на ринге топтались, входили в клинч,
Я набрался словечек: нокдаун, хук,
Кто-то непробиваем был, как кирпич,
И невозмутим, но взрывался вдруг.
А в одном поединке такой накал,
Исступленность такая была и страсть,
Будто Бог в самом деле в тени стоял,
Не рискуя в свет прожекторов попасть.
И я понял, я понял, сейчас скажу,
Что я понял: что в каждом искусстве есть
Образец, выходящий за ту межу,
Ту черту, где смолкают хвала и лесть,
Отменяется зависть, стихает гул
Ободренья, и опытность лишена
Преимуществ, и слышно, как скрипнул стул,
Охнул тренер, – нездешняя тишина.
«Вид в Тиволи на римскую Кампанью…»
Вид в Тиволи на римскую Кампанью
Был так широк и залит синевой,
Взывал к такому зренью и вниманью,
Каких не знал я раньше за собой,
Как будто к небу я пришел с повинной:
Зачем так был рассеян и уныл? —
И на минуту если не орлиный,
То римский взгляд на мир я уловил.
Нужна готовность к действию и сила,
Желанье жить и мужественный дух.
Оратор прав: волчица нас вскормила.
Стих тоже должен сдержан быть и сух.
Гори, звезда! Пари, стихотворенье!
Мани, Дунай, притягивай нас, Нил!
И повелительное наклоненье,
Впервые не смутясь, употребил.
«Я дырочку прожег на брюках над коленом…»
Я дырочку прожег на брюках над коленом
И думал, что носить не стану этих брюк,
Потом махнул рукой и начал постепенно
Опять их надевать, и вряд ли кто вокруг
Заметил что-нибудь: кому какое дело?
Зачем другим на нас внимательно смотреть?
А дело было так: Венеция блестела,
Как влажная, на жизнь наброшенная сеть,
Мы сели у моста Риальто, выбрав столик
Под тентом, на виду, и выпили вина;
Казалось, это нам прокручивают ролик
Из старого кино, из призрачного сна,
Как тут не закурить? Но веющий с Канала,
Нарочно, может быть, поднялся ветерок —
И крошка табака горящего упала
На брюки мне, чтоб я тот миг забыть не мог.
«Пунктуация – радость моя!…»
Пунктуация – радость моя!
Как мне жить без тебя, запятая?
Препинание – честь соловья
И потребность его золотая.
Звук записан в стихах дорогих.
Что точней безоглядного пенья?
Нету нескольких способов их
Понимания или прочтенья.
Нас не видят за тесной толпой,
Но пригладить торопятся челку, —
Я к тире прибегал с запятой,
Чтобы связь подчеркнуть и размолвку.
Огорчай меня, постмодернист,
Но подумай, рассевшись во мраке:
Согласились бы Моцарт и Лист
Упразднить музыкальные знаки?
Наподобие век без ресниц,
Упростились стихи, подурнели,
Все равно что деревья без птиц:
Их спугнули – они улетели.
«Люблю в толпе тебя увидеть городской…»
Люблю в толпе тебя увидеть городской,
Взглянуть со стороны, почти как на чужую,
Обрадоваться. Жизнь подточена тоской
Подспудной. Хорошо, что вышел на Большую
Морскую. Боже мой, мне нравится толпа,
Мне весело, что ты идешь, меня не видя,
Что белая летит слепящая крупа:
Мы в снежной тесноте с тобой, но не в обиде.
За холодом зимы, за сутолокой дней,
За тем, что тяготит и названо привычкой,
На скошенной Морской проходом кораблей
Повеяло на миг их гулкой перекличкой,
Подснежником во рву и просекой лесной,
И пасмурным грачом, слетающим на кровлю,
Не знаю, почему. Не вечною весной,
А смертною весной и здешнею любовью.
«С парохода сойти современности…»
С парохода сойти современности
Хорошо самому до того,
Как по глупости или из ревности
Тебя мальчики сбросят с него.
Что их ждет еще, вспыльчивых мальчиков?
Чем грозит им судьба вдалеке?
Хорошо, говорю, с чемоданчиком
Вниз по сходням сойти налегке.
На канатах, на бочках, на ящиках
Тени вечера чудно лежат,
И прощальная жалость щемящая
Подтолкнет оглянуться назад.
Пароход-то огромный, трехпалубный,
Есть на нем биллиард и буфет,
А гудок его смутный и жалобный:
Ни Толстого, ни Пушкина нет.
Торопливые, неблагодарные?
Пустяки это всё, дребедень.
В неземные края заполярные
Полуздешняя тянется тень.
Сад
Через сад с его кленами старыми,
Мимо жимолости и сирени
В одиночку идите и парами,
Дорогие, любимые тени.
Распушились листочки весенние,
Словно по Достоевскому, клейки.
Пусть один из вас сердцебиение
Переждет на садовой скамейке.
А другой, соблазнившись прохладою,
Пусть в аллею свернет боковую
И строку свою вспомнит крылатую
Про хмельную мечту молодую.
Отодвинуты беды и ужасы.
На виду у притихшей Вселенной
Перешагивайте через лужицы
С желтовато-коричневой пеной.
Знаю, знаю, куда вы торопитесь,
По какой заготовке домашней,
Соответственно списку и описи
Сладкопевца, глядящего с башни.
Мизантропы, провидцы, причудники,
Предсказавшие ночь мировую,
Увязался б за вами, да в спутники
Вам себя предложить не рискую.
Да и было бы странно донашивать
Баснословное ваше наследство
И печальные тайны выспрашивать,
Оттого что живу по соседству.
Да и сколько бы ни было кинуто
Жадных взоров в промчавшийся поезд,
То лишь ново, что в сторону сдвинуто
И живет, в новом веке по пояс.
Где богатства, где ваши сокровища?
Ни себя не жалея, ни близких,
Вы прекрасны, хоть вы и чудовища,
Преуспевшие в жертвах и риске.
Никаких полумер, осторожности,
Компромиссов и паллиативов!
Сочетанье противоположностей,
Прославленье безумств и порывов.
Вы пройдете – и вихрь поднимается —
Сор весенний, стручки и метелки.
Приотставшая тень озирается
На меня из-под шляпки и челки.
От Потемкинской прямо к Таврической
Через сад проходя, пробегая,
Увлекаете тягой лирической
И весной без конца и без края.
«Боже, ты показываешь зиму…»
Боже, ты показываешь зиму
Мне, чехлы и валики ее,
Тишину, монашескую схиму,
Белый снег, смиренье, забытье,
И, организуя эту встречу,
Проверяешь десять раз на дню:
Неужели так и не замечу,
Чудных свойств ее не оценю?
Оценю, но словно против воли,
Еще как! – желанью вопреки,
Все ее чуланы, антресоли,
Где лежат платки, пуховики,
Все сады, парадные палаты
И застенок заднего двора…
Есть безумье в этом сборе ваты,
Меха, пуха, птичьего пера.
Боже, ты считаешь: я утешен
Рыхлой этой грудой, тишиной.
Мы имеем дело с сумасшедшей!
Приглядись к ней пристальней со мной:
Сколько белых полочек и полок,
Всё взлетит, закружится, чуть тронь.
Я боюсь усердья богомолок
И таких неистовых тихонь.
«Первым узнал Одиссея охотничий пес…»
Первым узнал Одиссея охотничий пес,
А не жена и не сын. Приласкайте собаку.
Жизнь – это радость, при том что без горя и слез
Жизнь не обходится, к смерти склоняясь и мраку.
Жизнь – это море, с его белогривой волной,
Жизнь – это дом, где в шкафу размещаются книги,
Жизнь – это жизнь, назови ее лучше женой.
Смерть – это кем-то обобранный куст ежевики.
Кроме колючек, рассчитывать не на что, весь
Будешь исколот, поэтому лучше смириться
С исчезновеньем. В дремучие дебри не лезь
И метафизику: нечем нам в ней поживиться.
«На вашей стороне – провидцев многословный…»
На вашей стороне – провидцев многословный
Рассказ, и мудрецы – на вашей стороне,
И Бог, и весь обряд ликующий, церковный,
И в облаке – Святой, и мученик – в огне,
И вечная весна, и станцы Рафаэля,
И, физику предав забвению, Паскаль,
Страстная и еще Пасхальная неделя
На вашей стороне, органная педаль
И многослойный хор, поющий по бумажке,
А то и без нее, победно, наизусть,
И с крестиком бандит раскормленный в тельняшке,
Спецназовец – вчера убил кого-нибудь,
Как скептик говорил один яйцеголовый,
На вашей стороне и армия и флот,
На вашей стороне Завет, во-первых, Новый,
И Ветхий, во-вторых, и ангелов полет,
На вашей стороне и дальняя дорога,
И лучшие стихи, и нотная тетрадь,
И облако в окне, и я, – устав немного
Всё это, глядя вам в глаза, перечислять.
«Живущий в доме том не знает, как горит…»
Живущий в доме том не знает, как горит
Его окно в лучах багряного заката:
Сидит он у стола, а может быть, он спит,
А может быть, ушел, задумавшись, куда-то,
А в доме у него пылающий эдем
Раскинут в этот час, как кухня полевая,
И кто-то говорит, что он доволен тем,
Как близко к небесам подходит жизнь земная.
Живущий в доме том не знает, как дворец
Завидует сейчас и уступает в блеске
Бревенчатой стене, горящей, как ларец,
И розовой в лучах вечерних занавеске,
Какой сейчас огонь сошел к нему с высот,
Как двор его похож на древнюю Итаку,
Не знает, спать ложась, как чудно он живет,
Всей бедности своей наперекор и мраку.
Детский крик на лужайке
Детский крик на лужайке, собака,
Меж детей разомлевшая там
И довольная жизнью ломака,
Забияка, гуляка, дворняга.
Скоро их разведут по домам.
Вот он, рай на земле, эти мошки
В предвечернем, закатном огне,
Эти прозвища, вспышки, подножки,
Достаются мне жалкие крошки
Со стола их, как счастье во сне.
Эти девочки – запросто сдачи
Мальчик может от них получить.
Этот лай неуемный, собачий,
За деревьями – ближние дачи,
Алый вереск и белая сныть.
Это вечность и есть, и бессмертье,
И любовь – и границы ее
Обозначили длинные жерди
И канава, как в твердом конверте
Приглашенье на пир, в забытье.
Шмель
Д. Сухареву
Залетевший к нам в комнату шмель, – я ему помог
Через форточку выбраться, лист поднеся бумаги
И подталкивая, – он-то сопротивлялся, шок
Испытав и сомнительным образом в передряге
Проявив себя этой, растерян и бестолков,
И похож, черно-желтый, на маленького медведя,
Будет дома рассказывать всем, кто его готов
Слушать, о переплете оконном и шпингалете.
Очень долго – о комнате: в комнате нет травы
И цветов полевых и садовых, но есть обои,
На которых разбросаны тени цветов, увы,
И ужасны, конечно, сознания перебои,
О бумаге, просунутой пленнику под живот —
Глянцевитая плоскость и страшное шелестенье,
О таинственной тени: казалось, сейчас прибьет,
И чудесном своем сверхъестественном избавленье.
«Меж двумя дождями, в перерыве…»
Меж двумя дождями, в перерыве,
Улучив блаженных полчаса,
Я в тумана розовом наплыве
Тернера припомнил паруса.
Солнце в этом дымчатом массиве
Не смотрело, желтое, в глаза.
И такою свежестью дышали,
На дорогу свесившись, кусты,
И стояли, будто на причале,
Дачи, как буксиры и плоты,
Словно живопись была в начале,
А потом всё то, что любишь ты.
«Я свет на веранде зажгу…»
Я свет на веранде зажгу,
И виден я издали буду,
Как ворон на голом суку,
Как в море маяк – отовсюду.
Тогда и узнаю, тогда
Постигну по полной программе,
Что чувствует ночью звезда,
Когда разгорится над нами.
Чуть-чуть жутковато в таком
Себя ощутить положенье.
Сказал, что звездой, маяком,
А втайне боюсь, что мишенью.
Вот ночь запустила уже
В меня золотым насекомым,
И я восхищаюсь в душе
Обличьем его незнакомым.
А птицы из леса глядят,
А с дальней дороги – прохожий,
А сердцем еще один взгляд
Я чувствую; разумом тоже.
Афродита
Ты из пены вышла, Афродита,
Сразу взрослой стала и пошла,
Розами и травами увита,
А ребенком так и не была.
Расставляешь гибельные сети
И ловушки там, где их не ждут,
И не знаешь, как смеются дети,
Обижаясь, горько слезы льют.
Как бывает девочка проворней
И смелее мальчика в игре!
Без любви счастливей и просторней
Жизнь и больше знанье о добре.
А дразнилки, шутки-прибаутки,
А скакалки, ролики-коньки?
Постепенно набухают грудки,
Первые секреты, пустяки.
Сколько солнца в тех дубах и вязах
И прогулках дальних по жаре…
И любовь нуждается в рассказах
О начальной, утренней поре.
Дикий голубь
В Крыму дикий голубь кричит на три такта,
Он выбрал размер для себя – амфибрахий —
И нам веселее от этого факта,
Хотя он в унынье как будто и страхе.
Его что-то мучает, что-то печалит,
У греков какая-то драма в Тавриде
Случилась; на самой заре и в начале
Уже о несчастьях шла речь и обиде.
И южное солнце ее не смягчало,
И синее море ее не гасило,
И горлинка грустное это начало
Запомнила, крохотна и легкокрыла.
Такая субтильная, нервная птичка,
Кофейно-молочного, светлого цвета,
И длится с Эсхилом ее перекличка,
А мы отошли и забыли про это.
«Всё должно было кончиться в первом веке…»
Всё должно было кончиться в первом веке
И начаться должно было всё другое,
Но не кончилось. Так же бежали реки,
Так же слезы струились из глаз рекою.
Страшный суд почему-то отодвигался,
Корабли точно так же по морю плыли,
С переменою ветра меняя галсы,
В белой пене горячей, как лошадь в мыле.
Человек любит ближнего, зла не хочет,
Во спасение верит и ждет Мессии
Месяц, год, а потом устает, бормочет,
Уступает тоске, как у нас в России.
Или Бог, привыкая к земной печали,
Увлекается так красотой земною,
Что, поставив ее впереди морали,
Вслед за нами тропинкой бредет лесною
Десятые годы
«Как римлянин, согласный с жизнью в целом…»
Как римлянин, согласный с жизнью в целом,
Живи себе пристойно, день за днем,
Благополучный день отметив мелом,
А неблагополучный день углем.
Да будет календарь, как ствол березы,
Бел, кое-где лишь черные видны
На нем пометы, – что ж, нужны и слезы,
И боль, и гнев. Как римляне умны!
Их стоики считают, что из жизни
По меньшей мере сто ведут дверей,
А в жизнь – одна. Поэтому не кисни,
Не жалуйся, живущий, не робей.
В любой момент на волю можно выйти,
Через дверной перешагнуть порог —
И звездные тебя обхватят нити,
Космический обнимет холодок.
Мрачность
Когда б не живопись, я был бы мрачен тоже.
Когда б не шаткая на берегу скамья,
Не куст сиреневый и холодок по коже,
Когда б не музыка, как был бы мрачен я!
Когда б не милое лицо в простом овале,
Не амстердамские каналы и торцы,
Когда бы мрачностью своей не щеголяли
Те, кто присвоили ее себе, глупцы!
Когда б ахейские не снаряжали мужи
Коня и звездная к нам не тянулась нить,
Когда бы нынешнее время было хуже
Того, что надо бы, да не могу забыть.
Когда бы в мрачности не проступали щели,
А в них сияние полуночных огней,
Когда б деревья так под ветром не шумели!
Когда б не Лермонтов, сказавший всё о ней!
Когда бы мысленно я не задернул шторы,
Уйдя от глупости, отпрянув от вранья.
Когда б не смерть, скажу, благодаря которой
И мрачность радостна, как был бы мрачен я!
В поезде
К вокзалу Царского Села
Не электричка подошла,
А поезд сумрачный из Гдова.
Уж очень плохо освещен.
Но проводник впустил в вагон
Нас, не сказав худого слова.
Сидячий поезд. Затхлый дух.
Мы миновали трех старух,
Двух алкашей и мать с ребенком.
Спал, ноги вытянув, солдат.
Я оступился: «Виноват!»
И как на льду качнулся тонком.
«Садитесь», – нам сказал старик
В ушанке. Сели. Я приник
К окну. Проехали Шушары.
Сбежала по стеклу слеза.
Езды всего-то полчаса.
Уснул бы – снились бы кошмары.
Одно спасенье – ты со мной.
И, примирясь с вагонной тьмой,
Я примирюсь и с вечной тьмою.
Давно таких печальных снов
Не видел. Где он, этот Гдов?
Приедем – атлас я открою.
«Какой сегодня век?…»
Какой сегодня век?
Не торопись, постой!
Четвертый, пятый снег,
А может быть, шестой.
Он на день к нам слетал,
А то и, вроде тли,
Растаяв, проступал
Сам, как из-под земли.
Он падал – и сходил,
И старая трава
Являлась вновь, без сил,
Во льду, едва жива.
Прохожему вдогон
Летели, как слепни,
И вылинявший сон,
И выцветшие дни.
Как будто прошлый год
Задумывал возврат.
Как будто галл и гот
Топтались у оград.
И снежная крупа
Переходила в дождь,
Как будто пот со лба
Стирал германский вождь.
Какой сегодня снег
Таинственный, густой!
Четвертый, пятый век,
А может быть, шестой.
Картинка из кубиков
Из кубиков почти что сложена картинка.
Ты видишь: это лев. Осталась в гриве брешь,
Да с кончиком хвоста произошла заминка,
Но время есть, поправь, еще чуть-чуть потешь
Себя, не торопись, последние пустоты
Заполни: вот он, зверь; кончается игра.
А то, что это лев, не огорчайся, что ты!
Мог заяц быть, мог слон, как серая гора.
Тебе достался лев. Ты справился с задачей.
Никто не виноват, что детство на войну
Пришлось, что пастью век дышал в лицо горячей,
Что жесткую тебе подкинули страну,
Что мрачные в ночах одолевали мысли,
Что грозный этот лев с козленком не дружил.
А всё же царь зверей! И кое-что о жизни
Ты понял лучше тех, кто уточку сложил.
«Эти фрески для нас сохранил Везувий…»
Эти фрески для нас сохранил Везувий.
Изверженья бы не было – не дошли бы
Ни танцовщицы к нам, ни, с травинкой в клюве,
Утка, ни золотые цветы и рыбы.
Я люблю эту виллу мистерий, это
Бичеванье, нагую люблю вакханку,
Красный цвет, я не видел такого цвета!
Желтый плащ и коричневую изнанку.
Так спасибо тебе, волокнистый пепел,
Пемза, каменный дождь, угловая балка,
Сохранившие это великолепье!
А погибших в Помпее людей не жалко?
Был бы выбор, что выбрал бы ты: искусство
Или жизнь этих римских мужчин и женщин?
Ты бы выбрал их жизнь. Я бы тоже. Грустно.
Ведь она коротка и ничем не блещет.
«Перед лучшей в мире конной статуей…»
Перед лучшей в мире конной статуей
Я стоял – и радовался ей.
Кондотьер в Венеции ли, в Падуе,
Русский царь вблизи речных зыбей
Не сравнятся с римским императором.
Почему? – не спрашивай меня.
Сам себе побудь экзаменатором,
Верность чувству смутному храня.
И поймешь, разглядывая медного,
Отстраняя жизни смертный шум:
Потому что конь ступает медленно,
Потому что всадник не угрюм,
Потому что взвинченность наскучила
И жестокость сердцу не мила,
А мила глубокая задумчивость,
Тихий сумрак позы и чела.
«Через Неву я проезжал в автобусе…»
Через Неву я проезжал в автобусе,
Ненастный день под вечер посветлел,
Ни ливня больше не было, ни мороси,
Была усталость; белые, как мел,
Колонны Биржи мне казались знаками
Судьбы, надежды слабой, но живой,
И я подумал, глядя на заплаканное,
Но с кое-где сквозящей синевой:
Голубизны расплывчатым сиянием
В разрывах туч блестит оно, слепя,
Как человек, измученный страданием
И приходящий медленно в себя,
И этот блеск милей сплошной безоблачности,
Лазури южной ласковей любой.
Что ж удивляться нашей зачарованности?
Мы ту же муку знаем за собой.
«В цеху разделочном, мясном кипит работа…»
В цеху разделочном, мясном кипит работа,
Ползет продукция по скользким желобам.
Мне удовольствия не доставляет что-то
Жизнь и не кажется осмысленной. А вам?
И дня б не выдержал я на таком участке
Земного, душного, кровавого труда.
Болтать о вечности, Вселенной строить глазки…
Вы Канта цените? А Шеллинга? О да!
Мне стыдно, сколько раз я рассуждал о смысле
И о призвании поговорить любил.
Но тушки скользкие, ползущие, как слизни,
Ты их разделывал, на части их делил?
Переворачивал, срезал ножом наросты,
В перчатки желтые обряжен и халат?
Иль дуб шумит не всем и в звездном небе звезды
Не одинаково со всеми говорят?
«Рай – это место, где Пушкин читает Толстого…»
Рай – это место, где Пушкин читает Толстого.
Это куда интереснее вечной весны.
Можно, конечно, представить, как снова и снова
Луг зацветает и все деревца зелены.
Но, кроме пышной черемухи, пухлой сирени,
Мне, например, и полуденный нравится зной,
Вечера летнего нравятся смуглые тени.
Вспомни шиповник – и ты согласишься со мной.
Гости съезжались на дачу… Случайный прохожий
Скопище видел карет на приморском шоссе.
Все ли, не знаю, счастливые семьи похожи?
Надо подумать еще… Может быть, и не все.
«А бабочка стихи Державина читает…»
А бабочка стихи Державина читает
И радуется им: «Я червь, – твердит, – я Бог!»
Убогий червячок вдруг крылья распускает:
Узорная канва и радужный глазок.
Уж точно, у нее для гордости и грусти
Все основанья есть, и больше, чем у нас.
Огневка, махаон. Поднимет и опустит,
И сложит, и опять горит павлиний глаз.
И кажется порой, что эта близость к Богу
Досталась ей за то, что близость к червяку
Томит сильней, чем нас, летунью-недотрогу,
Чудовище в мехах, красавицу в шелку.
«Лепного облака по небу легкий бег…»
Лепного облака по небу легкий бег,
Такой стремительный, мечтательный такой!
Кто любит Моцарта, хороший человек,
Кто любит Вагнера, наверное, плохой.
Деревья голые еще, но в глубине
Души мне кажется, что есть у них душа, —
Про зелень вспомнили и вздрогнули во сне,
Апрельским воздухом взволнованно дыша.
Они листочками готовы встретить май
И просыпаются, и ветви тянут ввысь.
Словам о музыке, мой друг, не придавай
Особой важности, как к шутке отнесись.
Тот не обидит нас, кто любит облака,
Опасен тот, кому валькирии нужны,
Но и валькирии весной наверняка
Летают поверху и людям не страшны.
Весна-причудница шагает вдоль аллей
И легкомысленно глядит по сторонам.
Категорические заявленья ей
Не очень нравятся, не нравятся и нам!
Черемуха
Черемуха цветет недели полторы.
Пока она цветет, ничто с ней не сравнится!
Раскинула свои палатки и шатры,
Свой полог подняла, светла и белолица.
И чудится, что есть у дерева душа —
Вот этот чудный дух, вот этот сладкий запах.
С дистанции сойдет всех раньше, так спеша,
Как будто скучно ей на всех других этапах.
Июнь ей ни к чему, тем более – июль.
Лишь юность хороша; черемуха, спасибо!
Как если бы прошел по улице патруль,
Черемуха – пароль, не жимолость, не липа.
Доверчивость, весна, цветенье на распыл,
На грани волшебства, по гибельному краю.
А юность я и впрямь, увы, почти забыл,
И первую любовь почти не вспоминаю.
«В сад сегодня не выйдешь, так сыро…»
В сад сегодня не выйдешь, так сыро.
Постоишь на крыльце – и домой.
Ты, ей-богу, как в рубке буксира
Над жемчужно-туманной травой,
На густые поделенной пряди,
Словно кто-то ее причесал
Так, чтоб спереди пышно и сзади
Сад лоснился, клубился, мерцал.
Никакой поэтической мысли
В этом стихотворении нет,
Только радость дымящейся жизни,
Только влагой насыщенный свет.
Кто мне дал эту сырость густую,
Затруднил по траве каждый шаг?
Я не мыслю, но я существую.
Существуя, живу, еще как!
«Вчера я заметил, что голуби ходят, кивая…»
Вчера я заметил, что голуби ходят, кивая.
Впервые заметил, а видел их тысячу раз.
Как будто на что-то согласие важно давая,
Да-да, – уверяя в полнейшем сочувствии нас.
Как прежде не видел я чудной готовности этой
Поддакивать нам на ходу и во всём потакать,
Такой бескорыстной, в широкие перья одетой,
Лоснящейся, радужной, уличным лужам под стать?
А если бы «нет» говорили они, отрицая
Надежду и радость, как было бы грустно, представь!
Какая удача, подумай, отрада какая:
Всё – правда, всё – чудо, всё – быль, безусловно,
и явь!
«А это что у нас растет, болиголов?…»
А это что у нас растет, болиголов?
Кокорыш, борщевик – ужасные названья.
А может быть, купырь.
О, сколько диких слов,
Внушающих тоску! Народное сознанье,
Латиницы в обход, сумело оценить
Их подлинную суть, воздав им по заслугам.
Ты спрашиваешь, что? Я думаю, что сныть:
От страха так назвать могли ее, с испугом.
И тот, кто первый дал такое имя ей,
А ближние легко и дружно подхватили,
Не меньше, чем Гомер, не хуже, чем Орфей,
Да только не писал стихов или забыли
Их… Не забыли, нет! Нам кажется, что мы
Листаем каталог клубящихся растений,
А это к нам дошла трагедия из тьмы,
Поэма вещих снов и точных наблюдений.
«На улицу, заросшую травой…»
На улицу, заросшую травой,
Я вышел в летних сумерках. Горели
Огни на дачах. Августовский зной
Дышал еще, но кротко, еле-еле.
Три девочки сидели на бревне, —
Их спать еще из дома не позвали, —
И что-то, рассмеявшись, обо мне,
А может быть, не обо мне сказали.
Прохладное дыхание земли,
Кустарник, протянувшийся по краю,
Заросшие травою колеи…
Хотел бы я еще раз жить? Не знаю.
«Прогуляться вышли поздно…»
Прогуляться вышли поздно.
Ночь во всем великолепье
Золотые свои сети
Развернула в темноте.
– Посмотри, как эти звезды
Хороши в турецком небе
И ближайшие, и эти,
И особенно вон те!
Те, смотри, почти живые.
Даже кажется, что можно
К ним с вопросом обратиться,
Попросить о чем-нибудь.
Как посты сторожевые,
Проступают осторожно,
А за ними тьма клубится.
Посмотри, какая жуть!
Как мерцает вполнакала
Их узорное сцепленье!
Неужели во Вселенной,
Кроме нашей, жизни нет?
– Есть, конечно, – ты сказала, —
Это – горное селенье,
Есть там школа, несомненно,
Кладбище и минарет.
«Остановиться вовремя. А те…»
Остановиться вовремя. А те,
Кто не умеет это сделать, будут
Потом жалеть. И звезды в темноте
Им твердости, быть может, не забудут
И не простят решимости: был миг,
Когда они одуматься хотели,
Да слишком, видно, был разбег велик
И радовало достиженье цели.
И промедленье слабостью назвав,
Не поняли, что требовалась сила
Опомниться и не бежать стремглав,
Прислушаться к тому, что говорила
Ночь и кусты, стоявшие толпой,
Как будто преграждая им дорогу,
Ты спросишь, что тогда считать судьбой?
Сомненье и считать судьбой, тревогу.
«Слепые силы так сцепились…»
Слепые силы так сцепились,
В какой-то миг сложились так,
Что в наше зренье обратились
И разглядели вечный мрак.
Самих себя они узрели
Посредством нашей пары глаз,
Их вставив нам в глазные щели,
Слезами смоченный алмаз.
Как внятно нам вихревращенье
И блеск в кромешных небесах!
Какое чудо – наше зренье,
Мысль, промелькнувшая в глазах!
И Леонардо взгляд колючий,
И мощь рембрандтовских картин.
Какой невероятный случай,
На триллионы проб – один!
«Отца и мать, и всех друзей отца…»
Отца и мать, и всех друзей отца
И матери, и всех родных и милых,
И всех друзей, – и не было конца
Их перечню, – за темною могилой
Кивающих и подающих мне
За далью не читаемые знаки,
Я называл по имени во сне
И наяву, проснувшись в полумраке.
Горел ночник, стояла тишина,
Моих гостей часы не торопили,
И смерть была впервые не страшна,
Они там все, они ее обжили,
Они ее заполнили собой,
Дома, квартиры, залы, анфилады,
И я там тоже буду не чужой,
Меня там любят, мне там будут рады.
«Вечерней тьмою был сведен на нет…»
Вечерней тьмою был сведен на нет
И сад, и ели контур грандиозный,
И если в окнах церкви брезжил свет,
То свет, скорей всего, религиозный,
Оставшийся или от служб дневных,
Или молитв старушечьих, прилежных.
Есть в сельской церкви то, что городских
Людей влечет, и самых безнадежных.
Таких, как я, – сознанью вопреки
И горькой очевидности явлений.
А может быть, присутствие реки
И сумрачность шуршаний, шелестений
Поддерживали этот слабый свет
И сердцу втайне что-то говорили,
Не требуя ответить: да иль нет,
Не заставляя выбрать: или – или.
«Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты?…»
И лежу я, околдован…
И. Анненский
Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты?
Это тикают часы.
Философские заботы,
Жизни детские азы.
Городского неба розов
Полог в сумерках ночных.
А исканий и запросов
Я не знаю никаких.
Роковых перерождений,
Переломов, катастроф,
Вековых нагромождений
Установок и основ.
Но часы меня смущают,
Отмахнуться не дают.
Кто ты? Что ты? – повторяют,
Кто ты? Что ты? – пристают.
И сижу я, зачарован
Их вопроса прямотой.
Кто же знает, кто он, что он?
Шопенгауэр, Толстой?
Не запнутся, не споткнутся,
Им не стыдно, не смешно.
Циферблат у них, как блюдце,
И во тьме блестит оно.
Я их в комнату другую,
Под шумок перенесу:
Пусть там тикают впустую, —
От тоски себя спасу.
«Душа – элизиум теней и хочет быть звездой…»
Душа – элизиум теней и хочет быть звездой,
Но звезды знают ли о ней в ее тоске земной?
Они горят мильоны лет, быть может, потому,
Что о душе и речи нет у спрятанных во тьму.
Но, может быть, во тьме ночной, в сиянье неземном
Звезда б хотела быть душой, омытой летним днем,
И в хладной вечности своей, среди надмирной тьмы,
Раскрыв объятья для теней, быть смертною, как мы.
«Утром тихо, чтобы спящую…»
Утром тихо, чтобы спящую
Мне тебя не разбудить,
Я встаю и дверь скрипящую
Пробую уговорить
Обойтись без скрипа лишнего,
И на цыпочках, как вор,
Может быть, смеша Всевышнего,
Выбираюсь в коридор.
Есть в моем печальном опыте
Знанье горестное. Вот,
Так и есть: в соседней комнате
На столе записка ждет:
«Провела полночи с книжкою,
Не могла никак уснуть.
Постарайся утром мышкою
Быть. Не звякни чем-нибудь».
Спи, не звякну. Все движения
Отработаны, шаги,
Как церковное служение,
Не забыты пустяки,
Всё обдумано и взвешено,
Не должно ничто упасть.
Спи. К любви печаль подмешена,
Страх, а думают, что страсть.
«Мы в постели лежим, а в Чегеме шумит водопад…»
Мы в постели лежим, а в Чегеме шумит водопад.
Мы на кухне сидим, а в Чегеме шумит водопад,
Мы на службу идем, а в Чегеме шумит водопад,
Мы гуляем вдвоем, а в Чегеме шумит водопад.
Распиваем вино, а в Чегеме шумит водопад.
Открываем окно, а в Чегеме шумит водопад.
Мы читаем стихи, а в Чегеме шумит водопад.
Мы заходим в архив, а в Чегеме шумит водопад.
Нас, понурых, с колен, а в Чегеме шумит водопад,
Поднимает Шопен, а в Чегеме шумит водопад.
Жизнь с собой не забрать, и чему я особенно рад, —
Буду я умирать, а в Чегеме шумит водопад!
«Мои друзья, их было много…»
Мои друзья, их было много,
Никто из них не верил в Бога,
Как это принято сейчас.
Из Фета, Тютчева и Блока
Их состоял иконостас.
Когда им головы дурили,
«Имейте совесть», – говорили,
Был горек голос их и тих.
На партсобранья не ходили:
Партийных не было средь них.
Их книги резала цензура,
Их пощадила пуля-дура,
А кое-кто через арест
Прошел, посматривали хмуро,
Из дальних возвратившись мест.
Как их цветочки полевые
Умели радовать любые,
Подснежник, лютик, горицвет!
И я, – тянулись молодые
К ним, – был вниманьем их согрет.
Была в них подлинность и скромность.
А слова лишнего «духовность»
Не помню в сдержанных речах.
А смерть, что ж смерть, – была готовность
К ней и молчанье, но не страх.
«Вдруг сигаретный дым в лучах настольной лампы…»
Вдруг сигаретный дым в лучах настольной лампы,
Колеблясь и клубясь, как будто оживет
И в шестистопные мои заглянет ямбы,
Став тенью дорогой – и сбоку подойдет,
И, голову склонив седую, напугает —
Ведь я не ожидал, что, обратившись в дым,
Давно умерший друг еще стихи читает
И помнит обо мне, и радуется им.
Под камнем гробовым хранится пепел в урне,
На кладбище давно я не был, но ему
В волокнах голубых с подсветкою лазурной
Удобней подойти в клубящемся дыму
И ободрить меня задумчивым вниманьем,
И обнаружить свой нетленный интерес
К тому, что он любил, – и счастлив пониманьем
Я, и каких еще, скажи, желать чудес?
«Поговорить бы тихо сквозь века…»
Поговорить бы тихо сквозь века
С поручиком Тенгинского полка
И лучшее его стихотворенье
Прочесть ему, чтоб он наверняка
Знал, как о нем высоко наше мненье.
А горы бы сверкали в стороне,
А речь в стихах бы шла о странном сне,
Печальном сне, печальней не бывает.
«Шел разговор веселый обо мне» —
На этом месте сердце обмирает.
И кажется, что есть другая жизнь,
И хочется, на строчку опершись,
Ту жизнь мне разглядеть, а он, быть может,
Шепнет: «За эту слишком не держись» —
И руку на плечо мое положит.
«Смысл жизни надо с ложечки кормить…»
Смысл жизни надо с ложечки кормить,
И баловать, и на руках носить,
Подмигивать ему и улыбаться.
Хорошим человеком надо быть.
Пять-шесть детей – и незачем терзаться.
Большая, многодетная семья
Нуждается ли в смысле бытия?
Фриц кашляет, Ганс плачет, Рут смеется.
И ясно, что Платон им не судья,
И Кант пройдет сквозь них – и обернется.
«Когда б не смерть, то умерли б стихи…»
Когда б не смерть, то умерли б стихи,
На кладбище бы мы их проводили,
Холодный прах, подобие трухи,
Словесный сор, скопленье лишней пыли,
В них не было б печали никакой,
Сплошная болтовня и мельтешенье.
Без них бы обошлись мы, боже мой:
Нет смерти – и не надо утешенья.
Когда б не смерть – искусство ни к чему.
В раю его и нет, я полагаю.
Искусство заговаривает тьму,
Идет над самой пропастью, по краю,
И кто бы стал мгновеньем дорожить,
Не веря в предстоящую разлуку,
Твердить строку, листочек теребить,
Сжимать в руке протянутую руку?
«Я-то помню еще пастухов…»
Я-то помню еще пастухов,
И коров, и телят, и быков
По дороге бредущее стадо,
Их мычанье густое и рев,
Возвращенье в село до заката.
Колокольчик звенел, дребезжал.
Луг за лесом, как маленький зал,
Объезжал я на велосипеде,
Где паслись они, словно на бал
Приведенные из дому дети.
И другой их лужок поджидал
Где-нибудь за пригорком, и третий.
Мух и оводов били хвостом.
Стадо пахло парным молоком,
У кустов залегали тщедушных.
Было что-то библейское в том,
Как пастух подгонял непослушных.
О, как чуден был вид и пятнист!
Словно нарисовал их кубист,
Я Сезанна любил и Машкова,
Одинокий велосипедист.
Дай мне к речке проехать, корова!
Поворот, небольшая петля.
Так сегодня не пахнет земля,
Как тогда оглушительно пахла.
Словно вечность, грустить не веля,
Помахала рукой и иссякла.
Лопух
Знал бы лопух, что он значит для нас,
Шлемоподобный, глухое растенье,
Ухо слоновье подняв напоказ,
Символизируя прах и забвенье,
Вогнуто-выпуклый, в серой пыли,
Скроен неряшливо и неказисто,
Как бы раскинув у самой земли
Довод отступника и атеиста.
Трудно с ним спорить, – уж очень угрюм,
Неприхотлив и напорист, огромный,
Самоуверенный тяжелодум,
Кажется только, что жалкий и скромный,
А приглядеться – так тянущий лист
К зрителю, всепобеждающий даже
Древний философ-материалист
У безутешной доктрины на страже.
«Любимый запах? Я подумаю…»
Любимый запах? Я подумаю.
Отвечу: скошенной травы.
Изъяны жизни общей суммою
Он лечит, трещины и швы,
И на большие расстояния
Рассчитан, незачем к нему
Склоняться, затаив дыхание,
И подходить по одному.
Не роза пышная, не лилия,
Не гроздь сирени, чтоб ее
Пригнув к себе, вообразили мы
Иное, райское житье, —
Нет, не заоблачное, – здешнее,
Земное чудо, – тем оно
Невыразимей и утешнее,
Что как бы обобществлено.
Считай всеобщим достоянием
И запиши на общий счет
Траву со срезанным дыханием,
Ее холодный, острый пот,
Чересполосицу и тление
И странный привкус остроты,
И ждать от лезвия спасения
Она не стала бы, как ты.
Сон в летнюю ночь
Чемпионатом мира по футболу
Я был, как все, в июне увлечен.
Не потому ли, полный произвола,
Невероятный мне приснился сон?
Сказать, какой? Но я и сам не знаю,
Удобно ли в таком признаться сне?
Что я в футбол с Ахматовой играю,
Пасую ей, она пасует мне.
Мы победим Петрова с Ивановым!
Дурацкий сон, ведь я предупреждал.
Мы лучше их владеем точным словом:
Они спешат, не выйти им в финал.
Она спросила: «Кто они такие?»
Хотел сказать, но тут же позабыл.
На ней мерцали бусы дорогие,
А плащ к футболке плохо подходил.
Веселый сон, но сколько в нем печали!
С футбольным полем рядом – дачный лес.
А выиграли мы иль проиграли —
Не буду врать: сон был и вдруг исчез.
«И не такие царства погибали…»
«И не такие царства погибали!» —
Сказал синода обер-прокурор
Жестоко так, как будто на медали
Он выбил свой суровый приговор.
И не такие царства. А какие?
Египет, Рим, Афины, может быть?
Он не хотел погибели России
И время был бы рад остановить.
И вынув из жилетного кармана
Часы, смотрел на них, но время шло.
Тогда вставал он с жесткого дивана
И расправлял совиное крыло.
А что теперь? Неужто всё сначала?
Опять смотреть с опаской на часы?
Но столько раз Россия погибала
И возрождалась вновь после грозы.
Итак, фонарь, ночь, улица, аптека,
Леса, поля с их чудной тишиной…
И мне не царства жаль, а человека.
И Бог не царством занят, а душой.
Платформа
Промелькнула платформа пустая, старая,
Поезда не подходят к ней, слой земли
Намело на нее, и трава курчавая,
И цветочки лиловые проросли,
Не платформа, а именно символ бренности
И заброшенности, и пленяет взгляд
Больше, чем антикварные драгоценности:
Я ведь не разбираюсь в них, виноват.
Где-нибудь в Нидерландах или Германии
Разобрали б такую, давно снесли,
А у нас запустение, проседание,
Гнилость, ржавчина, кустики, пласт земли
Никого не смущают, – цвети, забытая
И ненужная, мокни хоть до конца
Света, сохни, травой, как парчой, покрытая,
Ярче памятника и пышней дворца!
«Художник напишет прекрасных детей…»
С. В. Волкову
Художник напишет прекрасных детей,
Двух мальчиков-братьев на палубной кромке
Или дебаркадере. Ветер, развей
Весь мрак этой жизни, сотри все потемки.
В рубашечках белых и синих штанах,
О, как они розовы, черноволосы!
А море лежит в бледно-серых тонах
И мглисто-лиловых… Прелестные позы:
Один оглянулся и смотрит на нас,
Другой наглядеться не может на море.
Всегда с ними ласкова будь, как сейчас,
Судьба, обойди их, страданье и горе.
А год, что за год? Наклонись, посмотри,
Какой, – восемьсот девяносто девятый!
В семнадцатом сколько им лет, двадцать три,
Чуть больше, чуть меньше. Вздохну, соглядатай,
Замру, с ними вместе глядящий на мел
И синьку морскую, и облачность эту…
О, если б и впрямь я возможность имел
Отсюда их взять на другую планету!
«Супружеская пара. Терракота…»
Супружеская пара. Терракота.
Она и он. Этрусская гробница.
Не торопи меня. Мне грустно что-то.
А в то же время как не изумиться?
Не видно скорби. Что же это, что же?
Как будто даже рады нам с тобою.
Полулежат они на жестком ложе,
Как две волны, как бы фрагмент прибоя.
Как будто в жизнь могли бы возвратиться,
На берег выйти, смерть стряхнуть, как пену.
Как больно мне в их вглядываться лица!
Как будто мы пришли им на замену.
И так понятно мне, что ненадолго,
Что все века мучительны и зыбки.
Нужна замена, смерть нужна, прополка.
Когда б не эти две полуулыбки!
«Очки должны лежать в футляре…»
Очки должны лежать в футляре,
На банку с кофе надо крышку
Надеть старательно, фонарик
Запрятан должен быть не слишком
Глубоко меж дверей на полке,
А Блок в шкафу с Андреем Белым
Стоять, где нитки – там иголки,
Всё под присмотром и прицелом.
И бедный Беликов достоин
Не похвалы, но пониманья.
Каренин тоже верный воин.
В каком-то смысле мирозданье
Они поддерживают тоже,
Дотошны и необходимы,
И хорошо, что не похожи
На тех, кто пылки и любимы.
«Представляешь, там пишут стихи и прозу…»
С. Лурье
Представляешь, там пишут стихи и прозу.
Представляешь, там дарят весной мимозу
Тем, кого они любят, – сухой пучок
С золотистыми шариками, раскосый,
С губ стирая пыльцу его и со щек.
Представляешь, там с крыльями нас рисуют,
Хоровод нам бесполый организуют
Так, как будто мы пляшем в лучах, поем,
Ручку вскинув и ножку задрав босую,
На плафоне резвимся – не устаем.
Представляешь, там топчутся на балконе
Ночью, радуясь звездам на небосклоне, —
И всё это на фоне земных обид
И смертей, —
с удивленьем потусторонним
Ангел ангелу где-нибудь говорит.
Портрет
Не заноситься – вот чему
Портрет четвертого Филиппа
Нас учит, может быть, ему
За это следует спасибо
Сказать; никак я не пойму
Людей подобного пошиба.
Людей. Но он-то ведь король,
А короли какие ж люди?
Он хорошо играет роль
Бесчеловечную по сути.
Ты рядом с ним букашка, моль,
Он смотрит строго и не шутит.
Всё человеческое прочь
Убрал Веласкес из портрета.
Усы, как веточки точь-в-точь,
Уходят вверх, – смешно же это?
Нет, не смешно! И ночь есть ночь,
Дневного ей не надо света.
И власть есть власть, и зло есть зло,
Сама тоска, сама надменность.
Из жизни вытекло тепло,
Забыта будничность и бренность.
Он прав, когда на то пошло.
Благодарю за откровенность!
На большом проспекте
Большой проспект году в сорок седьмом
Представь себе – и станет страшновато
Не потому, что старый гастроном
Вернется, а давно исчез куда-то,
Не потому, что вырубленный сквер
Зашелестит опять, ведь это чудно,
Не потому, что мальчик-пионер
Тебя смутит – узнать его нетрудно,
Не потому, что праздничный портрет:
Усы, мундир, погоны на мундире,
Два этажа собою занял, свет
Затмив кому-то на три дня в квартире,
А потому, что все, почти что все,
Идущие по делу и без дела
В загадочности взрослой и красе
Лениво, быстро, робко или смело
В привычной для проспекта полумгле,
Он узок, как гранитное ущелье, —
Их никого нет больше на земле,
Нет никого, какое ж тут веселье?
«Питер де Хох оставляет калитку открытой…»
Питер де Хох оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошел в нее следом за ним.
Маленький дворик с кирпичной стеною, увитой
Зеленью, улочка с блеском ее золотым!
Это прием, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель объем и сквозняк.
Это проникнуть в другое пространство попытка, —
Искусствовед бы сказал приблизительно так.
Виден насквозь этот мир – и поэтому странен,
Светел, подробен, в проеме дверном затенен.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот с давних я знаю времен.
Как безыдейность мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитье!
Главная тайна лежит на поверхности, прятать
Незачем: видят и словно не видят ее.
Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нем?
Смысл в этом желтом, – мы скажем, – кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном.
«Пока Сизиф спускается с горы…»
Пока Сизиф спускается с горы
За камнем, что скатился вновь под гору,
Он может отдохнуть от мошкары,
Увидеть всё, что вдруг предстанет взору,
Сорвать цветок, пусть это будет мак,
В горах пылают огненные маки,
На них не налюбуешься никак,
Шмели их обожают, работяги,
Сочувствующие Сизифу, им
Внушает уваженье труд Сизифа;
Еще он может морем кружевным
Полюбоваться с пеною у рифа,
А то, что это всё в стране теней
С Сизифом происходит, где ни маков,
Ни моря нет, неправда! Нам видней.
Сизиф – наш друг, и труд наш одинаков.
«Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная…»
Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.
Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придем – отдохнет твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.
Я не знаю, какому еще народу
Так светило бы солнце и птицы пели,
А загробная, тусклая жизнь с исподу
Представлялась подобием узкой щели!
Как сказал Одиссею Ахилл, в неволе
Залетейской лишенный огня и мощи,
На земле хорошо, даже если в поле
Погоняешь вола, как простой поденщик.
Так кому же мне верить, ему, герою,
Или тем, кто за смертной чертой последней
Видит царство с подсветкою золотою,
В этой жизни как в тесной топчась передней?
«А теперь он идет дорогой темной…»
Джону Малмстаду
А теперь он идет дорогой темной
В ту страну, из которой нет возврата, —
Было сказано с жалобою томной
Про воробышка, сдохшего когда-то.
Плачьте, музы! Но, может быть, дороги
Той не следует нам бояться слишком,
Если даже воробышек убогий
Проскакал раньше нас по ней вприпрыжку.
Проскакал – и назад не оглянулся,
Тенью стал – и мы тоже станем тенью.
Мне хотелось бы, чтобы улыбнулся
Тот, кто будет читать стихотворенье.
«Англии жаль! Половина ее населенья…»
Англии жаль! Половина ее населенья
Истреблена в детективах. Приятное чтенье!
Что ни роман, то убийство, одно или два.
В Лондоне страшно. В провинции тоже спасенья
Нет: перепачканы кровью цветы и трава.
Кофе не пейте: в нем ложечкой яд размешали.
Чай? Откажитесь от чая или за окно
Выплесните, только так, чтобы не увидали.
И, разумеется, очень опасно вино.
Лучше всего поменять незаметно бокалы,
Пить из чужого, подсунув хозяину свой.
Очень опасны прогулки вдоль берега, скалы;
Лестницы бойтесь, стоящей в саду, приставной.
Благотворительных ярмарок с пони и тиром,
Старого парка в его заповедной красе.
Может быть, всё это связано как-то с Шекспиром:
В «Гамлете» все перебиты, отравлены все.
«Когда листва, как от погони…»
Когда листва, как от погони,
Бежит и ходит ходуном,
Как в фильме у Антониони
И у Тарковского потом,
Я отвести не в силах взгляда,
Такая это мгла и свет,
И даже фильмов мне не надо, —
Важна листва, а не сюжет.
Когда б на Каннском фестивале,
Припомнив всю тоску и боль,
Ей, буйной, премию давали
За ею сыгранную роль,
Как это было б справедливо!
Она б раскланялась, опять
Фрагмент кипенья и надрыва
Сумев так чудно показать.
«Я люблю тиранию рифмы – она добиться…»
Я люблю тиранию рифмы – она добиться
Заставляет внезапного смысла и совершенства,
И воистину райская вдруг залетает птица,
И оказывается, есть на земле блаженство.
Как несчастен без этого был бы я принужденья,
Без преграды, препятствия и дорогой подсказки,
И не знал бы, чего не хватает мне: утешенья?
Удивленья? Смятенья? Негаданной встречи? Встряски?
Это русский язык с его гулкими падежами,
Суффиксами и легкой побежкою ударений,
Но не будем вдаваться в подробности; между нами,
Дар есть дар, только дар, а язык наш придумал гений.
«Минерва спит, не спит ее сова…»
Л. Столовичу
Минерва спит, не спит ее сова,
Всё видит, слышит темными ночами,
Все шорохи, все вздохи, все слова,
Сверкая раскаленными очами,
Ни шепот не пропустит, ни смешок
И утром всё Минерве перескажет,
А та на голове ее пушок
Пригладит и к руке своей привяжет.
Минерва покровительствует тем,
Кто пишет, выступает на подмостках,
Создателям поэм и теорем,
Участье принимая в их набросках,
В их формулы вникая и ряды
Созвучий, поощряя мысль и чувство.
Сама она не любит темноты,
Но есть сова: тьма тоже часть искусства!
«На этом снимке я с Нероном…»
На этом снимке я с Нероном,
Как будто он мой лучший друг.
Он смотрит взглядом полусонным,
Но может рассердиться вдруг.
И в самом деле, можно ль к бюсту
Так подходить, сниматься с ним?
А вдруг проснется злое чувство —
А в гневе он неукротим.
И разве я люблю Нерона?
Он в римской тоге, я в плаще,
Всё это странно, беззаконно
И беспринципно вообще.
И всё, что мне о нем известно,
Такой кошмар, сплошное зло!
А вот поди ж ты, сняться лестно
С ним, – столько времени прошло!
«Теперь не слышен мне ни лязг, ни гром…»
Теперь не слышен мне ни лязг, ни гром
Землечерпалок и камнедробилок —
И хорошо! Пусть ходит ходуном
Листва и ветер гладит мне затылок —
Не слышу их, но чувствую, слежу
За ними восхищенными глазами,
Морскою пеной больше дорожу,
Чем прежде, белогривыми волнами.
А если что-то сброшу со стола,
Блокнот ли, ручку, – странная пропажа
Волшебна так, чудесна и хитра,
Что как-то и не огорчает даже,
А человек, мне кажется, уже
Сказать не может ничего такого,
Чего бы я не знал, чему в душе
Заранее не подобрал бы слова.
«Фредерик, вы должны обессмертить себя…»
Фредерик, вы должны обессмертить себя,
Фортепьяно для этого мало,
И любя вашу музыку, страстно любя,
Я хотел бы еще и вокала,
И симфонии, оперы вам пожелать,
Без сюжета нельзя и героя!
Надо Моцарту быть и Россини под стать,
Барабана прошу и гобоя.
Фредерик, полюбите фагот и трубу,
Вам не скучно без флейты и скрипки?
Я готов обратить пожеланье в мольбу:
Постарайтесь избегнуть ошибки,
Полонез превосходен, прелестен этюд,
Безусловно прекрасна мазурка,
Но от вас и во Франции большего ждут,
И в тяжелых снегах Петербурга.
Фредерик улыбается. Он не взбешен,
Не смущен, не сердит, не расстроен.
В этих увещеваниях есть свой резон,
Его старый учитель достоин
Уважения. Вот и Мицкевич к нему
Подходил с тем же самым советом.
Он напишет ноктюрн и приложит к письму —
И ноктюрн будет лучшим ответом.
«Оревуар, адье и до свиданья…»
Оревуар, адье и до свиданья,
Аривидерчи, ауфидерзейн,
Гудбай, гуднахт, – в минуту расставанья
Неву ли, Темзу, Тибр увидим, Рейн?
А может быть, какую-нибудь речку
Поменьше, Суйду, скажем, как она
Была, подобно тусклому колечку,
Мне из окна вагонного видна.
Влекла, манила, солнцем разогрета,
И говорила в зарослях о том,
Что и она в каком-то смысле Лета,
В прощальном смысле, чудном, неземном.




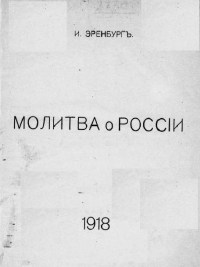
Комментарии к книге «Времена не выбирают…», Александр Семёнович Кушнер
Всего 0 комментариев