Людмила Анисарова Знакомство по объявлению: Рассказы и стихи о любви и не только…
РАССКАЗЫ
ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Майя сразу поняла, что у них ничего не получится. Во-первых, больно молодой, на вид — просто пацан. А во-вторых, совершенно неинтересное лицо. Зацепиться не за что. Она, конечно, понимала, что и сама-то далеко не красавица. И все же хотелось чего-то… чего-то такого: ну, мужественности, что ли, или озорного блеска в глазах, или какой-то особой улыбки. Ничего этого не было. А был крайне неудачный нос: видимо, перебитый и поэтому расплющенный, как у американского боксера-негра. Нос — негра, а волосы, кожа, глаза — все светлое, невыразительное — никакое.
Все это успело пронестись в голове Майи Сергеевны, пока серо-голубой «Москвич», который она ждала у «Детского мира», тормозил, пока этот парень, откликнувшийся на ее объявление, открывал переднюю дверцу. Они еще ничего не спросили друг у друга, но было ясно, что это — он, а это — она. Почему? Потому что Майя Сергеевна знала, что подъедет серо-голубой «Москвич», а его владелец знал, что должен встретиться с «Невысокой блондинкой, за тридцать» (это из объявления) и что она будет в синем пальто с белым шарфом (это уже из разговора по телефону).
— Вы Сергей? — спросила она, садясь в машину.
— А вы — Майя Сергеевна, — утвердительно сказал он.
Вот так они и познакомились. И знакомство это не обещало продолжиться, то есть ни он ей, ни она ему (как потом выяснилось) с первого взгляда вовсе не понравились. Но куда-то поехали. О чем-то говорили. Да нет, поехали не куда-то, а в магазин. В продуктовый магазин за тридевять земель они поехали потому, что Майя Сергеевна попросила об этом. Она давно туда собиралась, но сама бы никогда не добралась. В магазине работал муж ее приятельницы, который всем знакомым рекламировал необыкновенные колбасы, привозимые к ним из Коломны: в Рязани такого больше нигде не купишь. Майе хотелось не столько купить колбасы, сколько сделать приятное своим знакомым. И она бессовестно решила использовать этого Сергея: больше он едва ли на что-нибудь сгодится.
Пока ехали, говорили, кажется, о том, почему она дала объявление и почему он на него откликнулся. Потом они еще не раз возвращались к этому разговору, а тогда он был каким-то натянуто-обязательным, без робости и сладкого дрожания внутри, которые обычно бывают, когда ясно, что впереди — близость.
Итак, разговор был неинтересным, собеседник — тоже. Но Майя изо всех сил изображала любопытство: семья? работа? образование? Семья — жена и дети. Двое. Мальчик и девочка. Образование — не высшее. Работа — шофер-дальнобойщик. Да уж… «Умный, интеллигентный, состоятельный друг» — вот кто требовался Майе Сергеевне с ее кандидатской степенью, тонкой поэтической натурой, разносторонними интересами и дорогостоящими запросами. А что имеем? Внешность, мягко говоря, малопривлекательная, далеко не интеллигентная; точек соприкосновения нет и быть не может по определению. Зато самомнения у этого молодого человека больше чем достаточно. В общем, все ясно. За колбасой отвезет, а там можно и распрощаться.
— Я пошла. Вы можете меня не дожидаться. Спасибо за то, что подвезли, — очень непринужденно, как ей показалось, сказала Майя Сергеевна, когда они подъехали к магазину.
Попав туда, Майя сразу же увлеклась колбасным изобилием и даже на время отвлеклась от мысли, дождется ли ее этот, как его там, — Сергей, кажется. Когда она вышла с полным пакетом, то увидела, что машина стоит на месте. Колокольчик самолюбия прозвенел радостно, но тихо, вполне соответствуя моменту, — не бог весть какой принц дожидается.
Ехать домой Майе Сергеевне не хотелось. Ну не хотелось, и все тут. Буйная натура (скрытая, кстати, от многих скромной внешностью, неброской одеждой типичной учительницы, семейным положением — замужем, и давно) жаждала впечатлений. От нового знакомства впечатлений, увы, не прибавилось. Но… машина! Майя Сергеевна по-детски любила кататься.
— Сергей, а как у вас со временем? — поинтересовалась она.
— Нормально, — ответил Сергей с запинкой. Видимо, прикидывал, чем обернется дело.
— А давайте поедем куда-нибудь. В лес, например. Я сто лет не была в зимнем лесу. А так хочется. — Просительные интонации Майи Сергеевны были несколько унизительны, но желание прокатиться и погулять по лесу оказалось сильнее того, что называют чувством собственного достоинства.
— Поехали, — без энтузиазма ответил Сергей. — Куда?
— В Солотчу, наверное. Куда ж еще? — ответила она, уже ругая себя за то, что все это затеяла. Ведь нужно будет о чем-то говорить, а потом, может быть, еще и объясняться, почему они больше не встретятся.
Но они уже ехали. Новый знакомый в основном молчал. «Недоволен, — думала Майя Сергеевна. — Кажется, я ему нисколько не нравлюсь». Это было неприятно. Майя не была мастером первого удара, но обычно в процессе разговора с интересующим ее мужчиной умела, как ей казалось, произвести нужное впечатление. Сейчас этого не было. Возможно, оттого, что она и не стремилась понравиться этому шоферу. А может быть, она была не в его вкусе. Хотя о каком вкусе можно говорить? Неужели у этого мальчика могли быть женщины, кроме жены? Странно, с чего это он вдруг задумал завести любовницу?
— Сергей, а у вас были женщины? Ну, кроме жены? — спросила Майя.
— Да. Вы уже спрашивали, — ответил он.
Майя поняла, что допустила оплошность. Они действительно говорили уже об этом, еще когда ехали в магазин. Ей стало неудобно, она подумала, что как-то нужно вывернуться. Но потом решила не напрягаться и ничего не ответила. Замолчала.
Так, молча, и доехали они до Солотчи. Сергей остановил машину у ворот санатория «Сосновый бор».
— Пойдемте погуляем? — взял наконец он инициативу в свои руки.
— Да, с удовольствием, — слишком живо откликнулась Майя Сергеевна, уставшая молчать.
Оказывается, она никогда не была именно в этом месте Солотчи, не видела раньше огромного корпуса санатория (очень приличного с виду), не думала, что здесь так все основательно и культурно. Рядом с оградой бежала лыжня, вдоль нее и побрела эта странная пара: молодой шофер-дальнобойщик, которому чего-то не хватает в этой жизни, и не слишком молодая кандидатша наук, смысл жизни которой не в науке, а вовсе даже неизвестно в чем.
Майя Сергеевна теперь могла получше разглядеть своего спутника. Высокий, довольно стройный; правда, атлетическое сложение, о котором было сказано в его письме, как-то не просматривалось: джинсы слегка висели на худенькой попе, а может, они были просто слегка великоваты, но в любом случае это вызывало чувство неловкости и жалости. «Бедный мальчик, зря тратит на меня время и бензин, — подумала она. — А все ж какой… — Майя Сергеевна поискала слово, — благородный». Согласился везти ее сюда, хотя мог бы под каким-либо благовидным предлогом отказать. Это было в его пользу. Но влечения к нему не прибавило. Да нет. Не то, не то. «А он теперь думает, — продолжала Майя про себя, — как мне отвязаться от этой бабы?»
Уязвленное этой мыслью самолюбие диктовало соответствующее поведение: спокойствие, отстраненность, независимость. Все это давалось с огромным трудом. Майя с жалостью, но твердо душила в себе бурлящее ликование, грозящее в любую секунду прорваться банальным бегом по глубокому снегу с радостными вскрикиваниями и счастливым смехом. Хотелось упасть на спину, раскинув в стороны руки-ноги, и блаженно вопить: «Господи, хорошо-то как!» А ведь действительно хорошо. И не просто хорошо, а потрясающе здорово! Заснеженное русло реки, сосны, солнце — классика! А небо… Какое небо… А слов для этого — раз-два и обчелся. Голубое да чистое.
Майя Сергеевна запрокинула голову и никак не могла оторвать глаз от головокружительной бездонности такого чистого цвета, которого, как ей сейчас казалось, она никогда прежде не видела. И ни единого облачка! Заболела шея — голову пришлось вернуть в нормальное состояние. И сразу увиделось, что у самого горизонта бредут все-таки по небу три худеньких белых барашка. А может, это были козлята — просто без рожек и кудрявые. Как жаль, что все это нельзя проговорить. Кому?
Скрывая свой щенячий восторг, Майя молча упивалась сосново-зимним чистым воздухом, о котором так тосковала в городе. Старалась запомнить и сохранить это ощущение покоя и воли, которые сами по себе и есть счастье (не прав был все-таки Александр Сергеевич!). И мешал только этот равнодушный к ней мальчик рядом. Напрягал. Ну да Бог с ним!
Вот если бы Майя была писательницей, она бы так рассказала о бескрайней равнине, раскинувшейся на другом берегу реки: «Кто-то, космически богатый и сказочно щедрый, усыпал снежное поле миллиардами мелких и крупных бриллиантов, которые неистово сверкали на солнце, уводя от мысли о бренности бытия». Вот как получилось. Надо не забыть и записать потом.
Нет, все время молчать все-таки неудобно. Майя оглянулась. Сергей стоял поодаль и, подставив лицо солнцу, жмурился, как котенок, расслабленно и блаженно. Он, кажется, вовсе не тяготился молчанием. Но Майя заговорила. Она снова начала расспрашивать Сергея про семью, про работу. А он снова отвечал односложно, с неохотой. Тогда она начала говорить о себе.
Казалось бы, все у нее замечательно. Любящий и по-своему любимый муж (между прочим, в свои сорок пять он уже давно профессор, доктор наук, исторических), дочь — студентка второго курса МГУ, хорошая работа. Но… Но ей этого мало. В ней так много любви, нежности, страсти, что добрая половина всего этого остается невостребованной. Муж любит ее, но любит опять-таки по-своему: так, как он умеет, вернее, насколько он умеет. И ей этого мало. А ее любви для него — слишком много. Ему, во всяком случае, хватило бы гораздо меньшего. Остается излишек.
— Понимаете, Сережа, излишек, — растолковывала Майя, — который куда-то нужно деть. И при этом, заметьте, мне не нужен другой муж, наш брак уже никогда не распадется.
Майю прорвало. Она говорила и говорила. Да, это хорошо, когда женщина верна своему мужу. Это всячески приветствуется обществом. Но она убеждена, что жены не изменяют своим мужьям не из-за того, что повинуются чувству долга или в угоду морали. Нет. Они делают это только в трех случаях. Первый. Женщина по природе своей холодна, не слишком эмоциональна, ей не нужны острые ощущения, а нужен покой. Ей не приходится преодолевать свою страсть, потому что она на нее просто не способна. Такой ее родили мама с папой не без участия звезд (Майя слегка увлекалась астрологией). И ее заслуги, то есть женщины этой самой, в этом нет.
— Вы согласны, Сергей?
— Да. — Сергей явно заинтересовался теорией Майи Сергеевны. Теорией, которую она давно придумала для оправдания своих как многочисленных влюбленностей, так и двух серьезных романов, которые унесли у нее и ее близких немало лет жизни.
Майю вдохновил интерес Сергея, и она продолжала, все более увлекаясь и увлекаясь. Слова рождались легко, были уместными и умными (во всяком случае, для уровня ее собеседника: Майя ни на секунду не забывала о том, что у него нет даже высшего образования).
— Второй случай, — уверенно продолжала Майя. — Женщина встретила свою половинку. Помните, у Платона… — Тут уж Майю явно занесло. К тому же она сообразила, что не уверена на сто процентов, говорил Платон про половинки или нет. «А-а, не важно», — подумала она и продолжила: — Встретились две половинки и соединились. Это дано одной паре из тысячи, а может, из миллиона. Зачем ей (она выделила это слово голосом) другие мужчины, а ему соответственно другие женщины? Незачем. Все — в нем. Единственном. А для него — в ней. Чья заслуга в том, что они не изменяют друг другу? Да ничья! Случай. Судьба. Им можно только позавидовать. Но заслуги их в этом, повторяю (Майя Сергеевна любила вводные конструкции), нет. Согласны?
— Да-а. — Сергей смотрел на Майю во все глаза.
— И наконец, третий случай. Нет у женщины ни половинки (а есть — неполовинка), ни ровного и спокойного нрава, а есть желание нравиться мужчинам и заводить романы. Но не складывается почему-то. Или обстоятельства не позволяют, или не интересна она никому. Она бы рада изменить. Но не изменяет. Кстати, такие больше всего о долге и говорят!
— Нет, ну бывает, что женщине это просто не нужно, — возразил Сергей.
— Смотри пункт первый, — парировала Майя.
— Действительно, — удивился Сергей.
— Вы можете предложить что-нибудь еще? — победно спросила Майя, совершенно уверенная в том, что в ее теории нет слабого места.
— Пожалуй, нет, — признался Сергей, а Майя отметила про себя его «пожалуй» как слово, которое едва ли часто используется шоферами (Майя так и услышала — «шоферами», и ей показалось это вполне уместным).
— Знаете, Майя, а ведь это все и к мужчинам относится, — задумчиво сказал Сергей.
— Да? Не знаю. О мужчинах я не думала, — честно призналась она.
Сергей начал говорить о том, что он, конечно, любит свою супругу (Боже, «супруга» — ужас!), но у них проблемы с сексом. Как и большинство окружающих, он говорил «сэкс». Но Майе было ближе мягкое произношение, и это слово, как и жуткая «супруга», резануло слух. Бедный Сергей, конечно же, не догадывался об этом. Проникнувшись к Майе уважением, он начал рассказывать о себе, старательно подбирая слова (с кандидатами наук, преподающими русский язык в университете, ему, очевидно, еще не приходилось сталкиваться).
Жену Сергея зовут Лена, они женаты уже десять лет. Когда встретились, ей было восемнадцать, а ему — двадцать один. (Ну да, вспомнила Майя, ее новому знакомому тридцать один, в письме он об этом писал, ему-то не надо было лукавить, как Майе, — «за тридцать», хотя на самом деле… — правда, выглядела она довольно молодо.) У нее до него никого не было, у него — тоже. Он с самого начала стремился к близости и, вероятно, поспешил. Ни начало их интимной жизни, ни ее продолжение удовольствия и радости Лене не доставили.
Сергей смущался, говоря обо всем этом, но продолжал. Он говорил о том, что был терпелив и нежен, что читал все, что можно, — но ничего так и не получилось. Для его жены это — и по сей день обязанность, которую она готова выполнять не более одного раза в неделю. Собственно, дело не в количестве, а в том, что…
— Да, я понимаю, — сказала Майя.
И сразу же подумала: зачем ей все эти откровения чужого и совершенно неинтересного для нее мужчины? Но ведь рассказывала же она ему о себе для чего-то. Для чего? Бог знает. Как в поезде, лишь бы выплеснуть накопившееся, а кому — не важно. Но что показалось Майе любопытным — так это то, как Сергей говорит. Вполне прилично, надо сказать. Что-то и не похоже на речь шофера-дальнобойщика. Правда, о том, как говорят дальнобойщики и является ли их речь какой-то особенной, у Майи Сергеевны не было ни малейшего представления.
Так вот, язык у Сергея был неплохо подвешен, голос — приятный, мягкий и ровный. И слушать его, пожалуй, даже хотелось. Кажется, она отвлеклась. О чем он?
А он говорил о том же. Что не может, любя Лену и не собираясь с ней разводиться, не иметь других женщин. Вот как. И сколько же их у него?
— О, у вас мно-о-го женщин? — протянула Майя.
— Нет, вы меня неправильно поняли, — поспешил объяснить Сергей, почувствовавший иронию, покраснев и растерявшись. В этом была такая милая непосредственность и незащищенность, что Майе стало стыдно.
— Понимаете, Майя Сергеевна, мне не нужно много женщин. Я вовсе не донжуан. Мне нужна любовница.
«Вот такой пошел открытый текст», — подумала Майя. И это снова подтверждало то, что, выслушав и поняв друг друга, она и ее собеседник разбегутся в разные стороны и никогда больше не увидятся. Майя поймала себя на мысли, что, не испытывая к нему ни малейшего влечения и понимая, что она у него тоже не вызывает никаких желаний, она уже вжилась в проблему и прикидывает, нельзя ли этого Сережу (очень неплохого, между прочим, мальчика, наверное, достаточно хорошо зарабатывающего) подсунуть кому-нибудь из нуждающихся приятельниц — тех, что помоложе и не слишком взыскательны.
А Сережа между тем продолжал:
— У меня были любовницы, но по разным причинам пришлось с ними расстаться. Кстати, я очень привязчивый и расстаюсь тяжело.
— Так вы их бросали или они вас? — Вопрос Майи снова был циничен и резковат.
Она сама не понимала, почему взяла этот тон. Наверное, само слово «любовницы» диктовало его.
— Никто никого не бросал. Я любил тех женщин, которые у меня были. Просто обстоятельства складывались так. Понимаете?
Майя, конечно, понимала. Но сколько все-таки было у него женщин? Ужасно интересно. Однако она решила не задавать больше жлобских вопросов. Но все равно продолжала думать: две — понятно. Может, три? Или больше? Чем уж он их брал? Хотя, с какой стати она должна ему верить? А вдруг этот Сергей вообще выдает желаемое за действительное? Такое свойственно шизофреникам. Господи… Господи, какая же она дура! Поехала в лес с человеком, которого первый раз в жизни видит. Ну где голова у нее? Где?! Ведь ей не пятнадцать лет. Да в пятнадцать-то она так и не сделала бы. Майя была очень осторожной девочкой. Слушалась бабушку, у которой всегда отдыхала в деревне и которая говорила: «Маечка, никогда и ни с кем никуда не езди! Завезут, изуродуют и убьют — и не найдет никто». Майя боялась. И даже со знакомыми мальчишками никогда не соглашалась кататься на мотоциклах, как это делали все ее подружки.
— Майя Сергеевна, смотрите, качели! Покачаемся? — Сергей взял Майю за руку и повел за собой. Оказывается, они забрели на территорию санатория, где были качели, турники, лавочки и еще какие-то атрибуты организованного отдыха.
Сергей поставил ногу на доску, придерживая ее, чтобы Майя могла встать с другой стороны, и, когда она это сделала, легко оттолкнулся, резко начал раскачиваться. Давно забытое детское ощущение полета (ах, как хотелось всегда выше и выше — и ах как было страшно!) захлестнуло Майю. Она забыла о том, что нельзя расслабляться. И что совершенно недопустимо прикидываться девочкой (обычный прием почти для любой женщины ее лет, желающей понравиться). Но ведь она и не прикидывалась: ей было просто хорошо, и она этого не скрывала. Кажется, она что-то кричала не то от восторга, не то от страха. Но и когда было страшно, все равно было здорово — так, как бывало когда-то очень давно. Не было никаких сомнений, не было пережитых бед (их хватило на Майину долю — и это были не только несчастные любови), а было только небо, то приближающееся, то удаляющееся. И было упоение от головокружительных перепадов: стремительный полет вверх, возвышающий душу, — и бросающее в бездну, затемняющее рассудок уханье вниз.
Только через некоторое время (минута? пять? десять?) к Майе вернулась способность мыслить и отдавать себе отчет в происходящем. Она, Майя Сергеевна Соколова, солидная («солидная» — в смысле положения в обществе), можно сказать, дама, и малознакомый ей молодой человек качаются на качелях. И вот теперь она уже видит не только небо, а еще и его глаза — близко. Светло-голубые. И пожалуй, невыразительными их сейчас назвать уже нельзя. Что-то в них появилось. И вообще ей уже захотелось целоваться. С этим тридцатиоднолетним Сергеем с перебитым носом. «Ну это уж ни к чему, — одернула она себя. — Это уж так, от общего восторга».
— Все, — сказала Майя. — Достаточно.
Это чисто преподавательское слово «достаточно» вырвалось у нее невольно и сразу, как ей показалось, отдалило Сергея от нее той, которая минуту назад захлебывалась от восторга.
Сергей послушно остановил качели, подал ей руку, и они отправились к машине.
Разговор в пути снова не клеился. Майя устала от впечатлений (она их получила, как и хотела!), и ее тянуло домой. Сейчас она поваляется немного с книжкой на диване, потом быстро приготовит ужин, а потом посидит над методичкой, которую ей надо сдать завкафедрой уже к концу недели. Занятий сейчас нет. Золотое время для преподавателей, когда среди учебного года удается отдохнуть практически целый месяц и даже больше: сессия плюс студенческие каникулы. Только вот методичка за душу тянет.
«Ничего, прорвемся!» — весело подумала Майя. Ей было хорошо. Она почти забыла о Сергее. Совсем забыть мешал колбасный запах из ее пакета, и ей было неудобно. А иногда смешно. Она решила все свои проблемы: колбасы купила, воздухом надышалась, впечатлениями навпечатлялась (красота зимнего леса плюс качели — это немало!). А вот мальчик-то за что пострадал? Бедный Сережа… Столько времени зря потратил на возрастную тетку («возрастная тетка» — это, кажется, из Токаревой), на которую у него нигде ничего не екнуло. А у нее вот екнуло. На качелях. Но быстро прошло.
— Майя Сергеевна, вы, наверное, надеялись на знакомство с человеком своего круга, с высшим образованием. Я вам не подхожу. Да? — отвлек ее Сергей, останавливая машину у «Детского мира», там, где они встретились. Так быстро приехали…
— Да нет, Сергей. Это, скорее, я вам не подхожу. Вы ведь видите, я старше. — Майя нежно погладила его по руке. Ей все-таки хотелось, чтобы у него осталось о ней хорошее впечатление.
— Я не думаю, что возраст имеет какое-то значение, — сказал Сергей.
Это была не та фраза, которую хотелось бы услышать. А хотелось услышать понятно что. Что он никогда бы не подумал, что она старше его. Нет. Не так. Он никогда бы не дал ей больше… больше… ну, допустим, двадцати восьми. Хотя это она загнула, конечно. Ну хотя бы тридцати. Нет, цифры пусть уж лучше не звучат… Не надо в цифрах. Первоначальный вариант был лучше: «Я никогда бы не подумал, что вы старше меня». Да, не джентльмен. Ну да Бог с ним!
— Понимаю, что я для вас — не тот вариант, — продолжал Сергей. — Но мне с вами хотелось бы встретиться еще.
Майя не была готова к такому повороту. Еще? Зачем? Впрочем, согласиться на встречу было проще, чем что-либо объяснять, — и Майя согласилась.
Они встретились через два дня на том же месте, у «Детского мира». И снова поехали в лес. Эта встреча вспоминалась потом Майе как-то несколько размыто. Они гуляли. Кажется, Майя уже не скрывала своего восхищения зимним лесом. Они много говорили. Сергей оказался неплохим собеседником, был достаточно начитан. Что запомнилось особенно хорошо, так это то, как он интересно рассказывал о своей работе. Он оказался романтиком и фанатом своего дальнобойного дела. Вот за это уже можно было зацепиться. К тому же выяснилось, что он не просто шофер, а частный предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками, и у него, кроме «Москвича», два собственных «КамАЗа». А еще оказалось, что он увлекается восточными единоборствами, когда-то серьезно занимался у-шу. Вот это было уже очень интересно! Это ведь не просто руками-ногами махать или замирать в позе лотоса, это — особая философия, особое мироощущение.
Со второй встречи Майя Сергеевна Сережу зауважала, а уже в третью они перешли на ты и до умопомрачения целовались в машине, которую Сергей остановил где-то в поле. Было темно, были звезды — и в коротких перерывах между поцелуями Майя призналась Сергею, что она уже его хочет. Сильно. Ну а ему соответственно не оставалось ничего делать, как… Нет-нет, тогда еще, кроме поцелуев и объятий, ничего не было. Ему ничего не оставалось, как сказать, что он тоже ее очень хочет. И они стали решать, когда и где.
В субботу и воскресенье Майя не могла. Не только потому, что в выходные надо быть дома, но и потому, что должна приехать Вероника.
— Вероника — это кто? — спросил Сергей.
— Это дочь. Моя взрослая дочь. Она учится в Москве. Помнишь, я тебе говорила? Сейчас у нее сессия, и в понедельник она сдает какой-то очень сложный экзамен.
— И ей будет не до тебя. Ведь нужно готовиться. — Сергею хотелось встретиться именно в субботу.
— Ей — не до меня. А мне — до нее. Я буду на нее смотреть. И вкусно кормить. Знаешь, как я соскучилась.
— А когда вы последний раз виделись?
— Две недели назад я сама к ней ездила. Она в общежитии живет. Наготовила там всего, думала — как раз на две недели. Но она звонила дня через три — говорит, все слопали. До последнего кусочка. Голодная теперь ходит.
— А какая у тебя дочь? На тебя похожа?
— Не-а. — Майя помотала головой. — Совсем не похожа. Высокая, тоненькая — ну какие они сейчас все. Волосы темные, кареглазая — в отца. Мне кажется, что очень красивая. Очень. Знаешь, на Синди Кроуфорд смахивает здорово.
— А Синди Кроуфорд — это…
— Ну манекенщица знаменитая, топ-модель, как Клаудиа Шиффер.
Но и о Клаудии Шиффер Сергей ничего не слышал.
— Ты как с луны свалился, — засмеялась Майя. И тут же схватила Сергея за руку и заглянула в глаза. — Ты только не обижайся. Хорошо?
Сергей попытался объяснить, почему он не знает ни Синди, ни Клаудиу, но Майя закрыла ему рот одной рукой, а другой обняла и снова потянула его на себя. Они уже так долго целовались до этого, что можно было бы и остановиться. Но Майе хотелось продолжать. Ей нравилось целовать мягкий, без перегородки, Сережин нос (в армии перебили, оправдывал он свою несимпатичность, в армию с нормальным носом уходил). И нравилось, как целуется он: очень нежно, ненастойчиво, сначала — едва касаясь ее губ, осторожно раскрывая их своими, как бы разведывая, приятно ли ей, хочет ли она целовать его в ответ. Ей было приятно и она хотела. И не скрывала этого.
— Ты такая… — задыхаясь прошептал он. — Такая…
— Какая? — спросила она. — Ну какая?
Но он не ответил, потому что губы его снова уже были заняты, а может быть, потому, что он еще не придумал, какая же она — Майя.
Когда он добрался до ее груди, Майя почувствовала, что ему хочется снова прошептать ей что-то восторженное. Наверное: у тебя такая грудь… Но, вероятно, побоявшись, что Майя снова начнет привязываться — какая да какая? — просто прижался лицом и замер. От восхищения, конечно.
Потом снова были бесчисленные поцелуи. А может, это был один, бесконечный, — понять было трудно.
До Майи иногда вдруг доходило, что она, кажется, что-то делает неправильно. Как-то все слишком быстро получается. Но думать о своевременности-несвоевременности объятий-поцелуев было уже совершенно бессмысленно. Поздно. Свершилось. Свершалось сейчас. Но надо все-таки остановиться. Самой. А то если Сергей первым оборвет все и скажет, что уже пора ехать, — будет неприятно и обидно. Значит, нужно самой.
— Сереженька. — Она поймала секунду, когда ее губы, приятно опухшие и поэтому непослушные, были свободны. — Нам ведь пора. Уже поздно. И тебя, и меня дома ждут. Поедем.
В воскресенье днем, проводив Веронику, немного поплакав от жалости к ней, такой худенькой и замученной учебой (но все равно очень красивой), Майя начала ждать понедельника и готовиться к свиданию. Ее муж Володя уехал к своим родителям (они жили на другом конце города). Майя была рада, что, оставшись одна, сможет заняться собой. Кстати, методичку она не доделала и доделывать не собиралась, хотя на кафедре клялась и божилась, что уж в понедельник-то обязательно все принесет. Ну разве она способна сегодня написать хоть строчку?! Нет, конечно. Завтра — тоже нет. На днях доделает. А сейчас… Сначала — блаженствование в ванне, обмазывание всяческими лосьонами и бальзамами, маникюр-педикюр в силу собственных умений и возможностей. Потом — какая-нибудь маска на лицо (надо порыться в книжках и вырезках и найти что-то, что сделает ее молодой и красивой). А потом — решить, что надеть, и все приготовить. Вон сколько у нее дел!
Ночью Майя не спала. Временами ее трясло. Это была страсть, которой она давно не испытывала. Она пыталась вспомнить лицо Сергея, но оно расплывалось — Майя никак не могла поймать и зафиксировать изображение. Зато она очень хорошо помнила его губы, руки, помнила каждое прикосновение, отчего у нее перехватывало дыхание, пылали щеки и на живот снизу наплывала горячая волна желания. Она прижималась к спящему мужу всем телом, не думая его будить, а просто стараясь угомониться, расслабиться, зарядиться от него покоем сна.
Она часто потом вспоминала эту их первую встречу в квартире своей подруги. Ничего подобного никогда у нее не было. Они провели в постели пять часов. И этого было мало. И ей. И ему. Расставаться было невыносимо, но нужно. Снова встретиться хотелось завтра же. Но это было невозможно. У Сергея намечался рейс. Куда-то далеко.
И для Майи потянулись дни ожидания звонков. И встреч.
Кое-как выдюжившая перестройку, но сломавшаяся на капитализме (не по зубам и не по менталитету), страна сотрясалась от кризиса. Люди шалели от цен. А Майка (это Сережа ее так называл — Майка) шалела от любви. Господи, за что, за что ей такое счастье? И как так могло случиться, что по объявлению (подумать только!) нашелся тот, кто был так нужен? Иногда умом она понимала, что, наверное, что-то слегка преувеличивает. Так ведь только слегка! Он же есть, он есть у нее! Майка сходила с ума от мысли, что Сергей мог бы не купить в нужный день газету, мог бы не обратить внимания на ее объявление, а откликнулся бы на другое (об этом думать было особенно невыносимо). Мог бы не приехать на встречу во второй или в третий раз (да-да — в третий, ведь все решила именно третья встреча!). И его бы у нее, у Майки, не было. Когда она проговаривала это в отчаянии Сереже, он, прижимая ее к себе, говорил: «Девочка моя. Глупенькая моя. Хорошая моя». «За это можно все отдать», — неизменно думала Майка и успокаивалась в его сильных руках.
Занятия в институте и подготовка к ним, дом с уборкой и готовкой, Володя с постоянной заботливостью и неизменным вопросом в глазах — все ушло на второй план. И имело смысл только в том случае, если было точно известно, когда Сергей возвращается из рейса, когда он позвонит и когда они наконец увидятся. Если этого не было (а такое случалось — и часто), Майя тихо сходила с ума. Он ее бросил. Он встретил кого-то из тех, кто был у него раньше, — и забыл о ней. Майку сжигала ревность. Она сама выпытывала (мазохистка несчастная!) у Сергея подробности его прежних романов и впадала от этих самых подробностей в депрессии — пусть недолгие, но очень черные.
А Сергей частенько простодушно рассказывал о том, что всех его женщин почему-то звали Наташами. Наташа первая жила где-то в области, далеко от Рязани, и была учительницей русского языка и литературы. «Значит, тоже училась на литфаке, — думала Майя. — Интересно, на сколько лет позже меня это было?» Наташа вторая тоже, кажется, преподавала. Английский или немецкий — Майя не выяснила это до конца. Но выяснила многое другое. Например, то, что и с первой, и со второй Наташей Сергей познакомился в рейсах. Подвез — вот и познакомился. Значит, все, кого он подвозит, — ее потенциальные соперницы. А проехать мимо голосующего на дороге человека (мужчины или женщины — не важно) он не может. Великодушен, добр. И любвеобилен. Вот такое сокровище досталось Майе. Жила себе — забот не знала. Во всяком случае, в последнее время. Как же, скучно стало! Подавай приключений. Вот и дохни теперь у телефона. Позвонит — не позвонит. А сил отказаться от этого — нет. И все тут.
Зависимость Майиного настроения от Сережиных звонков крепла с каждым днем. Ей это не нравилось. Очень не нравилось.
«Ну что это такое? Ну куда это годится? Ну сколько можно?» — стыдила она себя. И внушала себе же: у них ведь, у мужиков, все по-другому. Занят он, когда ему названивать?
Иногда уговоры действовали и Майке удавалось обходить телефон стороной и не посылать Сереже на пейджер (рабочего телефона у него не было) своих робко-настойчивых «позвони». Она могла держаться час. И два. И даже три.
А в этот раз, придя из института, Майя продержалась четыре часа. «Ну вот, рекорд побит — и хватит маяться», — решила она и набрала телефон пейджинговой связи.
Чтобы ожидание не слишком тянуло за душу, Майя решила сделать что-нибудь полезное: постирать, например. Вчера она гладила — и не дождалась. Позавчера делала блинчики с мясом — тоже не дождалась. Значило это (Майя верила) то, что Сережи нет в Рязани. Сообщения ее получал, наверное, Сережин друг, который вместе с ним работает.
Стирала Майя без души. Хотя небольшая ручная стирка обычно бывала ей в радость, и она, полоская-выкручивая белье, всегда пела русские народные песни. Почему-то именно их. А когда посуду мыла — то больше вспоминались всякие бардовские мелодии. Слов песен она полностью почти никогда не знала и просто мурлыкала: та-та-та, та-та-та…
Вода лилась слишком шумно — так и звонка не услышишь, хотя дверь в ванной, естественно, открыта. Майя завернула оба крана и решила отдохнуть. Точнее, послушать получше квартирную тишину, которая вот-вот, конечно же… Но нет, полчаса напряженного вслушивания прошли даром. И несчастная Майя снова отправилась стирать. Воду она пустила совсем тоненькой струйкой, а вот попеть все-таки решила — может, настроение поднимется. Хотя как может подняться настроение от «что стоишь, качаясь, тонкая рябина»? Но ничего другого не придумалось.
С русских народных песен Майя переключилась на поэзию серебряного века и несколько раз подряд повторила вслух ахматовское:
Как соломинкой, пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и хмелен. Но я пытку мольбой не нарушу. О, покой мой многонеделен.Про многонедельный покой Майка не понимала, а вот первые три строчки — просто ее.
— Но я пытку мольбой не нарушу, — сказала она в очередной раз и, вздохнув, пошла к телефону. Послав очередное сообщение, Майка продолжила стирку.
Звонок раздался, когда она снова грустно выводила «но нельзя рябине к дубу перебраться…».
Это был он! Поговорили они быстро, так как Сережа звонил из автомата и было плохо слышно. Договорились, что позвонит на следующей неделе, когда вернется из рейса. А эти дни его тоже не было: мотался в Москву, возвращался поздно.
— Позвонил! Позвонил! Позвонил! — пело все внутри.
Но уже через минуту в распахнутые настежь двери Майкиной души осторожно постучалось сомнение, помялось немного и сказало:
— Позвонить-то позвонил. Но ведь не сам. А после твоих многочисленных призывов. Да и разговор, прямо скажем, какой-то не очень получился. Ведь так?
Майке стало уже не так солнечно, как было минуту назад. Как же, как сохранить подольше хоть кусочек той радости, которую она испытала, едва услышав Сережин голос?! Что бы такое придумать?
— Солнышко, я забыла сказать тебе мяу, — продиктовала Майя сообщение на пейджер.
Девушка на том конце провода засмеялась — но как-то хорошо, по-доброму засмеялась — и сообщение приняла.
Майке снова стало просторно, легко и весело. Господи, хорошо-то как! Хорошо! Анекдот такой есть, старый. Про Деву Марию, которая поехала в санаторий. Через день она, ну Мария то есть, прислала Богу телеграмму: «Доехала хорошо. Дева Мария». Через два он получил еще одну: «У меня все нормально. Мария». А через три дня — снова телеграмма: «Господи, хорошо-то как! Маша».
— Хорошо, хорошо, хорошо, — повторяла Майка, кружась по комнате под музыку. Под музыку, которая звучала в ней и, видимо, ей и принадлежала, только самую малость смахивала на митяевскую «С добрым утром, любимая».
Чем же еще продолжить радость?
— Вовусик, купи чего-нибудь вкусненького, — пропела она Володе, позвонив ему на кафедру.
— На что? — прозаично спросил Володя.
Вопрос Майе не понравился. Но она решила не обращать на него внимания.
— Ну миленький, ну пожалуйста. Что-нибудь маленькое и вкусненькое. Все равно что. На твое усмотрение. Но лучше тортик. «Ленинградский».
— Уговорила, — засмеялся Володя.
«Ура», — сказала про себя Майя и отметила, что муж засмеялся так же хорошо, как девушка из пейджинговой компании. Какие все милые! И как она, Майка, всех любит! С добрым утром, любимая, ты моя милая, та-ра-та-ра-та, та-та-та, та-ра-та-та-та-та…
* * *
«Лучший из мужчин» — вертелось все время в голове у Майи. Точнее: «… и подругам рассказала, что ты лучший из мужчин». Так пела какая-то из новых эстрадных певиц. Майя просто теряла голову, когда слышала эту песенку. И удивительно — она все время попадала на нее. Но так получалось, что, включая телевизор или приемник (Майя любила, собираясь на работу, слушать «Русское радио»), она заставала уже звучащий припев с магическими словами. И не могла выяснить ни как называется эта песня, ни как она начинается, ни кто ее поет. Имя, однако, вскорости обнаружилось: Катя Лель. Катю Майка полюбила всей душой и бегала по киоскам в поисках ее альбома. Такового пока еще не было. Песня была в каком-то сборнике. Но в каком? Майя замучила расспросами всех. Всех, кто сколько-нибудь интересовался «попсой» и кто не разбирался в этом вовсе. Дело в том, что ей не только хотелось самой слушать и слушать припев про лучшего из мужчин — ей хотелось записать эту песню для Сережи. Приближался его день рождения, и Майя задумала подарить ему кассету с песнями, которые напоминали бы в дороге Сергею о ее, Майкиной, любви. Вот как здорово она придумала! Правда, пока еще не знала, какие песни, кроме этой, она туда запишет. Но эту, Катину, запишет в начале, в середине и в конце кассеты. Вот.
Нет, ну как все совпадает! «Подругам рассказала…» Ведь Майя действительно, почти сразу же рассказала о Сереже своим приятельницам. О том, что необыкновенный (Какой-какой? — Умный, сильный, уверенный в себе, знающий, чего хочет в этой жизни. — А в постели? — О-о! Без комментариев). О том, что влюбилась, как кошка. О том, что боится его потерять, потому что знает: лучше быть не может.
Подруги сказали:
— Так не бывает. Ты, Маечка, придумала его себе.
Но тут же спросили:
— Где взяла?
Н-да, это был камень преткновения — говорить или не говорить. Ну что по объявлению… Одной-двум Майя сказала правду, другим — соврала что-то красивое. Но потом запуталась — и раскололась в конце концов окончательно. Да! По объявлению! Представьте себе. Искала — и нашла. Именно то, что хотела.
— А замуж хотела бы за него? — спросили подруги.
— Нет, — честно сказала Майя. А про себя добавила: никогда и ни за что.
— А если Володя узнает?
— А он знает.
Тут подруги отказывались понимать что-либо вообще в этой жизни и переводили разговор в более приличное русло: работа, книги, театр.
С кассетой у Майи так ничего и не сложилось. Она успокоилась и купила несколько книг. Ну что она еще могла придумать? Дарить рубашки, одеколоны и проч. — привилегия жены. Так что остается: лучший подарок — книга. Сережа читал много. И не только детективы. Ему нравились исторические романы. Ему понравилась Токарева, которую открыла для него Майя. И Веллера он воспринял. И Довлатова. Так что получалось, книги — верный вариант.
Они прекрасно отметили Сережин день рождения. Уехали на дальнее-дальнее озеро, под пойманную и зажаренную на углях рыбу пили сухое белое вино. А продолжилось все в «их» квартире.
Надо сказать, что им очень повезло с «жильем». Одна из близких Майиных подруг, долго ждавшая своего счастья, наконец дождалась. Вышла замуж за какого-то московского бизнесмена и уехала к нему. Продавать квартиру пока не хотела: мало ли что? И сдавать не хотела, потому что иногда приезжала. Вот и отдала ключи Майе: пользуйся на здоровье.
В отпуск Майя, конечно же, никуда не поехала. Володя как-то завел разговор о том, что можно было бы махнуть в Крым, к старым друзьям, которые всегда зовут и ждут. Но Майя воспротивилась, ссылаясь на отсутствие денег, во-первых; на то, что ей противопоказан юг, во-вторых; на то, что Володе нужно работать над книгой, в-третьих… Она бы могла продолжать, но Володя остановил: «Успокойся. Мы остаемся». И действительно, сразу же принялся за новую книгу: не вылезал из архива. Уходил туда к десяти утра и возвращался к шести вечера. Как на работу. Майя никогда бы так не смогла.
Вероника уехала на полтора месяца в Германию по обмену. Так что Майя целыми днями была одна. Занималась квартирой (сколько всего по углам накопилось!), Володиными бумагами (сам он этого не умел и не любил); разбирала то, до чего руки не доходили во время учебного года; стирала шерстяные вещи, что-то сушила, что-то отправляла на тряпки. Кроме того, Майя с удовольствием ездила на дачу к своей маме, которая жила там все лето. Разумеется, к маме Майя уезжала только тогда, когда Сережа был в рейсе. И хотя на даче ей было очень хорошо, больше двух-трех дней она там не выдерживала. А вдруг Сережа уже вернулся? Вдруг позвонил — а ее нет? И она мчалась домой, объясняя маме, что у Володи уже закончилась наваренная еда. Мама не понимала. Говорила, что Володя мог бы и сам о себе позаботиться. А если он такой беспомощный, то еды можно было бы наготовить и на неделю.
Возвращаясь с дачи, Майка сразу передавала Сереже на пейджер, что она дома, и начинала ждать его звонка.
В этот раз она приехала вечером, когда Володя был дома. Значит, нужно было дожить до завтрашнего утра. На следующий день, едва закрыв за Володей дверь, Майя бросилась к телефону. Набрав номер, продиктовала пейджинговой девушке: «Сергей я дома очень соскучилась». И стала ждать.
Звонили все: бабушка Вера, тетя Анжела — мамина сестра, подруга Оля, просто приятельница Настя, соседка по старой квартире — тетя Таня. Вспомнил о Майе брат Андрей, который звонил не чаще одного раза в месяц. Позвонил зачем-то однокурсник, с которым они сто лет не виделись.
Майка была строга со всеми. Терпеливо слушала, о себе ничего не рассказывала. А тем, кто зарывался и был намерен болтать долго и без толку, говорила, что очень занята: собственноручно консервирует огурцы. Да-да, сама вырастила и сама закатывает. Никакие огурцы она в тот день не закрывала, но почему-то именно это объяснение придумалось сразу же и показалось очень убедительным — его она и использовала для прекращения всех этих никчемных разговоров.
Сережа не звонил. Майка честно прождала до пяти часов вечера. Она понимала, что раз Сергей не звонит, то его скорее всего просто нет сейчас в Рязани. Нет никакого резона передавать очередное сообщение. Но всегдашняя телефонная зависимость оказалась сильнее здравого смысла, с которым, впрочем, Майкины пути редко пересекались, хоть и была она кандидатом наук.
Проклиная себя, Сергея вместе со всеми непостоянными и вероломными дальнобойщиками, пейджинговых девочек, которые давно уже смеются над ней, старой дурой, она набрала ненавистный номер и продиктовала: «Позвони я жду».
Майка пыталась читать — не получалось, хотела затеять стирку — не обнаружила в себе сил. Сил на ожидание звонка тоже не было; Тем более что если он, звонок то есть, будет, то только завтра. Скоро должен вернуться домой Володя, и Сережа, зная это, уже не позвонит. И снова до завтрашнего утра будет тянуться неуютное, запретное для телефонных звонков время.
Майка сидела на диване, поджав под себя ноги, и размышляла. Все ясно. Он нужен ей больше, чем она ему. Он вспоминает о ней не чаще одного раза в неделю. А раз в неделю — это физиологическая потребность. И не более того. Скоро он охладеет к ней. Ведь мужчины не любят, когда их так сильно домогаются. Им нравится быть удачливыми ловцами, охотниками, преследователями. Добыча уходит — а он, сильный и ловкий, настигает ее. Это ведь всем давно известно. И Майке известно лучше, чем кому-либо.
Когда-то давно у нее был любовник, которого звали (потрясающее имя!) Василий Шуйский. Так вот, этот самый Шуйский честно признался ей однажды, что когда Майя сама ему звонит, то ему хочется скрыться от нее, а вот когда пропадает, говорит, что надоел и пусть катится ко всем чертям, — он просто с ума сходит от любви.
Майя поняла, что Сергея надо бросить. Самой. Первой. Ну не то чтобы совсем бросить, а хотя бы сделать официальное заявление. О том, что больше они не увидятся. И ничего не объяснять. И тогда уж: или пан, или пропал. Или он, как Васька Шуйский, будет сходить с ума от любви к ней, или… Или… Или они… Или больше… Его у нее больше не будет… Не будет?! Невозможность этого прорвалась такими рыданиями, которые давно не сотрясали Майкиного тела. Она размазывала слезы по щекам, слизывала их с подбородка, вытирала то за одним ухом, то за вторым, потому что, рыдая, мотала головой из стороны в сторону. Она причитала: «Ну за что? За что? За что? Ну почему?» И что-то еще, непонятное даже ей самой.
Слез на слишком долгий плач не хватило, да и сил — тоже. Майка вытянулась на диване, сложила руки на груди и замерла.
«Спокойно, — сказала она себе. — Спокойно».
«Ты что, не проживешь без него?» — Вопрос был строг и прям.
«Проживу», — твердо ответила себе Майка.
«Человеком наконец станешь, дура!»
«Конечно, не буду подыхать у телефона. Что у меня, дел больше нет, что ли?»
«Ты уж налюбилась в своей жизни. Разве не так?»
«Да так, конечно. Куда уж больше? Пора и честь знать. Буду хорошей женой и хозяйкой. А женщиной я уже набылась».
«Ну вот, умница. Успокойся. Иди-ка на кухню. А то никакой пользы от тебя сегодня семье не было».
Майка послушно встала и отправилась на кухню. Когда пришел Володя, она была уже не зареванной Майкой, а как положено — нормальной женой, в фартуке и с половником (муж всегда вечером ел первое). Но Володя, посмотрев в собачье-печальные глаза жены, все-таки спросил:
— Ты чего?
— Да так, грустно что-то.
На том и остановились.
Серьезная подруга Ольга часто говорила:
— С любым важным решением нужно переспать.
А несерьезная Танька всегда поддерживала:
— Конечно, переспать! Переспишь — и сразу все ясно: нужен — не нужен!
Ольга сердилась:
— Все бы тебе о мужиках.
Танька действительно признавала только то, что связано с мужчинами, — работу, компании, разговоры. Майя в этой троице занимала среднее положение: на вид серьезная, скромная, а вместе с тем — в тихом омуте… И девчонки это знали. Ольга слегка осуждала. Танька — уважала и советовалась.
Итак, решено. Нужно, нужно заставить себя сказать ему то, что задумала. Обрубить все. Не оставляя надежды. А потом посмотрим. Лишь бы позвонил, а то, может, он-то уж ее давно бросил, а она просто не знает. Вот это скверно. И знакомо до боли. Ее бросали. А она — не умела. Но вот теперь… обязательно. Хуже в сто раз будет потом, когда ее миленький Сереженька найдет себе другую. «А так ведь и будет», — убеждала она себя. Вон их сколько: молодых, красивых, длинноногих и смелых. И Сережа глазами ни одной мало-мальски привлекательной женщины не пропустит. Да еще и Майкино внимание обратит: «Ничего девочка, правда?» И сейчас, когда есть силы (она ощущала их в себе, понимала, что может), нужно все оборвать. С этой мыслью Майя, решительная, уважающая себя женщина, заснула. И проснулась — с нею же. Уже хорошо! Надо как-то все закрепить, чтобы назад пути не было. Например, позвонить Ольге. У Таньки телефона не было. Да Танька и не советчик в этом деле.
Ольга решение одобрила, сказав, что давно пора снять розовые очки: какая любовь в их возрасте? Хлопоты одни. Майка, сидя на краешке дивана, кивала в телефонную трубку, глотая слезы: нет, Ольга совсем ее не понимает. Вот Танька отреагировала бы на Майино решение по-другому.
— Ты что, с дуба рухнула? — таращила бы она на Майю глаза. — Такими мужиками разбрасываться? Ты же сама говорила, что у тебя такой первый раз в жизни.
А ведь действительно у Майи никогда не было никого лучше. Только Володя. Ну Володя — это из другой оперы. Он вне конкуренции.
Майка уселась на диване поудобнее и начала думать: за что же она любит Сережу? А за все. За то, что он такой, такой… Ну нет таких больше! Он нежный, страстный, сильный — и Майя все время его хочет, и ей всегда его мало. И каждое его прикосновение, каждое движение — божественно и неповторимо.
А как он рассказывает про свои «КамАЗы»! Он, оказывается, собирал их своими руками из старых машин.
— Знаешь, как это здорово — сделать именно то, что тебе нужно, — говорил он Майке, блестя глазами.
И она понимала, что перед ней Мужчина, у которого есть Дело.
— Я сейчас довариваю кабину у второго «КамАЗа», — рассказывал Сережа.
— Как это? — поражалась Майка.
— Ну делаю ее шире, выше.
— Сам?
— Ну да. Кабина — это ведь дом, понимаешь? Должно быть удобно, уютно, комфортно.
— В «КамАЗе» — комфортно? — сомневалась Майка.
— А вот увидишь… — многозначительно говорил Сережа.
Конечно, Танька права. Жаль, что у нее нет телефона. Сходить к ней? Нет, нельзя. Вдруг Сережа позвонит? Значит, все будет как Ольга велела: завязать этот последний роман (лучше-то быть не может, поэтому — зачем другие?), заняться делом, можно даже за докторскую приняться. Видали мы этих дальнобойщиков! Гусь свинье не товарищ! Эта пословица (или поговорка? — надо выяснить) употреблялась в их кругу (Майя, Ольга, Танька и плюс еще несколько сокурсниц) часто. А «долюбливали» (любимое словечко, литфаковское) они ее потому, что с ней был связан один забавный случай.
В первом колхозе (всего их, колхозов то есть, было три: учились тогда на литфаке четыре года, а четверокурсников на картошку уже не посылали) они жили в старой деревянной школе, и весь их преимущественно девичий курс размещался в трех огромных классах. Один из них занимали десять особей мужского пола, каждая из которых, несмотря на инфантилизм, неприспособленность к жизни и слабую выраженность мужских признаков, была на вес золота: выслушана, понята и обласкана сердобольными первокурсницами-счастливицами, за спинами которых уже толпились другие литфаковки, готовые в случае чего шмыгнуть на освободившееся место. Все десять разновозрастных (от семнадцати до двадцати пяти) юношей были талантливы, самобытны, непризнанны и сочиняли разные прикольные опусы, самым знаменитым из которых был такой: «Ох и жизнь пошла, нету сладу. Подержи меня, а то упаду». Но это к слову. Юношам повезло: их было всего десять в огромном классе. А вот девчонкам было тесно: они спали на скрипучих кроватях, стоящих почти впритык друг к другу, и жизнь каждой из них была на виду у всех. И на слуху.
И вот выяснилось, что милая, наивная деревенская девочка Валя разговаривает во сне. Причем делает это довольно внятно. В первую же ночь несколько не уснувших по какой-то причине девчонок узнали, как Валя страдает по Вите, который теперь, когда она уехала в город, непременно ее бросит. На следующую ночь не спали все, кроме бедной Вали. Дело близилось к полуночи, Валя мирно посапывала и ничего не рассказывала. К часу не спали самые стойкие, а к двум задрыхли почти все. И только Ольга, Майя и Танька шептались. Они шептались-спорили о смысле жизни, о возможной Ольгиной свадьбе и о виновности-невиновности Натальи Николаевны в смерти Пушкина. Как вдруг…
— Тише, девки. — Танька села на кровати, замерла, а потом, перебравшись через Ольгу и Майю, пыхтя, поползла туда, откуда слышался голос. Валин, разумеется. Скрипя кроватями, Танька добралась до Вали и села рядом, слегка ее подвинув.
Полная луна заглядывала в окно, было светло, и Майя с Ольгой во все глаза смотрели за Танькой. А та, подперев рукой подбородок, уселась поудобнее. И Валя действительно заговорила более оживленно и страстно, точно поняла, что у нее теперь есть слушатель. Ольга с Майей находились достаточно далеко и слов разобрать не могли, как ни старались.
— Ну а он? — Зато Танькин вопрос они услышали очень хорошо, голос у нее был дай бог.
— Чой-то она? — испуганно спросила Майя у Ольги.
— Спрашивает, — прошептала Ольга.
— У кого? — обалдела Майя.
— У Вали.
Танька разговаривала с Валей долго и даже всплакнула, так жалко ей было страдалицу Валю. Майя с Ольгой измучились, вслушиваясь, но, кроме Танькиных вопросов (ну а он? — а ты?) и ее всхлипываний, ничего так и не услышали. Хотя в целом все было ясно. Любит Валя Витю. А он? Наверное, гад. Раз Танька плачет.
К Валиной кровати подтянулось еще несколько проснувшихся любопытных варвар. Сеанс длился долго — минут, наверное, пятнадцать. В заключение его Валя громко и четко сказала: «Гусь свинье не товарищ!», перевернулась на бок и больше ни на один Танькин вопрос не ответила.
Когда Танька приползла на свою кровать, Ольга сказала строго:
— Не надо было этого делать. Нехорошо.
Майя в общем-то была с ней согласна, но все же спросила Таньку: «А свинья — это Витя?» Танька, оскорбленная, отвернулась и не ответила. Но на следующий день Майя все-таки выпытала у Таньки про свинью и про гуся. Оказывается, это вовсе даже не про Витю — Валя ж его любит! Просто разговор у Вали с Танькой отклонился от темы, и Танька спросила, дружит ли Валя с третьекурсницей (третьекурсники жили по домам у колхозников, а работали на поле они все вместе) из Валиной деревни (Танька откуда-то ее знала). На что Валя и ответила пословицей (или поговоркой?), подразумевая под гусем скорее всего себя, а под свиньей, очевидно, свою землячку.
Про первый, второй и третий колхозы можно было вспоминать долго. Любови, измены, выяснения отношений… Господи, мужиков-то было десять калек — а страстей вокруг них! Но не только любовью держались ссылки на картошку. Пушкин, между прочим, сказал, что превыше любви — дружба. Конечно, он имел в виду мужчин, которые считают, что женской дружбы не бывает. А вот и неправда это! Сроднивший таких разных Ольгу, Майю и Таньку первый колхоз, говоря высоким стилем, положил начало дружбе, которая длится уже… Сколько же? Так… посчитаем. Да, немало получилось. А дружба, между прочим, началась с того, что Танька (девка умная, бойкая, пришедшая в институт не после школы, а уже отработав учителем три года в деревне) жестоко высмеяла Майю. При всех.
Им выпало тогда вместе идти в соседнее село, чтобы отправить с почтой письма, собранные со всего курса. Почту они не нашли, а обнаружили на магазине подозрительно запыленный почтовый ящик. Письма они туда бросить не рискнули, вернулись назад. А в столовой, пока ждали обед, Танька и выдала. Обращаясь к Майе, она громко (тихо не умела, да и не хотела, наверное) сказала:
— Проще надо быть, девушка, проще. — И уже всем: — А то спросила у девочки в деревне: «Девочка, этот почтовый ящик функционирует?»
Она передразнила и Майкину походку, и ее голос — получилась такая городская фифа. Все засмеялись.
— Я как бы в шутку, — попыталась оправдаться Майя.
— Ничего себе шутки! Девочка обалдела, остолбенела, просто лишилась дара речи. Надеюсь, не навсегда. А тебе шутки!
Майкина городская неуклюжесть была посрамлена, Танькино остроумие — одобрено. Ольга (она тоже была постарше) подошла к готовой зареветь Майке, спросила о чем-то несущественном, увела в сторону. Они поболтали, потом вместе сидели за столом. Когда уже допивали компот, подошла Танька и сказала: «Май, не обижайся, меня иногда заносит». И хотя это слышали только Майя и Ольга, а обидное нравоучение — все, Майя просияла и сразу же все забыла.
— Да, забыла. Сколько лет прошло, а все помню, — сказала вслух Майя и переключилась на день сегодняшний.
Бросить Сергея было совершенно необходимо не только для того, чтобы опередить его, одержать над ним верх и облегчить этим свои страдания. Виделась Майе еще одна цель. Дело в том, что ее нынешнему возлюбленному не приходилось пока в этой жизни слишком сильно страдать (впрочем, и не сильно, как она полагала, — тоже).
Майка решила взять на себя благородную миссию: сделать из Сергея настоящего человека (с большой, разумеется, буквы). В ее кругу было принято считать, что только страдающие или отстрадавшие достойны внимания, остальные — так, мелковесные людишки. «Ну действительно, он же ничего не видел в жизни, — рассуждала сама с собой Майка. — Это будет его первое серьезное испытание», — льстила она себя надеждой. А то так жизнь проживет и ничего-то в ней не поймет. Пусть первой серьезной вехой станет несчастная любовь. Вот как здорово Майя придумала!
— Алло. — Мягкий, родной голос в трубке. Голос милого, ничего не подозревающего мальчика.
Вот сейчас-то она все ему и скажет.
Но пока говорил он:
— Майка, я не позвонил вчера, был в Москве, приехал поздно. Ты уж прости меня. Ладно?
— Ладно, — сказала Майка.
— Мы сегодня увидимся?
Она замялась и ответила:
— Да.
«Да, да, да, тысячу раз да!» — это уже, конечно, про себя.
— Я приеду в три. Так нормально?
— Да. — Все остальные слова небедного лексикона Майи Сергеевны почему-то забылись.
— Только знаешь, Май, я не на «Москвиче» приеду. Ладно?
— Ладно, — сказала она ему.
Хотела спросить: а на чем? Но не успела, пошли короткие гудки.
— На чем, на чем? На «КамАЗе»! — ответила она себе вслух и блаженно потянулась. Да хоть на чем! Лишь бы приехал!
В три за соседним домом действительно стоял «КамАЗ». Вернее, кабина от «КамАЗа». «Тягач» — вот как это называется, вспомнила Майка. Прицепа, огромного, длиной в полдома, слава Богу, не было. Хотя с прицепом было бы, наверное, симпатичнее.
Машина стояла вплотную к бордюру, и, увидев, как Сергей дернулся, чтобы выскочить из кабины, Майя сделала ему жест: сиди, я сама! Не слишком изящно, но без особых трудностей она забралась в кабину, удобно уселась и только затем, повернувшись к Сергею, сказала:
— Привет! Это я.
— Привет. — Сергей дотянулся до Майкиной руки, погладил ее и заодно — битую коленку.
Месяца три назад Майя Сергеевна, спускаясь в институте по лестнице, зацепилась шпилькой за неровную ступеньку и, потеряв равновесие, пропахала коленками и вытянутыми вперед руками половину пролета. Это было не просто больно — это было страшно унизительно. Ее поднимал незнакомый студент, внешность которого она, находясь в почти шоковом состоянии, не запомнила. А вот глаза, темно-зеленые, и взгляд, участливый, сострадательный, добрый, — не забудет никогда. Сережа очень жалел Майку, когда она рассказывала ему о своем полете с лестницы, хотя она и старалась изобразить все как можно более комично. И после, вспоминая, продолжал жалеть, целуя оставшийся теперь навсегда рубец и приговаривая: «Бедненькая моя коленочка, как ей было больно».
— Я ужасно соскучился, — сказал Сергей, гладя теперь уже обе Майкины коленки.
— Я тоже, — призналась Майя нерешительно, так как еще не отошла от своих вчерашних и сегодняшних слез, намерений и бесповоротных решений.
Она не знала, как себя вести. Как раньше? Но ведь в ней так много изменилось за эти полтора дня! И Майя ушла в себя. Ощущение счастья от ожидаемой встречи сменилось пониманием обыденности самой встречи. Квартира, чай, секс. И привет! До следующей недели! Или до послеследующей. Зря, зря она не осуществила задуманного. Их отношениям нужна встряска. Какая же она слабохарактерная…
— Майка, почему ты все время молчишь? У тебя ничего не случилось? — спросил Сергей, не повернув к ней головы.
Оказывается, они уже ехали.
— Все нормально, — ответила Майя.
Она быстро переключилась со своих дум на новые ощущения от езды на «КамАЗе». Что-то в этом есть… Да нет, здорово! Действительно интереснее, чем на легковой (это Сергей всегда не уставал повторять). «КамАЗ» Сережин Майя уже видела, впечатлилась от его огромности, сидела в кабине, а вот ездить еще не приходилось. Сергей всегда говорил: «Вот я тебя на «КамАЗе» как-нибудь покатаю», а она думала при этом: «И что?»
Они выехали за город, где не было никаких светофоров и пробок, машина шла быстро и ровно. Майке нравилось все. Во-первых, все видно, потому что высоко. Во-вторых — потрясающее ощущение царствования на дороге. Легковушки такие маленькие и какие-то жалкие, даже иномарки. В-третьих, Сережа за рулем своего любимого «КамАЗа» — о-о, это что-то запредельное! Майе, помнится, сразу понравилось, как он водит свой «Москвич». Ничего в этом не понимая, она моментально почувствовала, что он — классный водитель, уверенный, спокойный, знающий себе цену. Кстати, привыкнув к его манере езды, всех остальных, с кем приходилось ездить, она теперь оценивала не больше чем на «троечку».
Майя делала вид, что смотрит на дорогу, а сама косилась на Сережу, которого она сегодня утром решила бросить. Да разве это возможно? Боже, как же он хорош! И как она его любит.
Прошло еще полгода. Было много хорошего. Очень много. Но по-прежнему у Майи случались и черные дни. Дни, наполненные неизвестностью (он есть у нее — или нет?), ревностью (а вдруг он сейчас где-то и с кем-то, а не с ней?), сомнениями (Господи, зачем все это?), тоскою (но где же он, где?). Впрочем, черная полоса дней, которые, плюсуясь, больше недели не составляли, неизменно завершалась звонком, возвращающим жизнь.
— Майка, это я. Не смог позвонить перед рейсом, несколько раз звонил с дороги, но тебя не было. Пару раз попадал на твоего мужа. У него очень приятный голос. Я еду?
Сережин голос был не сравним ни с чьим. И Майя, перестраивая на ходу все свои планы, успевала навести марафет и через полчаса выбегала из подъезда, спешила за соседний дом, где ее ждал серо-голубой «Москвич».
Майя шла к машине, а Сергей внимательно на нее смотрел. Она прятала глаза, но, постепенно избавляясь от смущения, на ходу превращалась в Майку, его девочку, глупую и счастливую.
Встречи, по-прежнему полные любви, постельного неистовства и разговоров обо всем на свете, потихоньку превращались в привычку. Это была еще одна семейная жизнь. Параллельная. Очень нужная, но уже сглаженная, определенная, во многом предсказуемая. Во всяком случае, Майе так казалось. Казалось, что если и сойдет все на нет, то будет уже не страшно. Самое страшное (она это знала точно) — это потерять Володю. Как все это можно было объяснить? Да кто его знает!
Володя, говоря о Сереже, называл его «твой камазник». В этом не было ни презрения, ни пренебрежения, просто так придумалось ему в самом начале.
Они говорили о Сергее не часто. Но муж знал, что если Майя нервничает и раздражается — значит, «этот ее» не звонит, а если заглядывает ему в глаза, беспрестанно целует и ластится, как кошка, — значит, все о'кей.
В разговорах с подругами, где нужно было постоянно отстаивать право на такую свою жизнь, Майя заводилась и кричала: «Ну кто вам сказал, что любить можно только одного? Кто сказал?! И почему вы решили, что Володю надо жалеть? Если бы ему было плохо, он бы ушел. А он меня и такую любит!» Они соглашались, но осуждали. И радовались, что на Майкином фоне выглядят особенно порядочными и почти невинными.
— Вов… а вот… дружить бы нам… семьями, — однажды как бы в шутку сказала Майя, делая большие глаза и интонируя особым образом каждое слово.
Но муж «как бы шутку» не принял:
— Даже если бы это в принципе было возможно… А я надеюсь, ты понимаешь, что это невозможно. Впрочем, если б понимала, не делала бы таких диких предложений…
— Вов, ну почему диких? Почему диких? По-моему, нормально. Они бы к нам в гости приходили. Мы бы к ним.
— Замолчи, я тебя очень прошу. А я все-таки продолжу. Так вот, если бы это и было возможно в принципе, то как ты представляешь себе мое общение с твоим дальнобойщиком? Тебе не кажется, что это не мой, мягко говоря, уровень?
— Он, между прочим, очень умный, — обиделась Майя.
— Ну, если до твоего уровня дотягивает, то уже хорошо!
— Не надо про мой уровень. Дуры кандидатами наук не становятся! — Майя снова обиделась.
Выдерживая паузу, чтобы обида была прочувствована обеими сторонами, она ждала Володиного раскаяния. Но Володя спокойно продолжал что-то выписывать из книги.
— Да ладно, Вовусик, я пошутила, — подошла Майя к мужу и положила голову и вытянутые руки на стол, на все Володины книги и записи.
Муж поцеловал Майю в макушку, отодрал ее, сопротивляющуюся, от стола и легонько оттолкнул: не мешай!
Странно, что он не сказал еще и свое обычное: «Ты же взрослая женщина». Не захотел впустую тратить энергию, которая ему нужна для работы. Майя села на диван и решила немного подумать. Володина фраза про взрослую женщину, безусловно, должна иметь продолжение. Оно подразумевается. Оно видится — и очень четко. «Ты же взрослая женщина, а ведешь себя как ребенок». Это один вариант. «Ты же взрослая женщина, а косишь под маленькую девочку» — это второй. Какой лучше? Оба хороши! Ну и пожалуйста! Майя встала и, изображая бездну достоинства и оскорбленного самолюбия, прошла от дивана к книжным полкам. Муж не отреагировал. Майя принялась рассматривать корешки книг. Надо что-нибудь умное почитать. Вот Шопенгауэр со своей самодостаточностью мизантропа и презрением к веселым людям неграм. Вот Кафка с отвратительным рассказом о том, как он стал тараканом. Вот скучный и изысканный Набоков. Майя взяла «Обед на каждый день» и пошла на кухню.
Майя читала новую книгу Николая Козлова и балдела от каждой фразы. Стиль ей, собственно, нравился только местами. А вот идеи — почти всегда и все. Муж Козлова не любил, называл его козлом (Майя ужасно обижалась) и говорил, что он, то есть Козлов, дешевый авантюрист, а никакой не психолог. Но Майя все равно часто зачитывала вслух отдельные места. Володя сердито отмахивался, но иногда невольно втягивался в навязанную Майей дискуссию. Вот и сегодня завязался спор о любви, долге, семье.
— Когда любят и уходят к другому — это понятно. А когда… — сказал Володя.
Он сказал это после энергичного выступления жены, которое она перемежала Козловскими цитатами. Сказал и запнулся, подбирая выражение поприличнее.
— А когда увлекаются и никуда не уходят — это тоже нормально, — продолжила за него Майя.
— Для тебя — да. А для большинства людей — нет. Это ты можешь себе позволить, пользуясь тем, что я закрываю глаза на твое… В русском языке этому давно есть одно слово. Я думаю, ты знаешь какое.
— Ну, про слово не будем. Я не обиделась нисколько. А что касается того, что ты закрываешь глаза… то для тебя, Вовусик миленький, в этом есть огромный смысл.
— Какой же, позволь тебя спросить?
— Пока ты не встретил ту, с кем хотел и мог бы жить, тебе лучше со мной, чем одному. Уйти из принципа и маяться — глупо. Нам хорошо вместе. Тебе иногда больно (наверное, очень больно) оттого, что я… Но мне нужна подпитка, ты это понимаешь. Именно она дает мне возможность любить тебя. И ты это прекрасно знаешь.
— Брось, о какой любви ты говоришь? — Володя презрительно скривил губы.
— О моей. О моей любви к тебе. — Майя как-то неожиданно заплакала, подошла к дивану, где сидел муж, опустилась на пол, обняла его колени и разрыдалась уже громко, в голос. — Ну неужели ты не понимаешь, что ты — родной, близкий, единственный… И никто не нужен мне на твоем месте…
— Если бы ты меня любила…
— То не изменяла бы! Да? Ну кто придумал, что это должно быть именно так? Кто?! Ты ведь лучше других знаешь, что если я против своей воли буду вести тот образ жизни, которого ты от меня требуешь…
— Ничего я не требую. — Володя хотел отбросить Майины руки и встать.
Но она не пустила его и продолжала уже спокойно и тихо:
— Ты умный, ты все понимаешь. И догадываешься, каким (она выделила это слово) должен быть мужчина, чтобы его любила такая ненормальная, как я. Меня надо каждый день завоевывать. Словами, поступками, большими и красивыми. Тебе это не под силу. Да и никому не под силу.
— Тебе лучше было бы жить одной.
— Да, да! Я знаю это. Знаю, что мучаю тебя. Но ведь ты свободен. Брось меня. Уходи! Тебе будет легче?
— Нет. Я хочу, чтобы была семья, чтобы Вероника не рвалась между нами. Чтобы у нее был дом. Понимаешь ты это или нет?! — взорвался наконец Володя.
— Так и я этого же хочу, бестолочь несчастная! — тоже закричала Майя.
Потом она сникла, снова положив голову мужу на колени, и в колени же, глухо, спросила:
— Но разве только это? Разве ты меня не любишь?
— Люблю, — сказал Володя.
Сказал просто, без вздоха, без каких-либо особых интонаций. И все равно (Майя точно знала) это была правда.
— И я тебя. Только не по-твоему. Ты мне очень-очень нужен. Но я не могу стать другой. Понимаешь?
Володя отвернулся. Всегда считалось, что он это понимал. А вот выясняется, что нет. Не понимает. Осознание этого вернулось к Майе новым приступом отчаяния.
— Ну не могу! — зарыдала она и, отняв руки и голову от колен мужа, уткнулась лицом в пол.
Володя оставался сидеть на диване. Майя вытянулась на полу во весь рост и перевернулась на спину. Она перестала плакать, только вытирала обеими руками мокрое лицо и хлюпала носом. Ждала. Очень ждала, что муж подойдет и пожалеет.
— Бедная ты моя, — Володя присел рядом, положил руку ей на лоб, — по-моему, ты уже наревела себе температуру. Майя, ну давай ты меня простишь за этот разговор? Ладно?
Майя схватила его руку и начала исступленно целовать:
— Миленький мой, родненький, это ты, ты меня за все прости.
Потом, остановившись, помолчала и с трудом произнесла:
— После этих слов нужно сказать: я так больше не буду. А я не смогу тебе этого сказать…
— Ну и не надо. Успокойся. Хорошо?
Володя поднял Майю с пола. Она прижалась к нему, обессиленная, благодарная и покорная. Они стояли так долго. Майя боялась, что Володя оторвется первым и скажет какую-нибудь будничную фразу. А он хотел бы это сделать, потому что не любил подобных сантиментов, но знал, что жене это будет неприятно. И терпеливо ждал, когда она это сделает сама.
Был обычный день. Отчитав свой «современный русский» на инфаке, Майя Сергеевна должна была через полтора часа появиться в другом корпусе, на своем факультете. У нее сегодня была всего одна пара, хотелось домой. Но назначили заседание кафедры: полтора часа где-то болтайся, а потом будь добра явиться на это самое заседание.
Майя решила немного погулять, а по пути зайти в магазин, точнее, в торговый комплекс, который недавно открыли и назвали громко, с претензией — «Новый посад». Майя шла не спеша, наслаждаясь весенним воздухом, капелью, покоем и гармонией в душе. Вот она, такая молодая и симпатичная, идет себе по улице и всему радуется. Радуется тому, что у нее хорошая работа, где все ладится, что у нее замечательный муж, умный, тонкий, все понимающий, и красавица дочь, подающая большие надежды. И наконец, у нее есть Сережа. Молодой и сильный мужчина, которого она боготворит. Майю пронизало острое желание видеть, трогать, целовать его плечи, руки — всего, стройного и красивого, как молодой олень (когда и где Майя видела молодых оленей, она не помнила, но была уверена, что они выглядят именно так: настороженно-нежные глаза, гладкое и мускулистое тело, гармоничная подогнанность всех членов). Господи, за что ей такое счастье? И как скоро придется расплачиваться за то, что ей досталось так много хорошего в этой жизни?
Майя бродила по «Посаду», глазея на множество красивых и дорогих вещей, понимая, что ей никогда ничего из них не купить, и все-таки прикидывая, как бы она в них выглядела. Пожалуй, хорошо бы выглядела. Даже очень хорошо. Но она и без них — любима. С Сережей они виделись вчера. И пока он не пропал на неделю, она еще действительно чувствовала себя любимой.
Думая о своем, Майя как-то не очень хорошо различала вокруг себя людей. Их было, кажется, много. Кто-то вместе с ней двигался вдоль прилавков, кто-то спешил навстречу. Именно в спешащих навстречу вдруг ясно и очень близко обрисовались два знакомых лица. Первое — более знакомое, точнее, слишком знакомое, самое знакомое на свете — Сережино. И второе, знакомое меньше, по фотографии, — его жены Лены.
Наверное, нужно было сделать вид, что это люди из толпы — и не более того. И идти себе дальше. Нужно было. Но не получилось. Майины глаза остановились на Сережиных, и она никак не могла отвести их в сторону. С ним приключилось то же самое. И не заметить это было невозможно. Лена все и сразу поняла, попятилась назад. Майя в конце концов оторвала взгляд от Сергея и отвела его — но не в сторону (в сторону опять-таки не получилось). Она попала в другие глаза — глаза его жены. Там были боль, обида, смятение. И растерянность. И детская беспомощность. Но не было ненависти. Это Майя увидела и поняла сразу же. И ее захлестнуло чувство вины и благодарности к этой удивительной женщине. Которая, несмотря на свою молодость, была великодушна и мудра — так же, как Майин Володя.
Майя наконец смогла опустить глаза. Но что было делать дальше? Что?
— Здравствуй, Майя. Познакомься. Это моя жена — Лена, — сказал Сергей.
— Здравствуйте, — выдохнула Майя. — Здравствуйте, Лена.
Лена молчала, глаза у нее были на мокром месте, но держалась она с достоинством. Майя очень испугалась быть жалкой на ее фоне и заговорила. Кажется, слишком быстро.
— Вы здесь в первый раз? Нравится? Мне — не очень. Цены слишком высокие. Не подступишься. Но красиво. Продавцы вежливые.
Лена молчала. Майя остановилась и вопросительно посмотрела на Сергея.
— Майя, ты куда сейчас? Мы тебя подвезем, — ответил он на ее взгляд.
— Нет, нет… Что вы, ребята… Не надо… Мне недалеко… Не надо.
— Конечно, подвезем, — сказала Лена. Голос у нее был низкий и все-таки очень детский.
— Знаете что, девочки, вы посидите немного в баре, я сейчас железки кое-какие посмотрю, и поедем. Хорошо?
— Хорошо, — сказала Майя, снова слабо понимая, что происходит.
Сергей отвел жену и любовницу в бар, заказал им мороженое и кофе и ушел.
— Да-а, — задумчиво протянула Майя. — Как в страшном сне.
— Почему в страшном сне, — возразила без вопросительной интонации Лена. И серьезно заключила: — Это жизнь.
— Милая моя девочка, прости меня, если можешь…
Майя накрыла ладонью руку своей… Соперницы? Да нет, подумала, не подходит это слово. Жена Сережи доверчиво посмотрела ей в глаза.
— Леночка, солнышко, пойми, я — лучший вариант. Потому что не хищница, не истосковавшаяся от одиночества женщина, которая всеми силами стремится отобрать чужого мужа. У меня есть свой. Я для тебя не опасна, поверь мне. Пожалуйста. Сергей очень любит тебя. Обожает детей. Ваша семья крепка. А то, что есть я, — это не помеха. Скорее, наоборот.
Майе было тяжело все это говорить, она с трудом подбирала слова.
— Я знаю, — ответила Лена. — Я понимаю. Майя Сергеевна (да, она знала, как зовут любовницу мужа), вы не переживайте так.
— Господи, Леночка, разве так бывает? Наверное, только в кино. Да и в кино я что-то такого не видела.
— Это жизнь, — опять повторила Лена. Это была очень серьезная девочка. Милая и серьезная.
Заседание кафедры Майя решила пропустить (что-нибудь придумает завтра). Она попросила Сергея и Лену отвезти ее домой. Пока ехали, Сергей молчал, а Майя Сергеевна (так называла ее Лена. А как бы она еще могла ее называть?) беседовала с его женой об их дочке-третьекласснице Сашеньке, у которой что-то не ладилось с русским. Майя расспрашивала, давала советы и, казалось, чувствовала себя вполне уверенно и спокойно.
Дома Майя выпила валерьянки, немного посидела, раскачиваясь из стороны в сторону, а потом легла и уснула. Крепко, без сновидений. Проснувшись, решила заняться собой. Сережина жена такая молодая… Она моложе на… Майя подсчитала. И постаралась сразу же забыть получившуюся цифру.
Начать нужно было с ванны и каких-нибудь масок. И что-то пора делать с головой. С прической, в смысле.
Майя уселась перед зеркалом и решила причесаться, как ведущая передачи «Я сама» Юля Меньшова. Нужно было так зафиксировать пряди, чтобы никто не догадался, что ты потратила на это полтора часа. А, наоборот, чтобы все подумали, что ты, проснувшись, не причесалась (потому что выше этого) и сразу приехала на передачу. Такая задумка, видимо, была у Юли, точнее, у ее стилиста. Какая была у Майи, сказать было трудно. Но очень хотелось, чтобы получилось не хуже, чем у Юли, а лучше, то есть лохматее. Или лохмаче, правильнее сказать.
Володя, конечно же, ничего не заметил, хотя с порога жену, как всегда, поцеловал и поинтересовался, как у нее дела.
— Нормально, — сказала Майя и пошла разогревать ужин.
Поужинав и потрепавшись ни о чем, Майя с Володей перешли в комнату, где он, сразу же усевшись на диван, полез в какую-то книгу и начал что-то искать, а она стала ходить вокруг него кругами, примериваясь, с чего и как начать рассказ о сегодняшней встрече.
— Вов, а знаешь, я с Сережиной женой познакомилась, — наконец сказала Майя.
— Молодец. Ты давно об этом мечтала. Володя оторвался от книги, увидел наконец Майину прическу, но решил не переключаться, а закончить разговор о жене любовника своей жены. «Жена любовника жены» — класс! Эти как бы Володины мысли скакали в Майиной вольнодумной голове. Что было в Володиной, разумной и добропорядочной, знать не дано было никому. Слова же, созданные, как сказал кто-то из великих (Майя напряглась, но так и не вспомнила, кто именно), для сокрытия мыслей, звучали из Володиных уст такие:
— Учти, я с твоим дальнобойщиком знакомиться не собираюсь. И распрощайся со своей идиотской идеей сделать из нас всех шведскую семью.
— Вов, миленький, ну не сердись, нет у меня такой идеи вовсе. Так получилось. — Майя села на колени к мужу, обняла его, положила голову на плечо и замерла. Ждала расспросов.
— Ну и что жена? По физиономии тебе не съездила? Не съездила, судя по всему. И зря.
— Вовусик, хватит. Давай в другом тоне.
— Не могу. Думаешь, его жене приятно было тебя видеть?
— Думаю, что нет, — серьезно ответила Майя. Потом, выдержав нужную паузу, бодро спросила: — Хочешь, хочешь, я все подробно расскажу?
— Нет, Май, не хочу, уволь. Ладно? Только скажи — она красивая? И еще — ты с такой прической была?
— Ну не то чтобы красивая, — готовно откликнулась Майя, пропустив вопрос про прическу мимо ушей, — а симпатичная. Очень хорошее лицо. Мне понравилось. Пожалуй, даже больше, чем хотелось бы.
Майе хотелось продолжать, но Володя прикрыл ей рот рукой, снял с колен и сказал:
— Займись делом. И причешись. Ты же взрослая женщина. И у тебя завтра, если помнишь, лекция первой парой. Настройся-ка лучше на нее. На лекцию то есть.
Однажды, проезжая на троллейбусе мимо кинотеатра «Дружба», Майя увидела афишу: «Адвокат дьявола». Кто-то что-то говорил про этот фильм, предлагал кассету. Но видео (или, как все говорят, «видака») у них не было: как-то все не могли собрать денег на это. Да и, честно сказать, вполне без него обходились.
Володю пришлось уламывать долго. «С ума сошла, бросать дела, куда-то ехать», — ворчал он. Но, как всегда, поддался уговорам.
Майю фильм не просто потряс — выпотрошил. Она вышла из кинотеатра подавленно-отрешенная, не желающая разговаривать ни о чем, а о фильме — тем более. Закинув пару вопросов и получив в ответ огромно-непонимающие глаза жены, Володя сказал: «Ну не знаю, что уж тебя так… Фильм как фильм. Достаточно сильный, но не до такой же степени, чтобы выпадать из жизни». Майя молчала. Молчала, пока ехали в троллейбусе. Молчала, когда пришли домой. Заговорила только после того, как приготовила ужин и пришла за Володей в комнату:
— У нас водка есть?
— Есть. — Володя смотрел заинтересованно и выжидающе: наконец-то сейчас все прояснится.
— Выпьем, — сказала Майя, уже готовая разреветься, но пока еще сдерживающая рыдания, видимо, приберегая их для более ответственного момента.
— А чего ж не выпить! — весело сказал Володя, садясь за стол и наливая Майе и себе водки.
Майя начала плакать, не дождавшись нужного момента. Уливаясь слезами и ответив на вопрос мужа «за что?» — «ни за что», она выпила водку и начала есть. Слезы мешали. И не только слезы. Майя останавливалась, сморкалась в огромный носовой платок. И продолжала — есть и плакать. Володе, кажется, эта картина надоела. Он нахмурился, ушел в себя. Сцену устраивать не стал, вилку не бросил — тоже продолжал есть, старательно и медленно прожевывая омлет с крабовыми палочками и консервированной кукурузой (недавнее изобретение жены).
Наконец Майя заговорила:
— Наверное, нам нужно развестись.
— Молодец, — похвалил Володя. — Главное, все очень понятно, логичная ты моя.
Майя еще больше зашлась в плаче:
— Понимаешь… понимаешь… Твоя оценка фильма — приговор мне. Ты воспринял все так, как должен это принять человек совершенно безгрешный. А ты такой и есть. И как человек, понимающий, насколько плохи все окружающие — и я в частности. Почему плохо мне? Потому что это меня обличают. Меня вывернули наизнанку, меня захотели сделать лучше и чище — не тебя. А ты, такой хороший и благородный, смотришь на это понимающе и снисходительно со стороны.
— Ну что ты разошлась? Что ты разошлась? Мне и близко в голову не могло прийти все, что ты сейчас несешь. Про что ты?
— Я про то, что это мой фильм, для меня! Понимаешь? Чтобы остановить таких, как я. Понимаешь? Все очень четко — у человека есть выбор: деньги, слава, упоение собой или тишина, покой, безвестность. Такие, как я, выбирают первое. Такие, как ты, — второе. Но человек, делающий выбор, не знает, что он делает выбор между дьяволом и Богом. Не знает! Об этом фильм! Но я не хочу! Не хочу, чтобы так! И вообще, я лучше. Лучше, чем ты думаешь обо мне всю жизнь. Ты меня совсем не знаешь… И не понимаешь.
— Боже, все собрала в одну кучу. Как всегда, я оказался крайним, — раздраженно сказал Володя и ушел в комнату.
Майя осталась за столом. Отодвинув тарелку, она положила на это место голову и продолжала плакать, причитая:
— Ты меня не понимаешь. И не любишь. А только терпишь.
Последнюю фразу Володя не слышал, потому что, когда уходил с кухни, Майя до этой мысли еще не додумалась. Сообразив это, она встала из-за стола и пошла вслед за ним в комнату. Чтобы поделиться новым открытием и, естественно, получить опровержение.
Муж читал газету под орущий не своим голосом телевизор. Майя села рядом на диван. Она уже слегка успокоилась. Но его демонстративное равнодушие подстегнуло ее, и она снова заговорила-заплакала:
— Ты не любишь меня совсем. Не любишь, а только терпишь.
Володя отложил газету, спокойно посмотрел на жену и сказал:
— Ну а если и так. То что?
Развод прошел спокойно. Как могли подготовили родственников. Долго разговаривали с Вероникой. Поочередно и вместе. Втолковывали, как они оба ее любят. И что, в принципе, ничего не меняется. Просто папа будет жить теперь у бабушки с дедушкой. «Все нормально, родители», — сказала дочь и ушла на дискотеку. А когда пришла — дома была уже одна Майя. Они, обнявшись, поплакали. А наутро Вероника уехала в Москву.
Сергей долго не мог взять в толк, как можно так, в один день, решиться на развод.
— Ты же говорила, что у вас все хорошо, — в сотый раз повторял он.
— У нас и было все замечательно, — отвечала Майя.
— Тогда почему? Почему? — допытывался он.
— Ну так получилось, — отмахивалась Майя. Объяснять, как все было, почему-то не хотелось. Не хотелось — и все тут.
Майя переходила в новое, разведенное, состояние с трудом. Вроде бы все хорошо. Свободна. Сережа может позвонить и приехать в любой момент. Правда, Майе этого, пожалуй, не слишком хотелось. Володя переехал к родителям, но многие его вещи, книги оставались здесь. И все время казалось, что сейчас раздастся звонок в дверь и он появится на пороге, чмокнет в щеку и спросит: «Ну ты как?» Но он не появлялся. И не звонил.
Вечерами было ужасно одиноко. Иногда раздавался телефонный звонок. Кто-то молчал в трубку. Кто? Не Сережа, понятно. Володя? Да нет, едва ли. Это так на него не похоже. Тогда кто? Вероникины ухажеры? Но все знают, что она бывает в субботу-воскресенье, и то не чаще двух раз в месяц. От этой непонятности хотелось плакать. Что Майя и делала. Приезжала Вероника, жалела ее и говорила: «Мамочка, ну, может, хватит уже? Может, позвонишь папе? Мне кажется, он только этого и ждет». Что она могла ответить дочери? Рассказать про Сережу и объяснить, что, возвращаясь к мужу, она должна отказаться от этой, последней в своей жизни, любви? И рассказать невозможно. И отказаться невозможно.
Сережа, понимая Майкино состояние, был нежен и заботлив. Звонил намного чаще, чем раньше. И слов о любви говорил больше. Но встречались они по-прежнему редко: два-три раза в месяц. На другом варианте Майя не настаивала, зная, что для Сергея на первом месте работа, на втором — семья и уж на третьем — она, Майка. «Главное, чтоб не ниже третьего места», — думала Майя. Ниже — не хотелось. Очень не хотелось.
Как-то, передав Сереже на пейджер «Позвони мне, позвони» и не дождавшись живительного звонка, Майя набрала его домашний номер, чего никогда раньше не делала. Услышав приятный, низко-детский голос Лены, она положила трубку. Странно. Сережа говорил, что жена с детьми в деревне. И если он не позвонит в субботу-воскресенье, значит, уехал к ним.
Сергей объявился в понедельник. Сказал, что очень соскучился и сейчас подъедет. Он по-прежнему останавливал машину за соседним домом, и Майя по-прежнему шла к ней оглядываясь, не желая быть увиденной кем-то из знакомых.
— Куда поедем? — спросил Сережа, погладив, по обыкновению, Майкину коленку.
— К нам поедем, — ответила Майя, ощутив, как всегда, острый приступ нежности и желания.
В самый неподходящий момент, момент почти наивысшего блаженства, Майя, вдруг замерев и высвободившись из-под красивого и сильного Сережиного тела, спросила:
— Ты ездил к одной из Наташ?
— Когда? — Он растерялся, но глаз не отвел — и это вселило надежду.
— В субботу или в воскресенье.
— Ну, Майка, ну что ты, — незнакомо-суетливо заговорил Сергей — и от надежды не осталось и следа.
Обняв ее одной рукой, он начал зацеловывать Майкины шею, плечи, грудь, а вторую руку между тем держал на ее губах.
— Не затыкай мне рот!
Майка вывернулась, вскочила с постели, набросив халат. Она отошла к окну и застыла у него, глядя на улицу и не зная, не понимая, что ей делать дальше.
Надо одеваться и ехать домой. Что-то говорить, объяснять не было сил. Все и так ясно. Но ведь можно, можно было бы не затевать этот разговор, подозрения потихоньку рассосались бы — и все было бы хорошо. Но поздно. Не было ни ревности, ни ненависти, ни жалости к себе. Не было ничего. Ни-че-го. Когда она вчера в деталях представляла себе этот разговор, то ей рисовалось два варианта.
Первый. Он, конечно, не ездил ни к какой Наташе, он любит только ее, такую глупенькую девочку. Она бы на его заверения откликнулась просветленными слезами радости, он бы вытирал ее слезы, и после всех выяснений они предались бы любви. И это было бы головокружительно и божественно. Как всегда. Только еще лучше.
А второй вариант выглядел примерно так же, как сейчас. Выяснилось, что он ездил к Наташе. Объяснений слышать она не хотела. Ушла, заливаясь слезами и успев промолвить на прощанье: «Я так долго тебя искала и не думала, что так быстро потеряю».
Вчера, когда Майя все это представляла, все слезы она тогда же и выплакала. Сейчас глаза были сухими. Заготовленная фраза забылась, да и едва ли она могла пригодиться. Майка оделась и пошла к двери. Что делал он в это время? Она не посмотрела в его сторону, но боковым зрением видела, что он оставался сидеть на постели. Кажется, обхватив голову руками.
Она побежала вниз по лестнице. Оступилась, сообразила, что опять может загреметь с нее, как это было совсем недавно, и пошла медленно, внимательно рассматривая каждую ступеньку.
Майя вышла из подъезда, не понимая, в какую же сторону ей идти. Но шла и шла… Потом остановилась: не было видно ни дороги, ни троллейбусной остановки. Дворы, качели, дети…
Остановилась она у какой-то кособокой песочницы, хотела сесть на деревянный бортик, но вдруг поняла, что делать этого нельзя. Потому что она — никакая не Майка, а снова — Майя Сергеевна Соколова, кандидат филологических наук, преподаватель университета. И ей — сорок два. Не меньше. Ни годом.
Стало еще грустнее, чем было вчера. Чем было двадцать минут назад. Но, грустя и перебирая-переплетая пряди невеселых мыслей, Майя Сергеевна вдруг обнаружила среди них одну вполне симпатичную и бодрую. Она с удовольствием не просто произнесла, а выкрикнула ее, рубанув при этом рукой воздух: «Да разве это много!» Проходящая мимо старушка шарахнулась в сторону и мелко перекрестилась.
Вечером, как всегда, раздался звонок. Майя услышала молчание, родное и очень нужное. Она не стала класть трубку. Держала ее то у уха, то — когда уставала — на коленях, то клала рядом с собой на подушку. Потом подвинула телефон на полу поближе к дивану, улеглась поудобнее и, прижав трубку к уху двумя руками, заснула. А проснулась среди ночи оттого, что Володя (тоже, видимо, устав и намучившись со своей трубкой, в которую счастливо сопела Майя) сказал: «Майка, хватит дрыхнуть. Давай поговорим».
Утром следующего дня Майя Сергеевна вышла из подъезда легкой и уверенной походкой счастливой женщины. После третьей пары за ней на кафедру зайдет Володя — и они куда-нибудь отправятся. Куда? Майя решила, что, пожалуй, неплохо будет посидеть в кафе. Вот только в каком? Перебирая в памяти названия и сосредоточившись лишь на этом, она не заметила, как из-за соседнего дома выехал серо-голубой «Москвич», сначала остановился в нерешительности, а потом медленно поехал за ней, почтительно держа дистанцию.
ВСЕ ТАМ ЖЕ, НА СЕВЕРЕ?
Ее все всегда почему-то звали только Натальей. И дома, и в школе, и в институте. И муж, и друзья, и знакомые. Хотя внешне она этому строгому имени вовсе не соответствовала. Худенькая, маленькая, веснушчатая, в детстве — торчащие косички, позже — короткая стрижка, глаза — быстрые, лицо подвижное, с богатой мимикой, чаще — с озорной улыбкой, а еще чаще — распахнутое в хохоте. Наташка, самая настоящая Наташка! Откуда взялось это торжественно-официальное — Наталья, было непонятно. Но она привыкла к своему имени. И сама себя воспринимала как Наталью, основательную, положительную, правильную — по сути своей, а не по внешности. Умение самозабвенно хохотать она тоже относила к внешним проявлениям. Хотя это, наверное, было и неправильно.
Теперь Наталья уже не помнила, когда она в последний раз смеялась. Основным ее нынешним состоянием была глубокая сосредоточенность, периодически прерываемая ливневыми слезами. «Кричала» Наталья оттого (это так бабушка ее всегда говорила: не «плакала», а «кричала»), что решалась ее судьба. Полтора года назад она влюбилась. Для всех окружающих, хлебнувших жизни, это был заурядный служебный роман, какие встречаются на каждом шагу. А для Натальи и для ее избранника — губительная и неотступная любовь. И соответственно трагедия для всех, с кем и кем они были повязаны. Повязанных было много. С Натальиной стороны: муж, четырехлетняя Олька, мама, свекровь и другие родственники, много. С Его стороны: жена, дети (двое), мать и отец, бабушка и опять же многочисленные родственники.
Наталья приехала с Олькой к маме из далекого северного гарнизона два месяца назад. Вернее, ее привез муж и сдал на руки бывшей теще: возьмите свою нашкодившую кошку. Нет, он, конечно, так не сказал. Потому что воспитанный и чуткий. А Он, Натальин любимый то есть, повез жену с детьми не к ее (то есть жены) родственникам, а к своей маме. Провинился-то он, значит, его маме и расхлебывать.
Наталья не знала, чья она теперь. И ей было плохо.
Она любила приезжать летом к маме, в родной город. Любила встречать подруг и говорить: «А мы все там же, на Севере. Служим потихоньку». Для их сухопутного города ее судьба, судьба жены офицера-подводника, была чем-то запредельным. Романтичным. Красивым. Мужественным. Наталья гордилась своей долей. А еще больше гордилась мама-учительница. Потому что это было повторением ее судьбы. Офицера-подводника она воспитала для дочери, можно сказать, собственноручно. Будущий зять был ее любимым учеником. И как бы слегка мечтал о море, что не осталось незамеченным. И мальчик поехал поступать в Ленинград, в то самое военно-морское училище, которое в свое время окончил папа Натальи и где учился ее старший брат. Вот такая история. Очень симпатичная. Теперь Наталья все рушила. Что скажет мама всем? Всем своим бывшим ученикам, с которыми часто встречалась и в разговорах с которыми о житье-бытье не забывала упомянуть о дочери: все там же, на Севере. Каково было ей, Натальиной маме, смотреть в глаза своему любимому ученику и любимому зятю после того, что натворила ее дочь? Тоже, между прочим, ее ученица.
«Господи, за что?» — тихо повторяла мама в те минуты, когда не кричала и не обзывала Наталью всякими, в основном плохими, словами. И ведь не скроешь, что дочь не только от мужа ушла, а еще и отца у двоих детей увела. Господи, за что?
Наталья шла по улице, тащила за руку упирающуюся Ольку (девочку хорошенькую — в отца, а упрямую в нее — Наталью) и думала об одном. Как бы не встретить кого-нибудь из одноклассниц, которые почти все живут на этой самой улице. Ведь эта Наташа, или Света, или Галя, каждую из которых она сейчас очень не любила, обязательно спросит:
— Ты там же, на Севере?
Еще вчера она бы жестко и с вызовом ответила:
— Нет, не на Севере я! Ясно вам всем? Я здесь. Я уехала оттуда, бросила интересную работу, бросила своего замечательного мужа, потому что так надо сейчас. Но я все равно уеду туда, к тому, кого люблю. И уведу его от жены и двоих детей!
От этой последней мысли, точнее, от двух последних слов стало плохо, и улица снова поплыла перед глазами. «Двое детей» — это стало уже штампом в ее мыслях, в ее рассказах одной-двум близким и трем-четырем неблизким подругам. А теперь что же? Менять «двое» на «трое»?
«У него трое детей! Но он все равно разведется и будет только моим» — так, что ли, теперь говорить?
Только бы донести прорывающиеся всхлипы до дома. Быстрее, быстрей! Олькина рука выскользнула из безвольных пальцев: осталась гулять во дворе с соседской девочкой, и соседка на скамейке — присмотрит. Слава Богу!
— Ключ, ключ, да где же он, черт возьми?
Трясутся руки, ключ дурацкий или замок дурацкий — все равно. Все плохо. Все! Наталья открыла, а потом закрыла дверь, кинулась на диван и хотела так же долго и с чувством, как это было утром, порыдать. Снова вспомнилась бабушка, которая любила, качая головой и поджимая губы, напевно-горестно рассказывать после очередных похорон в деревне: «А она-то уж, бедная, кричала-то как, кричала, убивалася». У Натальи никто не умер, но убиваться было от чего. И она это делала истово, с душой. Но сейчас, не дойдя до разгара оплакивания своей былой положительности, горькой головушки и предстоящей неизвестности, она вспомнила. И остановилась.
Вспомнила: вчера, когда еще не было этого звонка, а было только все остальное, от чего она раз в день устраивала самой себе один большой плач и несколько маленьких, пришла соседка Вера. Говорить с ней, собственно, было не о чем. Чуть-чуть — о тряпках, слегка — о дорогом рынке, ну и, как водится, — о детях. И Вера принялась рассказывать, как у ее двоюродной сестры полгода назад умерла дочь, пятнадцати лет. Вышла от подруги на улицу и упала. Сердечная недостаточность. Вера начала подробно описывать то, что было с матерью, не опуская душераздирающих подробностей.
— Замолчи, Вера, прошу тебя, — глухо простонала Наталья. Кроме душащих слез, был душащий стыд. Они переплелись между собой и жестко сдавили горло — так, что даже рыданиям было не прорваться.
Она закрыла за соседкой дверь и прислонилась лбом к ее прохладной поверхности. Замерла. Застыла. Вот это — горе. А она…
— Господи, да если с Олькой что — разве выживу, разве смогу?
«Выживу — не выживу». И Ему — так же, всегда: «Я без тебя не выживу!»
Сколько раз за эти полтора года приходила мысль — не жить. Невропатологу, к которому все-таки пришлось обращаться (психотерапевта у них в гарнизоне не было), она так и сказала — «мания самоубийства». Хотя «мания» — это, наверное, как-нибудь по-другому, когда знаешь, как это сделать, видишь это вполне реально. А она — не видела. Даже когда в голове звучало слово «повеситься», она не могла представить ни веревки, ни стула, ни тем более своего качающегося тела. Невропатолог выписал какой-то антидепрессант. Наталья исправно пила маленькие розовые таблетки, от которых «не жить» хотелось еще сильнее. Вместе с тем она твердо знала, что никогда ничего с собой не сделает. Не сможет. И проклинала себя за то, что родила дочь, из-за которой должна теперь неизвестно зачем тянуть эту лямку, и ужасно сердилась на маму, которая не будет слишком сильно рыдать у гроба, а просто будет повторять, когда приблизится час выноса: «Ну куда же, ну куда же, куда?» Именно так было, когда хоронили отца. И Наталья тогда плакала уже не над ним, а над мамой, потому что боялась, что та сходит с ума.
В одну из ночей, наполненных, как всегда, мыслями о невозможности своего существования, Наталья, поворочавшись и решив не мешать спать мужу, когда-то любимому, а теперь только любящему, тихо выползла из-под одеяла и вышла посидеть на кухне со своим горем. В голове у нее возникло тогда несколько фраз, которые она сразу же окрестила белыми стихами. И записала, разумеется. Она всегда записывала то, что казалось ей значительным. Это — было значительно. А может быть, просто красиво. Наталье захотелось прочитать то, что было тогда написано. Она слезла с дивана, как слезают с чего-нибудь высокого, некрасиво и неловко. Подумала об этом. Ну и пусть. Никто не видит. Вытащила из серванта целлофановый пакет («архив любви» — как с некоторых пор, а точнее, с сегодняшнего утра, вертелось в голове). Там были две общие тетради, которые Он исписал, когда она была в прошлом году в отпуске, десятка четыре писем, программка спектакля, который они смотрели в Североморске, куда вместе ездили в командировку. И мятая бумажная салфетка тоже была там.
Тогда, на кухне, ей попался только простой карандаш, но она и им сумела написать довольно красиво. И все вместе: эта мятая салфетка и эти чуть-чуть уже стершиеся карандашные строчки — выглядело небрежно-мило, что не совсем вязалось с тоном написанного.
В минуты, когда одна, Когда сжимается сердце От невозможности помочь Всем, кому плохо, одиноко, Кто унижен, Когда сжимается сердце Оттого, что твоя дочь, твоя кровиночка. Может быть кем-то когда-то Жестоко обижена — и ты не в силах уберечь ее от этого, — Понимаешь, что ты совершила преступление, Родив ребенка на эти муки, Которые называются жизнью. Однако никогда не приходит в голову Обвинить в этом свою мать, Хотя так часто хочется расстаться с жизнью. И знаешь, что могла бы сделать это без труда, — И только твой рожденный уже ребенок Держит тебя. Что это, Господи? Зачем это все, Господи?Наталья внимательно перечитала написанное два раза подряд и подумала, как здорово у нее получилось. Ну а что? Ну была бы это не она — а Тургенев (почему Тургенев, у которого были не белые стихи, а стихи в прозе, — она не задумалась). И все бы восхищались. А поскольку строчки принадлежат ей, никому не известной Наталье, то и ценности никакой не имеют. Несправедливо как.
Хотя, если честно, она никому не рискнула бы показать эту мятую салфетку. Ни тогда, ни сейчас. Хотя очень хотелось. Все: и красивая, импульсивная Светка, и разумная Галка, и Вероника, невозможная интеллектуалка, которую она боготворила и побаивалась, и даже Он, кто любил все, что от нее исходило, — все они заподозрили бы ее в чем-то таком, чему она затруднялась дать название. Они бы подумали, что она кокетничает и привирает. Это было не так. А они бы все равно подумали.
Наталья положила мятую салфетку в пакет и вытащила из него общую тетрадь: дневник номер один. Ей захотелось почитать и повспоминать.
Вспомнить было что. Например, как они первый раз встретились. Наталья, услышав по радио, что Дому офицеров нужен культорганизатор, помчалась туда сломя голову. Она окончила режиссерский факультет института культуры и страстно рвалась на работу. Ее, то есть работы, не было. И Наталья тосковала и часто потихоньку от мужа плакала. Жалея себя, она думала о том, что роль жены подводника, конечно, довольно эффектна, но она, Наталья, создана для другой. И эта другая ей часто снилась ночами. Огромный зал, сцена, идет репетиция концерта или какого-то массового действа. Наталья, сидя в зале, отдает распоряжения. Ее не устраивает то темпоритм, то освещение, то музыка. И все-все зависит от нее, поэтому она часто вскакивает, бежит на сцену, размахивая руками и объясняя что-то на ходу. Наталья просыпалась и снова плакала. От нереализованности.
Замирая, надеясь и не надеясь, она несколько раз заходила в ДОФ, чтобы спросить, нельзя ли к ним устроиться хоть кем-нибудь. И всегда попадала на важного усатого лейтенанта, который в первое посещение равнодушно, а в остальные — раздраженно отвечал, что им никто не требуется. Она понимала, что если бы даже и требовался, то устроиться можно было бы по большому-большому блату. Его, то есть блата, не было. Значит, и надежды — тоже. Но раз объявили по радио, значит… Значит, блатных нет. Кончились все блатные! И простые смертные могут претендовать. «Ура!» — сказала себе Наталья, надела к повседневным джинсам новый бежевый пиджак и резво поскакала в ДОФ, который был рядом, через дорогу.
В комнате с надписью «Инструкторская» все тот же лейтенант сказал, что такие вопросы решает только начальник. Начальника ДОФа она как-то видела давно и издалека: маленький и толстый.
Кабинет с табличкой «Начальник Дома офицеров капитан третьего ранга Самойленко В.Г.» был закрыт. Наталья решила ждать. И стала рассматривать нарядные стенды. Недавно к ним во Вьюжный приезжал командующий Северным флотом, и перед его приездом везде наводили грандиозный марафет. ДОФ, видимо, не остался в стороне. Стенды, судя по всему, сделали совсем недавно. Никто еще не успел ничего никому пририсовать. И слов плохих написано тоже не было. Наталья думала: как бы было хорошо, если бы командующий приезжал почаще. Во-первых, в магазинах появились продукты. Даже мясо можно было купить почти без очереди. Во-вторых, городок сразу преобразился. Ободранные дома покрасили веселой желтой краской. Привели в порядок помойки, то есть стали регулярно вывозить мусор. И даже газоны разбили на площадях перед ДОФом и перед штабом. Вырасти на камнях, конечно, к приезду большого гостя ничего не могло. Но хитрые гарнизонные начальники придумали совершенно потрясающую вещь: из тундры привезли дерн, красиво его уложили, вокруг соорудили бордюрчики. А чтоб трава до приезда начальников не засохла, ее любовно поливали утром и вечером из шлангов пожарных машин. Правда, после приезда (и уезда, естественно) командующего про газоны забыли. И трава через несколько дней превратилась в сено.
— Девушка, а что это вы здесь делаете? — раздался за спиной веселый голос. С тех пор как Наталья видела начальника ДОФа, он не подрос. И не похудел. Поэтому она сразу поняла, что это тот, кто ей нужен. И именно поэтому ужасно растерялась и начала нести все подряд. Что стенды в ДОФе красивые. Что у них, видимо, хороший художник. Что она живет рядом с ДОФом, через дорогу. И что ее чуть не унес ветер, когда она сюда шла. И что она хотела бы у них работать. Вот.
Капитан третьего ранга Самойленко В.Г. смотрел на нее заинтересованно и одновременно насмешливо. Глаза у него были… Да нет, глаза, пожалуй, были обыкновенные. А вот взгляд… Наталья потом всегда вспоминала этот взгляд и никак не могла найти ему подходящего определения. Если бы просто насмешливый, было бы, наверное, неинтересно и обидно. А он был веселый и теплый. Добрый. И какой-то еще. Немного неточный, что ли, рассеянный.
Наталья всегда потом считала, что это была любовь именно с этого рассеянного первого взгляда. Но В.Г. Самойленко впоследствии почему-то категорически это отрицал и честно признавался, что не может отчетливо вспомнить их первую встречу. Значит, это была любовь только с ее первого взгляда. Но почему, почему он тогда так на нее смотрел?
Надо признать, что потом Самойленко глядел на нее вполне обычно, как на всех. И даже целый год после того, как взял на работу, не замечал. Был далеким, недоступным и суровым начальником. Повысил в должности (она стала инструктором по культурно-массовой работе) — и все равно не замечал.
Когда же все изменилось? Когда?
Был очень удачный День Флота. Они выложились на все сто. Самойленко очень понравился Натальин сценарий. Он хохотал, когда она зачитывала ему отдельные моменты, что-то придумывал на ходу, она сразу за ним записывала. Он взялся за организацию праздника сам. Как они работали! Это была песня. Слаженная, бодрая. И задушевная одновременно. Они понимали друг друга с полуслова. Начальник реализовывал любые ее сумасбродные идеи, требующие денег, не предусмотренных сметой. Она приходила к нему в кабинет утром с очередным предложением, а он тут же звонил, напрягал всех — и все складывалось, как хотелось Наталье.
Праздник удался. После уличного театрализованного представления был концерт в зале ДОФа, потом — дискотека, которая крутилась уже сама по себе. А в кабинете начальника праздновался успех. Наталье пели дифирамбы все: от инструктора — все того же лейтенанта Валеры — до командира политотдела соединения капитана первого ранга Чернышева. Голос начальника ДОФа где-то потерялся в общем хоре. А вот глаза — не потерялись. Это был взгляд — как тогда, у стендов. Только лучше: все то же самое плюс восторг.
На следующий день Наталья уезжала в отпуск. Она ехала одна, так как муж был в «автономке» (это у подводников так называется длительное плавание), а Ольку мама забрала на «большую землю» еще два месяца назад. Начальник лично отвез Наталью на теплоход, выказав таким образом ей свое особое расположение.
В отпуске она вспоминала. Его взгляд, тосковала по работе с Ним.
Когда вернулась, начальника не было, теперь отдыхал Он. Она готовила вечер «Лейтенантские звезды» для молодых офицеров и их жен. И ждала. Он приехал как раз к вечеру. Это был еще один звездный час Натальи. И не только как ведущей и как организатора. Как женщины. Сыпались комплименты, она была центром внимания и поклонения. Откуда все это взялось, Наталье было не совсем понятно. Она никогда не ощущала себя эффектной женщиной, потому что таковой не была и не умела ею быть. Всегда завидовала высоким, ярким и смелым. И, считая себя серенькой мышкой, благодарила судьбу за то, что у нее есть муж, для которого она лучше всех на свете. Но с «Лейтенантских звезд» Наталья начала вести себя как красивая женщина, психология которой в ней, как оказалось, жила всегда, но дремала. А теперь вдруг проснулась и заявила о себе в полный голос.
На следующий день после вечера в инструкторскую пришел лейтенант Женя, с которым Наталья танцевала на вечере раз несколько. Женя принес стихи и объяснился в любви. Это было необыкновенно приятно, и она не отказала себе в удовольствии рассказать об этом в присутствии начальника. Тот помрачнел и сказал несколько колкостей в ее адрес. Наталья проплакала весь вечер.
А потом было грандиозное мероприятие, посвященное 70-летию Октябрьской революции. По залу в свете перекрещивающихся лучей прожекторов шли революционные матросы с винтовками наперевес. Начальник играл меньшевика, а Наталья в красном узком платье с длинным белым шарфом читала чьи-то воспоминания о том, как Ленин выступал с броневика. Хор, состоящий из личного состава и младших офицеров, обладавших маломальским слухом, пел: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». На концовку пустили детей, которые чисто и трогательно выводили: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?»
Под «Аврору» Наталья плакала за кулисами от счастья, что все снова удалось, от гордости за советскую державу и от чего-то еще, щемяще-возвышенного. Подошел начальник, еще не вышедший из образа и не снявший меньшевистского пальто с каракулевым воротником, и вытер ей слезы концом ее белого шарфа. Потом поцеловал в щеку и сказал: «Спасибо вам, Наташа». Она замерла и от поцелуя, и от того, что Самойленко назвал ее не по имени-отчеству, как обычно, а только по имени. И имя было незнакомое, не ее.
Успех окрылил всех участников революционного спектакля, все почувствовали себя актерами и хотели продолжать в том же духе. Как раз в это время «Юность» напечатала потрясающую сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». На читку собрались в Натальиной квартире. Муж суетился, наливал артистам. Артисты пили, хохотали и распределяли роли. Начальнику ДОФа по рангу полагался генерал; Наталье, как режиссеру, не полагалось вроде бы ничего. Но решили, что она будет Марусей.
— Маруся — красавица, — возражала Наталья.
— Ничего, — успокаивали ее, — со сцены не очень лица видны, главное, накраситься посильней.
Однажды после репетиции начальник пошел ее провожать. Была на редкость тихая погода. Падал снег. Его было много-много. Они шли по Вьюжному, вниз, к причалам. И тогда еще не боялись, что их кто-нибудь может увидеть. А самая важная Его фраза звучала так: «Наташа, я все чаще ловлю себя на мысли, что мне хочется вам нравиться». Наталье ничего умного в ответ не сочинилось, поэтому она промолчала. Она молчала и думала: неужели она когда-нибудь назовет Его по имени? И от этой мысли в голове становилось туманно, сердце замирало и хотелось плакать. После очередного провожания Самойленко напросился к ней на кофе. Пили они, правда, чай, так как кофе не оказалось. И смотрели по телевизору сказку «Золушка». Посмотрели. Он поблагодарил и ушел.
Потом, когда она наконец первый раз произнесла Его имя, не продолжив отчеством, когда Он поцеловал ее и сказал: «Такие, как ты, давно уже не живут», — она поняла, что надо, наверное, остановиться. Но было уже поздно…
«Такие, как ты, давно уже не живут» — это стало Его коронной фразой. И она звучала за эти полтора года очень часто. Но Наталья помнила каждую. И помнила, когда и при каких обстоятельствах Он говорил ей это.
Однажды Наталья рассказала Ему, как она привела к себе в однокомнатную квартиру лейтенантскую семью с полуторагодовалым ребенком. Ну получилось так. Они приехали. А жить негде. Их бы, конечно, куда-нибудь пристроили, но они попались на глаза именно ей, Наталье.
В десятом часу вечера (у нее поздно закончилась репетиция) в фойе ДОФа сидел грустный-прегрустный лейтенант, рядом туда-сюда ходила и плакала на ходу молоденькая девушка, видимо, его жена, а на коленях вахтерши бабы Зины сидел ребенок и восхищенно перебирал ключи.
— Вишь ты, — сказала баба Зина. — Этих никуда не поселили. Всех, кто сегодня приехал, разобрали. Кого в гостиницу, кого куда. А этих вот — никуда. Забыли про них, что ли? Дите все измучилось.
Но «дите» выглядело в отличие от своих родителей очень даже бодро. А баба Зина продолжала шепотом:
— И малый-то какой-то пентюх. Вроде ходил куда-то, куда-то звонил — а вот все тут сидят. Что мне с ними делать-то, Наталья Петровна?
Из-за большой кухни с диваном-кроватью Наталья считала свою квартиру двухкомнатной и не видела проблемы. Они с мужем поспят на кухне, а лейтенантская семья переночует в комнате. Но комната была уже занята спящим мужем. Наталья разместила всех на кухне, показала удобства, накрыла на стол. И пошла будить мужа. Она тихонечко пыталась ему втолковать, что нужно встать, поздороваться и перебраться на кухню. А на этом диване будут спать уставшие лейтенант с женой, а в Олькиной кроватке (дочка была на «большой земле», у мамы) — их малыш. Муж ничего не понял, но вставать наотрез отказался.
Лейтенантская семья согласна была перекантоваться на кухне, и это место закрепилось за ними без малого на две недели. Правда, там они только ночевали, а обитали на территории всей квартиры. И это почему-то очень плохо переносил Натальин муж. В один прекрасный день (кажется, в воскресный; «квартирантов» не было, они отправились в магазин, оставив спящего ребенка на Наталью) он заявил, что если «эти» в ближайшие дни не уберутся, то он будет жить на корабле (подводники свою лодку кораблем называют). Наталья устроила мужу тихий скандал (громкий было нельзя: ребенок спал), апофеозом которого стала фраза: «С такими, как ты, коммунизм никогда не построишь!»
Когда Наталья все это однажды рассказала, Самойленко хохотал до слез. А потом посмотрел на нее долгим-долгим взглядом и сказал: «Боже мой, откуда ты взялась? Ведь такие, как ты, давно уже не живут».
А еще после одного случая слова эти стали ритуалом. Каждодневным. И очень нужным.
В ДОФ привезли тогда фильм «Покаяние». О фильме много говорили, писали, и было ясно, что нужно посмотреть. Начальник решил устроить показ фильма для своих сотрудников в рабочее время. Вернее, это решила Наталья. Идти вечером на двухсерийный фильм не хотелось, а не посмотреть было никак нельзя. Самойленко долго сомневался. В рабочее время надо работать, на носу 9 Мая, планируется куча мероприятий. Наталья, услышав, что ее план под угрозой срыва, захлопнула дверь кабинета и медленно пошла на Него, внимательно и призывно глядя в глаза. Он развернулся вместе с креслом, усадил Наталью к себе на колени и сказал:
— Ну если ты считаешь это возможным…
— Я считаю это необходимым, — сказала Наталья, целуя Его в нос. Потом откинулась назад, посмотрела на нос в ее губной помаде и сказала: «Красиво. Так и ходи».
На следующий день все дофовцы смотрели «Покаяние». Во время фильма Наталья держалась мужественно, а на последних кадрах выскочила из зала, чтобы не быть втянутой ни в какое обсуждение, даже на самом примитивном уровне с вопросами: «Ну как фильм?» — и с фразами типа: «Я ожидала большего». Наталья большего не ожидала, фильм потряс ее, она рыдала в инструкторской, уронив голову на стол. Не найдя ее в зале, начальник зашел в инструкторскую. Она подняла зареванное лицо с глазами, смотрящими сквозь него, и снова легла на стол. Он остановился, постоял, хотел, наверное, подойти, но не осмелился.
— Я дверь захлопну. Сюда никто не придет. Постучишь потом, — сказал Самойленко.
Когда Наталья пришла в себя, она вспомнила, что заходил Он. Вспомнила, как посмотрел. Вспомнила, что сказал. И, взглянув на часы, сообразила, что за эти полтора часа ее действительно никто не побеспокоил. Где пришлось кантоваться ее бедным сокабинетникам — лейтенанту Валере и инструктору по работе с семьями Светлане Семеновне, — было совершенно непонятно. Как за все это время в инструкторскую не заглянули ни моряки, которые должны были прийти на репетицию, ни Лариса — художница, с которой нужно было решить множество вопросов, — тоже было неясно. И даже вечно дребезжащий телефон молчал как рыба об лед (это «как рыба об лед» перешло к Наталье от ее отца и очень нравилось Ему, поэтому было всегда наготове).
Надо было привести себя в порядок и браться за работу. Сил не было. Нисколько. И даже постучать каблучком по полу: «та, та, та-та-та», как это было у них заведено (кабинет начальника находился этажом ниже, а ее стол стоял, по удивительному стечению обстоятельств, точно над Его столом), — она не смогла. Легче оказалось встать и подойти к телефону, стоящему на столе Валеры.
— Это я.
— Иду, — готовно откликнулся Он.
Наталья открыла кабинет, села за стол. Он, зайдя, снова остановился на пороге. Наталья сама подошла к нему и положила голову на плечо.
— Я люблю тебя. Очень, — сказала она севшим голосом.
— Миленькая моя, золотце, ну разве так можно?
— Отпусти меня домой. Ладно?
— Конечно. Только позвони.
Наталья, еле дойдя до дому, сразу легла. И уснула. Так всегда было с нею в детстве. После рыданий, уносящих силы, она сразу засыпала. Где угодно. За столом, положив голову рядом с тарелкой, на диване, свернувшись калачиком, а чаще — под стулом (был у нее лет до пяти такой друг, который можно было, разобрав, превратить в конструкцию «стул плюс стол на колесиках». А в собранном высоком состоянии стульчик образовывал под собою удобную нишу, где маленькая Наталья всегда отсиживалась, когда ее что-то в этой жизни не устраивало или обижало).
Проснувшись, она долго сидела на диване, не понимая, утро сейчас или вечер. Потом, сообразив и все вспомнив, позвонила Ему.
— Это я.
— Поспала?
Наталья удивилась. Кажется, она никогда не говорила Ему ничего о своей детской привычке. Но Он все знал про нее и так, без рассказов.
— Я знаю, за что люблю тебя. За то, что такие, как ты, давно уже не живут, — сказал Он.
С этой фразы начинался и дневник номер один, в котором Он подробно рассказывал о каждом дне, прожитом без нее. Одной общей тетради не хватило, и Он перешел на вторую — дневник номер два. Наталья начала читать первый. Она почти все помнила наизусть, поэтому не читала все подряд, а только выхватывала отдельные куски.
«Весь вечер думал о том, что плохо с тобой попрощался — молчал как пень, но я не мог сказать ни одного слова. Если б я открыл рот, то мои рыдания разнеслись бы по всем причалам».
«Наташенька, а ты ведь еще не в отпуске. Плывешь на теплоходе где-то по Кольскому заливу, где-то еще недалеко от меня. Сколько же дней впереди без тебя! Как выжить?»
«Доброе утро, Наташа! Сегодня постараюсь сильно-сильно работать. Хотя хочется сидеть и думать о тебе. О нас.
Вчера вечером болело сердце. Как ты там? Боже, но не бывает же таких хороших, как ты. Я тебя никому не отдам. Ты же моя. Правда, стрижик?»
«Сегодня как-то все плохо. Был в тылу — машину на ДОФ пока не обещают. Был у Фатиненко — матроса Лазарева нам не отдают, говорят, пусть служит где служит. Так что, боюсь, не заполучить нам этого певца и танцора. В ДОФе тоска. А как иначе может быть без тебя? Люблю. Люблю. Люблю».
«Пишу тебе сидя в «Машке»…»
«Машка» — это Его «жигуленок», который Он очень любит», — подумала Наталья с нежностью и к Нему, и к Его машине.
«…Мы с ней на причале. Том самом, откуда проводили тебя в отпуск. Когда же встречать?»
«Наташа, а может, нам Валеру повысить, в пропагандисты перевести? Иногда мне кажется, что мы его затюкали. В принципе, он парень неплохой. Подумаешь, с ошибками пишет, от этого не умирают. Ведь он иногда может сделать что-то хорошее и полезное. А в инструкторскую придет новый лейтенант, поющий, танцующий, умный и т. д. Нет! Нет, такого не надо, а то я очень ревную. Пусть уж лучше Валера остается на своем месте».
«Как всегда, начинаю день с разговора с тобой. Достаю из сейфа фотографию и долго смотрю в твои глаза. Самые красивые и самые умные глаза».
«Мне было грустно репетировать «Федота» без тебя. Иринина Маруся хуже, чем твоя (ха, а если бы лучше? а если бы я тебе об этом сказал — то что бы ты со мной сделала, когда приехала?!). Но спектакль снова прошел на «отлично». Перед началом все пропустили дважды по 50 грамм, а Валера-Федот — трижды. Завелись, как мотоциклы.
Слова врали, но врали красиво и попадали в рифму. Публика стояла на ушах. На Марусю не смотрел, потому что ус отклеивался четыре раза. Да и смотреть было неинтересно, сама понимаешь. Если б это была ты, Марусенькая моя самая распрекрасная.
Сейчас пойдем отметим успех мероприятия. По чуть-чуть. Ты ведь разрешаешь?»
«Дома вообще кошмар какой-то. Не разговаривает. На развод собирается подавать, если я не брошу самодеятельность. Говорит, начальник, а превратил себя в шута. Это ведь не то. И не так. Правда? Да я бы давно развелся, но дети… Хотя черт знает, что нравственнее: так жить ради детей или все-таки развестись. Ведь любви-то нет. Девчонки у меня хорошие. Ради них стоит жить. Но они же потом и спросят: «Отец, а как ты так жил?» Что ответишь?
Наташа, милая, ты прости, что я про семейное. Наверное, не надо бы. Но кому я еще скажу, золотце мое? Ты у меня одна. Я тебя никогда не разлюблю. Я себя знаю. Первый раз, понимаешь, первый раз в жизни — люблю. Помнишь наш разговор где-то в середине декабря? Это когда ты предлагала нам расстаться. Именно тогда я понял, что отнять тебя у меня сможет только конец света».
«Вечер добрый, это я. Один во всем ДОФе (кроме моряков и сторожа). Опять говорю с тобой. О чем? О работе, конечно.
1. Моряков надо менять. Эти два оболтуса тупы и бездарны. Ты, как всегда, права.
2. С дискотекой что-то делать. Приедешь — займешься.
3. Трудовую дисциплину укрепить. Разболтались все.
4. Штатное расписание пересмотреть.
5. Под особый контроль взять работу инструкторской.
Как тебе программа? Утверждаешь? Наташка, ну нельзя же так долго отдыхать. Какой я дурак, что дал тебе отпуск. Приезжай, миленькая моя, я не могу без тебя больше».
«Боже мой, я слышал твой голос! Сказал все не так, как хотел. Но я же глупый дурак, как ты любишь говорить. Но зато я слышал тебя — это главное. У меня есть ты.
Сейчас собираю народ на совещание, надо делать умное лицо. А оно у меня — глупое и счастливое. Приезжай быстрее».
«Сегодня разговаривал с начфином. Зараза. Денег на ремонт не дает. Ни копейки. Как-то надо выкручиваться.
Сегодня — неделя, как ты уехала. А кажется, прошла вечность. От одной только мысли, что до встречи еще месяц, жить не хочется. Где бы пересидеть это время, чтобы никого не видеть и не слышать?
Ты приедешь из отпуска другая. Тебе хорошо с мужем. Ты любишь его больше, чем меня. Будет ли в тебе, другой, место для меня? Вот вопрос, от которого хочется биться головой о стенку. Прости».
«Приткнуться негде — сижу в библиотеке и пишу тебе. Из моего кабинета все вынесено, и там полным ходом идет ремонт. В инструкторской та же картина. Так что ваши ценные указания, Наталья Петровна, выполняются понемногу. Приедешь — будешь принимать работу».
«Милый стрижик, доброе утро! Чем ты сейчас занимаешься? Наверное, еще спишь? Я вот думаю, а ты захочешь читать эти мои каракули, когда приедешь? Знаешь, если бы я не писал все это — не выжил бы точно.
Сейчас снова напишу банальность: я тебя люблю. И еще одна «оригинальная» мысль: чем дальше, тем больше. Мы с «Машкой» были сегодня на нашем с тобой месте — на вертолетной площадке».
«Только что вернулся из политотдела. Вызывал Чернышов. Поговорили о концерте, о ДОФе вообще. А потом он спрашивает: «А какие у тебя отношения с инструктором твоим — Наталья Петровна ее, кажется, зовут?» Сказал, что хорошие, дружеские. А он тоже по-дружески меня предупредил. Сказал, что были сигналы. И он волнуется за сохранность семей. Я позволил себе ответить за тебя (ты же мне всегда об этом говоришь), что твоя семья крепка и разваливаться не собирается. Он сказал, что понимает, что все в жизни может быть, но до разводов доводить нельзя. Я с ним согласился.
Как тебе информация? Я сделал следующие выводы:
1. Люблю тебя очень-очень.
2. Разлюбить не смогу никогда.
3. Умру, если ты меня бросишь. Так и знай.
4. Я тебя никому не отдам.
Я огорчил тебя, миленький мой? Ну не переживай, это все пустяки. Это наши дофовские сплетницы не могут пережить. Их же никто так никогда не любил. Правда?»
Наталья читала-читала, а слышала только одно: «Я тебя никому не отдам». Не отдаст ли? И нужно ли ей, чтобы не отдавал? Сейчас, в этой жизни, ей больше всего хотелось на Север, в свою квартиру. Хотелось покоя. И чтобы все как раньше: счастливая семья, ожидание мужа из «автономки», покой и радость в доме.
Наталья положила тетрадь в пакет, бросила его на диван и вытянулась рядом, уставившись в потолок и сложив на груди руки, как покойница. Молодая, не очень красивая, но вполне симпатичная покойница. Ей захотелось развить в мыслях эту тему — тему ее похорон. Но сначала она решила вспомнить слово в слово все то, что Он сказал ей сегодня утром по телефону. Правда, и это не получилось. Телефонно-телеграфная тема была богаче и шире одного сегодняшнего разговора и развернулась во всей своей панорамности и значительности.
Когда она ждала переговоров с Ним, сердце каждый раз так ненормально колотилось, что было страшно. А когда раздавался пронзительный междугородный звонок, ноги неизменно отказывали, а затем рука с трубкой ходила ходуном, и ее приходилось придерживать другой. Каждый раз она боялась услышать: «Прости, я не могу, у меня нет сил уйти». Но со временем она перестала бояться именно этих слов, взамен пришел новый страх. Она ждала плохих новостей. Они каждый раз были — какие-то мелкие плохие новости. Но всегда было главное, что заставляло тут же забыть о них. Он кричал, боясь, что плохо слышно: «Я люблю тебя! Я тебя никому не отдам!» И после этих слов Наталья приходила в себя: начинала стирать, мыть, гладить. Хватало ее на полдня, не больше. Она очень уставала от физической работы. Интересно, как же можно исцелять таких душевнобольных, как она, с помощью (она где-то читала про это) трудотерапии? Но сразу же находился ответ: у нее совершенно особая болезнь (естественно, науке неизвестная), лечить которую можно только Его словами: «Я тебя никому не отдам».
Если этих слов она не успевала услышать из-за того, что их разъединяли, не предупредив, то через некоторое время ей звонили с телеграфа, интересовались, кто у телефона, и зачитывали с выражением: «РОДНАЯ МОЯ КАК ВСЕГДА НЕ УСПЕЛ СКАЗАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЯ КОНОПУШЕЧКА И НИКОГДА НИКОМУ НЕ ОТДАМ СЛЫШИШЬ НИКОГДА НИКОМУ». Наталья благодарила и неизменно просила положить телеграмму в почтовый ящик, что не всегда нравилось доставщицам, и трубка телеграфного телефона в сердцах швырялась.
Да, с отделением связи у нее отношения особые. За эти два месяца, что она живет у мамы, скучать им, наверное, не приходилось. Телеграмм ведь хватало не только от Него, но и от мужа, который тоже пытался не отдать Наталью.
«Интересно, кто я для них?» — думала она о тех, кому протягивала заполненный бланк или от кого выслушивала по телефону текст очередного телеграфного послания. И однажды она увидела — кто она для них.
Звонок был резким. Но как-то не подумалось, что чужие. Равнодушно (как и все, что она делала, а больше не делала в дни, когда от Самойленко не было ни письма, ни звонка) пошла открывать. Заставили замереть глаза, смотрящие безжалостно через стекла старомодных очков. Разносчица была пожилая, с металлическим голосом, который был таковым скорее не от интонаций, а от верхнего ряда зубов: железных, хищных. Но это просматривалось на втором мысленном плане. А на первом — толпились буквы текста телеграммы, которую Наталья успела прочитать еще до того, как она попала в ее руки.
«ВО ИМЯ ВСЕГО ЧТО ТЕБЕ СВЯТО БУДЬ БЛАГОРАЗУМНА ОТКАЖИСЬ ОТ МОЕГО СЫНА НЕ СИРОТИ МОИХ ВНУЧАТ ЗАКЛИНАЮ СЛОВАМИ МАТЕРИ МАТЕРИНСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ СИЛЬНЕЕ ВАШЕЙ ЛЮБВИ».
Разносчица, для которой Наталья была разлучницей, а значит, б…, ненавидела ее не меньше, чем Его мать. И хищницей была не она, старая заслуженная работница отделения связи, а Наталья. Хотя у нее и не было таких железных зубов.
Вот тогда-то, казалось, все кончилось. Все решилось. Но прошло несколько часов, и Наталья, очнувшись, снова поняла, что это еще не конец.
Раз дана такая телеграмма — значит, ее Самойленко непреклонен, значит, Он — ее. И она вынесет все, пока есть Его, а не чьи-то слова. Его слова: «Я тебя никому не отдам».
Сегодняшний звонок (наконец-то сейчас, лежа на диване, она добралась до этого момента) она пережила спокойнее, чем когда бы то ни было. И когда Он сказал, что есть новость, первой мыслью было: перевод по службе, наконец-то. Но спросила другое, чему не верила и чего не могла допустить.
— Она все-таки беременна?
— Да. Звонила. Сказала, что будет рожать, что уже поздно.
Наталья узнала про беременность его жены, когда Он приехал к ней месяц назад, по пути на Север, оставив проклинающих его мать, бабушку, жену. И детей — не проклинающих. А любящих и очень любимых. Но, любя, Самойленко был беспощадным и жестоким, каким его никогда никто не знал. И наверное, при этом ненавидел ее, Наталью. Но выбор был уже сделан. Для них — он уже не сын, не внук, не муж. Да и отец ли?
Для них он сделал выбор. А для себя (Наталья увидела, почувствовала это сразу же) — еще нет.
Он приехал в ее город, незнакомый и недружелюбный, поздно вечером. Наталья знала, что Он приедет в этот день. И почти весь день лежала. Потому что ожидание вытянуло оставшиеся силы, основную часть которых забрал утренний скандал с матерью, высказавшей в очередной раз все, что она думает о своей дочери, о Самойленко и об их так называемой любви.
Они не виделись ровно месяц. Ровно месяц назад жена обнаружила в кармане его форменной тужурки письмо Натальи. Слухи, которыми был полон их городок, подтвердились. В тот же день муж Натальи увез ее вместе с дочкой на «большую землю». За те восемнадцать часов, которые теплоход шел до Мурманска, Наталья с мужем не сомкнули глаз. Они говорили, плакали, снова говорили. Когда слово «развод» стало реальностью, Наталья поняла, что не может отнять у мужа Ольку, что ей страшно, что она хочет вернуть все то, что было до встречи с Ним. Она была готова поверить мужу, который уверял, что все пройдет. И она верила, пока он был рядом. Но когда муж уехал, позвонил Он. И сказал, что любит, что не может без нее жить.
Потянулись страшные дни выбора. Она любила Его и хотела быть с Ним. Но разве она могла сказать, что не любит своего мужа, родного, близкого человека? Начавшаяся еще задолго до этой развязки с письмом депрессия усугубилась. Наталья практически перестала есть, спать, похудела килограммов на десять. Ее мучила совесть. Ей было жалко всех. Отступись она от своего Самойленко — и все снова будут счастливы. Кроме Него и нее. И отступиться не получалось.
И вот Он — на пороге ее дома. Мать Натальи скрылась в глубине трехкомнатной квартиры, не желая его видеть. Олька была заблаговременно отправлена к свекрови.
Открыв дверь и увидев Его, Наталья не обрадовалась и ничего не сказала. Она прислонилась к стене и медленно стала сползать вниз. Он подхватил ее: «Миленькая моя, родная, что с тобой сделали?» По Его лицу текли слезы, которых он не скрывал и не стеснялся.
Наталья не знала, хочет ли она видеть Его, хочет ли любви, хочет ли вообще чего-нибудь в этой жизни. Она плохо понимала, что происходит. Он сам собрал ее вещи, сложил в сумку. Уходя, Наталья задержалась, что-то вспомнив. Вернулась в комнату и взяла огромный букет белых роз, который Он положил на стол.
Пока Самойленко оформлял документы в гостинице, что-то объяснял и доказывал, Наталья сидела в кресле и, безразлично глядя перед собой, обрывала лепестки роз. Они падали на пол. Администраторша смотрела на нее с недоумением и любопытством.
Когда они оказались в номере и выпили шампанского за встречу, Наталья поняла, что не хочет ничего. Только спать. Утром, открыв глаза, увидела, что Он сидит у нее в ногах, обхватив голову руками. Теперь не спал Он. Они поменялись местами.
Выспавшаяся Наталья слегка похорошела и, кажется, снова стала той Наташей, которую Самойленко знал и любил.
Они бродили по городу, перекусывали в маленьких кафе. И никак не могли наговориться. Только Наталья больше не хохотала так, как она всегда это делала в ответ на Его шутки. И даже улыбаться она разучилась. Он сразу отметил это. И испугался. Сможет ли он так же любить эту женщину-подростка с грустными, как у больной собаки, глазами? Он не знал. Но задыхался от жалости и нежности. И готов был сделать для нее все.
В гостинице она ответила на Его ласки. Но всего лишь ответила.
Про мнимую, как ему мыслилось, беременность жены Самойленко сказал ей всего лишь на третью ночь. Сказал как бы между прочим, показывая, что это несущественно, поскольку неправда.
Не было ни слез, ни истерики. Было недоумение. Как же это? Наталья сидела на кровати и повторяла этот вопрос, глядя в одну точку и качая головой, как китайский болванчик. Как же это?
Он и сам не мог понять как.
— Миленькая моя, пойми, это чушь. Полная чушь, — говорил Он, пытаясь заглянуть ей в глаза. — Наташенька, родненькая моя, ну посмотри на меня. Это не-прав-да. Ты меня слышишь?
Наталья не слышала. Она уже ничего не спрашивала и не раскачивалась. Просто сидела. И молчала. Он пытался ее обнять, она молча вырывалась и продолжала смотреть все в ту же точку, которая находилась на стене гостиничного номера, только не их, а соседнего — потому что Наталья смотрела сквозь стену. Он дал ей пощечину, резко и сильно. Натальина голова мотнулась в сторону, она обхватила ее, удерживая, и наконец заплакала.
— Тебе больно? Больно? Прости меня ради Бога. Ну пожалуйста, пожалуйста. — Он целовал ее плечи, руки, ноги. — Миленькая моя, золотце мое, ты поплачь, поплачь. Только прости.
Наталья, обняв Его, продолжала плакать. Горько. Безутешно. Как в детстве. Она понимала, что у Него разрывается сердце от жалости к ней, но остановиться не могла.
— Ну какой же я дурак! Какой дурак. Разве можно было тебе это говорить, маленькая моя, — причитал Он, закутывая Наталью в одеяло, потому что ее начал бить озноб. Укутав, Он встал, налил почти полстакана коньяка и, присев перед кроватью и развернув Наталью к себе, сказал: «Пей». Она, не сопротивляясь, выпила все. И сказала: «Рассказывай».
Собственно, и рассказывать-то было нечего. С женой Он не спал по крайней мере полгода. Она же (то есть жена) утверждает, что это было в Его день рождения, два месяца назад. Могло ли это быть? В принципе, могло. Наталья знала эту «милую» особенность своего начальника: действовать на «автопилоте» в невменяемом состоянии. Наутро выяснялось, что Он помнит себя лишь до определенного момента, после которого отключается, хотя продолжает действовать и говорить как сильно выпивший, конечно, но вполне контролирующий себя человек.
Сейчас, вспоминая этот разговор с Ним в гостинице, Наталья переключилась на свою подругу — Светку. Светка и их общий начальник — два сапога пара. Вот уж кто понимал друг друга!
Удивительно красивое и внешне гармоничное создание — Натальина подруга — при всей своей женственности, загадочности и хрупкости обладала буйным темпераментом, была независима, взбалмошна и непредсказуема (собственно, как и положено красивой женщине). И именно в силу этого Светка иногда «надиралась по-черному» (как она сама про себя говорила). В такие моменты в ней сначала просыпались потрясающие ораторские способности.
— Прошу внимания! — Она стучала вилкой по бокалу, призывая присутствующих за столом к тишине.
Светкины речи всегда были полны ясности, логики, сдержанной эмоциональности. Это была первая стадия, на которой Светка, как потом выяснялось, уже ничего не помнила.
На второй стадии она обычно пыталась стянуть со стола скатерть и полить кого-нибудь из сидящих за столом шампанским, тихо подкравшись сзади.
Третья (и последняя) стадия носила вид грандиозного разноса мужа или любовника, в зависимости от ситуации. Пострадавшему приходилось очень долго успокаивать Светку, поить водой, прикладывать к голове мокрое полотенце, бесконечно жалеть ее и вымаливать себе прощение. Наконец Света мирно засыпала, свернувшись калачиком.
На следующее утро она просыпалась ангел ангелом — тихая, покорная, задумчивая. И ничегошеньки не помнила! Наталья поначалу не верила:
— Ну помнишь, как ты здорово процитировала Ларошфуко?
— Кто это? — таращила глаза Светка.
— Не притворяйся, — строго говорила Наталья. — Не может быть, чтобы «автопилот», про который вы мне с Самойленко талдычите, срабатывал настолько, чтобы можно было шпарить наизусть этого, как его там, — Ларошфуко!
— Ну конечно, я это имя слышала, — признавалась Светка. — Но никаких слов его не помню. Про что я хоть говорила?
— Про добро и красоту. Что добро само по себе красиво. А зло всегда безобразно. Я дословно не помню.
— Глупая, думаешь, он действительно это говорил? Может, до меня это вообще никому в голову не приходило. А мне вот пришло! Я и сказала.
— Но почему ты к этому приплела именно этого мужика — Ларошфуко?
— Наталья, ну что ты ко мне привязалась? Откуда я знаю? Вылезло откуда-то. Из закоулков памяти. У нас с тобой все-таки высшее образование, много чего нахватались.
Лирическое отступление «"Автопилот" и Светка» закончилось, и мысли Натальи вернулись в русло воспоминаний «Разговор в гостинице. Про беременность».
Итак, вполне возможно, что Он переспал со своей женой по пьянке. Но ведь у нее, кажется, стояла спираль? Да. И именно это Самойленко сказал своей жене в ответ на ее сообщение о беременности. На что она ему ответила, что давно сняла ее, только ничего не говорила. Что ж, логично. Отношения натянутые, обязанности свои супруг не исполняет — вполне нормально не обсуждать с ним противозачаточную тему.
И все-таки что-то подсказывало Наталье, что дело обстоит как-то иначе.
— Скажи, а сейчас у вас что-нибудь было?
— Нет, конечно.
— И, жалея ее, ты не мог…
— Наверное, мог бы. Но этого не было.
— А ты напивался там?
— Да, было один раз. Сестра новоселье устроила. Ну мы все пошли, изобразив счастливую семью (сестре пока еще ничего не говорили про развод). Конечно, напился с горя, почти сразу. Ничего не помнил. Какие разговоры разговаривали, как к матери вернулись. Проснулись, правда, в одной постели. До этого спали в разных комнатах. Но я не думаю…
— А я думаю, — жестко сказала Наталья. — Когда она тебе сказала про беременность?
— Дня за два до новоселья. Они с матерью в больницу пошли. Вернулись загадочные такие обе. Ну и сказали. Я говорю: «Покажите справку». А они — в один голос: рано еще. В общем, справки никакой не было. И беременности не было и нет. Просто это уловка. Вот и все.
— Знаешь, скорее всего это было так. Твоя жена отправилась к гинекологу, чтобы снять спираль. Заранее объявив о беременности, она очень надеялась на новоселье. И если она забеременела, то именно в эту ночь.
— Да брось ты, Наташка, так не бывает.
— Бывает. В сериалах. Мексиканских. Или бразильских.
— Ну вот видишь, глупенькая. Только в сериалах. А не в жизни.
— Посмотрим, — сказала Наталья и, окончательно успокоившись и разомлев от выпитого коньяка, улеглась поудобнее и сразу же заснула. Самойленко, кажется, в ту ночь опять не спал.
В какой-то момент замирения на фронтах великой войны Наталья рассказала маме, как Его жена ведет себя. Неинтеллигентно. Нецивилизованно. Мало того что она грозилась убить Наталью, убить себя («Ужас какой-то. Представляешь, мам? Полный идиотизм»)… Так она, чтобы удержать мужа, теперь придумала эту беременность. Или забеременела на самом деле от него, когда он был в стельку пьяный. Как это можно? Как?
— Она борется за свою семью, — ответила мудрая мама. — И дай ей Бог силы выдержать все это.
— А я, мам? Как же я? Он ведь — мой, мой. Понимаешь ты или нет?!
— Кто знает, кто чей. Поженились, детей родили — вот и живите. А на чужом несчастье своего счастья не построишь. Ну а что касается того, что вроде он по пьянке… — продолжала мама, — то откуда ты знаешь, как это было? Может, и не по пьянке. Только что это меняет? Ребенок-то родится. Неужели и через троих детей переступишь?
— Нет, не переступлю. Просто не должно быть никакого третьего ребенка. Вот и все.
— А это уж как Бог положит…
Когда Наталья сегодня по телефону снова услышала про беременность, она сначала сжалась, застыла, как над пропастью, а потом ощутила жестокую решительность. Ну и пусть! Все равно Он — ее. Кстати, Самойленко сказал, что заявление о разводе подал и обратный ход событий невозможен.
Конечно, невозможен. Ведь Наталья знает, что никто, кроме нее, Ему не нужен. Что она — Его находка, Его божество, Его глупая рыжая девочка. И не мыслит Он своей жизни без нее. Она знает это. Она знает, что так будет всегда. Потому что Он — ее половинка, найденная случайно на краю земли — там, куда послали служить ее мужа. Послали бы не туда, Он бы не нашелся. И это, конечно же, было бы хорошо. Но тогда бы она никогда не узнала, что так бывает. Что каждый твой взгляд, вздох, каждое слово могут быть приняты с благоговением и восторгом. Не потому, что ты такая хорошая. А только потому, что Он — твой, тебе, одной тебе предназначенный. И вы безоговорочно подходите друг другу, абсолютно точно складываетесь в одну целую открытку, которую на большом карнавале жизни кто-то, веселый и жестокий, разрезал самым причудливым образом на две части и бросил в разные концы земли, глумливо-дурашливо крикнув при этом: «Ищите пару!» — зная, что это невозможно. Всегда было невозможно. И всегда были двое из миллиона, которые находили друг друга.
Они будут вместе. Так решила Наталья сейчас, после месяца с той встречи и после сегодняшнего разговора по телефону. А что касается беременности его жены, то это действительно скорее всего неправда.
— На том и будем стоять, — сказала себе Наталья и уснула коротким, но глубоким и спокойным сном.
Проснувшись через полчаса, она сходила за Олькой на улицу, привела ее, накормила ужином и долго-долго читала ей с выражением сказки Андерсена. Она с удовольствием перевоплощалась во всех героев, чему дочь была несказанно рада, потому что все последнее время мама откровенно халтурила и не доставляла удовольствия, а только сердила бесцветным, монотонным чтением.
Уложив Ольку спать, Наталья, устроившись с ногами на диване, снова начала прокручивать сегодняшний разговор.
Крича Самойленко по телефону: «Я знала, я знала, что так будет», Наталья говорила неправду. Все это время, которое вымотало ее, вывернуло всю наизнанку, она твердо знала: все как-то утрясется — и они будут вместе. И каждое новое препятствие (а они возникали практически ежедневно: телефонные звонки мужа, слезы и гневные обличительные монологи мамы-учительницы, глаза тоскующей по отцу Ольки), несмотря на то что оно казалось непреодолимым, к концу дня все равно оставалось позади. Правда, возникали новые.
Вот и сегодняшний разговор — просто новое препятствие.
Наталья пыталась поймать и увязать обрывки мыслей в одну ясную картину. Картина получалась жестокой. Пожалуй, даже слишком. Допустим, жена Самойленко действительно собирается рожать. Хотел Он этого ребенка? Нет. Исполнял супружеский долг только в пьяном виде? Да. Знала его жена месяц назад о том, что он уходит от нее? Знала. И сказала ему еще: «Пусть тебя это не волнует. Какая мне разница — воспитывать двоих детей или троих?» Вот пусть сама все и расхлебывает.
Казалось, решение было принято. Раз и навсегда. И пока еще казалось, что все зависит от нее, Натальи. Так было все эти полтора года. Считалось, что все дело только в ней, что это она не может отказаться от своего мужа. А Самойленко разведется сразу же, как только решится Наталья. Она говорила, что не решится никогда. А Он всегда говорил в ответ: «Я буду ждать. Пять лет. Десять. Сколько скажешь. Но давай все-таки быстрее». На самом деле Самойленко так же, как и ей, не хотелось быть клятвопреступником и рушить свою семью. Они оба наивно полагали, что все решится само собой, они мечтали вдруг оказаться брошенными, а не бросающими. Но почему-то ни Натальин муж, ни жена Самойленко не торопились ни в кого влюбляться и отказываться от своих суженых. А сужеными-то, то есть судьбой предназначенными друг другу, были Наталья и Он. Правда, это только они так считали.
— Ну все, — сказала себе Наталья. — Хватит. Пора переключиться на что-нибудь другое.
Она попыталась читать — не шло. Включила телевизор — и выключила. Надежды уснуть — никакой. Наталья вспомнила, что сегодня она не услышала по телефону главного. Значит, должна услышать. Сейчас же.
Не так легко заказать «Крайний Север», но Наталье повезло. И вот в трубке снова Его голос, далекий и родной. Она торопится, она нервничает, она спешит выложить то, что передумала за день.
Она требует выбрать.
Ему нечего выбирать. Ему нужна только она. Будет ли она ждать его?
Господи, ну конечно же, будет.
Наталья подумала, что речь идет об официальном разводе. Но ведь она давно была готова к тому, что все это будет тянуться очень долго. И Наталья снова требует решения, телеграммы — сегодня же утром.
Телеграммы не будет, Он будет ждать приезда жены, Он по-прежнему надеется, что это неправда.
А если правда, то…
А если правда и жену не удастся уговорить на аборт, Он должен будет остаться с ней, пока она не родит и ребенку не исполнится год.
Вот как… Ну что ж… Пусть остается…
Он пытался что-то сказать, что-то объяснить, что-то доказать. Но Наталья не понимала, о чем он. Он кричал, слышит ли она его. Наталья слышала. Потом, на каком-то его полуслове, положила трубку.
Странно, почему нет слез? За полдня могло бы и накопиться. Нет слез, и все тут. Дойти до дивана. Вот так. И сесть. И сидеть тихо-тихо и долго-долго — всю ночь. Или уже утро? Да, светло.
Встретив сегодня кого-нибудь из подруг, она скажет спокойно и насмешливо: «Нет, я не на Севере. Вот она я, здесь. С мамой и Олькой».
ОДИНОЧЕСТВО
Долгие все гудки-то. Никто не подходит. И вчера так, и позавчера. А завтра-послезавтра, смотришь, и ответят. А я им что? Да ничего. Трубку положу. Не станешь же объяснять, что этот номер нашим был… Лет, наверное, двадцать. Да какие двадцать! Толи уж нет пятнадцать. А он начал сразу добиваться, как только в квартиру въехали. Да года три ждали. Так что все тридцать, считай. Ну правильно… Иринке тридцать пять… А сюда приехали, ей было год и восемь месяцев, я как раз на работу пошла. Тридцать три года в этой квартире живем.
Дата-то какая — тридцать три. Возраст Христа… Вот я думаю… Почему-то все всегда произносят это с таким энтузиазмом и никогда не добавляют: «когда его распяли». Мужчины любят, когда им столько исполняется. Чудные. Если уж на Христа равняться, то не на годы, когда он смерть принял. А на его тридцать, когда проповедовать начал. К чему это я про Бога-то? А, ну да… Вон уж сколько лет здесь живем… Весной тридцать четыре будет. Сереже нашему тридцать четыре было, когда с ним случилось… Толи уж не было. Похоронили. А через полгода — у Сережи инсульт. Кто мог подумать? Никогда ни на что не жаловался, молодой, здоровый. Медкомиссию каждый год проходил. Подводник ведь. Как отец. Только Толя демобилизовался из-за язвы капитан-лейтенантом. А Сережа до капитана третьего ранга дослужился, а дальше уж не пришлось. Толя-то мечтал, что у Сережки служба сложится. Она и складывалась. Гордились мы им очень. Ох, Господи, как он там теперь? Приехал бы тогда к нам сюда. Квартиру уж получил бы давно, а не с тещей бы жил. Нет, как же — Питер, Питер, там все друзья. Где они теперь, друзья-то? Ну, правда, Ольга еще настаивала, потому что врачи там лучше. Лучше, а вот не вылечили. Ну хоть на своих ногах. Это благодаря Ольге, она его выходила. Когда все случилось и его на вертолете из их Гремихи в Североморск отправляли, надежды, говорят, совсем не было. Четыре месяца она от него не отходила, считай, там в госпитале и жила.
Звонил Сережа на днях. Голос бодрый. Приедет, может. У него проезд бесплатный раз в год. Мне-то к ним не съездить. Где такие деньги возьмешь? Вон что натворили… Кто думал, что в Ленинград не по карману будет съездить? Не на Камчатку ведь. Тогда и не думали, отпускные получишь — хоть куда езжай, а уж в Ленинград-то… От Москвы билет на дневной поезд рублей восемь, что ли, стоил. Да электричка до Москвы, поди, рубля три. Како-о-й три! Это на «Березку» три пятьдесят, а электричкой-то простой я и не ездила никогда. В «Березку» сядешь — чистота, красота, даже чай носят. Это уж кто три пятьдесят жалел, тот на электричке ездил.
Ну наберу-ка еще. Нет, гудки длинные. Может, и не дадут наш номер никому. Легче мне так будет. Зять пришел когда, довольный, разговорчивый (выпил, вот и разговорился!), — «Мам, у нас теперь номер другой будет» — и назвал какой-то, я до сих пор не запомнила, бестолковый какой-то номер-то, — так у меня все внутри оборвалось.
— Да зачем нам новый номер? Чем тебе старый был плох?
А он:
— АТС — старая, работает плохо, подключат нас к другой. Мам, ну не надоело тебе, что связь обрубается постоянно?
Надоесть-то надоело. Только уж жалко очень. Как будто жизнь оборвалась… В какой уж раз обрывается… Сначала когда мама умерла, потом — Толя, потом Сережа заболел, потом Ирка разводилась, потом Генка человека покалечил в драке, под следствием год почти был. А теперь вот Ирка снова… Вон чего задумала.
И каждый раз как саданет, так думаешь, что уж теперь точно не выживу. А живу. Откуда силы?
Тебе, Толь, хорошо, у тебя уж давно проблем никаких. Хотя глаза на портрете — грустные (Ирка все хочет фотографии со стены поснимать… значит, и твоя пойдет в ящик стола, когда умру). Да… Улегся себе и полеживаешь. А я тут огребай: только успокоишься, только в себя придешь — получай снова, похлеще.
Вот Ирка. Тридцать пять человеку, а как ребенок. Куда кривая вывезет! Представляешь, задумала увольняться из института. Ну не дурость?
— Зачем защищалась-то? — говорю.
А она:
— Мама, ты ничего не понимаешь! У меня другое предназначение в жизни!
— Да ведь года не прошло как защитилась. Тебе ж нравилось. И предмет твой, и сам институт, и все. Теперь-то что изменилось?
— Все! Чувствую, — говорит, — что живу не свою жизнь.
— Господи, да ты же шесть лет талдычила, что нашла себя. Что тебе нравится преподавать. Что тебе нравится твоя риторика.
— Ну нравилась, — говорит, — я от своих слов не отказываюсь. Очень, — говорит, — нравилась. И теперь не могу сказать, что не нравится. Но я чувствую, что это все себя изжило. Понимаешь?
— Да что ты мелешь? Как это изжило? Что ты вбила себе в башку свою непутевую? Ты теперь кандидат наук, на доцента документы предложили подавать. Что ж это все, коту под хвост?!
— Нет, не коту под хвост, — орет, — в жизни ничего не бывает просто так! Значит, это было нужно!
— А теперь?! — кричу уж тоже благим матом.
— А теперь будет другое! — вопит еще громче.
— Да что? Что будет-то?
Это я шептала уже без голоса, сил кричать не было. А ноги — как ватные. И сердце вот-вот остановится. А она плачет, валидол мне под язык пихает и говорит:
— Не знаю.
Вот какие дела-то у нас тут…
Вот был бы ты живой. А хотя… И ты бы с ней ничего не сделал! Ты думаешь, когда она десять лет назад разводиться хотела, уговоры мои помогли? Не-е-т. Бросил ее тот-то, и она быстрее снова к Жене. Слава Богу, взял назад. Кто бы еще ее выкрутасы стал терпеть? Светочка тогда все понимала, шесть ей было. Наша-то ей объяснила все про любовь. Папа, мол, у нас очень хороший, но я полюбила другого мужчину, и мы будем с ним жить. А Света:
— А папа с кем будет жить?
— Пока один, — отвечает Ирина, — а потом кого-нибудь встретит, полюбит и женится.
А Светочка в слезы:
— Так у них же ребеночек родится, а я как же?
Во-о-т что я пережила. Идем тогда со Светочкой как-то, а она кричит:
— Смотри, бабуля, машина с каким номером поехала! Загадывай скорее желание!
Загадала я, конечно, чтоб Ирка к Жене вернулась. А Светочку спрашиваю:
— Ты что загадала?
А она:
— Нельзя, бабуль, говорить, а то не сбудется.
Не сказала. А потом, когда мать-то ей объявила, что, мол, к папе возвращаемся, она выскочила на кухню, повисла у меня на шее: «Бабулечка моя миленькая, я знала, я знала, что сбудется! Но не знала, что так быстро!» Быстро… Мне тогда те два месяца, когда это все закрутилось, годом показались. Вечностью. И проклинала я ее, и как только не называла, и жалела, глядючи, как она разрывается между двумя мужиками: и этого не бросить, и без того не жить. А уж что с ней было, когда поняла, что не выйдет ничего… Что не может тот семью-то оставить… Грех на мне, молилась я об этом день и ночь, рада была, что не сложилось у них. А что с ней было, рассказывать тебе не буду.
Своевольная она у нас росла, сам знаешь. Помнишь, ты всегда вроде как в шутку говорил: «Мы не позволим тебе делать так, как захочет твоя левая пятка!» А она только всегда так и делает. Пятка ли или еще чего, не знаю. Слов-то твоих простить не может. «Давили вы на меня всегда, — говорит, — и воспитывали. А ребенка нужно любить и баловать». Баловать. Ударение надо ставить на последнем слоге. Все кругом неправильно говорят: баловать, избалованный. И по радио, и по телевизору. Серость кругом да необразовщина. А вот еще — «убираться». И в передачах во всех, и в сериалах. Ни разу не слышала, чтоб кто-нибудь правильно сказал, без «ся». Я всегда ученикам говорила: убраться — это «выйти вон», запоминали, правильно говорили. А сейчас, наверное, никто и не учит. Всем наплевать, зарплату учителям не платят, они и работают так же. Да и сами-то говорят кое-как. Почти все в нашей школе: класс «с углубленным изучением…» Тьфу! «Мусоропровод», «свекла»… А «позвонишь»? Это ж просто бедствие какое-то!
Что это я расселась? Уж скоро все придут. Да вроде есть там на ужин-то: рис утром еще сварила, колбасы Иринка вчера купила. Ну и ладно…
Вот ты думаешь, удастся ее уговорить, чтобы она институт не бросала? Нет… На нее все мои доводы, как красная тряпка на быка, действуют. Сразу кошки в дубошки, орать начинает, чуть ли ногами не топает. Не понимаю я, мол, ничего. А она понимает. В дверь звонят. Света, наверное, из института пришла. От этой хоть пока никаких сюрпризов. Пойду открывать.
Что, ты думаешь, Ирка мне вчера заявила?
— У меня, — говорит, — патологическое отсутствие чувства долга. Я ничего из долга делать не могу и не буду!
— А долг перед детьми, перед семьей? Перед Родиной, если хочешь?
— А нет никакого долга, — говорит, — ни перед кем. И быть не должно. Есть любовь, привязанность, интерес — вот и все. И к детям, и к Родине, и к работе, и к мужу.
— Так, знаешь, до чего дойти можно? — Это я ей.
— До чего? — спрашивает и губы кривит насмешливо.
Это на нее «давили» и ее «воспитывали», а не любили и не баловали. Не «додавили», значит. Раз она такая независимая. Без тормозов. Без долга. Слава Богу, Светочка не в нее. В Женю больше. Он тоже, конечно, не подарок. Молчит и молчит. Ванна подтекает, раковина на кухне на честном слове держится, замок у входной двери барахлит. У тебя все в руках горело. Зато не пьет почти. И меня не обижает. От Иринки натерпишься больше. А он, когда выпьет, все расскажет. И с ним всегда можно поделиться. Он трезвый-то и не говорит особо, а хоть слушает. Ирка-то ничего не хочет слышать, начнешь ей про учеников ли (встретила кого или позвонил кто), про события ли в стране, а она только:
— Мама, ну неужели ты думаешь, что мне это интересно?
— А что же интересно-то?
— Все остальное, — говорит. И поскакала. Все на бегу, все на ходу: то в театр, то на концерт. Дома не удержишь. Женя-то не любитель всей этой канители, ему бы дома у телевизора полежать и чтоб никто не трогал. Он и отпускает ее одну. Что за жизнь? Мы с тобой везде вместе ходили. Может, нечасто, но всегда только вместе.
А ведь диссертацию он ей сделал. Думаешь, она бы без него защитилась? Там ведь не только ум — там сколько труда должно быть вложено. Она насочиняет… Сидела тоже, правда, много, из библиотек не вылезала и в Москву сколько ездила, в Ленинскую (или как там ее теперь называют)… Так вот. Насочиняет-насочиняет, все на разных листочках, все исчеркано.
— Жень, попечатай! — кричит с кухни. На ходу жует, в театр или еще куда собирается.
— Ты бы подиктовала. — Это он. Робко так, особо и не надеясь.
Она подлетит к нему: «Женечка, миленький, Женечка-солнышко, ты же сам прекрасно разберешься! Ну пожалуйста!» Почмокает его и побежит. Бабушка моя (царство ей небесное) сказала бы: «И-их, босомыка!» Ирка больно это слово любит, всегда вспоминает. Знает, что к ней уж очень подходит. Или вот еще бабушкино — «колотырка». Тоже про нее. И в кого она такая? Умом, разворотливостью — в тебя, а легкомыслие такое откуда взялось? Она всегда говорит: «Это звезды!» Вот и весь сказ. Начитались гороскопов, и черт им не брат. Мы тогда ничего про это не знали. Зато про долг знали и про обязанности знали. А эти… Так, пустота одна!
Телефон зазвонил. И звонок какой-то теперь не такой.
Это Клава. «Чего не звонишь?» — спрашивает. А чего звонить? Про Ирку, что ли, рассказывать? Как скажешь? Как объяснишь? Была преподаватель института, еще бы чуть-чуть — доцент. А теперь кто? Никто. И звать никак. А уж про то, что она задумала, и вовсе надо молчать. Смеется вроде. «Писательницей, — говорит, — стану». А сама ведь и вправду так думает. Вроде умной все считают. Считали. Господи… Книжки-то наших местных писателей и не покупает никто. Вон Сашка Агафонов — наш, из Озерков, помнишь? — писатель, известный. А книжки его уценяют и уценяют, хоть даром забирай. Я видела в магазине: написано было — «пять тысяч», потом зачеркнули, написали — «одна тысяча», а потом — «пятьсот рублей». Это теми еще деньгами, с тысячами. Я ей про это рассказываю. А она только хохочет:
— Я, мам, не такой писательницей буду!
— А какой же?
— Увидишь. — Чмокнула меня в щеку на ходу и, как всегда, куда-то помчалась.
Ох, и рассердиться на нее не получается. Ведь я сначала про все это и слышать не хотела. А теперь вроде и смирилась. А что сделаешь? Заявление так ведь она и подала. Вчера. Это среди года! Кто ж так делает? Ты доработай. «Не могу, — говорит, — хоть режьте!» Кто ж ее резать будет? И завкафедрой к ней хорошо относилась. И уговаривала ее как. А она всем в душу плюнула. Мне-то ничего не сказала, как все было. «Нормально», — говорит. А Жене рассказывала, я слышала. «Потоптали меня слегка», — вроде смехом сначала. А потом: «Правда, сказали, что это я их топчу». Правильно сказали. А как еще скажешь? Только свое «я» и понимает, а на всех наплевать. Одно заладила: «Не могу — и все. Могла бы — работала».
Вот так мы, Толя, и живем. Ой, ну ладно. На рынок пойду, потом обед надо успеть приготовить.
Знаешь, а я ведь вчера снова номер наш набрала. Случайно получилось. Уж к вечеру. Я и на рынок сходила, и приготовила все, и убрала. Дай-ка, думаю, Клаве позвоню. А набрала наш телефон. У Клавы-то на одну цифру отличается. Помнишь? А там отвечают. Мужской голос. Незнакомый.
Я говорю:
— Это квартира Сениных?
А мне в ответ:
— Нет, вы ошиблись.
Я:
— Это такой-то номер?
А он:
— Нет.
И называет наш, ну, в смысле, старый. Я так и обомлела. А он трубку не кладет. Я и сказала, что это наш номер был. А он: что ему вчера только подключили. И начал говорить, говорить. Один, наверное, живет. Все рассказал. Что на очереди давно стоял, уж и надежду потерял, теперь ведь все за деньги, плати — получай. И вдруг приходит ему открытка: ваша очередь подошла. И написано, платить сколько: миллион четыреста (это он старыми еще назвал). А так-то две тысячи шестьсот (это уж новыми) платят все, кто телефон без очереди хочет. Он заплатил. Подключили.
Ну вот… Говорил этот мужик, говорил — и вдруг спрашивает:
— А вас как зовут?
А мне чего выкаблучиваться?
— Татьяна Михайловна, — говорю.
А он:
— А меня Петр Григорьевич. Вот и познакомились. А вы мне еще позвоните?
И ведь, знаешь, правильно сказал: «позвоните». Хотела сказать: «Да еще чего не хватало!» Но зачем обижать человека? Сказала, что позвоню как-нибудь. По голосу и по манере видно — интеллигентный мужчина. Нашего, наверное, возраста.
Вот я всегда думаю: неправильно все, вместе умирать нужно. Лежали бы сейчас с тобой. А они тут — как хотят!
Поверишь, как в коммуналке живем. Весь день одна. Ну да это ладно — кручусь, не замечаю. А вечером — все по своим конурам. Из Светы слова не вытянешь. «Как в институте?» — спрашиваю. «Нормально», — отвечает. Поговорили. Ирина, когда дома, закроется в своей комнате, лишний раз поговорить не выйдет. А уж если появится — то обязательно с выговором: картошку не так почистила, кашу не ту сварила. Женя говорит, только когда выпьет. Генка заходит, когда что-нибудь нужно.
Вот и сижу тут одна в кресле. Телевизор надоел, все одно и то же. «Комсомолку» читать тоже уж невмоготу, сплетница — а не газета, а других они не выписывают. Книжки… Да уж начиталась в своей жизни. Быстрей бы апрель, там огород начнется. Нина с Сашей тоже ждут не дождутся. Да им и сейчас неплохо, вместе-то. Хорошо они встретились. Да… И так бывает. Нина хорошего мало видела со своим Колей. Нам-то обижаться на него не за что. Любил наших детей. Это они Нине — племянники родные, а ему — кто? А вот любил, всех троих. Пил — это да. Когда Нина его похоронила, хорошо зажила, спокойно. Но его только добром вспоминала. И никого не хотела, никого. Сколько ее пытались знакомить, а она все: да зачем мне тут какой-то мужик чужой? Слышать даже не хотела. А тут Саша… У него жена тоже умерла. Нина-то лет пять или шесть одна прожила, а он жену год как похоронил. И ведь как зажили! Душа в душу. Мы тогда и огород сразу взяли. Вместе. И сарай Саша построил на всех. Завидуют нам: дружно вы, сестры, живете. Так и не бывает, говорят. Только они-то, Нина с Сашей, вместе, а я — все равно одна. Везде — одна. И когда ты меня заберешь?
Сон видела недавно. Вроде едем в трамвае иль в троллейбусе. Вдвоем. Друг напротив друга сидим, разговариваем. И так мне хорошо. И так мне спокойно. Ехала бы и ехала. А трамвай этот (а может, троллейбус — не помню) остановился, двери открылись — ты мне и говоришь: «Иди». А я: «Да нет, с тобой поеду». Ты вышел, руку мне подал. А потом долго так посмотрел, ничего больше не сказал. Зашел снова в этот трамвай… ну и… уехал, в общем. Проснулась — плакала долго. И сейчас плачу. Плохо мне, Толя, без тебя. Так плохо, хоть волком вой. Некогда только выть-то, дел полно.
* * *
Как же с Ириной тяжело. Я так и знала. Уйдет из института — мне покоя совсем не останется. Так и есть. Ходит всеми днями хмурая, не разговаривает, только глазищами на каждое слово сверкает. А вчера вечером в своей комнате на Женю как закричит, как закричит. А потом плакала, да громко как, навзрыд (это уж она умеет, с детства, ты знаешь), и все причитала: «Мне так никогда… Понимаешь… Никогда… Вот у нее поющая точка в груди (какая точка? у кого?), а у меня так тоже… но я не могу поймать. Понимаешь?!» А Женя, слышу, ее успокаивает. Потом выбежал на кухню, корвалолу накапал. Я ему: «Что случилось-то?» А он: «Потом, мам, потом». А уж ночью, когда Иринка уснула, мы с ним на кухне посидели. Хорошо так поговорили. Мучается она. Натрепалась всем, что в писательницы уходит. А не получается, говорит, у нее так, как у Виктории Токаревой. Уж что она в этой Токаревой нашла, не знаю. Мне давала читать. Не понимаю я. Фразы какие-то рубленые, толком ничего не скажет, все намеки. Я классику люблю. А эти новомодные мне как-то…
Вот видишь, страдает, а мне — ни слова. Не пойму, думает. Конечно, куда мне! Только Жене все рассказывает. Что ж я, хуже Жени? Я все-таки тоже литфак окончила, а отработала в школе сколько — не чета ей. Ко мне ребята со всем своим шли. Всех понимала. Только своих не понимаю. Это они так считают. К Генке вообще не знаешь как подступиться. Что ни скажешь — все не так. Только по шерстке всех гладь. Сейчас хоть у них с Аней все нормально. Да и то уж, ребенку третий год. Пора найти общий язык. Первый-то год жили как кошка с собакой. Мы все боялись — разведутся. Через день Генка пьяный у нас появлялся. Придет, весь никакой (это Иринка так говорит). Поругались. Оставайся ночевать, скажешь. Останется. Среди ночи вскакивает — к ней бежит. На следующий день приходят. Счастливые, друг на друга не наглядятся. А я всю ночь глаз не сомкнула. Сейчас вроде лучше, а там — кто их знает. Молюсь каждый вечер и каждое утро, чтоб все нормально у всех.
Толик Генкин как же на тебя похож! Не хотели Анатолием называть: имя не нравилось. Но все-таки решили. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы в честь тебя. А он — копия ты. И умный такой же, и такой, знаешь, сообразительный. На все ответ найдет.
Ладно, буду ложиться. Уже второй час. Уже второй… Как у Маяковского. Как же я его любила! На первом же уроке по Маяковскому всегда читала сначала «Неоконченное», потом — «Флоты — и то стекаются к гавани…», потом — «Хорошее отношение к лошадям». И говорила: «Как вы думаете, чьи это стихи? Это Маяковский!» А сейчас его заплевали, особенно «Стихи о советском паспорте». Вроде как не поэзия, а заказ. Конечно, не понять, как он любил родину. Да! Именно советскую! И мы любили. А эти сейчас никакую не любят — ни советскую, которая их вырастила и образование им дала, ни теперешнюю, капиталистическую. Только и норовят все: кто в Германию, кто в Израиль. И глаза закатывают: «Ну что здесь делать?» Конечно, когда все развалили, делать нечего. Эх, Толя, думал ли ты, что такое будет? Да никто не думал. А вот…
Ладно, помолюсь сейчас… Где у меня листочек? Молитву вот у Али какую хорошую переписала, когда она приезжала, а наизусть никак не выучу. Вот что тогда учила в школе, в институте — все помню. А сейчас…
Помнишь, я тебе про Иринку-то рассказывала недавно? Вроде получше сейчас. Повеселела. Почему — не знаю. Наверное, научилась как Токарева писать. Я ей говорю:
— Если, Бог даст, издашь свою писанину, я читать ни за что не буду. У вас там теперь один секс.
А она:
— А куда ж без секса? Это жизнь!
Вот и поговори с ней. Стыда потом не оберешься от знакомых. Говорю:
— Ты бы хоть псевдоним какой взяла.
А она:
— Ну прям! У меня вон какая фамилия красивая!
— Это уж ты Жене спасибо скажи, что он, с такой своей фамилией, на тебе женился.
— Скажу, — говорит, — скажу!
Веселая. Ну дай Бог, дай Бог.
А ведь позвонила я этому… Петру Григорьевичу-то. Обрадовался. Час разговаривали, а может, и больше. Но он не только о себе, и меня расспросил про все. Мне как-то особенно грустно вчера было. Дай, думаю, позвоню. А он по голосу сразу понял:
— Татьяна Михайловна, у вас что-нибудь случилось?
— Да вроде и не случилось ничего, — говорю. — Все, чему случиться, уж, наверное, позади.
— Голос у вас очень печальный.
— А с чего ему быть радостным? Кругом одни проблемы. И в семье. И в стране.
— Да в стране-то безобразие сплошное. — И начал мне про политику. Умный мужик-то. Все по полочкам разложил. Молодец. Ему бы с Нининым Сашей поговорить.
Говорил он, говорил, а потом:
— Да что это мы о политике все? Расскажите лучше, Татьяна Михайловна, про себя.
Я и рассказала. Как мы с тобой дружили с девятого класса (тогда ведь так говорили — «дружили», а не «встречались»; сейчас, может, и еще как говорят — не знаю), как ты после школы поступил в военно-морское училище, а я — в учительский институт. Как письма твои ко мне не доходили: родственники твои старались. Не нравилось им, что у меня мать — уборщица, отца на войне убили, — бедность одна. Вы-то жили куда лучше. Отца на фронт не взяли, он ведь железнодорожником был, мать не работала. Тетка твоя письма мне писала: «Ты, учителишка, ему не пара, наш Толя — офицер…» Ой, у меня ж там кипит!
Ну вот, всю плиту залило. Дай-ка сразу притру. «Наш Толя — офицер…» А он еще курсантом был, когда мы поженились. На 23 февраля в отпуск поехал не к родителям, а сначала — ко мне. Я тогда работала по распределению в такой глуши, что и не расскажешь. От станции сорок километров пешком шел, ноги отморозил. Дошел. И говорит: завтра в сельсовет. 22 февраля расписались мы. День был солнечный, радостный. Воскресенье. Выборы были. А тогда это какой праздник-то для всех был. Из сельсовета пришли, хозяйка моя, тетя Ксюша, с иконой нас встретила — а тут и учителя набежали, кто картошку, кто огурцы, кто яблоки моченые принес. Пир горой получился. А родителям-то своим он ничего не сказал. Всю жизнь простить мне не могли. Но я-то тогда и не знала: он мне сказал, что написал им.
Ну а потом служба Толина началась. Жили в Риге, Ленинграде, Кронштадте, в Эстонии. По квартирам скитались с маленьким Сережей. Сколько унижений, сколько всего… Разве расскажешь? А вот рассказывала все этому Петру Григорьевичу.
Вспоминала, вспоминала, а потом и спохватилась:
— Вы уж извините, заболтала я вас совсем.
А он:
— Что вы, что вы! Мне очень интересно. Я ведь тоже военный. Ракетчик. Мы тоже с женой сколько по точкам скитались. Похоронил я ее четыре года назад. Рак. И сын у меня военный, майор уже. На Севере служит, семья у него, двое детишек. А дочь — на Украине, муж у нее оттуда. Один вот кукую. Зовут к себе: и сын, и дочь. Да к чему срываться с насиженного места? И жена у меня тут похоронена. — А потом меня спрашивает: — Татьяна Михайловна, а сколько вам лет? Если не секрет, конечно.
— Да какой уж секрет. Шестьдесят семь, — говорю.
— А мне шестьдесят восемь недавно стукнуло. Один отмечал. Друзья — кого уж нет, кто болеет. Дети телеграммы прислали. Теперь вот звонить будут. И я, смотришь, позвоню. Дорого хоть, а иногда можно, пенсия позволяет. Я ведь до полковника дослужился.
Вот так мы с ним и поговорили.
Ну вот, Толь, вернулась я к тебе. У меня там мясо варится на первое. А я, знаешь, как взялась вспоминать, так и не могла потом уж, после разговора с ним, остановиться. Дела бросила (все равно не переделаешь!), достала ящики с письмами твоими. И долго читала. Плакала, конечно, много. Хорошо, дома никого не было. Ирина со Светой позавчера уехали в Москву. В Москву — разгонять тоску. Все, говорят, денег нет. А вот подхватились да поехали. И Женя отпустил: пусть развеются. У Светы первые студенческие каникулы, хоть какие-то впечатления будут. Это он так говорит. На впечатления деньги грохнут, а потом — зубы на полку, штаны на крючок. Если б не пенсия моя, так и сидели бы голодные. С зарплаты накупят-накупят всего: и сосиски у них, и колбаса, и бананы, и апельсины. А через два дня, смотришь, все подмели — и хлеб не на что купить. Вот нет у них привычки покупать то, без чего не обойтись, — крупы там всякой, макарон, масла растительного. Может, на меня, конечно, надеются. Я-то это все припасаю. Да забочусь, чтоб обед нормальный всегда был: суп или щи, на второе чтоб тоже было что поесть. Без меня, наверное, так, всухомятку, и питались бы. Иринка, правда, готовит хорошо. Женя только ее борщ любит. У меня так не получается. Да она ведь только по настроению. Настроения нет — и обеда нет. А обеда нет, значит, все деньги (если они есть, конечно) — на колбасу да на пельмени готовые (а уж какие там пельмени эти покупные… я их даром есть не стану, а они уплетают за обе щеки). Если б мяса немножко купить, да приготовить все как надо — и деньги бы сэкономились. Ой, да ну их! Как хотят! Свою голову не приставишь.
Про что я тебе рассказывала-то? А, про Петра Григорьевича. Я еще ему, пожалуй, позвоню. А то и поговорить не с кем. С тобой-то только мысленно. Вслух начнешь, Иринка из комнаты своей кричит:
— Мам, ты с кем там?
— Да с собой, — говорю. — С вами-то разучишься скоро мысли свои формулировать.
А она:
— Мам, ну почему ты ни с кем не дружишь? Сходила бы к Клаве своей или к соседке.
Почему не дружу? Дружу с Клавой. Только когда нам с ней разлялякивать (это Нина так любит говорить — «разлялякивать»), на ней тоже семья, внуки. Раз в месяц, может, и видимся. К Нине с Сашей езжу иногда с ночевкой. Там поговоришь. А уж по соседкам ходить, сплетни дворовые собирать… Ни к чему мне это. У меня своего хватает. А делиться всем этим — не то что с соседками, а даже с Клавой или Ниной не получается.
Знаешь, с Петром Григорьевичем легко мне было вспоминать и рассказывать. Не знаю почему. Как в поезде. Человека видишь в первый и последний раз — а рассказать хочется про себя. И его послушать интересно. Откровенными получаются такие разговоры, без фальши, без выдумки. Казалось бы, сочиняй (проверить-то нельзя), — а нет, как на исповеди выкладываешься. Почему так?
Еще тебе хотела рассказать. У нас в доме беда какая. В третьем подъезде. Два гроба привезли: муж с женой разбились на машине. Молодые, чуть за тридцать обоим, двое детей. Сегодня хоронили. А я ведь эту девчонку (для меня она, конечно, девчонка) помню. Наш Генка с ее братом младшим бегал вместе во дворе. Я особо ее не знала, просто видела — вон Колькина сестра идет. А у нее уж свои дети. Остались теперь сиротами.
Сегодня хоронили. Я тоже вышла проводить в последний путь. Народу было… Разговоры в толпе: кто да что. Плакали многие, даже просто прохожие, когда слышали, что за горе. Что дети остались, что младшему три годика всего. А сами-то они какие красивые лежали, что он, что она. Лица им не изуродовало. Сама я не видела, далеко стояла. Говорили так. Знаешь, некоторые любопытные так и лезли поближе, всех расталкивали. Что за люди… Кому горе, а кому — поглазеть да посплетничать потом. Две рядом со мной все говорили про первого мужа Светы (так вроде сестру Колькину зовут. Теперь уж — звали). Обсуждали подробности: как к гробу подошел, как смотрел, как плакал. А одна… Еще чище. С собакой на поводке (и псина-то какая здоровая!) все лезла поближе. Вышла гулять с собакой — так и гуляй. Куда ж ты к гробу лезешь с ней? И ведь, знаешь, немолодая эта собачница-то, лет пятьдесят с лишним. Должна бы уж понятие иметь. Наревелась я там. Мне было видно мать Светы и брата ее. И мать с отцом — у другого гроба. И на них смотреть — сердце разрывалось, и свое вспоминалось. Пришла домой — вся никуда. Давление подскочило, наверное. Я мерить не стала, таблетки все равно не пью. Ох, никому не дай Бог детей своих хоронить…
А сколько таких случаев. Это вот сестра Колькина… А еще с ними дружил Алеша. И какой же хороший был парень… Наш-то задиристый (а после твоей смерти — вообще невыносимый стал, как школу окончил — и не знаю), а тот — спокойный, добрый. Генка все за него боялся, как он в армии будет. А в армии как раз все было нормально. Окончил Алеша торгово-кулинарный техникум, и служба у него была на кухне: почет и уважение. Служил недалеко, на побывку раз пять приезжал. Вернулся — дома нарадоваться не могли. Убили его. На улице. Куртку кожаную сняли — тогда еще и не у всех были, а ему брат-хоккеист откуда-то привез, красивую очень. А ведь случилось все в Генкин день рождения. Ребята все у нас собрались. И не очень уж долго сидели, разошлись часов в девять вечера. Алеша все хотел свой магнитофон из дома принести, а остальные: да ладно, обойдемся. Принес бы магнитофон, потом бы домой понес. И никуда бы не поехал… Генка простить себе не может. Ребята все пошли Алика проводить до остановки, а наш-то дома остался: девчонка у него была.
Ну вот. Стояли они, значит, на остановке у кинотеатра. А Алеша говорит: «Рано еще. Если сейчас первый троллейбус (в смысле — «номер первый») подойдет, поеду в бар, к другу». Он в баре этом раньше, до армии, работал. Тут и подошел троллейбус этот проклятый, ребята не удержали — уехал Алеша. А утром мать к нам: не у вас? Да, говорим, может, уехал к Алику и ночевать у него остался. Так и думали. Это мы думали. А мать-то уж все чувствовала. Генка на машине тогда в таможне работал, повез ее в больницу. Узнать было почти невозможно. Пять дней Алеша в реанимации пролежал. Организм молодой, боролся. А надежды не было. С самого начала не было. Умер Алеша. А жизнь оборвалась у всех его близких. У Кати, матери его, глаза как пеплом присыпало. Уж несколько лет прошло, а встречаться с ней — страшно. Боль, сплошная боль. Что скажешь? Что спросишь? Как здоровье? А зачем оно ей? И все — зачем? Мы-то все как своего оплакивали. А ей каково? Генка очень тяжело пережил. Вспомнить страшно, как все было. И Иринка наша тоже с ума сходила, в религию тогда ударилась, из церкви не вылезала. У нее тогда года не прошло, как дочь у подруги умерла — тоже трагедия, не передать. Да… Ирина заметку в газету написала. Она у меня хранится. Вот здесь лежит, в альбоме. Сейчас. Вот. Видишь: «Его звали Алеша». Я тебе прочитаю:
«Он умер, не приходя в сознание, на шестые сутки после случившегося. Только скажет ли кто, что случилось? Он — уже не скажет.
Перед глазами — теперь навсегда — добрая, милая улыбка. Трудно представить, что ее больше не будет. Не будет хорошего парня, хорошего друга, хорошего сына.
Его не избивали — убивали. Но молодой организм боролся за жизнь, и сердце еще стучало пять дней и пять ночей. Врачи сказали сразу: надежды нет. И его, еще живого, оплакивали все, кто знал о случившемся. Только скажет ли кто, что случилось? Как случилось? Свидетелей нет. Никто ничего не видел. Не видел? Или не захотел увидеть? Не захотел увидеть ни зверского нападения (предположительно в 12 часов ночи, с 10 на 11 октября), ни его, истекающего кровью около остановки «Забайкальская», где пролежал он до семи утра.
Сняли кожаную куртку, забрали часы. Лишали жизни — за это?!
Те, кто убивал, газет не читают. Им не крикнешь: «Что же вы сделали, подонки?!» Но те, кто что-то видел (ну ведь были же такие!), пусть вам будет больно от мысли, что подобное может случиться с вами или вашим сыном (время такое — жуткое). И кто-то, кто мог бы помочь (вызвать милицию, «скорую»), равнодушно пройдет мимо. Пусть не случится такого. Пусть не случится».
Вот как она написала. Я давно не перечитывала. Больно очень. Вот до какой жизни мы докатились… На улицу выйти страшно. Разве такое было когда? Вон тогда у нас в Озерках один девчонку изнасиловал и убил. Весь поселок гудел. А сейчас? Каждый день грабят и стреляют. А мы уж вроде и привыкли. Нормой стало. Даже передача теперь такая есть: «Криминальная хроника» называется. А ведь никого не находят: преступников, я имею в виду. Вон каких людей поубивали. Владислав Листьев. Еще один журналист — как его фамилия-то, забыла — а, Холодов. Вот теперь совсем недавно — Старовойтова. И никого не нашли. А уж из-за простых-то, наверное, никто не напрягается. Вот ведь как сказала: «не напрягается», все так говорят — и ко мне прилипло. Да как сейчас говорят — это ужас один! Иринка — вроде преподаватель, да? И ведь не что-нибудь, а риторику и культуру речи преподает (теперь уж «преподавала» — ох, лучше и не вспоминать). А туда же. «Мам, не грузи меня», — все время так говорит. Ну что это такое? А еще рассказывала мне что-то и брякнула: «Они еще и не трахались ни разу». Я чуть со стула не упала.
Говорю:
— Что ты болтаешь? Постыдилась бы матери!
А она:
— А как бы ты хотела, чтоб я сказала?
— Ну можно выразиться как-то поприличнее, — говорю. — Например: они еще не были в близких отношениях.
А она только хохочет. Какая же легкомысленная, ведь дочь у нее взрослая…
А я ведь раньше, когда еще работала, никак в толк не могла взять, что у слова этого такое значение появилось. Это уж меня как-то в учительской просветили. И главное, ведь по телевизору постоянно звучит. Да и не только звучит. Один разврат показывают. Иногда фильм не досмотришь — выключаешь, потому что смотреть стыдно. Я вот удивляюсь. Сидят, например, Ирина, Женя, Света — смотрят что-нибудь. А там — сплошные постельные сцены. И Света ведь не уходит, как будто на экране ничего особенного не происходит. Со стыда сгоришь: отец ведь рядом сидит. А им всем — хоть бы что! Не понимаю.
А еще знаешь, что бесит: когда говорят «заниматься любовью». Уж тогда лучше «трахаться» — пошлость она и есть пошлость. Пошлость и грязь. А уж слово «любовь» не трогали бы. Ну надо же придумать: «заниматься любовью»! Любовь — это чистота. А о какой чистоте можно говорить? О какой стыдливости? Да даже когда Иринка замуж выходила (а тогда ведь еще такого безобразия, как сейчас, не было), и то уж молодежь была бессовестная. Я про Иринку и говорю. Я тебе тогда ничего не сказала: стыдно было. Ну вот. Дня через три после свадьбы случайно заглянула в ее шкаф: все ночные сорочки на месте лежат.
— Ирин, — говорю, — а ты в какой же ночнушке спишь?
— А ни в какой, — отвечает. И не покраснела даже.
Я так и села.
— Да как же это? Как же тебе не стыдно? Мы с твоим отцом, — говорю, — столько лет прожили и ни разу друг друга полностью раздетыми не видели.
— Очень много потеряли. — Это она мне. Представляешь?
И потом еще:
— И как ты только, мам, троих детей умудрилась родить?
Вот ведь какая, еще и поиздевалась надо мной. Это она все-таки более-менее в строгости росла. А про других что говорить? За которыми родители не следили как надо? Теперь-то — вообще ужас. И курят, и пьют. И наркотики эти… Каждый день за Светочку молюсь, чтоб ни в какую дурную компанию не попала. Да она молодец. Учит и учит, ни по каким дискотекам не ходит.
Да что-то я все не про то. Я ведь про Алешу хотела досказать. Я вот что думаю. Генка перед Алешей не в том виноват, что не пошел провожать со всеми Алика. Он-то думает именно так. Говорит, если б я там был, Алешка бы не уехал, я бы не отпустил. Да только от судьбы никуда не уйдешь. В другом он виноват. Свадьба у него была в тот день, когда по Алеше полгода было. Дело в том, что когда они заявление с Аней подавали (ведь все — быстрее, быстрее, а то не успеют! И знакомы-то были — нет ничего, месяца два, наверное), сразу не сообразили, какой месяц, а потом — поздно было. Перенести? Раньше — нельзя, а откладывать — Аню свою обидеть боялся. Конечно, живым — живое. А все равно грех. Может, и все неприятности ему — за это. Не знаю. Но горюет очень. До сих пор. На кладбище ездит часто. Только вот к матери Алешиной заходить перестал. Не могу, говорит, и все.
Ох, Толя, что-то сегодня меня на такие тяжелые воспоминания потянуло. Это, конечно, из-за похорон. Чаще хорошее вспоминается. У нас с тобой много хорошего было. Все нам завидовали. Приедем, бывало, в Озерки свои и идем через все село, ты — в форме (тогда ведь и не знали — штатское носить, если военный), я — всегда в чем-нибудь модном, красивом (ты любил, чтоб на мне все самое-самое было). И Сережа наш — как с картинки. Помнишь, у него китайский костюмчик был, чистошерстяной, с якорями? А платья я себе всегда в ДЛТ покупала, когда в Ленинграде жили. В пятидесятые много чего было. Ткани какие! Разве сейчас такие купишь? Конечно, не все себе могли позволить, но уж офицерские жены, конечно, могли. Роскошествовать не роскошествовали (с чего? Все ведь самим наживать пришлось, с ложки начинали, да за квартиру сколько платили), но уж если платье — то это было платье. И подарки всем, на последнее, а покупали. И вот как-то умели мы тогда радоваться! Какие годы тяжелые пережили, а духом не падали, ждали — лучше будет. Сейчас хают фильмы пятидесятых годов. Наивные, говорят. Да ведь правда все! Такие мы и были. И радоваться умели, и работать, и любить. А сейчас… Ладно, не будем о грустном, как Иринка говорит.
Знаешь, Толь, сегодня на рынке с одной прямо поругалась. Колбасу покупаю, а женщина за мной стоит и говорит:
— И какие же цены! Что ж это с нами делают?
А другая подошла, наглая такая, напористая, лет сорока пяти:
— При коммунистах вам как будто лучше было!
Я и не выдержала.
— Конечно, лучше, — говорю. — Все работали, и зарплату все получали.
— Да зарплата нищенская была. А забыли, как в очередях давились? Как ничего купить было нельзя? — Это все эта, раскрашенная. Разошлась, горластая невозможно какая.
— Нельзя, да покупали. Голодными не сидели, — отвечаю ей.
Хотела еще сказать, да не дали. Все на нее, кто рядом был, набросились. Ее и след простыл.
А с рынка пришла, слышу, по радио какой-то картавый распинается, как ему было плохо без свободы: «Я дышать не мог!» Дышать он не мог. Дыши теперь. А другие пусть с голоду подыхают. Шахтеры, врачи да учителя, которым не платят. Нет, ну ты подумай, нас еще хотят убедить, что мы тогда плохо жили! Да что далеко за примерами ходить. Вон сваха. Простая крановщица, а весь Союз объехала, каждый год — в санаторий по профсоюзной путевке. Где только не была! И мы с тобой могли бы ездить, просто привыкли — домой, в свои Озерки. А помнишь, как по туристической на Кавказ ездили? По горам лазали? Ох и натерпелась я тогда страху. Но не жалею нисколько — есть что вспомнить.
А сейчас люди голодают. Ведь буквально голодают. Это в Москве у них там можно устроиться на работу, фирм всяких полно. А у нас — предприятия стоят, а торговать не каждый может. Да и все не могут быть продавцами, кто-то должен и покупать. А покупать не на что. Так что и продавцам сейчас несладко.
Я вчера вечером смотрела телевизор. Вся обплевалась. Михалков свой фильм представлял — «Сибирский цирюльник», презентацию устроил. Представляешь, ему, оказывается, правительство отвалило на съемки десять миллионов долларов. Долларов! А говорят, денег нет. Для учителей и шахтеров — нет. Голодные забастовки люди уже объявляют.
Вот до чего докатились со своей демократией. Свободы кому-то захотелось. Кто-то ее, свободу, с выгодой, конечно, использует. «Новые русские». А «старые» — подыхай с голоду. Хорошо придумали, ничего не скажешь. Зла прямо не хватает.
А сегодня ведь праздник. Двадцать третье февраля. Как торжественно всегда отмечали… В школу на уроки мужества приглашали курсантов, военных, ветеранов. Матвей Григорьевич наш, военрук (царство ему небесное), при полном параде являлся, со всеми орденами-медалями. А помнишь, ты ко мне в класс сколько раз приходил, рассказывал про флот. Ребята любили, слушали как. А сейчас никакого военно-патриотического воспитания, ничего. Катится все в пропасть. По телевизору — секс да драки. Какое воспитание? Раньше всей школой ходили в кинотеатр, смотрели «Они сражались за Родину», «Освобождение», «А зори здесь тихие…». Вот эти фильмы воспитывали. Да что там говорить… Программу посмотрела, а там никакого намека на День Советской Армии и Военно-Морского Флота (это раньше так называли, а теперь вроде — День защитника Отечества). Какое Отечество? Какие защитники? Все развалили. И страну. И армию.
Нет, ну ты подумай. Ни концерта никакого, ни фильма к такому дню. А представляешь — «торжественное заседание, посвященное 70-летию Алексия II, патриарха всея Руси». Как тебе это нравится?
Не так давно какой концерт закатили налоговой инспекции (ей, видишь ли, семь лет исполнилось), потом — опять все пели и плясали по какому-то поводу. А… сколько-то лет было управлению по борьбе с организованной преступностью. Преступность растет — а они поют и пляшут. А уж ко Дню Советской Армии концерта теперь не полагается. Вот так-то.
Да, я ведь Петру Григорьевичу позвонила сегодня. Поздравила. Он обрадовался. Говорит, скоро вас, Татьяна Михайловна, в гости позову. У меня, говорит, сейчас маленький ремонт, косметический. Вот закончу, порядок наведу — и позову. А я и пойду. Почему не пойти? Хоть наговориться с кем-нибудь.
Знаешь, что-то номер наш, ну, старый, больше не отвечает. Звоню уж какой день — никто не берет трубку. Случилось что? У него, у Петра Григорьевича, здесь ведь и нет никого. Может, в больницу попал. И не узнать ведь никак. Я же только номер знаю, а больше ничего: ни улицы, ни дома. А свой номер я ему дать не догадалась — сама все звонила.
Толь, прямо тоска у меня какая-то. Даже из рук все валится. Надо же помочь человеку, если случилось-то чего. Я сегодня Иринке все рассказала. Она говорит, придумаем что-нибудь.
Ирина вчера адрес узнала, и фамилию, и дату рождения. Все, оказывается, можно. Ну, это она такая — в тебя. И живет ведь он недалеко. Канаев Петр Григорьевич. Суворова, 15, квартира 63. Завтра с Ириной сходим. Одной мне все же неловко.
Были. С соседкой разговаривали. Говорит, плохо ему было с сердцем, «скорую» вызывали. Соседка дочери сообщила, на Украину. Та приехала, в два дня его собрала и увезла. Такая же, наверное, как Ирка наша. Деловая. Да и он хорош… Не позвонил даже…
БИБЛИОТЕКАРША
Рита занималась репетиторством. И делала это очень хорошо: профессионально, увлеченно и с полной отдачей. Так ей казалось. Уставала, правда, страшно. После каждого занятия она была как выжатый лимон: не было сил ни читать, ни думать, ни тем более общаться с кем-нибудь или готовиться к завтрашней лекции. Хотелось тихо полежать, восстанавливая отданную энергию, чего, разумеется, никогда сделать не получалось. И приходилось и читать (точнее, что-то срочно подчитывать), и думать, и общаться (кто-то звонил, кто-то заходил), и готовиться к завтрашней лекции. А еще: готовить, стирать, убирать, зашивать носки шестилетнему сыну Аркаше и тридцатишестилетнему мужу Саше.
Рите тоже было тридцать шесть. И была она человеком очень успешным. Заканчивая в свое время литфак пединститута, Рита знала, что в школу не пойдет, а будет работать здесь же, на кафедре методики преподавания русского языка. Не потому, что там мама, папа или еще кто-то (папы у Риты и не наблюдалось никогда, надо сказать), а просто — умная, активная, заметная. Кому, как не ей, должны были предложить остаться работать в институте? Не за горами была аспирантура, а там — и блестящая досрочная защита. Все у Риты получилось быстро и красиво. Замуж она, правда, вышла поздновато — в тридцать. Но ведь вышла же. И сына родила. «Все успела. Молодец!» — говорили про нее.
Она действительно все успевала. Кроме института (где она всегда была на высоте), кроме дома (чистота идеальная — с пола есть можно), у Риты еще было: репетиторство (муж-инженер получал крохи, и приходилось выкручиваться ей, Рите), бассейн (два раза в неделю — и никаких отговорок!), театр (не пропускала ни одной премьеры) и, наконец, книги. Она читала-перечитывала взаимоисключающих друг друга Достоевского и Чехова, любила Короленко и Бунина и еще много чего, куда не входили иностранная литература и любое современное чтиво, будь то любовные романы или детективы. То есть признавала только классику, причем русскую. Такая уж она, Рита, была.
То, что ее хватало на все, объяснялось подругой Леной Зориной очень просто: «Типичный Стрелец: ни убавить, ни прибавить». Зорина была помешана на астрологии и психологии одновременно. Кроме диплома учителя русского языка и литературы, она имела диплом практического психолога и выучилась бы еще и на астролога, но этому, кажется, не учили, во всяком случае, в их городе. Лена любила покопаться в характерах, поступках и чувствах знакомых, малознакомых и вовсе не знакомых ей людей, пытаясь все объяснить, классифицировать и подогнать под астрологические или психологические схемы. При этом она умела показать любому человеку его значительность и исключительность. Дейл Карнеги Ритиной подруге просто в подметки не годился со своим чужеземным прагматизмом. И если появившаяся в конце 80-х его книга для всех была откровением и руководством к действию, то Лене Зориной учиться у хитроумного американца было нечему: она все делала именно так, как он советовал, только гораздо лучше — потому что искренне (иначе она просто не умела).
От Лены Зориной Рита всегда уходила окрыленной: вот какая она, Ритка, молодец! Все умеет, все успевает, всего добивается! Правда, Рите не очень нравилось, что все Ленины объяснения ее, Ритиных, заслуг имеют явный крен в сторону звезд и сама она вроде как ни при чем. Но приходилось мириться. Больше-то никто тебе не скажет, какая ты есть необыкновенная. Поэтому Рита каждый раз терпеливо выслушивала, что Стрелец (знак огня) — это: неиссякаемые жизненные силы — раз, энергия — два, целеустремленность и здоровый авантюризм — три, честолюбие — четыре. А год рождения какой? Быка! А это вам тоже не фунт изюму, а трудолюбие и выносливость. Если сама Лена Зорина — Водолей и Свинья, то вот вам, пожалуйста, и все вытекающие отсюда последствия: нерешительность, низкая самооценка, неумение добиться чего-то стоящего в этой жизни.
«Ну про Водолея — понятно. Знак воздуха, значит, все неопределенно и эфемерно. Но Свинья-то тут при чем?» — думала Рита.
Правда, думала она об этом не очень сильно, потому что боялась пропустить в материализованном в слова потоке зоринских мыслей главное — про себя, любимую.
Слушать Зорину, несмотря на всю астрологическую чушь, которую она несла, Рите всегда было сладко. Расслабляешься и балдеешь, как под умелыми руками массажистки. Приятно, когда разминают все твои составляющие и не забывают при этом отмечать их неординарность и положительность одновременно.
Понятно, что для общения с Леной Зориной время у Риты находилось всегда. Находилось оно и у других знакомых Лены. Все тянулись к ней за объяснением своих поступков, хороших, не очень хороших, а иногда и откровенно плохих. Самим изобрести поэтичные оправдания «измен, соблазнов и грехов», как поет Жанна Бичевская, не удавалось — а у Лены Зориной это получалось здорово. Поэтому близких и неблизких подруг и друзей, прием которых велся в перерывах между домашними делами и параллельно им (Лена не работала в общепринятом смысле этого слова — она тихо и мужественно везла воз, с которого весело свешивали ноги муж и двое сыновей-подростков), было много. Слишком много. Лена это понимала, но сделать уже ничего не могла. Ее искренним интересом к людям беззастенчиво пользовались все: от соседа-алкоголика Сережи («…Не, Лен, ну ты понимаешь, я ж к ней по-человечески, а она — в душу харкать. Лен, ну скажи…») до одноклассниц младшего сына («Теть Лен, как нам мальчиков поздравить на 23 февраля?»).
Рита искренне жалела подругу, призывала ее отвадить всех от своего дома, советовала больше быть одной, не вживаться постоянно в чужие проблемы (своих хватает!), но сама же, первая, бежала к ней и с плохим, и с хорошим.
В тот день, когда началась эта история, Рита встала очень рано. Это была суббота, Саша с Аркашкой еще вчера вечером уехали на дачу к свекрови. Рита с ними не поехала не только потому, что не очень хотела, а главным образом потому, что у нее, как всегда, было великое множество дел. Главное: написать сочинение к завтрашнему занятию с мальчиком, который поступает в мединститут.
Рита часто своим ученикам диктовала или давала переписывать готовые, написанные ею самой сочинения. Обычно она делала ставку на авторов первой половины девятнадцатого века. Что-нибудь да будет на экзамене. Не Пушкин — так Лермонтов, не Грибоедов — так Гоголь. Схема была достаточно проста. Этих четырех нужно пропахать так, чтобы написать любую тему, как бы она ни была сформулирована. И Рита учила тому, чему в школе обычно не учат: конструировать тему из готовых смысловых блоков.
— Вот смотрите, — говорила она (Рита всегда обращалась к ученикам на вы), — в этих сочинениях (она давала отпечатанные листочки) очень много общего, иногда повторяются целые куски, но каждое точно соответствует обозначенной теме. Тема — это вопрос, на который нужно ответить. Ответить развернуто, грамотно, убедительно.
Как бы экзаменаторы ни изощрялись в формулировке темы (здесь Рита обычно делала вид заговорщика, великодушно приобщая ученика к профессиональной тайне), велосипед изобрести им не удастся. По «Горю от ума», например, это будет или что-то о самом Чацком, или о фамусовском обществе, или о конфликте между ними. Зная само произведение (это обязательно!), имея в голове набор цитат, помня общие идеи и смысловые блоки ее, Маргариты Александровны, сочинений, можно легко справиться с любой темой.
Над грамотностью работали отдельно. И если ученик был не совсем туп и не дисграфик, то за несколько месяцев вполне можно было натаскать его на твердую четверку.
Рита свято верила в эффективность своей системы, рассчитанной на невозможность отсутствия темы по литературе первой половины девятнадцатого века («хронологический принцип» — объясняла она). Верила до тех пор, пока одна из ее учениц не завалила сочинение в МГУ. Тема-то по первой половине прошлого века была, но звучала она так: «Мотив моря в лирике Жуковского, Пушкина и Лермонтова». Ну как вам это понравится? Кто ж такую тему напишет? Перепаханные вдоль и поперек (но без мотива моря) четыре автора остались невостребованными. Ученица писала что-то по Шолохову — и получила «пару». Это был хотя и весьма неприятный, но очень хороший урок.
А в прошлом году от знакомой учительницы, которая входила в приемную комиссию в мединституте, Рита узнала, что у них там хронологический принцип не соблюдается вовсе. Темы подбирает некто Беспалов, проректор, химик, кажется, по специальности. К процессу этому никого не допускает, все держит в своих в руках, дебильноватые формулировки тем берет из жутких сборников типа «250 золотых сочинений» и девятнадцатый век не делит на первую и вторую половину, как это везде принято.
Так что Маргарите Александровне пришлось свою систему подкорректировать. Она насочиняла множество опусов, посвященных современной литературе (тема войны, тема нравственности, тема природы и т. д. и т. п.), написала сочинения по Тургеневу, Толстому, Достоевскому — и чувствовала себя снова во всеоружии. Репетиторский сезон подходил к концу. Две Ритины ученицы благополучно написали на четверки сочинения в пединститут, который недавно, как и все вузы города, в одночасье превратился в университет.
А тут свалился на голову этот мальчик. По объявлению, которое она давала еще бог знает когда, позвонил мужчина и попросил дать несколько занятий сыну, который поступает в мединститут. Выяснив, что с русским и литературой дела у мальчика обстоят неважно, она засомневалась, сможет ли что-то сделать за пять дней, оставшихся до экзамена. Но деньги были нужны, и она согласилась.
«Конечно, придется здорово напрячься. Но ничего, прорвемся», — думала Рита, прикидывая, с чего начать и как выстроить занятия, чтобы они действительно что-то дали.
Она вспомнила, что в мединституте-университете часто бывает свободная тема. В прошлом году она звучала так: «Моя позиция в выборе профессии». Это, видимо, то же самое, что «Моя будущая профессия», ну еще и позицию приплели.
Рите не приходилось еще писать сочинение о том, почему она хочет стать врачом. А ведь придется!
«Господи, за что же зацепиться?» — лихорадочно соображала она. Кроме чеховского доктора Дымова, которого можно было бы представить как образец самопожертвования, ничего в голову не приходило. Но ведь должны же быть какие-то книжки про врачей! Да они и есть — Рита знает. Когда-то давно, классе в восьмом, она прочитала трилогию Юрия Германа про хирурга Устименко. Помнится, главный герой произвел на нее огромное впечатление. Она даже засобиралась тогда податься в хирурги (всегда была жуткой максималисткой — если уж врач, то только хирург!) и в девятом классе вместе с подружкой Шурой стала посещать занятия кружка «Юный медик» при мединституте. Они с Шурой не пропустили ни одного занятия: были и в анатомичке, и в морге, и на кафедре судебной экспертизы. После морга Рита не могла есть мясо целую неделю: перед глазами стояли буро-фиолетовые тела мужчин и женщин, наваленные грудами на каменных столах. Но страшная картина не остановила ее. Остановило другое.
Кружковцев повели на операцию. Это был обыкновенный аппендицит. Оперировали девушку лет двадцати. Близко юных медиков не пустили: оставили стоять за стеклянной дверью. Рита ничего толком и не увидела: только очень бледное лицо девушки и ее руку, которая сначала бессильно свисала с операционного стола, а потом, когда взметнулась вверх, была властно прижата медсестрой. А вот крики они все слышали хорошо. Крики эти продолжались долго: Рите показалось, что почти все время, пока шла операция. Хотя объективно это, наверное, было и не так. Впрочем, конца операции Рита не дождалась, она убежала в коридор и тихо, но долго там плакала. А потом, вытерев слезы, твердо решила, что в мединститут она не пойдет. Поступила в педагогический, на литфак.
Трилогии Германа дома нет, да и едва ли она помогла бы сейчас. Нужно что-то другое. Что? Например, что-нибудь про клятву Гиппократа. Где взять? Да в какой-нибудь энциклопедии! Лучше даже — в детской. Аркашка хоть и не ходит еще в школу, а читает хорошо — и книг ему Рита напокупала целый шкаф. Вот замечательная книжка: «Скажи мне «почему»?». Так, так, посмотрим. Ага! Кто был первым врачом? Действительно, есть про Гиппократа. Кстати, написано, что одним из первых врачей в Древней Греции был человек по имени Эскулап. Во дают! Это же бог врачевания, причем Эскулапом его называли древние римляне, а у греков, как известно, он был Асклепием. Бедные дети!
Рита подчеркнула ручкой (карандаша под рукой не оказалось) все, что можно использовать в сочинении. Но этого было мало. Вот, помнится, книжка хорошая есть, ее известный хирург написал — Амосов, кажется. Ну да, как же она могла забыть?! «Мысли и сердце» называется. Вот какая книга должна лечь в основу сочинения! Только придется ехать за ней в библиотеку. Не хочется, но ничего не поделаешь: Рита уже поняла, что без этой книжки она ничего не напишет.
В троллейбусе, слава Богу, не было толкучки. Можно было даже сесть, что Рита и сделала. Свободных мест больше не было, и она с беспокойством поглядывала на дверь — в надежде, что старушек не будет и вставать не придется.
Вошла женщина околопенсионного возраста, встала рядом с Ритой и выразительно на нее посмотрела. У женщины было лицо певца Александра Серова и, как оказалось, красивый низкий голос, играя которым она спросила:
— А вас, девушка, не научили в школе уступать место старшим?
Рита встала.
— Научили. Пожалуйста. — И даже улыбнулась, благодарная за «девушку».
Она заметила, что если в троллейбусе ее с утра называли женщиной, то настроение бывало на весь день испорчено. Назвавший или, чаще всего, назвавшая долго вспоминались Рите, в ней бурлили недовольство и возмущение по поводу их серости и необразованности. А может быть, это была обыкновенная обида и понимание того, что на девушку она уже действительно не тянет. В любом случае она чувствовала, как в ней идет процесс накопления отрицательной энергии. А Рита считала, что должна излучать только положительную. Она была уверена, что любит людей (это Лена Зорина ей внушила накрепко), и когда не любила по какой-то причине, то испытывала беспокойство, тревогу и недовольство собой.
Память часто подсовывала к месту и не к месту гамзатовские строчки: «Люди, люди, высокие звезды, долететь бы мне только до вас». Последнее время они, эти самые строчки, пожалуй, все чаще звучали иронично. И тогда Рите приходилось признавать, что с любовью к людям у нее как-то не все в порядке. Иногда ее, любви то есть, вовсе даже и нет. Потому как любить-то — не за что. Но строчки про высокие звезды не забывались. Красиво. Когда-то давно, в школьно-пионерском детстве, в годы благословенного для простых смертных застоя, она выписала их в блокнотик, где был и Горький со своим человеком, который звучит гордо, и Чехов — со своим, в котором все должно быть прекрасно.
А про Чехова, между прочим, недавно в «Комсомолке» такую гадость напечатали. Письма его о том, как «употреблял» он японских проституток. Со всеми подробностями. Рита была страшно возмущена. Делясь своим возмущением с Сашей, она кричала:
— Зачем, зачем нам это нужно знать?!
— Не хочешь, не читай, — флегматично отвечал муж Саша, валяясь на диване после работы и просматривая уже прочитанную Ритой «Комсомолку».
— Нет, ты не прав, ведь что-то они хотят сказать этой гадостью!
— Что он был такой же человек, как все.
— Они готовы опорочить, приземлить любого. Вот и до Чехова добрались! — кипятилась раскрасневшаяся Рита.
— Ну а если это правда? Они ж не придумали. Нечего ему было об этом писать, хоть и в письмах. — Саша тоже поддался пылу спора и даже приподнялся на локте, отложив газету в сторону.
— Но это мерзко, мерзко, мерзко! — вопила Рита.
— В Москву, в Москву, в Москву, — ответил Саша, не выдержав патетики жены, склонной, по его мнению, к излишней экзальтации.
— Дом книги, — сказала водитель троллейбуса трагическим голосом героини мексиканского телесериала и отвлекла тем самым Риту от ее грустных размышлений о равнодушии мужа, о милом ее сердцу Чехове и несправедливостях, творимых неблагодарными, циничными потомками. Следующая остановка была ее.
Она целых полгода не была в этой библиотеке: пользовалась в основном областной. Эта же, городская, была бедновата, но находилась она гораздо ближе, и иногда Рита заглядывала сюда. Чаще — в читальный зал, когда нужно было что-нибудь отыскать в периодике.
На абонементе сидела немолодая библиотекарша, с которой Рита никогда раньше не сталкивалась. Рита, протягивая читательский билет и паспорт, попросила перерегистрировать ее и сразу же спросила про книгу Амосова. Библиотекарша буркнула что-то непонятное, Рита не расслышала.
— Что вы сказали?
— Сдали ее недавно, на полке посмотрите.
— В художественной?
— А в какой же? — спросила-ответила библиотекарша.
Рита отправилась к полкам.
— Женщина!
Рита не оглянулась.
— Женщина, я к вам обращаюсь! — громче крикнула библиотекарша.
— Вы мне? — откровенно удивилась Рита. Вчера, когда она была в сберкассе и снимала по доверенности пенсию свекрови (та все лето проводила на даче), операционистка (так, кажется, называют в сберкассах тех, кто не деньги выдает, а все оформляет), обращаясь к ней, сказала: «Маргарита Александровна, вы не могли бы переписать расходный ордер? Сумма пишется с большой буквы». Рита тогда удивилась не меньше, чем сейчас. Откуда девушка в сберкассе знает ее имя-отчество? Хотя чему тут удивляться — документы-то у нее в руках! Поразил, видимо, сам факт вполне естественного в данной ситуации, если вдуматься, обращения по имени-отчеству.
«Дожили, — думала потом Рита, — норму воспринимаем как подарок судьбы, как майский праздник и именины сердца. Привыкли к рыночно-троллейбусному «женщина» и удивляемся, когда к нам обращаются по-человечески».
Но вот в библиотеке-то имя-отчество звучало бы более чем уместно: все-таки обитель культуры и просвещения.
— Женщина, — в третий раз это звучало уже просто невыносимо, — вы работаете?
Рита вспомнила, что в читательском билете у нее не указано место работы. Что ж, не грех и сказать. В ответ на жлобское обращение (слово «жлобский» в Ритином лексиконе до сегодняшнего момента не значилось, а тут вдруг зазвучало — и довольно отчетливо).
— Запишите, пожалуйста, — сказала она демонстративно четко, — доцент кафедры методики преподавания русского языка педагогического университета.
Представлялось, что библиотекарша просто умрет от почтения, но та и бровью не повела, сухо переспросила, записала и углубилась в свои дела.
Рита внимательно пересмотрела все книги на полке на букву «А». Амосова не было. Она вернулась к стойке.
— Вы знаете, нет там книги, — сказала она почему-то виновато.
— Посмотрите на столе у стены, в неразобранных, — сказала библиотекарша, продолжая что-то писать.
Рита поплелась к столу, заваленному книгами. По правде говоря, она уже очень устала, воспринимая свой в общем-то не слишком уж длинный и не слишком уж острый диалог как целую схватку с грубой и недоброжелательной библиотекаршей. Будет что обсудить с Леной Зориной.
— Сначала о внешности этой стервозы расскажу, — думала Рита. — Пожилая, несимпатичная…
— Поэтому и окрысилась на тебя, — скажет Лена.
— И без того тоненькие губы, естественно, поджаты.
— Представляю, — это Лена.
— Знаешь, Лен, не могу представить, чтобы она улыбалась или, тем более, хохотала.
— Такие не хохочут, — готовно подтвердит Зорина.
— А головка у нее…
— Змеиная, — вставит Лена.
— Гладенькая такая, челочка ровненькая. Волосы крашеные, черные. А в глазах — ни-че-го! — вот как бы Рита сказала.
Но тут же подумалось:
— Нет, не ничего. А злобность, плюс недоверие, плюс раздраженность, плюс недовольство, плюс нелюбовь ко всему человечеству. Вон сколько всего!
Так что фразу «в глазах — ничего» Рита, пожалуй, забирает обратно.
Представляя себе обсуждение с Леной Зориной противной библиотекарши, Рита перекладывала книги. Амосова не было.
— Здесь тоже нет! — крикнула она, выглянув из-за стеллажей.
Библиотекарша недовольно сверкнула глазами, вышла из-за стойки, направляясь к надоедливой читательнице. Рита уже за два метра чувствовала ее сверхотрицательную энергию и плохо скрываемую ненависть к себе-вертихвостке.
Библиотекарша ловко перекидывала книги на столе, а Рита стояла рядом, как двоечница, не зная, куда деть руки, стесняясь своей слишком короткой юбки и открытой майки.
— Вы хорошо здесь посмотрели? — грозно, как показалось Рите, спросила врагиня.
Рита, преодолев комплекс клиентки службы быта, неуклюжей и виноватой уже в том, что она о чем-то смеет просить, осмелела и с вызовом сказала (вызов она, впрочем, постаралась слегка притушить):
— Как могла.
— Да вот же она! — торжествующе объявила библиотекарша, твердо уверенная в том, что правда на ее стороне. — Вот она! — чуть не тыкала она в нос растворившейся снова в своей беспомощности Рите. — Как могла-а, — издевательски, передразнивая Риту, протянула библиотекарша. Затем ехидство сменилось категоричностью: — Значит, так она вам нужна!
Рита молчала, пока враг всей ее жизни (теперь она понимала это совершенно четко) записывала книгу, молча расписалась, молча перебрала зачем-то книги, лежавшие на стойке. Потом, подержав еще немного паузу (а библиотекарша уже явно занервничала — что это эта не уходит и молчит как-то странно?), Рита сказала громко, чтобы слышали другие: еще одна библиотекарша (та-то хорошая, наверное) за соседней стойкой и два-три читателя, бродившие среди стеллажей:
— Спасибо. А теперь будьте добры жалобную книгу.
— Нет у нас такой. — Врагиня напряглась. Не ожидала она такого поворота.
— Странно. Как же вы работаете?
— Так и работаем, — собравшись, готовая держать оборону, ответила библиотекарша.
— Тогда придется обратиться к вашей заведующей. Как ваша фамилия?
— Волчкова, — с вызовом произнесла библиотекарша, зная, что заведующей нет. В отпуске она.
— Спасибо, — кивнула Рита, улыбнулась непринужденно, собрав для этого все свои силы, и отправилась к выходу. Потом остановилась и, повернув только голову, произнесла (снова громко и снова четко): — По-моему, вы не имеете ни малейшего представления о том, как нужно работать с читателями. И то, что вам доверили абонемент, — явная ошибка вашего руководства.
— Здорово ты ее, — сказала Лена.
Это было уже не в мыслях, а наяву, когда Рита, возбужденная, зашла к подруге. Ей нужна была поддержка. Лена, как всегда, все приняла с искренним сочувствием, пониманием Ритиной правоты и восхищением ее, Ритиным, умением держаться в подобных ситуациях. Она бы точно растерялась, расстроилась и только потом, дома, придумывала бы уничтожающие фразы для обидчика, одна другой хлеще.
— Лен, ну ты ведь еще не знаешь, — продолжала Рита. — Ей там больше не работать! Вот увидишь!
— Ну уж, — засомневалась Лена.
— Говорю тебе. Я не просто схожу к заведующей, когда она вернется из отпуска, я потребую, чтобы эту Волчкову с абонемента убрали. С такой недовольной физиономией нельзя работать с читателями. Нельзя! И дело не только в физиономии. — Рита подумала, в чем же еще дело, и, придумав, уверенно продолжила: — Из нее просто прет отрицательная энергия. Понимаешь?
Сев на их общий с Леной Зориной конек — энергию, Рита была уверена, что теперь-то подруга ее поймет. Подруга, казалось, поняла: «Конечно. Таких нельзя к людям выпускать», — но тут же сказала:
— Но с чего ты взяла, что заведующая тебя прямо так и послушает? Может, у них больше некому на абонементе работать?
Лена всегда сомневалась в том, что можно что-то изменить в этой жизни, но Ритины способности были ей известны. И она добавила:
— А может — ну ее, эту бабу! Пусть живет. Ты и так ее здорово.
— Нет, не пусть. Не пусть. Не будет она там работать. Я сказала. Пусть в каталогах роется, а не читателям настроение портит.
Лена что-то погрустнела. «Жалеет эту стерву, — подумала Рита. — А меня, значит, не жалко. А читателей, значит, тоже?» Ну уж нет, теперь и Лене Зориной надо доказать, что она, Рита, слов на ветер не бросает. И как истинный Стрелец, борец за справедливость, пойдет до конца.
Когда Рита пришла в библиотеку, чтобы сдать книгу, заведующая из отпуска еще не вышла. А вот библиотекарша Волчкова была на месте. Риту она, видимо, забыла и злых маленьких глазок на нее не подняла. Может, в этот раз они, глазки то есть, были не такие маленькие и не такие злые, но Рита эту мысль отмела, понимая, что она может помешать ей в осуществлении… Чего? Мести? Нет, ни в коем случае! Суда. Справедливого суда.
Через две недели Рита позвонила в библиотеку, узнала, что заведующая вышла на работу, и поехала туда, никому ничего не сказав. Вот добьется того, что задумала, тогда можно будет и рассказать. В первую очередь Лене, конечно. Саше тоже, разумеется. Ну и вообще всем.
Зав. библиотекой Нина Константиновна Кольцова выглядела очень интеллигентно. Высокий умный лоб, дорогие очки в тонкой оправе, строгий светлый костюм. И необыкновенно приятный низкий голос.
— Я вас слушаю.
Рита испугалась, что она собьется в своем рассказе на эмоции, не сможет выглядеть такой же интеллигентной, какой ей показалась заведующая. Поэтому она выдержала паузу, подумала, что нужно быть очень немногословной, и только потом изложила суть дела. Спокойно. Не спеша. Но и не затягивая рассказа.
Нина Константиновна Кольцова внимательно выслушала и сказала:
— Благодарю вас, Маргарита Александровна, за ваш сигнал, за то, что вы болеете душой за общее дело. Я приму все меры к тому, чтобы подобное в нашей библиотеке никогда не повторилось. Еще раз спасибо.
Было понятно, что разговор окончен. И было странно, что ничего не надо доказывать. Рите даже стало обидно, что все ее заготовленные для убеждения заведующей веские аргументы остались невостребованными. И самого-то главного она не сказала. Не сказала, что Волчкова (в разговоре она называла ее Мариной Васильевной, узнав заранее имя-отчество) не должна работать на абонементе. Ведь это главная цель ее прихода сюда. Не просто пожаловаться. А добиться! Добиться, чтобы Волчкову к читателям близко не подпускали. И вот добиваться ничего не получилось — разговор окончен. Ну уж нет! Так она не уйдет.
— Нина Константиновна, простите. А… Вы сказали о мерах. Я могла бы узнать, какие это будут меры? — спросила Рита, постаравшись придать голосу учтивость и одновременно твердость.
— Ну, наверное, лишим премии, — неуверенно ответила заведующая.
— Я полагаю, что премий сейчас у вас и так не платят. Не правда ли?
Рита уже поняла, что победа будет за ней, и смотрела в глаза заведующей. Прямо. Строго. Требовательно. Та, смешавшись окончательно и сразу потеряв в Ритиных глазах значительность, которая казалась незыблемой еще несколько минут назад, неуверенно сказала:
— Может быть, перевести Марину Васильевну с абонемента на внутреннюю работу с каталогами… — Потом, все-таки собравшись, продолжила уже спокойно: — Маргарита Александровна, согласитесь, не могу же я уволить человека, которому осталось до пенсии два года.
— Конечно, конечно, — заторопилась Рита (все получилось как она хотела!). — Вполне достаточно перевести.
Она вышла на улицу не просто удовлетворенной — а совершенно счастливой.
Лена Зорина, выслушав Риту, сказала: «Кто бы сомневался». А Саша напряженно спросил: «И охота было тебе?»
Остаток лета тянулся ужасно долго. Рита ездила к свекрови на дачу. Привозила оттуда бесконечные сумки с огурцами-помидорами и консервировала-закручивала бесконечные банки. Накрутила бог знает сколько — а лето все не кончалось. Но учебный год никуда не делся и все-таки начался. Рита вошла в него в отличие от коллег с удовольствием и радостью. На кафедре ныли о том, как быстро пролетело лето, как не хочется работать. Маргарита Александровна поднывала всем, чтоб не выглядеть белой вороной. А сама думала: «Господи, наконец-то».
Дело в том, что на даче она не могла прожить более двух дней: несовместимость. Не с дачей. А со свекровью. В квартире же летом, когда заканчивалось натаскивание абитуриентов, она изнывала от безделья. Дела-то, конечно, были. Обычные, домашние. Но они как-то легче, как бы между прочим, делались, когда у Риты были и занятия в институте, и репетиторство. А посвящать им целые дни Рита не любила. Ей нравилось, когда в ежедневнике было записано: «Лекция — 8.10, семинар — 12.15, засед. каф. — 14.00, сост. календ. — тематич. план, библиотека — список литры для семинаров, «Детский мир» — ботинки Арк., позвонить В.П. насчет лекарства для мамы и т. д. и т. п.»
Осознание необходимости все успеть подстегивало, давало силы и энергию. А когда такой необходимости не было, у Риты опускались руки, слабели ноги — и она могла просидеть весь день на диване, тупо уставившись в телевизор и к вечеру люто ненавидя себя за инертность и лень.
Итак, Маргарита Александровна начала учебный год энергично, на подъеме — как всегда. Все было замечательно.
А в конце сентября Рита и Лена Зорина узнали, что безнадежно больна их однокурсница Света Жданова. Кроме мужа и двоих, еще маленьких, детей, у нее — никого. Нужна сиделка, нужны лекарства. Лена принялась обзванивать весь курс — сбросились кто сколько мог. Но деньги пошли уже на похороны.
Смерть Светы потрясла всех. Не могли себе простить, что так поздно… Что не смогли пригодиться ей живой. Тянуло на кладбище. Девять дней. Сорок. Ходили чаще втроем: Рита, Лена и еще одна подруга — Галка. Приносили цветы, жгли свечи, говорили, плакали.
Однажды (это было на Рождество) Рита, пробираясь с подругами по довольно глубокому снегу к Светиной могиле, прочитала на одном дорогом и красивом памятнике: «Волчкова Марина Васильевна». Это было имя той самой библиотекарши — у Риты была прекрасная память на имена. Да и на лица тоже. С фотографии, точнее, с высеченного на черном мраморе портрета смотрело лицо, которое Рита прекрасно помнила. Только злым оно здесь не было. Лицо как лицо. Вполне приятное. И даже — улыбающееся. Рита подумала, что это как-то неправильно: улыбаться на собственной могиле.
— Надо же, умерла. А ведь была еще совсем не старая, — сказала Рита вслух самой себе и перевела взгляд с портрета на даты рождения и смерти.
Библиотекарша умерла 26 июля.
«Что ж это выходит? — лихорадочно соображала Рита. — Неужели она умерла сразу после… Господи, как же это…»
— Рит, где ты там? — крикнула Лена.
— Иду, — отозвалась тихо Рита, а сама, положив руку на ограду, не могла сдвинуться с места.
— Вы знали маму? — раздался сзади приятный (Рита хоть и плохо соображала сейчас, но сразу отметила — «приятный») мужской голос.
Рита повернула голову и, смешавшись, невнятно ответила красивому молодому человеку, мнущему в руках шапку и смотрящему ей в глаза пытливо и грустно.
— Да. Вернее, нет… Не совсем.
Большие серо-голубые глаза продолжали спрашивать, и Рите пришлось говорить дальше:
— Я просто видела ее в библиотеке. Ваша мама ведь в библиотеке работала? Я шла мимо, смотрю — знакомое лицо… Вот и остановилась.
Продолжая держаться за ограду, Рита сделала шаг в сторону, открывая путь к калитке. Сын библиотекарши вошел в ограду и, не сметая снега, сел на маленькую лавочку, опустив голову.
— Знаете, — сказал он, подняв глаза на Риту, — вот скоро уже полгода… А как будто вчера… Она ведь и не болела никогда. Представляете? Никогда не болела. Только со мной на больничном, когда я маленький был, сидела. — Его голос задрожал, и он, явно боясь разрыдаться, замолчал.
«Сколько ему? — подумала Рита. — Лет двадцать семь — тридцать?» Объективно где-то так. Моложе, чем она. Это видно. Но и не мальчик далеко. Хотя больше всего он напоминал сейчас ее сына, который всегда, когда обижался, также супил брови и сжимал губы. Надо же, действительно ужасно похож на Аркашку. Такие же пшенично-пепельные густые волосы, хорошего рисунка брови. И глаза, полные слез, — Аркашкины. Захотелось прижать к себе, пожалеть, защитить. И сына. И этого… Рита поискала про себя слово — ну, наверное, большого ребенка.
Рита сделала движение вперед, но не пускала ограда. И правильно не пускала. Как она себе это представляет — жалеть чужого незнакомого мужчину? Но уже через несколько секунд она стояла рядом с ним и говорила:
— Вы знаете… Вы шапку наденьте. А то очень холодно.
Она сказала, наверное, не совсем то, что было нужно. И сделала, наверное, тоже не совсем то: обняла двумя руками незнакомую большую красивую голову и прижала к себе. Получилось — к груди, потому что сын библиотекарши был высокий, а она, Рита, — ниже среднего. Сын, уже не стесняясь, плакал. И Рита плакала вместе с ним. Делать этого было вовсе нельзя, потому что могла потечь тушь. Но остановиться не получалось. И все же Рита минут через пять отстранилась, достала носовой платок, вытерла сначала слезы этому большому мальчику, потом, не трогая глаз, промокнула щеки себе. Она вынула из рук молодого человека шапку, надела ему на голову и села рядом на заснеженную скамейку.
— Вы простите ради Бога, — глухо сказал он. — Простите. Глупо как-то все получилось.
Рита погладила его раскрытую ладонь и сказала:
— Ну что вы.
— У вас, наверное, руки замерзли, — ответил он, поднял варежки, которые Рита уронила, когда обнимала его голову, и положил ей на колени.
Рита понимала, что нужно идти. Но не знала, что скажет, уходя («до свидания», «счастливо», «всего доброго» — ничего не годилось), и поэтому продолжала сидеть. Продолжала сидеть до тех пор, пока из-за соседних памятников не появилась Лена Зорина. Она сделала издалека большие глаза и строго крикнула:
— Рита, мы тебя ждем!
— Так вас Рита зовут? — вышел наконец из хоть и очень естественного, но все же затянувшегося молчания сын библиотекарши. — А меня — Стас. Не уходите, а?
— Стас, я не могу, мне нужно идти.
— Да, да, я понимаю, — торопливо сказал он. — Конечно. Я понимаю.
Рита встала, отряхнула сзади снег с дубленки и вышла из калитки. Оглянулась — Стас смотрел на нее моляще. Она вернулась и села рядом. Лена Зорина досадливо махнула рукой и снова отправилась к Светиной могиле.
Рита поднялась, Стас взял ее за руку, не пуская. Она мягко высвободила свою руку. Он встал вслед за ней и, развернув Риту лицом к себе, сказал:
— Я вас подвезу.
— Я не одна. Мы с девочками, — по-детски залепетала Рита и сразу же осеклась, поймав себя на мысли: «Все девочки да девочки, вспомни, сколько лет-то вам, балда».
— С девочками и подвезу. Вас же не десять человек, кажется, — сказал Стас, улыбнувшись. Улыбка у него была мягкая, трогательно-доверчивая. Он был похож на Есенина.
— Нет, он напоминает мне Расторгуева, — сказала Лена Зорина, когда они, после того как Стас привез их с кладбища, сидели у нее втроем и обсуждали происшедшее.
Происшедшим считалось то, что Рита на кладбище (обалдеть можно!) подцепила такого мужика. Лена с Галкой все выпытывали:
— Как все получилось-то? Почему ты задержалась у той ограды?
Рита молчала как партизанка. Она знала, что никому не скажет про библиотекаршу. Никому. Даже Саше. Нет, не «даже Саше», а Саше — в первую очередь и не скажет. А Лене Зориной — во вторую.
— С чего ты взяла, что на Расторгуева? — удивлялась Галка Лене. — Ничего общего. Правильно Ритка говорит, на Есенина.
— Господи, вы ужасно ненаблюдательны, — сказала Лена. — Дело ведь не в цвете волос и глаз. Понимаете вы или нет? Дело в повадках, в манере держаться, нести себя.
— Ну какие уж такие особенные повадки ты у него успела заметить? Сидит мужик за рулем — да и все, — не уступала Галка.
— Вот именно — мужик. Понимаешь, настоящий мужик. Как Расторгуев.
Рита в споре не участвовала, сидела тихо, думала о своем. Хотя едва ли она могла бы сказать, о чем именно. Ей хотелось побыть одной. Или нет — только не одной!
— Ритка, ты чего? — чуть ли не хором вскрикнули Лена с Галкой, когда их подруга положила голову на стол и закрыла руками уши. Закрыла — а вот услышала вопль подруг.
— Да ничего, так, — сказала она, закрыв еще и глаза.
— Втюхалась. Поздравляю. Между прочим, негигиенично башку на стол класть, — сказала Галка, отставляя подальше от Ритиной шевелюры чашки и вазочку с конфетами.
— Пусть кладет, — сказала добрая Лена. — Лишь бы ей хорошо было.
— Рита, тебе хорошо? Или плохо? — поинтересовалась Галка, отрывая Ритину руку от одного уха.
— Мне нормально.
— Говорю, влюбилась, — продолжала тему Галка. — Еще бы, вон какой мужик. Большой, красивый. И на джипе. Я, между прочим, никогда на джипе раньше не ездила.
Оказалось, что и никто из них не ездил не только на джипе, но и ни на какой другой иномарке. У мужа Лены Зориной была двадцатилетняя «копейка», у Саши с Ритой — «Москвич», чуть-чуть помоложе, а у Галки не было ничего, в том числе и мужа.
Помолчали. Рита подняла голову со стола и откинулась на спинку дивана. Галка, внимательно посмотрев на нее, сказала:
— Ритка, у тебя сегодня брови какие-то не такие.
— А я их начала по-другому рисовать, чуть-чуть шире у основания. Видишь? — Рита повернулась лицом к свету, чтобы Галка смогла получше рассмотреть ее искусство.
Дело в том, что своих, то есть ненарисованных, бровей у Риты не было. Вообще. Нет, они бы могли быть, но их малейшая попытка пробиться пресекалась Ритой на корню. В результате каждое утро начиналось у нее с процесса рисования. Иногда этот процесс проходил удачно и довольно быстро. А иногда затягивался часа на полтора. При Ритиной занятости это было многовато. Она ровно на это время сократила свой сон, но от рисования не отказалась.
Кроме бровей, Риту не устраивало в ней самой многое: и отнюдь не длинные, как хотелось бы, ноги, и широковатые бедра, и узковатые плечи. Но ноги с плечами не поменяешь, а вот брови — пожалуйста.
Конечно, неудобств было много. Во-первых, они, брови то есть, не всегда получались одинаковыми; во-вторых, иногда в течение дня стирались (а в бассейне — смывались); в-третьих, привлекали ненужное внимание и вызывали вопрос и удивление окружающих женщин (мужчинам было, по Ритиным наблюдениям, как-то все равно). Но все это не могло заставить Риту вернуться к тому, что дала ей природа, так как то, что она рисовала, было, на ее взгляд, гораздо совершеннее.
В кругу Ритиных подруг ее брови были предметом постоянного незлого стеба. Слово «стеб» было привнесено в их общение Галкой. Рита как признанная филологиня долго его не принимала и всячески с ним боролась, но Галка, давно ушедшая в сферу СМИ с «желтым» уклоном, оказалась сильнее. И слово прижилось. А еще Галка любила говорить: «Ношусь, как белочка больная». Про белочку Рите нравилось, и она про себя тоже так иногда говорила — «как белочка больная».
Так вот — про брови.
— Девчонки, — говорила обычно Рита, — если я умру первой (правда, после смерти Светы Ждановой такие разговоры уже не велись), вы мне брови получше нарисуйте. Так же, как я это делаю. Видите? Чтоб не ярко. И повыше.
Галка обычно отвечала:
— Нет, Ритка, я нарисую тебе знаешь какие, как моя соседка Зойка рисует: черные-черные, каждая бровь — от переносицы до уха. Красиво! Будешь как Зухра. Или Гюльчатай. Или как Зойка, когда она трезвая.
— Не слушай ее. Все сделаем в лучшем виде, — успокаивала Лена Зорина.
Однажды Рита попала в больницу: «по-женски», как говорят в народе. Дела обстояли неважно. Грозила операция. Молодой рьяный хирург убеждал, что нужно резать — и побыстрее. При этом он уверял, что жить с отрезанным женским нутром ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше: предохраняться не надо, на прокладки тратиться — тоже, а половая жизнь будет идти своим чередом — ни муж, ни любовник ни о чем даже и не догадаются.
Любовника у Риты не было, и заводить она его не собиралась, особых проблем с предохранением тоже не было: Саша ее очень берег. И поэтому с внутренностями было расставаться жалко. Но главное было не это. Рита панически боялась вмешательства в свой организм и больше всего заботилась о том, проснется ли после общего наркоза. И по всему выходило, что не проснется: или не то введут, или с дозировкой напутают, или у Риты окажется непереносимость того, чем человека отключают для резания.
Всем этим она, грустя, поделилась с Леной Зориной и Галкой, пришедшими ее навестить и переполошившими всю палату. А переполох они устроили вовсе не специально — просто по-другому и быть не могло. Дело в том, что Галка была страшной хохотушкой, а Лена всегда сразу начинала со всеми, с кем ее сводит судьба хоть на минуту, знакомиться и выяснять, под каким знаком кто родился. И Лена с Галкой, забыв поначалу о Рите, начали веселить палату. Затем, все-таки вспомнив, зачем пришли, обратили жалостливые взоры на подругу:
— Ну ты как?
Она им и рассказала все, что передумала. И о том, как жалко Сашу. И о том, что Аркашке, наверное, не надо будет говорить правду, а надо будет что-то придумать. И о том, что у мамы больное сердце и она, конечно, не выдержит.
Но подруги, умеющие любую трагедию превратить в фарс, сказали:
— Ну вот что, Риточка. Ты это дело брось. А то мы тебя в гроб с такими бровями положим…
И Галка, вытащив из сумки листок бумаги и ручку, сразу же нарисовала — с какими именно.
Рита хохотала до слез — и умирать раздумала. А на следующий день ее посмотрел профессор и сказал, что с операцией можно повременить, а может, она и вообще не потребуется.
— Так, ну мы отвлеклись, — сказала Галка. — Давайте про Стаса. Мужик очень интересный, не гоблин какой-нибудь.
— Гоблин — это кто? — устало спросила Рита.
— Это тот, у кого одна извилина. Или полторы, — пояснила Лена, которая общалась с Галкой чаще и современным сленгом соответственно владела лучше.
Стали гадать, чем занимается этот самый Стас.
— Чем, чем? Бизнесмен он. — Это Лена сказала.
— Или бандит, — продолжила Галка.
— Не-е-т, на бандита не похож, — засомневалась Лена.
— А по-твоему, бандит должен быть одноглазый и с большим ножом в руке? — Это Галка.
— Нет, ну, понимаешь, бандиты обычно бритоголовые. С тупыми физиономиями. С бычьими шеями.
— Это стереотип. Настоящий бандит, крупный, не отморозок то есть, внешне интеллигентен и образован.
— Человека, который не в ладу с законом, — заговорила Лена по-книжному (это предвещало крупную перепалку), — прежде всего выдает невербалика. Прищуренный взгляд или взгляд сбоку, сжатые напряженные челюсти, суетливые движения…
— Да ну тебя с твоей невербаликой, — раздраженно отмахнулась Галка закуривая.
— Знаешь, Галка, я давно тебе хочу сказать, — заговорила напряженно Лена, — тебе бы не мешало иногда что-нибудь почитать, кроме своей газеты. Не лучшей, между прочим.
— Ты мою газету не трожь! — взорвалась Галка. — Она, между прочим, моментально раскупается.
— Конечно, потому что у вас там любой «непроходняк», как ты выражаешься, проходит. И анекдоты похабные. И скажи вашим корректорам (если они у вас есть, конечно!), что «на фиг» и «ни фига» пишутся не слитно, а раздельно! — почти кричала обычно спокойная Лена. — Рит, скажи ей!
«Господи, о чем они?» — подумала Рита и решила, что надо идти домой. Дел полно.
Темно-синий джип стоял у Лениного подъезда. Стас был рядом, курил.
— Долго вы чаевничали, девочки, — сказал он, обращаясь почему-то больше к Галке.
— А что же вы с нами не пошли? Мы же вас приглашали. А вы все — дела, дела, — закокетничала голосом и глазами эффектная Галка, совершенно уверенная, что Стас из-за нее здесь торчит три часа.
— Дела сделал и вернулся. На удачу. Вдруг, думаю, и вы расходиться в это время будете — подвезу. Вот совпали. Я, между прочим, только что подъехал.
Было непонятно, как все было на самом деле: действительно Стас только подъехал или ждал все это время? Но сам факт пребывания его здесь и сейчас был Рите приятен, и она совершенно точно знала, что это связано с ней, а не с красавицей Галкой. А та, уверенно открывая заднюю дверцу джипа и показывая всем видом, что ездить на таких машинах для нее это так же естественно, как дышать воздухом, как бы между прочим сказала:
— Сначала Риту забросим. Это здесь, рядышком. — А потом, уже усевшись поудобнее, продолжила: — А со мной, Стас, сложнее. Я живу в Песочне.
— Назвался груздем… — откликнулся Стас, включая зажигание. И, повернувшись, спросил у Риты: — Рита, у вас ведь есть время? Отвезем Галю в Песочню?
Рита молча кивнула.
— В тихом омуте… — прошептала насмешливо Галка Рите на ухо, стараясь скрыть свою досаду. Всю дорогу она болтала, чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что ей хреново. Ну почему так все несправедливо в жизни? Чем она хуже Ритки? Этой коротконожки с нарисованными бровями? Да в тысячу раз лучше! А главное, Ритке-то этот мужик ни к чему совсем. Она своему Саше сроду не изменит. Не потому, что любит до смерти. Она, может, и знать-то не знает, что это такое. Хоть и замужем, хоть и ребенка родила. Просто правильная слишком. Да и что она вообще может в мужиках понимать? Если, кроме мужа, у нее никогда никого не было? И ведь туда же! Не отказалась ехать в Песочню. Зачем ей это, спрашивается? Вышла бы у своего дома, если ты такая правильная. Нет, овечкой прикинулась и едет. Молчит. Цену набивает. Неужели рассчитывает все-таки заарканить мужика? Тогда чего же стоит ее вечное: «Девочки, мне, кроме Саши, никто не нужен»? Значит, нужен. Только зачем? Что ты с ним делать-то будешь?! Все равно ведь не решишься ни изменить, ни тем более Сашу своего ненаглядного бросить. Собака на сене.
Галка злилась про себя, а не про себя — продолжала рассказывать о своем пуделе Марике, который теперь ее ждет не дождется.
— А знаете, как гостей любит! Он будет просто счастлив, если вы сейчас ко мне зайдете. Зайдем? Попьем кофейку.
Галка все-таки не собиралась сдаваться без боя. Пусть Стас посмотрит ее хоть однокомнатную и нешикарную, но зато уютную и стильную квартирку, пусть оценит ее вкус, пусть подружится с Мариком. И прикинет, что лучше: свободная красивая Галка (с которой нигде не стыдно показаться) с квартирой или серая мышка Рита, замужем и с дитем.
С Мариком Стас действительно подружился. Правда, гладя его и разговаривая с ним, он почему-то все время смотрел на Риту. А Рита, по наблюдениям Галки, продолжала изображать саму невинность. Отводила глаза, сидела на самом краешке дивана и все теребила край своего длинного свитера. Галка никак не могла понять, с чего это она стала такой тихоней. По части мужиков Ритка, конечно, никогда сильна не была. Но выставляться всю жизнь любила. Обычно рот не закрывает: «А вот мои студентки…» Или: «А помните, у Довлатова…» А то еще с театром начнет доставать: «Галка, ну как ты могла не посмотреть этот спектакль?»
— Знаешь, Стас, собака у меня — класс!
Галка весело тряхнула головой, отбрасывая все неконструктивные мысли. Действовать надо! Заинтересовывать!
— Представляешь, я по выходным хрючу до двенадцати, и он — ни-ни, не разбудит. Потому что сам хрючит до часу.
«Хрючит» — значит «спит», — догадалась Рита и погладила Марика по серебристой плюшевой морде, которую он, вывернувшись из рук Стаса и подойдя к Рите, положил к ней на колени. Устроив ее, то есть морду, еще удобнее, он блаженно закрыл глаза, и Рите почему-то стало его очень жалко. «Недохрючил», — подумала она и чуть не заплакала от умиления и жалости.
Хотя общий разговор особо не клеился, просидели долго. Рите пришлось позвонить домой, чтобы Саша не волновался: она у Галки, так получилось, скоро приедет.
— Тебя встречать? — спросил Саша (он всегда поджидал Риту на остановке, если она поздно откуда-то возвращалась).
— Да нет, не нужно. Меня подвезут. — Рита попыталась сказать это непринужденно, как нечто само собой разумеющееся.
Но, кажется, не получилось, потому что Саша в ответ не поинтересовался естественно и просто — кто? — а напряженно, с паузой, сказал:
— Ладно. Как знаешь.
Когда Стас вез Риту домой, на нее напала болтливость, в общем-то обычная для нее. Она рассказывала про мужа, про работу, про сына. Про кошку Симу, которая всегда съедает из тарелки у Аркашки, если он зазевается, тертую морковь с сахаром и сметаной, обожает поп-корн с сыром «чеддер» и передачу «В мире животных».
Стас хорошо реагировал на все рассказы, поддакивал, переспрашивал, смеялся. Рите было хорошо. Хотелось ехать долго-долго. А приехали быстро, хотя Песочня — на другом конце города.
— Спасибо, Стас. До свидания, — сказала Рита, стараясь скрыть грустные нотки, которые, несмотря на все ее усилия, все-таки прорвались.
Она начала нажимать на все рычаги и кнопки на дверце джипа, чтобы выйти. Но у нее ничего не получилось.
Стас вышел из машины, открыл дверь, подал Рите руку.
— Рита, вам не кажется, что мы должны еще встретиться?
— Я не знаю, — честно призналась она. — Не знаю.
— А я знаю. Вы завтра во сколько заканчиваете работу? Я вас встречу.
— Сейчас… У меня завтра три пары. Значит, в час пятнадцать… Мне там еще кое-что нужно решить… Но это недолго…
— В половине второго я подъеду. К пединституту, да? Это на Свободе?
— Ой, нет. Я работаю в другом корпусе, на Астраханской. Это бывшая Ленина. Знаете, там здание такое красивое? Раньше это был Дом политпросвещения.
— Знаю. Только не думал, что там теперь пединститут.
— Педуниверситет, — сказала Рита, нажимая на ударение и наклоняя голову к плечу.
— Ну да! Как же я мог? — сокрушенно прижал руки к груди Стас, дурачась. — Как я мог?!
Медленно поднимаясь на пятый этаж, Рита так же медленно соображала, что ей сказать Саше. Пожалуй, про знакомство можно рассказать. Что тут такого? И тут же спохватилась: как же что такого? Тогда ведь и про библиотекаршу надо сказать.
Рита остановилась. Господи, в течение всего вечера она ни разу не вспомнила, как и почему она познакомилась сегодня со Стасом.
Как же это все увязать? Как? Неужели она со своим правдоискательством виновата в смерти его матери? Но она же не хотела… Кто бы мог подумать, что так случится?
Рита села на ступеньку. В своей светлой дубленке — на наверняка грязную и заплеванную ступеньку. И заплакала. Снова. Как на кладбище, когда прижимала к себе Стаса, беззащитного и трогательного, нуждающегося в защите. Ее, Ритиной, защите. Как же теперь быть? Он стал таким родным. Еще до того, как она притиснула его голову к своей груди. Еще до этого. Тогда когда? Когда услышала голос? Или чуть позже, когда увидела его глаза? Но зачем все это? Ведь есть Саша. Что ему сказать сейчас? А завтра? Зачем, зачем она согласилась, чтобы Стас встретил ее завтра у института? Да и вообще не нужно никаких встреч! К чему это приведет? И что она знает об этом Стасе? Да ничего! Про себя как последняя идиотка все выложила. А он слушал-слушал, поддакивал да расспрашивал, а о себе — молчок. Женат — не женат, есть ли дети, чем занимается? Ничегошеньки ведь не сказал. Хотя, помнится, Рита пыталась что-то спросить. Но он так ловко уходил в сторону — и она снова рассказывала о себе. Дура набитая! Связалась неизвестно с кем… Может, завтра как-нибудь избежать этой встречи? Но он знает ее дом, подъезд. Знает, где работает. Найдет, если захочет. С другой стороны, зачем она ему? Просто поддался настроению. Не увидятся они завтра — все на нет и сойдет. Хорошо, хоть телефон не дала.
— Ну ладно. Может, обойдется все, — сказала себе Рита, решительно встала и побежала вверх по лестнице. Домой! К Саше, который ждет. К Аркашке, который теперь уже, конечно, спит. И к кошке Симе, которая сейчас лениво выйдет из комнаты в коридор, внимательно посмотрит Рите в глаза и уткнется теплой мордахой в ноги.
Рита не стала звонить, чтобы не будить Аркашку, а тихонько поскреблась в дверь. Как Сима. Та обычно так является от котов по утрам, когда живет на даче, куда ее забирает на все лето свекровь. Приплетется под утро и, не имея сил громко мяукнуть, царапнет тихонько в дверь.
— Ну что же ты так долго? Аркашка без тебя никак не ложился, — не слишком сердито спросил-сказал Саша, целуя Риту и снимая с нее дубленку. — О, где ты вывозилась так?
— Не знаю. А что, очень грязная?
— Ну не очень. Сейчас почистим, конечно. Только непонятно, на чем тебя везли? На самосвале, что ли?
— Нет, на джипе. Очень чистом, между прочим. Это я где-то раньше прислонилась. На кладбище, наверное. Мы там сидели у Светы на лавочке.
— А джип откуда взялся?
— Да это Галкин ухажер новый, — легко соврала Рита. — Ничего мужик. Вот развез нас всех.
— Всех — это кого? Лена Зорина разве была у Галки?
— Ну не была твоя Лена. Она не смогла поехать.
— А ты смогла.
— Да, смогла. В конце концов, я могу иногда немного расслабиться?! — Рита завелась. — Почему я должна как белка в колесе вертеться с утра до вечера? Могу я себе позволить отдохнуть немного? От работы? От дома? И при этом обойтись без выговоров?
— Не кричи. Аркашка только недавно заснул, — обиделся Саша и ушел в комнату.
Смыв с лица брови, глаза и губы, Рита долго рассматривала себя в зеркало. Не такая уж она и незаметная. Ну бровей нет. Ну ресницы светлые. Глаза могли бы быть поглазастее. Зато овал лица неплохой, нос — почти греческий, зубы — очень даже ничего. А главное, волосы — пышная густая темно-каштановая шевелюра с легким рыжеватым отливом.
Когда Рита приходит в парикмахерскую, чтобы слегка подровнять волосы (они у нее всегда одной длины — до плеч), парикмахерши, забывая о заработке, сначала пугаются — ой, я думала, вы коротко хотите, — а потом начинают хвалить и расспрашивать: чем она моет голову и чем красится? Рита всегда щедро делится своим секретом: моет детским мылом, а ополаскивает всегда отваром корня лопуха, листьев крапивы и мяты, все по столовой ложке — на литр воды. Лучше заваривать в термосе — и чтобы настоялось. При этом Рита, конечно, не говорит, что с отваром всегда возится Саша: самой-то ей некогда. И корни с листьями он на даче заготавливает, она и в голову все это не берет.
А что касается крашения, то нет — никогда не красилась.
— Конечно, конечно, — кивали ей в ответ, — такой цвет своеобразный. Разве можно закрашивать? Вот если уж седые волосы появятся, тогда…
Но седых волос, слава Богу, пока не было.
Когда Рита потихоньку забиралась под одеяло, чтобы не разбудить Сашу, — он, не спящий, спросил:
— Ритка, ты меня любишь?
Риту захлестнула волна вины, нежности, обожания, и она, задыхаясь от всего этого, прошептала чистую правду:
— Ну конечно. Ты мой любимый, единственный, ты самый хороший.
Саша долго целовал ее безбровое лицо, глаза, шею. Целовал осторожно, без натиска и неистовства; Рита же, напротив, отозвалась шквалом страсти. Удивив и Сашу, и саму себя, она впервые играла первую скрипку в симфонии любви, которую сочиняла сейчас на ходу, нарушая все каноны, творя новую музыку и упиваясь ею.
Саша, опустошенный, ошеломленный, никак не мог уснуть и все повторял:
— Что с тобой случилось?
— Не знаю. Просто я люблю тебя, — несколько раз отвечала сквозь сон Рита.
На следующий день она все сделала для того, чтобы выйти из института как можно позже назначенного времени. Получилось — в три с хвостиком. Темно-синий джип стоял почти у самого входа.
— Ну слава Богу. А то уж я хотел уезжать, — сказал вместо приветствия Стас, выскочив из машины сразу же, как только Рита появилась.
— Здравствуйте, Стас. Мне очень неловко, что так получилось. Я никак не могла раньше. Правда.
— Я понимаю. Ничего страшного. Главное, дождался. Давайте где-нибудь пообедаем. Я ужасно хочу есть. И вы, конечно, тоже.
— Я даже не знаю, — засомневалась Рита. — Мне домой вообще-то нужно.
— Ну мы быстренько, Рит. Через час будете дома. Честное слово.
Рита села в машину. Усмехнулась, вспомнив Галкину любимую присказку, слегка пошловатую — «легче дать, чем объяснять, почему не хочу» (или «не могу» — но это не суть важно). Стас заметил Ритино хмыканье, но ничего не спросил.
Минут через пять они были в ресторане «Ямская застава». Раньше на этом месте была задрипанная блинная, а теперь вот образовалось такое презентабельное заведение, к которому простому смертному и подойти-то страшно.
Рита не помнила, когда она в последний раз была в ресторане. Сто лет назад, до перестройки, когда отмечали всем курсом выпуск. Это было в ресторане «Москва» (тогда он самым хорошим считался). И все, наверное. Хотя нет. С Сашей еще были как-то. В той же «Москве». После свадьбы, когда еще не кончились подарочные деньги. Ну да, правильно. Они тогда еще Лену Зорину пригласили с мужем: Ритин день рождения отмечали. А больше точно не приходилось.
Рита всего этого Стасу, конечно, не сказала. Напротив, она делала независимый вид, стараясь держаться естественно и непринужденно. И надо сказать, у нее это получалось неплохо.
Стас вел себя безупречно, досконально соблюдая все правила этикета, в которых книжная Рита теоретически была очень сильна. Он пропустил ее вперед себя, когда они шли с метрдотелем через зал, выдвинул стул и придвинул его, когда она садилась, сел напротив и протянул ей меню.
Рита долго водила глазами по строчкам, останавливаясь прежде всего на ценах. Цены были потрясающие. Но Рита взяла себя в руки и спокойно, со знанием дела, сказала Стасу:
— Салат «по-аргентински» (она, конечно, не имела ни малейшего представления, что это за салат, но назвала его с таким видом, будто это ее любимое блюдо), суп «особый» с креветками и земляничное мороженое.
— И все? — удивился Стас. — А что-нибудь поплотней?
— Нет, спасибо. Я больше ничего не хочу.
— А выпить?
— Нет, нет, — замотала сначала головой Рита, но тут же сказала: — А впрочем… Что вы посоветуете? Здесь так много всего написано. А я, признаться, не знаток.
— Да и я не то чтобы очень… Но сейчас придумаем что-нибудь.
Стас подозвал официанта, сделал заказ, а потом начал советоваться с ним насчет вина. Остановились на каком-то белом, кажется, французском и, как поняла Рита, дорогом («Вам понравится», — обращаясь к ней, все время повторял официант).
— И принесите нам какой-нибудь сок. Рита, какой?
— Апельсиновый, — готовно ответила она.
— Апельсиновый, пожалуйста.
Они пили сок и обсуждали интерьер ресторана. Стас сказал, что он здесь еще не был. И что здесь, пожалуй, неплохо. Рита сдержанно кивала: да, да, очень мило. А хотелось восклицать: «Боже, как же здорово, как красиво! Я никогда не видела ничего подобного!» Стас, говоря о помещении, рассматривал не его, а Риту. Она хоть никогда особенно и не комплексовала из-за своей внешности (не до этого — слишком много других занятий!), сейчас не знала, куда деть глаза. И наконец прямо сказала:
— Стас, я вас умоляю, не смотрите на меня.
— Почему? — откровенно удивился он.
— Потому что я сейчас как никогда ощущаю, как много у меня всяких разных дефектов. Комплексую. Понимаете? — чистосердечно призналась Рита.
— Не знаю, про какие дефекты вы говорите. Мне все очень нравится. Поэтому и смотрю.
Рита решила идти ва-банк и сказала:
— Дефектов, прямо скажем, много. Веснушки. Брови нарисованные. И сейчас я думаю только о том, как они у меня сегодня получились: одинаковыми или нет.
— Брови замечательные. Нарисованы мастерски, просто произведение искусства.
— Издеваетесь?
— Нисколько. Мне правда нравится. Хотя странно, конечно. Я так ни у кого раньше не видел. Ничего, что я так нахально обсуждаю довольно интимные вещи?
Рита вздохнула:
— Ничего. Сама ведь завела разговор. Рассказываю: то, что дадено мне матушкой-природой, не устраивает меня вовсе. Поэтому, как средневековая женщина, удаляю все (помните Джоконду? Она ведь без бровей) и рисую то, что мне нравится. Все очень просто.
— А не рисовать и быть как Джоконда — слабо? — подначил Стас.
— Слабо. Без бровей смахиваю не на нее, а на инопланетянку.
— Так это гораздо интереснее. Никогда не понимал, почему Джоконду красавицей считают. По-моему, она очень, мягко говоря, несимпатичная.
— У каждого времени свой идеал красоты. Я, увы, ни под какой не подхожу, — грустно сказала Рита.
— Вы так искренне сейчас это сказали. Обычно такое говорят, кокетничая. А я кокетства не увидел. И все-таки буду в ответ утверждать, что вы — очень интересная женщина. Мне хочется все время на вас смотреть.
— Ну ладно, смотрите, — согласилась Рита. — А насчет интересной женщины — вы это серьезно?
— Абсолютно. Я давно не встречал такого… — он поискал слово, — романтического лица. У вас, наверное, масса поклонников?
Рите найденное определение ее лица не понравилось, но она не показала этого.
— Да что вы! Откуда? Сейчас ценятся молодые, броские, длинноногие. И это понятно. Мне они и самой нравятся. Знаете, Стас, я ужасно неравнодушна к красивым студенткам. Смотрю иногда и думаю: дал же Бог такое. А если еще и умница при этом… Знаете, сколько таких? Это все неправда, что красивые — глупые, а умные — страшненькие. Ну а если хорошенькая девочка недостаточно умна, так ведь довольно и красоты. Разве это мало?
Рита говорила много, говорила с удовольствием и уже не стеснялась серо-голубых глаз Стаса, смотрящих на нее хоть и пристально, но не тяжело, а как-то очень по-доброму.
— Красота — страшная сила. Да? — вклинился Стас в Ритин монолог.
— Красота — это здорово, — убежденно сказала Рита. — Я никогда смазливым девчушкам не могу поставить плохую отметку на экзамене. Всегда завышаю.
— А вот это уже нечестно. Значит, красивым — все, а некрасивым — еще и оценки хуже? — расстроился Стас.
— Да не переживайте. Они все хорошенькие. Молодые потому что.
— Значит, всем завышаете?
— Угу, — кивнула Рита.
— А я думал, вы строгая.
— Пытаюсь иногда прикидываться. Но, кажется, не получается.
— Как вы, Рита, относитесь к студенткам, мы выяснили. А что студенты? — поинтересовался Стас.
— Да у нас на литфаке мальчиков — кот наплакал. На каждом курсе — всего человек пять-семь.
— Ну и как они?
— Да всякие, — отмахнулась Рита.
— Та-ак, — протянул Стас, — значит, мужской пол вы не жалуете.
— Вы что, подозреваете меня в нетрадиционной ориентации? — засмеялась Рита.
Стас тоже засмеялся и ответил:
— Нет, не подозреваю. — И продолжил: — Я вас заболтал совсем, не даю поесть.
— Наоборот, это я совсем забыла, что вы голодны. Все, молчим.
Рита появилась дома позже намеченного ею времени часа на два, но к Сашиному и Аркашиному приходу (муж обычно забирал сына из детского сада по пути с работы) все успела: и убрать, и постирать кое-что по мелочи, и поесть приготовить.
Во время ужина Рита в основном молчала. Ничего не рассказывала и не делала никому замечаний. Даже не прогнала Симу, которая, сидя на коленях у Аркашки, периодически вытягивала голову из-под стола, хватала из его тарелки макаронину и пряталась, чтобы, прожевав, появиться снова. Аркашка всячески способствовал тому, чтобы Сима не была замечена. Но понимал, что это невозможно. И недоумевал, почему это мама делает вид, что не видит Симкиного нахальства, и не воспитывает ее (и Аркашу вместе с ней), как обычно.
Саша тоже заметил отстраненность жены и поинтересовался:
— У тебя ничего не случилось?
— Все хорошо, — попыталась изобразить улыбку Рита, но она, улыбка то есть, получилась какой-то неубедительной.
Долго таиться Рита не могла и все как есть рассказала Саше. Вернее, почти все. Рассказала про случайное знакомство на кладбище, рассказала про «Ямскую заставу» и про то, как там все красиво и вкусно.
— Рита, — серьезно сказал Саша, — ты понимаешь, что делаешь? Ты думаешь, чем может закончиться это твое случайное знакомство? Зачем тебе все это? Объясни мне, зачем?
Рита не знала зачем — и ничего не смогла объяснить Саше. Ее попытка снова исполнить вчерашнюю симфонию любви закончилась крахом. Саша ушел в себя, а в Риту, которая знакомится непонятно где и непонятно с кем и которая шляется по ресторанам, заходить не захотел.
Не сложилось — не заладилось и утро следующего дня. Саша молчал, смотрел в сторону и ушел, не поцеловав ни Риту, ни Аркашку. Они остались, как две сиротиночки, и, грустно-задумчивые, разбрелись по углам.
У Риты был выходной, и Аркашка, едва проснувшись, объявил, что в сад он сегодня не пойдет. Увидев-почувствовав, что в доме как-то неуютно, он, кажется, пожалел, что остался. Но было уже поздно. И надо было искать себе занятие. Аркаша решил клеить робота. Конечно, лучше было бы это делать, когда папа дома. Но можно и без него попробовать.
Рита из своего угла (ее угол — это письменный стол и книжная полка над ним) наблюдала, как сын располагался в своем — отгороженном шкафом. Он готовился к делу основательно и неторопливо: разложил на полу картон, приготовил ножницы, линейку, карандаш, клей. Теперь за него можно быть спокойной: занят на полдня, не меньше.
И можно заняться своим. Только вот чем? Рита поняла, что едва ли сможет что-то делать. Едва ли сможет что-то делать до тех пор, пока в душу не придет покой, а в голову — ясность. Но откуда взяться тому и другому? Саша обижен. Как теперь восстанавливать отношения? Рита не способна и дня выдержать в состоянии «холодной войны». Саша способен, а она — нет. Как же скверно все получилось. Как скверно… Но если вдуматься, что такого она сделала?
Рита набрала телефон Лены Зориной.
— Лен, миленький, можно я приду? Ты дома?
— Конечно, конечно. — Лена, как всегда, была готова принять кого угодно и с чем угодно.
Аркашка отпустил Риту почти сразу, только записал на своем картоне (на всякий случай, как он выразился) телефон тети Лены и поинтересовался, как долго мама намерена отсутствовать.
— Я ненадолго, сын. Никому не открывай. Ладно? — Рита несколько раз поцеловала Аркашку в макушку, хотя он яростно вырывался, и пошла к Лене Зориной.
— Мне кажется, — сказала Лена, — не надо было ничего говорить Саше.
Это Рита и сама понимала. Но теперь-то как быть?
— Ну скажи, что ты никогда больше с этим Стасом не увидишься. Пообщалась, в ресторан сходила. Что здесь такого? Каждой женщине приятно, когда ее в ресторан приглашают.
Лена говорила то, что нужно. Действительно, Рита ни в чем не виновата. И Саша должен это понять и оценить, в конце концов, честность жены. Все было бы замечательно, если бы…
— Если бы что? — строго спросила Лена.
— Если бы я не дала Стасу свой телефон, — сказала Рита, зная, что тревожит ее не это. Тревожит то, что она, кажется, не может отказаться от общения со Стасом. Что стоит за словом «общение», она пока не понимала. Или не хотела понимать.
— Это не страшно, — ответила Лена на Ритины слова (мысли она читать при всей своей проницательности, слава Богу, не умела). — Позвонит — объяснишься. Попросишь, чтобы больше не звонил. Вот и все.
«Вот как все просто!» — усмехнулась про себя Рита. И поймала себя на мысли, что ей не хочется больше говорить с Леной. Не хочется сейчас. А может, не хочется вообще. И она, распрощавшись, пошла домой. Но попала туда только через два часа. Потому что у подъезда Лены стоял, как можно догадаться, темно-синий джип.
— Ваш ребенок мне все доложил, — улыбаясь сказал Стас. — Очень солидный мужчина. Здравствуйте, Рита.
— Здравствуйте, — обреченно ответила Рита. И, вздохнув, продолжила: — Я не думала, что увижу вас сегодня.
— Вы хотите сказать, что вам неприятно меня видеть?
— Я хочу сказать то, что сказала.
— Какая вы колючая сегодня.
Стас попытался заглянуть Рите в глаза, но она резко отвернулась.
— Рита, что случилось? Скажите мне. Пожалуйста.
— У меня неприятности дома.
— Из-за меня?
— Я не могу так сказать. Наверное, из-за меня, а не из-за вас. Не знаю. Ничего не знаю, — устало махнула рукой Рита и пошла по направлению к своему дому. Стас пошел рядом.
— А машина? — спросила Рита.
— Не убежит.
— Она хоть закрыта?
— А… Кажется, нет. Сейчас…
Стас повернулся, вытянул вперед руку с ключами и брелоком сигнализации, нажал кнопку — джип отозвался миганием и писком. Закрылся, значит, поняла Рита.
Они бродили сначала вокруг дома Лены Зориной, потом — вокруг дома Риты. И все не могли наговориться. Стас наконец-то рассказал о себе.
Они с мамой всегда жили вдвоем. Отца Стас не помнил, потому что тот ушел из семьи, когда сыну исполнилось полтора года. Никаких родственников у них не было: мама была детдомовская. Наверное, потому, что сама в жизни видела мало хорошего, старалась сделать все, чтобы у Стаса было счастливое детство («счастливое детство» — это она всегда так по-книжному говорила). И Стас действительно помнит, что в доме всегда было много радости. Сейчас он не понимает, откуда мама брала силы, чтобы не просто его кормить, одевать-обувать (работая в библиотеке, она всегда подрабатывала шитьем и вязанием), а проживать с ним каждое мгновение его мальчишеской жизни ярко и весело.
Она была необыкновенной выдумщицей. В доме всегда было полно его друзей: под руководством мамы они то делали змея, то колотили на балконе скворечники, то отгадывали какую-нибудь викторину. «Знаешь, какая у него мать? Класс!» — так всегда говорили его старые друзья тем, кто попадал в их компанию впервые.
Стас гордился. Про отца почти и не спрашивал никогда. Без надобности он как-то был. И вдруг однажды объявился. Стасу тогда четырнадцать исполнилось. В день рождения и приехал. Из Москвы. Подарков навез. Сначала долго с матерью разговаривал, а потом — со Стасом.
Стас обиды никакой на него не держал и поэтому не понимал, почему он так долго говорил о том, что сын должен его понять и простить. Понял одно: что теперь у него есть отец. Который жить останется в Москве, но о Стасе будет теперь заботиться. И помогать. Стас, правда, подумал, что же мешало отцу это делать раньше. Но не спросил — постеснялся. Мама потом сказала, что ей хотелось быть гордой и прогнать отца, который столько лет не помнил, что у него есть сын. Но решила этого не делать. Решила, что лучше поздно, чем никогда. Наверное, правильно решила. Благодаря отцу (который, как оказалось, стал в Москве большим человеком) Стас окончил экономический факультет института стали и сплавов. Мог бы остаться в Москве. Но вернулся сюда, потому что мама не захотела переезжать, не захотела расставаться с городом (тут все родное, а там? — так она говорила) и со своей библиотекой. Конечно, в Москве Стасу очень нравилось и в провинцию возвращаться совсем не хотелось. Но вернулся. Отец помог в организации своего дела: деньгами, связями. И Стас давно уже крепко стоит на ногах. Чем занимается? Пока торговлей. Деньги ведь на торговле в основном делаются. Ну а в последнее время появилось желание вкладывать деньги в производство. Есть кое-какие задумки.
Рите интересно было слушать Стаса. Живого «нового русского». А то все только из анекдотов и обывательских разговоров сведения черпала. Вот, оказывается, какими они бывают. Интеллигентными и умными. Маму любят. «Любили, — исправилась про себя Рита, — ведь ее уже нет». Сердце тревожно заметалось в груди, потом успокоилось: ну хватит, это просто стечение обстоятельств — и все. Но тут же ударило в голову: а что, если Стас узнает, что именно она, Рита, стала причиной «неприятностей на работе», как сказал тогда Стас на кладбище? Что тогда?
«Ничего, — успокоила себя Рита. — Кто он мне — сват? брат?»
Да и вообще давно пора домой. Только вот еще…
— Стас, по вашему рассказу как-то непонятно… Вы женаты? — спросила Рита о том, что интересовало ее все-таки больше всего.
— Сейчас нет. Я женился на третьем курсе. Мы в одной группе учились. Вроде любили… Пока в общежитии жили, все нормально было…
— А потом? — поинтересовалась Рита, уже догадываясь, что было потом.
— А потом приехали сюда, к маме. Мне не хотелось жить отдельно. Мама меня так ждала, так тосковала, пока я в Москве жил. Ну и… В общем, не поладили они.
— И вы выбрали маму?
— Нет, Рита, не так все просто. Конечно, мне очень хотелось, чтобы они подружились. Конечно, не хотелось никого выбирать. Но знаете… Оксана оказалась действительно не тем человеком, который…
— Который, по мнению мамы, должен был быть рядом с вами?
— В общем-то да. Но дело не в маме. Поверьте. Она могла бы ужиться с кем угодно. А Оксана все принимала в штыки. Все. Любую мелочь. Мы часто ссорились. И в конце концов разошлись. Детей завести не успели.
— Но, как я понимаю, это все было довольно давно. И за это время вы никого не встретили?
— Нет, ну почему. Конечно, у меня были женщины. Но я после развода стал убежденным холостяком. Мама, правда, переживала очень. Ей хотелось, ну как это обычно бывает, чтобы у меня было все как у людей: жена, дети. Но не сложилось… А мама… Знаете, все в один день случилось. Кто-то из читателей пожаловался, заведующая начала бочку катить. Ну и… Правда, оказалось, что два инфаркта до этого она перенесла на ногах. Вот так.
Стас погрустнел. Рита вспомнила, как безутешно он плакал позавчера на кладбище, и у нее защемило сердце. От жалости и нежности.
Прощаясь у подъезда, Стас поцеловал ей руку.
— Мам, ну где ты так долго? — заныл Аркашка, едва Рита появилась на пороге. Но тут же, вспомнив про свои обязанности «секретаря» (это Рита всегда так говорит — «мой личный секретарь»), начал деловито перечислять: — Звонил какой-то дядя, я сказал, что ты у тети Лены. Потом звонила тетя Лена. Потом звонила бабушка… — Тут он еще больше сосредоточился и продолжил: — Бабушка сказала… Что у ее соседей коза окозлилась и надо будет брать у них… это… ну, козье молоко. Для меня. Потому что оно очень полезное. А еще…
Рита едва сдерживала смех с того момента, когда услышала про козу, но терпела, давая Аркашке выговориться. Потом, дождавшись паузы, уже хохоча, спросила:
— Что сделала коза?
— Окозлилась. Ну, значит, козленка родила. Понимаешь? — удивился Аркаша Ритиной несообразительности.
— Понимаю. Это бабушка так сказала?
Аркаша задумался, припоминая, так сказала бабушка или как-то иначе. Задумалась и Рита над тем, какое же слово употребляют в таком случае по отношению к козам. Слово никак не находилось. Но в конце концов Рита вспомнила: про коз говорят, кажется, так же, как про кошек, — окотилась.
Но Аркашка тараторил уже совсем о другом, и Рита решила не возвращаться к козе, которая «окозлилась», а вникнуть в то, что пытался донести до нее сын.
— Ну вот, мам, я все записал. Завтра ведь суббота. Так? Вот мы с папой как раз и нажарим. Ты придешь — а у нас уже целая гора.
— Чего целая гора?
— Ну чебуреков же. Я ведь рецепт записал, мне бабушка продиктовала. Вот смотри. Три стакана муки, два яйца… Мам, а яйца в тесто класть сырые или вареные?
— Сырые, конечно. Вы уж с папой не делайте без меня ничего. Приду — сделаем вместе. Хорошо?
— Ну вот, — расстроился сын, — я хотел, чтобы сюрприз…
— А сюрприз ты какой-нибудь другой придумай.
Аркашка погримасничал, выражая недовольство и несогласие одновременно, но потом, покрутившись на одной ноге, выпалил:
— Тогда мы с папой торт будем печь! Только ты как будто не знаешь. Ладно?
— Ладно, — вздохнула Рита.
Оценив кособокого Аркашкиного робота на «пять с плюсом», Рита села за стол, раскрыла перед собой книгу и начала думать.
По словам Стаса получается, что библиотекарша была совершенно замечательным человеком. Но разве это можно скрыть? Разве можно, будучи доброжелательной, внимательной и тому подобное, обнаруживать такую агрессию, грубость, неприязнь к окружающим — все то, что увидела в ней Рита? Разве может человек так меняться?
Хорошо бы все это обсудить с Леной Зориной. Но ведь Рита уже решила, что она никому не скажет про смерть библиотекарши. Она вдруг поняла, что ей уже трудно произносить в мыслях «библиотекарша», теперь она ясно слышала другое: «мать Стаса».
Так как же во всем этом разобраться? Конечно, для Стаса эта самая библиотекарша была единственно родным и поэтому лучшим в мире человеком. Но если бы его мать — нет, мама (он всегда говорит «мама») — по природе своей была злой и замкнутой, она не смогла бы стать настолько духовно близкой своему сыну. Разве не так? С другой стороны, то, что она не ужилась с невесткой, характеризует ее именно так, как восприняла ее тогда в библиотеке Рита.
— Мам, мы есть хотим, — отвлек Риту Аркашка.
— Кто это «мы»? — не сразу сообразила Рита.
Аркашка потыкал пальцем в Симу, которая сидела на диване и просительно смотрела на Риту.
Рита поняла, что сбит ритм ее жизни, правильной, наполненной и целеустремленной.
— Нет, — помотала она головой. — Ни за что!
С обедом и мытьем посуды она расправилась в два счета. Через полчаса — ученица, потом — бассейн, потом — ужин, потом — подготовиться к завтрашнему дню. Вперед!
В бассейне Рита окончательно поняла, что нужно побыстрее выбросить из головы библиотекаршу вместе с ее сыном. Зачем усложнять себе жизнь? Вот она, Маргарита Александровна Бессонова, плывет себе, заботясь о своей фигуре и о своем здоровье. Плывет ритмично и красиво. И муж у нее замечательный. И сын. И работа. А без «нового русского» Стаса, его джипа и ресторанов можно вполне обойтись. Главное — покой и гармония в душе.
Они встретились через два дня. Кажется, Рита позвонила ему сама. Они объехали полгорода в поисках подарка к юбилею Ритиной свекрови. Стас по магазинам не ходил — ждал в машине. Рита настояла на этом: ей было неудобно показать, что все дело в деньгах, что нужно уложиться в сто рублей, которые они с Сашей с трудом наскребли.
— Ничего подходящего? — спрашивал Стас после каждого магазина.
— Да, что-то ничего не нравится, — небрежно отвечала Рита.
Наконец была куплена маленькая и миленькая кисловодская вазочка.
— Свекровь давно такую хотела, — сказала Рита, стараясь показать, что дело вовсе не в стоимости подарка, а в том, чтобы он был приятен.
Стас предложил пообедать. Ну, например, в той же «Ямской заставе». Рите ведь там понравилось в прошлый раз?
— Да, конечно. Но только… Стас, я не думала, что с магазинами так долго получится. Мне нужно давно быть дома.
— Жаль, — погрустнел Стас и повез Риту домой.
Он хотел подвезти ее прямо к подъезду, но Рита вовремя сообразила, что делать этого не стоит, и попросила остановить машину у соседнего дома.
— Стас, миленький, спасибо вам огромное. Вы меня так выручили, — сказала Рита, прощаясь.
Она понимала, что это еще не конец разговора, и задержалась на мгновенье. На мгновенье, которого хватило, чтобы прозвучал вопрос Стаса:
— Когда я могу позвонить?
— На следующей неделе. Например, в среду. В среду у меня выходной.
— А раньше?
— Я ужасно занята. Честно.
— Хорошо, — спокойно сказал Стас.
Рита поняла, что он обиделся. Конечно, как-то нехорошо получается. Возил-возил ее, а она…
Она ждала звонка уже на следующий день, и через день, и через два, и через три. Ждала и нервничала. И не понимала, почему Стас не догадывается, что нужно позвонить.
Постоянно нервничая, Рита каким-то удивительным образом почти сразу же научилась это скрывать. От Саши. От Аркашки. Только Сима, кажется, все понимала и бросала на хозяйку пронзительные пытливо-укоризненные взгляды.
Без Лены Зориной, конечно, не обошлось. Без Лены, которая сказала, что в общем-то все нормально. Разве может женщина любить всю жизнь одного мужчину? Жизнь она вон какая длинная. И вполне естественно, что на пути встречаются другие. Тем более что Рита — Стрелец. Она просто обязана периодически влюбляться. И Лена удивляется, что с Ритой до сих пор ничего такого не происходило. Пора уже.
— А Саша? — постоянно пугалась Рита на протяжении всех этих Лениных рассуждений.
— А что Саша? Старайся не делать ему больно. Не давать повода для ревности, — советовала Лена, у которой, кроме ее Коли, так же как и у Риты, кроме Саши, никогда никого не было.
— Человек рождается не для того, чтобы кому-то принадлежать. А для того, чтобы жить, — развивала мысль Лена.
Рите все нравилось. Действительно, она ведь ни у кого ничего не отбирает. Она просто живет.
— Человек должен все испытать в этой жизни. Понимаешь? — утверждала-спрашивала Лена.
— Понимаю, — соглашалась-отвечала Рита.
И думала: почему бы Лене самой не влюбиться в кого-нибудь? Почему Рите нужно отдуваться за всех, чтобы подтвердить теории Лены Зориной?
Стас, зная, что Рита занимается репетиторством, поинтересовался, не сможет ли она подтянуть по русскому сына Олега, его друга.
— В каком классе? — спросила Рита.
— В шестом. Знаете, у него по другим предметам нормальные отметки. А вот русский…
Рита засомневалась, она с отстающими и не занималась никогда. У нее специфика: подготовка в вуз.
— Рит, я вас очень прошу. Правда, они хотели бы, чтобы вы к ним домой ездили. Но и платить будут сколько скажете. Когда смогу, я вас буду привозить-отвозить.
— А то у вас больше дел нет, — смущенно засмеялась Рита.
— Нет, конечно, всегда не получится. Когда Олег отвезет, когда машину поймаете. Я, кстати, берусь это дело финансировать. Ну, чтобы вам не толкаться в общественном, так сказать, транспорте. И время экономить. Ну как?
— Ой, не знаю, — сказала Рита. — Мальчик-то хоть не совсем дурак?
Мальчика звали Дубов Ярослав. Он был большеглазый, улыбчивый и учиться не хотел вовсе.
Начали с домашнего задания.
— Наконец-то в наш город пришла весна, — прочитал Ярослав по слогам и написал: «Наконецта в наш горот прешла висна».
«Все ясно, — подумала Рита. — Дисграфия. Ярко выраженная».
Ткнув пальцем в ошибки, она сказала:
— Ярослав, давай ты постараешься списывать правильно. Не торопись.
— Ага, — сказал Ярослав и написал: «На бирезах распустились лесточки».
Кое-как справившись с переписыванием, перешли к грамматическому заданию.
— «Пришла» — какая часть речи? — спросила Рита.
— В каком смысле? — удивился Ярослав.
— Во всех, балда, — ответила Рита, произнеся последнее слово, разумеется, про себя.
— А… Ну… Это… Сказуемое.
— Сказуемое — это член предложения, а не часть речи, — сказала Рита, окончательно расстроившись.
— Ну тогда существительное.
— Господи, это ведь в первом классе проходят. А ты уже в шестом учишься. Соберись, пожалуйста. На какой вопрос отвечает?
— Что.
— Что «что»?
— На вопрос «что».
— Задай.
— Что?
— Вопрос, — сказала Рита отрешенно.
— Что? Пришла, — сказал Ярослав.
«Действительно, — подумала Рита. — Почему бы и нет?»
Видя, что Маргарита Александровна молчит и не одобряет его ответ, Ярослав напрягся и сказал:
— Что сделала? Пришла.
— Слава Богу! Так какая часть речи отвечает на вопрос «что делать»?
Ярослав задумался.
— Гла… — начала Рита.
— …гол, — продолжил Ярослав.
— Да… — сказала Рита Стасу, когда он вез ее домой с первого занятия.
— Что, совсем плох?
— Совсем. Я, наверное, откажусь от него. Увидев, что Стас расстроился, Рита спросила:
— Вы, наверное, наговорили про меня, что я супер, да?
— Наговорил, — признался Стас.
— Да ладно, Стас, не грусти. Пробьемся. — Рита погладила Стаса по щеке.
Он заулыбался и сказал:
— Ты еще из него отличника сделаешь. Мы ведь уже перешли на ты, правда?
О том, чтобы сделать из Дубова Ярослава отличника, речи быть не могло. Нужно было дотянуть его до нормальной тройки — и это было бы победой. Слава Богу, о другом родители мальчика и не мечтали. Дело, по мнению Риты, было в том, что общительный и непоседливый Ярослав очень плохо читал и дело это соответственно не любил. День и ночь он готов был сидеть за компьютером, который отец купил ребенку, когда тот учился еще в первом классе. Олег считал, что многочисленные «игрушки» развивают логическое мышление. Рита не знала, как с логическим, а вот с языковым мышлением у Ярослава было из рук вон плохо. Память у мальчика тоже была скверной.
— Вот «Му-му» начал читать, — сказал Ярослав как-то Рите после ее многочисленных выступлений о необходимости чтения.
— Очень хорошо, — заинтересовалась Рита. — Расскажи.
— Ну вот. Жил-был один дя-а-денька. Он был слепо-о-й.
Рита чуть со стула не упала.
— Какой он был?
— Ну, слепой, — потряс раскрытыми ладонями перед непонятливой Маргаритой Александровной Ярослав.
— А, ну да, — сказала Рита. — И была у него корова, которую звали Му-му.
Ярослав вытаращил и без того огромные глаза:
— Там про корову нету…
— А про то, что Герасим был слепой, — есть?
Стас долго смеялся, когда Рита рассказала ему про Му-му, но очень просил не отказываться от Ярослава.
— Хорошо, — вздохнув, пообещала Рита.
Занятия с Ярославом она проводила в те дни, когда у нее был бассейн. Обычно Рита ловила машину (Стас заботился о том, чтобы у нее всегда были деньги на такси. Она сначала отказывалась, а потом поняла, что при ее занятости это единственный выход, и стала воспринимать материальную поддержку Стаса как должное), ехала к Ярославу, час билась с ним, оттуда спешила в бассейн (частенько ее отвозил Олег), а уж из бассейна (это было уже вечером) почти всегда ее забирал Стас.
Саша был в курсе, что Рита занимается с сыном бизнесмена Олега, что Олег ее часто подвозит. Или это делает его друг Стас — знакомый Галки, ну который на джипе.
К дружбе жены с крутыми Саша относился с тревогой, но Рите ничего не говорил, понимая, что едва ли что-то сможет изменить. Иногда он думал и о том, дружба ли это. И если Рита влюблена, то в кого — в Стаса или в Олега? Но эти черные мысли Саша гнал от себя. Нет. Это невозможно. Ритка любит его. И у них все хорошо. Просто она такая деятельная, такая общительная… Это так естественно, что у нее есть друзья-мужчины. Куда от этого денешься?
Сквозь синее пробивалось неясно-фиолетовое и чертило нежно-желтым, переходя в маленькие зеленые стрелки, пугая неожиданностью этих сочетаний и маня, маня этим же к себе.
Это был Ритин сон, вернее, предсон, в который она счастливо погружалась с благодарностью кому-то неведомому, пославшему наконец успокоение. Дело в том, что до этого блаженного момента Рита маялась уже часа два. Маялась оттого, что безуспешно пыталась поймать какую-то неясную мысль — уставшую, но быструю. Беглянка то пряталась за другие — определенные и понятные — слова, предложения, фразы, то, казалось, растворялась в них бесследно, то выглядывала из-за них, показывая прищуренные глаза и взмахивая куском какой-то серой тряпки.
…на завтра — пельмени… Аркашке не выстирала рубашку, пойдет в грязной… да уж и не очень она грязная… Костикова придет на лекцию… ну и пусть, хотя тема не из выигрышных… может, и не придет… она уж полгода собирается… туфли надо все-таки сдать назад, неудачные какие-то… хоть бы взяли… носить точно не буду… Саша вчера принес тюльпаны… просто так… какой противный все-таки этот Обухов с третьего курса… Лена Зорина, кажется, обиделась… Стоп!
Про Лену нужно подумать получше. Рита позвонила ей вчера и попросила принести при случае ее, то есть Ритины, книги по психологии, которые ей, Рите опять же, потребуются. Дело в том, объясняла она Лене, что у нее намечается пара лекций в одной организации — по культуре речи, по культуре общения. Ну и к этому Рита хотела бы присовокупить кое-что по психологии общения.
Лена не смогла скрыть своего раздражения:
— Ну раз ты берешься читать лекции по психологии…
Здорово она передернула, напомнив, что психолог — она, Лена, а вовсе не Рита!
— Да не собираюсь я читать лекции по психологии. Это так — на один раз, на популярном уровне, — начала оправдываться Рита.
— Ну все ясно, — перебила Лена. — Конечно, такие книги надо иметь самой. Я принесу.
Дальше пошел разговор натянутый и слегка фальшивый. Лена пыталась скрыть свое раздражение, а Рита соответственно делала вид, что все нормально. Ужасно неприятный осадок остался после этого.
Рита хорошо представляла, как Лена говорит сначала мужу, а потом — кому-нибудь из общих знакомых: «Ну что ж она за все хватается?! Везде лезет. Нигде от нее продыху нет!»
Больно, когда тебя не любит лучшая подруга. И неприятно, когда ты сделала что-то не так. Хотя… Что плохого сделала она, Рита? Попросила свои книги, которые ей нужны. Причем готова потом снова дать их Лене. Вот именно — дать. А не отдать. Это не устраивает Лену. Она хочет, чтобы Рита была добрее, великодушнее, понимала, что Лене эти книги нужны больше, потому что она все-таки психолог. Точнее, она хочет Ритины книги. Рита не отдает — значит, плохая.
Но эти несчастные книги нужны Рите самой, она к ним привыкла, она их любит, читает, хоть и не психолог.
Все, нужно успокоиться. Плохого она ничего не сделала. А Ленино раздражение — это ее, а не Ритины проблемы. Так что нечего брать в голову.
И все-таки не это, не это так тревожило. Инцидент с Леной опять загородил что-то очень важное. Но что? Что?
Как же, как поймать это «что»? Надо все-все отбросить. Про лекцию, про Обухова, про Лену Зорину. Тогда ускользающей важной мысли не за что будет прятаться…
Рита вся измучилась. И тут наконец это мягкое и сладкое погружение в бледно-фиолетовое облако… Бог с ней… Пусть… Все… не важно…
Сон был хуже того, что ему предшествовало. Гораздо хуже. Потому что Рите приснилась библиотекарша. Она была вполне безобидна, тихо бродила между стеллажами и не обращала на Риту, пришедшую в библиотеку поменять книги, никакого внимания.
Но сон все равно произвел на Риту тяжелое впечатление. Проснувшись около четырех утра от беспокойства и тревоги, сознавая, что они связаны с увиденной библиотекаршей, Рита не смогла больше заснуть, долго сидела на кухне, пила сначала валерьянку, потом — корвалол, но так и промучилась без сна до утра.
А буквально через день (точнее, через ночь) библиотекарша пришла к Рите в жутком кошмаре. В кошмаре, в котором было кладбище, в котором светила зловещая полная луна, в котором Рита, как это часто бывает в подобных снах, пыталась бежать, кричать, но не могла ни оторвать от земли налившихся свинцом ног, ни прохрипеть потерявшимся голосом ни единого звука. Бежать нужно было от библиотекарши, которая отделилась от памятника на своей могиле и шла к Рите, грозя ей пальцем и лениво усмехаясь.
Проснувшись от ужаса, Рита разбудила Сашу и просила его не спать, потому что ей страшно.
— Что с тобой, Риточка? — спрашивал обеспокоенный муж.
— Приснилось… Понимаешь… Очень страшно, — бессвязно бормотала Рита, прижимаясь к нему, ища защиты.
— Что, что тебе приснилось? — пытал Саша.
— Не помню, — соврала Рита.
При этом она ясно видела перед собой маленькие злые глаза библиотекарши, смотрящие проникновенно-мстительно, ее злобно-саркастическую улыбку. Господи, и этот палец цвета слоновой кости… Хоть в церковь иди.
Рита и пошла. На следующий же день. Она не знала, как там нужно себя вести. Знала только, что нужно быть в платочке. Платка не нашлось — Рита взяла шарфик.
На паперти сидели нищие: две не очень старые старушки и один совсем молодой мужик с опухшей физиономией. Рита дала всем по рублю и вошла в храм. Там почти никого не было. Бродила служительница, вынимала из подсвечников не догоревшие свечки, счищала накапавший воск.
— Мне бы свечку поставить, — подошла к ней Рита.
— За здравие или за упокой?
Рита задумалась. Чтобы не было снов и чтобы ей не сойти с ума, надо ставить за здравие. За свое собственное здравие. А чтоб успокоить на том свете библиотекаршу — надо за упокой. Так, наверное? Главнее для Риты было первое, но она еще чуть-чуть подумала и сказала:
— За упокой.
— Это на канон надо.
— Куда? — не поняла Рита.
Служительница подвела ее не к иконе, а к металлической подставке со множеством подсвечников с догорающими свечами — над ними возвышалось небольшое распятие.
Рита долго стояла у канона. Нет, обязательно, обязательно нужно иногда приходить в церковь. Здесь тихо и спокойно. И хорошо думается. Думается? Нет, кажется, не так. Наверное, наоборот — хорошо не думается. Голова легкая и светлая. А душа задумчивая и скорбная, как лик богородицы. Но ее, души, задумчивая скорбь — не в тягость, а — в просветление. Время как будто остановилось, не надо никуда бежать, не надо ни с чем напрягаться. А надо только тихо стоять вот так, долго-долго. И смотреть в закрытые глаза Христа.
В течение нескольких дней после страшного сна и посещения церкви Рита не хотела ни видеть Стаса, ни говорить с ним по телефону. Ей удалось избежать и того и другого.
Наверное, догадавшись, что Рита специально прячется от него, Стас пропал на две недели.
Рита сначала затосковала, потом — почти привыкла к тому, что Стаса у нее больше нет. Но до конца привыкнуть не смогла — позвонила.
— Куда ты пропал?
— Уезжал, — ответил Стас сначала как будто спокойно.
А потом выдохнул:
— Ну что ты со мной делаешь? Когда мы увидимся?
Они увиделись в тот же день. Он долго целовал Ритины руки, а потом, подняв голову и настойчиво-просительно глядя ей в глаза, сказал:
— Ты не можешь меня бросить. Я люблю тебя. Мы должны быть вместе.
— Это невозможно. Стас, миленький, ты ведь знаешь, что это невозможно.
— Но почему? Почему? Нет, если ты меня не любишь, то тогда, конечно… Ты не любишь меня?
— Люблю, — сказала Рита. — Очень люблю.
— Скажи это еще. Пожалуйста.
— Я люблю тебя, Стас.
— Значит, все возможно. Значит, нет никаких преград.
— Есть преграды. Ты знаешь. У меня есть Саша и Аркашка. У меня есть мама, которая не переживет. У меня есть свекровь. И еще — куча родственников. Я никогда не смогу. Понимаешь?
— Нет, не понимаю. Мы любим друг друга. Только любовь или нелюбовь может что-то диктовать.
— Если бы это было так…
— Ну почему так много условностей? Ну кто это все придумал?! Скажи, ну почему, почему ты должна мучиться с нелюбимым мужем?
— Разве я хоть раз тебе говорила, что не люблю Сашу? Что я мучаюсь с ним? — Рита удивленно вскинула нарисованные брови.
— Но раз ты любишь меня… — виновато сказал Стас, понимая, что он перешел какую-то границу, неведомую ему, незнакомую и непонятную.
— Да, я люблю тебя. Но это вовсе не значит, что мне опостылел мой муж, близкий и родной человек.
— Но тогда как же? Как понять все? — занервничал Стас, забарабанил пальцами по столу (они снова сидели в «Ямской заставе»).
— Если бы я знала… — горько усмехнулась Рита.
— Но я не собираюсь тебя ни с кем делить! Ты должна быть только моей!
— Да? А я не хочу быть чьей-то. Я — сама по себе. Кошка, которая гуляет сама по себе.
— Это неправда! Ты сама себе противоречишь! Если бы ты была свободна, ты бы не оглядывалась на всех, ты бы просто ушла ко мне. Вот и все.
— Может, ты и прав. Я не знаю. Знаю только, что уйти к тебе не могу. Во всяком случае, пока. Поэтому есть смысл нам с тобой разбежаться…
На последних словах Ритины губы, державшиеся до этого вполне достойно, все-таки задрожали. Но она, на мгновение закрыв глаза, приказала себе: не сметь! И, глядя на сжатые губы Стаса, насупленные брови (Господи, ну как же похож на Аркашку!), произнесла банальное:
— Прощай.
На выходе из ресторана Рита споткнулась и чуть не упала. И почти весело подумала: «Вот она, невербалика, как сказала бы Лена Зорина!»
Стас позвонил через два дня. А через три — они встретились. Стас забрал Риту из бассейна и привез к себе домой.
Его небольшая двухкомнатная квартира была в полном порядке: современно и со вкусом отделанная, обставленная (не то что у Риты с Сашей), оснащенная всяческими «шарпами».
Стас усадил Риту в кресло и, наклонившись над ней, крепко взяв за плечи, сказал:
— Мы говорим о любви, а я еще ни разу не поцеловал тебя. Разве не странно?
— Странно, — задумчиво ответила Рита сначала на слова, а потом так же задумчиво — на поцелуй.
— Останься у меня сегодня, — попросил Стас.
Рита помотала головой и отвернулась.
— Ну хорошо, не будем об этом, — сказал он. — Что ты хочешь выпить?
— Ничего я не хочу выпить. Ты меня с кем-то перепутал.
Стас засмеялся, сел на пол у Ритиных ног и положил ей голову на колени. Она гладила его густые волосы и думала: как же дальше жить? Что делать-то? Разве можно отказаться от этого настоящего мужчины (Лена Зорина, конечно, как всегда, права), за спиной которого можно наконец позволить себе стать слабой, не хвататься за все на свете, чтобы выжить, а просто жить — в достатке и без особых проблем? Разве можно отказаться от любви и радости, которые вот так, на блюдечке с голубой каемочкой, преподносит тебе судьба?
На вопросы эти Рите слышался только один ответ: да, можно отказаться. И нужно. Потому что есть Саша и Аркаша. И она не может сделать несчастным ни того, ни другого.
— Представляешь, каково было твоей маме, когда твой отец ушел к другой? Она ведь его любила? — спросила Рита, отняв руки от головы Стаса и положив их на подлокотники кресла.
Стас, не поднимая головы, ответил:
— Я почти ничего об этом не знаю. Мама не любила об этом говорить. Но у тебя ведь другая ситуация.
— Да нет, такая же. Предательство и по отношению к мужу, и по отношению к Аркашке.
— Рита, ну разве нельзя как-то все утрясти? Твой Саша поймет тебя.
— Поймет. Только легче ему от этого не будет. И Аркашка поймет, наверное, в конце концов. Но… Ты знаешь, я даже представить себе не могу, как им это все можно сказать.
— Рита, ну ты ведь очень сильная женщина. Я знаю. Ты сможешь.
— Не смогу. — Рита хотела поднять голову Стаса и встать.
Но он, почувствовав это ее движение, перехватил ее руки, поднес их к губам и начал медленно целовать каждый палец. Перецеловав все, он приподнял голову и спросил:
— Ну хорошо, сколько мне нужно будет ждать, чтобы ты официально стала моей женой?
— Не знаю. Наверное, лучше не ждать.
— А неофициально?
— Ты хочешь сказать, чтобы я стала твоей любовницей?
— Ну, если тебе нравится это слово, то так.
— И слово не нравится. И ответа нет, — покачала головой Рита.
Стас тяжело вздохнул, встал и, снова наклонившись к Ритиному лицу, спросил, грустно улыбнувшись:
— Во всяком случае, сегодня я ни на что рассчитывать не могу?
— Выходит, не можешь, — в тон ему ответила Рита и встала, считая разговор оконченным.
— А завтра? — спросил Стас.
— А завтра у меня занят весь день.
— Про послезавтра я спрашивать, пожалуй, не буду, — прошептал Стас Рите на ухо и прижал ее к себе. — Вдруг ты снова скажешь «нет».
А Рите хотелось уже все свои «нет» забрать назад. Так хотелось, что она, все больше прижимаясь к Стасу, уже собиралась ему сказать об этом. Но — не сказала, удержалась.
Дома Рита сразу же предупредила все Сашины вопросы, сказав, что она помогала Лене Зориной кроить к лету сарафан — ну и заболтались они, как всегда. Саша вроде бы ничего не почувствовал, ходил вокруг Риты, заглядывал в глаза и, видимо, надеялся, что они пораньше лягут спать.
— Сашунь, не жди меня. Ложись, мне нужно кое-что поискать для завтрашней лекции, — как можно ласковее сказала Рита.
Саша уснул, а она еще долго сидела за столом, не в силах ни читать, ни писать, ни думать. Когда в два часа ночи все-таки улеглась, то поняла, что спасительный сон приходить не собирается. Рита встала и пошла стирать. Ну не лежать же без дела. И так сколько просидела без толку.
На следующий день Стас не позвонил.
«Ну и слава Богу», — старалась думать Рита. Но думалось другое: «Неужели это все? Неужели больше не позвонит? Значит, все его слова о любви — это так, это только для того, чтобы… Господи, сделай так, чтобы он позвонил. Ну пожалуйста, Господи».
Рита молила о звонке только в первый день, на второй — она уже звонила сама, раз пять набирала домашний номер — никто не отвечал. На третий день — звонила Стасу в офис, отвечала секретарша — Рита клала трубку.
Неделя молчания телефона показалась месяцем. Лена Зорина уверяла, что Стас скорее всего уехал в командировку.
— Он ведь уезжает периодически по делам? Да? — спрашивала она Риту.
— Да, — отвечала Рита. — Но он всегда звонил перед отъездом. Говорил, куда и на сколько. А потом еще звонил, то из Мурманска, то из Архангельска.
— Никуда не денется, — уверяла по телефону Лена Зорина. — Вот увидишь. Потерпи еще немножко.
— Зачем?
— Что «зачем»?
— Терпеть зачем? — спрашивала Рита.
— А что ты предлагаешь? — строго спрашивала Лена.
— Не знаю, — сознавалась Рита. — А ты?
— А я предлагаю спросить наконец у секретарши, где он. Ну хочешь, я позвоню?
— Хочу, — сдалась Рита к концу недели и помчалась к Лене.
Набрав номер, Лена сделала умный вид и низкий голос:
— Здравствуйте. Могу я услышать Станислава Васильевича?
То, что ответили на другом конце провода, Лене явно не понравилось. Она сделала гримасу «ну вот еще!», но тут же, взяв себя в руки, спокойно и четко проговорила:
— Елена Евгеньевна Зорина, из налоговой инспекции.
Потом, благосклонно выслушав секретаршу Стаса, сказала:
— Хорошо. Спасибо. До свидания.
— Ну?! — спросила Рита.
— Ой, ну все как я тебе сказала, — устало махнула рукой Лена. — Уехал в Мурманск, будет в понедельник.
В воскресенье вечером к зазвонившему телефону подошел Саша (Рита на кухне замерла, прислушиваясь) и вежливо кому-то ответил:
— Нет, вы ошиблись номером.
Это был Стас — Рита была уверена в этом. И начала ждать утра.
Зная, что Саша с Аркашей уходят из дома в восемь, а у Риты в понедельник нет первой пары, Стас позвонил в восемь десять.
— Это я, — сказал он.
— Слышу, — ответила Рита.
— Я соскучился.
— А я — нет, — ответила Рита и положила трубку.
Потом она села в кресло и сказала себе: «Молодец! Давно пора…»
Но уже через пять минут другая Рита — не та, что положила трубку и похвалила себя, а та, что с некоторых пор делала все не так, — набрала номер Стаса. Он схватил трубку уже на половине первого сигнала. И обе Риты одним голосом, запинаясь, произнесли:
— Это неправда. Ну что… не соскучилась. Вот.
Свидание было назначено на пять вечера, на остановке, недалеко от художественного музея, где уже давно открылась интересная выставка, на которую Рите все не удавалось попасть. Она попросила, чтобы Стас был без машины: после музея они погуляют по набережной, а то Рита этой весной, которая уже заканчивается, там еще ни разу не была, а очень хочется.
Ритина лекция в этот день была не лекцией, а песней. Песней, которая называлась: «Стилистические ошибки, их классификация, причины появления и пути предупреждения». Обычно сдержанно-спокойная Маргарита Александровна беспрестанно шутила, была раскованна и улыбчива. Особенно легко и весело рассказывалось про ошибки, связанные с нарушением семантического критерия.
Третьекурсницы были в этот раз какими-то особенно милыми, податливыми и восприимчивыми. На одного студента, большого и красивого Руслана Огрызкова, мирно спящего за последним столом, Рита решила не обращать внимания. «Пусть спит, — думала она, — умаялся где-то ночью. На работе ли, в постели — какая разница? Пусть спит».
Рита пела вслух лекцию про стилистические ошибки, а про себя — радостную и звонкую песню, куплетов у которой не было, а был только припев: «Я увижу его сегодня! Я увижу его! Я увижу его!»
Солнечная погода начала дня сменилась к полудню веселым ливнем, который, начавшись, вовсе не собирался заканчиваться. Рита отчитала лекцию, вернулась домой, переделала кучу дел и уже ехала на свидание, а дождь все лил.
Она вышла из троллейбуса, торопливо раскрыла зонт и только потом начала крутить головой по сторонам. Стас стоял справа от Риты под навесом остановки и напряженно всматривался в выходящих из троллейбуса. Риту под зонтом он еще не увидел.
— Привет. — Она подошла к нему, стараясь держаться спокойно.
Но, кажется, у нее это не получилось. Она чувствовала, что глаза ее сияют, и ничего не могла поделать с непослушными губами, которые уже растянулись в счастливой улыбке.
— Привет, — ответил Стас, не отводя своих серо-голубых глаз от зеленых Ритиных.
— Ты помнишь, что мы идем в музей? — спросила Рита, увлекая Стаса под свой зонт.
Он перехватил ручку зонта, прижался к Рите и сказал уже на ходу:
— Помню. Хотя мог бы все на свете забыть, когда тебя увидел. Ты такая красивая…
Рита попыталась скрыть очередную, теперь уже смущенно-довольную, улыбку:
— Ты лучше скажи, когда в последний раз в музее был?
— В этом? Да никогда, если честно. Кажется, нас всем классом сюда водили. Но не довели: мы с ребятами по дороге сбежали. Когда в Москве учился, сама понимаешь, сюда не тянуло. Там везде ходил: и в музеи, и в театры. А сейчас — некогда. Да и не тянет особенно.
До музея было еще метров пятьдесят. Стас основательно вымок, потому что держал зонт больше над Ритой.
— Бежим! — крикнула Рита, и они зашлепали по лужам не разбирая дороги.
— У тебя же ноги промокнут! — сообразил вдруг Стас и легко, как ребенка, подхватил Риту одной рукой и побежал быстрее (в одной руке — зонт, в другой — Рита). Она, боясь, что уронит, колотила его по спине кулаками и что-то вопила. Но очень быстро очутилась на пороге музея.
Они вошли внутрь, Стас купил билеты.
— Ой, маленькая моя, у тебя же ноги все-таки, наверное, промокли, — сказал Стас.
Он усадил Риту на диванчик, присел рядом на корточки, снял с Риты туфли (они были надеты, вопреки всем правилам, на босу ногу — ведь лето почти!) и принялся вытирать ее холодные и мокрые «лапки» (это он так сказал) носовым платком. Потом он протер изнутри туфли и неторопливо начал церемонию их надевания. Рита моментально вошла в роль Золушки и подыгрывала Стасу смущенно-томным взором, плавным выгибанием рук и вытягиванием носка маленькой (хорошо, что маленькой!) ступни.
Рите было смешно, весело и приятно. Краешком глаза она успела углядеть, что пожилая кассирша из своей стеклянной будки смотрит на них со Стасом не удивленно или с осуждением, а очень даже одобрительно: с легкой завистью и некоторым умилением. А может, Рите это только показалось.
Про выставку (она, кажется, была действительно неплохой) Рита потом и не вспоминала. А вспоминала — понятно что. Как Стас нес ее, как вытирал ей ноги своим носовым платком и как надевал туфли. «Туфельки», — сказал он тогда. Хорошо, что Рита была в легких, открытых туфлях на шпильке — они и вправду смотрятся изящно и мило. А еще он сказал «лапки». Ну это как-то не очень — просто «ножки», пожалуй, было бы лучше. А слово «лапки» как-то сразу просится в сочетание со словом «лягушечьи». Кстати, «лягушечьи» или «лягушачьи»? В словаре есть и то и другое. Но первое звучит все-таки лучше.
Они виделись почти каждый день, исключая выходные. Стас то подвозил Риту из института, то забирал после занятий с Ярославом, то вез в библиотеку.
— Когда ты работаешь, — спрашивала Рита, — если постоянно находишь время для меня?
— Ну не так уж много времени я нахожу, как ты говоришь, для тебя. Час-полтора — это много, по-твоему?
— Но ведь у тебя свои дела…
— Да. И много, честно говоря. Но на них остается еще двадцать три часа. Не забывай, что я сам себе хозяин.
— Да, — соглашалась Рита. — Это здорово, ни от кого не зависеть.
— Ни от кого и ни от чего не зависеть не получается, конечно. И от партнеров зависим. И от курса доллара. И много еще от чего.
Про свою работу Стас почти никогда ничего не рассказывал, а вот про Ритину слушать очень любил. Она и рассказывала: в красках и подробностях. Кто что сказал на кафедре, что отмочили студентки на последнем семинаре, как Руслан Огрызков (вот с какой фамилией человек живет!) все время спит на ее лекциях.
Стасу было интересно все, что касалось Ритиной жизни. Во всяком случае, он всегда об этом говорил. И часто просил что-нибудь повторить «на бис». Например, тот случай на ее защите, ну когда она фамилию с отчеством перепутала…
Пожалуйста. Перед защитой Рита здорово тряслась. Она страшно боялась, как и все, кто защищался в этом совете, «зубра» методики — Баранова Георгия Степановича. Говорили, что не бывает такого, чтобы Баранов не задал два-три каверзных вопроса. Рита готовилась. Она пыталась представить себе, за что может зацепиться Баранов, и репетировала обстоятельные ответы.
— Спасибо за вопрос, Георгий Степанович, — говорила она. — Вы, безусловно, правы, подчеркивая роль… — Ну и так далее.
Мама, однажды услышав, что Рита разговаривает сама с собой, заглянула в комнату: проверить, не поехала ли у дочери крыша перед защитой.
— Ты с кем?
— Да с Георгием Барановичем. Со Степановым, — отмахнулась Рита, продолжая выстраивать аргументацию.
— С кем? — Мама сначала удивленно вытаращила глаза, а потом начала не просто смеяться, а заливисто хохотать (на это она была большая мастерица).
Теперь пришла очередь удивляться Рите:
— Ма, ты чего?
Та, не в силах остановиться, еле выговорила:
— Ты слышала… Ты слышала, что… сказала? Георгий Баранович!
Рита посмеялась, конечно, вместе с мамой, но потом крепко задумалась. Она ведь сказала это «на автомате». А что, если на защите такое выскочит? Не называть Баранова по имени-отчеству? Но это не годится. Значит, нужно постоянно себя контролировать: Георгий Степанович, Георгий Степанович, Георгий (ну как же хочется теперь сказать «Баранович»). Не обратила бы мама внимания — и Рита бы теперь не зацикливалась на этом.
— Георгий Степанович, Георгий Степанович, — повторяла Рита перед защитой, расхаживая взад-вперед по залу ученого совета.
Заседание совета проходило в два этапа. Сначала была защита докторской, а потом — кандидатской, Ритиной. И банкет тоже состоял из двух частей. После защиты докторской членов совета пригласили в другой зал к накрытому столу: как бы попить чаю. Но это было уже начало банкета со всеми вытекающими отсюда последствиями. Рите все говорили, что второй защищаться — лучше не придумаешь. Члены совета будут веселыми и добрыми, до вопросов, может, и дело не дойдет.
Но Рита все равно боялась и все равно про себя твердила: «Георгий Степанович, Георгий Степанович, Георгий Степанович… Не забыть, не забыть, не забыть!»
Когда ученый секретарь совета дала Рите слово, в зале, кроме них, были: председатель совета, два официальных оппонента, три Ритины подруги и ее мама. Члены совета продолжали пить как бы чай и на Ритину защиту не спешили. Было обидно, конечно. Но зато была надежда, что, не услышав выступления диссертантки, дотошный Баранов (на защите докторской он, конечно, обозначился, задав целых четыре вопроса, — остальные члены совета вели себя мирно) ничего спрашивать не будет. И все тихо-спокойно проголосуют «за» — к голосованию-то народ из банкетного зала должен был подтянуться.
Но Баранов вернулся раньше — как раз к обсуждению. И задал-таки вопрос. И вопрос-то нетрудный.
— Благодарю вас, Георгий Баранович, за вопрос, — уверенно начала Рита.
И тут же стены зала медленно поплыли у нее перед глазами: она поняла, что произошло то страшное, чего она так боялась. Страшное и непоправимое. Что лучше — потерять сознание или сказать очень искренне и очень раскаянно: простите Бога ради?
Рита не стала делать ни первого, ни второго. Она стала обстоятельно и подробно отвечать на вопрос, благодарная членам совета и самому Баранову за то, что все они деликатно сделали вид, что ничего не произошло. И старалась не обращать внимания на улезшую под стол от беззвучного хохота Лену Зорину и маму в полуобморочном состоянии.
Рита рассказывала этот случай Стасу раза три, не меньше, придумывая при этом каждый раз какие-нибудь новые подробности. Стасу нравилось. Он любил смеяться — так же, как Ритина мама, открыто, громко и долго. Рита обычно не выдерживала — тоже начинала подхихикивать. И им было хорошо.
«Хорошо, — думала Рита. — Как хорошо, что он есть».
И тут же возвращалась памятью к тому кладбищенскому дню, когда они познакомились. Если бы они с девчонками не поехали тогда к Свете… Если бы… Если бы мама Стаса была жива… Если бы Рита…
На этом месте логическую цепочку нужно было безжалостно рубить и говорить себе: не думать, не думать, не думать. И тут же всегда в висках начинало стучать: а если Стас узнает?
Основания для опасений были. Стас однажды зашел вместе с Ритой в ту самую библиотеку. Ему там зарадовались-заулыбались: как твои дела, Стасик? Не женился, Стасик? Что же ты к нам не заходишь, Стасик?
Как же Рита не сообразила, что ему не надо было появляться там с ней? Правда, библиотекарши, может, и не поняли, что они вместе, — так ему обрадовались.
Но с тех пор Рита начала думать, не рассказать ли… Если рассказать, то как? Как?
Он сам все узнал. И позвонил.
— Ты же знала, знала, что я… Что… что это — моя мать. Ведь знала… Знала с самого начала. Зачем же… Зачем же ты…
Рита, застыв, слушала короткие гудки. Слушала долго, пока не подошел заподозривший что-то неладное Саша. Он расцепил непослушные Ритины пальцы и положил трубку на рычаг. А Рита, оставшись на месте, все продолжала слушать гудки, резкие и беспощадные, похожие на замедленную запись автоматной очереди.
Я ПОЗВОНИЛ ТЕБЕ, ЧТОБЫ…
Татьяна ждала звонка, которого могло и не быть. Поэтому радостно-нетерпеливое ожидание смешивалось с порцией горечи того, что называют неразделенной любовью. Правда, была ли это любовь после всего, что в ее жизни уже насовершалось, — сказать было трудно. Но уж больно похоже. И вместе с тем неожиданно ново. Потому что на стороне объекта — полный штиль, в то время как ее изматывают ежедневные бури и шторма.
Начнем с того, что Татьяна не просто привлекательна — она потрясающе сексапильна. Как только выяснилось, что в бывшем Советском Союзе секс есть, слово это — «сексапильность» — стало очень даже модным. И Татьяне оно нравится — понятно почему. Потому что она имеет к нему самое непосредственное отношение. Ее все всегда хотят. Особенно маленькие мужики — ну просто млеют, когда она рядом. Еще бы! Рост, ноги, талия — как у манекенщицы, а все остальное — гораздо лучше: как у нормальной русской бабы. Шикарные бедра и роскошная грудь, которая не всегда помещается в бюстгальтер третьего размера, и поэтому Татьяне иногда приходится покупать четвертый.
Да и на лицо она, прямо скажем, очень даже. Глаза, зеленые миндалины, просто русалочьи — потому что в них всегда плещутся: нежность, лукавство и призыв. Это Татьяна, конечно, не сама так придумала. Был у нее один… Поэт. Вот он и изощрялся. С булгаковской Маргаритой все сравнивал и называл ее рыжекудрой ведьмой, самой красивой и лучшей ведьмой на свете.
Ведьма, а вот ни черта не, получается с Бакшинскасом. Это фамилия такая — Бакшинскас. Не выговоришь, даже про себя с трудом произносится. Он или латыш, или литовец — точно Татьяна не знала. Знала, что из Прибалтики. Имя у него тоже нерусское, очень красивое и в отличие от фамилии певучее — Илгонис, с ударением на первом «и». Только Татьяна, хоть и запинается постоянно, называет Илгониса чаще по фамилии — нет, не в разговоре с ним, а когда думает про него или рассказывает о нем Лариске.
Бакшинскас высокий (метр девяносто в нем точно есть), светловолосый, с небольшими глазами цвета Балтийского моря в пасмурную погоду. Лицо вроде бы и не очень симпатичное, но притягивает своей интеллигентностью. Татьяне оно показалось сначала неинтересным и незапоминающимся, но теперь она этого уже не сказала бы. Замечательное лицо. Лучшее на свете. И взгляд: всегда спокойный и всегда внимательный. А форма как ему идет!
Татьяне вообще форма у моряков нравится, хотя в ней в их городке каждый второй ходит. Самое интересное, что она сама же эту форму и носит. Мичманом служит. Отец в свое время устроил, он у нее в штабе флотилии служил. Капитана первого ранга получил, в отставку вышел — и они с мамой уехали в Ленинград. А Татьяна осталась. Куда в Ленинград-то ехать: опять с родителями жить? А здесь у нее квартира трехкомнатная, сама себе хозяйка. Получает неплохо, конечно. Да и привыкла Татьяна к Северу. Нравится ей здесь. Море, сопки, белые ночи. Вот сейчас уже десять вечера, а солнце стоит над заливом и в нем отражается. Красиво. Это такой вид у нее из одного окна, а из другого — похуже, на помойку.
Что-то она отвлеклась. Она же про Бакшинскаса думала! Про то, как идет ему форма. А как он говорит! Этот акцент… Он-то, наверное, и свел Татьяну с ума. Еле заметное растягивание слов, чуть более твердые мягкие согласные и не всегда правильное ударение. Как скажет: «Танечка («ч» у него тоже особое, с призвуком «ш»), разве ты не знаешь…» — так Татьяна сразу замирает и перестает понимать, где она и что с ней.
Но как же измучил ее этот холодный прибалт со своим завораживающим акцентом!
Позвонит — не позвонит, улыбнется при встрече или лицо останется непроницаемым, скажет хоть что-нибудь, за что можно уцепиться и жить этим день-два, или набор фраз будет соответствовать стандарту — от всего этого Татьяна уже устала. И все-таки именно это составляло теперь ее жизнь, и изменить что-либо было уже совершенно невозможно. Поздно.
«Влипла, — думала Татьяна, постепенно раздражаясь. — Дура! Веду себя, как глупая весенняя кошка».
Отношения были странными. Такими же оставались и после того, как нерушимость всех границ Татьяниными целенаправленными стараниями и неимоверными ухищрениями была нарушена. Казалось, что уж после этого, восхищенный и покоренный, он торжественно объявит, каким был до этого идиотом, и будет требовать следующей встречи и сгорать от нетерпения.
Но он — не сгорал. И совсем-совсем ничего не требовал. Но — звонил. Каждый их разговор одновременно убивал последнюю надежду и неизменно рождал новую (ведь позвонил же все-таки!). Обманывая себя, Татьяна лелеяла мысль о том, что слышать ее голос стало для него потребностью. Хотя знала, что сегодня, например, он должен позвонить только потому, что обещал это вчера. А раз обещал…
— Исполнительный ты мой, — обычно говорила Татьяна в трубку с нарочитой издевкой, чтобы скрыть волнение.
А про себя — скороговоркой: «Гад, сволочь, ненавижу!» И думала при этом: «Это благородство, великодушие — зачем?» Ну не нужна она ему, не хочет он ее — так и послал бы подальше. Но — не пошлет. Интеллигентный. Обидеть не хочет. А самой отвалить — ну никак. Не получается. Не слышать его, не видеть — зачем тогда жить?
— Ты все-таки позвонил, — говорила она обычно, замерев в ожидании того, что он скажет сейчас наконец что-то такое, такое…
Но Бакшинскас полным достоинства и благородства голосом отвечал одно и то же:
— Я же обещал.
После этих слов всегда хотелось расцарапать ему физиономию. Но он был далеко — на том конце провода. И ведь всегда, мучитель, знал, что можно обещать, а чего — нельзя. Пока Татьяне неизменно удавалось в очередном телефонном диалоге вытянуть только одно — что он позвонит на следующий день. Вероятно, ему это было в тягость. Она это понимала. И страдала от этого. Но снова и снова сооружала эту голгофу, обрекая себя на бестолковое, мучительное, всепоглощающее ожидание.
Вот и сейчас, как всегда, кругами — вокруг телефона. Проверить — работает ли, а то вдруг — нет. Гудит, нормально все.
«Ну быстрее бы уж, — думала Татьяна, садясь рядом с телефоном на пол (была у нее такая привычка), — может, удастся наконец заманить его в гости. На чашечку чая. Или кофе. Да, кофе он, кажется, любит больше. Итак, на чашечку кофе».
Решено: разговор должен закончиться уже не по телефону, а здесь — у нее. А поэтому — нельзя терять ни секунды!
Зажегшийся на мгновение хищный огонек быстро погас в зеленых Татьяниных глазах, которые не замедлили тут же наполниться слезами. А слезы (дело для Татьяны обычное) были о ее любви (или что там это было), его нелюбви (тут-то все ясно) и бог еще знает отчего. И казалось ей сейчас, что никогда и никого она не желала столь страстно, как Илгониса Бакшинскаса. А может, так оно и было.
Плакать она перестала так же быстро, как и начала, сообразив, что тратить время на это мокрое дело некогда. Татьяна вскочила с пола и заметалась по квартире. Хотя путь был ясен: быстренько-быстренько в ванную. Телефон, естественно, она поволокла за собой, спотыкаясь и путаясь в длинном шнуре. Чуть не растянулась вдоль узенького коридора сама, чуть не выронила из рук аппарат — так спешила. Слишком много нужно успеть!
Вода, главное, есть. Уже удача. А ведь могло бы и не быть. Запросто.
Стоя под душем и рассматривая себя в зеркало, Татьяна думала о том, какой же все-таки этот Бакшинскас непроходимо-дремучий дурак. Ведь хорошо же тогда ему было с ней. Сплошной восторг — с его же, между прочим, стороны. Тоже русалкой называл, тоже глаз отвести не мог. И еще сказал: «Танечка, ты как будто сошла с полотна Рубенса». Ну, насчет Рубенса надо еще сильно подумать: комплимент это или как? Но все равно ясно, что обалдел мужик от ее красоты. Ведь ясно как Божий день! Тогда почему? Почему он ее не хочет больше?
Не понимая Бакшинскаса, Татьяна не забывала напряженно вслушиваться, постоянно высовывая то правое, то левое ухо из-под теплых струек душа. Одновременно вспоминая, размышляя и блаженствуя, она уже совершенно забыла о том, что телефончик-то стоит себе рядом в ванной на полу, обдаваемый веселыми брызгами. О него же голая, чистая и вполне собою довольная Татьяна и споткнулась. Чертыхнувшись, бережно взяла драгоценный аппарат и отправилась в комнату.
Неожиданно резкий звонок под рукой заставил заметаться по квартире вместе с телефоном на вытянутых руках. Прежде чем взять трубку, хотелось хоть что-нибудь на себя накинуть. Разговаривать с Илгонисом (а это, конечно, должен быть он) Татьяна прямо так, как есть, почему-то не могла.
Уже второй звонок — а халат еще не обнаружен. Назад, в ванную! Кое-как попав в рукава, Татьяна торопилась к разрывающемуся телефону. Успела!
Но голос в трубке (донельзя противный голос, надо сказать) требовал Инну Петровну. Сил не хватило ни на то, чтобы спокойно сообщить: «Вы ошиблись», ни тем более на то, чтобы яростно крикнуть: «Нет здесь такой!» Просто рука с трубкой бессильно опустилась, а истеричная тетка на том конце провода все продолжала верещать:
— Инна Петровна, вы меня слышите? Слышите?!
— Нет, не слышу, — сказала самой себе шепотом Татьяна и положила трубку.
Заниматься своей внешностью расхотелось. Думать о том, что надеть, — тоже. Она улеглась на диван. Чего ради напрягаться? Все равно никакой встречи не будет. Хотя… Кто знает? Нет, нет, надо быть готовой — или самой бежать, или у себя встретить. Быстрее! Что надеть? Вечная проблема с бельем! Что у нас там на выход есть? То, что красиво, — не слишком удобно. И наоборот. Да и красивого-то — раз-два и обчелся. Но все же… Раз в прошлый раз (давно это было, но ведь было!) — белое, значит, сегодня — черное. Сначала — трусики, слегка маловатые для ее бедер, но ничего. И сразу, разумеется, к зеркалу. Нормально, хотя животик все-таки надо сгонять. Ничего, пока в себя будет втягивать — вот так. Главное, боком не поворачиваться. Черный бюстгальтер надевался с большим чувством и желанием, так как то, что он облегал, было без изъянов. Грудью своей Татьяна гордилась и втайне всегда на нее рассчитывала. Ну еще — колготки, а все остальное — не так уж и важно. Правда, Лариска говорит, что на мужиков просто сногсшибательно действуют чулки, а не колготки. Ежу понятно, что чулки выглядят сексуальнее, но Татьяна все как-то не соберется их купить. Насчет всего остального она решила сейчас голову не ломать:
— Буду пока в халате. Успею, если что.
А поскольку на «если что» надежда хоть и была, но было ее очень мало, — она решила пока отвлечься на какие-нибудь домашние дела. Но какие? Дел-то полно. Хочешь — стирай, хочешь — гладь (сваленное в кресло пересохшее белье топорщилось во все стороны). Но об этом и речи быть не может! Где же взять сил и на ожидание, и на такие грандиозные дела? Негде! Получается — только ждать. Можно попытаться почитать. Только получится ли? Стоп! Татьяна резко затормозила на пути к книжным полкам. Ну будет наконец звонок, будет разговор. А фон? Музыкальный фон где?! Она совсем об этом не подумала, балда. Что бы такое поставить? Что он любит? О музыке, кстати, они говорили частенько. Про Стиви Уандера вспоминали как-то. Он не был оригинален, назвав любимую вещь — «Я позвонил тебе, чтобы сказать: люблю». На последних словах голос Бакшинскаса дрогнул, она это точно тогда услышала. И растерялась. И кажется, сморозила в ответ какую-то глупость.
Быстрее найти кассету! Вечная неразбериха: ничего не подписано. Не успеть… Спокойно, спокойно. Сейчас найдется. Кажется, вот эта, с зелененькой полосочкой. Где-то в конце — но на какой стороне? Татьяна судорожно нажимала кнопки: не то, не то, не то. Все. Нашла. Ура! Надо поставить не на самое начало, а вот здесь, попозже. Все отлично. Теперь, как только зазвонит телефон, — не забыть нажать клавишу.
Ну а пока посуду, в раковине сложенную, все-таки придется помыть. Татьяна лениво отправилась на кухню, открыла кран. Застыла с чашкой в руке, не понимая: зачем чашка, зачем вода? Все — зачем? Она завернула кран и поставила грязную чашку в раковину к немытым собратьям. Даже на это сил нет. А ведь надо бы отвлечься, надо, а то так и свихнуться недолго.
— Глупая весенняя кошка, — теперь уже не подумала, а сказала Татьяна вслух и подошла к окну.
Открывающийся с четвертого этажа вид на помойку был, как всегда, задумчив и хмур. Правда, немного радовала дорога, которая вела прямо к Татьяниному подъезду. И тех, кто направлялся к ней, всегда можно было увидеть заранее и успеть сообразить, дома она для них или нет.
Сейчас по дороге шла тетя Нина, соседка. Шла из магазина, неся в одной руке, высоко подняв, как спортивный кубок, курицу. Курица гордо реяла над тетинининой головой, растопырив крылья. Правда, голова у нее как-то жалковато склонилась в сторону. Победно и властно сжимая куриные ноги, тетя Нина шла решительно. Было ясно, что процесс приготовления добычи не будет отложен ни на минуту.
Татьяне стало жалко неживую курицу, жалко тетю Нину, которая отстояла в очереди за дешевой курицей никак не меньше двух часов. Было странно, что от Татьяниной жалости, которая вся обычно предназначалась ей самой, кому-то достался кусочек. Так почему-то получилось.
Но соседская курица была быстро забыта. Надо бы подумать о том, чтобы к Татьяне сегодня никого не принесло. А то вон Лариска вчера приперлась как раз в тот момент, когда его голос в трубке вдруг стал таким близким, таким… А тут звонок в дверь — Лариска на пороге собственной персоной. Ну и скомкано было все: «Пока, позвонишь завтра?» — «Позвоню»… А могло бы быть и по-другому. Лариска хлоп-хлоп глазами: «Я помешала?» Конечно, помешала. Еще как. Все испортила. Все! Но разве это скажешь? Скажешь другое: «Ну что ты, Ларис, конечно, нет. Проходи».
Но как же это все увязать: и окно с Лариской, и звонок, и Уандера?
— Полежу лучше, — решила измученная Татьяна.
Но сначала — еще раз к зеркалу. Вроде все на месте. А может, ему не нравятся ее слишком пышные формы? И он не зря про Рубенса сказал? У них там, в Прибалтике, женщины худые все. И страшные, надо сказать. Татьяна давно, когда Прибалтика еще не отделилась, была по путевке в Риге, Вильнюсе и еще каких-то городах. Города понравились, мужчины — тоже, а вот женщины… У них еще в группе мужики специально подсчитывали, сколько более-менее симпатичных женщин на улице встретят. И все время получалось, что если — ничего из себя, то обязательно — в шапке меховой. А это значит — наша! Ихние-то шапок не носят, мерзнут, синие все — а одеты все равно легко, в куртенках да в джинсах. Ну а русские — с воротниками песцовыми и в шапках, тоже из песца. В общем, не встретили мужики наши такой, чтобы одета была как прибалтка, а красивая — как русская. И все говорили: «Вот наша Татьяна!» Ну на Татьяну-то шеи все сворачивали: и русские, и нерусские.
В бар тогда с девчонками пошли при гостинице. Да не в простой, а со стриптизом — у нас-то этого тогда и близко не было. Ну и все мужики смотрели не на маленькую сцену, где извивались худющие стриптизерши (кости одни!), а на нее — Татьяну. Ну и девчонкам из группы тоже внимания перепало: они все как на подбор смазливые были. Похуже Татьяны, конечно, но все-таки…
А Татьяну в конце концов увел к себе в номер немец один. По-русски — ни бельмеса. Только все головой качал, на Татьяну глядя. Не видел, мол, таких. И сразу на стол выложил двести марок. Татьяна возмутилась, головой замотала: я не проститутка! Но деньги взяла — на следующий день обменяла у валютного магазина и купила себе фирменный джинсовый сарафан, кожаную куртку из кусочков и еще много чего по мелочи. Немец ей, кстати, не понравился. Она тогда хоть и глупая еще была, неопытная, но хорошего мужика от плохого отличить могла.
Конечно, к настоящему моменту опыта у Татьяны накопилось — дай Бог всякой! А вот не клюнул Бакшинскас. Ну что же ему все-таки надо? Что?!
Татьяна отошла от зеркала, села в кресло. Закурить, что ли? Нет, курящих он не любит. Да она и некурящая. Так, иногда, для завязывания знакомства.
Да, не забыть, когда зазвонит телефон, магнитофон сначала включить — и погромче, чтобы слышно было, что не просто музыка, а «Я позвонил, чтобы сказать: люблю».
Нет, все-таки надо помыть посуду. Татьяна отправилась на кухню. Она мыла чашки-ложки не слишком старательно, вся обратившись в слух и ожидание, готовая бежать к телефону, как только он подаст голос.
— Да не к телефону, а к магнитофону! — спохватилась Татьяна.
И тут же сокрушенно покачала головой: забудет, как пить дать забудет. Господи, ну как же сосредоточиться?
— Все, спокойно, — сказала она себе вслух. — Маг-ни-то-фон. Поняла? Иначе все испортишь. Поняла меня?
Но телефон зазвонил совсем не в тот из моментов, когда Татьяна была готова рвануться к нему, или нет, сначала — к магнитофону. Звонок раздался совсем-совсем неожиданно, когда она все-таки не на шутку увлеклась мытьем: чашечку вдруг захотелось содой почистить. Чашка вылетела из рук, но не разбилась. Через две секунды мокрая Татьянина рука уже лежала на телефонной трубке. Балда! Магнитофон! Бегом в комнату — пока только второй звонок, это нормально, но до третьего надо успеть.
Есть контакт! Вот только теперь можно взять трубку. И немного лениво и небрежно:
— Але…
— Танюша, привет!
Господи, кто это?! А это был Саша, Ларискин муж. «Давно клинья подбивает», — неприязненно подумала Татьяна. Сказала же она ему еще года два назад: «Я с мужьями подруг не сплю!» Нет, звонит.
— Чего тебе, Саш?
— Скучаешь, Танюшка?
— Нет. Не скучаю, — почти спокойно ответила Татьяна, думая, как бы было хорошо послать его куда подальше. Но нельзя. Что-нибудь приколотить, кран починить — всегда приходит. Вместе с Лариской, конечно.
— У тебя там все в порядке? А то, может, лампочка какая отвинтилась? Так я мигом.
— Когда отвинтится, я вас с Ларисой на ужин позову, ты знаешь.
— А без Ларисы?
— А без Ларисы — это не ко мне.
— Да ладно, я пошутил.
Ага, пошутил, как же. Знаем мы вас, шутников. Только свистни. Тут же прибежите. И убежите также быстро. К жене и к детям.
А Илгонис, между прочим, свободен. Разведен или не женился — не говорит. Свободен — и все. Татьяна верит. Другому бы никогда не поверила, а ему верит. Свободен, а вот не набивается к Татьяне в гости, как все эти кобели. Почему? Чем она ему не угодила в прошлый раз, спрашивается? Чем?!
— Тань, ты меня слышишь?
— Слышу.
«Я-то слышу, — думала Татьяна, — а вот Лариска бы твоя послушала». А то: мой Саша, мой Саша. Такой же, как все, твой Саша. Сама-то Лариска не промах, а про мужика своего думает, что он у нее ангел во плоти. Вот рассказать ей как-нибудь… Не поверит. Скажет: «Это ты от зависти, что у меня и муж, и любовник». Да, не поверит. А чего не верить? Знает ведь, что на Татьяну все западают. Твой-то из другого теста, что ли?
— Тань, что-то ты молчаливая такая? Расскажи что-нибудь.
Вот привязался. А если сейчас Бакшинскас позвонит? А у нее занято и занято. Все, хватит!
— Саш, ты извини, я не могу долго разговаривать.
— А-а, — многозначительно протянул Ларискин муж.
«Бэ», — сказала про себя Татьяна, а вслух скороговоркой протараторила:
— Пока, пока, пока. Лариске привет!
Положив трубку и вздохнув с облегчением, Татьяна подумала, как здорово она подколола Сашу с приветом для жены. Ничего, полезно. А то ишь, раздухарился. Да и не нравится он Татьяне нисколько. Так, пустомеля. Вот Бакшинскас! У того — каждое слово на вес золота. Вчера, когда она спросила, почему он все-таки звонит ей, он сказал:
— А ты разве не понимаешь, Танечка?
И все. Замолчал. И Татьяне, чтоб заполнить паузу, пришлось собирать все подряд: про службу, про погоду. Ну не знала она, что можно придумать в ответ на его вопрос. Ну хорошо, сказала бы: не понимаю. И что, он объяснился бы в любви? Да как же! Ждите! Но ведь именно это должно подразумеваться — разве не так? Звонит, потому что хочет слышать. Звонит, потому что любит. Звонит, потому что…
Ну вот, Уандер все уже спел. Надо перемотать назад. И сидеть рядом с магнитофоном, а не носиться как угорелая. А то вон какая запыхавшаяся с Ларискиным Сашей разговаривала.
Не хотелось бы, чтобы Лариска узнала, как Саша ее на Татьяну облизывается. Не дай Бог. Не хочется терять подругу. Она ведь одна и осталась. Были другие, раньше. Но… Те, кто замужем, потихоньку откололись, потому что боятся за своих мужей. А незамужние не выдерживают конкуренции с ней. Вот и отсеялись все.
Была до Лариски хорошая подруга — Наташа. Очень хорошая, они со школы еще дружили. Но после школы Наташа уехала учиться в Ленинград, вышла там замуж и сюда к родителям приезжает редко. Но в каждый ее приезд они, конечно, виделись. И Татьяна у нее в Ленинграде сто раз была. А года два назад, когда Наташа приехала на недельку, засиделись они как-то у Татьяны. Выпили, конечно. И сказала лучшая подруга в ответ на горькие Татьянины слезы: «Хочешь правду? На таких, как ты, не женятся. Понимаешь?» Вот такая банальная фраза прозвучала. В этот момент дружба и закончилась. Навсегда. Татьяна неделю ревела. И все думала: на каких — «таких»? Чем она хуже всех? Чем? Ну были у нее, конечно, мужики. И что теперь? Да из нее, может, такая жена получится, что вам всем и не снилось! Она ведь хозяйственная. И шьет, и вяжет. А готовит как? Наташа так готовит? Или Лариска? Котлет готовых купят или пельменей — и травят этим своих мужиков. Да разве бы она так мужа кормила? А ребеночку сколько бы нашила да навязала! На таких не женятся… Да что она, проститутка какая? Жены эти офицерские заколебали, пальцем тычут. Да не нужны мне ваши мужики, кобели трусливые. Подавитесь вы ими!
Татьяна плакала долго. Успокаивалась — и начинала снова. Всю свою жизнь перебрала. И все никак не могла понять, почему она такая несчастливая. Вот уж правду говорят, не родись красивой…
Все только хотят. А любить боятся.
— Господи, ну почему так все плохо? — причитала Татьяна уже вслух. — Почему?
Устав плакать, устав ждать звонка, Татьяна подошла к телефону и отключила его. Все! Хватит!
Она свято верила, что сейчас ляжет и уснет. Но уже через десять минут поняла, что это совершенно невозможно. Подключив телефон, Татьяна набрала номер части Бакшинскаса. Он должен был дежурить.
— Это я.
— Танечка. У меня не было возможности позвонить раньше. Только сейчас один остался. Сижу и думаю. Звонить или нет. Поздно уже. Почему ты молчишь?
— Я не молчу.
— У тебя все хорошо?
— Да.
— Мне кажется, ты очень грустная. Это так?
— Так.
— Почему?
— Не знаю.
— У тебя неприятности на службе?
— Нет… Не знаю… Наверное…
— Танечка, не грусти. Спокойной тебе ночи. Хороших снов. До свидания?
— Илгонис, ты позвонишь завтра?
— Не знаю. Если смогу.
— А послезавтра?
— Позвоню.
Татьяна положила трубку первой, чтобы опередить его, чтобы не слышать душераздирающих коротких гудков (он всегда почему-то клал трубку первым).
Она отошла от телефона и включила Стиви Уандера. Вот и все. Вот и поговорили. Вот и все.
Звонок раздался ровно через минуту.
— Танечка, я давно хотел тебя спросить. Только не знал. Наверное, это надо не по телефону. Скажи…
Илгонис говорил медленно и делал почти после каждого слова огромные паузы, в которые Татьяна проваливалась, уже летела в зияющую черноту, но тут у Бакшинскаса рождалось наконец очередное слово — оно-то и вытягивало Татьяну наверх.
— Танечка. Я очень. Боюсь. Твоего отказа. Понимаешь? Я не знаю. Смогу ли сделать счастливой. Такую женщину.
«Господи, про что он? — заметалось в Татьяниной голове. — Какую женщину?»
— Танечка. Наверное, так не делают. Наверное, руку и сердце предлагают не по телефону. Но я… Что с тобой? Ты плачешь? Танечка, ты плачешь? Скажи что-нибудь.
Но Татьяна не могла ничего сказать. Не могла. Сев на пол и прижимая одной рукой драгоценную трубку к уху, другой она зажимала рот, чтобы заглушить рыдания. Но, прорываясь сквозь растопыренные пальцы, они получались еще громче. И заглушали Стиви Уандера, который уже допевал последние строчки своей песни.
СТИХИ
ЖЕЛТОЕ С ФИОЛЕТОВЫМ
* * *
Оле
Желтое с фиолетовым — Это маняще и странно. Завтраки эти с омлетами Опостылели несказанно. Чай? Кофе? Булку? Масло? Боже, ну сколько может В этих словах напрасных Повторяться одно и то же? Пусть тараканьи обои, Пусть неустроенность скита, Только б остаться собою, Тою, еще не забытой. Робко открыться первому Встречному на дороге. Понятою быть верно Странником этим убогим. И увязаться босою За ним и душой и телом, И умываться росою Под взглядом его неумелым. Желтое с фиолетовым. Разве такое бывает? Завтрак с привычным омлетом. Кофе уже остывает…* * *
Полусон обнаженных берез… Это тоже — в мой старый альбом. Потемневшие ветки — от слез, Черной тушью на голубом. Черной тушью — и твой силуэт, Затерявшийся вдалеке. И судьбы короткое «нет» Тонкой линией на руке. Как смириться с тем, что дано? Я захлопну старый альбом. Это было? Было. Давно. Черной тушью на голубом.* * *
Я — солнце, я — ливень, не надо со мною бороться. Не надо проклятий, не надо тоски или слез. А в жизни другой мы встретимся вдруг у колодца И затеряемся вместе в роще из белых берез. И все будет просто, все будет просто и мило В этом придуманном кем-то сказочном уголке. Но и сейчас не надо слов этих умно-унылых. Но и сейчас не надо сердце держать на замке. Я — солнце, я — ливень. И с этим придется смириться. Восторгу отдаться, забыв про условности света. И всех полюбить, и видеть лишь добрые лица. Я здесь. Я с тобой. Я жду твоего ответа.* * *
Я рисую цветы — лопушистое чудо, Я рисую их желтым, иногда — голубым. И из снов иль из были — непонятно откуда — Их окутал уже нежно-розовый дым. Мне неведомы кисти пути, и поэтому Я не знаю, что выйдет. Не знаешь и ты. Но спешу, понимая, что нужно к рассвету Мне успеть. Не мешай. Я рисую цветы.* * *
Оле
Я в своих фиолетовых снах Высока. И стройна. И красива. И за то, что добра, — в цветах. И за то, что умна, — любима. Я в своих черно-белых днях Так обычна, бездарна, мала. Отражаются в зеркалах Мелкомысли и мелкодела. И когда нестерпимо больно, Разум с сердцем — не в унисон, Говорю: «Не желаю. Довольно». И иду в фиолетовый сон.ЕДИНСТВЕННОМУ
* * *
Тихо январским вечером. Снова полеты в сны. Снова шептать доверчиво Губы обречены. Шептать молитву, оторванную От бремени бытия. Но времени бега упорного Не замедлим ни ты, ни я. Не замедлим мы бега вечного. Мне снова дремать одетой, Путая дым Млечного С дымом твоей сигареты.* * *
Не родилась я верной, не родилась я скромной. Это судьбой, наверное, было предрешено. Но в жизни такой огромной после встречи с тобою, Таким хорошим тобою, затеряться мне не дано. И однажды тоскливым вечером, роясь в последних событиях, К тебе прижавшись доверчиво, а думая лишь о себе, Я поражусь вдруг открытию: ты — мой надежный остров. Боже, как это просто. Я благодарна судьбе.* * *
Я ревнива, коварна и зла. Я кротка, терпелива, доверчива. Я Агарью была еще вечером, А наутро уж Сарой была. Ты прости меня, милый, за то, Что я слез от тебя не таила. И прости за то, что бранила. А безгрешен и праведен кто? Я другою не стану теперь. Только знаю: немного осталось. Беззаботной синичкою радость Вдруг впорхнет в незакрытую дверь. Ты, конечно, все сразу поймешь. Узнавание сменится болью. И заменишь обиду любовью. Только этим меня не вернешь.* * *
И если в лицо тебе брошу: ты мне больше не нужен, И если глаза отведу: пойми и прости меня, Лучший, единственный мой, я умоляю: не слушай. Лучший, единственный мой, верь, говорю не я.МЫ ВСЕ УЙДЕМ…
* * *
Ах, успокойтесь. Слишком много Нашлось виновников. К чему? Мы все находимся в плену У рока, дьявола и Бога.Правосудие
Затаиться. Молчать. Не впускать В свою душу всех тех проходимцев, Кто давно меня хочет понять, А точнее — добить и добиться Правды некой — какой-то не той, Что пытаюсь я всуе им выдать. Осень, с палой твоею листвой Я хотела б, пожалуй, покинуть Мир и этих постылых судей… Вот взошла на костер. Огня! Я сама себе правосудие. Даже Бог — только после меня.* * *
Марине Цветаевой
Я купила розы. Это Вам. Пусть постоят в индийской вазе черной. Я дарю их Вам. И непокорной Музе. И заоблачным стихам.* * *
Марине Цветаевой
Незнанье жизни. Познанье смерти. Вы так к ней стремились, всегда спеша. И сквозь преграду асфальтовой тверди — Ваша — травинкой зеленой — душа.* * *
Памяти Полины, Андрея
Неслышные шаги крадущейся беды. Кто жертва, кто злодей? — неведомо пока. Но черным затянулись облака, В руках у дьявола — правления бразды. И снова — кровь, и снова — смерть. Они — Шальные спутники навечно жизни кроткой. Жизнь ангелов становится короткой. И гаснут, гаснут незажженные огни. Огни добра, любви, и веры, и смиренья. От них, от несгоревших, — угольки. Зияют бездной черные зрачки Беды, не знающей ни меры, ни сомненья. Но я прошу, я умоляю вас: не верьте, Что луч, блеснувший вдалеке, — обман. Мы все уйдем, закутавшись в туман, Туда, где нет ни зла, ни тьмы, ни смерти.Сосны
Сосен стволы, и стволы, и стволы… Вот и тропинка — но я ей не верю. Где-то накрыли печалью столы, Руки сложили и ждут потерю. Будет потеря, немного осталось. Только не надо биться в истерике, Жизнь — это все же такая малость, Знаю, сказав, не открыла Америки, Но очень хочу, чтоб вам не было больно, Мне ведь там легче так будет, поймите. Буду вас ждать с запоздалой любовью, Только средь сосен меня отыщите.Ни о чем
А что не сон — то явь, а что не явь — то сон. Сменяют ночи дни, а дни уходят вон. Завесой черной — ночь, сияньем светлым — день, И все сомненья — прочь, и душит душу лень. А что не жизнь — то смерть, а смерть — совсем не страшно. Сменяют ночи дни, а я — во всем вчерашнем. Вчерашней боли бред, вчерашних былей — сон. И не найти ответ. Да и не нужен он.Одиночество
Корноухая елка, Лесная свечка, Опустила иголки, Сжала губы в сердечко. Одиноко и холодно. На поляне одна. Одинокому ворону — И тому не нужна. Одиночество — мгла. Одиночество — сон. И стоит над поляной Одиночество-стон.* * *
Все — свыше. И эта тень на зимнем стекле, И этот неясный, мерцающий свет. Тепло ладони моей — в твоей руке, А меня самой давно уже нет. А я спешила к тебе, коней гнала. Они несли меня над толпой. Но избавительница в белом поняла. И обняла. И увела с собой.* * *
Сердцу не хватает чистоты, Робости, наивности, смиренья. Лиц родных прекрасные черты Преданы давным-давно забвенью. Суть моя почти уже смирилась С пошлостью, обманом, суетою. Жалость принимается как милость, Святость уж не кажется святою. И душа ушедшая лишь изредка Промелькнет (вот отчего смятенье!) То волнующим и легким белым призраком, То неясной и тяжелой серой тенью.Я бегу
Отводя виновато глаза От уродств нашей жизни беспутной, Я бегу, я боюсь опоздать — Не на день, не на час — на минуту. На минуту остаться без денег, На минуту остаться без радости, На минуту остаться без терний, Я бегу, я спешу — не до праздности. Я бегу, чтоб не чувствовать боли, Чтоб не видеть глаза всех нищих. Я бегу. Нет иной мне доли. Я бегу — только ветер свищет.* * *
Телефон нем. Холодна ночь. Нет ни слов, ни тем. Не помочь. Словно дым, сон. Сон-пророчество. Так приходит в дом одиночество.* * *
Я зажглась. И остыла. И снова — мгла. Пусто. Страшно. Зачем? Для чего я лгала? Не хочу ничего. Ни к чему не стремлюсь. Что останется мне, если все же очнусь? Одиночество? Пусть. Просветление? Жду! Но… Отпустите меня. Я должна. Я уйду. Буду тихо брести на закат бытия. И молиться за вас. И молить за себя.ШЕСТЬ У МЕНЯ ИЛИ НЕТ?
* * *
Снег на зеленых листьях. Сколько еще им осталось? Снимет мою усталость Рябина, задевшая кистью. Усталость прошедшего лета, Усталость осенней печали… Тебя у меня отняли. Или приснилось мне это? Приснилось, что был ты рядом. Море, солнце и сосны. То насмешливо-грозно, То нежно лаская взглядом, Смотришь. И нет милее Мне ничего на свете. Море, ласковый ветер, Солнечная аллея… Было? Да нет. Приснилось. А наяву — все то же, Сметают лужи с дорожек. Осень. Усталость. Сырость.Уходящий баркас
Ты то, от чего отказаться нет сил. Нет сил. И нет слов, чтоб об этом сказать. Я не поверю, что ты разлюбил. Я не желаю об этом знать. А если и так, то пусть говорят. Только не мне и не сейчас. Твой уплывает из памяти взгляд, Как уходящий в море баркас, Как сон, который не вспомнить никак, Как акварели размытый след, Как ритм неясный в забытых стихах… Нет для меня тебя больше. Нет.* * *
Это было уже. Мелкий серенький дождь. На исходе — короткое лето. Нос приплюснут к стеклу — только ты не идешь, Ты опять задержался где-то. Задержался на час, и на день, и на год. Я кричала — не отозвался. Я стою у окна, дождь идет и идет. Ты на целую жизнь задержался.* * *
И не знаешь пока, что ты — для меня. Что глаза твои, руки твои — мои. И, меня совсем еще не любя, Ты ко мне отмеряешь свои шаги. Ты захочешь свернуть — а придешь сюда, Чтоб увидеть меня и быстро уйти. А я просто знаю, что это — судьба, Что ты должен был встать на моем пути. Но не смею с тобой задержаться я. Нет. Обойду. Пробегу. Миную тебя. Пусть горит в окошке твоем свет. Жаль, что кто-то зажег его до меня.* * *
Ты не был никогда моим. Минуты близости — не в счет. И стелется словесный дым, Но лишь саму меня влечет В страну знакомую — Любовь. Тебя туда не заманить. Как паутинка, рвется вновь Одна-единственная нить. Другой не будет. Это — все. Закутавшись в китайский плед, Я буду вспоминать мое… (Нет, вру, конечно, не мое) — Твое — безжалостное «нет».* * *
Эта встреча была нужна, Чтобы снова тебе понять: Я тебе совсем не нужна. И тебе не страшно терять То, что было только моим, То, что болью твоей не стало. Для тебя было много меня, А тебя для меня — мало.* * *
В мой дом ты больше не войдешь. Я занавешу окна темным. Не надо слов, они ведь — ложь, Ее не скрыть ни взглядом томным, Ни мертвенным сжиманьем рук, Ни поцелуем, долгим, страстным… Как лопнувшей струны испуг, Рук, вдруг взметнувшихся напрасно, Неясный, легкий силуэт. И вызывает лишь вопрос Твой наспех собранный букет Из осыпающихся роз.* * *
Я столько нежности несла — тебе. Я столько слов приберегла — тебе. А оказалось все не нужным никому, А оказалась снова я в плену Забытых снов, разбившихся надежд, Неярких, балахонистых одежд, Которые скрывают пустоту — Ах, как это «снижает высоту»… Но — кончено, уже не тяжело. Лишь слезы, словно битое стекло. И снег по-невзаправдашнему чист. И горько мне: совсем ты не артист (а впрочем, хорошо, что не артист). И слишком чист ненастоящий снег. И медленнее, медленнее бег За сном, таким красивым и простым. И чей-то смех, чужой надсадный смех, Который вдруг становится моим.* * *
И ближе вытянутых рук не пустишь, И сердца своего мне не откроешь, И все же не прогонишь, не отпустишь, Одним лишь словом снова успокоишь. А мне бы убежать, не оглянуться, А мне б опомниться, стать недоступной, гордой… Но не прозреть уже. И не очнуться. И вечный крест мой — быть тебе покорной.* * *
Уже июль. А я осталась в мае — Там, где твоя улыбка и весна. Все в прошлом. Ничего не понимая, Я знаю: напророчившая в снах Гадалка, видно, сделала ошибку, Хоть и светились вещие глаза. Скамья, цветы — расплывчато все, зыбко. И ты уходишь, слова не сказав. И следует самой мне догадаться, Что место для меня найти так нелегко В твоей душе. Ей далеко за двадцать. А мне — за тридцать. Очень далеко.* * *
Ты так умен. Ты так великодушен, Простив земные слабости мои. А впрочем, проще все — ты равнодушен К моей смешной, навязчивой любви. Прости мне и ее. Не буду досаждать Тебе я больше телефонными звонками. И только белой ночи обнимать Меня за плечи добрыми руками. Тепла твоих ладоней мне не знать, Твои глаза не будут больше близко. Так надо. Так должно быть. Но опять Болит душа — шальная скандалистка.* * *
Мне показалось, что ты со мною, На миг, на мгновение показалось. Но грустно качает сентябрь головою. А миг тот — и слабость твоя, и жалость.* * *
Вот и снова закончился день, Как и прежде, твоей неулыбкой. На лице — равнодушия тень. Хочешь, видно, считать ошибкой Все, что было в тот вечер у нас. Только было ли что? — вот вопрос. Но себя от меня ты не спас. И покой мой с собою унес. Ни покоя, ни сна. Тишина. Не нарушить ее никому. Затянувшаяся зима. И мы оба — в ее плену.* * *
Грустно звякнул возвращенный ключ. Это осени седеющей примета. Не бывает так, чтоб вечно — лето. И твой взгляд не холоден — колюч. Чем же виновата пред тобою? Тем ли, что любила и ждала? В сердце, обожженном той зарею, Боль твою я, как свою, несла? Не вини ты, не казни меня. Не надо. Знаешь, я сама себе судья. Тихо всхлипнула калитка сада. Ты не оглянулся, уходя.В поезде
Ты ушел от дождя, от меня, от любви. Да и мне задерживаться не резон. Скажи: неужели ты был моим? И сама же отвечу: забудь, это сон. А во сне можно все. Даже то, что нельзя. Закачался вагон под глухой перестук. И смывают с ладони струйки дождя Запах твоих удивительных рук.* * *
Блеск твоих глаз неверных. Нежность обветренных губ. Скоро ты будешь, наверное, Со мною не нежен, не груб. Глянешь с тоскою смертной, Будто не в срок разбудят. Я у тебя не первая, Сколько еще их будет. Знаю все, милый мой. Знаю. Взгляд твой — строже и строже. Я для тебя — земная, Ты для меня — тоже. И тот, для кого была я Звездочкой, светом, вселенной, Уставшим умом понимает: Все в этом мире тленно. Все в этом мире тленно. И с этим пришлось смириться. Без трепета бывшее сердце Давно научилось биться.* * *
Мы с тобой еще не столь близки, Впереди — восторги узнаванья, А уже не скрыть моей тоски От предчувствия расставанья. Я его сама потороплю И скажу «прощай» средь суеты вокзала. Я тебя уже почти люблю. И при этом знаю — опоздала. Опоздала встретиться с тобой До того, как ты любил других. Нет. Молчи. Дай все сказать самой. Ветер за окном давно затих. Потерялись нужные слова. Ты, пожалуй, прав. Зачем они? Солнце покатилось за дома… В окнах зажигаются огни…* * *
Ты есть у меня или нет? Пророчеств неясных туман. Лучшей подруги совет Не принят. Все ложь и обман. Не нравится шум дождя, Не радует блеск витрин. Ты позвонил, уходя? Или вернешься? Один Есть у меня ответ: Тебе не дано любить. Звезд предрассветных свет… Уснуть. Пережить. Забыть.Черные карты
Все карты — лишь черной масти. И только тузы — нечем крыть. Разорвано небо на части. Не ждать. Не казаться. Не быть. Бреду, отупев, обессилев, Ни в чем никого не виня. — У вас кто-то умер? — спросили. — Нет. Это убили меня.Плач об ушедшей любви
Мы расстанемся легко, я знаю. Ходим мы с тобой давно по краю. Затянуть бы от тоски песню. Посидеть бы у реки вместе. Посидеть в последний раз долго. Широка наша река, хоть не Волга. Будут звезды вдалеке падать. Расплескается в Оке память. Раздурачится, развеселится на прощанье. Ты не будешь больше сниться. Обещай мне.* * *
Я надену платье цвета глаз И пойду искать тебя повсюду. И найду. Но горьких слов запас Я растрачивать, поверь, не буду. И в глаза не загляну твои. И к руке не прикоснусь рукою. И ни слова — о растоптанной любви… Бог с ней — мне бы денег и покоя. Я надену платье цвета глаз И пойду искать тебя повсюду. И найду. И уж в который раз Все скажу. Ни слова не забуду.ПОДРАЖАНИЕ ЯПОНСКИМ ХОККУ
Повисло сердце В черном и гулком космосе. Предощущенье беды.* * *
Мертвы окна, мертвы двери. Да и я сама — Жива ли?* * *
Вычистили до донышка. Выскребли все до конца. И разрешили жить.* * *
Платья с берез соскользнули. Не стыдно, Но очень горько.БУСИНЫ НА ВЕРЕВОЧКЕ
* * *
Кто-то робкой рукою нанижет На веревочку бусины черные…* * *
Листиком клеверным легла моя душа Под твой каблук, не столько безжалостный, Сколько неловкий…* * *
И горький запах одуванчиков Меня преследовал и звал.* * *
Как мало лиц красивых. Как обидно Не находить их в уличной толпе.* * *
Твои глаза, холодные, спокойные. И золото молчания. И ровный свет свечи…* * *
Щемящей мелодии лета Никак почему-то не вспомнить.* * *
И все-таки я — твой праздник! Ты с этим не будешь спорить?* * *
И вдруг показалось все лишним…Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.




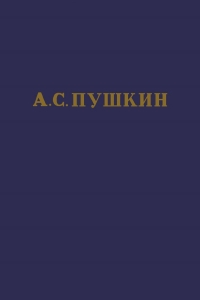

Комментарии к книге «Знакомство по объявлению: Рассказы и стихи о любви и не только…», Людмила Анатольевна Анисарова
Всего 0 комментариев