Анатолий Парпара Первый перевал
Слово о поэте
На 2-м Московском совещании молодых писателей обсуждалась рукопись стихов московского поэта Анатолия Парпары «Первый перевал».
Творчество этого поэта привлекло наше внимание своей тематической определенностью, немногословием, человеческой сутью.
Анатолий Парпара принадлежит к тому кругу поэтов, кто не спешит с публикацией своих произведений и тем паче с выпуском в свет своих поэтических книг. Он работает медленно, в то же время целеустремленно. У него все ярче, все конкретней вырисовывается своя облюбованная область поэтического: это судьба, становление, формирование характера молодого современника, парня, выросшего в городе, в рабочей среде и черпающего свои темы здесь, среди людей индустриального труда. Он пишет о службе морской и о работе в забое, о любви к Родине и о любви к женщине. Он ищет впечатляющих строк о дружбе и творчестве. Требовательность к себе, формирование высокого поэтического вкуса, поиск новых тем и средств их выразительного воплощения, пристальное внимание к ярким приметам нашей социалистической сегодняшности и подлинная беспощадность ко всякого рода легким успехам — вот та основа, где Анатолий Парпара достигает своих удач и где ждут его грядущие творческие удачи. Он находится на правильном пути. А эту правильность ему предстоит подтверждать каждой воистину выстраданной строкой.
Сергей СмирновПервый перевал
Рассвет разбрызгивает краски, трамвай разбрасывает звень. И метростроевская каска на мне надета набекрень. Я улыбаюсь. Все на свете значенья для меня полно: и эта звень, и этот ветер, и то раскрытое окно. И три часа на сон — не тяжко! А не удастся — и без сна! И сквозь гражданскую рубашку тельняшка флотская видна. И труд заочника — мне в радость. И труд шахтера — по плечу. И если «надо» — значит «надо», и можно пренебречь «хочу». Но я не запираюсь дома, когда в стекло мое в ночи морзянку — это мне знакомо! — девичий пальчик отстучит. Веселый парень! Все дается так удивительно легко. И дни журчат, как будто льется березовое молоко.Проходчики
Доверчивый и открытый, опять возвращается взгляд туда, где, как глыбы гранита, проходчики молча стоят. Казалось бы, что здесь такого! На улицах синей Москвы в преддверии часа ночного их часто встречали и вы. Я знаю, что в век этот громкий стремящимся всюду поспеть нет повода для остановки и времени, чтоб посмотреть. И все же прошу, посмотрите: под сенью ночных колоннад, как вырубленные из гранита проходчики молча стоят. Их видом я мог восхититься, но аханье сердцу претит. Мне нравится то, что их лица пытливая мысль бороздит. О чем эта мысль: о заданье? О метрах ночного пути? А, может, она в мирозданье быстрее ракеты летит. Не знаю… Но их наблюдая, и, как бы причастный к судьбе, тревожиться я начинаю о времени и о себе. Все в жизни обыденней, проще. Прошел перекур. И они ушли под вокзальную площадь, и вслед замигали огни. И станет в работе им легче, и четче проходка пойдет, и тюбинг ребристые плечи подставит под тяжесть пород… Но силою воображенья опять возвращается взгляд в то редкостное мгновенье, когда они молча стоят.Баллада о гуде
Я помню восторг тот мальчиший и радость смоленской земли, когда из-за сломанных вишен «Т-34» вошли. Задолго до их появленья, врагов повергая в дрожь, гуденье, гуденье, гуденье над лесом, над полем неслось. Но если изменников подлых карающий гуд убивал, то он же расстрелянных в поле в бессмертие поднимал. И в памяти — книге закрытой — мне с красной строки этот гуд… Я слышу — идут с кимберлитом, «БелАЗы» неспешно идут. И в мерном гигантов гуденье суровая та красота, и то же во мне восхищенье, и радость высокая та. С карьера — до цеха — по кругу машины упруго идут. И нет мелодичней для слуха, чем этот рабочий их гуд. Так пусть чередою «БелАЗы» плывут в бесконечности дней, и будут в России алмазы для счастья Отчизны моей. И вот почему — в завершенье! и утром, и днем, и в ночи гуденье, гуденье, гуденье мне музыкой нежной звучит.Мое поколение
Мы живем, не боги, не атланты, под крылом отцовским не согреты, в двадцать лет — матросы и солдаты, в двадцать пять — вечерники-студенты. Нас растили няньки: бабья жалость да за будущее вдовий страх. Отсветы июньского пожара полыхают до сих пор в глазах. Выросшие в годы голодовок на макухе и на лебеде, не стремимся жить на всем готовом, не привыкли кланяться беде. В нас жива, до времени глубоко, памятью и деда и отца, революционная жестокость к разного калибра подлецам. Не забыты! Бытом не забиты! Это мы, сыны своей земли, на околоземные орбиты умные выводим корабли. Ничего о прошлом не забыли. Но делами в будущем живем. Никогда в труде не подводили, никогда в бою не подведем. Будьте же спокойны, комиссары! Ваше сердце — в молодой груди. Родину свою в знаменах алых сыновьям своим передадим.Мастер
Всю ночь вовсю трудились «МАЗы», в опоры бил бетонный вал, и мастер — черт зеленоглазый — перекурить нам не давал. Вибратор громыхал сурово, немела цепкая рука, но он десятибалльным словом нас за медлительность ругал. И, понимая неприличность, но зная о его судьбе, двадцатилетнюю привычку ему прощали, как себе. В шестом часу затихли страсти: лотком застыл бетонный вал, и черт зеленоглазый — мастер — нас трижды всех расцеловал.Баллада о шофере
Александру Зернову, шоферу
3-го таксопарка г. Москвы
Мне повезло: шофер был разговорчив. Лицо, как говорится, без примет. Ему не раз заглядывала в очи, но отступала фронтовая смерть. Женат. Есть сын. Зовется Николаем. «В отца призваньем — тоже за рулем. Мы из Москвы. Крестьянам помогаем, ведь как-никак в одной стране живем!» И это так прекрасно прозвучало: «В одной стране», читай «в одной семье», что я подумал: вот оно начало любви неугасающей к земле! Ведь о таких: «Покой им только снится!» Но им не спится до тех пор, пока веселым озерком шумит пшеница в брезентом крытых их грузовиках. Мне повезло: шофер был разговорчив, хотя давно не видел тихих снов. — Фамилию скажи! — Сверкнули очи: — Фамилия сезонная — Зернов!Стихи о дружбе
Мне нравится дружба мужская. И как ее ни назови — суровая или скупая, — ни в чем не уступит любви. Я счастлив, что встретил такую. Под солнцем, под вечной луной пускай веселюсь иль тоскую, она — моя дружба — со мной. Пройдя через годы исканий, окрепнув на тропах крутых, в забвенье глухое не канет, Меня не предаст ни на миг. И солнечней жить мне на свете, и все одолимы пути от чувства, что дружбу я встретил, которую трудно найти.Солдаты
А. Балину
На Запад уходил стрелковый полк. А рядом с ним, таким суровым, бежал мальчишка белобровый: немногим выше кирзовых сапог. Он спрашивал солдат: «Ты — папа мой!», ручонками хватал за голенище, но с каждым рядом безнадежней, тише звучало горькое: «Ты — папа мой!» О, этот голос хриплый и родной, от частого повтора монотонный! А под шинелью бились учащенней сердца, ожесточенные войной. У каждого такой же сын иль брат… С какой печалью их глаза глядели, какою нежностью ладони их гудели, но пальцы их впивались в автомат… Я детство мог забыть, как сон, как небыль, но через годы на меня глядят глаза солдат, печальные, как небо, и небо, как глаза солдат.Сосна
Четверть века таится осколок в корневище могучей сосны, четверть века во сне невеселом бьется зеркало тишины. Если слышишь, как стонет подолгу вечерами в лесу сосна, это значит: сырую погоду нам предсказывает она.Поклонная гора
Ах, как хотелось насладиться завоевателю столиц тем, что российская столица придет с ключом и рухнет ниц! Столица золотом сияла, по-лебединому бела, колоколами клокотала, а на поклон к нему не шла. Минуты были роковые, пожаром багровел закат, и испугался вдруг впервые неустрашимый Бонапарт. Да! Мы встречаем тех с поклоном, кто в гости — с чистою душой, но рухнут ниц наполеоны перед Поклонною горой. Я говорю вполне резонно! Ведь согласись, Россия-мать, что зря зовут ее Поклонной, а нужно Непреклонной звать!«Такой простор!..»
* * *
Перед памятником героям
1812 года в Смоленске
Такой простор! Предутренние краски на небе проступают все ясней. И доброта приходит без опаски, и мир и лад уже в душе моей. И поднимаешься над синими холмами, и видишь даль могучую окрест, и говоришь неспешными словами, и откликается далекий благовест. И посреди внезапных откровений вдруг понимаешь в сокровенный миг, что ты — звено великих поколений, и потому обязан быть велик. Ты — продолжатель будущего рода, и человечества судьба — в твоей судьбе. И верит беззащитная природа оратаю и воину — тебе!Вид на Кунцево
Бери, художник, кисть и наноси На полотно отрадную картину: На первый план — летящую машину; Что хочешь: грузовик или такси. А под ее колеса положи Мазками точными бетонную дорогу, Которая уходит понемногу Куда-то вдаль, свершая виражи. Теперь вот эту землю насели Прохожими, Спешащими куда-то, Березами, Которые крылаты — Вот-вот взлетят, Как голуби с земли. А в глубине картины проведи Два-три штриха. Твои прикосновенья Пусть обозначат легкие строенья С жасминными кустами впереди. И чтоб цвета оттенки обрели, Сумей скрестить три световых потока. Один с небес, Издалека-далека — другой, А третий — бьющий от земли.Звонопад
Мне листьев звон ночами снится. Он в сердце надолго проник. Я по озвученным страницам читаю повести про них. И я учусь у них, беспечный, самоотверженности той, с какой уходят листья в вечность из этой жизни золотой. Они звонят, тревожа душу, и сердце бьется невпопад… Ах, неужели ты не слушал бессмертных листьев звонопад!Болдинская осень
Такие дни, наполненные светом, великим музам древности сродни. И все, что есть прекрасного под небом, в иные не могло родиться дни. Под мелодичный звон зеленых сосен и с запахом степного чабреца, как вдохновенье, болдинская осень заходит в восхищенные сердца. И нет предела мыслям и желаньям в такие очарованные дни… Да здравствует такое увяданье, которое цветению сродни!«Смеялась женщина…»
* * *
Смеялась женщина. Сменялись черты лица ее легко, и брови черные слетались и разлетались широко. И заразительно и звонко звучал прекрасный смех ее. И тонкий голосок ребенка вплетался в звонкое литье. И зачарованы игрою, они очаровали всех… И над осеннюю землею летел их смех, как первый снег.Ивану Молчанову
И в это утро как всегда, на парашютике покорном садилась медленно звезда на подоконник. Кран горизонта, что порвал шквал неотвратный, электропоезд прошивал суровой дратвой. Вразвалку, как моряк, прошел сентябрьский дождь, и запоздало заря цветным карандашом день намечала. Такое утро средь других обычным было… Но лето в осень в этот миг переходило.«Над крышами поселка ветряки…»
* * *
Над крышами поселка ветряки, плетенные из тальника заборы… Геологи, чабàны, горняки, я к вам, друзья, вернусь еще нескоро. Но где бы ни был, вспомнится везде душа открытая степи целинной, гостеприимство братское людей одной державы и мечты единой. Я уезжаю. И мои друзья заботливо в дорогу провожают. А в знак того, что счастлив буду я, подкову оренбургскую вручают.Два стихотворения о природе
В. Д. Пришвиной
I
Не ладится! Уйти! Умчать! Бродить безмолвно, виновато там, где нет рашпиля асфальта, — но трав неглаженая гладь. Спасаясь от крутой тоски, прижаться к молодому маю и чувствовать, как поднимают тебя упрямые ростки, как входит в тело чистота, струясь по обнаженным венам… И вдруг понять, как откровенье, в чем жизни суть, в чем суета.II
Пусть будут ветры озорные, да всплеск сиреневых осин, да эта солнечная синь в глазах сияет, как впервые. Пусть у калитки у сосновой, прищурив слабые глаза, дед скажет: «Чарку, брат, нельзя — придется кружечку парного!» Пусть у ночного краснотала, и убегая и маня, встречает молодость меня. Пусть будет! Сердце пожелало.В Заполярье
Ни заснуть, ни забыть, ни забыться нельзя — мне полярная ночь высветляет глаза. Как медведица белая, белая ночь не уходит никак, хоть гоню ее прочь. В этом крае, где мерой не мерян простор, где сердца так чисты, как зеркальность озер, где природа крутая берет на излом и людей проверяет суровым трудом, где Полярного круга проходит черта, проверяю себя: так ли совесть чиста. Как подсолнух к светилу, тянулся к добру, вырастал, но не гнулся на жгучем ветру. Сын рабочего класса, как песню свою я рабочее утро над миром пою.Петр Великий в Архангельске
Его сечет поморский ветер, и лупит град, и солнце жжет, но он, лицом суровым светел, глядит уверенно вперед. Что замечает, что провидит взор, устремленный сквозь века, сквозь сотни будущих правительств! На шпаге — твердая рука. Край моря с краем неба слиты, и ясным даль горит огнем, и солнца крутолобый слиток заваливается за окоем. И в этом городе портовом сошлись у пирса корабли, как будто по едину зову со всех сторон всея Земли. И в этом факте нелукавом он видит дела торжество. И среди всех держав Держава — Россия милая его.Татьяне
Свет февральских снегов заливает весь свет. До глубин, до основ проникающий свет. Свет — предвестник, пророк. Он движеньем руки открывает дорог голубых родники. Свет, волшебник и маг, шепчет тихо слова. Что творится в сердцах от его колдовства! Свет на праздничных лицах и в сердце моем… И святится и светится имя твое!Олесе
Я, заброшенный в дальние эти края за гривастым Уралом, в густую тайгу, без тебя, дорогая дочурка моя, и минуты спокойно прожить не могу. Здесь питательный ягель, копытом звеня, выбивают олени себе в сентябре, что там, мой олененок, Олеся моя, изменилось в твоей годовалой судьбе? Здесь раскованный ветер, пургою грозя, сносит доски, дома оставляя без крыш, как ты, мой ветерок, как, моя егоза, в дни московского бабьего лета шалишь? А когда здесь затишье, скажу не тая: красотища! В лесу голубики полно! Голубинками нежными, радость моя, неизменно глядишь ты в ночное окно. Но пройдет две недели, примчит «стрекоза», и в Москву унесет непременно меня. Расцелую тогда голубые глаза, золотена моя, Златовласка моя!Утро на Оби
Насколько видит глаз — речная ширь… И я с улыбкою невольною не слажу, когда смотрю, как хилый «Богатырь» по-богатырски тащит нефтебаржу. Но вот я слышу: шутят остряки, и вижу: с камня прыгая на камень, торопятся мои буровики с набитыми до верха рюкзаками. Они русоголовы и босы, и легкость необычная в походке, и золотом сияют их усы, и серебрятся юные бородки. Уже пыхтит, их поджидая «Днестр», и рулевой каюту открывает, и сон, что был в глазах его на дне, подобно облакам высоким тает. И чувствуется, что среди друзей ему не нужен и минутный отдых… Как золотые слитки, карасей несет рыбак в двух тяжеленных ведрах. Шум двигателей глушит все слова, и винт бросает в воду белый невод. И ясен день. И Оби синева готова спорить с синевою неба.«За Самотлором лес рыжее меди…»
* * *
Виктору Иванову,
командиру «МИ-6»
За Самотлором лес рыжее меди. Рыжее леса — тряская земля. Но в этом, всеми позабытом место забила нефти черная струя. Где табунились перелетных стаи, теперь легли воздушные пути, и буровые, как деревья, встали, глубоко в землю корни запустив Таежный край! Ты будешь нашей цели и верою и правдою служить. Недаром мы, как боги, прилетели, чтобы тебя навеки покорить. Наш командир решает снова трогать. Машина оставляет полосу. И мы опять уходим на Вар-Еган, держа контейнер грузный на весу.Самолет
Неторопливо, вперевалку, шажком — к бетонной полосе. В какой-то миг в нем птицу жалкую увидели в смущенье все. Так жалок — и непроизвольно! — вид ластоногих на земле. Орла бредущим видеть больно. А сколько красоты в орле! Но дали жизнь моторы дружные, качнулись белые крыла, толчок, рывок и синь воздушная опорой твердою легла. Преображением взволнованы, задрали головы в зенит, где грациозно и раскованно он белой лебедью парит.Письмо из Надыма
Ты просишь меня написать про Ямал. Погода бурчит. Но в порядке дела. С Надыма в две нитки сквозь древний Урал К Москве газопровода трасса легла. И новое дело задумано. Здесь гигантская стройка сегодняшних дней. В ней наша Магнитка! В ней наш Днепрогэс! Вот только чуть-чуть не хватает людей. Конечно, суров этот северный край! Конечно, придется сражаться с тайгой! Но мне ли стращать тебя, друг! Приезжай на новую трассу Надым — Уренгой.«Я видел небо…»
* * *
Я видел небо, Под землей работал, Я знаю море, Постигаю твердь, Узнал вкус горя, Тяжкий груз заботы И в раннем детстве, Что такое смерть. И понимая страждущие души, Пыл вдохновенья, Ненависти пыл, Я клятвы, данной другу, не нарушил, И женщине в любви не изменил.Воспоминании о флоте
I
Все чаще вспоминается мне город, ведь память наша прошлому верна, где в наковальню пирса бьет, как молот, упругая, поморская волна. В отличие от старых городов, в которых величественней церкви здании нет, венчает высь не силуэт собора, а крейсера державный силуэт. В том городе мне двадцать. Я упруго иду но жесткой мостовой вперед. Я чувствую плечом широким друга, а сердцем чувствую Краснознаменный флот.II
Давно уже далекий небосвод глухая ночь закрыла черной шторой, и только телевышки шпиль плывет, как раскаленный гвоздь, пронзивший город. Да к пирсу, остроносы и стройны, швартуются эсминцы молчаливо, да одноглазый сторож тишины — прожектор — зорко шарит по заливу.III
Который год матросские дороги уводят нас за горизонт. Который год бессонные тревоги внезапно обрывают сон. Нас матери ночами ждут у окон. Тоска любимой с каждым днем острей. Нас ждут. И все же знают, что до срока — на кораблях мы Родине нужней. Мы любим жизнь. Мы прожили немного: всего лишь двадцать две весны. Нам очень счастья хочется земного и хочется нам тишины. Но обрывают резкие тревоги моих друзей короткий сон, и новые матросские дороги уводят нас за горизонт.Людмиле Зыкиной
В чужих краях, когда взгрустнется сильно, а дружба и любовь так далека, я вспоминаю вас, снега России, снега России, чистые снега. И хочется мне снегопад послушать, и прилететь в родимые края; в снегах России, в дальней деревушке живет царевна снежная моя. Она глядит, как снег струится синий, она грустит, печальна и строга, и вместе с ней грустят снега России, снега России, чистые снега.Памяти старых большевиков
Где ни езжу я, что ни делаю, но когда остаюсь сам с собой, это кладбище в Переделкине появляется предо мной. Снова вижу могилы белые… Тихой болью сквозит мой взгляд. Словно тюбики акварельные, те надгробья рядком лежат. На надгробьях слова неотчетливы, но с трудом различаю слово: …коммунист с девятьсот четвертого… …коммунист с девятьсот второго… Вам, товарищам верным Ленина, исполнителям дела его, поклонение, восхищение поколения моего. Вам, не знавшим высокой пенсии, Вам, погибшим, как соловьи, с разорвавшимся сердцем от песни, посвящаем мы песни свои. Вы — суровые, вы — двужильные, соль эпохи и совесть ее! Мы стараемся жить, как жили вы, отвергая небытие. Я смотрю на могилы белые и в раздумии долго стою… Это кладбище в Переделкине проверяет совесть мою.Матери
Всегда считавшая копейки. С такой зарплатой как скопить! А тут еще троих сумей-ка одеть, обуть и накормить! И ненасытная в работе, и совестлива, и чиста, живешь в стремительном полете. И доброта, как береста. Остановись! Присядь, родная! Полвека трудных позади — не лебедей красивых стая, а сердце — не мотор в груди. Отец не пьет, болезнь не мучит, мы — дети — взрослые уже. Все, как мечтала, стало лучше. Пора передохнуть душе. Но ты грустишь. Ты что-то ищешь. Хотя сама не говоришь, по тайным взглядам на детишек я понял почему грустишь. Ну что же, внуки скоро будут. Я знаю, ты не упрекнешь, когда они тебя разбудят, как мы когда-то, криком в ночь. Но это для тебя отрада. И в этом смысл природы всей… О, как беречь безмерно надо еще при жизни матерей!«Хотя немного поздновато…»
* * *
Хотя немного поздновато, но вишням цвесть пришла пора. И, словно в мелких клочьях ваты, они встают из-за бугра. За ними в розовых бутонах готовы яблони цвести, от них куда-то по уклону бегут, как девочки, цветы. А вот несется валом снежным садов сиреневый прибой… И я опять мальчишкой резвым лечу вдогонку за тобой. Я догоняю свое чудо. Вот встретится с рукой рука! Еще рывок! Еще секунда… Но ни секунды, ни рывка. И я брожу один, притихший. И не кончается игра… А вкруг меня все вишни, вишни, которым цвесть пришла пора.Песня о северном городе
Этот северный город мне уснуть не дает. Он серебряным горлом серебристо поет. И звенит так привольно, как гитары струна, серебристая Волги молодая волна. Все, что буднично, серо, отступает назад. И к усталому сердцу подступает слеза. Я окно не закрою — пусть грустит этот звон, потому что с душою он сейчас в унисон. И тогда возникает, как виденье легка, словно Волга родная, но иная река. Звезд такое ж свеченье и такая ж листва, и такого ж значенья, но иные слова. Милый, северный город, мне уснуть не давай, и серебряным горлом напевай, напевай. Я окно не закрою — пусть грустит этот звон, потому что с душою он сейчас в унисон.«Вокруг стволы, стволы, стволы…»
* * *
Вокруг стволы, стволы, стволы… Берез бедовое раздолье. Ах, что страдания твои пред их невысказанной болью! Но посмотри — не для утех обнажены их руки белы. И осыпаются, как снег с ветвей берез, лихие беды.К. И. Чуковскому
Все ближе, все четче, как стук нарастая: «Я стекла вставляю! Я стекла вставляю!» Шагает стекольщик светло по земле и солнце весомо несет на стекле. Идет, длинноногий в усы улыбаясь: «Я солнце вставляю! Я солнце вставляю!» Однажды несчастье со мной приключилось и мною любимое солнце разбилось. Сижу и без удержу горько рыдаю… И слышу вдруг голос: «Я солнце вставляю!» Окно распахнуть торопливо спешу и солнце стекольщика вставить прошу. И снова я счастлив! И солнце — в глаза! Спасибо, родной, за твои чудеса. А голос все глуше, как стук затихая: «Я солнце вставляю! Я солнце вставляю!». Так сколько в нем света и сколько зари, чтоб каждому солнце, как сердце дарить!Подмосковные этюды
I
Березы ствол слегка надпилен. В прозрачных каплях, как в слезах. Тропинки от высоких шпилек как будто в галочьих следах. К рукам листочки Клейко липнут, как леденцы к рукам ребят… А там, на пне широком липы, тетради с книжками лежат.II
Деревья еще зеленые и яблоки незрелые, но чуть покраснели клены, как мальчики несмелые. И, солнечным залита светом, затихла земля в тревоге, как я в ожиданьи ответа под взглядом, вдруг ставшим строгим.III
Среди песчаных берегов течет Москва-река. И солнца золоченый ковш черпает облака. А любопытная сосна так выгнулась вперед, что стала мостиком она, над гладью синих вод.IV
В голубые лоскутья изрезан подмосковной земли небосклон. А над серым, усталым лесом слышны черные крики ворон. Ветер вдаль торопливо уносит паутинки прозрачных дней, и уже принимает осень предоктябрьский парад журавлей.«Живет она всеми любима…»
* * *
Живет она всеми любима, чиста, как степное зерно. Орчанка — орлиное ими — недаром девчонке дано. Себя проявляя не скупо, навек подарила судьба монгольские резкие скулы и нежность славянского лба. Любовью не раз обойденный, но верящий в светлый черед, завидую парню, кто в жены девчонку такую возьмет. И все же, мечтая о друге, надежду глубоко таю, чтоб эти прохладные руки лечили усталость мою.Ясак[1]
Понимаю и сердцем и разумом, что недолги у счастья дни… Твое имя прекрасное — Раузи — чем-то радости светлой сродни. Словно стрелы, летящие лихо, кто-то тучей под солнцем пронес — на меня опускается иго твоих черных татарских волос. Знаю, скоро опять в разлуку унесет меня синий вагон, а пока молодые руки забирают меня в полон, а пока в озорные трубы с наслажденьем трублю я сам. И твои неумелые губы заставляют платить ясак.На Поклонной горе
А. Логвину
Еще весна не осенила Москву распластанным крылом, еще таится подо льдом упругая, взрывная сила, еще, как хрупкие сосуды, деревья зимние стоят, но все настойчивей звенят, перекликаются сосульки. И солнечным лучом смущенный, в наивной радости своей плескаться начал воробей в рассыпчатом снегу Поклонной.«Мне далеко не все равно…»
* * *
Мне далеко не все равно, какие травы мять, какое лить в амбар зерно, кого любимой звать. Мне далеко не все равно, с кем дружбу заводить, с кем пить веселое вино, с кем горести делить. Мне далеко не все равно, чьим именем зовусь. Я тем горжусь, что мне дано твоим быть сыном, Русь!Примечания
1
Ясак — дань (татар).
(обратно)


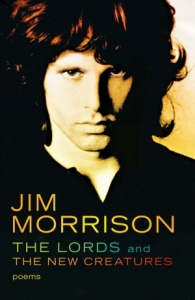

Комментарии к книге «Первый перевал. Стихи», Анатолий Анатольевич Парпара
Всего 0 комментариев