Стихи, тексты песен,
повести и рассказы
Издательство "Голос-Пресс"
Москва 2002
Хуммедов Сергей Аманович
(Сергей Аман как член Союза писателей Москвы)
О Сергее Амане можно прочитать в предисловиях к его книгам:
"В садах судьбы",
"Сирень под пеплом"
Контакты:
e-mail: hummedov@mail.ru
мобильник:: +7 926 745 73 10
Персональный сайт:
/
Александр Касперович, фото на обложке, 2002
Валерий Валюс, графика, 2002
СОДЕРЖАНИЕ
Эти стихи надо читать медленно. Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
Вместо эпиграфа
"С чего мне начинать?.."
Вот еще одна весна
"Какое небо в мае! И какая ночь!.."
В июне
Как было
Колыбельная для моего сына
Гори, душа!
Журавлик
Сентиментальная песенка
Ветер странствий
"Вчера я умер..."
Окольцованные
Уходя, гасите свет
Стирающая женщина
Жизнь была
Сентиментальная баллада о шарфе
На моей невечной земле
Песня родства
"Споры - вечны. Жизнь - коротка..."
Женщине
"В последний вечер..."
Встреча
Поэма
Июнь
Вот и август
"А теперь ты вошла в меня..."
Ох, и ухнет над землей!..
(рассказ о возвращении солдата)
Ночи вослед
(маленькая повесть о любви)
Ах, как они бегут,
или Притча о скуке
Кладбищенские цветы
Об авторе
Ссылки на песни
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ Эти стихи надо читать медленно
Перед всяким пишущим человеком встают две задачи: ведь литература одновременно и средство самовыражения, и средство общения. И далеко не всегда оба решения удается совместить.
Для великих поэтов Некрасова и Твардовского главной, на мой взгляд, задачей было общение - и многие миллионы читателей благодарны им за легкость восприятия прекрасных стихов.
Для Тютчева, Ахматовой, Пастернака или Мандельштама главным было самовыражение, они не заботились о популярности, считались поэтами элитарными - и элита заучивала их, читала друг другу наизусть, превращая сложные, труднодоступные стихи в фольклор. Эта поэзия во многом напоминала шаманство: непонятные строки проникали глубоко в подсознание и пьянили сильней дорогого вина. А потом получилось странное - год от году элита разрасталась, и когда, например, сборник Ахматовой был издан тиражом в 300 000 экземпляров, его буквально смели с прилавков книжных магазинов, а на черном рынке продавали за двадцать номиналов.
Упаси меня Бог сравнивать размеры дарования! И великих я вспомнил только для того, чтобы объяснить, почему лично мне близка и нужна поэзия Сергея Амана - а он и в прозе безусловный поэт, не потому, что в его рассказах много внутренних рифм, а потому, что таков сам способ его мышления. Для Амана главное - понять и выразить самого себя, со всеми своими нюансами мироощущения. Он поэт не броский, но очень тонкий, и читать его лучше медленно: тогда появится возможность вместе с автором услышать загадочную музыку нашей трудной эпохи. Очень заманчиво подтвердить сказанное цитатами - но не хочется лишать читателя этой книжки радости самостоятельного открытия.
Я не знаю, сколько поклонников будет у поэзии Сергея Амана - может, сто, может, сто тысяч. Это не самое важное. Важней другое: в нашей великой литературе появился еще один чистый ключ, из которого кто-то сможет напиться.
СТИХИ И ТЕКСТЫ ПЕСЕН
Вместо эпиграфа
Истина приходит нагая -
утверждал художник Хахаев,
вздрагивая и чертыхаясь,
и к щели дверной припадая...
К женщине
Еще один глоток - и я у ваших ног.
Размышления
Нас лечили вожди и больницы,
но ничто не влияло на ум.
И я долго чешу ягодицу,
даже сам не пойму - почему...
С чего мне начинать?..
С чего мне начинать?
И в сорок, как в семнадцать,
вопросы задавать,
незнания стесняться?
Стихом определять
смысл и движенье жизни?
Подробно умирать
и воскресать капризно?
Всему отпущен срок.
Когда тебе за сорок,
в стихах не ищешь прок,
с собой кончая ссорой.
Начала и конца
завязывая узел,
не объяснить творца,
а только лишь обузить
И небеса пусты.
Невнятные погоды.
Не подвести черты
до своего ухода.
Вот еще одна весна
Вот еще одна весна пробудилась ото сна, отогрела дерева и тотчас взялась листва, распустив любви слова. Распустив любви слова, жизнь начнется как снова. И окажется иной, ненадышанно-земной. И окажется тобой.И окажется тобой неподъемный шар земной. Ни объять, ни обойти неразумного пути сердцу, что спешит в груди.Сердцу, что спешит в груди, сладкой воли не найти. Три слова "я тебя люблю" захлестнутся да в петлю... Эту горькую петлю! Эту горькую петлю голым горлом я ловлю. Потому что я люблю, потому что я люблю, потому что я люблю.
* * *
Какое небо в мае! И какая ночь!
Вздуваемая ветром,
не потухает, несмотря на дождь,
сирень под пеплом...
В июне
Всю ночь горит, не угасая,
по краю неба отсвет рая.
Как было
А было так. Он все сказал, что думал. Потом подумал - все ли он сказал. По площади трамвай тащился. Гулом он плотный жар полдневный раздвигал.
Она стояла у раскрытых створок двери. Слепил глаза из-за спины свет воздуха. И тут в его мозгу возникший морок вдруг вызвал ощущение вины. Он отошел на шаг в прохладу лестниц и головой тряхнул, сбивая нудный такт тянущих за душу нелепых провозвестий того, что он не знал, что будет так.
И сразу отступила тьма сомнений, что распиралась слабостью до драк, и через мрак внезапно вплыло тенью ее лицо. И рядом надпись на стене:"Санек-дурак!"
А вот теперь, входя в любой подъезд, он чувствует прохладу словно крест. Но он тогда не знал, что будет так...
Колыбельная для моего сына
Спи, мой сын, тебе пока некуда спешить. Спи, малыш, а я спою, как ты будешь жить: как ты веру обретешь, чтоб унизить ложь, потеряешь, а найдешь то, чего не ждешь. А пока спи, мой сын, а пока спи, малыш...
Пусть тебе приснится мир, словно мама, добр. Детство минет, и судьбе гнать во весь опор мимо истин и надежд, годных для невежд, мимо горя и потех, что рождают смех. А пока спи, мой сын, а пока спи, малыш...
Спи подольше: будешь больше - меньше будешь спать. Будет женщиной и славой жизнь тебя ласкать, будут клятвы и молитвы, небеса и твердь, но в конце концов - пойми ты! - все накроет смерть. А пока спи, мой сын, а пока спи, малыш...
В этом мире море страсти на глоток любви, но тебе скажу, мой мальчик, все-таки: "Живи!" - потому что в звездном поле, сколько ни хули, ни для счастья, ни для боли нет другой Земли.
Гори, душа!
Гори, душа, сгорай! Судьба плеснет за край. Там безразличны ей и ад, и рай. И в том краю зеленом для сердца нет закона и сердцем чего хочешь выбирай.
Я выбрал песню эту. И старая планета вдруг уместилась в сердце у меня. И я пошел по свету, да свету краю нету, а жизнь короче светового дня.
На исходе дня мама ждет меня. Там над гробом сгорбилась земля. Я еще живой! Я иду домой с тех пор, как домом стал мне шар земной...
Журавлик
В детстве снились мне две птицы, как судьба, которой сбыться: мне в одну из них влюбиться, а с другою быть в друзьях... Прозывались эти птицы прирученная синица и журавлик, и журавлик, и журавлик в небесах.
Вот журавлик мой летит, а синица вслед глядит...¦
С той поры, как был ребенком, я бегу за журавленком; воздух рвет мне перепонки, небо кружится в глазах. Я бегу, а рядом мчится долгу верная синица. А журавлик, а журавлик, а журавлик в небесах.
Вот журавлик мой летит, а синица вслед глядит...
Я добился этой птицы, приучил ее садиться, но ведь надо ж так случиться: только у меня в руках стоит птице очутиться - превращается в синицу, а журавлик, а журавлик, а журавлик в небесах.
Вот журавлик мой летит, а синица вслед глядит...
Сентиментальная песенка
Вот как живу теперь:
только лишь скрипнет дверь,
я уж кричу себе
'Ты ей не верь, не верь!"
Входит, однако, друг.
Вот и замкнулся круг.
И остается мне
вытравить свой досуг.
Можно надеть пальто,
с другом сходить в кино.
Но, увидав его,
тут же пойму:"Не то.
"Если откроешь дверь,
взглядом мне скажешь:"Верь!" -
рук протянуть не смогу...
Разве обнять судьбу?
Ветер странствий
Эй, прохожий, оглянись. И остановись! Здесь родился человек, продолжая жизнь. Откричала мать свое - не узнать ее. Ей теперь его жалеть и у сердца греть.
Потому что ветер странствий остудит его в пространстве внеземной зимы. И, на нас на
всех похожий, скоро станет он прохожим так же, как и мы.
Так же кружит ветер странствий нас с нелепым постоянством ветреной судьбы, каждому суля, что все же - нет! - не станет он прохожим в сумерках гульбы.
Ну так, прохожий, оглянись. И остановись. Здесь родился человек, продолжая жизнь. Откричала мать свое - не узнать ее. Ей теперь его жалеть и у сердца греть.
* * *
Вчера я умер. Смерть не наступила. Жизнь отошла. И жизненная сила меня оставила. Я выпал из времен. И жизнь моя теперь посмертный сон.
Окольцованные
Ах, ты птица моя окольцованная,
окольцованная другим...
Я смотрю в темноте на лицо твое,
сигаретный глотая дым.
Не нужны мне оркестры и почести.
Это все - для забав молодым.
Похоронен я буду честь по чести:
не прославлен, зато любим.
Но объятьем чужим окольцованная -
не впервой ни тебе, ни другим -
взглянешь в зеркало ты, и лицо твое
расплывется, как горький дым.
Жизнь моя уже съедена дочиста.
Как легко умирать молодым.
Похоронен я буду честь по чести:
не прославлен, зато любим.
И когда ты, судьбой окольцованная,
изменяешь другому с другим,
знай, что я вспоминаю лицо твое,
как отечества сладкий дым.
Ты прости мне мое одиночество.
Смерть со славой к лицу молодым.
Похоронен я буду честь по чести:
не прославлен, зато любим.
Уходя, гасите свет
Уходя, гасите свет и целуйте на прощанье даму самых средних лет, говоря ей:"До свиданья!" Темнота стоит в окне зимняя, холодная. Как не хочется тебе в тишину бесплотную.
Уходя, гасите свет и душевные порывы. В сердце веры, видно, нет. Лишь пороки и нарывы. Темнота в твоей душе зимняя, холодная. Как не хочется тебе в тишину бесплотную.
Уходя, погасит свет. Не оглянется на диво. Поцарапанный паркет. И снежок неторопливый. Темнота стоит в двери зимняя, холодная. В спину стон:"Не уходи в тишину бесплотную!"
Стирающая женщина
Стирающая женщина на небесах не венчана и здесь не с тем расписана. И здесь - не там - прописана.
Не в церкви под поповский бас венчали вас. Районный загс вам выдал на законный брак свидетельство, составив акт.
И понеслась душа не в рай! Стирай, не разгибай спины... Ах, на ногах отметины оставил этой ванны край.
Пусть завтра ты уйдешь в бега. Очнешься на краю страны: пригрезится гора белья, ах, дети не обстираны.
Что ж, вольному всегда - беда, блаженному же рай - всегда. А впрочем, тем и этим - рай! Какой захочешь - выбирай...
Жизнь была
Жизнь была, жизнь была, жизнь была, горевала и пела. Жизнь цвела, жизнь цвела, жизнь цвела, а теперь облетела. И я вспомнил об этом у какой-то реки. Здесь кувшинки росли.
И одна в глубине моих глаз головою желтела. И она, и она не спаслась. И она облетела. И я вспомнил об этом у какой-то реки. Здесь кувшинки росли.
Здесь врастал стебель сердца во дно. Оно родиной стало. Все прошло, все прошло, все прошло - жизнь как бездна предстала. И я вспомнил об этом у какой-то реки. Здесь кувшинки росли.
Все равно, все равно, все равно, жизнь, спасибо за память. Из груди сердце к вам проросло, обернулось словами. Я спою эту песню у какой-то реки, где кувшинкам расти...
Сентиментальная баллада о шарфе
Был нежным и упрямым, ходил под кличкой "граф", когда однажды мама мне подарила шарф. Она сказала:"Милый, шарф на груди носи, а счастья и могилы у бога не проси."
То ли шарф грел грудь, то ли жгла слеза, и я выбрал путь, повела стезя. А куда вела? Не понять никак. Позади зола. Впереди маяк.
Мытарили и выли с утра и до утра, мне в грудь и душу били ненастные ветра. И вот уже навылет душа просквожена, ее прикрыть не в силе ни друг и ни жена.
То ли шарф грел грудь, то ли кровь текла, пламенел мой путь, выгорал дотла. Да не держал я зла. Одного не знал: там зола, зола, где маяк сиял.
Ах, не спасают нервы, да и любовь не в счет, когда сгорела вера и жизнь из вен течет, когда ты видишь клочья того, что сердцем знал... Я шарф однажды ночью на шею повязал.
То ли явь в мозгу, то ли явный бред: на золе стою, а шарфа-то нет! Я гитару взял - не гони коня. Я не все сказал - слушайте меня.
На моей невечной земле
Начиная с сентября,
по Руси горят леса,
озаряя лица и сердца.
Да печальный тот огонь
осыпается, лишь тронь.
Разноцветным пеплом летит листва.
Так и октябрю сгореть,
обнажив леса на треть.
Там, как обожженным, стволам чернеть.
Да природа, видно, не зря
любит сумерки ноября.
И на пепелища лягут снега.
Вновь земля белым-белым бела,
словно обожженной не была.
Забинтуют раны снежные ветра.
Застывает лес и душа.
Засыпает их, не спеша,
порошок - наркотик декабря.
На моей невечной земле
Новый год плутает во мгле.
Ах, как хорошо ждать его в тепле...
Только бы не пепла тепло
вместе с ним на нас нанесло,
означая, что все, что жгло, прошло
на моей невечной земле!
Песня родства
В сплетеньи голых веток за окном мне бросился в глаза один излом. Он повторял души моей надлом в сплетеньи голых веток за окном. Стекали ветки навзничь ко стволу. Ствол затекал в земную глубину. И ветвь души моей приняв в семью, стекали ветки навзничь ко стволу. Земля, вобрав души моей объем, сама навеки растворилась в нем. И избрала меня всесильным божеством Земля, вобрав души моей объем. И я же по душе своей хожу, ее ногами слепо ворошу - слиянья с нею, как открытья, жду. И сам же по душе своей хожу.
* * *
Споры - вечны. Жизнь - коротка.
Вот и Млечный путь на века
лег вопросом в черной ночи.
Лег без спросу. Лег и молчит.
Чтобы высветлить суть основ,
обойдемся и мы без слов.
Женщине
Там, где я тебя искал,
не везло мне, глупому.
От лопатки до соска
душу не нащупаешь.
Будет время - я пойму,
что ж так с бабой маешься:
красота равна уму -
вот и ошибаешься.
Но ни уму, ни красоте
не доверил душу я -
только звезды в пустоте
слушаю и слушаю.
Ем картошку в кожуре
водку пью и кашляю.
Небо корчит рожи мне
глупые и страшные.
* * *
В последний вечер
навестит лишь мышь.
Ты даже сдуру мне
не позвонишь.
Встреча
Он спросит:"Брат, чему ты рад?" - и я отвечу: "Я выпить рад с тобою, брат, за нашу встречу. Свершим обряд, как прежде, брат. Что там в бутылке? Годы летят, годы летят, да не в копилку."
"И все же, брат, чему ты рад?" - он горбит плечи. "Я выпить рад с тобою, брат, к чему нам речи? Мне опротивели слова о долге вечном, отяжелела голова от слов беспечных."
"И все же, брат, чему ты рад?" Ну что за встреча! "Я выпить рад с тобою, брат, еще не вечер." Кто демократ, кто ретроград - покажет время. Мораль проста, бутыль пуста и ломит темя...
Поэма
Он.
Я подарил ей россыпи стихов,
а ей был нужен лишь букет цветов.
Она.
Я так любила свежие цветы,
но их унес из моей жизни ты.
О них.
Поэты с женщинами наравне
владеют тайнами, которых нет.
Июнь
Неравнодушен я к июню.
В июне нравятся слова.
И равноценны поцелую
лягушек гвалт или трава.
Вот и август
Вот и август. Звезды мелки.
Не видать во тьме ни зги.
Вид летающей тарелки
осенит мои мозги?
Только лай собаки дальний
или кошки тошный вой.
Как же жить с исповедальной
алкогольной головой?
* * *
А теперь ты вошла в меня... В состоянии подзабытом я сижу посреди хламья, называющегося бытом. Ни понять, ни унять. И я, всё учащий себя привычке доводить до конца дела, подбираю слова к отмычкам на цветастых полах халата... Мы хотели друг друга когда-то. вата. Девять лет я копил осадок, но и знать не хотел о том, что он копится. И подспудно сознавал, что почти подсудно и тебе признаваться в нём... Я приехал. Вхожу в твой дом.
В полутёмной затхлости комнат строй вещей неразборчиво сомкнут, знаменуя нажитый уют. В летний зной тут прохладно и душно. Я сижу, понимая натужно: и меня здесь забыто ждут...
Разлетелись полы халата. Пляшет в зеркале прикроватном то, что в разных глазах зовут то ли похотью, то ли страстью, то ли опытом, то ли счастьем, но не стоит названья тут, потому что, в стекло дыша, вижу в зеркале запотелом, как стремится к душе душа, спотыкаясь о тело телом.
Ох, и ухнет над землей!.. (рассказ о возвращении солдата)
Жарким майским полднем шагает по деревенской улице солдат. На парадной форме значки воинские сияют, в руке чемоданчик дембельский качается, из-под фуражки пот крупными каплями выползает. Весел, доволен солдат: идет широким шагом, улыбается, дружкам, что его окружили да еле за ним поспевают, отвечает что-то, здоровается направо и налево, земляков приветствует.
А уж навстречу мать бежит, размахивая руками, простоволосая, стоит у калитки дома отец, степенно поджидая сына, улыбается в жесткие усы. Молва, знать, до семьи раньше сына добралась. Отдает солдат ближайшему парню чемоданчик, обнимает мать, у которой слезы текут да руки дрожат, слова через комок в горле проталкивает, целует мокрые губы, что в то время исцеловали все его лицо, дальше идут толпою.
И вот подходят к родителю. Солдат выпускает плечо матери, становится напротив отца. Смотрят они друг другу в глаза, правые руки протягивают, а левыми вдруг сгребают широкие спины и сливаются в объятии, щеками прижавшись. А с другого края деревни несется с дикими криками младший братишка, брату на грудь кидается, вертится вьюном среди ног взрослых. Малышка-сестренка, брошенная без присмотра дома, плачет-заливается. Солнце печет, слезы текут, шутки, смех, причитания матери...
Но вот и в доме все. Мать хлопочет, на стол собирает, отец куда-то вышел. Прохладно в комнатах. Сидит солдат, сбросив мундир и фуражку, на стуле, братишка за ногу его уцепился, кругом дружки расположились. Разговор продолжают.
- А что, Митька, бывают смертные случаи? - спрашивает рыжий парнишка в выцветшей рубашке.
- Всякое бывает, - весело отвечает солдат, оттягивая согнутым пальцем узел армейского галстука. - Вот, помню, только привезли нас в учебку - недели две прошло, мы еще в карантине были - сидим однажды в курилке, после ужина, значит, перекуриваем. Кто анекдоты травит, кто письма читает - почту как раз раздали, кто в урну от нечего делать поплевывает. Вдруг слышим - смех громовой в одном кружке. Что такое? А это, значит, парень один письмо от зазнобы своей получил. Пишет она, что замуж выходит и просит его простить ее. А у того волос с гражданки только на миллиметр вылез. Побледнел пацан, на бумажку свою смотрит и не говорит ни слова. А дружки-то тут потешаются, слова разные подкидывают. Парень сидел-сидел да тоже как расхохочется. Ну, вроде, и кончилось на том.
- А что ж дальше-то? - нетерпеливо ерзает рыжий.
- А через неделю приняли мы присягу да вскоре в караул попали. Сидим, значит, в караульном помещении, чай пьем после завтрака, вдруг бухнуло что-то на посту. Начкар в ружье нас поднимает, и бежит одна половина туда. И я в той половине. Прибежали к огневому сооружению - нет никого, тихо все. Дернулись в дверь - закрыта изнутри. Выломали дверь, забрались по лестнице, люк откинули, а там, значит, тот парнишка. Сидит в крови, за автомат держится, испуганными глазами на нас смотрит. Пока опомнились, врачей наших вызвали, глаза уж у него и потухли. По дороге в госпиталь скончался.
- Ну-у, ты!.. - выдыхают разом дружки, головами качают.
- Ну да ладно, дело прошлое, - встряхивается солдат. - А что, Любку мою не видали где?
- А ты не знаешь, что ль? - удивляется рыжий.
- Чего? - удивляется на этот раз солдат.
- Дак она ж замуж вышла, вот только на майские свадьбу сыграли, а дня три он ее увез куда-то. Не писала она тебе, что ль?
Молчит солдат, голову опустил.
А в двери уж соседи вваливаются, поздравляют с прибытием, руки протягивают...
А на воле солнце жарит, ветер разыгрался, тучи майские собираются. Ох, и ухнет над землей!..
1979 г.
В начало
Ночи вослед (маленькая повесть о любви)
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
последний, случайный...
Из песни Булата Окуджавы.
В нашем тихом небольшом посёлке не ходят троллейбусы. И когда вместе с темнотой ко мне каждый вечер подступает тоска, мне некуда бежать...
На террасе, где я сплю летом, ясно слышны сплетни лягушек, расселившихся по прудам, грохот и гудки поездов, проносящихся мимо нашей станции и заставляющих подрагивать полы и стены дома, редкий отдалённый лай и оглушающе звонкий полуночный крик петуха, который орёт за перегородкой, вцепившись спросонья в свой насест крепкими ногами, и которому вторят, передавая эстафету дальше, соседские горлодёры.
Я лежу и слушаю ночные шумы. В открытую настежь дверь вливается тёплый воздух, настоенный на нагретой за день земле, травах и чистой воде нашей невеликой речки Кудрявки. Прошлым летом в одну из таких же щедрых на тепло ночей мне вздумалось искупаться.
Миновав с десяток проулков, я вышел к реке, перегороженной на одном из своих многочисленных поворотов плотиной. Плеск воды, набирающей скорость на водосбросе и падающей с размаху на камни, крал у ночи её размеренные неспешные звуки.
Перейдя по серым доскам плотины, настеленным на бетонные быки, на другой берег, я оказался среди невысоких с плотной кроной деревьев. Бросив под одним из них рубашку, брюки и трусы, я осторожно начал спускаться по крутому откосу и, вдруг споткнувшись, неловко плюхнулся в воду. В первое мгновенье она показалась мне холодной. Но с каждой секундой тело всё больше сживалось с нею и становилось бодрым и упругим. Доплыв до бетонных выступов, я попытался влезть на плотину, но ноги срывались с осклизлых деревянных шлюзов и сделать это мне не удалось.
Перебирая руками по шероховатой поверхности дамбы, я пошёл навстречу течению. И вдруг увидел на противоложном берегу, откуда недавно перешёл на эту сторону, маленькую фигурку. Это была девушка.
Она вышла из того же проулка, что и я, и остановилась на песчаном берегу. Оглянувшись по сторонам, но не замечая меня, девушка нагнулась и постелила полотенце, висевшее до этого у неё на шее, на утоптанный песок. Сбросив на него свой халатик, она выпрямилась и вновь огляделась. Монотонно шумела вода у плотины, легко подрагивали листья на тёплом ночном ветерке. Быстро стянув свой сплошной купальник и засветившись незагорелой кожей, она с ходу бросила его на полотенце и подбежала к самой кромке воды. Тут она приостановилась и осторожно вошла в воду по отлогому дну.
Весь сжавшись, я не знал, как мне поступить. А ночная купальщица, уверенная в своём одиночестве, уже плыла тем временем к плотине прямо на меня. Застигнутый врасплох, я метнулся к своему берегу, подняв веер брызг. Девушка, испуганно и громко ойкнув, выбросила перед собой руки и тут же погрузилась с головой под воду. Вынырнув, она закашлялась, замахала руками и вновь ушла под пузырившуюся поверхность реки. Я бросился к ней и, поймав под водой отчаянно бившиеся руки, подтащил её к берегу и посадил на ступенчатое дно.
Переведя дыхание, она вдруг вскочила, но, оказавшись в воде только по пояс, резко села, обхватив груди руками, и отодвинулась от меня.
- Кто Вы? Как вам не стыдно? Отойдите от меня! - она кричала, переживая страх и не совсем, видимо, соображая, что же она произносит. Меж тем мы оба сидели по горло в воде.
- Извините, девушка, я этого не хотел, так получилось. Я тоже купался... - я не знал, что сказать.
- Вы противный! Вы это нарочно! Уйдите от меня! Я не могу!.. - она заплакала.
- Куда же я уйду?.. Я в таком же положении, что и Вы.
- Вы ещё смеете говорить о моём положении?!
- Я просто хотел сказать... я так же, как и Вы, ни во что не одет. Ну успокойтесь!
- Правда? - она вдруг действительно стала успокаиваться, преодолев истерику, но продолжая прерывисто дышать и всхлипывать.
- Зачем Вы это сделали? - спросила она, совсем успокоившись, но насторожённо глядя на меня.
- Я ничего не делал, я купался тут, а Вы так подошли и... всё получилось так быстро...
- И Вы видели меня на берегу?
- Нет, - соврал я, - только когда Вы уже плыли в мою сторону.
- Откуда же Вы знаете, как я подошла?
Я помолчал и раздосадованно сказал:"Девушка, честное слово, я не хотел, я сам испугался!.."
- Ну ладно. Что ж нам теперь делать? - она была уже спокойна.
- Не знаю.
- Давайте отвернёмся друг от друга и оденемся. Только честно! Где ваша одежда?
- Вот тут, под деревом.
- Это нечестно! У меня всё на другом берегу, а там нет ни одного дерева.
- А если... закройте глаза!
- Зачем? Что Вы хотите?
- Мне надо выйти на берег.
- А Вы... - но она не договорила, замолчав на мгновенье, затем закрыла глаза и отвернулась.
Я выскочил на берег с такой быстротой, на какую был только способен. В мгновение ока натянув свою амуницию, я помчался через плотину на другой берег и, подхватив её вещи, галопом вернулся обратно.
- Вот, - проговорил я, - одевайтесь.
Я стоял и смотрел на неё.
- Что ж Вы смотрите? Отойдите же куда-нибудь!
Я сообразил, наконец, каким глупцом выгляжу со своей невольной добродушной улыбкой, и поспешно отошёл.
- Ну вот. Я готова. - послышался скоро её голос.
Я повернулся. В сумраке белело её лицо, светились открытые коротким халатиком ноги.
- Можно я Вас провожу? - неожиданно для самого себя произнёс я, приблизившись к ней.
- Можно, - она засмеялась, - теперь можно даже узнать, как меня зовут.
- Как? - я был сбит с толку и говорил первое, что приходило в голову.
- Наташа. А Вы, наверное, топитель и спаситель в одном лице?
- Нет, я - Сергей.
- Так пойдёмте, Сергей, здесь нам больше нечего делать.
Мы шли по тихим переулкам, дышавшим теплом, и Наташа, смеясь, рассказывала мне, как она испугалась в первое мгновение. Я постепенно приходил в себя, смеялся в ответ и тоже пытался рассказывать ей о своих нелепых страхах.
Так мы добрались до станции, освещённой несколькими яркими лампочками. Перрон был пуст. Наташа остановилась.
- Не провожайте меня дальше. Тут уже близко.
- Но почему? Я тоже живу рядом...
- Не надо.
- Хорошо. А можно увидеть Вас завтра?
Она посмотрела на безлюдный перрон, потом повернулась ко мне.
- Я завтра пойду в кино с соседкой, если хотите, приходите тоже.
- Да, я обязательно приду.
- До свидания.
Она пошла быстрым шагом. Я стоял и смотрел ей вслед.
На следующий день я пришёл в кинотеатр за час до начала сеанса. Ещё никого не было. Люди стали подходить, когда я закуривал третью сигарету. Я стоял за колонной и всматривался во всех проходящих. Сумерки ещё не спускались, стояли долгие июньские дни. Изредка мимо клуба по разбитой грунтовой дороге проходили машины, и пыль, поднятая ими, долго висела в воздухе. У меня дрожали руки, когда я прикуривал - не помню какую по счёту - сигарету.
Наташу я увидел неожиданно, подняв голову от прикрытой руками горящей спички. И тут же инстинктивно спрятался за колонну. Наташа шла под руку с какой-то женщиной лет тридцати. Входя в двери клуба, она оглянулась по сторонам. Я почему-то опять сдвинулся за широкий каменный столб колонны.
В зал я вошёл после того, как погасили свет. И не дождавшись конца фильма, снова оказался за колонной. Вскоре сеанс окончился, и в двери стали вываливаться кучки оживлённых, смеющихся и разговаривающих зрителей. Было уже темно. Я боялся пропустить Наташу, но заметил её сразу. Выходя, она споткнулась о каменный порожек и, ухватившись обеими руками за свою подругу, видимо, её соседку, рассмеялась.
- Наташа! - позвал я.
Она оглянулась на мой оклик и, сказав что-то женщине, пошла ко мне. Она подходила, улыбаясь.
- Здравствуй, Наташа!
- Добрый вечер, я думала, что ты не пришёл.
- А я боялся, что не увижу тебя.
- Ты смотрел фильм?
- Да... Наташа!..
- Что?
- Наташа...
- Какой ты смешной, Серёжа! - она улыбнулась. - Мне надо идти, меня ждут.
- Не уходи, ещё одну минутку...
Мы стояли оба у стены. Наташа смотрела мимо моего плеча.
- Я пойду, Серёжа.
- Наташа, я буду ждать тебя завтра... в Летнем саду, в беседке... вечером!
Она ничего не ответила и, удивлённо взглянув на меня, побежала догонять соседку.
Утром я решил сказать ей всё напрямик и приготовил слова. Я боялся только одного: что она не придёт.
Она пришла, когда я уже отчаялся увидеть её. Я сидел на перилах беседки, опустив голову. Голос её прозвучал неожиданно.
- Ой, Серёжа, ты тут ? А мы гуляем с подругой... - на последнем слове Наташа кивнула в сторону, и я заметил метрах в двадцати ожидающую её, стоящую к нам вполоборота девушку. - Галь, иди сюда!
Девушка вяло подошла:"Здравствуйте."
Я нагнул голову в ответ.
- Галь, это Серёжа, мы с ним случайно познакомились.
Теперь кивнула девушка и отчуждённо встала, прислонившись спиной к стойке беседки.
Я угрюмо молчал.
- А я весь день готовилась к экзаменам: собираюсь поступать в МГУ на филфак.
- Ну и как? - пробурчал я.
- Ой, ещё столько учить, просто ужас!
Присутствие её подруги связывало мой и вообще-то не шустрый язык. Разговор не клеился. Но Наташа почему-то была оживлена, смеялась и о чём-то рассказывала. Я сидел, опустив опять голову, с растущей злобой ощущая, каким напыщенным балбесом сейчас выгляжу, и от этого злился ещё больше.
Наконец Наташа перестала щебетать.
- Ну, нам пора, - объявила она.
Я почувствовал одновременно и радость от того, что мои натужные муки кончаются, и тоскливую тревогу от того, что она сейчас уйдёт. Надо было что-то делать.
- Может быть, сходим в кино?
- Ой, что ты, я должна садиться за учебники!
- Да... - промямлил я.
- Давай завтра, если хочешь, я постараюсь выкроить время.
- Конечно, давай завтра сходим.
- Ну, вот и хорошо. В половине девятого у кинотеатра. Договорились? Ну, мы пойдём. До свидания. Пойдём, Галь.
Её подруга отклеилась от столба и, молча кивнув мне, взяла под руку Наташу. Они уходили. Я глядел им вслед.
Назавтра повторилось то же, что и во второй вечер нашего знакомства. Я стоял за колонной и смолил одну сигарету за другой. В кармане у меня лежали два билета. Наташу на этот раз я заметил издали. Она вновь шла со своей неразговорчивой подругой. Меня передёрнуло, но я пересилил себя и двинулся им навстречу.
- Здравствуй, Серёжа! - радостно воскликнула Наташа. - Давно ждёшь?
- Здравствуйте, девушки, - церемонно ответил я. - Да нет, только подошёл.
Мы вошли в фойе.
- Вот, держите. Я сейчас покурю и приду, - я отдал им билеты, подвёл к контролёрше и удалился: надо было покупать билет на себя. В зал я попал, как и следовало ожидать, при погашенном свете. Мои глаза ещё не привыкли к темноте, и я пробирался к середине зала наощупь по спинкам кресел. Зная места, на которых сидели девочки, я скоро их нашёл. Отражённым от экрана светом сиял профиль Наташи. Но, как назло, места с обеих сторон возле них были заняты. Зато прямо за наташиной спиной оказалось свободное кресло. Я по чьим-то ногам торопливо полез туда.
Через две минуты мне было уже невтерпёж видеть перед собой наташин затылок. Я наклонился к ней.
- Наташа, давай выйдем, мне нужно тебе кое-что сказать.
Она полуобернулась и, глядя на подругу, шёпотом произнесла:
- Серёжа, фильм такой интересный, давай потом поговорим.
Я не знал, что сказать ей ещё, и, злясь, откинулся на спинку деревянного кресла. Пять минут я тупо смотрел на экран, раздражаясь всё больше и больше, и наконец не выдержал, вновь наклонился вперёд и сказал напряжённым голосом:
- Наташа, нам нужно поговорить.
Она обернулась ко мне со вздохом:"Ну боже мой, о чём?.." - но осеклась, встретив мой взгляд. Медленно отвернувшись, она несколько секунд сидела прямо и неподвижно, затем придвинулась к подруге и прошептала ей что-то на ухо. Та резко обернулась в мою сторону, но Наташа уже поднялась и осторожно пробиралась вдоль ряда. Я выпучил глаза в ответ её подруге и, охваченный нетерпением, затопал по ногам возмущающихся зрителей. Из проходов мы вышли одновременно, я схватил Наташу за руку и потащил к выходу.
В Летнем саду, куда выходило большей своей частью здание Дома культуры, как ни странно, не было ни души. Я тащил её в дальний угол парка. В самом конце аллеи, почти толкнув, я усадил Наташу на скамейку и прерывающимся голосом сказал:"Вот!.."
Она, подобравшись, испуганно смотрела на меня.
- Ну, Наташа, не смотри на меня так, не знаю я, как тут сказать...
- Что сказать? - ледяным тоном проговорила она, видимо, беря себя в руки. Во мне что-то оборвалось.
Я встал коленом на скамью, склонившись к ней, и похолодевшими вдруг руками хотел взять её лицо в свои ладони. Она неожиданно быстрым движением перехватила мои руки и отчуждённо произнесла:
- Чего ты хочешь?
Всё пропало. Я медленно разогнулся. Наташа легко вскочила и быстрым шагом пошла по аллее. Опустошённый, не двигаясь с места, я смотрел ей вслед.
Прошла, наверное, неделя. Вечерами я бездумно бродил по посёлку. В тот вечер я внезапно увидел её. Она спешила через площадь с лёгкой сумочкой в руке среди разрозненной толпы, сошедшей с вечерней элетрички. Всё во мне напружинилось, я рванулся вперёд, крикнул:"Наташа!" - и замер. Она вздрогнула, замедлила шаги и остановилась, не глядя в мою сторону. Я побежал к ней.
- Наташа, здравствуй, всё так неловко получилось в тот последний раз. Ты извини, я вёл себя, как последний идиот, ты, наверное, испугалась?
Напряжённость, с которой она смотрела на меня, распустилась, и она улыбнулась вдруг прежней лёгкой улыбкой.
- А я думала, что мы больше не увидимся.
- Как хорошо, что мы с тобой встретились. Давай не будем вспоминать о том вечере... Пойдём, что ж мы стоим посреди площади? Я так мучился все эти дни. Болтался по посёлку, хотел и боялся встретить тебя. Как я рад, что вижу тебя! Я, наверно, много говорю, но это со мной редко случается. Как прорвало! Я вообще-то нелюдимый человек, хотя у меня много знакомых девчонок. Но ни с одной у меня не было так, как с тобой. Мне почему-то кажется, что ты какая-то особенная, светлая, что ли... Нет, ты не смейся, я не вру. Мне кажется, что ты смеёшься надо мной, а я - правда! - этого не хочу. Такого со мной ещё не бывало. Как наваждение какое-то!
Я ещё долго ей что-то говорил, а ноги принесли нас всё в тот же Летний сад, к той же самой скамейке. Мы сели, и я осторожно обнял её. Она не сопротивлялась, сидела тихо, слушала меня, глядя перед собой. Потом закрыла глаза и откинула голову на мою руку, обнимавшую её. Я внезапно замолк, увидев близко её приоткрытый рот и ощутив её спокойное дыхание. Осторожно потянувшись, я дотронулся губами до её щеки. Она вздрогнула, но осталась в том же положении. Я чуть-чуть повернул её к себе и неловко ткнулся своими губами в её тёплые и необычно мягкие губы.
- Ой, а ты целоваться не умеешь, - тихо, счастливо засмеялась она.
- Умею, - решительно прошептал я и, крепко прижав её к себе, всосал мягкие губы. Она затихла.
Всё во мне дрожало. Держа её одной рукой, другой я нащупал пуговицу её летней кофточки и расстегнул. Наташа дёрнулась и прошептала:"Не надо!.." - но я ещё сильнее прижал её лицо к своему и расстёгивал остальные. Она безвольно сопротивлялась. Просунув руку под кофточку, я расстегнул лифчик. Наташа попыталась вырваться и задыхающимся голосом зашептала:"Что ты делаешь? Пусти! Пусти меня!.." Но я уже не сознавал, что делаю. Горя одним желанием, я быстро подхватил её на руки и, торопливо пройдя несколько шагов, опустил на траву, навалившись на неё всем телом. Наташа извивалась подо мной. Мыча, я прижимал её головой, целовал груди, гладил тело, стягивал юбку. Наташа то злым, то жалобным кричащим шёпотом выдыхала:"Что ты делаешь? Пусти меня! Сволочь! Ну миленький мой, не надо! Не сегодня! Мне больно! Пусти-и! Мне нельзя! Больно! А-а! Ну что ты делаешь! Больно-о... " Но было уже поздно.
Мы шли по ночным, остывающим от дневной жары улицам посёлка. Наташа то прижималась лицом к моему плечу, останавливая меня, то вдруг резко отшатывалась и тащила меня за рукав за собой, быстро и горячо шепча:"Ой, что ж теперь будет? Как же я теперь?! Ой, мамочки-и!.." Я шёл за ней спокойный, счастливый, умиротворённый, гладя её по голове и целуя лицо, когда она припадала ко мне.
У перекрёстка на свою улицу Наташа остановилась.
- Не провожай меня дальше. Я сама. Вдруг тётка не спит?
- Ну и чёрт с ней, с тёткой!..
- Нет-нет! Не надо. Я сама.
Она высвободила руку, глянула снизу мне в лицо, закрыла глаза и подставила губы для поцелуя. Я поцеловал её.
- Завтра вечером на той же скамейке...
- Нет-нет-нет!
Она пошла быстрым шагом вдоль заборов. Я ласково смотрел ей вслед.
Назавтра она не пришла. Не пришла она и на следующий день. Потом меня послали по работе на неделю в командировку. Вернувшись, я не выдержал и пошёл на её улицу. Я помнил дом, в который она вошла в последний наш вечер, и сразу направился к нему. Толкнув калитку, прошёл во двор, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. За дверью послышалось шарканье, и она растворилась. Передо мной стояла угрюмая пожилая женщина. Неожиданно охрипшим голосом я произнёс:
- Извините, Наташа здесь живёт?
- Нет Наташи! И не будет! Уйди, поганец, глаза б мои тебя не видели! - зло прокричала мне в лицо женщина и захлопнула дверь. Ошарашенный, я простоял несколько мгновений у закрытой двери, потом повернулся и медленно пошёл прочь.
Стояли последние дни необычно жаркого в то лето июня. Через два дня, спеша с работы на обед, я увидел её подругу. Она тоже заметила меня и повернула в мою сторону.
- Тут тебе Наташа письмо передала.
- Где она? Что случилось? Мне надо её увидеть!
Подруга недобро глянула на меня, извлекла из спортивной сумки помятый конверт и, сунув мне в руки, пошла прочь. Я было кинулся за ней, но опомнился, быстро разорвал конверт и стал читать. Солнце било в голову, руки дрожали, строчки сливались. Я ничего не понимал.
"Милый мой! Вот и кончилась наша любовь. Я уже никогда не буду твоей. Как тяжело! Будто рот тебе зажимают грязной, вонючей и жёсткой рукой... Как тяжело, когда тело твоё расхищают, будто ты не принадлежишь себе самой... Как тяжело!
Как тяжело жить и знать, что где-то рядом живёшь ты, дышать и знать, что ты тоже мучишься, любить и знать, что никогда, никогда не прижаться нам друг к другу. Прощай, любимый мой! Не ищи меня. Уже поздно. Прощай!"
Я ничего не понимал. Строчки сливались, руки дрожали, солнце било в голову. Сколько я простоял посреди площади - не знаю. Очнулся я только вечером у себя дома на террасе. Я лежал ничком на кровати и ни о чём не думал. В дверь террасы изредка заглядывала моя бабушка с испуганным лицом.
На работе мне выписали неделю отпуска за свой счёт. Я вновь бродил по посёлку и изнывал от непонятной тоски. Как всегда меня занесло в Летний сад - к нашей скамейке. Подойдя, я увидел, что на ней расположились четверо ребят лет по семнадцати. Один сидел на спинке, поставив ноги на сиденье, двое стояли рядом, а четвёртый примостился у ног первого. Я уже было повернулся, чтобы уйти, но один из них крикнул:"Друг, сигареткой не угостишь?" Я подошёл к ним и протянул раскрытую пачку. "Вот спасибочки, - проговорил сидящий на спинке, запуская заскорузлые от грязи пальцы в пачку, - а мы уж думали на большую дорогу идти промышлять. Мы ребятки весёленькие, нам не привыкать." Сидящий возле него толкнул локтем его ногу, но тот, оглянувшись на него, проворчал:"А чего? Тут люди свои." И повернувшись ко мне, доверительно сообщил:"Тут на днях девочку крутнули. Ах, какая была девочка! Как брыкалась, бедненькая! Всё Серёжу какого-то звала. Ну, мы за Серёжу и поработали. Хо-хо! Может, слышал?" Спазма перехватила моё горло, я прохрипел что-то несуразное и ударил кулаком в масляно улыбающиеся передо мной глаза. Парень перевернулся через спинку, задрав ноги, и завалился в кусты за скамейкой, но в тот же момент кто-то справа врезал мне по уху так, что я отшатнулся влево, перебрал ногами и, зацепившись за вылезший из земли корень, завалился набок. С диким криком я мгновенно вскочил на ноги и бросился на худого парня с оскаленными зубами. Тут сбоку меня встретил удар поддых, а сверху по голове треснули чем-то тяжёлым. Я упал на колени и вцепился в штанину худого. Но удар ногой в бок вновь повалил меня. Я потащил за собой худого, и он налёг мне на грудь коленями. Я успел перевернуться и подмять его под себя. И тут колющая боль пронзила мне шею. Руки обмякли, и в угасающем сознании отпечатался визгливый возглас:"Пришил! Валим отсюда!.."
С горлом я провалялся в больнице четыре месяца. Тех ребят поймали, судили. Несколько раз ко мне в палату приходил следователь. Говорить я ещё не мог, писал ему на бумаге обо всём, что произошло в тот день. О Наташе я не упоминал, объясняя драку тем, что ребята пристали ко мне из-за сигарет. Наконец меня оставили в покое.
Через четыре с лишним месяца, выписавшись из больницы, я вышел на ватных ногах под падающий крупными хлопьями снег. Дрожащее тело казалось незнакомым, чужим, я словно был пуст внутри. Рядом семенила плачущая бабушка. Мной владело тупое безразличие.
Прошло восемь серых месяцев. Днём я работал, вечером валялся на кровати, пытаясь читать. И вот вновь наступил июнь. Отхлестали майские дожди, дни начинаются недолгой утренней прохладой, и к полудню всё заливает солнце. А вечера стоят такие тёплые, что, вдыхая полной грудью, не можешь надышаться. Но ночи... ночью... Лишь только ночи глядят мне вслед.
1982 г.
Ах, как они бегут или Притча о скуке
Друзьям и бабушке,
Прасковье Петровне Чураевой,
моему началу.
Скучно на этом свете, господа!
Николай Васильевич Гоголь
Ах, Николай Васильич, Николай Васильич, как же Вы заблуждаетесь! Доведись Вам побывать хоть раз в Туркмении, Вы сразу поняли бы всю поспешность своего заявления. Пойдёмте вместе, я вам покажу всю невозможность скуки в этом мире.
Ах, какие здесь ночи! Ну куда до них украинским! Да где ещё увидеть столько звёзд, где столько тишины вольётся в уши и где ещё вберёте вы в себя столько тепла, покоя, упоенья?! О пиршественность туркменской летней ночи! Лишь только набросит безлунный июльский вечер на просторный стол пустыни тёмно-синюю скатерть тьмы, лишь только проявятся на фиолете воздушной ткани серебряные чаши звёзд, лишь только расплещется во всю ширь небесную хмельная Млечная река, как наступает на всём положенном республике пространстве безудержный разгул покоя. Теплотою, тьмою, тишью дышит каждая частичка окружающего. Немолчный звон невидных насекомых не нарушает, а сопровождает тишину, не давая стать ей оглушающей. Правда, изредка взволнует гладь покоя истошный крик осла, который, как поэт туркменской ночи, ревёт всегда будто в последний раз. Конечно, тут же пожурят поэта за беспорядок вечно бодрствующие псы и вновь затихнет всё на долгие часы. Лишь звон в траве да невесомый воздух и лишь покой, покой, покой во всём.
Тот городок, в который мы вступаем, лежит неразличимый, бестревожный. Не разглядеть его до той поры, пока не засветлеется восток, омытый нежно влажным светом солнца. Светает долго, можно осмотреться. Так что ж это за городок? Дома, дворы, навесы с виноградом да пыльные деревья вдоль дорог. Таких найдётся не один десяток.
А солнце ни минуты не теряет и быстро разливается окрест. Пока что лёгкий свет и свежий воздух не предвещают никакой жары. Но неуклонно наполняется пространство зудящим зноем. Он держится сначала лишь на крышах, а вскоре скатывается и во дворы. Но зной всегда опережают люди. Они выходят из своих дверей и громоздят по плитам казаны. Звенят тазы, фырчат, плюются краны и нежит стены ясный детский смех. А это значит - наступило утро.
Вот какую ночь и какое утро проспал Воха и теперь ворочался под тонким бледно-розовым давно выцветшим покрывалом, втискивая голову в прохладную щель меж подушкой и простынёй и пытаясь продлить хоть на несколько мгновений блаженное состояние человека, уже выспавшего все отведённые для сна сроки, но знающего, что никто не запретит ему спать ещё и ещё, и мучающегося нудно-сладкой истомой. Ох, уж эти воскресные дни! Ну куда от них деться? Куда деться от проклятых мух, которые тотчас облюбуют высунувшуюся из-под застиранной материи коленку или локоть и начнут бездушно и методично щекотать твою кожу? Куда деться от немилосердного обвала света и тепла, равномерно распространяемых утренним солнцем и заставляющих тебя потеть и кувыркаться на матрасе в поисках местечка, в которое можно было бы уткнуть лицо и пить, пить живительную прохладу? Но нет, нет счастья там, где его ищешь! Жалкие лохмотья тени, падающие наискось с засыхающих лоскутьев виноградника, не спасают. Солнце властвует всем!
А меж тем соседи уже давно поднялись, кричат на своих ребятишек, неутомимо носящихся спозаранок по двору, стучат вёдрами, набирают воду из кранов, зная по опыту, что к обеду от этих злых железок ничего кроме фырканья и кашлянья не дождёшься, разжигают расположенные прямо под открытым небом газовые плиты. Потусторонняя соседка уже пилит за что-то мужа, и ее голос, злой и тонкий как иголка, царапает Вохе барабанные перепонки. На веранде тарахтит тарелками мать. Вот слышен и её обычный воскресный призыв:"Во-ова, вставай завтракать!"
Воха очумело соображает, что ему теперь делать, и хриплым спросонок голосом отвечает:"Я не хочу, мам, потом!.." Но вставать когда-нибудь придётся. И, обессиленный принятым вдруг решением, Воха вяло откидывает покрывало и сползает на край топчана. Чистить зубы не хочется. А надо... И на что дана жизнь человеку, если вся она уходит на мелочные и досадные "надо"? Сейчас надо зубы чистить, потом надо завтракать, а завтра, допустим, надо на работу идти... А жить-то когда? Воха смутно чувствовал, что он живёт не так, как ожидалось им несколькими годами ранее, что жизнь пролетает мимо, как ветер, который только обдувает его, но остановить который не в его силах. Может быть, надо бежать вместе с прохладной воздушной массой?.. Опять "надо". Э-эх!.. Смешно.
Воха спускает ноги с топчана и нащупывает ими свою летнюю обувь, прозывающуюся в разных регионах по-особому, как-то:"вьетнамки", пляжные тапочки, "лягушки" и прочее, а в Туркмении известную почему-то под названием "сланцы". Протянув резиновый стебель, врастающий в толстую подошву, меж пальцев ступни, он дошлёпывает по бетону до стола. Фу ты, как нерадостно в полости рта! Сколько раз зарекался набираться пива по субботам, ан нет же. А впрочем, что ещё делать? Запрокинув чайник перед лицом и нетерпеливо сплёвывая нацеживающиеся чаинки, Воха жадно глотает тёплый напиток прямо из носика. В-вот! Теперь можно жить... А как?
Воха садится на стул и думает, обводя проясняющимся взглядом свои владения. Ага, виноград уже, должно быть, сладкий. Он подтаскивает стремянку к усмотренной им кисти и, тяжело, по-стариковски, взобравшись на неё, дотягивается до соблазнительницы. Прямо тает во рту! Устроившись на верхней площадке стремянки, Воха с высоты своего положения вновь озирает пространство, ограниченное по периметру полускрытой виноградником металлической сеткой. К Шохе что ли сходить? Он спускается и, оставив на месте лестницу, добирается до стола. Опять хлебница не закрыта! И когда приучишь родителей к порядку? А виноград с хлебом ещё вкуснее. Подсохнувший хлеб скрипит на зубах как фанерный...
Натянув затрёпанные джинсы, Воха направляется на веранду, где неспешно заканчивают завтрак бодрые, отоспавшиеся за всю рабочую неделю, родители. Вот счастливые люди!
- Вова, давай за стол, - говорит мать.
- Да не, мам, я уже винограда с хлебом наелся. И когда вы научитесь хлебницу за собой закрывать?
Не донеся кусок до рта, отец мрачно-презрительно взглядывает на Воху и произносит:
- Ты у меня поговори!
- Поговори-поговори! Нашёл Цицерона! Вечно одно и то же. Надоело уже.
- Ты как с отцом разговариваешь, пацан?! Напялят джинсы и думают, что им всё можно! - вскипает глава семьи, демонстрируя железную логику отцов.
- Ай, ладно! Ма, я к Шохрату пошёл, - выходя в двери и путаясь как всегда в марлевой занавеси, бросает Воха.
Ну и жарища! Даже соседские куры, обычно такие же деловые как их хозяева, суетятся не больше вареных раков. И общественно-ничейная дворняга Клякса уже разлеглась в теньке, разбросав лапы, и умно-равнодушно смотрит на перетаскивающего ногами шлёпанцы Воху. Ох, уж эти люди! Вечно им чего-то надо! Никак они не поймут, что главное в жизни - покой!.. А впрочем, и хорошо, что беспрестанно они куда-то спешат. Ведь остановятся, заметят, что ты так беззаботно отдыхаешь, и обязательно запустят в тебя камнем. Нет, уж лучше спокойно прожить свою собачью жизнь, не обращая на себя ничьего внимания. Иди, Воха, торопись, мчись туда, где меня нет! Воха, однако, не замечает светящейся в глазах дворняги собачьей философии и мирно ползёт дальше.
Раскалившийся бетон даже сквозь резину жжёт ступни. Добравшись через минуту до перекрёстка, знаменующего собой половину пути, Воха закатывает джинсы и, не снимая сланцев, встаёт по колено в прохладную воду арычка, бегущего вместе с улицей. Ах, как мало надо человеку для счастья! Только в этом ли счастье? Вздохнув, Воха вытаскивает из обители нежности нижние конечности и расправляет скатки. Ну, теперь до Шохи рукой подать...
Ступив в проём железных ворот, Воха видит друга. Тот копается под навесом в своём "Восходе". Сколько себя помнит Воха ( а Шоху он помнит почти столько же ), его друг всегда в чём-нибудь копается, за исключением, наверное, собственной души. Зато это за двоих делает Воха.
- Привет! Опять карбюратор?
- Да, чёрт бы его побрал! Уже собираю. Подай на четырнадцать... Да вон он с краю лежит, что ты - ослеп, что ли?
- Держи. Ну и жарища! Собирай да поедем на арык искупнёмся.
- Сейчас.
Ну и лупит солнце! К обеду воздух наливается таким ослепительным светом, что больно глазам. Тёмно-зелёные, не отблёскивающие под слоем пыли и потому кажущиеся издалека бархатными массы листьев не шевельнутся. Свет валится на Городок сплошным потоком, как на потоп. И каждая трещина в штукатурке, каждый излом виноградного ствола, каждый волосок малярной кисти, оставленной при покраске на двери, ведущей на террасу Шохи, видятся резко и отчётливо. И вдруг совсем нерезко, как видение, появляется в раме растворяющейся в прохладный сумрак двери женский образ. Господи, да разве может земная женщина быть так красива! Откуда это видение? Откуда привёз его Шоха после армии, никто не знает. Когда потягивающие с ним пиво дружки-приятели спрашивают его об этом, он, хмуро ухмыляясь, отвечает:"Вам скажи так начнётся всемирное пересение народов". Один Воха знает наименование той благодатной местности, но скромно хранит тайну. Ничего, после армии он тоже туда завернёт...
А образ чистой красоты, сладко-истомно потягиваясь на солнышке, материализуется нежнейшим голоском:"Шохратик, возьми меня с собой, я тоже хочу покупаться". Шохина спина на миг застывает и он, не оборачиваясь, говорит в сторону двери:"Ты давай иди за ребёнком смотри. Успеешь ещё. Кому сказал?" - и ангельское видение, дёрнув плечиком, тает в сумраке, вместо которого через секунду синеют створки вышеописанной двери. Но лучезарный свет, исходящий в её сторону из глаз Вохи, не исчезает до тех пор, пока не слышится голос Шохи:
- Открывай ворота! Поедем.
Дано ли человеку ещё в чём-нибудь такое полное проявление счастья кроме как лететь на чуде современной техники, обняв одной рукой за талию друга, а другой приветствуя попадающиеся по пути знакомые лица и крича во всю мощь голосовых связок:
- Няхили?!!
Это экзотическое приветствие при переводе на русский язык означает всего лишь скромное вопросительное местоимение "как", но какой универсальностью обладает оно на жаргоне наших соотечественников, проживающих в самой жаркой республике! Особенно если к нему присовокупить специфическое покачивание открытой ладонью на манер забивающего папиросу. Этим сказано всё! И - как живёшь? И - чего ждёшь? И - на что надеешься? А так как молодому человеку свойственно в глубине души надеяться только на лучшее, которое придёт однажды, то Воха с радостным чувством взирает на летящие из-под колёс гравийные брызги, на разбегающихся поджав хвост перед грозной машиной четвероногих и на куцую тень, появляющуюся в тот момент, когда Шоха, не снижая скорости на поворотах, клонит сей венец технического творчества направо или налево.
Вот они слетают с шоссейки на узкую тропинку, ведущую к арыку, и за ними вспухают возмущённые клубы безмятежного доселе песка. Последний рывок - и мотоцикл замирает в нескольких сантиметрах от крутого склона, обрывающегося в зелёную ласковую манящую воду. Шоха в своём репертуаре.
Раздевшись до трусов и бросив тряпьё на горячее кожаное сиденье, друзья подходят к самому склону, щурясь от бликов, распластавшихся на легко колеблющейся поверхности. Затем Шоха делает несколько шагов назад, бросается вперёд - и через мгновенье уходит вниз головой в иную субстанцию. Воха устанавливает носки ног на край обрыва, глубоко вдыхает и, взмахнув руками, следует за другом. О, блаженство! О, благословенная жидкость! О, целительный бальзам! Как мягко обнимает тело влага, сколько в ней нежности и прохлады...
Воха лениво перебирает конечностями, чтобы лишь только удержаться на воде. Волосы на голове, покоящейся над речной гладью, быстро высыхают и солнце вновь обжимает череп жгучим томящим обручем.
- Уу-а! - вдруг вырастает из-под воды с разлетающимися струями шохино тело чуть ли не до пояса и весело орущий друг окатывает раскалённую голову Вохи ласкающей влагою.
- У-аа! - ревёт Воха и проделывает ту же манипуляцию, а затем бросается за другом, пытаясь схватить его за мелькающие под тонким слоем воды пятки. Сейчас, сейчас!.. Брызги, всхлипы, солнце, пузыри... Хорошо!
Вскоре, уставшие, они выбираются на берег и ложатся на прокалённый полдневным светилом, слежавшийся до окаменелости песок. Ох и жжётся!
- Сейчас бы пива холодного... - произносит Воха в землю, положив ещё мокрую голову на руки.
- Угу, - подтверждает Шоха, уже сидящий лицом к изливающему жар ослепительному кругу и блаженно прикрывший глаза, - бочку привезли?
- Не знаю, не видел.
- Поедем сейчас, я новую банку, пятилитровую, достал.
- Угу, - отзывается уже поднимающийся Воха.
Обмывшись и натянув шмотки, через пару минут они мчат обратно.
Ну конечно же, бочки нет! Перед рестораном на потемневшем пятнами от расплёскиваемого каждодневно пива пятачке толкутся оптимисты, всегда ожидающие бочку с минуты на минуту. И Хуртын тут, и Халим, и Волоха с Коляном... Молодые ребята сидят на корточках в тени карагачей и неспешно тянут ленивые разговоры о том о сём, уверенные, что придёт время и они так же неспешно и лениво будут тянуть пиво... Но друзьям уже не терпится: в груди горит огонь желанья. Перебросившись несколькими словами с товарищами, они снова взгромождаются на свой драндулет и строят планы, как бы залить желание, вдруг овладевшее ими.
- Слушай, - говорит Шоха, - поедем к Сашку! Он меня уже три месяца в гости зовёт.
- Да ты что? Пилить в такую жару двадцать кэмэ! Пусть лучше у меня желудок усохнет и тарантулы в нём заведутся!
- Да брось ты, у Сашка коньяку хоть залейся, даровой ведь.
Этот довод сражает Воху. Он, зажмурив для виду глаза, секунду раздумывает и отчаянно кивает головой. Шоха бьёт ногой по рычагу.
Сашок, армейский друг Шохи, ловко устроился. В двадцати километрах от Городка находится виноградарский совхоз, поставляющий продукцию своих плантаций коньячному заводу, что расположился с ним по соседству. А Сашок по возвращении из армии сумел пристроиться там сторожем и теперь является своеобразным посредником между производителями даров земли и служителями Бахуса. А посему коньяк и виноград в его мазанке не переводятся.
Друзья несутся по сереющей ленте асфальта и Воха, придерживаясь правой рукой за пояс друга, а левой уперевшись в собственное колено, сидит, свесив голову, почти что в позе роденовского Мыслителя. Навстречу рвётся сухой раскалённый воздух и, если открыть рот, забивает гортань сухим горячим клубком. По обе стороны полотна тянутся то пески, то хлопковые поля, подступающие к самому шоссе. Вдалеке медленно плывут нефтяные вышки. Изредка выглядывая из-за спины Шохи, Воха видит впереди бледно-голубое, но тем не менее яркое, до рези в глазах, небо, опирающееся на чёткую черту горизонта. Асфальт чем дальше, тем кажется темнее. Поднимающееся над далёкими выбоинами вязкого покрытия дороги дрожащее марево видится блестящей под солнцем лужей. По мере приближения к такой луже мираж пропадает, а вдали возникает новое обманное озерцо и вскоре снова тает, как несбыточная надежда на чудо, рождающаяся ни с того ни с сего солнечным весёлым утром и незаметно потухающая в пыли и сутолоке полдня. Куда исчезают наши надежды? Откуда являются? Где их исток? Что им причина?.. О жизнь, ты неостановима! Закрутит нас калейдоскоп надежд, томлений, полусбывшихся желаний, но мысль однажды мозг тоской проест, наступит время разочарований. Наступят дни метаний и утрат себя, безбожной веры, цели жизни. Захочется то славы и наград, то просто быть своим в своей Отчизне. Окажется: никто не виноват в непреходящем чувстве пессимизма. И вот тогда ни чудо, ни беда, а только время и мышленье жёстко нас приведут к понятию труда. Быть может, нам поможет скрип пера, а может, потогонка на "ура", но главное - всё вынуть из нутра! А муки наши лишь "болезнью роста" нам объяснят седые доктора. Да дай бог памяти: расти будем всегда! Пусть жизнь нам не покажется новей ( душа ещё поноет, как умела ), но время мчит быстрей, быстрей, быстрей и нас толкает к делу, к делу!
К делу.
Ткнувшись лбом в широкую и костистую шохину спину, обтянутую цветастой рубашкой, Воха очнулся, сообразил, что они тормозят, и крикнул:
- Что, приехали что ли?
- Да нет, двигатель надо охладить. Ты же знаешь, я недавно поршня новые поставил, не запороть бы...
Друзья съезжают на обочину, откуда Шоха на малой скорости сводит мотоцикл по отлогому склону протекающего по правую сторону арыка, а затем руками толкает его в тень, под мост, низко нависающий железобетонными перекрытиями над их головами. Здесь прохладно и даже свежо. Вода, обтекая четырёхгранные опоры, журчит тихо, монотонно, дремотно. Друзья присаживаются на сухую глину и Шоха достаёт "Приму".
- Будешь?
- Не хочу.
Воха, отвалившись на локоть, оглядывает берег, по которому они только что прошли. Он сплошь усеян углублениями от коровьих копыт, а местами забросан чёрными горошинами овечьего помёта. Значит, здесь прогоняют стада. Как всех притягивает вода. Вот она скользит у ног, зелёная, живая... Воха сползает к самой кромке и поглаживает её ладонью. Ласковая...
- Может, искупнёмся?
- Да поехали, чего время терять.
- Ну поехали тогда.
Шоха бросает окурок и друзья вытаскивают свой транспорт из-под моста.
Через полчаса они у цели своего путешествия. Шоха загодя глушит двигатель и сворачивает на ответвляющуюся от шоссе грунтовку. В освобождённые от гула уши вливается шорох песка, выпархивающего светло-серыми крылышками из-под протекторов. Вот и мостик, а за ним в низинке виднеется хибарка приятеля. Сейчас они устроят другу сладкую жизнь!
Однако сюрприз не совсем удаётся. В небольшом окошке мелькает встревоженное смуглое личико и в тот момент, когда Воха слезши с сиденья разминает затёкшие ноги, а Шоха выковыривает из-под адской машины подножку, дверь распахивается и на пороге показывается хозяин:
- А-а, пропащая душа! Залетел-таки на коньячок. Иди-ка, иди сюда, дай я тебя помну! - и шохина костистая фигура тонет в развёрстых объятиях правителя коньячных дел.
- Да тише ты! Оставь жене что-нибудь, - ворчит Шоха, корчась в обхвате старого приятеля.
Сашок отпускает его и протягивает руку Вохе:
- Здорово. Не женился ещё? Или женилка не выросла? Смотри, перезреешь!
- Да ладно. За мной не заржавеет, - лениво отбивается от жизнеутверждающего напора Воха.
- Надия, - кричит неунывающий вершитель жидких судеб, - режь мою любимую индюшку, самую толстую и глупую, что мне вчера в любви признавалась! - и вновь поворачивается к приятелям. - Ну идём, я вас виноградом угощу.
И пока юркая смуглокожая фигурка Надии мечется от сарюшек к навесу и обратно, друзья входят в дом. Полумрак и прохлада тесной комнатёнки ощущаются как свежесть. После томящего зноя тело расслабляется. Тянет прилечь, раскинуть руки, забыться... А на полу расстелена кошма: шершаво-нежный войлок, на котором лежит по краю чёрная кайма, средина же красна цветным узором. Под бок - подушка, на ладонь - щека, друзья ложатся в ожиданьи коньяка. Ах, не скупись коньячная душа!
- Ну что, мурзилки? - говорит Сашок. - Что будем пить? Кальвадос? Виски? Грог?
- Не матерись, - роняет веско Шоха. - Неси коньяк.
- Заявлено неплохо, - и Сашок выносит своё тело за порог и далее - в заветный погребок.
Он возвращается, неся в одной руке на блюде словно небо на заре румяный виноград и с ним чурек: туркменский круглый плоский пресный хлеб. А вот другою - ласковой! - рукой, прижав как женщину любимую взапой, несёт баллон, конечно не пустой, а с жидкостью как видно не простой, по чистоте сравнимой со слезой.
- Итак, мурзилки, нынче только спирт, - и взгляд, и жесты продолжают флирт, - коньячный спирт. Клеёнку расстели. К окну поближе... Ну, друзья, пошли!
Поехали! - сказали б на Руси, ну да приятелей аллах простит.
Как спирт горит в неизжитых кишках, но леденит и сушит кожу на губах и подбородке. Как волнует страх перед глотком, что грудь прожжёт комком и встанет колом под невинным кадыком. И сколько виноградин ни глотай - не протолкнуть его. Увы, запоминай: что телу и уму для сладости даётся, когда-то кое-где несладко отзовётся. Однако как пуста, но ватна голова, как ясно оседают в ней обычные слова:
- Итак, мои друзья, прошу не падать в тазик: на днях у башлыка сорвал я новый "газик"!
( "Башлык" в Туркмении - колхозный председатель. )
- Ого, вот это да! Ну ты даёшь, приятель!
- Да, дядя мне помог. Всего семнадцать тыщ!
На Воху шохин взгляд:
- Ты что же это - спишь?
Хозяин плещет спирт в пиалки от души:
- Не спать сюда пришёл. А ну давай глуши!
- Да я совсем не спал...
- Ну вот и хорошо... А что ж я не видал?
- Да он под камышом. Вон видишь - под навесом.
- Да-а! Ты и в армии был хлеборезом.
- А, хватит. За газон. Гул-ляй, моя душа!.. Что, Воха, не идёт?
- Д-да как домой пошла!
Ух, голова плывёт... И музыка играет... Чего же этот звон мне так напоминает?.. Всё тот немолчный звон... Не звон пустых бутылок?.. Дрож-жит моя душа и рвётся вон из жилок!.. Для этого мы пьём?.. А для чего живём?.. Постой, похоже ведь на колокольный звон!.. О чём же он звонит?.. Или о ком?.. По ком.....
- Э-э, ты, вставай, а то индюшка сейчас улетит, - Воха, лежащий лицом вниз, муторно чувствует, как кто-то трясёт его плечо, и с трудом отрывает тяжёлую голову от подушки. Шея затекла, не гнётся, и потому ещё неосмысленный взгляд уставлен в одну точку, приходящуюся на центр импровизированной скатерти-самобранки. Посреди клеёнки в большой эмалированной чашке лежит в буром жирном соусе полусъеденная жареная птица. Кости отодранных ляжек и обломанных с одного бока индейки рёбер, огрызки помидор, ошмётки мяса, раздавленные виноградины на залитой соусом клеёнке полузасыпаны пеплом. В стеклянной пепельнице горка дымящихся окурков. Шоха теребит друга, глядя на него непонятным взором. Наконец до Вохи доходит: у Шохи добрые глаза... Значит, уже набрался.
- Что, мурзик, скрючился, как поросячий хвост? О! Вот что, Шоха, - глаза Сашка блестят весело и трезво. - Дяде человек нужен на свиноферму. Башли там можно име-еть!.. Устроить?
- А ты что ж?
- Х-ха, мне и здесь неплохо.
- ...д-ды! В-вод-ды! - чтобы протолкнуть обдирающий горло комочек слова, нужно выправить шею, и Воха пытается принять подобающее человеку положение.
- Дай воды, - говорит хозяину Шоха.
- Не маленький, - радостно отмахивается Сашок, - найдёт и пососёт!
Глаза Шохи вдруг становятся пустыми и стеклянными, он, набычившись, смотрит на приятеля и вполголоса раздельно произносит:
- Я сказал - дай воды!
Зрачки Сашка мгновенно суживаются, но тут же расширяются и он всхрапывает смешком:
- Ох-хо-хо, мурзилки, какие ж вы красивые у меня! - легко подымается и выходит.
Сумрак комнаты теперь измызган духотой. Испарина холодит тело приходящего в себя Вохи, вызывая чувство неприятного озноба...
- На, шпендрик, очухайся, - появившийся Сашок небрежно протягивает запотевшую литровую банку.
Воха обеими руками принимает питьё и тут же подносит его ко рту. Вода перехватывает горло, стекло жжёт ладони и губы, а пищевод страдает и поёт: ликуй же, тело, ледяной поток смывает слизь кипящую с кишок! И в выраженьи глаз - в их осмысленьи - процесс питья находит отраженье... Вот этот ряд чудесных изменений и ловит взгляд хозяина владений. Он Воху, как музейный экспонат, обходит: под ноги не глядит, а с Вохи глаз не сводит. В душе у него - ранка, а под ногами - банка. Он ранку Вохой нежит, он ранку заживляет, а банку ( жизнь-подлянка! ), а банку "с ног" сбивает... Та падает и скачет, и спиртом чистым плачет, и целое мгновенье хозяин озадачен.
И вдруг долбает, как щенка что путался в ногах, пустую ёмкость - та летит и бьётся в стену "гах-х!", и льют осколки в серый пол то ли свой звон, то ль боль"ойль-ль!"
- Орр-ра! - Сашок рычит гортанью. - Ну всё, всё, всё! Хрен на мамалыгу!.. Ну, мурзилки, дёрнули кататься! - он стоит пригнувшись, со сжатыми кулаками, смотря на останки банки под стеной. Воха, держа у губ стеклянную тару, с недоуменным испугом взирает на него.
- Кататься так кататься, - медленно произносит Шоха, поднимается и идёт к двери.
А за дверьми всё та же томительная, одуревшая от собственных усилий жара. Солнце первым делом бросается в глаза. У Вохи от солнечного удара расплываются за зажмуренными веками ослепительные пятна и голова так начинает кружиться, что он приседает на корточки. Тут в его набитую чем-то тяжёлым голову вплывает зов. Зовут его. Он с трудом, как Вий, подымает веки. Прямо по курсу уходящий вдаль высокий фундамент намечающегося дома их приятеля, вокруг аккуратные штабеля красного кирпича... Но зовут откуда-то сбоку... А, это Сашок ему машет. Они с Шохой уже откинули с машины камышовую плетёнку и мудрят что-то с мотоциклом. Воха усилием воли собирает и поднимает расползающееся тело и, прихлопывая прыгающую от него в разные стороны почву, движется к навесу. Ноги сейчас, кажется, вывернутся коленками назад...
- Заноси! - орёт Сашок, вцепившись в руль мотоцикла, втиснутого меж навесом и сараем.
Воха, споткнувшись на ровном месте, хватается за сиденье.
- Да за багажник, за багажник заноси! - надрывается коньячный бог.
- Ты что, не видишь, что его самого надо заносить, - подаёт реплику откидывающий заднюю стенку газика Шоха.
- Ничего! Пусть работает! Молодой, здоровый!
И Воха, буксуя вспотевшими ступнями по резине сланцев, вновь напрягается, держась за багажник.
- Скинь тапки-то! - рычит Сашок, и Воха на автомате выпутывает пальцы из гуттаперчевых стеблей. Земля теперь не плывёт, а горит под ногами. А мотоцикл-то какой неповоротливый!
Шоха притащил от фундамента широкую толстенную доску и приладил её накатом к борту:
- Заводи!.. Да держите вы, ишаки!.. А-а! Лучше дай я сам. Придерживайте с боков... Раз - два - взяли!.. Е - щё - взяли!..
Наконец безжизненное железо на двух колёсах под брезентом газика. Основная масса воздуха в салоне, где устроились приятели, представляет собою раскалённую пыль. Но это их не смущает, они в своей стихии. Вот мелко задрожала сталь, дан задний ход, разворот - и прости-прощай, мой дом родной! Сашок только успевает плюнуть в окошко Надие:"Жди!"
Прошипели по песку и взлетели на асфальт, как из плюгавого ручья в судоходную реку. И всё покатилось в обратном направлении: пески, хлопковые поля, нефтяные вышки. И отлетели за спину и хмель, и муторная, всё чего-то ждущая жизнь, и даже утренние, вдруг ставшие чужими и далёкими, мечты. И лишь дорога, верная дорога, летит вперёд и за собой зовёт. Куда-то нас дорога заведёт?.. Нам кажется, что выбираем мы, а глядь - несёмся по путям судьбы. Так чтоб потом не взвыть, кляня судьбу, ищи не путь к ней, а её саму. Найдёшь судьбу - дорога ляжет руслом. К тому ж найти её - нехитрое искусство. Всего-то надо заниматься делом, к которому спешат душа и тело...
Да как понять, чего душа хотела, когда указчиков у ней нетленный рой? "Иди туда! - кричит один. - И действуй смело!" "Да не туда!.." - внадрыв орёт другой. И ох как трудно быть самим собой... Душа, наслушавшись, уже не может ни внять советам, ни обойтись без них. Но чужеродность их её изгложет, как гложет мысль моя мой бедный стих. Вот потому-то на любой совет душа, не думая, вопит:"Нет, нет и нет!" - и продолжает свой кордебалет. А время мчит, пространство круг сжимает, дорога - вечна, жизнь... а жизнь вот тает!
Дороги вечная тревога, движенья вечного покой - всё нам дано, да взять попробуй! Жизнь ускользает под рукой. Мгновенье, ты прекрасно! Стой?..
- Стой! Сто-ой! - прерывает сиплый крик Вохи речь многомудрого приятеля, раскрывающего двум друзьям познанные им тайны женских душ и тел. Водитель срабатывает двумя ногами "по тормозам" и газик оседает на передний мост.
- Давай! Вниз ручку! Ну дверь, дверь открой! - нервничает Сашок.
- Зачем? - не понимает Воха, напрягшийся на заднем сиденье.
- Да ты ж мне сейчас весь салон облюёшь! Рыгать же счас будешь! Я ж только вчера чехлы новые натянул!
- Да нет, я это... сланцы-то мои забыли...
Сашок долго смотрит на Воху и на его лице отражается осознание переживаемого момента, затем он отворачивается и выжимает сцепление:
- Я т-тебе лакировки подарю! Всю жизнь ходить будешь и детям передашь. Лысак нечёсаный!..
Шоха, полуобернувшись к ним, сладко улыбается.
Когда друзья-приятели въезжают в Городок, вызревают первые признаки вечера. Неожиданно замечаешь, что светоносный, распираемый солнцем воздух возвращается в нормальное состояние и, подёрнутый лёгким, тёплым пеплом сумерек, притухает. И уставшие за день от блеска глаза видят разной тональности серыми пролетающие мимо и жёлто-розовый фасад райкомовского здания, и величественные стены с облупленной побелкой и лапидарной надписью по фронтону "КИНО-МОСКВА-ТЕАТР". Ах, серость сумерек, тревожное межвременье, пора, когда безмолвеет душа, когда нет сил ни думать, ни дышать, когда всё сущее напоено покоем и остаётся обречённо ждать, чтобы томление глухонемое дошло до степени осознанной тоски - и разразится тихий синий вечер!
Чуть не боднув бампером матовые в предвечернем полусвете, крашенные серебрянкой массивные ворота, туша машины застывает. Заглушенный двигатель проявляет, как лакмусовая бумажка, нешумную прелесть наступающего вечера. Атмосфера его кроме тонкого запаха пыли, растворённого в теплоте потухающего воздуха, включает в себя заливистый неостановимый стрёкот сверчков, далёкий ленивый лай и звуки, выдающие близкое присутствие человека: звяканье перемываемой посуды, стук костяшек при игре в нарды, монотонный голос телевизионного диктора. Лязг захлопнутой Шохой дверцы оскорбляет слух своей инородностью. Он обходит машину и долдонит кулаком в ворота, металл которых раздражённо гудит и затихает. На шаг отступив, Шоха отклоняется, будто собирается кинуть лезвие крика поверх ворот:
- Нязик!
Крик уходит в обжитый покой, как в песок.
- Сашок, посигналь ему! - Шоха опирается на капот.
Плоть тишины вспарывают два коротких взвизга и продолжительный пронзительный сигнал: Сашок поставил на газик жигулёвские клаксоны. Друзья ждут. И оседает муть встревоженного действием покоя.
По ту сторону слышатся тяжёлые шаги, прессующие попискивающий гравий, и скрежет снимаемой с опор железной трубы, служащей запором семейной крепости.
- Ну что ещё? - недовольный женский голос можно было бы назвать грубым, если бы он не был таким округлым. Его обладательница стоит, скрестив руки, в приотворённой калитке, выступив из неё толстой ногой в рваном шлёпанце. Засаленный халат облекает тело, состоящее будто из наскоро надутых воздушных шаров, всё ещё продолжающих колыхаться под задохнувшейся тканью.
- Привет, Верунчик! - Шоха старается придать своему голосу интонацию залихватского оптимизма. - Нязик дома?
Блинный ком головы с шевелюрой нечёсанного парика на секунду застывает в раздумье и вслед за тем массив фигуры молча уплывает в глубь двора. Дверь остаётся открытой. Шоха победоносно оглядывается;
- Идём!
Утопающий в разливе уже почти непроглядной синевы двор, засыпанный мелким щебнем вперемешку с гравием, кажется необъятным. Пройдя вдоль боковой кирпичной стены дома с двумя окнами, друзья выходят на площадку перед входом. Вделанный над дверью деревянной веранды фонарь, оттесняя тьму, бликует на стёклах "Запорожца", стоящего в центре площадки. За верандой в уютном пространстве меж её дощатой стенкой и трёхметровым железным забором, отграничивающим двор от пустыря, помещается топчан на четырёх высоких ножках. На нём перед светлеющим экраном телевизора, выставленного в окно дома, копошатся детские фигурки и вырисовывается неколебимый объём хранительницы домашнего очага. Из легковушки с раскрытой настежь дверцей торчат, преломившись в коленях, длинные ноги, мосластость которых не скрыть ни обвисающим их штанинам комбинезона, ни неверному электрическому свету. Поперёк малолитражки на месте свинченных кресел помещается остальная часть туловища. Двоюродный брат Шохи - Нияз, а для друзей просто Нязик - лежит на тряпье, набросанном на торчащие из пола шпильки. В левой руке у него горящая переноска, направленная как и его взгляд под приборный щиток, а правая нашаривает что-то среди инструмента, разложенного на заднем сиденьи. Сунувшийся по пояс в коробку салона Сашок, сведущий в автомобильных делах, тут же смекает, что длинным чёрным от въевшегося масла пальцам Нязика нужна отвёртка. И наполняя жестянку на колёсах громогласной чепухой, он лезет приветственной пятернёй в поворачивающееся к нему, пытающееся боковым зрением охватить инструментарий худое лицо, а другой рукой быстро убирает за спину отвёртку, которую перехватывает включившийся с ходу в ситуацию Шоха и, озаряясь улыбкой, засовывает в задний карман брюк. Сашок радуется жизни:
- Тебе что, такой жены не хватает, что ты ещё на машину залез? Ох, муханик на семь нянек!
- Да я счас тут... - лёжа отвечает Нязик. - Клиент завтра с утра придёт. Это кто там?.. Здорово, братан! Там Халим с Коляном пива притаранили. Я счас приду, - и, изогнув спину дугой, кричит в сторону топчана. - Мать, ты отвёртку у меня не брала?
Не дождавшись ответа, он садится на порожек машины, заполняя окоём двери, и, протягивая руку двум друзьям, произносит:
- Ладно. Привет, Воха. Вы, чуваки, валите в беседку, - он кивает в сторону сада. - Я счас тут. Клиент завтра с утра придёт, неудобно...
От соседей двор ограждён густым колючим стриженым кустарником, в который вплелись виноградные ветви, свисающие с нагромождения жердей. От навеса виноградник распространяется вдаль, перемежаясь с невидимыми во тьме яблонями, гранатовыми деревьями и вишней. Там прорисовывает листву безжизненный свет дневной лампы, слышен стук костяшек. Приятели, бросив несколько бодрящих реплик, квинтэссенцию которых можно выразить словами "да хрен с ним, с клиентом, бросай, пойдём делом займёмся", направляются туда. Каждая колдобина тёплой под босыми ступнями земли легко бросает из стороны в сторону отяжелевшее вохино тело и он чуть было не оступается в воду арычка, через который, отбрасывая мешающие ветки и игнорируя перекинутую через него доску, перемахивают приятели. На свету вода кажется чёрной, а от неподвижности тяжёлой. На ней лежат несколько покоробившихся отживших листьев. Воха почему-то отмечает эту подробность, увлекаемый инерцией ходьбы и вдруг испуганно сознающий, что его нога шагает мимо мостка, будто оступается в бездну. Вздёрнув ступню, он переваливается через канаву и, потеряв равновесие, заваливается влево, плюхаясь на стоящий рядом недовольно скрипнувший стул.
- С приземленьицем! - ухмыляется, тоненько похихикивая, сидящий по соседству Колян. Обернувшийся Сашок жизнерадостно хохочет, а Шоха смотрит на младшего друга презрительно-обиженно.
В пузыре мертвенного стоящего колом света собраны совсем простые вещи: крепко сколоченный бурый от потускневшей краски и времени стол, такой же бурый стул, принявший Воху, рядом скамейка, на которой устроился Колян, напротив через стол маленькая древняя кровать с коваными спинками и жёсткой, из переплетёной проволоки, непружинящей сеткой. У левой спинки сидит короткорукий Халим. Он коренаст, толст, мощен, а сонные глаза его взблёскивают неожиданным умом.
К нему на кровать и подсаживаются, протягивая руки, два приятеля. Меж Коляном и Халимом разложена доска для нард с шашечными фишками и чёрными маленькими игральными кубиками. Шкурки и мутная чешуя разбросанной по столу сушёной рыбы, обсосанные кости, два пятилитровых баллона с пивом, несколько пиалок, опорожнённые банки и пластмассовая канистра, составленные на землю, расплёсканная жидкость придают растительной пещере неопрятно-жилой вид. Сотоварищи пускают один баллон по кругу и молча делают первые глотки. Тепловатая, потерявшая вкус жидкость не вызывает желания в полных желудках, заставляя глотать себя через силу. Но все пьют. И ждут, когда придёт к ним опьяняющий уют.
Халим мешает в горсти и выбрасывает кости нард. Передвигает фишки. Сашок берёт гитару, стоящую прислонённой рядом с ним к спинке, и, подыгрывая себе на простых аккордах, тихонько напевает известную в южном краю блатную песенку:
Меня зовут Мюрза,
работать мне нельзя.
Пускай работает Иван
и выполняет план...
Воху клонит в сон. Он кладёт голову на руки и сгущение туманно-серой мглы в его черепе вспухает давним вечером, когда с такими же, как он, пацанами Воха неудобно сидит на огромном дереве, взирая поверх высоченного забора летнего кинотеатра сквозь мешающую листву на запрещённое его детским глазам действо, и сердце распространяет в груди томительную тревогу, а снизу неожиданно раздаётся грубый голос, заставляющий сжаться, вжиться в ствол, а потом, не выдержав напряжения, обдираясь о жёсткую застарелую кору, вместе с другими гроздью ссыпаться вниз и, подвернув ногу, хромая, нестись куда-то не разбирая дороги, а вслед слышать грозную и обидную от невозможности ответить брань продолжающего стоять здоровенного пожилого, как тогда казалось, туркмена в милицейской форме, прозванного Мюрзой. Чего они бежали?.. Мюрза кричал, что вызовет в милицию родителей, а кого из них, беспрестанно подрастающей малышни, он знал?.. Чего мы всё бегаем, когда за нами не гонятся?.. И почему ж никогда убежать не можем, хотя никто нас не держит за руку?.. Отчего такая несвобода?.. Природа?.. Да при чём же тут природа?.. Иль в природе только входы и безвыходный тупик?.. Бег и крик?.. Бег и крик!..
Что за крик?
Следящий за пригрезившимися мыслями-видениями Воха упускает происходящее наяву. Он не видит, как, допев, Сашок отставляет за спинку гитару, как, привычно ухмыляясь для начала разговора, выкидывает вопрос:"Что, мюрзики, живём порожняком?", - как неизвестно почему принявший это восклицание на свой счёт Халим, мешающий в горсти кости, мгновенно, неожиданно легко при своей комплекции вскакивает и запускает ему в лицо игральные кубики, как тут же подхватываются остальные, как удерживает Шоха рвущегося с криком:"Я твой нос топтал!" - к Сашку Халима, как побледневший оскалившийся огромный Сашок в стесняющем движения узком проходе принимает бойцовскую стойку, как нервно хихикающий Колян тянется через стол скрюченными пальцами, толкая боком его, Воху, который, вцепившись в край стола, смотрит снизу вверх, не зная, что предпринять. Шоха ловит руку Халима и, прижав к себе, шепчет что-то ему в прыгающее возле губ ухо. Наконец тот выдёргивает руку и, вздымая злобными выдохами крылья носа, резко садится на кровать, плавя взглядом подножный песок.
- Хорош махаловки устраивать, пацаны! - Шоха садится. - Хотца попрыгать - идите в ресторан, там теперь по выходным дискотеку устроили.
- Ара, да там одни фраера зелёные, - Колян всё ещё подёргивается. - Я тада шёл - вылетает шобла, лупые все, ара, и давай махаться, ага! Биксу не поделили! А сами ещё куда сувать не знают... Фраер-ра!
Смачное "ара" - непременное присловье ребят, выросших в знойной республике. Эта связка как смазка в путаной, вихляющейся речи наших современников, не обременённых ни большими познаниями, ни тяжёлой памятью, ни изощрённой фантазией. Их лексикон, девственность которого почти не потревожила школьная премудрость, рождён укладом их жизни, складывающимся из отношений на работе, у кого - более, у кого - менее нужной им самим, да семейных отношений, у кого - с родителями, у кого - с собственными жёнами и детьми, а у кого - и с теми, и с другими вместе. Особую статью составляют отношения товарищеские. Это та питательная среда, что из лексикона образует местный жаргон, грани которого оттачиваются множеством различнейших мелочей - от индивидуальных наклонностей до общих условий воспитания улицей. А через улицу здесь проходят все. Проходят, чтобы дойти до нерегулярно привозимой пивной бочки, именуемой "коровой", и, толкаясь среди осаждающей её разгорячённой зноем и жаждой разновозрастной и разнохарактерной подковы, замкнутой грузно лежащей на двух колёсах жёлтой цистерной, тянуть полтинник или трёшник невозмутимому малому в считающейся белой куртке и выдаивать её до капли. Чтобы вот так вот вечером собраться в чьём-нибудь дворе и, насильно глотая уже тепловатую, медовую на цвет, но не принимаемую нутром жидкость, отдаться неприхотливым ассоциациям памяти, когда разговор перескакивает с одного предмета на другой, повинуясь не изысканной логике интеллигента, а смутным, беспорядочно накопленным впечатлениям жизни, выдёргиваемым из хранилища извилин то косвенным вопросом, то придаточным предложением, а то и просто опустошённо-радостным состоянием организма. И в порожних паузах чувствовать благодатный покой природы, основанный на беспрестанном шелесте и треске населяющих необильную растительность насекомых, на лае, вое и кашле где-то в близких и далёких подворьях содержащихся одомашненных животных, на мягком дуновении живительного вечернего ветерка, ласкающего нежностью глухую кожу лиц. И забываются, уходят в потаённые углы сознания семейные неурядицы, передряги с начальством, вся потно-суетливая, тянущаяся часами, несущаяся неделями жизнь, высасывая время, данное человеку в радость. Остаются друзья, обшарпанный стол с нехитрой закуской, пиво, тёплый вечер и умиротворение души, знающей, что здесь-то она среди своих. И вот уже разговор снова прыгает по знакомым неиссякаемым темам, а Сашок в знак примирения идёт за банкой спирта, припрятанной в его газике. Он возвращается как раз в тот момент, когда Шоха вспоминает свои предармейские годы, в которые они устраивали танцы под магнитофон в городском насквозь пропылённом парке на обнесённой редкими железными прутьями асфальтовой площадке.
- Чо там Нязик? - спрашивает Колян, собирая под разлив посуду.
- Х-ха, он из-под мамки отвёртку выкопал и закопался в свою жестянку, только мослы торчат.
- Ты ему сказал?
- Ща приду, грит, разливайте!
- Ну давай!
И опять плывёт по кругу трёхлитровая стекляшка.
- Я не буду, - говорит Воха, у которого от вида прозрачной жидкости всплывает в горле комок, выпирая наверх тошноту.
- Чо, мамка не велит?
- Сказал - не буду!
Шоха, не поворачивая головы, тем же тоном, каким ведёт рассказ, произносит:
_ Оставь. Не видишь - нейдёт ему.
- Ара, да я чо? - суетится Колян. - Не будет - не надо. Нам больше достанется.
А Шоха меж тем продолжает:
- Ну, я её зажал на скамейке, говорю - давай!.. А она - не могу, меня мама ждёт.
- Ну и?.. - расплывается физиономия Сашка.
- Ну что, ей тогда пятнадцать было, - Шоха зябко передёргивает плечами, - а мне в армию как раз. Вышла её маханька, кричать её начала, она задёргалась, говорит - давай завтра...
- А завтра вот те раз - только квас! - радостно перебивает Сашок. И все почему-то начинают хохотать, даже Шоха кривит губы в улыбку. А у Вохи отмякает душа, распускается свободой грудь, в которой при виде принесённого Сашком спирта что-то встопорщилось да и застыло так в пустом напряжении сопротивления. Он толкает локтем Коляна и пододвигает пиалку:
- Налей!
- А мамулька не заругает?
- Иди ты!..
- Ну вот так бы сразу и сказал...
Выдохнув воздух и закрыв глаза, пытаясь выпить спирт несколькими большими глотками, Воха цедит неощущаемую горлом, но не дающуюся жидкость, как ему кажется, целую минуту. Почувствовав холодную струйку на подбородке, он опускает пиалку и открывает глаза. Перед ним уже другая посудина. Её держит Сашок:
- Ну-ка, мурзилка, тряхни стариной!
Воха вливает в наждачное горло смягчающее деревенеющую внутренность пиво и успокоение пищевода приводит его в блаженно-опустошённое и в то же время на чём-то сосредоточенное состояние... Он слышит и не понимает, о чём, захлёбываясь мелким смехом, дрожа телом, рассказывает Колян, видит слушающих его в разных позах сотоварищей, а внутреннее зрение его блуждает где-то в дебрях необозримой разом памяти. Но душа Вохи принимает в себя всё: и пластающуся по поверхности стола тень от головы и широких плечей Сашка, когда тот разносит по кружкам и пиалам очередную порцию огненной воды, и раздирающий выясняющих где-то поблизости отношения котов и их подруг, и не дающуюся расползающуюся мысль о том, что хорошо иметь таких друзей, которые не лезут в душу, не учат жить, а просто разговаривают рядом и от этого неодиноко и хочется, чтобы это продолжалось долго, но голова тяжелеет и притягивает её к рукам, положенным на край стола... Воха встряхивается и обводит взглядом приятельское логовище. Ну что ему вечно чего-то не хватает?.. Чем стеснена его душа?.. Какой ещё свободы жизни она ищет?.. Вот она - жизнь! Вот они друзья, свобода беспрепятственного входа, нависающие своды перепутанной природы, здесь смешались свет и тени, спирт и пиво, злость и грусть, забубенное веселье, лай собак, кузнечий хруст, всё сплелось, срослось и вызрел на ступеньках чёрных шпал оглушающий как выстрел - финал!..
- Э, чуваки, какая жизнь была! А? А щас что! А? - Сашок скалится и от возбуждения часто "акает". - Порожняк! А-а... - он, отчаявшись и плюнув в сердцах на эту жизнь, обречённо взмахивает рукой и неожиданно предлагает. - А давай танцы-шманцы устроим! А?
- А что? - говорит Шоха. - Самое время. А? Халим?
- Я спать хочу, - отвечает тот, жмуря маленькие глазки.
- Для тех, кому не с кем спать, - ни с того ни с сего произносит Воха.
Халиму есть с кем спать, но делать это ежевечерне ему надоело:
- Ну и пойдём! - заявляет он.
И в сознание Вохи впечатывается, как, колебля по стенам тени, встают приятели, сдвигают зачем-то посуду и по одному исчезают в проёме древесной пещеры, занавешенной чернотой ночи... Память к нему возвращается в тот момент, когда он в плывущем сзади от экрана мерцании сидит на высоком топчане, свесив ноги в чернильное озеро тьмы. Фонарь над верандой потушен. За спиной невидимый Нязик передаёт из комнаты через окно с телеящиком чиненый-перечиненный им магнитофон без верхней панели, который принимает Сашок. Чёрные брюки на нём отсвечивают как лощёные. Вера, не шелохнувшись, глядит на дикторов, желающих в просвет брюк на русском и туркменском языках спокойной ночи зрителям. Вповалку спит, раскидавшись по постеленным одеялам, малышня. Шоха, сидящий на корточках перед младшим другом, пытается обуть его в огромные стоптанные нязиковские башмаки. Ноги, просвечивающие сквозь толщу темноты, не желают держать громоздкие, как коробки из-под обуви, туфли, и те, цепляясь за скользкие неровности кожи, через мгновение обречённо спархивают на гравий. Выразив недобрым словом своё возмущение, Шоха негромко кричит:"Шнурки есть какие-нибудь?" "Сейчас найдём", - отвечает из тьмы дома Нязик. Шоха суёт коробки туфель Вохе под мышки и тот машинально зажимает драгоценный груз... Через босые ступни ощущается подымающееся к груди тепло шероховатого асфальта, мрак ночи разрежен изливающимся из бело-матовых сердцевин цветков, вознесённых на металлических стеблях, светом. И Воха внезапно видит себя со стороны. Впереди маячат плоские спины приятелей, а его, направляемого и поддерживаемого за локти идущим сзади Шохой, несёт в волнах нагретого воздуха на катамаране зажатых под мышками штиблет... Вновь возвратившийся к действительности Воха уже сидит, привалившись спиной к жёстким пруткам, которыми обнесена загороженная от света недалёких фонарей стоящими вокруг деревьями танцевальная площадка. В сумраке угадываются фигуры, толкущиеся возле когда-то основательно сколоченной будки, сосредоточившей в своём тесном нутре розетку, выключатель и полку под музыкальную установку. Чтобы добраться до них, нужно снять много лет бестревожно провисевший замок. Этим и занимаются друзья-приятели. Извлечённый из чьего-то кармана кусок проволоки оказывается бессильным. Халим по старой памяти решает привести замысел в исполнение другим путём. Он пробует прутки в ограде. Наконец найдя подходящее, оторвавшееся от прочно спаянного коллектива копьецо, выдёргивает его из металлического плетня, и вскоре пространство, обласканное нежным теплом и умиротворяющей тишиной ночи, оглашается корябающим уши и души то ли скрежетом, то ли скрипом вырываемых с насиженных гнёзд гвоздей. Спадают дверные оковы, магнитофон в неверном свете вспыхивающих спичек водворяется на надлежащее ему место, розетка почему-то оказывается исправной - и вот вздуваются пузыри долгожданных звуков, выпирая оскорблённую тишину за кроны и стволы дерев, через сухой арычек, через узкую колею дороги, где и упираются в чёрные стёкла спящих бараков.
- Хоп-па! Хоп-па! - выкидывает замысловатые, как ему кажется, коленца Колян. Утомлённый победой Халим делает ученически-старательные "па". Сашок трясётся в беззвучном смехе, а Шоха, прислонившись к дощатому строению, со сложенными на груди руками, удовлетворённо улыбаясь, взирает на плоды общих усилий. В этом что-то есть! Гуляй, рванина, от рубля и выше!.. И темь теплом природы летней дышит, и вензель пишет шалая нога, и жизнь-пустышка вновь не дорога, хоть в страсти танца чуешь суррогат, но главное теперь - не душу слышать, а вписываться в музыкальный ряд, а ритмы танца тишину теснят, вот первые фигуры невпопад, вот пробил поры кожи первый пот, вот жажда сушит непослушный рот, вот музыки уже невпроворот, и вот она, разгваздывая тишь, ползёт на шифер недалёких крыш, устав об стены биться головой, пой, как сирена сладостная, пой!.. И упускают други тот момент, когда вдруг освещается брезент веранды, что пристроена к торцу барака, и какому-то отцу, хранящему покой своих детей, приходится, ругнувшись без затей, упомянув про "бога душу мать", восстав с постели, тапочки искать, вытягивать рубашки рукава, выплёвывая мутные слова, чесать затылок, ото сна зверея, и, увидав бутылок батарею, натужно и недужно вспоминать, что загнало его в такую рань в кровать. Ну да, конечно, сына обмывали. Ему уж три, что знает он едва ли. Пришёл и тесть - тут муж плюёт со зла - "любимый внук!" - пришлось поить козла. Ну выдал кое-что, да что ж такого! Жена опять разнылась, как корова. Мои дела, и выпивка моя, а ты молчи, на то ты и жена. Ну вот смотри, опять ворчит она:
- Куда ты, Мухаммед, они ж с ножами!..
- Молчи давай, - куда девал пижаму? А, вот она, - на то ты и жена! - И вот уже, пристроившись к порогу, в пижамные штаны вдевает ногу, чтобы идти туда, где лжёт гульба, что вновь в твоих руках твоя судьба. Там топчутся в поту в слепом азарте, ещё не зная, что они на старте дорог, которых разум не предрёк, все пятеро. Ещё им невдомёк...
- Козлы! Чо, места не нашли? - Мухаммед стоит за оградой, держась за два железных её рога. - Ну чо, в минтовку сдать вас на пятнашку?
- Да это ж Муха! Халим, прими братана.
- Братан, мы тут гуляем... - и расслабленный танцем Халим, обуянный приливом чувственной близости ко всему человечеству, подходит с этой стороны ограды к дальнему родственнику. - Как Валюха, как дети?
- Каком кверху! Козлы...
- А за козла , Муха, отвечать надо, - подскакивает Колян, - понял?
- Ты меня на "понял" не бери, шмакадявка! Понял? - и Муха направляется вдоль плетня к распахнутой металлической калитке. - Счас поймёшь.
Улыбка Халима, продолжающего стоять у изгороди, становится пустой. Сашок поудобнее пристраивает выпуклости спины к плоскости будки, из которой продолжают пучиться звуки. Скрещивая руки на груди, он видит, как Воха стоит посреди танцплощадки, как Колян не в такт музыке прыгает кузнечиком, а Шоха идёт встречать гостя:
- Няхили, Муха? - он нацеливает раскрытую дугою руку на белеющую рубахой грудь надвигающегося приятеля, но тот с ходу отбрасывает её, стремясь к объекту раздражения и этим разворачивая Шоху вокруг своей оси. Шоха сзади хватает его за предплечье. - Хорош, Муха, заводиться!..
- А ты чо, самый борзой, что ли?
- Ладно, не гони туфту, давай спокойно разберёмся.
- Счас разберёмся, - глухо обещает полуобернувшийся Муха и, доворачиваясь, толкает Шоху в лицо, накрывая в толчке открытой ладонью рот и нос. Пошатнувшийся Шоха машинально ловит его за запястье и, заваливаясь под забор, увлекает за собою. Тот не выдерживает равновесия и, упираясь, падает на поверженное тело. Сашок, от которого всё это происходит в двух шагах, нагибается разнимать их, а подбежавший Колян втыкает носок полуботинка в открывшийся в сплетении тел бок Мухи. Оцепеневший Воха видит подлетающую в длинной ночной рубахе Валентину, вклинивающуюся в сцепку, чтобы оттащить мужа. Отмахнутая локтем Сашка, она отскакивает назад и протяжно кричит почти плача:"Га-ады! Я сичас милицию вызову!.. Мухаммед, я от Гули позвоню, я сичас..." - и Воха замечает взметнувшийся подол ночнушки, съедаемый углом музыкальной будки. Тем временем Сашок, подведя под тело руку, отрывает Муху от Шохи и, приобняв, даёт подняться приятелю. Муха, потерявший кураж, обвисает на руках Сашка так, что медленно поднимающийся, нервно напряжённый в готовый развернуться сгусток мускулов Шоха сдерживает удар.
- Су-уки!.. - вдруг тоненько ноет, подвывая, Муха, в такт своему вою раскатывая голову по широкой груди Сашка. - В-вам мою ж-жизнь!.. - Сашок в очередной раскат головы распускает объятья и Муха, занесённый инерцией спиной к будке, мешком сползает по стене. - Оо-у!.. - воет он, оседая, и, уже сидя, тихо и надрывно добавляет, - Козлы...
- Не надо, братан, - Халим пытается приподнять родственника, одной рукой держась за угол будки, а другую просунув ему под мышку, - свои ведь. Вон и Валюха уже прибежала.
- Твои, - зло говорит Муха, отдёргивая руку. - Т-твою... За своей смотри...
- Чо ты сказал? - замерший на мгновение Халим смазывает тыльной стороной ладони родственнику по губам. - Повтори, чо ты сказал!
Мотнувшаяся голова Мухи изрыгает что-то несуразное и задохнувшийся было Халим кричит:
- Чо-о?! А ты её за ноги держал?
- У меня свидетели есть, - обречённо-радостно шипит родственник. - Хошь, докажу?
Взметнувшаяся для очередной пощёчины рука Халима, отбитого в этот момент боком подскочившего Шохи, хлопает того по спине.
- Лана-лана-лана! - частит Шоха. - Хорош, братаны! Из-за бабы...
Но в мозг плеснул уже кипящий дёготь ненависти. И руки Халима, судорожно скользящие по спине удерживающего его Шохи, замирают только тогда, когда натыкаются на торчащую из заднего кармана брюк полированную рукоять отвёртки.
- ...Хуртын её как хотел ставил... - свистящим шёпотом поёт Муха. - Как хотел!.. - он рывком поднимается. - Понял, ты, фраер мазаный!
Халим, приподняв, так легко отбрасывает в сторону Шоху, что Вохе кажется, будто он всё видит не наяву. И пока вылетает куда-то из поля зрения Шоха, пока удивлённо отлипающий от досок Сашок непонятно разводит руки, а Колян бросается наперерез метнувшемуся от Сашка Мухе, Халим выкидывает кулак, на который напарывается его далёкий брат и друг. И слышен странный полувыдох-полузвук:"Хук!" И Муха, задержавшись, косо валится на буд... Как неестественно и одиноко вдруг увидеть рукояти чёрный круг на белой ткани и сведённых рук, нелепо что-то шарящих вокруг, неудержимо-мелкое дрожанье. И ощутить в себе испуг и ожиданье. И пустоту. И сердце на весу. И видеть тающую тени полосу от рукояти в теле дышащей отвёртки, не понимая, что мигалкой вёрткой у входа в парк развёртывает тьму. И даже уж предощутив подкоркой подъезд милиции, поднятой по звонку, глотать тошнотно набежавшую слюну, не двигаясь, будто бинтом обёрнут... И только лишь когда ударят сбоку фары, которые шофёр подключит лишь теперь, узреть перед собой штанин пижамных пару и осознать отсутствие друзей. И только лишь когда перемещаясь взглядом и в памяти держа пижамные портки, в слепящем свете фар увидеть - Нязик рядом, вдруг удивиться - что ж в руке его шнурки? И только лишь когда толкнётся в разум фраза "Куда ты приканал? Дурак ты или что?", враз ощутить, что ты опустошён до таза, а ноги налились свинцово-горячо... Толчок в плечо и выдох:"Ну ты чо!.." То Шоха, друг и брат, его зовёт куда-то. Зачем бежать туда, откуда нет возврата?.. Но ты бежишь. Что можешь ты ещё?..
Воха несётся, продираясь сквозь кусты, и дыхание его колотится где-то в висках. Он видит маячащую в лунных сумерках спину Шохи. Она неожиданно исчезает, а Воха, с разгона пролетев ещё несколько метров, вбегает в непроглядную тьму и натыкается на круто уходящий вверх осыпающийся склон. Это железнодорожная насыпь. Ведь это вдоль неё расположились, образовав оригинальный стык, пространство парка и полузастроенное пространство ОВД через арык.
Не соображая, глотая пульсирующий в горле сгусток, Воха рвётся прямо на насыпь, сползая через каждые два рывка вместе с гравием. Сзади настигали тягостные толчки пустых секунд.
- Д-дура! Куда лезешь? - слышит он над собой сдавленный крик и, вскинув голову, видит напряжённый силуэт с указующей правой рукой. В той стороне пологий с детства знакомый подъём. Чтобы добежать до его основания, надо вернуться на два десятка шагов - под безжалостный свет луны. И Воха на какое-то мгновение пугается. Но бездумная сила сталкивает его с места и он бежит. Но не по прямой к подъёму, а вдоль насыпи, в его тени, а добежав, пригибается и медленными шажками движется к началу тропы.
Очутившись в пределах досягаемости ночного спутника, он от внезапно окатившего его испуга застывает на месте, а затем, потеряв голову, взбегает на насыпь. И не видит Шохи... Тот уже по ту сторону, внизу, где громоздятся, лезут друг на друга мазанки и сарайчики пристанционного посёлка, образуя ведомые только старожилам лабиринты.
Ничего не понимая, Воха бросается бежать вдоль сдвоенных путей. Сознание возвращается к нему только тогда, когда он слышит за спиной отчаянный страшный придушенный вопль:"Ду-ра! Д-ду-ура!.."
Воха рывками летит по ступеням шпал, боясь оступиться в гравийный прогал. И всё время оступается. Бежать неудобно, так как он никак не может приноровить ритм бега к расстоянию между шпалами. Неосновное зрение охватывает пространство метра на полтора - два вперёд сконцентрированного под ноги взгляда. Поднять голову Воха боится. Откуда-то он знает, что рельсы, поблёскивая отражённым светом, стискивают его с боков, направляя бег, и сливаются вдали в тупую металлическую стрелу, указывающую в непроглядную темень. Он знает, что за ним бежит Шоха, чувствует, как тяжело тому бежится, но не остановиться - и вот они бегут...
Ах, как они бегут, ах, Николай Васильич! Они бегут туда, куда спустилось солнце, забыв, что завтра солнце встанет за спиной. Ну что ж, прощай, покой! Неумный, но не злой. Какой? Да вот такой, когда не нужно слов - оправдывать себя. Когда слова нужны, чтоб толковать теченье событий жизни сей - ведущей, но куда? Когда понять готов, что твой покой - в движеньи, то бишь покоя нет. Неопытно любя, ты принимаешь жизнь, но не она тебя... И хочется понять! И объяснить волненье!.. И вот они бегут. Ни ночи нет, ни дня.
Ах, скука в нас самих. Ни печенью, ни почкой не перегнать её. Однако чем помочь им?.. Что ж пустоту толочь-то? Мир накрывает ночь и... Пуста загадка мумий. Но ночь - пора раздумий... Всё остальное - в прочем.
Май 82 – октябрь 87 г.
Кладбищенские цветы
Ничего не выносите с кладбища.
Народная мудрость.
Мишка Юрьев был мужик маленький, но чувствительный, вот только в Бога не верил. И не то чтобы не верил, а в церковь не ходил. Все ж таки в глубине души была острастка, но поднималось все внутри протестом, когда указывали ему, как и что делать, чтобы Бога умилостивить. Не для того ж он жил! А для чего жить - церковь тоже ответа не давала.
Лишь когда Ириска померла, в церковь вошел на отпевание. И когда у гроба жены стоял, под заунывное пение попа не крестился, хоть рука и тянулась, а только крепче в кулаке шапку стискивал, а из глаз слезы катились. Поднимал он руку с шапкой, будто пот смахнуть, а сам слезы отирал. Да еще прикрывался левой рукой, как бы на часы смотрел. "Командирские", ее подарок, любимые, бесценные...
Вот к ней, к Ириске, Ирушке-игрушке своей, и собрался он в очередной день поминовения. Да решил сначала могилки родителей навестить, чтобы к Ирочке со спокойной душой... Прокатил он на велосипеде через весь свой районный центр на окраинные Уползы, куда стали хоронить уже давно, с тех пор как перестали принимать упокойников на городском кладбище. Помянул, сидя перед железными крестами мамку с папкой, остатки в четвертинке и закуску нехитрую - хлеб с колбасой да огурец соленый - в холстинную сумку собрал и прикрутил ее к рулю, можно ехать к Ирочке. Ей-то повезло: на городском к матери под бочок положили, в тещину могилу, давнюю.
И уж ногу он было закинул за раму, как вдруг бросились ему в глаза росшие вдоль по оградке цветики. Голубенькие, как бы дрожащие на ветру, вызывали они и жалость, и сострадание. А главное - Мишка-то это знал, специально когда-то искал такие - назывались они ирисы! И так ему захотелось взять их к Ириске своей, такой же голубоглазой и беззащитной в его памяти, что не удержался он, подкопал заскорузлыми пальцами неглубокие луковичные корни в рыхлой кладбищенской земле, соорудил из валявшейся на соседнем холмике старой газеты подобие коробки, уложил бережно цветы и приладил осторожно к велосипедному багажнику. Подумал, шнурки из ботинок вынул и, пропустив через проткнутые в бумаге дырочки, прикрутил к металлическому основанию.
Недавно смазанные педали крутились легко, почти без нажима, и на душе было грустно и легко, как в какие-нибудь осенние праздники. И полгорода уже проехал он, как случилось странное происшествие. Вдруг он понял, притормаживая на длинном и все более круто падающем к реке спуске, что тормоза у него не держат. Педали стоят, а тормозов нет. И велосипед все набирает и набирает скорость. А впереди поворот. И вылетает из-за поворота огромная черная машина с металлической решеткой впереди - "Джип Чероки", что ли. Сын одно время все автожурналы таскал. Да разве ж разберешь эти иномарки! И летят они друг другу навстречу, и вот-вот уже столкнутся. Оцепеневший велосипедист никак руль не вывернет, а джипу так и вовсе все до смеху - крутые пацаны в нем. Шеф послал на речку машину помыть - как тут не расслабиться. Ширнулись, купнулись, теперь отдыхают с интересом. Мишка еще сильнее жмет на педали, и они вдруг срываются. Потерявши равновесие, он случайно увиливает от надвигающейся громады джипа, и несется, все больше заваливаясь, прямо в редкий штакетник чьего-то палисадника.
Хруста он не услышал, да и не помнит ничего. Это со стороны было видно, как влетевший с коротким треском в низенький заборчик велосипед остается стоять в нем как вкопанный, а продолжающий движение маленький мужичонка выкручивает в воздухе сальто, во время которого с коротких его ног отправляются в свой полет черные кирзовые ботинки, и траектории человека и его принадлежностей расходятся. Человек по дуге приземляется на завалинку, только не мягким местом, а твердым, то бишь головой, а прямолетящие ботинки со звоном рассыпают стекла низкого окна. Лицо пожилой женщины, испуганно вскрикнувшей в глубине комнаты, а затем боязливо выглянувшей в пустую раму и охнувшей, исчезает, а через несколько мгновений вся ее дородная фигура выплывает из дверного проема с непонятно к кому обращенным: "Что ж это такое, а? Что ж это такое?"
Она еще не определилась, какую линию поведения ей выбрать. Да и как тут определиться? Сначала она думала, что это пацанята-бесенята окна побили, но почему не камнями, а ботинками?! Выглянув в оконную створку, вдруг увидела самостоящий посреди ее забора велосипед, а выйдя - видит у себя в палисаднике завалившегося у завалинки босого мужика без признаков жизни.
Впрочем, признаки эти обозначились. Мужик приподнял голову, и она увидела мутные бессмысленные глаза. "Алкаш!" - поняла беззащитная женщина, скромно превосходившая наглого разбойника ростом раза в полтора, и закричала неожиданно окрепшим звучным голосом:"Алексей! Алешенька, сынок!" И тот появился, выйдя с заднего двора и сразу перекрыв ближайшую перспективу как в плане пейзажа, так и в планах безмятежного возвращения гражданина Юрьева домой. Бил он Мишку недолго, но сильно, а за причиненный моральный и материальный ущерб сдернул с руки, не найдя в карманах брюк ничего, кроме грязного скомканного платка, браслет с "командирскими" часами.
Подняв за пояс штанов, он легко перекинул свесившееся скобкой тело Мишки за штакетник и зло пнул вслед ему исковерканный велосипед, уже не представляющий никакой матценности и при этом нагло рвущийся на его территорию. Тот вылетел, жалобно звякнув деталями, и накрыл, завалившись, лежащего на проезжей части человека. Преданный земле снова поднял голову и посмотрел на мир мутными, ничего не понимающими глазами.
Прояснялись они по мере того, как к Мишке возвращалась осмысленная жизнедеятельность, как-то: сначала, двинувшись, он ощутил на себе металлический остов двухколесного аппарата. Кое-как, боком, выползя из-под него, он встал на четвереньки и попытался вздохнуть полной грудью. Жизнеутверждение отозвалось болью в нескольких местах, но не прервало процесса окончательно. Он привстал на колени, потер себе ребра и тяжело поднялся на ноги. Оглядевшись, он снова пал на колени и стал собирать разбросанные луковицы цветов в карманы брюк. Несколько перелетевших за заборчик животворных шариков он исподлобья отыскал взглядом, но лезть за ними не стал, а приподнял велосипед и, прильнув к рулю, шаркающей походкой двинулся прочь.
Переднее - свернувшееся в "восьмерку" - колесо терлось шиною о вилку, издавая тоскливый звук "ша-шо, ша-шо". "За что?" - вдруг высеклось, как искра, в его мозгу. Он посмотрел на часы, будто ища там ответа, и понял, что их нет. И тут глаза его прояснились окончательно, промытые нежданно брызнувшими слезами. "За что? За что?" - колотилась в его голове недооформленная мысль.
Кого он спрашивал? Роптал ли на судьбу? Взывал ли к Богу? Но эта мысль его толкала всю дорогу, мгновенно приливая со слезой. Не сознавая как, дошел домой, умыл лицо и сел за стол, смотря перед собой. В шкафу настенном за спиной стояла водка. Достав ее и вспомнив о селедке, что в холодильнике томилась с выходных, он потянулся к дверце и... затих. В нелепой позе дрогнувшей рукой нащупал он в карманах брюк своих шары ирисов. Выпутав из них, он разложил их на столе. Стакан налив, он, придержав дыхание, глотнул, секунду ждал, потом осел на стул. Когда прожгло, он луковицу взял, куснул зубами вялый бок и зажевал.
Ирисов корень пресен был на вкус, но терпковат чуток. Смородиновый куст, что одиноко рос под кухонным окном, глядел на Мишку. Деревянный дом, когда-то крытый кровельным листом железным, все грозил перстом печной трубы бесчувственному небу. Луна уже стояла в облаках, глядела вслед утопнувшему солнцу, чей свет еще вливался по оконцам, но гас и чах. А за окном впотьмах метался Мишка с корнем ириса в руках.
И водка уже допита была, и темь уже пласталась у стола, а не брала хмельная сила, не брала. И было ему муторно и горько. И горечь водки подливала к горлу, не растекаясь нутряным теплом. В передней шел к кровати, а потом бежал на кухню. Страх стоял колом, но страх не смерти - ужаса и чуда. Откуда это выросло, откуда? И будто грудь разорвало при том...
В конце концов он за перегородкой, что в их передней отделяла спальню, сморенный то ли страхом, то ли водкой уснул. Иль это так ему казалось? Но вдруг как от толчка он пробудился, и сила страшная в него влилась. В окно глядел огромный желтый глаз Луны. Он, не перекрестясь, смотрел и видел: там свилось клубком все, что разрозненно чернело на Луне, и стало черным и недремлющим зрачком - и придавило Мишку на Земле. Он, задыхаясь, глаз не закрывал, но видел ли то, что творилось, или знал о том каким-то потайным чутьем, неведомо. Пылающим пятном зрачок кипел: и брызгал чернотой, и разрастался черною дырой. И наконец все двинулось кругом. Пол на мгновенье оказался потолком - и Мишка выпал наверх, а потом вновь оказался на кровати. Лег ничком. Но все уже летело кверху дном - Земля и Небо, и меж ними дом, в котором прозревает человек, давно уже лежащий вниз лицом.
Вот что он видит. Светом черноты на черном небе обозначились черты той, с кем сейчас он говорит на "ты". Она летит с небесной высоты. Она летит и светится, почти как черный ангел. Ангел во плоти. И черный дом - конец ее пути.
Когда она касается земли, свеченье гаснет. Женщина в ночи в одежде черной с черными очами идет неслышными и быстрыми шагами к родным воротам. Мишка ее ждет. Она подходит и на кнопку жмет. И свет звонка распахивает мрак! Звонок из прошлого иль будущего знак? Но кто ему теперь расскажет? Как?
26 октября 2001
Об авторе
Сергей Аман (Сергей Аманович Хуммедов) – член Союза писателей Москвы с 1997 года. Родился в 1957 году в Туркмении. Там учился в школе и железнодорожном училище. Потом поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Учась там, попал в театральную студию Владимира Малыщицкого. Через два года все бросил и ушел служить в армию. Отслужив, поступил в Московский государственный университет. Окончил в 1985 году факультет журналистики МГУ. В газете «Московский Комсомолец» проработал одиннадцать лет. Работал на радио, в газетах, на телевидении. Кроме прозы есть стихи и песни.
Ссылки на песни (исполняет автор):
1. Окольцованные:
2. Журавлик:
3. Снегоход:
4. Ушла:
5. Ветер странствий:
6. Снова осень:
7. Уходя, гасите свет:
8. Случай:
9. Стирающая женщина:
10. Колыбельная для моего сына:
11. Романс алкоголиков:
12. Романс про летающих пролетариев:
13. Воздушный поцелуй:
14. Встреча:
15. В садах судьбы:
16. Жажда:
###


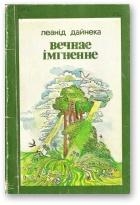
Комментарии к книге «Сирень под пеплом», Сергей Аман
Всего 0 комментариев