©Корсар К, текст, 2013
©Геликон Плюс, макет, 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Моя
Я родился в удивительной семье. Папу и маму мне было превзойти не суждено даже мысленно. Внутренняя свобода в них не кипела — лавой втекала в души человеческие через её холсты и его рукописные листы. Сам вид двух этих ристалищ света и огня поражал — брат и сестра, Адам и Ева, Инь и Ян, двумерное чудо, диптих, зеркальное отражение, нечто цельное и неделимое, синергетика в действии.
И людьми-то в биологическом смысле слова они не являлись — личностями, сосудами, сущностями, меня вскормившими своими ошеломляющими порой идеями.
Навсегда уйти в последний день осени… Вместе… Они превзошли самих себя! Это и есть гениальность — себя самого оставить на обочине сайентологического вейланса и промчаться мимо, оседлав идею, мечту, эфемерную, казалось, сущность, тут же воплощая оную в реальность.
Величайшее счастье жить в окружении двух Творцов. Искусство и результат их виден всем, душа и процесс — почти никому. Порой они подолгу скрывали друг от друга и ангела, и беса в себе, молчали, играли, загадывая друг другу загадки. И в облачный полдень, сев на двухколёсных, нежно ревущих, стальных волков, унеслись в свет, вырывающийся из-под падающего серой плитою гранитного горизонта, загадав окружающим финальную загадку. Одну на двоих. Апофеоз мыслимого!
Через полчаса ливень смыл их последние земные следы на асфальте, а наутро выпал снег, выбеленными перьями покрыв земной их путь. Пропали… Растворились в окружающем мире, который так любили, оставив на распахнутой ладони свое материальное бытие и наследие, завещание потомкам.
Они любили друг друга безумно, возводя психику в пограничные состояния акцентуаций, поэтому и не могли долго быть вместе — давились чувствами, не в силах ни проглотить, ни остановиться поглощать душу, разум и тело любимого.
Забавными, повергающими в благоговейных хохот и при этом саркастически-ироничными и цинично-метафоричными были их ссоры-споры.
— Белая ведьма! — он. — Огненный голем! — она.
— Святая виновность! — Поруганный Эверест!
— Примерочная лиц! — Авантюрист-моралист!
— Депрессивный психоз на колесах! — Богоизбранный маньяк, вылепленный из асфальта!
— Бешеная скромность! — Каменное молчание на реактивной тяге!..
После пары обоюдных уколов мои вербальные боксёры всегда сразу же расходились к разным канатам мирка, самоуничтожающе переживали и творили, отковывая в мраморе октавы метафор мазка и рождаясь друг для друга и Отца каждый раз заново.
Не могут вечно юные боги жить вместе. Так и они, метая огненные шары друг другу в сердца, несколько раз расставались, с бешеной силой вжимаясь, врастая друг в друга на новом витке пращи, в которую были вложены предком царя Давида, понимая что слова — лишь стекло, не способное поцарапать алмаз их чувств.
Я не мог не стать музыкантом. В доме было все — от губной гармошки до небольшого органа, от флейты и сакса до бас-балалайки. Причём все это жило, а не просто пребывало. Но у меня был и другой путь. Осудившие себя гиперрефлексией — вот кто были эти двое, с лёгкостью проникающие в сумерки душ людских, прирожденные психологи, педагоги, друзья, верные сопереживающие товарищи и помощники.
Мою музыку считают гениальной. Едва ли это так. Все, что я сделал, — исполнил мечту своих родителей, выписав на нотном стане своё самое потаённое — свою душу, свою суть — гордость (за них) и тоску (по ним), обострённую невозможностью лицезреть огонь этих двух пальм в ледяной пустыне алчности до традиций.
Они мечтали выразить себя и делали это в творчестве — в зашифрованном виде открывали нараспашку внутреннюю бесконечность, всё чем гордились и пестовали да чего стыдились и с чем символически боролись — и импульс, и маленьких гаргулий в себе.
Как и мои родители, однажды я пришёл в Красный Крест. Тайно, естественно, как и они. Зачем — не знаю. Наверное, хотел понять их, ощутить с ними общность. Пребывание — службой и работой помощь нуждающимся не назовешь — в таких местах двулико: болью сжимает и холодит сердце и тут же наполняет огнём душу, трепет возводя в сотые степени факториалов.
Кейптаунская миссия Красного Креста и Красного Полумесяца — крупнейшая в мире. Африка — гигантсткий Гарлем города с именем Земля. Родители всегда хотели туда попасть, но, видимо, не судьба… Лишь через тридцать лет я смог исполнить точку схождения линии их перспектив, пробив дорогу к неисчерпаемым запасам человеческой боли, обездоленности, несчастий и уныния да горьковатой радости от маленьких побед, помощи и участия.
Гастроли. Кейптаун. Чек с гонораром за концерт, предусмотрительно вложенный в чистый белый конверт в моём кармане. После выступления у меня было всего полчаса, и, вскочив в концертном фраке в такси, я, рассекая мысленно танцем с саблями воздух, доносящийся, как мне казалось, из самой Антарктиды, примчался к стеклянному небоскрёбу, окоченевшему на ветру у кромки Атлантики.
Вбежал в лифт, по-советски остановив итальянским бежевым лаковым ботинком уже закрывающиеся двери, и тут же погрузился в звук гонга — на сверкающих хромом дверях лифта с внутренней стороны были высокохудожественно выжжены плазменной горелкой, почти не оплавляющей края металла, слегка изменённые вторые половинки псевдонимов моих родителей: Mery Nez and Key Korsa — Peoples of Africa.
Двери открылись, пьяной пулей я ввалился в холл и вновь остолбенел. В нашем доме всегда были цветы. Отец обожал розы, и плантации колючести, украшенные кровавыми венцами, в изобилии произрастали на окнах и в оранжерее. Все эти цветы он дарил, дарил лишь одному человеку — своей любимой и единственной. Она же каждый высохший лепесток хранила.
И ввалившись после хлёсткого поцелуя прошлого в огромный зал, я увидел стены, усыпанные разноцветным миллионом высохших лепестков роз, взрывающую сознание невероятностью надпись English poet’s and artist’s M. Nez and K. Korsa и их фото!
Я не превзошёл родителей во внутренней свободе, в масштабности стремлений, в глобальности мечты, неугомонности, силе и таланте. Я превзошёл их в другом — в понимании значимости этих двух людей, уникальных в себе, вместе, с другими и при этом искренне ощущавших себя не чем-то сверхъестественным, а нормой, обычной необычной нормой.
Эрми
Саркофаг полководца Яхмеса, Летний сад на втором этаже, Вязь умершая, камень из Зевса, Фавн Мурера — душа в неглиже, Комендантской ступенью к Родену, Стон почившего в мрамор юнца, Bacco взор — виноградная пена, Взгляд Вольтера — предвестник конца, Маска-ужас в руках Мельпомены, Тонны чащи — Романовых блажь, Ассирийцы Сидона по стенам — Это взрыд! Это мой Эрмитаж!Диван
Стоял он всегда у южной стены небольшой уютной мастерской моего деда, почти у самого окна. Старый, потертый, изъеденный временем диван, на первый взгляд невзрачный, хранил он многое, представшее его тихому молчаливому угловатому взору, — годы упорного труда, восторг и озарения творца в редкие моменты единения с Создателем, тайны и откровения, горести и победы, печаль старика и первые чувства юнца, ласки и нежность, дружеские ужимки и беседы, размеренное безучастное созерцание и кипучую силу человеческого духа и разума.
Дед всегда сидел на нём только с одной стороны. Изредка он, на некоторое время лишь, доверял мягкой тугой сатиновой ткани себя полностью, отпуская тело на скрипучие пружины, а мысль ввысь — высекать из зримой пустоты нечто вполне определённое, тёплое, нужное, полезное людям и, конечно, невероятное красивое, как и всё, созданное с любовью и желанием его шершавыми морщинистыми пальцами.
Со временем там, где оседала мощная коренастая фигура деда, образовалась вмятина. На подлокотнике появилась белёсая точка в месте, где локоть слегка давил на обивку, и старое, дореволюционное, когда-то казавшееся вычурным и помпезным ложе окончательно утратило свою индивидуальность, само по себе перестав быть доминантой в интерьере. Диван часто пустовал, но и в это время казалось, что кто-то невидимый, мистический дух или сущность хозяина, восседает на нём, по привычке чуть откинувшись назад, возложив руку на красноватую ткань и свесив ладони над полом.
Однажды дивана не стало… Потому что не стало и хозяина. Годы стёрли грубой зернистой материей пыль воспоминаний, и в сознании остался лишь образ, сущность, ореол этого предмета, ушедшего в небытие, в историю, перекочевавшего из жизни в воспоминания.
Предстоял непростой разговор. Мысленные репетиции сказанного, несказанного и недосказанного ещё больше распаляли разум и не приносили ни успокоения, ни уверенности. Я шёл на встречу, как на Голгофу, где меня должны были либо превознести, либо распять как еретика и ренегата искусства на кресте, сплетённом из слов, мыслей и чувств других людей, мне почти не известных.
Знакомая улица пробежала перед глазами, тихие дворики мелькнули и тут же скрылись за массивными каменными домами. Деревья, тропинки, лавочки, исхоженный вдоль и поперёк бульвар поэтов и старое двухэтажное здание, окруженное частоколом высотных красных, как нарывы на теле, домов. Крутая лестница на второй этаж, скрипучие полы и старинные железные навесы.
Дверная ручка, коснувшись, слегка обожгла холодом пальцы, и дверь отворилась. Яркий свет выцарапал глаза, и через завесу ослепляющего тумана показались вдруг давно забытые, но знакомые очертания — тот же угловатый образ, чуть торжественный, чуть пафосный, слегка фривольный и в то же время основательный и массивный.
И всё же что-то изменилось. «Новая обивка. Перетянули… — подумал я. — Жаль…» Осветлённая деревянная основа, загрунтованная чем-то иссиня-коричневым, укравшим часть былой мощи и изысканности. Мебельные гвозди, сверкающие, как капля росы в утреннем солнечном шквале. Старые давно потускнели, но хранили в себе историю и дух времён, когда были вбиты чьей-то натруженной и мастеровитой рукой. Изменилось почти всё, но одно, самое главное, уцелело. Никто не смог вытравить из дивана его сущность, его уникальный силуэт, его биологическую память — образ прежнего хозяина.
Всё так же, как и много лет назад, до сих пор, несмотря ни на что, под уже новой светлой шёлковой тканью красуется небольшое углубление округлой формы, напоминающее о моём деде. О том, что он был, что он до сих пор есть!
Встреча прошла отменно. Воспоминания нахлынули бурным потоком и чуть не пролились ручьём из моих глаз. Мысли и чувства воспрянули, и мне на мгновенье показалось, что, как и много лет назад, на старом диване, на своём любимом месте сидит рядом со мной мой дед. Всё так же самозабвенно думает о чём-то и мысленно воспроизводит всё то хорошее, что было в его жизни и что ещё предстоит ему… и мне тоже…
Нечего терять
Не потерять вершин туман в моих карманах, Луны истошный рубь из водосточных луж, Пенсне камлания чертёжника барханов, Начертанным в миру коль насладился уж. На рею-эшафот таинственно возносят Меня, и грузный Тит ведёт неравный трёп. И обезьяний принц, плеснув, ещё опросит Из крынки, в приговор прочтёт своё Эзоп. Чёрт в белом театра сатаны простужен. Электикоголов и носороварог Стоит, потупя меч, негаданно понужен, Вновь вскинув надо мной мечты убогой рок.32 x 2
Повстречался я с ним на тридцать втором году. Жизни ли — не знаю. Существования скорее, поисков и учёбы, незнания и становления, сомнений и надежд или просто азартного жадного шатания по мирозданию. Он как раз к этому моменту тридцать второй год обитал в Петрограде. Мистика. Да и не только. Я сразу закинул кошку взгляда на хлипкую, низковатую фигурку, скромно перетаптывающуюся на ногу с ноги в тени приаэропортного фонаря. Он не торговался даже — покорно согласился на все условия и любезно подвёз меня до станции метро, оживлённо беседуя.
Узбек, больше походивший на бюргера в своём стареньком немецком авто. Питерский узбек — культурный, неглупый и образованный таксист-нестяжатель. Фантастика!
Подкинул он мне от своих щедрот тройку идей, обштриховал пару мест в Петрограде, тут же затянувших меня локальной гиперэмоциональностью, и в финале нашей недолгой поездки вознаградил драматичным, поучительным и жестоким — но такова уж жизнь человеческая — повествованием.
Афганистан. Советский конвой, пришедший на помощь новым борцам за власть, умы и будущее пустынной страны индоарийских племен. Несколько боевых машин пехоты, навьюченных русскими, белорусами, татарами, украинцами, башкирами и… узбеками — такими же сыновьями Аллаха, как и армия поборников государства ислама, возглавляемая хитрым и мудрым Асламом Ватанджаром и пришедшим на смену ему бесстрашным Ахмадом Шахом «Счастливым».
«С другом мы служили. В одном городке росли, в армию тоже вместе. Учебка, служба, а затем — чего, конечно, никто не ожидал — боевые патроны, разгрузка, полная РГД и рожков, холщовая коричневая защитная накидка да сухая пыльная горная система Гундукуш под ногами, кишащая не змеями — моджахедами. Друг мой убивал их нещадно.
Уничтожал, давил, выкорчёвывал, как пни давно засохшего у тандыра хинжука. Но одного боевика в конце всегда отпускал — чтобы, рассказав о зверствах, тот вселил в собратьев ужас и поверг в бегство. Вот только примитивный этот план, как оказалось, не сработал.
Ночь пепельная, свалившись с горы, поглотила узбекского шурави, ничего — ни пятнышка крови, ни десницы — не оставив на свете. Пропал. Без вести. Через двадцать лет только я узнал подробности судьбы его, да и то финал, последний штрих линии жизни моего товарища остался в мрачном песчаном тумане Афгана.
Потери среди моджахедов росли, боевой дух улетучивался, и в зону ответственности нашей бригады Ватанджар перебросил свой верный батальон. Элиту. Разведку. Бойцы ла Иллаха быстро выяснили что за головорез жестоко расправляется с братьями-мусульманами, — не шурави он по сути, не русский, не украинец, не татарин хотя бы, а сосед-узбек — брат по вере, брат по крови, брат по красному полумировому зиндану.
Убить его — сделать мучеником, примером, героем. Бесследно выкрасть, окуная в неизвестность, — покрыть себя славой, а его позором, топча волю и обращая до конца жизни в униженного, бессловесного, жалкого раба.
Тридцать второй год я в Питере. А он до сих пор там — в пустыне Афганистана».
Похищение Блестуна
Блестун был куплен Олегом много лет назад в обычном магазине. Блестун как Блестун — не было в нём ничего особенно выдающегося, хотя нас иногда посещали мысли о его не совсем земном происхождении. Был он непонятного то ли бордово-красного, то ли коричнево-пурпурного цвета, и при взгляде на человека с Блестуном издали появлялось ощущение присутствия пред тобой чего-то среднего между римским императором, несущимся на белоснежном коне в пурпурно-алой тунике меж германцев, членом племени масаи, безуспешно пытающимся скрыться от тигра в осенних скудных кустах со своими кроваво-красными вызывающими одеждами, и бойцом отряда краповых беретов, с невозмутимым спокойствием открывающим бутылку пива глазом. В общем, было нечто такое в Блестуне, что заставляло испытывать к нему и к его обладателю подсознательное уважение и даже трепет.
В жизни очень редко появляются вещи, удовлетворяющие нас в высшей степени, срастающиеся с нами, оказывающиеся со временем нашим продолжением и нашей частичкой, замену коим очень трудно подобрать. Казалось бы, простые, незатейливые, они так нравятся, что ни на что иное мы просто внимания не обращаем. Не стоит прикипать к вещам, — говорят мудрецы, — в рай потом от земли не оторвёшься и будешь возвращаться снова и снова к примитивным бренным оковам. Получается, земные эмоции иногда оказываются сильнее вселенского разума. Такие чувства, видимо, и вызывал Блестун у Олега.
Блестун и Олег к тому дню были вместе уже порядка пяти лет, но, несмотря на столь долгий срок, были неразлучны. Поначалу Блестун не был так уважаем нами, но когда он возмужал, побывал в стычках и жизненных передрягах вместе с хозяином, покрылся благородным блеском, то заработал наш респект и отдельное прозвище. Протягивая руку Олегу, мы протягивали её и Блестуну, одобрительно хлопали по плечу хозяина — часть уважения получал и подопечный.
Блестел он довольно заметно, и многие намекали Олегу, мол, пора бы Блестуна менять на что-то более подходящее, однако Олег был непреклонен и Блестуна в обиду не давал, оберегал его, хранил как зеницу ока, вовремя мыл и чистил, дабы он ещё сильнее не заблестел — это стало бы уже совсем неприемлемым.
Надо сказать, что Блестун и вправду имел не очень презентабельный вид. Его смело можно было оставить в такси, на площадке, в незнакомом помещении и не сомневаться, что там он и останется, — вор на него бы не позарился, хотя породы он был великолепной и защищал превосходно. Олег подбирал Блестуна под себя, а так как ростом и весом природа его не обделила, то и Блестун оказался довольно значительным, и ни уборщица, ни дворник, ни тем более бездомный его трогать или перемещать ни за что бы не решились.
Рабочая неделя тянулась крайне медленно. Груз забот и рутины к пятнице стал совершенно невыносим. Нам всем требовалась разрядка, и она была запланирована на предуикэндный вечер. Дружеская встреча и рассказы о рабочих проблемах и ратных подвигах плавно перетекли в безудержный симпозиум. Мы веселились, забыв обо всём — о делах, заботах, обязательствах, будущем и прошлом, периодически забывали и об окружающих нас людях, что приводило к неизбежным конфликтам и, как следствие, к киданию перчатки и вызовам на дуэль. Спонтанно возникла идея посетить какое-нибудь заведение — выпивать нам уже не хотелось, а вот зрелища весьма были желательны. Вскоре наше стремление нами же самими было и удовлетворено.
Четверо смелых, красивых (лучше всё-таки пока симпатичных) парней вошли в этот вечер в фойе клуба «Эпицентр» — эпицентр разврата, алкоголизма, наркомании и, возможно, даже гомосексуализма. Стоп! Четверо смелых красивых парней и Блестун! Ребята нехотя разделись — иначе охранник грозился не пущать. Пришлось оставить и Блестуна — его блеск не произвёл на охранника впечатления. Друзья очутились в душном, прожжённом спиртным и никотином зале, где копошился и дёргался под оглушительный рокот, очень отдалённо напоминающий творчество Шумана и Шопена, разношёрстный сброд. Парни устроились за столиком, заказали, чем нагрузить печень, и окунулись в бестолковые речи да в творчество нетрезвого глухого барабанщика.
После нескольких походов в местный гальюн и применения энного количества антимикробного орально мы решили двинуться в иное место и стали нащупывать номерки по карманам. У Олега заветной бирочки с волшебной цифрой не оказалось. Получить одёжу, конечно, можно было и так, но с номерком всё же как-то сподручнее. Олег ещё раз проинспектировал все карманы, осмотрел пол вокруг, но номерка так и не обнаружил. Тогда он пошёл в гардероб, дабы оценить перспективы получения одежды. На улице была зима, и верхний тулуп был желателен даже такому, как он, весьма разгорячённому юнге.
После пары-тройки минут отсутствия Олег вернулся бледный и сильно расстроенный, сел на стул и пробормотал:
— Ребята! Блестуна украли!
— Какого Блестуна? — не сразу сообразили мы.
— Ну пуховик мой красный зимний, он засалился так, что аж блестит! Блестун мой! И кому только мог понадобиться?!
Вот так в жизни бывает — воруешь, изворачиваешься, рискуешь головой и свободой, сердце в пятки уходит, а получаешь взамен в своё распоряжение старый, красный, потёртый и засаленный пуховик огромного размера — Блестуна. Знал бы вор, какую дорогую сердцу вещь он в этот вечер получил, как ему в тот день повезло… Глаза его бы заблестели!
Мысли из никуда
Мат — тоталитарная свобода слова.
Писать — не мешки ворочать.
Основной лозунг коммунизма: «Каждому!».
Она: Любовь зла… Он: Получишь за козла!
Жирное многоточие.
Маргиналитет.
Дегенерал.
Мой друг
Он молчалив, но светел, мой товарищ. Зову его, когда на сердце скорбь. Он знает — нет во мне пожарищ, Я просто нем; я там, где нужен. Вновь и вновь. Он упивается со мной слезою, Не ищет выход и вопрос не задаёт. Лишь белоснежной вьюгой-простынёю Укроет мир и боль во мне сотрёт. Он всё простит, хоть не нужны прощенья, И стерпит все — он на ветру листва, Капели рёв и лунное затменье, Обид палач и пастырь до утра. Уходит, осеняемый рассветом, Вновь занося меня в свою скрижаль, Не обращая в веру и безверье, Он произносит тихое: «Печаль…»Равновесие
Летом дела у Дениски шли плохо. Люди неохотно расставались с деньгами, и курил летом он в лучшем случае кентишку. Зимой всё было иначе, и поэтому именно это суровое время года Дениска очень любил. Жил он, по иронии судьбы, на улице Труда в районе железнодорожного вокзала и, по той же иронии, никогда не работал больше трёх-четырёх часов в день.
Трудиться летом было легко — свежий воздух, солнце, тень — если бывало слишком жарко — радовали душу, а вот доходы огорчали. Денег было заметно меньше. Зимой приходилось работать в стужу и лютый мороз, часто простывая, промерзая до самой селезёнки, но и финансы, потраченные на лекарства, окупались многократно. Сидя вечером за письменным столом под старинным зелёным сталинским абажуром и около получаса пересчитывая дневную выручку, Дениска хотел только одного — чтобы завтра поскорее наступило и он снова занял бы своё место возле ларьков, продавцов, спешащих куда-то людей, бомжей и милиции, праздных зевак и ожидающих свой поезд пассажиров, бесшабашно шатающихся по его подземному переходу на привокзальной площади.
Работа нравилась, хотя не позволяла восемнадцатилетнему парню достаточно для его возраста двигаться и частенько он чувствовал себя стариком или престарелым уважаемым пенсионером.
Зима требовала от Дениски большой выносливости, терпения и даже мужества. Многие его коллеги в холода отправлялись в вынужденные отпуска и возвращались только к мартовской сибирской капели. Дениска же, напротив, лишь ещё упорнее вжимался в своё хлипкое неразвитое тельце да, обдаваемый мелкими снежинками, застилающими глаза, жадно смотрел на проходящих мимо горожан и гостей мегаполиса.
Впервые выйдя на работу в двадцатиградусный мороз в одной рубахе, он простыл и на месяц слёг, чуть не подхватив воспаление лёгких. Мама выходила единственного сына и как могла отговаривала его снова идти в переход. Но Дениска настоял на своём. Встав на ноги, он всерьёз взялся за себя — обливался холодной водой, обтирался по утрам, когда его никто не видел, снегом и вскоре вернулся на уже ставшее ему родным за лето и осень место.
Жили они с мамой по городским меркам неплохо. Трёхкомнатная квартира, хоть и на окраине, позволяла спокойно уединяться в своей комнате, делать уроки, читать, заниматься творчеством или просто наблюдать из окна на девятом этаже за проплывающими по искусственному холму железнодорожными составами. Насыпь с взгромоздившимся на нее полотном плавно уходила вверх на мост через реку. Порой туман, накатывающий с воды, на несколько секунд выпускал товарняк или пассажирский из своего плена и снова скрывал от Дениски длинную железную змею, прибывающую в город издалека.
Отец давно умер, других родственников не было. Так и жили они вдвоём на мамину зарплату инженера строительного треста. Денег много не бывало, но и голодать не приходилось. Жизнь текла своим чередом, текла, как и речка за окном, неторопливо и спокойно.
К работе Дениска всегда относился прагматично. Тот труд важен, что хорошо оплачивается, — так он считал. И всего лишь через месяц после окончания школы нашёл для себя именно такую службу. Она, на первый взгляд, была примитивной и даже унылой, но дарить людям надежду, понимание их простого и относительного счастья, позволять прохожим чувствовать нужность и значимость в мире было Дениске очень приятно. Он давал людям богово — возможность проявить сострадание, люди ему — земное: деньги. И деньги божеские. Зарабатывал Дениска как отряд ларёчных продавцов или десяток простых инженеров, таких как его мама.
Рабочий день паренёк устанавливал для себя сам. Был самым лучшим для себя контролёром — никогда не уходил домой, пока не выполнял установленный собственномысленно уровень дохода. Редко когда его планы срывались, а если и бывало, тогда на следующий день Денис, не жалея времени, сил и здоровья, нагонял упущенную выгоду.
Дела шли хорошо. Мама со временем привыкла к весьма специфической работе сына и лишь изредка говорила о будущем, о сплетнях и слухах, о женитьбе и об уважаемой работе инженера, учителя или врача.
После работы Дениска шёл домой, мылся, переодевался и направлялся, как и его друзья, когда в компьютерный клуб, когда на дискотеку или куда-то ещё. Очень любил он кататься на речных трамваях, смотреть на скачки и красивых девушек, которых сильно стеснялся. О работе никогда никому не рассказывал, а если и трепался, выпив лишнего, то его слова случайные знакомые принимали за злую шутку и веселились вместе с Дениской, видя в карманах у парня солидную наличность.
Поздним вечером, после очередного трудового дня и весёлого кутежа, почти уже возле дома к Дениске подошли двое. Два парня, взгляд которых источал решимость, торс — спортивное прошлое, а сбитые кулаки — суровое настоящее, с улыбкой на лице и свинцом в голосе приказали отдать все деньги, что были в карманах, и больше не показываться в переходе. Денис закричал и тут же получил удар в почку, попытался закричать второй раз и, схватившись за голень, упал, скорчившись от боли.
Он не умел драться, уворачиваться от ударов, и поэтому скоро его тело горело и ныло от боли. Это были его последние ощущения в жизни — страшная боль и звериный рык двух существ, методично, без неприязни, обыденно, как на тренировке, забивших его до смерти. У смерти нет косы — она мила, нежна и естественна, как рука мясника.
Зимой Дениска снимал с себя верхнюю одежду и, превозмогая мороз, в одной рубашке, без головного убора сидел на своей паперти. На бетонных ступенях подземного перехода он часами трясся от лютого влажного сибирского мороза, пока в его карманах не оказывалось нужное количество пахнущих, как ничто другое в мире, разноцветных бумажек с водяными знаками.
Как много видел он доброты в своей жизни, как много сочувствия, понимания и помощи ему доставалось. Его искренно жалели — неповзрослевшего, убогого, раздетого, измождённого парня, просящего милостыню. Он получал от прохожих всё то, что не доставалось тысячам бездомных, обитающих в подвалах, брошенным детям из домов ребёнка, как будто специально вынесенных на окраины городов и посёлков с глаз долой. Дениска сидел в одном из самых проходимых подземных переходов города. Тысячи глаз смотрели на него за день и сотни рук помогали, чем могли, иногда отдавая предпоследнее.
Добро и зло в жизни должны уравновесить друг друга, и когда это происходит, жизнь человека кончается. Всё приходит в равновесие: вода течёт вниз, дождь падает на землю, камень превращается в пыль, дерево в пепел, душа — в равномерно вымешанный раствор, из которого Создатель лепит уже нечто совершенно иное. Жизнь Дениски кончилась, когда стрелки его личных весов сошлись, когда он познал и плохое, и хорошее, когда добро и зло уравновесили друг друга.
Моей КАА
Я там, где закаты багряны, Лучина где тлеет в ночи И всполохом сердце объято. Я там, где лишь мы — я и Ты! Где ладан неспешно струится И крылья любви сплетены, Где дум наших, чувств колесницы Уносят печаль до зари… Лишь эхо сейчас между нами И мыслей витая струна. Я серой бескрылою птицей Лечу за Тобой в небеса. Меж нами лишь эхо, лишь эхо… Меж нами немая толпа, Меж нами позёмка тумана — Меж нами ничто. Навсегда!Алла Ткачёва. Навсегда
Жизнь, несомненно, — испытание. Причём для каждого своё — индивидуальное и неповторимое, иногда лёгкое и забавное, а иногда изматывающее, неподъёмное. Невидимые учителя возводят для своих учеников высокие барьеры загадок, проблемы с узкими, тесными проходами и лабиринты невзгод, а затем с интересом наблюдают, как мы поведём себя в ситуации неопределённости и недосказанности, неясности исходных данных, условий и возможностей.
Иногда учителя заигрываются и создают преграды невероятной сложности. Они понимают, на что обрекают своих учеников. Но сами как будто ждут чуда — надеются на случай, на то, что сами они не всемогущи и не абсолютно сведущи. Ожидают от нас прорыва, чего-то не-возможного, не-веданного, не-земного… Но чаще этого не происходит.
Буся появилась из ниоткуда. Алла нашла её на улице и принесла домой. Мягкий белый комок на кровати придал жизни Аллы хоть какой-то смысл. Буся изменила всё — ночи сделала чуть теплее, дни нежнее и пушистее, утро игривым и трогательным, вечер ленивым и умиротворяющим. Алла получила друга — единственного во всем мире, который, как она думала, никогда её не предаст и не оставит.
Испытания начались в жизни Аллы слишком рано. Всемогущий Педагог, не соблюдая принцип природосообразности, взвалил на девочку то, что вынести ей было ещё не по силам, — выбил из-под её ног опору, разрушив семью. Отец пил, и Алла, войдя в мир, получила это проклятье как данность. Она ничего не могла поделать и изменить. Ей оставалось лишь отделиться от семьи и создать свой мирок — мир идеальный, где всё искренне, нежно, надёжно и красиво, да окружить его частоколом из своих стихов — острых, угловатых, колючих.
Даже талант Алла не получила при рождении — она его создала сама, а не открыла, взрастила в себе, а не обрела. Наверное, только так и бывает. Талант не даётся — его познают! Её стихи — простые, но трогательные, с повторами и простейшей рифмой — переполнены болью и горечью, высохшими слезами и запёкшейся печалью. Строки обжигают, ранят, но всё же обновляют и лечат душу. Её стихи о смысле и жизни, о бессмысленности и смерти, ненависти и предательстве были её защитой и проводником в этом мире.
Чужая боль сейчас не трогает, Свою бы нынче пережить, Друг другу словно незнакомые, Не успеваем нынче жить. (Алла Ткачёва)Не самый хороший сотовый телефон — единственное, чем обладала Алла. Это было её окно в мир, окно в другую жизнь, где такие же, как она, искали себе подобных, в социальные сети, где она жила так же искренне, по-ангельски наивно и благородно.
Однажды Буси не стало. И хоть за десять месяцев кошка стала самым родным на земле существом, Алла почти не выдавала своего горя. Она уже привыкла к потерям и одиночеству, к предательству самых родных людей, к отсутствию самих понятий «дом», «семья» и «тыл». Алла не плакала, слёзы всё равно не помогли бы — она знала это. И Алла просто ушла… Выключила однажды свой телефон и больше не включила. Ни с кем не попрощалась и не позволила сделать это другим.
Чудо жизни и свою правоту, когда ты один во всём мире, можно доказать — но доказать лишь смертью, причём своей собственной, как это сделала она — Алла Ткачёва, человек с трудной судьбой и чистой совестью, с болью в сердце и музыкой в душе. Она ушла, чтобы навсегда остаться с нами, обрести своё право на жизнь без ужасных испытаний и свободную дорогу к Истине, потому что со смертью как с последним доводом не поспорит никто. Никто! И даже он — наш Учитель. Это был его урок.
Алла, я помню и люблю тебя!
Большой адронный коллайдер
Очень многие физики хотели бы работать на Большом адронном коллайдере, но берут туда не всех, а только самых умных. Что же остаётся делать остальным желающим?
Это не пригодившиеся манекенщицы могут пойти в проститутки или торговать мясом на базар, что, в принципе, одно и то же. Никому не нужные учителя могут пойти в дворники или уборщицы. Уволенные милиционеры — в бандиты, воры после отсидки — в адвокаты. Мэр, губернатор или президент могут, если их не посадят обратно, вообще никогда не работать, так как у них жёны и тёщи золотые.
Отвергнутые наукой физики не могут больше никуда в жизни приткнуться. И многие тихо спиваются.
Лишь избранные садятся в машину, выпивают с горя, а некоторые для просветления сознания, и решают доказать всем, что достойны работать на БАК. Они разгоняют машину побыстрее и врубаются на ней в столб (но тогда их берут только в Курчатова) или другую тачку на дороге. Выходят и начинают анализировать, из чего состоял автомобиль. Пьяных от счастья, их принимают работники ДПС и препровождают на экспертизу и в суд. Тех, кто после такого эксперимента сохранил тягу к науке, обязательно принимают на работу в CERN.
Мысли из никуда
Отдыхай на полную вертушку.
Попал в Di Ti Pi.
Пока, Тимур! Все дома!
Со всеми на ты, но на Вы.
Обнажёлтая женщина.
Снежная каша, чайный лед, винные заносы.
Противно естественный отбор.
Ни в суму не всунуть
Я без перчаток таю в кабаках. Полярен всем и своему нутру. Осатанев в мирах вельможных Оргов, В закат Италии раздробленной бреду. И, припадая в грязь сердец челом, Сжираю зверя, разговляясь в тризну, Сжигаю Дом огнём в печи мирской И обретаю мИР как дар Марксизма. Не уместить любовь на кончике ножа, Ни в шляпу, ни в суму не всунуть. Я БОМЖ любви, я просто БОМЖ a\'la Италий… Мож, в Россию сунут — В политсортир где выплывет сильнейший В искусстве отнюдь не познания душ. Он кал раздаёт как источник чистейший У узких дорожек для жёнов и муж. (Аркадий (Адий) Кутилов. Неизданное. Омск. 1982 год)Гребешок
Когда тебе за сорок, государство, обещавшее на днях торжественно вручить тебе ключи от отдельной трёхкомнатной квартиры и забрать от комнаты в полуразвалившемся бараке-коммуналке да поставить в очередь на авто, кануло в небытие вместе со всеми надеждами и обещаниями; работа, которой ты всю жизнь гордился, вдруг оказалась никому не нужной и зарплата превратилась в милостыню; ты похоронил ещё не до конца повзрослевшего сына, погибшего в бессмысленной драке, и жену, сгоревшую за полгода от горя, то самое время налить, выпить, закурить и основательно призадуматься, зачем же человек живёт на планете Земля.
Дядя Вова был крепким, неглупым, симпатичным мужиком. Нормальный он был, обычный. Ничем внешне особо не выделялся из толпы советских и постсоветских граждан. Только одно бросалось в глаза: был он до смешного вежливым. «Здравствуйте» никогда не сокращал до «здрасьте», а нараспев произносил это приветствие, глядя в глаза собеседнику или встретившемуся по пути знакомому, показывая искренность своих слов, лишённых даже намёка на формализм. Всегда крепко жал руку, считая, что вялое рукопожатие — удел женщин. Редко матерился, крайне редко, а если уж и сквернословил, то только по делу и только если был уверен на сто процентов в своей правоте.
Полстраны во времена его молодости работали на оборонку — это было престижно и выгодно. Дядя Вова был одним из миллионов простых трудяг и двадцать лет вкалывал на оборонном заводе, как того хотели от него Партия и Страна Советов, крутил гайки на танках. Он никогда не знал всего цикла производства сорокатонной махины и лишь иногда видел продукцию в сборе — когда пробирался тайком к выпускным воротам завода, откуда выезжали своим ходом, рыча и гудя, как огромные псы, уже полностью готовые многотонные исполины. Радуясь, что частичка его труда уезжала по специально построенной, облицованной стальными листами дороге на близлежащий, огороженный бетонным забором испытательный полигон, он уходил с чувством собственной значимости и нужности стране. Каждый раз, когда очередная партия Т-60, а позже Т-72 и Т-80 покидала цеха, он с восхищением и одновременно с грустью выпивал, не торопясь, бутылку дешёвого портвейна, всматриваясь вдаль из своего окна на втором этаже.
В восемнадцать лет дядя Володя женился на своей бывшей однокласснице, как делали многие в то время. Особого времени бегать знакомиться и «гоняться за юбками», как он сам говорил, не было, да и Маша его любила. Так и поженились. Никакой свадьбы — роспись в книге загса, поцелуй, больше похожий на дружески-коммунистический, — и толстая женщина в сером, совершенно не праздничном платье объявила их мужем и женой. Маша была работящей и доброй женщиной. Никогда не бранилась, хоть была из простой рабоче-крестьянской среды. Жили они в мире и согласии. Вскоре появился сын.
Поначалу Вова сторонился ребёнка, считая, что не должен менять ему пелёнки или обстирывать, но через полгода привязался к маленькому человечку, очень похожему на какого-то ранее неизвестного родственника, и часто носил его на руках во время прогулок, не пользуясь коляской.
Сын подрастал. Пошёл в школу, расположенную неподалеку, а квартиру так и не предоставляли. Маша хотела второго ребенка, но жилая площадь не позволяла, а ходить по собесам и унижаться, выпрашивая лучшей доли, дядя Володя не пошёл бы никогда. Никогда он ни у кого ничего не просил — сам всего достигал, сам был за себя и свою семью в ответе и считал сие нормой, а не чем-то героическим и заслуживающим одобрения или отдельной похвалы и уважения.
— Один ребёнок — мало, — говаривал дядя Володя, — что случись, не переживём горя. Надо второго рожать. Вот квартиру дадут — обязательно второго заведём, а может, ещё и третьего.
Но мечтам не суждено было сбыться.
Началась перестройка. Началась с пространных речей, и никто не мог предположить, во что они выльются. Не было никакой конкретики, никто не знал, что делать, и поэтому ничего просто не делалось. Страна встала колом, остановилась, как жернова, не смазанные маслом и не получавшие зерна для помола. Замерла и надежда дяди Володи на улучшение жилищных условий, а в девяносто первом окончательно умерла, когда государства, в котором он родился и вырос, не стало, когда правительство отказалось от всех социальных обязательств, отпустив цены и бандитов, казалось, специально выпущенных из тюрем и клоак, чтобы запугать население, удержать его страхом от недовольства и выступлений.
Конверсия и приватизация увенчали и без того нелёгкое положение дяди Володи — он фактически потерял работу. Весь завод приходил, как и раньше, в цеха к восьми утра, но только для того, чтобы прочитать написанное от руки корявым почерком объявление о продлении административных отпусков на неопределённый срок.
Сын закончил школу, отслужил в армии. Дедовщина была страшная, как и жизнь в стране, но Ваня с честью перенёс это испытание. Бывал бит не раз ни за что, но, став старослужащим, не вымещал на других свои былые обиды. После армии вернулся другим человеком — повзрослевшим, понимающим, что надо что-то в стране и в собственной жизни менять. И изменил. Только вот изменения эти не принесли никому счастья. По стопам отца и матери, которая проработала всю жизнь санитаркой в медсанчасти, идти было бессмысленно — удовлетворения работа не приносила ни морального, ни материального, поэтому, посмотрев, как хорошо живут некоторые бывшие одноклассники, он влился в бригаду к местных уркам, что занимались рэкетом и крышеванием. На одной из первых же разборок его и убили. Предательски — воткнув нож в спину. Милиция долго разбираться не стала — перебили, мол, друг друга бандиты, и всем от этого только легче, что голову ломать. Мать пережила единственного, любимого сына лишь на полгода.
И дядя Володя запил. Крепко запил, неудержимо.
— Это и понятно, — говорили соседи, — зачем ему жить теперь. Всё, что имел, прахом пошло, вот и убивает так себя, чтобы поскорее отправиться к своей родной и любимой да хоть и взрослому, но всё же ещё такому маленькому, не познавшему радостей жизни сынишке.
Пил он со всеми, с кем мог: с косыми и горбатыми, хромыми и дурно пахнущими, со всеми, кто мог пить или у кого было что выпить. В выборе напитков также не отличался разборчивостью. Пил технический спирт, денатураты, самогон, водку, когда удавалось достать, лосьоны, брагу — всё, что приводило его в иной мир — в мир, где не было горя и печали, где не было страха, боли, страдания, где всё ясно и понятно, где правит королева Забвение.
Естественно, ни о какой работе речи не было. Жил дядя Вова тем, что найдёт на помойке, на деньги от сдачи бутылок или металла.
Бывал дядя Володя и трезвым. Странное это было зрелище. Он не производил впечатления пьяницы в такие часы, и казалось, что вчера им опорожнена последняя бутылка, что следующие двадцать-тридцать лет крепче стакана молока в его руки ничего не попадёт.
Комната, в которой он жил, постепенно превратилась в притон. Уже давно была пропита вся мебель и интерьер. Из скарба остались постель, если можно так назвать изодранный матрац в углу, и висящая на стене репродукция картины «Охотники на привале», размноженная в восьмидесятые годы для половины жителей Союза. Замка в двери давно уж не было, и к нему мог прийти в любое время всяк, кто нуждался в крыше над головой да имел с собой бутылку.
Однажды вместе с другими скитальцами с изломанной жизнью в комнату дяди Володи попала и Люся.
Выглядела она как обычная алкоголичка: пропитая баба, относительно ещё стройная, с былой красотой на лице, обезображенной выпитыми декалитрами и пьяными драками в подворотнях. На вид ей было глубоко за сорок, но все знали что на самом деле ей около тридцати пяти. Так состарила её жизнь, а вернее, алкоголь, сигареты и проституция, которой ей приходилось заниматься в молодости, когда иного способа прокормить себя и двух малолетних сестёр у неё не было. Именно эта «работа» почти до основания выжгла ей душу, прожгла дыру, которую она и пыталась безуспешно законопатить литрами сначала ликёра и вина, потом водки и коньяка, а потом самогона и браги.
Вечер прошёл удачно. Как обычно, все напились и заснули мертвецким сном, впрочем, и бодрствующими все эти люди были мертвы — души их были умерщвлены. Но в этот вечер мир для дяди Володи изменился. Человек до конца остаётся человеком, и даже в этом омерзительном, грязном, ужасном мире есть место чистым, искренним чувствам. И они пробудились в его сердце, в его разуме. Он начал искать встреч с Люсей, стал меньше пить, чтобы сэкономить на бутылку, для того чтобы угостить её прозрачным ядом, который она почитала высшей ценностью, покупал «Тройку» вместо «Беломора», выпросил у кого-то расчёску и мыло, чтобы хоть немного привести себя в порядок.
В той среде не было места любви или дружбе, сочувствию или сопереживанию — был лишь алкоголь, заглушавший всё, все боли и горести, но одновременно, не разбираясь, уничтожавший все хорошее, ещё сохранившееся в человека. Эту плату вносил каждый, кто старался напиться и забыться, — личность уничтожалась со временем полностью, уничтожалось и злое, и доброе в человеке. Видимо, доброе не может существовать в человеке отдельно, без бед и горестей, без злости и греха, так же как ион долго не может быть в свободном состоянии и должен либо аннигилировать, либо соединиться с чем-то диалектично противоположнным себе.
Конечно же, дядя Вова и Люся не спешили кинуться в объятия друг друга, пожениться, бросить пить и зажить счастливой жизнью, но у них появилось, пожалуй, самое ценное в жизни человека — надежда, надежда на понимание, на заботу, на искренность, на поддержку, вновь появилось будущее. И надежда стала творить с ними маленькие чудеса. Они преобразились — не сразу, не вмиг, а постепенно, как будто помолодели лет на пять-десять, хотя всего лишь смыли с себя и своей одежды грязь месяцев, проведённых на полу, в грязных углах, в подворотнях. Им, как ни странно, стали завидовать те, с кем вчера они делили бутылку или нехитрую конуру, и зависть других ещё больше сделала их похожими на людей.
— Значит, мы не самые плохие, живём не хуже всех! — сказал как-то Люсе дядя Вова, откупоривая очередную бутылку.
Они всё так же пили, но теперь уже более осознанно — вдвоём, ради общения, а не как раньше — ради самой выпивки, хоть и в компании, но каждый наедине со своим горем внутри и своими проблемами, от которых уходили индивидуально. Они стали разговаривать и делиться тем, что пережили; от этого впервые в жизни захотелось перестать пить, уже становилось легче, выговорившись, они отпускали свою боль в самостоятельный полёт, и она не принадлежала уже только им. Разговаривая, они понимали, что жизнь не кончилась — ещё идет и они могут ещё многое успеть сделать, если не будут одни.
— У меня завтра день рождения, — услышала как-то Люся, — придёшь?
— Конечно, приду, — улыбаясь ответила она, — и даже подарю тебе подарок.
— Да не надо. Я всё организую. Главное, приходи, — попытался было отговорить её дядя Володя, но Люся настояла на своём.
— Я хочу, чтобы ты был у меня красивый. Жди меня с презентом в семь вечера, — сказала она интригующе.
Но в семь она не появилась. И в восемь, и в девять…
Вова волновался. Мысли, что она больше не придёт, лезли в голову, к утру он выпил все запасённое днём и решил, что она просто посмеялась над ним, попила, пожила и была такова.
— Пропитая потаскуха, — говорил он в сердцах, — как я мог так попасться, как ребенок? Вот гадина.
Он вышел из дома и пошёл знакомой улицей, высматривая бутылки или то, что плохо лежало и представляло хоть какую-то ценность. Палкой он ворошил небольшие горки снега, надеясь, что в них притаилась бутылка или банка, — как грибник, он ворошил белую листву в поисках желанного подосиновика или груздя.
Вдруг увидел мигающий синий фонарь вдалеке.
«Милиция. Лучше держаться от нее подальше», — подумал Вова и хотел было свернуть в проулок, но что-то потянуло на этот опасный, но одновременно манящий мерцающий огонёк. Подходил ближе и видел людей в форме, врача, ожидающего чего-то, людей в штатском, видимо, зевак, вспышки камер. Предчувствие беды прокатилось в нём волной. Он подходил всё ближе и всё больше боялся увидеть, что же там произошло, но неведомая сила заставляла побороть страх.
Подойдя совсем близко, он заметил окровавленное тело, вокруг которого, как на шабаше, плясали шаманы в синих кителях со звёздами на плечах, ритуальные танцоры в белых халатах, кружила толпа зевак, старающихся впитать в себя энергию, источаемую ещё не покинутым душой недавно умершим. Тело было накрыто простынёй, пропитавшейся кровью, как скатерть густым кетчупом, снег испачкан кровавыми каплями. «Кто бы это мог быть? — спросил он себя, — не повезло бедняге». Из-под покрывала торчала только рука, и, чтобы рассмотреть её, он подошёл поближе и тут же отшатнулся, как будто увидел руку самой смерти. Это была её рука! Без сомнения, это были её морщинистые, но ещё изящные пальцы, её шерстяной оберег на запястье. В руке было что-то зажато. Вытирая глаза от слёз, дядя Вова подошёл ближе, присмотрелся и увидел нечто — в этот момент струя раскалённого металла облила его сердце, он отошёл в сторону, оперся на забор и тихо осел на мягкую, как перина, запорошенную снегом землю.
В безжизненной руке был зажат её подарок — деревянный гребешок, перевязанный маленькой красной ленточкой, тот, что мог сделать его снова красивым и сильным, весёлым, способным на поступки и мечты, мог вдохнуть душу и разум, мог вернуть свободу и веру, мог вернуть к жизни.
Богатые, розовые витцы и оружие интеллигента
Деньги, говорят, портят. Это выражение придумали завистники и нищие или нищие завистники, а обеспеченные люди придумали фразу: «В бедности трудно сохранить хорошие манеры». Вот так и живут — одни без денег и хороших манер, другие с манерами, но основательно подпорченные презренным металлом. И те и другие плевать друг на друга хотели, считают друг друга бородатыми пасущимися копытными.
А ведь богатые — самые несчастные люди в мире. Завистники и воры постоянно хотят у них отнять нажитое непосильным трудом. И основной задачей богатых со временем становится работа по сохранению своих капиталов. Не походы в театр или концертный зал, музей или дом литератора, не воспитание детей и забота о родных, а примитивное корпение над тем, что уже есть. Поэтому все богатые могут после разорения смело идти в охранники — суть работы они прекрасно понимают.
Налоговые инспекторы что-нибудь у богатых постоянно норовят обложить налогом. Гаишники тянутся оштрафовать. Многочисленные родственники просят помочь. Все вокруг чего-то от тебя хотят, и никто не спрашивает, чего хочешь ты, кроме, возможно, официанта да автоответчика. Короче, жизнь у богачей не чай с малиной.
Больше всего толстосумы опасаются в жизни розового витца, потому что в нём ездят не люди. Иногда, конечно, попадаются пожилые женщины с внуками, но в основном в розовом витце ездят оборотни. И при виде пере-креста они впадают в ступор. Вурдалаки могут со страха без предъявы впиться в бок дорогой машине обеспеченного буржуа — и глазом не моргнут.
Также богатые боятся пролетариев и интеллигентов. Интеллигенты тоже боятся пролетариев, потому что те отмороженные. В дословном переводе «пролетарий» — это тот, у кого ничего нет, кроме детородных органов. То есть и полушарий головного мозга тоже нет — только инстинкты, изредка просыпающиеся и ревущие, как медведь-шатун. Главное оружие пролетариата — булыжник. Поэтому богатые в городах постарались обезоружить пролетариев и дороги мостят теперь асфальтом.
Интеллигенты избрали для себя более изысканное оружие — донос. Его не так просто изничтожить, как булыжник, поэтому интеллигентов богачи боятся, как Сталина в тридцать седьмом кулаки. Пролетарии доносов не боятся, потому что хуже им вряд ли уже станет.
Богатым бы раздать свое богатство да стать нормальными людьми без страха и упрёка, но они слабохарактерны — им жены не разрешают транжирить. Вот и живут богачи, мучаются, страшатся за свои капиталы и света в конце тоннеля не видят.
Грёзы любви
Жизнь человека к тридцати годам становится похожа на раскрытую где-то посередине книгу. Книга эта у каждого своя, особенная, неповторимая — у кого-то напоминает толстый, не раз перелистанный томик жёстких, суровых стихов Твардовского, Брехта или разрывающих пространство словосочетаний Цветаевой, у кого-то — широкоформатную тетрадь кассира с записями «приход — расход», у третьих она только-только начата или совершенно пуста и ждёт, когда автор возьмётся за перо, когда созреет что-либо намарать своей нерешительной рукой.
Его книга к тридцати стала походить на сборник рассказов и повестей Шукшина или Чехова, в основном оптимистических, зачастую не связанных меж собой единой нитью повествования, часто противоречивых, пугающих, но всё же завораживающих своей необычностью, скрытым философским смыслом. Рассказы то бывали глубокомысленны и проникновенны, наполнены поисками истины и смысла в окружающем и внутреннем мире, то вдруг перемежёвывались ущербным арго, злым цинизмом и эгоизмом, пасквилями и стёбом, скупой любовной лирикой и бездумным, бессмысленным самопожертвованием.
Не думал он уже, что может встретить человека, который будет вызывать какие-то новые, неизведанные до сих пор чувства, что-то необыкновенное, сильное, возвышенное, самоотрицающее, опаляющее душу, а не этюды на тему первой, ещё такой беспомощной, несамостоятельной, уязвимой и робкой, зачастую заканчивающейся душевной болью и сильнейшим на всю жизнь разочарованием в людях любви, или повторение уже пройденного когда-то в жизни. Уже не ждал он от судьбы ничего и решил, что вторая часть его книги не будет содержать ничего превосходящего по силе эмоций и чувств первую — только рассудок и здравый смысл будут повелевать им, скорее даже он — рассудком и своими рациональными идеями.
В глубине души все люди, как дети, верят в чудеса. Не может быть, чтобы жизнь катилась, как колесо, по дороге, нами самими не совсем на совесть построенной. Не может быть, что впереди нас ждёт только то, что мы сами себе, иногда не понимая истинной никчёмности и ошибочности, запланировали. Человек слишком мал, чтобы вершить даже свою собственную судьбу в таком огромном и не подвластном ему мире, слишком неразумен и ограничен, чтобы понимать истинную суть явлений. Без веры в чудеса ему не сдвинуть горы, не развернуть реку, не прожить жизнь, наконец. Вера без дел пуста, и чуда не произойдёт, если сидишь под сенью липовой аллеи. Он помнил об этом всегда и ни дня не сидел без дела, без занятия, увлекающего его, хоть и не верил уже давно в чудеса. Но однажды чудо с ним произошло, вернее, пришло в образе, не укладывающемся в его рациональное понимание мира, в образе непонятном, выходящем за рамки привычного.
Всё произошло не вмиг, не сразу, как случалось раньше. Интерес — вот что возникло вначале, и ничто не предвещало ни бури, ни тем более урагана, разразившегося примерно через год. Интерес его был странным, не похожим ни на влечение — хотя чем привлечь его в ней было предостаточно, — ни на страсть, ни на любовь. Интерес этот был похож на элементарную потребность — потребность в познании, познании чего-то неведомого, неизвестного, но одновременно близкого и тем очень манящего.
— Мои слова и поступки не трогают её! Не может быть! Не может быть! Неужели то, о чём я говорю, ей безразлично, неужели она столь меркантильна, столь пуста и поверхностна? Неужели мне лишь показалось, что передо мной человек, а не пустая бездушная кукла? — спрашивал он себя неоднократно.
Их редкие разговоры нельзя было назвать общением, но что-то ему не давало прекратить эти смешные попытки сблизиться, понять, кто она, и разобраться, что за неясные, необъяснимые, неординарные эмоции её существование у него вызывает.
Уже позже он понял, что было не так в первый год их общения. Тот скрип и трение были вызваны осторожностью и недоверием — её недоверием к людям, нежеланием открывать себя первому встречному, враждебное отношение к новому и не проверенному временем и событиями человеку.
Лишь через год что-то начало проясняться. Возможно, что-то произошло в её жизни, возможно, весна заставила её открыть частичку своей души, но всего несколько фраз, всего лишь пара взглядов — и в мгновение её необычная манера речи, интонация и взгляд подожгли его душу. Он вспыхнул, как облитый бензином сырой хворост. Сам не понял, как это произошло, сам не сразу осознал, какие эмоции она в нем разбудила или скорее привнесла извне.
Мечта, сладкий и одновременно болезненный сон происходили наяву. Сильнейший ураган разрывал на куски его душу, когда она всего лишь проходила мимо, электрический разряд пронизывал его в момент их прикосновения. Минута разговора и её взгляд казались ему чем-то божественным. Их встречи наедине, её запах, взгляд сводили с ума.
— Невероятно! Невероятно! Со мной ли это происходит? Или это всё сон? — думал он. — Нужно было прожить тридцать лет, чтобы ощутить такую палитру чувств. Почему раньше этого не было? Кто тот художник, что внёс в мой мир такие тонкие, сказочные оттенки, перемешал масло и гуашь, смёл все представления о стиле и художественном замысле чувств и эмоций? Нужно было познать столько боли и разочарований, чтобы осознать, как же она прекрасна — любовь к женщине. Позади меня всегда стояли тени других, и вдруг их не стало — они оставили меня, вернее, я отпустил их; я нашел нечто большее, нечто совершенное и прекрасное, я перестал писать этюды и написал нечто новое — ноктюрн, какого до этого дня не существовало. Нет! Это она его написала моими чувствами!
— Не бывает так! Не бывает, что и взгляды, и жизненный опыт настолько схожи. Одинаковые жизненные проблемы — ещё понятно, но стремления, и мечты, и слова наши — это совсем другое дело! — думал он. — Я либо схожу с ума, либо это какой-то большой обман или чья-то злая шутка! Так не бывает!
Оказывается, бывает.
Мир диалектичен — то, что даёт тебе силу, её же и отнимает, то, что приближает тебя к счастью, иногда сам предмет счастья изменяет до неузнаваемости, даже в проводах бегущий ток создает магнитное поле, нарастанию самого тока противодействующее. Такова жизнь! И именно чувства заставляли его сомневаться в дальнейших действиях. Он не решался ничего сделать. Боялся обидеть её, боялся нанести ей ещё одну рану, коих в её жизни уже хватало, боялся, что сильнейшее чувство, живущее в нем, очень быстро выжжет ему душу. Сгорит либо душа, либо любовь — что окажется сильнее. Безумие, но то фантастическое чувство ради любви же не давало ему решиться быть с ней, не давало подвергнуть риску её настоящее и будущее, её счастье.
Да и что он мог ей предложить? Говорить, что готов отдать всё, когда у тебя ничего нет, легко. Он готов был отдать ей свою душу, но родственная душа хороша, когда есть где жить и что есть. Рай в шалаше возможен только в самом раю, где и шалаш-то уже роскошь. А когда вокруг тебя норвежские фьорды, то душа — не самое надёжное укрытие от пронизывающего ветра и дождя, от снежной бури и умирающей в полёте колючей листвы.
Судьба не терпит нерешительных людей, она их разлучает, чтобы дать шанс преуспеть другим, чтобы хотя бы один из двоих был счастлив. Так произошло и с ними — дороги их разошлись так же неожиданно, как когда-то сошлись. Как две снежинки, подхваченные судьбой, разлетелись они по свету, и пелена тумана, темнота и неизвестность встали меж ними.
Жизнь без неё поначалу казалась адом. Он не понимал, зачем живёт и зачем возникло в нём это всепоглощающее чувство, чей разум так изощрённо хотел его измучить. Всё время мы ищем смысл, и когда нам кто-то его даёт, не требуя за свою милость ничего, мы сознательно втаптываем этот дар в грязь, сознательно меняем на что-то сиюминутное, преходящее, предпочитаем страсти рассудок, любви — комфорт, счастью — безбедную старость, крыльям — сомнения.
Со временем боль разлуки утихла, воспоминания о ней перестали оставлять рубцы и лишь нежно грели. Он дважды был женат, появились дети, дом и любимое дело, но все десять лет казались пустыми и никчёмными. Всё, чем он обладал, не представляло для него ценности. Один-единственный взгляд, улыбка и её прикосновение наедине стоили большего.
Все десять лет каждый день он мечтал о встрече с ней, мечтал обнять её, поцеловать и никогда не отпускать больше её маленькую руку. Сожалел, что не предпринял ничего, чтобы быть с ней, ничего не сказал о своих чувствах, не предложил быть вместе, не отверг сомнения и не сделал её счастливой, не сделал их счастливыми.
Однажды судьба дала ему второй шанс. Он встретил её, встретил в том месте, где никак не ожидал увидеть. Поначалу встреча разбила его, повергла в сильнейшее за всю жизнь уныние, но постепенно он понял, что теперь может бывать с любимой каждый день, — жизнь его снова обрела смысл. И он стал приходить к ней. Разговаривал и смотрел на почти не изменившееся, молодое и красивое лицо. Рассказывал о чём-то, как раньше, как десять лет назад, чувствовал её тепло, её душу, наслаждался каждой секундой, проведённой рядом с ней.
И однажды он решился.
— Я давно хотел тебе сказать, что безумно люблю тебя. Возможно, мне это только кажется, — я думал об этом. Я уже достаточно взрослый, чтобы понять, что это не иллюзия, что это не страсть и не влечение, что это не желание обладать тобой, не сочувствие и не благодарность. Я просто не могу иначе! Насколько я без тебя слаб, настолько же с тобой я силён и способен на всё, я без тебя не вижу смысла жить, ты — мой смысл жизни! Ты! — произнёс он взволнованно.
Он ждал ответа, и в этот момент тихий немолодой любезный голос нарушил тишину: «Месье. Кладбище закрывается. Уже поздно. Приходите, пожалуйста, завтра».
Он постоял ещё немного, но ничего не услышал в ответ. Уходил, но знал, что уже завтра вернётся к ней, и поэтому был спокоен. Знал — теперь они всегда будут вместе и даже смерть лишь ещё крепче их соединит. Навечно…
Мысли из никуда
Лучше быть нацией нищих героев, чем богатых тихих торгашей.
Руководитель — маленький Бог: активно проповедует и живёт на нетрудовые доходы.
Ёжик в Панаме.
Охрана — Черные воротнички.
Рас-Путин.
Френд познается в ЖЖ.
Агдам окрыляет.
Песнь пессимиста
Я долго ждал её, и вот она настала — Пришла весна, с ней солнце и капель. Март на дворе, текут ручьи устало. Ещё денёк, и в дом войдёт апрель. Потом и май уже на за горами, За ним июнь, июль, и вот она — Листвой опавшей в сени проникает Осенняя ненастная пора. За осенью короткой грянет стужа, Мороз и снег. Земли уж не видать. Весь мир угас, но в ожиданье чуда Я жду весну, я жду весну опять…Кара
Психиатрическая больница. Отделение пограничных состояний. Подъём. Больные без особого желания и без особого нежелания, будто то Будды, идущие по своему срединному пути, не спеша встают с постелей, одеваются, идут на завтрак. В столовой, выкрашенной в светло-голубые тона, получают оранжевый горох, французский суп из лягушатины, икру тюленя, некоторые — копчёный хвост нильского крокодила. После пары таблеток галоперидола и назепама всё это разнообразие превращается в чай из синего пластикового стакана да кусок хлеба с круглым, не размазанным шматом подтаявшего масла. Окончив утреннюю трапезу, больные, или, лучше сказать, отдыхающие, наводят утренний марафет и ожидают приёма у лечащего врача. Эскулап Володя Стеклов рутинно осматривает уже давно знакомые ему лица, продлевает курс лечения и с чувством выполненного долга идёт обедать.
Приём подходил к концу. Медсестра Танечка принесла карту очередного пациента. Стеклов, не заглядывая в толстый, потрёпанный жизнью талмуд, сказал знакомое: «Продляем на неделю галоперидол и хинидин», — и отодвинул карту на край стола. «У нас сегодня новенький», — сказала Танечка и положила на стол девственную тетрадь в клетку, ещё не испачканную анамнезом. Медбрат Сидоренко, здоровый и глуповатый бугай, завёл в кабинет молодого, лет тридцати пяти, мужчину, упитанного, ухоженного, с лоснящимся подбородком, чуть щурившегося от яркого света солнца, проникающего через окно. Сидоренко произнёс с ухмылкой: «Садитесь, товарищ Джованни», — властно за плечо подвёл человека к стулу и вдавил того в сиденье отточенным движением артиллериста, загоняющего снаряд в дуло гаубицы.
— Как вас зовут? — спросил Стеклов.
— Джованни Мочениго, — боязливо ответил сидящий на стуле. Сидоренко, стоящий чуть позади, протянул доктору бумагу со словами: «Вот направление от участкового врача». В бумаге мелким, плохо понятным непосвящённому почерком было выведено: «Delirium tremens, schizophreniae».
— Вот от участкового, — продолжал Сидоренко. Участковый уполномоченный характеризовал слесаря ЖЭК № 11 Дмитрия Мочева резко отрицательно, сообщал, что тот крепко пьёт, не отличается ни вежливостью, ни обходительностью с родными и не родными людьми, не чужд мздоимства, мелочного вымогательства.
— Всё ясно, — сказал Стеклов. — Танечка, назначаем рисполент и смесь фенобарбитала в умеренных дозах, полный покой, постельный режим. Завтра его первым на осмотр к Кащину.
Стеклов аккуратно заполнил карточку, записал анамнез, назначенное лечение и спокойно продолжил дежурство. В течение дня несколько раз пытался вспомнить имя, которым представился пациент, но точно воспроизвести его так и не смог.
— Вот алкоголики пошли. Раньше было всё ясно — Наполеон, Ленин, Сталин, а этот начитался невесть чего да напился — и мерещится неизвестно кто, эко его торкнуло.
Стеклов был хорошим врачом. Называл всех алкоголиков любя «алкашки» и считал больными людьми, не был лишён сострадания к ним. Выходец из небольшого села, далекого от областного центра, он с детства тысячи раз наблюдал фантастические, поначалу неясные ему перемены в людях. Видел не раз, как здоровый, крепкий, здравомыслящий и симпатичный мужик превращался после бутылки спирта в откровенную мразь, похожую на гнилой овощ, скрещённый с вурдалаком, что постоянно восстаёт из ада для поисков очередной дозы и радуется всему, что горит, как младенец погремушке. Сам он иногда прикладывался к бутылке, но так и не понял, что хорошего в сознательном отравлении себя этиловым спиртом, которым врачи убивают микробов. Человек по сути тот же микроб, только очень большой. Побольше спирта — и он скопытится как миленький. В детстве Стеклов и решил посвятить жизнь борьбе с возлияниями. Так стал врачом — хотел помогать людям.
Придя через сутки на дежурство, Стеклов первым делом поинтересовался самочувствием нового пациента. И с удивлением узнал, что тот давеча буянил и был помещён врачом Кащиным в «мягкую комнату» — комнату для буйных, получив двойную дозу «зины». От аминазина даже самый буйный больной делается кротким, как умирающий перед исповедником. Стеклов заглянул к буяну. Тот лежал привязанный к кровати, обитой войлоком. Лежал лицом вниз в смирительной рубашке. Танечка рассказала, что Дмитрий Мочев к вечеру попытался сбежать из заведения, а когда санитары его поймали, перелезающего через ограду клиники, начал кричать, что он венецианский дож, аристократ и не потерпит такого отношения к себе. Завтра же он обещал найти управу на санитаров и «прочих еретиков в белых бесовских одежах».
После утреннего обхода Стеклов попросил медбрата Витеньку (так его все называли за доброе лицо и глаза буйвола при виде соперника) привести больного Мочева. Витенька просьбу незамедлительно исполнил. Мочев предстал перед доктором в ужасающем виде.
«Не зря аминазин так любили прописывать инакомыслящим, — подумал Стеклов. — Кащин явно перестарался с двойной дозой».
— Как ваше самочувствие?
— Мон синьёр… отпустите меня, мне плохо… — пробормотал еле слышно Мочев.
— Бедняга… Вам досталось… Но ничего, не бойтесь. Больше такого не повторится, но дайте мне слово больше никогда не пытаться убежать от нас, никогда не кричите и не повышайте голос.
— Я обещаю, клянусь святым Теодором! — заверещал пациент.
Стеклов записал что-то в историю болезни, припомнив, что святой Теодор был покровителем Венеции, отдал указания медсестре и попросил Витеньку оставить его с больным наедине. Тот послушно вышел. Стеклов взял ручку, посмотрел на своего невольного, растерянного и подавленного собеседника и начал вращать письменный прибор с частотой в пять секунд, как его учили в медакадемии.
Монотонное вращение предмета в руках, тихая, спокойная речь для нормального человека — успокоение, для психически нездорового же, наоборот, ситуация, в которой проявится его неадекватность. Стеклов проверял так всех. Кто начинает нервничать и дергаться при виде вращающейся монетки, тот явно нездоров. Прошло две минуты — результата не было. Стеклов медленно и спокойно заговорил.
— Так вас зовут Джованни?
— Да, именно так, мон синьёр, — подобострастно пролепетал сидящий на стуле.
— И вы итальянец?
— Да, именно так.
— Вы уверены в этом?
— Это несомненно, как то, что Земля плоская и стоит на трёх слонах!
— А разве она плоская?
— А разве нет? Взгляните в окно — земля плоская, а небо — это полусфера!
— А Юра Гагарин говорил, что она круглая.
— Кто такой Юрга Грин, мон синьёр?
— Хозяин соседней со мной виллы.
— Он грязный лжец. Вы ему верите? Он принёс верительную грамоту от папы Климента?
— Может, и приносил, но я не видел.
— Как же вы можете верить кому-то на слово? Времена-то какие настали неспокойные — никому доверять нельзя.
На этом Стеклов прервал беседу. «Мочев вёл себя достаточно адекватно, дискутировал логично», — отметил он в своём журнале и оставил курс лечения без изменения. Прошла неделя, вторая… Стеклов продолжал «пытать» Мочева о строении мира и всё больше убеждался, что тот просто бредит. Никакая это не «белая горячка» и не «шизофрения» — ошибся участковый врач. Лишь бы на нас спихнуть — лентяй либо дилетант. Больной у своего сына взял учебник средних веков, прочитал «под мухой» страницу номер тридцать семь, где описывается, как представляли себе мир средневековые жители Европы, и под воздействием алкоголя личность, разложившись, впитала эту страницу текста, как губка. Вот и всё объяснение его теперешнему состоянию. Жалко, конечно, человека, но такое бывает. Ничего сверхъестественного.
Прошло ещё два месяца. Мочева разобрали на консилиуме. Разобрали его по кусочкам, потом сложили всё на место, ничего не перепутав, и пришли к единому мнению. Все врачи согласились с диагнозом, предложенным Стекловым. Парафренный бред — нет сомнений. Пациента поместили в отделение средних расстройств. На этом работа Стеклова была закончена.
Жизнь шла своим чередом, больные всё так же болели и выздоравливали. Некоторые переводились в другие отделения. Истории Мочева о слонах, китах, черепахах и прочих поддерживающих конструкциях Земли почти забылись, как и другой подобный бред. Земля круглая — это всем известно! Это факт! Бесспорный! Несомненный!
У Стеклова был давний школьный друг. Людьми они являлись до крайности разными: друг убежденный атеист, физик по образованию и математик по призванию с широчайшим кругом интересов. Стеклов, наоборот, от Бога далеко никогда не уходил и в физике плавал только топором, хотел заниматься медициной и собирал материал для диссертации. Очередная их встреча протекала за дружескими шутками. Выпивая без фанатизма, они разговаривали то про гений Микеланджело и про ложь политиков, то про духовность Рублёва и про глобальную эволюцию, то про обратную корреляцию женской красоты и ума, то про Баклановский удар, то про адронный коллайдер. Дошло дело и до строения Вселенной.
— Коперник, Джордано Бруно… сколько жизней надо было положить, чтобы доказать человечеству элементарную истину: Земля не центр мироздания и не плоскость, — сказал с досадой и чувством глубокой тоски собеседник Стеклова.
— А многие до сих пор уверены, что Земля зиждется на китах и слонах.
— Эти пионеры науки, видимо, отдыхают сейчас в твоем пансионате? — и друзья рассмеялись.
— Да. Один бредит, что он итальянец, аристократ, и представляется Джованни Мочениго, — ухмыляясь, сказал Стеклов.
— Был такой человек. Предатель и лизоблюд. Он писал доносы на Джордано Бруно, в результате которых ученого арестовали и возвели на костёр за убеждения, спустя век ставшие бесспорной истиной. А Мочениго позже был отравлен вином. Бесславная кончина бесславного человека.
— Как причудлива жизнь: алкоголик предстаёт в образе предателя, каким он на самом деле и является для жены, детей, отца и матери, для всех окружающих; хорошая тема для диссертации!
Наутро Стеклов первым делом направился в отделение, куда он определил Диму Мочева. Попросил привести его на приём. И без лишних слов спросил: «Зачем ты предал Джордано Бруно?» Реакцию Мочева предсказать он не мог. Бедняга упал на пол, стал целовать ботинки врача, умолять простить его.
— Это из-за Джордано Бог так наказывает меня. Из-за него я здесь! Я догадывался! Прости меня, Господь! Прости, Джордано!
Мочева увели. Стеклов был поражён реакцией, ведь о Джованни Мочениго и его предательстве история сохранила очень скудные сведения и Мочев, являясь слесарем, устанавливая унитазы и ставя рваные прокладки за трёшку, едва ли когда-то с этой историей мог столкнуться. Невероятно! Откуда он мог это узнать?!
Димыч Мочев действительно очень любил влить в себя что-нибудь покрепче.
— Алкашам нужны поводы, а нормальному человеку повод не нужен. Захотел — выпил! — так он и рассуждал.
Отец Димы выпивал всю жизнь и помер в хмельном угаре, в пьяной драке. Так сказать, на боевом посту. Красота — чего ещё от жизни желать?! Для Димыча отец был непререкаемым авторитетом, поэтому заправляться спиртецким он начал лет с четырнадцати — как только ему стали отпускать. Выглядел он тогда уже на все восемнадцать.
Отец, напиваясь, запевал одну и ту же песню:
— Смотри, сынок, вот где они у меня все, — произносил он на выдохе басом, показывая огромный кулак, похожий на уродливую картошку. Всех этих интеллигентов вот где я держу. В гробу всех видал. Как выпью — они от меня разбегаются, как крысы. Трусы они все! А я — человек! Рабочий человек! Я свой хлеб не зря ем!
Хлеба, правда, он едал немного, но вот выпивал достаточно, пропивая временами не только всю зарплату, но и влезая в долги. Так что одевать и кормить семью приходилось частенько матери маленького Димы.
Однажды Димыч проснулся и ощутил какое-то новое для себя чувство. Незнакомый запах заполнял пространство. Аромат не походил ни на его «Тройной» одеколон, ни на отечественный парфюм его жены «Гвоздика», который он как-то пробовал на вкус. Нехотя открыл глаза и первый раз в жизни задумался о вреде пьянства.
— Белая горячка, не иначе! Всё! Хватит пить всякую гадость, теперь ничего дешевле «Аталыбашлы», — пробормотал сквозь распухшие губы Мочев.
Глазам его предстал вид роскошно убранной комнаты. Кровать, в которой он возлежал, улетала своей задней спинкой куда-то в небеса, промеж которых играли библейские ангелы. Вокруг ложа на дубовом полу лежали шкуры медведя, леопарда и рыси. В центре залы красовался огромный коричневый глобус. Крышка шедевра картографии была приоткрыта, и из нижней части выглядывали сосуды с дивной красоты напитками оранжевых и пурпурных тонов. Мочев быстро встал и, еле дотащив свое обрюзгшее, отравленное вчера тремя бутылками самогона тело, подошёл к круглому причудливому бару. Глобус и вправду содержал в своём чреве все напитки мира. Димыч отпил из одной бутылки, из второй, отведал манго, гранат, выпил что-то очень похожее по запаху на клей БФ и завопил: «Я в раюююююю!»
На его крик вошёл человек в чёрном старомодном сюртуке и громогласно произнЁс:
— Прикажете ли подавать завтрак и дневной туалет?
— Завтрак тащи! В туалет пока не жааалаю! — ответил довольный собой и ситуацией Мочев.
Доедая жареного фазана вприкуску с вяленой олениной, запивая это всё вином из горлышка кривого графина, Мочев начал припоминать вчерашний вечер. Вспомнил, как со слесарем Васей взяли «три топора», выпили, сходили ещё, нашли третьего, взяли ещё и выпили. Деньги кончились — нашли самогон и выпили, нашли ещё… На этом месте память начала давать сбои. Никак не хотела прокручивать вчерашнее кино дальше.
«Собутыльнички меня и укокошили! — подумал Димыч. — Как пить дать! Получается, я в раю — в аду бы меня так не кормили! Вот так вот друзья мои — все обвиняли меня в пьянстве, безделье, а это и есть, получается, дорога в рай».
И довольный собой и своей мирской жизнью Мочев допил бутылку вина. На старых дрожжах его развезло, и бывший слесарь, а ныне житель небес уснул сном младенца.
Стеклов никогда не интересовался судьбой больных, если, конечно, они не возвращались к нему с рецидивом. Но история Дмитрия Мочева заинтересовала. Анамнез Мочева был включён в кандидатскую, и, возможно, благодаря именно этой статистической единице Володя так удачно защитился и стал кандидатом медицинских наук. Так что Стеклов испытывал признательность к Мочеву. Часто навещал, покупал фрукты, пару раз даже втайне принёс небольшую бутылочку вина. Но состояние Мочева всё ухудшалось. Бред становился всё детальнее, как будто он не придумывал, а вспоминал историю давно позабытой жизни. Мочев многократно пытался сбежать, но его всегда останавливали. Было ощущение, что работа слесарем не дала ему способности изворачиваться и ловчить — он всегда шёл напрямик, как аристократ, к которым он себя болезненно причислял. После побегов дозы аминазина всё увеличивались, чтобы его успокоить, и однажды сердце не выдержало. «Так он и умер — заколотый аминазином в грязной психушке», — записал в свой дневник Стеклов. А ведь было в нём что-то, что заставляло ему верить, было! Каждый психиатр знает, что играет с огнём, и на сто процентов не уверен, что перед ним именно больной человек, — так он сказал как-то коллегам.
В тот же день Кащин посоветовал Стеклову взять отпуск и отдохнуть.
Жизнь Димыча текла беззаботно. Он принципиально ничего в раю не делал. Только много ел, пил ещё больше, изредка выходил гулять в сад, непременно прихватывая с собой в дорогу бутылочку-другую. Очень скоро забыл про свою жену и ребёнка, про друзей-собутыльников и стойкий запах унитазов на работе.
Однажды утром он не обнаружил на привычном месте ни вина, ни еды. Встал, открыл дверь, вышел в холл. Подошедший мужчина в чёрных бархатных лосинах протянул одежду со словами: «Вас ожидают». Мочев натянул одежду, хоть она показалась ему какой-то не райской, вышел на крыльцо. Подъехала позолоченная карета, запряжённая четвёркой чёрных рысаков. Мочев сел. Дорога длилась недолго, и, выходя из кареты, Димыч одарил кучера привычным: «Аккуратней, не картошку везешь!»
Взгляду Димыча предстала площадь, кишащая людьми.
— Похоже, партсобрание, — съязвил Мочев.
Подошёл седой старик в красном одеянии и красной круглой шапочке на темени, взял под руку и, что-то ненавязчиво говоря, вроде «мы вам весьма признательны, синьор Мочениго, послание было весьма своевременным», повёл к возвышению, где сидели ещё двадцать-тридцать человек.
— Рыла как у меня, когда я не спеша приходил закрывать воду в затапливаемой квартире, — подумал Мочев и сел рядом с разодетыми франтами.
Только тогда Мочев увидел полную картину площади, на которую прибыл. Посреди пустыря пионерский костер. В центре один из пионеров привязан к длинной изогнутой жерди вверх ногами. Мочев попросил принести вина. Сделал пару глотков и увидел, как дрова подожгли вместе с пионером. Допивая вино, Димыч слышал, как из пламени вырывалось, каждый раз всё угасая: «Сжечь — не значит опровергнуть!..» Допил вино и спокойно отправился восвояси.
Жизнь потекла для Мочева привычным чередом. Безделье, обжорство, пьянство — в общем, рай. Он потерял счёт дням и как-то вечером попросил слугу принести ему напиток, вкус которого он не забыл бы никогда. Слуга, помедлив, ушёл и спустя несколько минут вернулся. Налил в длинный стакан жидкость оранжевого цвета с дивным ароматом.
— Как хорошо, — подумал Мочев и залпом по привычке осушил бокал. В тот момент он почему-то вспомнил слова «сжечь — не значит опровергнуть!», обращенные, как показалось тогда, именно к нему. И скорчившись от боли, как дикий зверь, пронзённый отравленной стрелой, упал.
«Так он и умер — отравленный, как собака, в своей золотой клетке», — записал в свой дневник Стеклов и захлопнул учебник истории.
Кролик-агрессор
Волк агрессивен, беспощаден К суркам, а к кролику вдвойне, Но кролик тоже агрессивен — По отношению к траве.PR
Лев Толстой очень любил путешествовать. Останавливался обычно в мотеле, платил хозяину золотой рубль, доставал из багажа заготовленную дощечку и просил прибить на стену. На дощечке его кучер Петька писал: «Здесь жил Л. Н. Толстой». И все проезжающие интересовались, кто такой Л. Н. Толстой. Так и пиарился.
Словом, Родина
В слове «Родина» то ли «оди́н», Возвышаясь на тысячи глав, То ли «Один», о мой господин, Завещает: «Роди́», не предав! Я ведь им обо всем промолчал — Депутатам, стоящим в сортире, — От концов бытия до начал, От локтей и до чёртовой мили! (Абрам Терц. Неизданное. 7 декабря 1981 года. Сорбонна. Париж)Мысли из никуда
Бокальный дуэт «Витьки».
Судьба писателя — жить между молотом завязки и наковальней финала.
Он проснулся, встал и… выпил вторую.
Зависть — признание себя бессильным.
Любить — меняться и не изменять.
Искусством не занимаются — им дышат.
Основа власти — молчание.
Truhtism.
Забрала
Болезнь прогрессировала быстро. Пронзительный бабий смех, разрывающий сознание грохотом чугунного языка о стенки гигантского колокола, не давал уснуть. Смех, от которого невозможно было спрятаться, укрыться, то доводил до исступления, то холодил, замораживал всё внутри. Душа цепенела, а разум содрогался, когда вновь и вновь из тишины зала доносилось тихое и одновременно мерзкое, надменное, саркастическое: «Ха-ха-ха-ха… Чтооооо?.. Плоооохо тебе без меняяяя?..»
Володя не мог смотреть телевизор, слушать радио, готовить еду и есть, просто находиться в квартире, не мог жить. Душераздирающий хохот, ужасный, страшный, сжигал его изнутри, переворачивал душу и с грохотом бил её оземь. Спасало только спиртное, но в огромных, нечеловеческих количествах. Белая жидкость с резким запахом уничтожала всё — эмоции и мысли, разум и тело, само бытие, но главное — страшный, отвратительный гогот пропадал на время, стихал, оставляя его в покое.
Он пил, пил постоянно, поглощал даже то, что не горело, лишь бы не слышать звуков, больше похожих на истерику или вопли душевнобольного, потустороннего создания, и не видеть убийственной, страшной белёсой фигуры знакомой женщины в темноте в кресле рядом с собой. Он кричал, бился в истерике, пугаясь до судорог, выбегал в чём был на улицу, ощущая незримое присутствие рядом с собой. Голос и сводящие с ума видения являлись всё чаще, всё чаще ему хотелось не жить, не чувствовать, не дышать, чтобы не напоминать никому о себе.
Обычная семья, каких миллионы, счастливо въехавшая когда-то в панельную хрущевку. Маленький сынишка, мама и папа. По вечерам выходили на лавочку у подъезда и вместе с такими же молодыми семьями обсуждали что-то, наивно мечтали и строили планы — о развитом социализме, безбедном будущем для своего ребёнка, тихой спокойной старости и маленьких внучатах, даче и машине.
Однажды Гали не стало. Реализовать далеко не горы запланированного было им уже не суждено. Морг, похороны, поминки… гранёный стакан как финал счастливой совместной жизни. Стакан… верный товарищ, который никогда не предаст и всегда поймёт, молча уводя за собой в тихую страну грёз.
Володя пил, пил всё больше и больше, ему становилось только хуже, и вскоре огонь человеческого образа его стих, а затем и потух, как тлеющий уголёк в печи. Наркологический диспансер. Психиатрическая лечебница. Белая горячка.
Лечебницей называют то место лишь формально. Тюремный режим, жёсткие нары, конвоиры в белых халатах, их мускулистые, сильные руки. Смирительная рубашка. Процедуры, ужасные инъекции. Аминазин, хлористые растворы в вену, шоковые терапии. Лечение психики через тело, душу через соматическое начало, весьма далеко отстоящее от реального человеческого сознания.
— Ко мне является Галя. Тихо опускается на кресло и смеется. Она зовёт меня с собой. То издевается, то жалеет меня и сына, то грустит, кружится в своём ведьмином шабаше. Её фигура еле видна. Мне лишь одному, и один лишь я слышу пронзительный леденящий смех.
Лечение помогло. Володя бросил пить, видения прекратились. Он стал возвращаться к обычной советской жизни, в которой не было ничего сверхъестественного, кроме ударного труда, отрицающего саму человеческую сущность и индивидуализм. Прошло несколько лет… Стал выходить на скамью у подъезда. Поначалу всё больше молчал. Постепенно начал разговаривать сначала с детьми, понемногу со взрослыми — соседями, которых едва узнавал.
— Галя… Галя… — произнес он однажды. — Она приходит ко мне. Я не пью уже несколько лет. Я здоров, а она всё равно ко мне является и смеётся, смеётся, смеётся, сидя в своём кресле…
Однажды Володя не вышел на работу, не ответил на телефон, на звонки и стук во входную дверь.
Под напором тяжёлого плеча дверь хрустнула и тихо отворилась. Свет пеленой доносился из зала. Осторожные неспешные шаги и чьё-то тяжёлое дыхание заполнили коридор. Кто-то чужой осмотрел кухню и ванную, вдохнул полной грудью затхлый запах и щёлкнул выключателем. Сделав несколько шагов, открыл прозрачную дверь, прошёл в зал и замер.
Выключенный телевизор, приглушённый свет единственной матовой лампочки в люстре, стол в углу, шкафы и антресоли, отделанные лакированным шпоном, два кресла. В одном из них сидел он. В гробовой тишине, свесив руку почти до пола, а вторую безвольно бросив на колени, окаменевшими глазами он смотрел в сторону второго кресла.
Глаза ничего уже выражали — белый снег поглотил их. Все мышцы были расслаблены. Лишь лицо сохранило отпечаток последнего, что он увидел в своей жизни. Лицо «смеялось». Смеялось, широко открыв глаза, смеялось, судорожно напрягая жилки, по-волчьи оскалив зубы; рот и сведённая гортань до сих пор, казалось, издавали страшный, нечеловеческий рык. Голова была обращена в сторону кресла. В сторону пустого кресла, где когда-то любила сидеть она…
Цинизм на похоронах
В толпе людей, одетых в чёрные цвета, Где траур, слёзы и могильная плита, Несу я лозунги свои: «Меня ты не забудь, Дружище, на том свете», «В добрый путь!»«Грязное» воскресенье
В трактире… было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане.
И. А. Бунин. «„Чистый“ понедельник»Не спеша мы шли по старому, чудом сохранившемуся саду. Тропинка узким ручейком уводила нас в глубь. Позади смыкались ветви деревьев, ограждая нас всё надёжней от людей, бурным потоком врывающихся в будничную жизнь, от невзгод, обыденно заставляющих забывать о себе и своих чувствах, от суеты, убивающей мысли о главном. Полдень тихий и тёплый, хотя ещё утром дул пронизывающий юго-восточный ветер и степная пыльная буря не располагала ни к прогулкам, ни к доверительной размеренной беседе. Ветра совсем не стало, когда мы подошли к реке. Небольшие облака смотрели на нас с высоты, периодически пряча от взгляда единственного свидетеля — по-летнему ещё жаркое солнце. Мы нравились облакам, и они не давали солнечным лучам отвлекать нас друг от друга.
За садом давно никто не ухаживал, и он лишился своей рукотворной упорядоченности, приобрёл вид более естественный, более живой, вид творения разумной природы, провидения, вид чуда — яблоневый сад на берегу реки. Непосвящённому он казался лишь там и тут разбросанными в хаотичном порядке деревьями с уродливо изогнувшимися ветвями. На самом деле это был искусственный, но живой свидетель былых человеческих трагедий. Когда ты находился среди нагромождения ветвей и листвы, казалось, что не деревья это вовсе, а люди, застывшие, скорчившись от боли, от тоски, холода и голода. Преданные и забытые своей страной, своими родственниками, соседями, знакомыми. Души их канули здесь, как и тела. Злые, алчные люди пытались стереть и память о них, но сад не дал этого сделать — сохранил.
Дикие яблони посажены чьей-то мозолистой, иссохшей от голода и тяжкого труда рукой. Рукой, уже построившей дом, рукой человека, вырастившего сына, понимающего и принимающего такой трагический финал своей жизни.
Мы уходили всё дальше, а сад всё не кончался, не видно было конца людскому горю, страданиям и одновременно надежде, позволяющей выживать в самые невыносимые времена. Зазвонили вдалеке колокола. Набат бил в память о невинно убиенных, замученных здесь, о, возможно, таких же, как и мы, что просто хотели жить, растить детей, дышать лесом, рекой и друг другом.
Мы шли. Разговаривали. Я смотрел на неё с умилением, поражаясь её видению мира, её жизненного опыту, её мечтам и стремлениям, глубине человека, которого раньше я знал очень поверхностно — скорее вообще не знал. Наверное, я казался ей дурачком, беспрерывно улыбающимся и смотрящим на неё щенячье-волчьими глазами. Наша встреча наедине была всего второй, но уже в конце первой я понял, кем так неожиданно стала для меня эта девушка. Она мне нравилась. Нравилась слишком сильно. Больше, чем этого хотел бы мой рассудок. В её присутствии я терял над собой контроль. Меня беспокоило, что спектр моих эмоций сместился. С ней я то был слишком весел, то, наоборот, пускался в излишне пространные философские рассуждения. Не стало эмоционального центра во мне, он исчез — она его заняла, она стала мерой моих желаний и стремлений, моим эталоном и идеалом в мире.
Тропинка привела нас к обрыву, глубокому рву, преградившему путь, разделившему наш мир пополам, заставившему задуматься, куда мы с ней шли. Многие в своей жизни приходят к обрыву — к жизненному барьеру, за которым лежит неизвестность, неизвестность зовущая и одновременно настораживающая. Сильные люди преодолевают препятствие и идут дальше своим путём, слабые падают на дно оврага, смирившиеся возвращаются назад той тропой, что пришли, и больше никогда не ищут другой дороги. Для нас этот неожиданный, нежданный ров и стал тем поворотным моментом, той границей, разделившей жизнь на до и после.
Казалось иногда, что мы с ней совершенно разные люди. Она демонстративно и вульгарно курила — я занимался спортом; я ужасно сквернословил — она старалась избегать даже цензурной брани; я не понимал музыки Чайковского и Рахманинова — она обожала; ей нравились стихи Мандельштама — я был к ним абсолютно равнодушен; был излишне прямолинеен и горяч — она расчётлива и сдержанна. Такие люди не рождены быть вместе? Напротив! Именно к совершенно иному человеку интерес порой не угасает никогда, к такому же, как и ты, — очень быстро. Желание узнать её, понять ход её мыслей становилось все сильнее. После разговоров с ней я всегда что-то читал, что-то слушал, во что-то пристально вглядывался, пытаясь уловить нечто, мне пока не видимое, а ей уже открывшееся. Слушал концерты Петра Ильича, читал стихи Осипа Эмильевича, прозу Куприна, Бунина. И с каждым днём мне хотелось быть к ней ближе, говорить с ней, слушать, смотреть на неё.
Я редко задавал вопросы — не хотел быть бестактным, лишь по обрывкам фраз понимал, чего она хочет. Как и все, она хотела любви, нежности, ласки, внимания — ничего необычного и несбыточного. Многого в ней я не понимал. Стремление путешествовать мне казалось склонностью к праздности, к перфекционизму — болезнью юности. Она была, как и я, слегка высокомерна, подвержена европейскому меркантилизму, однако не чужда тонких переживаний — могла уловить еле заметный смысл в музыке, стихах, человеческой речи. Не особо разбиралась, в отличие от меня, в науке и технике. Мы были разными берегами одного и того же кипучего океана, бурлящего, наполненного жизнью, постоянно рождающего что-то в своих глубинах. Все её достоинства вызывали во мне трепет, недостатки — уважение.
В ней кипело что-то трагическое из прошлой жизни. Казалось, её недолюбили, недопоняли, она ещё не высказала того главного, что человек обязан выплеснуть из себя. Поделиться собой — это счастье, но счастье также и получить взамен не менее значимый кусочек человеческой души. Раздавая себя без остатка, ты гибнешь, обмениваясь же своим теплом, эмоциями и чувствами, своей нежностью и заботой, знаниями и умениями, становишься богаче сам и позволяешь другому расти над собой. Я хотел, чтобы мы стали друг для друга силой, заставляющей развиваться, стремиться к лучшему, прыгать через барьеры, добиваться недостижимого совершенства, чем-то большим, чем муж и жена, друзья или учителя, чтобы мы были для каждого интересным, до конца не разгаданным миром, вдохновением, прохладой и тенью в жаркий полдень, светом и теплом камина в морозных сумерках.
Стоя на краю оврага, я взял её за руку. Тёплая, сухая ладонь впору моей. Прикосновение обожгло меня. Всё в груди сжалось, вскипело, окружающий мир пропал, потух — она его затмила. Не мог смотреть ей в глаза, мне было страшно, как никогда в жизни. Я испытывал эмоции, ранее мне неведомые, хотя многое в жизни уже пережил. Появилось ощущение заново начинавшейся истории мира, как будто все пережитое мною ранее было только прелюдией, сном.
— Можно тебя обниму? — произнёс я, стараясь не думать о её реакции на эту неоднозначную фразу.
Она могла в ответ спросить с саркастической улыбкой: «Зачем?» или с сочувственным видом предложить «быть только друзьями!», в лучшем случае произнести задумчиво: «Не рано ли?..» Возможно, она бы обиделась на меня и мы бы никогда больше не встречались и даже не разговаривали. Я не знал, что будет дальше, и ждал её реакции. Мыслей не было, и мне показалось, что ожидание моё тянулось нескончаемо долго.
— Можно, — услышал я еле слышный шёпот. И в этот момент листва, как церковный хор, запела над моей головой. Это был момент божественного венчания двух судеб, момент переплетения двух душ, двух потоков, сливающихся в единый, счастливый момент, сотворённый самим Богом, торжественный и сакральный.
Я, из дымки происходящего вокруг меня чуда, посмотрел на нее. Карие глаза с интересом и наслаждением разглядывали меня. Отводя её ладонь, скользил кончиками пальцев по её мизинцу, медленно и осторожно сжимая его, ощущая каждую складочку кожи. Пытаясь запомнить каждую секунду этих мгновений, я протянул правую руку и провёл ею по талии, прижался к ней. Я наслаждался каждой секундой. Хотел, чтобы этот миг длился как можно дольше — вечно. Снова посмотрел в глаза. Снова обнял. Прижался к щеке, поцеловал, поцеловал ещё и ещё, поцеловал уголок губ, опять обнял. Она положила руки мне на плечи, смотрела в глаза и ничего не говорила, только улыбалась.
Мы шли дальше по саду. Я держал её за руку, периодически останавливаясь, смотрел на неё, не веря своему счастью. Говорили о том, какими видимся друг другу, и что, возможно, наша встреча не случайна. Все в жизни не случайно — везде знаки, подсказки и намеки, всюду возможности, вырастающие из страданий и жертв, всюду за невзрачным что-то значимое, за малым — большое, за обидами — прозрение, за мечтами — реальность, за поворотом — новый поворот… за сигаретой — сигарета, за стаканом — стакан. Меня поражали её склонность к философским размышлениям и одновременно к меркантильному взгляду на жизнь, внешняя холодность и кипящая страсть внутри, застенчивость, маскируемая резкостью суждений и злым сарказмом, недоверием, нетерпимостью и отвращением к непонравившимся людям.
Наши встречи стали постоянными. Обычно в выходной день мы уезжали подальше от цивилизации и возвращались в мегаполис только к вечеру. Гуляли вдоль рек и озёр, с «Моцартом на воде и Шубертом в птичьем гаме», стояли среди берёз или вековых сосен с Довлатовым или Хармсом, шли по полям цветущего подсолнечника, скрывающего нас с головой, с Антониони и Феллини, объездили все церкви и монастыри с Микеланджело, Рублёвым и Ван Эйком, любовались простотой и изяществом природы, друг другом, нашими мыслями и чувствами. Я обожал, когда на улице было холодно и ненастно — тогда даже случайные люди исчезали и мир полностью принадлежал только нам, я мог согреть её своим теплом, прикоснуться лишний раз, позаботиться о ней.
Иногда мы не встречались по нескольку недель или даже месяцев. Она не могла. Я не спрашивал почему, просто ждал, когда вновь её увижу. Она то с радостью соглашалась на мои предложения встретиться, то уклончиво отказывала. Казалось иногда, что она не располагает собой и не может полностью отдаться своим желаниям. Я грустил без неё, бегал в парках до изнеможения, чтобы не было сил думать о ней, работал, находя в труде хоть временное забвение, писал стихи, рассказы, продолжал заниматься наукой, встречался со знакомыми, чтобы только не быть одному. Потому что наедине со своей душой мне было невыносимо тяжело — душа рвалась к ней, не желая слышать никаких рациональных доводов.
Недалеко от города есть удивительное место. На огромном, кажущемся бескрайним поле, с одной стороны зажатом небольшим холмом, а с другой — тихой речкой, растут три берёзы. Они чудом уцелели, своей мощью смогли противостоять человеку, распахавшему землю вокруг. Берёзы эти стволами образовывали правильный треугольник, кроны перекрывались, возводя подобие древнегреческого акрополя. Речка, что текла вдалеке, из этой небольшой рощи посреди поля казалась голубым лоскутком, что обронил создатель дивного пейзажа. За рекой вырастали из земли серые трубы элеватора. Они был далеко и стоял как щит, оставленный здесь могучим героем прошлого.
Однажды я привез её в это место. День был жаркий, солнце нещадно жгло наши полуобнажённые тела. Мы шли через поле уже почти созревшей золотой ржи. Я сорвал несколько колосьев, разворошил их в ладони, вытаскивая зёрна, попробовал на вкус. Под кроной трех берёз было прохладно и спокойно, как под крышей дома из дубовых брёвен. Я расстелил покрывало и лёг. Смотря вверх, я увидел ветви деревьев, синее-синее небо, птицу, пролетающую над нами.
Она присела рядом. Молчали — говорила только природа. Рожь шептала, листва берёз и ветер вполголоса пели дуэтом. Солнце создавало световые блики на наших телах, трава стелилась мягким зелёным ворсом. Она легла рядом, положила свою голову мне на плечо, а руку на грудь.
— Обними меня, — попросила она.
Я гладил маленькую, казавшуюся иногда детской руку, тонкую шею, каштановые, естественно красивые длинные волосы. Она всё сильнее прижималась ко мне, я целовал её, обнимал. Мы были одни на многие километры. Рожь высотой почти с человеческий рост окружала нас со всех сторон, и никто не мог нам помешать. Я очень хотел быть с ней, но боялся. Боялся испортить всё, разорвать нити, соединяющие наши души, наши миры. Не хотел сделать что-то, что ей не понравится, что её обидит. И я ничего не делал — просто смотрел, наслаждался её красотой. Она заснула. Во сне чуть сжимала свою ладонь, немного царапая мне кожу. Периодически смешно морщилась, как будто кто-то прикасался к её лицу и ей было щекотно.
Что она подумает обо мне, когда проснется — что я не мужчина, что я нерешительный трус, что я ни на что не способен?
Мне стало не по себе. Укрыл её краем ткани, поцеловал, обнял. Не хотел, чтобы заканчивался день, хотел остановить время. Был в раю и не хотел его покидать, не хотел, чтобы она меня покидала.
— Я заснула… Долго спала?
— Около получаса, — ответил я.
Зевнула и потёрлась о меня носом, улыбнулась и сказала как будто обращаясь не ко мне, а к вечности:
— Как хорошо с тобой, так спокойно, так хорошо мне никогда не было. — И ещё крепче меня обняла.
Через неделю она мне позвонила, первый раз она мне позвонила. До этого такого не было. Сказала, что надо встретиться. Я, конечно, согласился. Лёгкая тревога охватила меня. Встретились в торговом центре. Прошлись вдоль стеклянных витрин. Я смотрел на наше с ней отражение и казалось, что мы созданы друг для друга, что, как на этой витрине, должны быть всегда вместе.
Мы прошли вдоль эскалатора, бесчувственно и беззвучно уносящего людей прочь. Она повернулась ко мне и сказала:
— Нам больше не надо встречаться…
Видимо, слова эти дались ей нелегко и она долго их обдумывала. Заставлять её поменять решение было делом бессмысленным — я знал это. Я было хотел ей что-то возразить, но прочитал в глазах боль и смятение, страх и предрешённость такого финала. Не стал ей ничего говорить. Мы стояли молча. Люди обходили нас, не обращая никакого внимания. Она медленно повернулась, ступила на эскалатор, и он начал медленно уносить её от меня. Душа моя уходила с ней, а я остался.
Я не жалел ни о чём — ни о том, что мы так до конца и не узнали друг друга, что не сказали друг другу многого, что не были физически близки, что не построили дом, не воспитали детей. Я не жалел и о многом другом — жалел только об одном: о том, что всё это могло случиться, но этого не было, жалел только о том, что она сказала мне тогда, стоя у обрыва: «Не надо… я не могу…»
Мысли из никуда
Я шагнул из литературы в кино естественным образом, сказав «Йохуу!».
Времена плоти и слюны, слюны и плоти.
Юмор литейщиков: Сортирное литье.
Она низачто пропала.
От мелкого человека остаётся только мелочь.
Музыка — бобровый воротник мира.
Брежнев — это Вий.
Тридцатка
Босфор, Дежнёва мыс, Свердловск, Кижи и Тара, Солигорск, Тамбов, Тюмень, Талык, Тура, Дудинка, Тикси, Колыма, Венера, Ио, Ганимед И солнца негасимый свет, Калининград, Сибирь, Камчатка, Всем сообщаю: мне тридцатка!Утопленник
Говорят, нельзя называть сына или дочь именем умершего родственника — ребёнок повторит трагическую судьбу. Суеверия и религиозные догмы до сих поры живы в обществе, пережившем коммунизм, и до сих пор большое количество людей им безропотно повинуется. Боря был не таким человеком. Был смелым, сильным, трудолюбивым. С детских лет рассчитывал только на себя и шёл вперед, никогда не оглядываясь на отставших и кричащих ему вослед: «Подожди», на плетущихся в арьергарде, клеймящих судьбу и во всём видящих плохие знаки, приметы и предзнаменования. Когда у Бори родился сын, иного имени, чем Слава, на ум не приходило, да и не могло прийти.
Боря очень любил своего старшего брата. И в тридцать лет он хранил в сердце тёплые воспоминания о мальчугане лет семи на велосипеде, что катал его давным-давно по двору и не давал в обиду соседским мальчишкам. Брат часто брал Борьку — так он звал младшего брата — на «забой», где вместе они ловили лягушек и пытались их подложить на рельсы под колёса проходящих поездов, но те в последний момент ускользали и сбегали от мальчишек. Борька частенько играл вместе со Славой и его старшими друзьями в пятнашки на чёрном, плавящемся на жарком летнем солнце асфальте и ножички на вытоптанном для таких игр цветнике.
Слава учил брата строить замки в дворовой песочнице. Любимым их занятием было сильно намочить песок водой, набранной дома или на ближайшей колонке, и «вылить» из текучей, чуть противной массы сюрреалистичное строение. Песочный раствор мальчишки набирали в ладони и постепенно выпускали. На месте, куда текла заветная жижа, постепенно вырастала фееричная башня, похожая не то на Эйфелеву, не то на башню с холстов Дали, не то на торчащий из земли изъеденный временем бивень мамонта. Ни об Эйфеле, ни о Дали или неведомых мамонтах мальчишки, конечно, ничего ещё не знали и просто наслаждались детским нехитрым творчеством, меж тем почти ничем не отличающимся от взрослого и такого же подчас бессознательного.
Как знать, может быть, именно этот детский пример и определил всю судьбу Бориса. Он стал строителем и посвятил жизнь тяжёлой, но нужной работе — превращению бесформенных глины, песка и цемента в квинтэссенцию человеческой жизни — в жильё, в дом и очаг. Повзрослев и закончив институт, лил он уже не песочные замки, а возводил монолитные бетонные башни, в которых незнакомые ему люди обретали счастье семейной жизни и домашний уют. На вид, впрочем, они были такие же сюрреалистичные, наполненные красотой и фантазией архитектора и строителей, как и детские пробы пера советских пацанов, рождённых в хрущевскую оттепель.
Боря очень любил брата. Слава был для него дороже отца и матери, днями и ночами пропадавшими на работе, в послевоенной разрухе поднимавшими промышленность и возводящими новое здание страны советов для своих детей. Слава для Борьки являлся примером и опорой, защитником и врачом, другом и старшим товарищем, он был дверью в мир, он был этим миром — он был всем.
И всего этого однажды у Бори не стало. Слава ушёл купаться, а Борьку в тот день с собой не позвал. Ушёл, как оказалось, навсегда. Больше не вернулся — утонул. Коварный сибирский Иртыш, даже в летнее пекло поднимающий из своих глубин невероятно холодные потоки, сковал судорогой ноги мальчишке и забрал его себе, как будто в оплату от людей, в том же году по своей воле перегородивших реку бечевой гидростанции на Бухтарме.
Боря был маленьким и не сразу понял, что брата больше нет. Конечно, он плакал, но больше подражая взрослым. Слёзы в детстве рождаются легко, но зачастую не несут в себе груза серьёзных эмоций. Это с возрастом каждую слезу переполняют тонны обид, горя или усталости. Детская слеза хоть и трогательна, внутри пока ещё пуста. Лишь с годами Борька, Борис, а потом и Борис Никитич осознал всю драму семьи. Осознал горе матери, потерявшей сына, отца, гордившегося старшим больше, чем младшим, свою печать и боль об ушедшем товарище и друге.
Любовь — сильнейшее чувство, и сильно оно своей бессознательностью, нелогичностью и безапелляционностью. Любовь смывает всё: обиды, страхи, горе и боль. Любовь смывает старое, чтобы человек смог заложить новый фундамент и возвести нечто прекрасное и чудесное. Но процессом возведения занят уже сам человек, его характер, воля, смелость и работоспособность. Любовь — толчок, пинок и подзатыльник для лентяя, вдохновение для творца, любящего труд человека, но не панацея.
И это фантастическое, мощное чувство пришло однажды к Борису, чтобы изменить его мир и наполнить счастьем, весельем, оставив лишь тихую светлую грусть о былом. С любовью и временем пришли домашний уют и относительный достаток по советской плановой схеме. Пришло и счастье отцовства, отцовства ожидаемого и желанного. Сына Боря непременно захотел назвать Славой, отплатив хоть так брату за заботу, тепло, фантазии и детские совместные проказы. Вся родня, естественно, была против.
Был Боря сильным, упрямым парнем, за свои тридцать лет неоднократно убеждавшимся, что полагаться надо только на свою голову, а к чужим лишь прислушиваться. Не стал он изменять себе и на этот раз. Имя сыну дал какое считал нужным и, прислушиваясь к мудрым речам подъездных старушек, отдал чуть подросшего Славу, фантастически похожего на так и оставшегося маленьким старшего брата, в секцию плавания, чтобы обмануть судьбу и суеверия, не дать сыну утонуть, подготовить его к встрече с водной стихией.
Боря излучал счастье. Снова к нему вернулся друг из детства. Такой же озорной, быстрый и даже стремительный, ни минуты не сидящий на месте. Борис не мог нарадоваться на успехи сына. И хоть в школе Слава учился не очень, зато пловцом стал первоклассным — сильным, выносливым, неоднократным чемпионом и призёром разных соревнований. И отец окончательно забыл о предсказаниях суеверной отсталой родни.
Слава рос, а Боря как будто, наоборот, становился рядом с ним ребенком. Он не мог ему ни в чём отказать. Жена и родственники удерживали Борьку как могли, но куда там — сын и старший брат в одном лице получали всё, что хотели. Любые игрушки, забавы, дорогая даже для взрослых людей одежда — всё это было у Славы. Когда ему не исполнилось ещё и восемнадцати, у подъезда уже красовался его личный автомобиль. На белой «девятке», без прав, он был королём района, таким же королём, как когда-то его дядя на маленьком велосипеде. Машина, вино, сигареты, сомнительные знакомые без лишних сомнений и девушки без тени кокетства и комплексов — вот чего хотел Слава. И получал, даже несмотря на реакцию слишком поздно спохватившегося отца.
Боря пытался образумить вставшего на тонкий лёд, под которым плескалась всё та же бездна, сына. Тот для вида соглашался и, не веря престарелому, по его меркам, папаше — как он его любя называл, — продолжал свой путь. Слава воровал деньги, когда ему их не давали, устраивал скандалы и истерики, картинно вскрывал себе вены, чиркая лезвием лишь вблизи кровеносных сосудов, — всё лишь для того, чтобы жить для себя, жить так, как его приучил его же собственный отец, не сумевший вложить в сына своё трудолюбие, уважение к старшим, заботу о родных, мысли о будущем и о вечном. Слава жил одной минутой, одной секундой, чудом каждый раз выплывая из волн сигаретного дыма, наркотиков и спиртного.
Обычный летний вечер склонялся над городом. Слава по привычке стащил несколько купюр и, не пересчитывая, сунул в карман. Натянул кроссовки ещё до этого, чтобы быстро выскользнуть из квартиры, если его обнаружат, незаметно закрыл входную дверь и вышел на улицу. Позвонил Помидору, получившему кличку за постоянно красное лицо, и Пете, которого на самом деле звали как-то совсем иначе. Считал их друзьями, они его — денежным мешком, с которым можно хорошо и бесплатно повеселиться.
Троица пошла знакомыми унылыми дворами в магазин. Купили водки и примчались в детский сад, где обычно и коротали вечера. Облака волной проплывали по небу, то накатываясь на мифические берега, то растворяясь бело-голубой пеной. Водка текла бурной неудержимой горной речкой, которую Слава перескочил в два прыжка; кончившись, потекла широко, но спокойно спиртом, купленным в частных домах и разбавленным на глаз у синей колонки, торчащей из земли, как скважина минеральной воды. Из этой реки Славу неоднократно вытаскивал Помидор, каким-то чудом удерживающийся на ногах, не покоряясь накатывающимся волнам, хотя никогда не занимался плаванием.
Спиртовая река через час или два превратилась для Славы в полноводную, широкую, тихую и спокойную, наполненную самогоном. Она и стала для него роковой. Он утонул в ней, не справился с течением. Захлебнулся своими же рвотными массами, как сказали врачи, осмотрев на следующий день бездыханное тело.
Он слишком далеко заплыл — как тот, кто до него носил имя Слава, и никого не оказалось рядом, никого, кто бы мог помочь ему, вытащить из этого тихого коварного потока, просто повернув на бок, — ни друзей, ни брата, ни отца. Их не было потому, что он их в тот день, как, впрочем, и во все остальные дни, с собой просто не позвал. Он шёл один по жизни, принимая за дружбу корысть, сторонясь истинной любви и заботы. Судьба повторилась, трагически повторилась, примета сбылась мистически. И видимо, сбудется ещё не раз, пока мощный и коварный поток живёт в самом человеке.
Голгофа Сибири
Дикие яблони, резкий обрыв. Речка тиха и спокойна. Надрыв, Чувство смятенья, трагедии давней Скрыто от всех прошлым веком. Печалью Мир там наполнен, и время былое Всем нам оставило что-то немое, Что не дано нам увидеть, но всё же Мы ощущаем там холод по коже… Люди без Бога в душе в день воскресный, Встав во хмелю, подпоясавши чресла, И не раскаясь в грехах первородных, В тех, что вершили они принародно, Сели верхом на коней и в обитель Монастыря Богородицы свитой Бесовской пришли не с иконой — С шашкою, кровью людской обагрённой. Храм поругав, колокольни разрушив, Место мольбы превратили в конюшни, Место святое — в ЗК, или «лагерь», Где убивали людей, — в ад ГУЛАГа. Тысяч людей, невиновных пред Богом, Уничтожали не пулей — природой: Пеклом, болезнями, зимнею стужей, Тяжким трудом и бурдою овсюжьей. Минуло время, но память людская Всё сохранила, поднялись вновь храмы. И словно слёзы людей убиенных, Здесь пробудился источник целебный. Стала для многих Голгофа Сибири Местом духовным, отдушиной в мире, Где продолжаются лагерь и зона, Где непохожесть считают позором, Где нет приюта душе человека, Только к тщеславию, к деньгам — не к свету Мир там идёт. И по злой воле рока Там, где был ад, теперь рай… но до срока…Я — декан СибАДИ
Стояла середина суровой сибирской зимы. Никто уже не помнил, когда она началась, и не знал, когда ожидать её конца. Природа была безжизненна — космический холод сковал всё живое. Вот уже неделю на улицах не было видно ни случайных прохожих, ни прогуливающихся вдоль витрин пар, ни собак и кошек, куда-то бредущих по своим собачьим и кошачьим делам. Город словно вымер. Редкие птицы грелись на электрических проводах и дымящихсяканализационных люках, похожих на кипящие гейзеры посреди снежной мертвой пустыни. На улице трещал снегом, пытаясь согреться, сам ефрейтор мороз да сновали туда-сюда дымящие железные кони, лишь изредка исторгающие из своего чрева укутанных, словно капуста, во множество одёжек людей.
По радио сообщали о ночных заморозках до минус тридцати пяти. Никто этому уже не удивлялся — для Сибири это в порядке вещей.
Наступил вечер. Валера загнал машину в гараж и быстро вошёл в дом. Крепость была у него добротная — из сосновых брёвен, источающих аромат живого хвойного леса, на массивном фундаменте, с высокими потолками и газовым отоплением. В доме было тепло и уютно. В газовом котле мелькал синий с оранжевыми язычками огонёк. Пламя завораживало, и ощущение крепкого уличного мороза быстро улетучилось. Стаканом крепкого чая Валера окончательно согрелся и уселся в кресло перед телевизором. Вечер прошёл незаметно, наступила ночь, и сон окутал его сладкой пеленой.
На часах было около двух ночи, когда с улицы позвонили. Валера нехотя встал, открыл входную дверь и, не выходя во двор, крикнул: «Кто там?» На том конце крика пьяный мужской голос попытался сказать: «Здрасуйте! Я — дикан сибди! Извинить пожал…» — но Валера прервал плохо различимую речь, крикнул: «Пошёл отсюда, алкаш!» — закрыл дверь, погрузился в постель и вновь явился к Морфею.
Прошло около получаса, и звонок прозвучал вновь. Валера, резонно негодуя, оделся, снял висящее на стене ружьё и вышел к воротам. Открыл их и взглянул на стоящего перед ним индивида. Человек этот выглядел весьма примечательно. На нём не было шапки, и он прятал на тридцатипятиградусном морозе уши и часть лысины в засаленную старую телогрейку, снятую, как казалось, с убитого немцами партизана ещё в сорок втором году. Ноги были обуты в старые рваные валенки явно не по размеру. Под нехитрым верхним одеянием поблёскивали шёлковый серый костюм и белая рубашка с галстуком. На лысине красовалась свежая гематома.
— Что надо? — спросил Валера.
— Извините, пожалуйста, — заговорил уже немного протрезвевший гость, — я — декан СибАДИ. Я не помню, как тут очутился, меня избили, отобрали одежду, и я очень сильно замёрз. Не могли бы вы отвезти меня домой? Я хорошо заплачу, но только дома — у меня отобрали и все деньги.
Валера подумал, что перед ним сумасшедший или запившийся алкаш, но видя, что тот действительно очень замёрз — руки были уже почти белого цвета, — Валера завёл его в дом. На свету пригляделся к внешности визитёра. Это был импозантный, ещё не старый мужчина с лоснящейся кожей, выбритым не позднее утра подбородком, белыми как жемчуг зубами. По всему было видно, что мужчина пьян, но внешность не выдавала в нем прожжённого алкошу.
— Ты знаешь, где находишься? — спросил Валера стоящего перед ним чудака.
— Нет, — ответил, растирая отмороженные руки, незнакомец.
— А как здесь очутился, помнишь?
— Не очень. Праздновали на кафедре защиту коллеги. Потом всё как в тумане. Куда-то ехал на автобусе, помню, кто-то меня ведёт под руку, я думал — жена домой. А потом меня по голове ударили. Сняли дублёнку и норковую шапку, забрали документы и деньги, надели вот это рваньё и выкинули на улицу. Угрожали убить, если пойду в милицию. Я шёл по незнакомым улицам, пока не замёрз, позвонил вам, вы меня прогнали. Потом я стучался к вашим соседям, потом ко вторым, к третьим, десятым, но все меня прогоняли. Только вы наконец впустили со второго раза.
— Ладно! Куда тебя везти?
— Домой! — радостно, с детской наивностью прикрикнул разодетый, как клошар, мужик.
Валера оделся, завёл машину и повёз натерпевшегося за сегодня деятеля науки домой. Мужчина немного согрелся, и сознание его опять погрузилось в пьяный угар. По пути незнакомец заснул, успев сказать адрес. Жил он на другом конце города. Отопитель работал на полную мощность и не давал морозу дотронуться до пассажира и водителя. Вскоре они были на месте. Валера позвонил в домофон. Радостная и обеспокоенная жена второпях, не успев как следует одеться, выбежала к подъезду встречать запропастившегося куда-то мужа.
Она долго благодарила Валеру за спасение любимого супруга и обещала помочь ему без проблем устроиться в Автодорожный институт, если он захочет. Валера сказал, что подумает, и, не взяв с них ни копейки, отправился в обратную дорогу.
— Институт… Зачем мне этот институт? Отучусь и стану таким же, как этот… Пьяным где-нибудь разуют да на мороз выкинут. Хорошо, если кто поможет, как я. Соседи-то вон мои помочь не поспешили. Проживу и без института — рабочие руки всегда в цене.
История эта не произвела особого впечатления на Валеру и осталась бы для него лишь очередным сном в ночи, если бы поклонник горячительного с соседней улицы не разгуливал всю следующую неделю в чуть великоватых ему дублёнке и норковой шапке. Свои обновки он вскоре пропил, и та странная ночь окончательно ушла в небытие.
Мысли из никуда
Бык-искуситель.
Японский голландец Чон van Хоу.
Думать о грустном — жить в нём.
Не надо быть геем, если ты не Элтон Джон.
Писательское: Сборник б.я.е.
Он идеально вписался в CLK.
У тебя занять? / Тебя занять?
Демократия
Демократию придумали дикари и варвары. Готы, кельты, прочий сброд и бездельники пришли однажды в Европу, увидели Эйфелеву башню, Колизей, собор святого Петра и решили продлить свою туристическую визу. Римляне были против, но супротив поножовщины не вывезли и пошли на мировую.
Тем более что лозунги варваров-демократов «Пролетай, пролетарий!» и «Грабь ограбленных!» были многим римлянам весьма по душе.
Постепенно готы превратились в степенных англичан и французов, но богиня Гигиена им так и не покорилась, а Бахус сдался. Стали варвары в костюмах убитых англичан ходить нетрезвыми и чуть что — доставали свой длинный острый топор и орали: «Я тэбы зарэжу! Мамой клянусь!» С ними никто не мог справиться, даже их президенты. Поэтому пришлось создать им Думу, чтобы те, кто мог думать, думали, и Зрелище — телевизор, чтобы те, кто думать совсем не мог, что-то постоянно смотрели, иначе они начинали хвататься за топор без повода и рубить по-баклановски.
Даже в тюрьмах тиви поставили. Поэтому варвары, у кого его нет дома (а нет его у многих), ходят на митинги и собрания политические, чтобы попасть в тюрягу и там насмотреться телевизора вдоволь, да подлечиться, да образование или профессию получить.
У нас в СИЗО голубых (экранов) нет, а люди у нас тоже хотят зрелищ. Вот поэтому у нас и демократия не прёт — люди боятся на митинг идти, чтобы их от ящика домашнего не оторвали.
И чтобы у нас демократия наконец ожила, нам надо сначала перерезать тех, кто перерезал римлян, потом ходить везде пьяными (это мы уже имеем) да построить качественные тюрьмы, где можно и фильм посмотреть, и диссертацию защитить, и подкачаться, как Шварц.
Доброе дело
С Нового года завалялась у меня бутылка. Основательно початая, или — если оптимистично — наполовину заполненная чем-то прозрачным, слегка пенящимся при тряске, с резким запахом, чуть щекочущим в носу.
Кто ополовинил её, уже и не вспомнить. То ли заходили.
— с радио Маяк
— Коротаев, Притуляк
Апосля посленовогоднего банкета, дабы обсудить былое и думы мирские, то ли кто-то отлил чуток в санитарных целях, то ли уборщица не удержалась от соблазна и приложилась к вожделенному скучающему сосуду после своей вечерней влажной мессы. Но факт налицо — в бутылке осталось не более пары-тройки стопок, что, впрочем, тоже весьма и весьма недурно для любящего окропить живой водой свои члены создания божьего.
Люди подобрались вокруг всё больше непьющие, хотя у многих лица запечатлели былое и ещё не совсем ушедшее в небытие мастерство домашнего и подъездного бармена.
Бутылка простаивала, и я уже было порывался сунуть её в округлый пластиковый предмет, стоящий на полу, украшенный чёрным полиэтиленовым пакетом, ворохом мятых бумаг и рваных разноцветных листочков.
Как редко мы смотрим по сторонам! А ведь стоит только захотеть сделать хорошее — и повод сам просится нам в руки.
В тот день повод совершить благой поступок и сделать широкий жест пришёл ко мне в лице моего коллеги Владлена Кучукина, милого парня лет тридцати пяти, возраст которого определить с первого взгляда было весьма затруднительно.
Проходя по коридору мимо стеклянной стены, за коей копошилось с десяток наших милых дам, любуясь искусственным галечным пляжем, выложенным городским сумасшедшим на пятом этаже кирпичной хрущёвки, я услышал тихий зов. Прозвучал он как-то необычно: негромко, сдержанно и даже застенчиво.
— Померещилось, — подумал я, но всё же чуть замедлил шаг и времени бег.
— Константи-и-ин… — вновь прозвучало позади.
Я остановился и слегка обернулся. Из темноты коридора ко мне приближалось нечто. Не то тройка хромающих гнедых с посечёнными острым камышом копытами, не то мини-паровоз, флегматично несущийся по единственному монорельсу, не то официант, желающий преподнести мне изысканный хрустальный бокал с разогретым на медленном огне и приправленным дорогим мускатным орехом бабулиным самогоном.
В общем, это был он — мой собрат, коллега по оружию, такая же, как и я, невинная жертва цивилизации — Владлен. В руках он нёс кружку, судя по испарениям, с кипятком или жидким азотом, которую то и дело ловко перекладывал из руки в руку.
Подойдя поближе, Владлен заговорил. Не помню о чём. Похоже, рассуждал о магнитострикции купрума или о промышленных противонакипных аппаратах на ТЭЦ, хотя скорее всего о чём-то совершенно ином. Слушать его и улавливать суть было непросто — воздух в метре от парня становился непригодным для живых существ. Судя по густому выхлопу, мой коллега закончил разговляться после Великого поста за четверть часа до начала рабочего дня.
Пару минут выдержав натиск алкогольного кумара, я кивнул и без слов оставил визави в одиночестве — кайфовать дальше, а сам направился куда-то вдаль, унесённый журчащим ручейком и лёгким весенним бризом, чуть не свалившим меня с ног.
Вскоре сознание прояснилось и тут же погрузилось в одну-единственную думу. Как верный ленинец, после такой знаковой встречи я мог помышлять только об одном. Мозг был загружен всего лишь одной мыслью. Как полушария коровы заполняются до краёв небольшой скирдой сена, так и мои извилины занимало лишь одно желание — желание помочь, спасти, остановить собрата, уберечь его, вырвать из пасти зелёного змия и вернуть в мир живых непьющих мертвецов.
Но как? Сказать всё, что я думаю о его пристрастии, прямо, в лоб? Пьющие люди очень ранимы, и реакция на мои слова могла быть непредсказуемой — от ушуистского ката до кататонического ступора и ортостатического коллапса.
Передать свои опасения через кого-то? Как-то несерьёзно. Ещё анонимку написать, мол, «хватит бухать, гад» и подбросить под дверь — куда ни шло, но чтоб передавать через кого-то — уж очень несолидно.
Пока я так перебирал в голове узелки верёвочки, на глаза мне попался стеклянный початок с сине-золотистой этикеткой и дозатором. В голове тут же прозвенел маленький колокольчик.
— Владлен, зайдите ко мне, как будет свободная минутка, — произнёс я по местной переговорке.
— Разумеется, Константин, — донеслось с того берега Вселенной.
Я достал бутылку из шкафа, стряхнул с неё вековую пыль и аккуратно поставил на самый край стола, создав арт-инсталляцию «На краю жизни».
Дверь открылась. На пороге возник Он. Высокий чёрный цилиндр, белый завитой парик, фрак, трость с набалдашником из кости мамонта и зуба кашалота, лаковые бежевые ботфорты и ятаган на поясе. Хотя нет — растянувшийся на два-три размера свитер, несвежая рубаха, боты с «толкача», чёрные без отлива штаны, очки и красная харя сразу за ними.
Технические рукопожатия. Обмен нефункциональными деловыми рационализаторскими предложениями.
— Влад! — начал я. — У меня тут завалялось полбутылки водки. Тебе не надо, случаем? Может быть, аппаратуру протирать… — чтоб не обидеть собеседника, добавил я. — А то я уже выкинуть намереваюсь.
— Конечно, пригодится! — оживился Владлен, уже пару раз бросивший голодный взгляд на край стола, схватил бутылку и прижал, как родную, к груди.
— Только аккуратней неси, Влад! А то подумают что-нибудь нехорошее. У нас тут вообще пьющих не любят, ты давай больше о работе думай, — произнёс я и одарил коллегу искренним добродушно-патерналистским взглядом.
— Хорошо, — ответил Влад и с лицом, озарённым лучами восходящего солнца, поспешил в свой кэб.
На следующий день парня почему-то уволили.
— Не успел!.. Не успел!.. — корил я себя. — Не смог уберечь от беды! Как же так?!
Ничего поделать я всё равно больше не мог, и вскоре грусть моя сменилась сначала безразличием, а затем и покоем. Ручей службы зажурчал снова и побежал дальше, не встречая на пути своём высоких порогов проблем и каменных уступов неувязок.
Незаметно для меня наступил очередной хеппи нью еар и очередной халявный банкет, на котором было всё — нарисованные омары, фантазийное «Шато-Бордо» 1865 года, текила, бренди и коньяк, разлитые из одной ёмкости. Была и водка.
Взглянув на одну из бутылей, я почему-то вспомнил о Владлене, и оказалось, что моё воспоминание прозвучало каким-то чудом вслух.
— Ааааа… Этот алкаш… — послышалось со стороны столика, где кучно собрались дирибасы. — Не зря я его тогда уволил. Пьяный шатался по коридору с початой бутылкой водки и ещё уверял, что технику протирает.
Справа и слева послышался гомон.
— Наглец!..
— Даааа…
— Алкаш, ёп…
— Бухарь…
— Вот гад!..
Я промолчал. Добавлять что-то было уже бессмысленно. Воистину, делая добрые дела, старайся никому ими не навредить. Я помолчал ещё немного, взглянул по сторонам. Равнодушие и презрение повисло в воздухе и на лицах окружающих. Взял бутылку, откупорив, щедро налил содержимого соседям по столу и с улыбкой сказал: «За всё доброе и хорошее, друзья!» — да тихо выпил за Владлена и вместо него.
Мысли из никуда
Эпитафия неизвестному еврею: имя твоё бессмертно, подвиг неизвестен.
Взлёт грехопадения.
Слава Догу.
Религия умрёт, когда наука родит абсолютную истину.
Союз читателей России.
У Йети есть жена и дети?
Работа, приносящая удовольствие, зачастую только им и вознаграждается.
Наших дней Дориан Грей
Водка подходила к концу. Мы тихо сидели на берегу Иртыша в центре города напротив областной администрации в надежде узреть кого-нибудь из руководства региона. Лето ещё было в самом разгаре, и ночь выдалась теплая. Не спеша беседуя, мы тихо выпивали в ночном полумраке, тревожась, что кончается запивон. Наш берег плыл вдоль реки, свет костра улетал по спокойной глади смешивающихся на наших глазах Оми и Иртыша. Костер быстро прогорал, и нам приходилось постоянно подбрасывать в него ветки, рассыпанные по берегу весенним паводком.
— Пойду схожу в туалет! — сказал Бидон и скрылся в полутьме зарослей ив. Прошло пять минут, а он всё не возвращался. Через десять минут мы окликнули его — ответа не последовало. Через пятнадцать минут мы обшарили заросли, но Бидона не обнаружили — видимо, он аннигилировал. Особо мы не волновались — корешок наш не первый раз уходил по-английски. Допили водку, сходили по нужде, заодно потушив костер, и пошли пешком домой по ночному городу. На улицах ни души. Отсутствие людей меня всегда радовало. Казалось, что весь мир в этот момент принадлежит лишь мне. Ночные прогулки я и мои друзья могли себе позволить. Мы учились в институте, и никто из нас не был ещё обременен ответственной должностью, а в институт можно было и не ходить — учебный год ещё не начался. Можно было не ходить, даже если бы он и начался.
Бидон был крепкий тип. Роста среднего, с квадратным лицом и телом — иногда мне казалось, что с такой же кубической душой. В целом положительный человек, но любил мышкануть что-нибудь, особенно деньги. Видимо, выпивка на халяву казалась во сто крат приятнее, а к приятному, как известно, стремится каждый уважающий себя человек.
Частенько Бидон неожиданно для всех вставал, говорил нечто вроде «сейчас приду», «пойду-ка я куплю сигарет» или милое «пройдусь…» и уходил в только ему ведомое место. Потом мы узнавали, как он отлично провел время после расставания с нами: выиграл пятьсот рублей в казино и пропил их, выиграл тысячу на бильярде и промотал её с маркером, обманул лоха на полторы тысячи и незабываемо их прогудел с бывшими одноклассниками. С нами почему-то он никогда так не веселился. Видимо, с нами всегда была тоска и мрак. Да и сами мы давно уже ему опротивели, и наши рожи казались свиными рылами. Другого объяснения его поведению не нахожу.
Так вот, однажды Бидон вышел с вечеринки. Ушел студентом по-маленькому в кустарник, а вернулся через два года голубым беретом из гор Дагестана. Столь долгому отсутствию Бидона никто не удивился. Просто выпили за возвращение корешка.
Бидон и до армии был не очень-то разговорчив — после же всё больше пил и курил да думал думу, выгрызающую ему весь мозг, что-то постоянно анализировал и припоминал, вспоминал и переживал снова и снова в своём квадратном, по форме черепа, мозгу. Глаза его в такие моменты упирались в одну точку, тело цепенело. Возможно, он ни о чём и не думал — просто так ему было кайфово, так он отдыхал, отдыхал от жизни, как будто тяготившей его чем-то.
У Бидона было два школьных дружка. Один носил хорошее победоносное имя, второй чем-то напоминал жестами и наружностью дворового пса. Бидон после армии крепко с ними сдружился на почве злоупотребления алкогольной продукцией, но узнали мы об их крепкой мужской привязанности (не подумайте ничего плохого) позднее, как и о том, что злоупотребляли они не только водочкой.
Первый дружок Бидонов был весьма весёлым и приятным в общении человеком. Вся человечность в нём растворялась парой-тройкой стопок водки, как растворялось хлоркой пятно от упавшей котлеты на белой рубашке. После чекана водки человек этот становился неуправляемым, асоциальным, как стая бешеных псов.
Корешок Бидона с оперативной кличкой «Собака» был более умён — не выставлял свою агрессию на всеобщее обозрение, однако был не менее омерзителен даже в трезвом уме. К тому же он употреблял тяжёлые наркотики, что не является признаком высокоразвитости интеллекта.
Всё шло своим чередом: Бидон и кореша пили, курили, веселились. Затем просто пили и курили. Позже стали курить и на бодрячке веселиться. Чуть позже просто курить. Затем начали колоть и веселиться. И в итоге просто колоть…
Разговоры не помогали. Бидон становился прожжённым нарком. Несколько раз мы встречали его в состоянии реактивного наркотического полёта. Он говорил то же, что и все такие типы: «Да хоть щас завяжу и больше не буду! Я не наркоман! Чуть-чуть для бодрячка покурили кокса…» Но верить в это становилось всё труднее, хотя многие ему всё ещё одалживали «на лечение больной бабушки», «на отмазку от милиции» и прочие первоочередные душещипательные дела наркоманов. Долгов он не отдавал, и вскоре круг потенциальных кредиторов резко сузился.
И вот свершилось — он сел. Но не в лужу, а на зону. Мастер спорта по альпинизму. Ученик лучшей и старейшей гимназии города, студент педагогического вуза, «голубой берет» и… зэка Бидон! Невероятно причудливая траектория жизни. Браво, Бидон!
За что его закрыли, мы не знали. Известно было лишь, что когда-то давно он «открыто похитил пять тысяч рублей у официантки в кафе». Проще говоря, подбежал, вырвал из рук деньги и убежал. Его изловили и пожурили. Дело как-то уладили. В этот раз, видимо, все было гораздо серьёзней. Впоследствии при вопросе, за что он подсел на тюрьму, Бидон просто и обыденно произнёс следующую фразу: «Отобрал у лоха ноутбук — поймали…» Прошёл год, затем второй. О Бидоне не было известий, и память начала стирать о нём воспоминания. Как будто безымянный электрик методично веерно отключал питание на участках мозга, зафиксировавших подвиги героя. Все контакты его были удалены из телефонов, записных книжек, из подкорки и сознания.
И вот случилось то, чего я никак не ожидал и где-то в глубине душе страшился.
Пятница, вечер, около десяти, звонок на сотовый, неизвестный номер… Беру…
— Алё, алё…
— Привет, как дела? — заговорил мужской голос в трубке, почти не разделяя слова.
— Здорово, неплохо…
— Ты меня, наверное, не узнал? — продолжал голос.
— Нет, не узнал.
— Это я, Бидон.
— А, привет, Бидон.
Слова мои прозвучали как-то сухо и обыденно. «Да и ладно», — подумал я.
— Встретиться не желаешь?
— Да нет.
…В общем, встретились.
Внешний вид Бидона изменился не очень — он не постарел и не помолодел, не поправился и не похудел. Армия, бухло, наркотики, зона его как будто законсервировали. На это обратили внимание все. Он же обратил внимание, что мы сильно изменились. Ещё бы — пока мы жили, он застрял во времени и не трогался с места. Пострадала от путешествия во времени лишь его одежда. На ботинках красовалась сантиметровая дыра, в куртке явно кто-то красил потолок, футболка была, похоже, трофейная… ещё с армии.
Я обсуждал с Бидоном в тот день только книги. Особенно мне понравилась беседа о Дориане Грее. Только человек, познавший тяготы, способен понять глубину этого произведения, только не сломленный судьбой способен осознать всю вечную современность этого текста Оскара Уайлда. Бидон вроде бы соответствовал сей характеристике — пострадал от своей глупости, но не был ею сломлен.
Бидон говорил, что завязал со своим прошлым, и все присутствовавшие в это почти поверили. «Ещё пара встреч, и мы станем старыми друзьями», — подумал я.
После обсуждения литературы и других высоких, еле уловимых материй, мы перешли к продуктам более земным — водке, пИвку и сигаретам. Выпили, перекурили, снова выпили, покурили… поговорили. Он плакал и просил простить за предательство, мы молчали. Слезам мужчины нельзя не поверить. Было ощущение, как будто выздоровел находившийся долгое время при смерти друг. Все были веселы и полны ностальгии. Договорились встретиться опять на следующей неделе.
Бидон всем предлагал помощь — кому в установке пластикового окна, кому в поклейке обоев.
— Установщики делают всё абы как — то прикрутят не надёжно, то пропенят плохо. А я за ними пригляжу, всё сделают как надо! — говорил он со знанием дела и с неподдельной заинтересованностью.
Предлагал и прочую помощь во внутриквартирных делах.
— На зоне я всему научился, — гордо говорил он.
Фраза прозвучала чуть двусмысленно, но в тот момент на это никто не обратил внимания. Эндрю захотел пригласить его на поклейку обоев, да жена была против. На том и порешили: как будет дело — сразу зовём Бидона.
Перед расставанием прогулялись. Шли к остановке, провожали Бидона, разговаривали.
— Кот, дай телефон! — неожиданно крякнул Бидон.
— На твоём кончились деньги? — с лёгким недоверием поинтересовался я.
— Вроде того…
— На, возьми, друг!
И протянул ему сотовый.
Бидон, напившись водки и, как мне показалось, плохо соображая, долго с ним возился. В итоге никому не смог позвонить и отдал назад. Я подумал, товарищ просто его рассматривал. Любовался… Или не совладал с современной техникой.
Мы распрощались как старые друзья. В душе поселились райские птицы…
Дома я поздоровался с дорогими френдами — телевизором, его пультом и диваном. Пообщавшись с друзьями минут пятнадцать, встал, переоделся, помыл посуду и сел за компьютер поработать сантехником «Супер Марио». Машинально взял телефон и проверил баланс. На счету по моим расчётам не хватало около пятидесяти рублей. Разряд молнии прошёл через всё тело. Не до конца веря своей догадке, позвонил в справочную. Оператор долго не брал трубку. Наконец-то мужской голос поинтересовался, что угодно сеньору.
— Посмотрите, пожалуйста, не было ли мобильных переводов с моего номера за последние два часа! — возбуждённо произнёс я.
— Был, — бесстрастно ответил голос.
— На какой номер?
Я слышу номер и кричу: «Вот аааааууукккккссссссс, Бидон! Это его номер!» Звоню Бидону — телефон выключен. Больше Бидона я не видел. Но одно я понял точно: он действительно многому научился на зоне.
Мы распрощались как жулик и терпила. В душу насрали…
На прощанье я отправил СМС: «Ты бы хоть за мобильный платёж спасибо сказал! Ну и мразь же ты, Дориан наш Грей!»
Мысли из никуда
В России не долго запрягают — уже приехали.
Сначала открываются двери чужие, а потом пинком ты высаживаешь свою.
Человек — овощ, скрещённый из семян ангела и беса.
Хотел стать ей отцом, а стал сразу дедом.
Я люблю день, потому что вырос во мраке.
Сын Лолиты Милявской Серго Лолитомилявский.
Вырублено поленом из топора.
Зеркало мастерства
День пролетел незаметно. Когда занят любимым делом, времени всегда не хватает. Он посмотрел на закат, посылающий в окно свои последние на сегодня красно-оранжевые стрелы, и стал собираться домой. Закрыл краски, снял фартук, опустил кисти в баночку с водой и подошёл к зеркалу. Никто давно не отражался в старинном зеркальном стекле, и оно незаметно покрылось слоем пыли и налётом медленно испаряющихся с мольберта масляных красок, коими пропахла мастерская. Пол, стены, его одежда и, казалось, даже само зеркало источали аромат творчества — неповторимый запах, навевающий образы давно минувшего, когда-то увиденного им. Он взял кусок материи и стал смахивать пыль, пока не увидел в зеркале часть своего отражения.
Зачастую талант и мастерство прорастают на голой, иссушенной ветрами почве, солончаке или каменных уступах. Талант пробивает себе дорогу через невзгоды, опасности и жизненные перипетии, вырастая в огромное мощное дерево, пуская корни, сея семена, вызывая к жизни всё новые и новые прекрасные качества человеческой души. Вот и он, появившись на свет в семье безземельного крестьянина на рубеже веков, от рождения ничем не обладая, за полную разнообразных событий жизнь превратился в Народного художника России, на живописных полотнах уместив восемьдесят восемь лет своей и окружающей жизни, неповторимые виды природы Сибири, её бескрайние просторы, мощь и спокойствие облаков, рек, лесов и долин, ушедших в века людей и исторические личности, фасады разрушенных, умерших зданий.
Начал рисовать в двадцать пять, уже многое в жизни повидав. В семнадцать сбежал из дома, воспротивившись воле отца и нанявшись на строительство Мурманской железной дороги. Чудом избежал самосуда толпы, грабителей и тифа, в Гражданскую по принуждению служил в армии Колчака, откуда перешёл на сторону алтайских партизан, служил в Красной Армии. Может быть, именно эти непростые, ранящие душу события оставили на его лице печать грусти, тоски, сожаления и призрачной надежды, которые художник пронёс через всю оставшуюся жизнь.
Уже будучи состоявшимся, известным творческим человеком, сохранил в сердце скромность, а в облике самобытность. Его усы до сих пор производят неизгладимое впечатление. Ученики до сих пор творят, наследие живо и радует своей искренностью, неповторимостью. Он со своих полотен и поныне вселяет уважение к себе и своему труду.
Кондратия Белова часто называют «патриархом сибирского пейзажа». Вместе с Алексеем Либеровым ему удалось главное: точно передать маслом на холсте масштаб, мощь и силу сибирских воздушных фрегатов — необъятных, уходящих за линию горизонта бескрайних облаков. Белов, несомненно, справился с этой задачей великолепно.
Излюбленным приёмом художника было совмещение на картинах неба и воды, в которой опять-таки отражалось небо. Так, и без того огромный голубой небосвод заполнял почти весь холст. «У него в соавторах сама природа» — так иногда говорили о Белове, одновременно коря его за вторичность и тут же отдавая должное мастерству художника. Ведь для того чтобы работать с таким соавтором, необходимо большое терпение, высочайшее мастерство, которого добиваются лишь годами упорного труда.
Писал Белов и на опасные в советские времена политические темы: затрагивал тему Колчака и его роль в Гражданской войне, правда, лишая свои работы философской сути и исторического анализа. Часто певец сибирской природы изображал на картинах облик уходящего — взорванные когда-то соборы и часовни, снесённые старые бревенчатые корабли, по воле случая выброшенные на берег в центре города, засаженные многоэтажными домами пустыри и небольшие скверы.
Талант Кондратия Белова был прост — ему хотелось выразить себя, запечатлев то, что дорого сердцу: пейзажи и места, где он был когда-то по-настоящему счастлив. Мастерство же было сложно и многообразно, взращено годами поисков, тысячами зарисовок и сотнями картин, месяцами размышлений и внутренних проб. И он добился мастерства; мастерства, не выхолащивающего из него все силы, а, наоборот, их придающего; мастерства, позволяющего быть раскованным, уверенным в себе, изобретательным, находить гениальное в опавшем листке, птице или обыденном, висящем на стене запыленном зеркале. Только такое мастерство может радовать, и лишь годы труда им вознаграждают искателя — вознаграждают способностью видеть гениальное абсолютно везде.
Однажды он взял кусок материи и стал смахивать пыль со старого зеркала, пока не увидел в нём часть своего отражения. Заметил в зеркале себя и тут же ощутил ещё кое-что — образ своего великого таланта. Не полностью протёр зеркало ладонью, прикоснувшись к его гладкой поверхности, и тут же сделал то же самое жёсткой кистью на своём холсте, оставив потомкам свой гениальный в простоте исполнения и глубокой философской сути автопортрет.
Дом с мезонином, или Из князя в грязь
Отправился как-то Филипп Филиппович на грязи, но только не для того, чтобы поправить здоровье, отдохнуть и набраться сил — совсем не для этого. Да и не по своей воле — туда его препроводили, подгоняя кирзовыми сапогами и усыпанными зарубками революционными прикладами. Обратно в свой дом, к любящим жене и детям, Филипп Филиппыч уже не вернулся. Путь назад — из грязи в князи — ему уже было не суждено пройти, возможно, потому, что дорогу размыло красными дождями, а скорее всего потому, что такого пути просто нет и не может быть.
Осторожный историограф пишет: «Его плодотворную деятельность оборвала революция». Фраза эта поражает низменным цинизмом, лицемерием, раболепием и коленопреклонением перед системой, воздвигнутой на костях миллионов мыслящих существ. Эти слова сознательно нивелируют драму человека, драму реальную. Не выдуманную и с ветерком в голове поставленную на сцене провинциального театра, а драму нашего современника, дышащую, кричащую, живую.
Филипп Филиппович, к сожалению для него и его семьи, был исторической личностью из плоти и крови, а не булгаковским персонажем, созданным из пера, чернил и бумаги. Он не был врачом сановных коммунистических особ, носил немецкую фамилию Штумпф, к тому же занимался предпринимательской и общественной деятельностью, был весьма неглуп, остроумен и образован — в семнадцатом году даже один пункт из списка уже означал смертный приговор.
Если бы Филипп Филиппыч обладал каким-нибудь одним изъяном с точки зрения новоявленной пролетарской власти, его бы тихо и быстро расстреляли. За свои многочисленные таланты ему пришлось принять мученическую, нескорую смерть. Так ему отомстили, но не судьба, а люди — завистливые и ленивые, те, что хотели всего и сразу и желательно даром, те, что не умели и не хотели работать ни руками, ни над собой.
Пинки и плевки были ничем по сравнению с разбитой челюстью, которую до срока нехотя покинули белые ухоженные зубы; с гематомами на лице, появившимися «вследствие падения с высоты собственного роста»; сломанными пальцами рук, изодранными аккуратной окладистой бородой и знатными усами. Вот так грубо, безжалостно, жестоко революция оборвала его плодотворную деятельность, а продержав полгода в сыром подвале тюрьмы, где немолодой уже человек превратился в трухлявый пень, выбросила на улицу, оставив наедине с сибирским крещенским морозцем без еды и медицинской помощи. Вот так она его уничтожила — без единого выстрела, сэкономив даже на миске баланды, на пуле и на похоронах.
О семье Штумпфа мало что известно — это ещё одна трагедия ни в чём не повинных людей, обобранных до нитки и оставленных умирать новой властью, обагрявшей ужасно долгие семь десятилетий свои стяги кровью стойких и несогласных или просто иных. Это трагедия, полная любви, надежды, слёз и испытаний.
Имущество Штумпфа конфисковали, а конфисковывать было что: у землевладельца, крупного промышленника, конезаводчика, депутата уездной думы, мецената, просто предприимчивого, активного и русского душой человека, заботящегося о благосостоянии родного края и его жителей, было много добра… И почти не было зла.
Был и собственноручно построенный дом — дом с мезонином, своей наружностью показывающий характер создателя. Дом до сих пор стоит на берегу реки и хранит память о первом хозяине. Его стены источают аромат и теплоту сосны, широкие окна не дают миру разделиться на «внутри» и «снаружи», шпили на крыше заставляют взглянуть вверх и задуматься о вечном, тонкая резьба ставен и оторочки фасада до сих пор рождают музыку, напоминают о полёте души Филиппа Филипповича Штумпфа, о полёте, который так внезапно оборвала революция одна тысяча девятьсот семнадцатого года от Рождества Христова.
Мысли из никуда
Ни дня без строчки. Хотя бы чужой.
Заряд приятной усталости после уик-энда.
Мечты всегда слаще, и в них хочется уноситься.
Кукольный мозг / Пластиковый мозг.
Пробил пьянкой брешь в литературе / Пробил чужой пьянкой брешь в литературе.
Консерва превалирует на столе.
С/Х юмор: У этого человека плохая почва.
Как пропивался талант
Талант прицепился ко мне, когда я был ещё крайне юн. Организм был молод, ослаблен, не привит, иммунитета к таланту не имел ни наследственного, ни приобретённого, поэтому талант легко проник в мое беспомощное, хлипкое тельце и распространился с неимоверной быстротой, пустив корни в мозгу, руках и сердце да заслав метастазы в ноги и систему размножения.
Руки мои талант подло и вероломно незаметно для всех подменил на золотые (интересно кому достались мои кривые и никудышные?), ноги — на чужие ноги танцора и бегуна на короткие дистанции; мое маленькое, аккуратное сердце вдруг оказалось большим, широким, пышущим добротой, состраданием и верой в чудеса; мозг функционально стал больше похож на электронно-вычислительную машину; о половой системе и говорить стыжусь — по всей вероятности, она была позаимствована талантом у буйвола или арабского скакуна, впрочем, я не сравнивал, и, надо признать, что это чистого кислорода экстраполяция.
Поначалу талант почти никак не проявлял своего пагубного на меня влияния, лишь изредка вызывая во мне приступы недетского рвения к уборке дома да судорожные потуги к самоличному чтению энциклопедии «От А до Я». Естественно, поначалу родители не могли нарадоваться, но потом забеспокоились — мол, что же это ты, сынок, не идёшь играть на улицу? На подобные реплики талант реагировал молниеносно: моими устами категорично заявлял, что на улице одни полудурки, и заставлял меня третий раз листать пятый том Энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
Моими кумирами уже в детстве талант насильно сделал дедушку Ленина, который, строго улыбаясь, почему-то постоянно косился на меня с картины на детсадовской, а затем школьной стене; великого китайского революционера Сун Ят-сена, чьё имя носила улица, на которой я проживал в крупном сибирском городе с древним названием Асгард Ирийский; да моих мамулю с папулей, нёсших народу по мере сил соответственно доброе и вечное в районном кинотеатре под лицемерно-пацифистским названием «Мир» и разумное в областной психиатрической лечебнице.
Чтобы окружающие ничего не заподозрили, талант всё же выводил меня иногда на прогулки и заставлял общаться с парой местных ребят: с так называемым «Лупензоном» — местным парнем, одарённым умом от природы и линзами на минус двенадцать от окулиста, да, видимо, с потомками самодержцев всероссийских — братьями Д. и М. Романовыми, впоследствии не дождавшимися посадки на престол и севшими на кокаинум, а позже на зону.
Когда я подрос, талант развился до предпоследней стадии так, что стали видны его клинические признаки, и я начал не на шутку корчиться от всевозможных болезненных ощущений. Сначала талант заставил меня стать круглым отличником, выступать на каких-то олимпиадах и смотрах, участвовать в лыжных пробегах, посвящённых годовщине основания рабоче-крестьянской Красной Армии, за что я не раз получал из чувства примитивной зависти от восторженных, но не заражённых талантом математика или химика коллег по школе в нос, в глаз и в зуб.
Уже в этот период мой организм начал сопротивляться разрушительной деятельности таланта — я начал активно курить, чтобы сигаретным дымом изгнать талант из своих чресел, как изгоняют чёрта дымом тлеющего ладана. Курение и вправду помогло, и талант на пару лет ушёл в анабиоз. Я стал было возвращаться к нормальной жизни постсоветского подростка, как вдруг талант дал рецидив и с удвоенной силой начал наносить мне всё новые удары. Сначала он обманом и хитрыми уловками загнал меня в секцию карате, где мне в первый же день и на мне же показали весь арсенал болевых и удушающих приёмов, удары по корпусу, подсечки, всевозможные маваши и гери, уработку нунчаками и прочей неславянской утварью. Говорят, что карате — это философия. Признаюсь я этого не ощутил. Похоже, философия у них шла в конце — сразу после получения чёрного дана.
С карате было покончено, но талант продолжал свою деструктивную деятельность. Непродолжительные мучения меня ожидали в секциях обкачки и бокса, плюс пять лет я нестерпимо страдал от занятий спортивной гимнастикой. Именно там мои незадачливые коллеги, так же как и я бьющиеся в конвульсиях на перекладине, козле и кольцах, познакомили меня с хорошими обезболивающими — пи́вком, водочкой и винцом. Эти лекарства я стал применять регулярно, и боли, вызываемые талантом, чуть отступили.
Шла активная фаза пубертатного периода, когда произошло непредвиденное. Талант ведь, как и грипп, опасен осложнениями, а не сам по себе, и осложнения эти не заставили себя долго ждать. На фоне моего интереса к противоположенному полу талант присосался к сердечной мышце и рукам, вынудив их овладеть в совершенстве несколькими музыкальными инструментами для сочинения и исполнения гимнов и любовных сонетов. Я держался до последнего: гитара и фортепиано пали перед моим мучителем, но когда талант взялся за аккордеон и балалайку, я не выдержал и ответил таланту жёстко и асимметрично — крепко запил и пристрастился к Мари-Хуане. Спирт и тетрагидроканнабинол чуть смирили бушующую стихию, но вызвали аллергическую реакцию — повлияли на рассудок, в результате чего со мной стало тяжело общаться из-за проявившейся склонности к мордобою.
Я всегда мечтал служить в армии, хотя никто из моих родственников не отличился на полях брани, лишь дед по материнской линии, кажется, был застрелен гитлеровцами где-то под Ельней. Талант вмешался и здесь, растоптав мою мечту. Как я ни упирался, но талант своими силами пропихнул меня вместо танкового института в педагогический и дотянул-таки до получения диплома, заставив сдать экстерном пятый курс, чем окончательно сломал мне жизнь. Как я ни противился, но талант извивался во мне, как мог, — возвёл на экономический, а затем на юрфак, потом глумился надо мной в магистра — и аспирантурах. Из последних сил я вливал в себя декалитры спиртного, чтобы хоть как-то осадить зарвавшуюся гадину.
Приводы в милицию и вытрезвитель стали постоянными, при этом талант тоже не сдавался и устраивал меня то на одну, то на две работы сразу, выжимая из меня параллельно научные статьи да заставляя с болью в сердце кряхтеть над авторскими заданиями для моих юных, но весьма уже ничего учениц в школе и старых толстых асексуальных баб на заочке в педе и паровозной академии.
Жизнь шла своим чередом. Я уже почти смирился со своим недугом, не оставляя меж тем попыток от него избавиться. Был я постоянным дегустатором новой алкогольной продукции и различных способов усыпить талант чем-нибудь психотропным. Обо мне пошла недобрая, но всё же хоть какая-то слава — стали интересоваться, чем да как дёшево и сердито уделаться; где купить, как накрыть и приготовить; стали приглашать в качестве эксперта, бывалого и знатока. Но я-то знал, что все эти приглашения пропитаны фальшью, лицемерием и корыстью. Люди хотели побыть в компании не со мной, а с талантом и тоже его подхватить, а на меня им было абсолютно наплевать.
Но однажды всё изменилось. Осенним субботним утром я, как обычно, встал часов в десять и отправился в магазин прикупить различных лекарств, ведь в выходные талант особо зверствовал. Встретив знакомого — счастливого парня, которого талант не зацепил и посему тот каждый день весело с радости надирался, мня себя ни много, ни мало Веней Ерофеевым, я налил два стакана порто. Выпили. И тут я ощутил нечто необычное, нечто из детства, нечто совсем другое, давно забытое, почти уже стёршееся из памяти. Глаза мои открылись, и мир предстал в ином свете. Всё, что раньше было невыразимо, стало вдруг ясным, чётким и простым, то, что раньше изнутри на меня давило, вмиг ушло.
— Похоже, таланта нет… кажется, я наконец-то его пропил… — осторожно шёпотом, чтобы не сглазить, сказал я своему корешку.
— Талант не пропьёшь! — ответил тот со знанием дела, хотя чаша с растворённым талантом до него дошла в детстве уже пустой.
— А я смог! — сказал я с радостью и восхищением в голосе и, бросив лекарства, как отпихнул когда-то костыль исцелённый Христом калека, поспешил домой.
Я шёл, почти летел и явственно ощущал перемены в себе. Я чувствовал себя вновь здоровым и могучим, брутальным и сильным, уверенным и живым, способным на всё и даже больше. В первую очередь, придя домой, я сжёг партитуры, третий том «Мертвых душ», разбил о стену гитару и долго ломал пианино, пока то не превратилось в розоватую груду, напоминающую наполовину ощипанного дикобраза. На следующий день меня выперли из аспирантуры, из институтов и школ, потому что туда берут только больных (талантом) людей — здоровым вход заказан. Я был вне себя от счастья, вернее, как раз в себе и без него — без этого треклятого таланта.
То, чего так долго я ждал, свершилось!
Талант не пропьёшь! — говорили мне. Я пропил его! Я смог! Я оказался выше и сильнее! Я растворил и изверг из себя эту вечно терзающую нормального с виду человека болезнь!
Так что пишу я теперь сам, без таланта. Дую в брошенную им внутри меня опустевшую тару и внимательно прислушиваюсь к отзвукам пустоты и тишины. Так что не обессудьте — что есть, то есть, пустота, говорят, ничего и не рождает…
Котлетный буллит
Хоккей — игра командная. Это знают все, поэтому индивидуалистам на льду не место, если только вы не любитель посидеть, уставившись в лунку, и заодно прокатиться с освежающим лицо ветерком на льдине. Одиночки идут обычно в биатлон, чтобы единолично в большом чистом поле или промеж сосенок отстреливать вероятному противнику его чёрные на белом фоне круглые глаза, в спортивную гимнастику, чтобы своими сильными мускулистыми руками подминать под себя коня или козла, в бокс, чтобы самостоятельно без чьей-то помощи выхватывать хуки слева, справа и апперкот, да тут же прикладываться целовать землю-матушку за такую удачу.
Витя был индивидуалистом, но всё же хотел играть в хоккейчик. В детстве ребёнок ещё мало понимает, чего действительно хочет и к чему нужно стремиться, поэтому заботливые взрослые, узнавшие, сколько получает за игру Яромир Ягр и Норман Маракл, купили Витюше тупые коньки, хлипкую защиту и клюшку на вырост, заплатили за занятия в секции хоккея и тонко — приказным тоном — вселили в юного потомка желание заниматься этой игрой смелых и отчаянных мужчин.
Тренер сразу же распознал в Вите недюжинный талант. Правда, не хоккеиста, а тихого, педантичного заводчика морских свиней, и, не раздумывая, определил подопечного в зону защиты — в арьергард, так сказать, в последний редут. По замыслу тренера Витя должен был останавливать нападающих команды-соперницы, но он о своей миссии и великолепной тренерской находке постоянно забывал, в связи с чем получил свою первую кличку на льду — «Витя-дыра».
Обычно на тренировках Витя отстаивал в защите свои законные, проплаченные отцом сорок минут, с интересом наблюдая, как коллеги азартно таскают чёрный каучуковый диск, и, ни разу не ударив по шайбе, уходил на перерыв, а через несколько лет и на перекур. Частенько Виктор уплетал рядом с вратарём шаурму или сосиску в тесте, иногда сдабривая лёд горчичным соусом или кетчупом.
Витя был редкостный хоккеист — классический надёжный центровой защитник. К нападению никогда не подключался, применял арсенал подсечек и футбольных подкатов, со временем стал активно работать кулаками, а не клюшкой, за что и получил второе, уже более пафосное прозвище — «Витя — пунцовый кулак».
Однажды хоккейный Бог сыграл с Витей злую, а скорее довольно забавную шутку.
В тот день Виктор, от звонка до звонка отсидев пять уроков в школе, пошёл на тренировку — товарищеский матч. Любящая маман вручила сынульке в дорогу несколько свежеиспечённых котлеток. Сын кушать не хотел, но, чтобы никого не расстраивать, положил круглые, почерневшие в адском пламени, похожие на шайбу куски фарша в карман спортивных штанов, поверх нацепил хоккейную амуницию и полетел в ледовую халупу, где его с радостью терпели за двойную таксу.
Витя чуть не опоздал к началу товарищеского матча и шнуровал коньки уже на скамейке запасных под оглушительный рокот трибунных динамиков. В колонках надрывались Queen, напоминая пустым трибунам, что они до сих пор «the champions, my friend».
В свою смену Витя выскочил на лёд и направился к обороняемым им воротам, как вдруг попал в круговерть атаки соперника. Витя очень быстро включился в игру и раскидал пару атакующих верзил. В момент разборки с центральным форвардом соперника хоккейная амуниция Виктора дала трещину и… обед посыпался на лёд, вызвав лёгкое замешательство клюшечных гуру.
В суматохе азартной борьбы все игроки начали молотить по внезапно появившимся «шайбам», не разбираясь в их сущности и происхождении, надеясь хоть одну да закатить в ворота, пока не пришел в себя судья.
Одну «шайбу» влепили в борт, и она расползлась по нему, напоминая сосок негритянки. Другой мясной болид принял на грудь судья-информатор, ощутивший себя сверхчеловеком, способным обратить жёсткий каучук в желе.
Больше всех не повезло вратарю.
Суровый нападающий выкатился один на один с голкипером, ловким движением переложил «шайбу» на удобную руку и пушечным выстрелом замахнул котлету в створ ворот. Удар пришёлся во вратарскую сетку, защищающую лицо. И нападающий, и вратарь были на сто процентов уверены, что имеют дело с настоящей жёсткой резиновой шайбой, и поэтому оба испытали шок, когда котлета-шайба прошла сквозь стальные прутья маски, как вода сквозь песок, и размазалась по лицу. Вратарю понадобилась помощь врача и психолога. Ощущение, что шайба пробила защитную маску, было для него очень реальным. Вратарь явно был в ужасе и запомнил этот ошеломляющий, всепроникающий котлетный буллит на всю жизнь.
Мысли из никуда
Тёртый кулич.
И Крым, и Рым.
Искал себя, а нашёл другого.
Гей — это мужчина с женскими глазами.
Жизнь постоянно напоминает нам, где мы до сих пор находимся.
Ушла брить ногТи.
Берёза испугалась, когда у нас закончились дрова.
Бедные Хрюша и Степашка
Мама при рождении преподнесла ему красивое греческое имя Алексей (что в переводе означает «защитник»), а любя называла Лёша или Лёшик. Больше в жизни она ему ничего дать не смогла, так как была, как и почти все в нашей коммунистической страна в те времена, пролетарием и, как исстари было принято у людей этого типа, ничем не обладала и обладать принципиально не желала. Христианское вероучение, спешу заметить, такую жизненную позицию ничуть не осуждает.
Наверное, она хотела, чтобы сын вырос для неё опорой, заботился о ней и охранял её от жизненных невзгод и неурядиц. Но сын излишне прямолинейно воспринял материнский порыв и стал охранником, притом не слишком профессиональным. На службе злоупотреблял спиртным, причём с людьми малознакомыми и потому по определению ненадёжными (видимо, памятуя, что лучшая оборона — это нападение, решал каждый раз сблизиться с группой риска и отвести, таким образом, от себя и охраняемого заведения угрозу), за что пару раз был изгнан из приличных организаций и, спускаясь в подвал по карьерной лестнице, наконец снизошёл до секьюрити аптечного пункта в доме быта, который был построен сразу после войны с фашистами и с тех пор о его существовании помнили лишь люди, возводившие этот железобетонный дзот.
Когда судьба столкнула меня с этим колоритным персонажем времён распада Союза и становления капитализма в России, был он уже не просто толстым, а жирным, неуклюжим коротышкой с маленькими детскими кулачками. Казалось, что Лёша сам нуждается в ежеминутной заботе и охране. Нисколько он не походил на человека, способного эффективно словом и делом противостоять хулиганам или грабителям. Взяли его на службу, как оказалось, из уважения к его далёкой, уходящей в толщу веков, спортивной карьере и нетребовательности к уровню заработной платы, что, думаю, было всё-таки доминирующим фактором при трудоустройстве в это далеко не райское место.
На работе Лёшу все звали просто и чётко — Пятак. Поначалу я решил, что тому причиной форма его лица, напоминающего свиное рыло. И как культурный человек, избегал именовать Лёшу таким уничижительным прозвищем. Распив как-то с Алексеем «по писсяшке» семидесятиградусной настойки боярышника, узнал я о его жизни почти всё. Оказалось, что Алекс в прошлом был относительно успешным, как он сам выражался «боксёрчиком», участвовал в чемпионатах Союза и занял на одном из них высокое и весьма почётное пятое место, за что и получил кличку «Пятак», которой он сам очень гордился. Я не стал огорчать собеседника сутью своих первоначальных предположений о генезисе его прозвища, дабы не проверять на себе его знаменитый хук слева.
Общение наше с Пятаком не было официальным (так как был я, как вы уже догадываетесь, для Алексея малознакомым собутыльником), и вскоре мне показалось, что я стал различать еле заметные лучики добра, рассудка и гуманизма в душе моего незатейливого приятеля. Несмотря на то что Алексей рассказывал мне истории о своей бандитской юности в эпоху лихих девяностых, я не мог поверить, что предо мной откровенная мразь. Лёша часто вспоминал (и было очевидно, что не без ностальгии и светлых чувств) времена, когда он жил легко и красиво, зарабатывал на жизнь рэкетом, избивал и грабил людей, был на короткой руке с местными бандитами и транжирил жизнь, как заезжий московский гуляка в тверской пивнухе. Лишь пара эпизодов бытия этого кутилы заставила меня задуматься о существовании в нём души, души, что в детстве впитала доброту передачи «Спокойной ночи, малыши» и верность своей родине и своему долгу.
Из рассказов Алексея я помню немногое, так как были они весьма однообразны и ни фабулой, ни художественными средствами не изобиловали. Обычно он с «ребятами» кого-то встречал, с кем-то что-то «тер», обязательный «хук слева на отходе для профилактики» (из него, думаю, получился бы отличный врач-дезинфекционист) и вечерняя пьянка до упаду. Лишь пара рассказов запомнилась мне и произвела на меня неизгладимое, но весьма горестное впечатление. Оба рассказа звучали неоднократно. В голосе рассказчика слышались аккорды гордости и синкопы эйфории.
Первый спич начинался всегда словами: «Вот когда я служил в Президентском полку», а заканчивался: «Вот так я служил в Президентском полку». Две эти фразы заменяли пролог, завязку, развязку и финал. Более-менее прилично и относительно многословно и живо Леша формулировал лишь суть своей службы в Кремле. А суть была такова.
Алексей стоит в наряде. Несёт службу не где-нибудь, а в самом центре родины своей — в коридорах кремлёвских апартаментов президента России — тогда Бори Ельцина. День прошёл незаметно, в думах… а может, и в их отсутствии. Под вечер вваливаются в коридор к Алексею Ельцин, несколько его гостей сильно навеселе и Наталья Ветлицкая, тоже не отличающаяся трезвым взглядом. Вся эта сановная шушера ещё больше надирается и танцует на вековых столах, валяется на старинных гобеленах и справляет нужду в вазы времён Иоанна Грозного. В этот момент Алексей отворачивает с одной из дверей золочёную старинную ручку, которую впоследствии увозит как трофей в родной Асгард.
В принципе ничего особенного. Ну кто не видел Ельцина пьяным, пьяным и танцующим, не делал глупостей при виде красивой женщины и не воровал золочёных ручек в Кремле? Другой «подвиг» Алексея во мне вызвал более живую реакцию, потому что был направлен против самого, пожалуй, святого — детской веры в чудеса.
Алексей (каким-то чудесным образом переведясь в дивизию имени Дзержинского — впрочем, после пьяного Ельцина и Ветлицкой на троне российских самодержцев я ничему уже не удивлюсь) был в команде молодцев, защищавших телецентр Останкино во времена противостояния Хасбулата и Руцкого с Ельциным. Расположившись в здании Останкина, молодые парни вкупе с Пятаком осматривали помещения. Найдя аппаратную студию, в которой снимались передачи для маленьких телезрителей, они ничего более умного не придумали, как описать куклы Хрюши и Степашки.
Когда я узнал это, мне стало не по себе. Этот поступок подрывал мою веру в волшебство, в искренность, в добро. В этот момент мне захотелось ударить Пятаку в пятак.
С тех пор своим детям «спокойной ночи, малыши!» говорю только я и с Пятаком не общаюсь.
Мысли из никуда
Truhtism.
Очень часто глубокие люди на дне.
Кто-то падает в глазах, а кто-то на глазах.
Он не хотел быть руководителем, просто не хотел, чтобы руководили им.
Да пребудет с вами силос!
Не можешь излить душу — залей.
Широко неизвестен.
Де мангэ сигаретка!
Музыка сразу захватила все мои мысли. Весёлая, заводная, она, как ком с горы, с грохотом, со свистом, со звуками скрипки, с ударами бубна и цыганской певучестью речи вкатилась в сердце. Сакральное «епаш тукэ, епаш мангэ» заворожило и ни в какую не хотело отпускать разум и чувства несколько часов. Лишь закат и надвигающаяся ночь чуть смирили бушующий во мне интерес к странной композиции да к нежному, волнующему голосу исполнительницы.
Сон не приходил долго, и в моей голове достаточно скоро созрел план — вполне конкретный и практический…
Перекати-поле — так называли мы местных цыган. То здесь то там, и нигде подолгу — вот первооснова их жизни. Родина для цыгана — весь мир и одновременно то, что умещалось в их скромной поклаже. Странный, причудливый язык, позаимствовавший тягучесть у итальянского и суровость у кавказских диалектов, краткость и ёмкость в Европе, широту и глубину смысла в Азии.
Цыгане — народ вполне мирный и покладистый. Прожили они по соседству около пяти лет и в душе моей не оставили ни засечки, ни соринки, ни чёрной отметины. И хоть меж собой, судя по крикам, доносившимся сквозь плотно закрытые окна их дома, существовали они не на жизнь, а на смерть, к соседям относились всегда с уважением и даже, можно сказать, с пиететом. Посему я, ни минуты не сомневаясь, отправился на следующее утро прямо к ним — изрядно обрусевшим цыганам, жившим за ярко-зелёным, чуть покосившимся забором в стареньком насыпном доме, почти вогнанном упрямыми солнечными лучами, тяжёлыми струями дождя и давящими зимой на крышу сугробами в землю.
Протянул руку и опустил палец на чёрную засаленную кнопку. Раздался треск объевшейся помидоров свирели, и в дверном проёме, как про волшебству, возник молодой парень лет двадцати пяти с русскими именем, отчеством и фамилией — Александр Александрович Решетников. В этом отношении я Сашку всегда завидовал и с удовольствием сменял бы свою украинскую фамилию и византийское имя на его имярек, но всё же родное, исконно древнерусское отчество оставил бы на месте в паспорте.
— Привет, Саша, — с улыбкой на лице, протягивая руку, сказал я.
А. А. Решетников кивнул и нежно слегка потеребил мою ладонь.
— Саша у меня к тебе дело. Серьёзное…
А. А. напрягся и чуть опустил, как бульдог, нижнюю губу.
Вы думаете, я попросил его перевести мне текст песни? Или пропеть хоть один куплетик на русском под мой аккомпанемент? Нет!
— Научи меня цыганскому языку! — выпучив глаза, с испариной на лбу и открытым ртом пробормотал я.
Мхатовская пауза переросла сначала в милицейскую, а затем и в барбитуратный сон моего визави. Глаза Сашка забегали из стороны в сторону, но уж как-то очень флегматично-меланхолично.
Вскоре стоящая предо мной флегма изрекла:
— Хорошо. Я буду твоим учителем, — и удовлетворённо закрыла перед моим лицом дверь.
Учёба шла неплохо. Не обладая особыми лингвистическими способностями, я окунулся в мир цыганской фонетики и прононса. Меня нисколько не удивляла певучесть фраз и рифмованность окончаний в разговорной речи — именно таким я и представлял язык кочующей нации, потерявшей некогда свою родину навсегда, променявшей её на безграничную свободу и зачастую безграничную нелюбовь к себе, околоток — на речь-песню, очаг — на душу-огонь.
Шло время. Язык мой становился всё стройнее, фразы всё длиннее, а смысл, в них заложенный, столь витиеватым, что иногда сам Сашок меня с трудом понимал. Усердие мое не знало границ. И вот наступил час Хэ — время, когда мне нужно было вынести знания, уложенные аккуратной стопкой в голове, на всеобщее обозрение.
Тихим зимним вечером я пришёл к местному магазину. Как и в любой деревне, он был один и ежевечерне становился местом сходки разнородных групп, весьма диссонансной политической и культурной окраски. Цыгане, как и казахи, и татары, и русские, присутствовали на сих собраниях, меж тем не слишком внедряясь в гущу кулачного мордобоя и неудержимой пьянки.
Подгадав момент, я подошёл поближе к группе ребят, гулко проговаривающих сентенции на незнакомом мне диалекте. Не понимал я ни слова, но был уверен, что просто ещё не достиг в цыганском вершин лингвистики и иносказательности носителей языка, представших моему взору, и поэтому с болью в сердце выпалил что-то вроде «Одноры дворы трича лыча пяты шары кукарыча!» и добавил в конце русское слово: «мужики!»
Ребята обернулись и с ужасом в глазах посмотрели на меня. Дежавю. Мхатовская пауза — милицейская — барбитуратная, после которой мне на чистейшем русском языке объяснили, что ничего общего с цыганским языком в моём словарном запасе нет и не предвидится по причине строгой закрытости их касты. Я выдал всё, чему меня учил Сашок, но цыганская молодёжь не опознала в моих словах родных, а во мне своего собрата.
Единственной верной фразой, которой вознаградил меня русский цыган А. А. Решетников за месяц науки, оказалась банальная для некурящего и наиважнейшая для покуривающего человека просьба угостить сигареткой.
Сашок с удовольствием вдыхал никотин. Я тоже. И хотя цыганам запрещено обучать своей речи другие народы, он сжалился и вручил иноземцу инструмент, позволяющий мне до сих пор проникать в эту закрытую касту смуглых, черноволосых людей, он передал мне в руки ветхий клочок знамени, наделяющий сверхъестественной силой, позволяющей на несколько секунд почувствовать себя настоящим цыганом, ну и, конечно, на халяву стрельнуть сигаретку.
Вся эта мистерия происходит со мной каждый раз, когда я по привычке без акцента произношу, чуть округляя лицо: «Чавелла, де мангэ сигаретка!» — и получаю взамен одобрительный взгляд карих глаз и тонкую белую палочку с закрученным в ней табаком.
В гробу
В гробу я видел понедельник И вторник, среду и четверг. Мне пятница милее, можжевельник, Июнь и май, и чтобы фейерверк…Чёртов палец
Концентрация добра и зла, плохого и хорошего, белого и чёрного в этом месте во все времена была на пике. Рядом со святостью, верой, надеждой и умиротворением легко уживались чертовщина, безверье, безнадёга, боль и людские трагедии. Они никогда не пересекались, никогда не воевали друг против друга, лишь спокойно наблюдали, даря человеку, к ним пришедшему, каждый своё — кто смерть, кто жизнь, но в любом случае тропинку в иной мир — в мир успокоения.
Странное, необъяснимое, загадочное место. Одинокие влюблённые устраивали на его лысой вершине свои последние страшные шабаши, расставаясь с жизнью и горькими, никому не нужными чувствами. Плача, они бросались с крутого, высокого, возвышающегося над сибирской долиной обрыва в реку. Другие неподалёку, спускаясь в гигантский провал в земле, умывались водой из святого источника, тонкой струйкой вырывающегося из-под земли, обретали душевный покой, благодать, исцелялись от болезней телесных и душевных.
Так и соседствовали пик Чёртов палец и святой источник целителя Пантелеймона бок о бок сотни лет, никогда не нарушая владения друг друга. Смерть шла рядом с жизнью, добро со злом уравновешивали друг друга, являя миру картины рая и ада, небес и подземного царства, Бога и Чёрта на земле. Со временем люди заселили эти места и основали село, раскинувшееся между пиком и провалом, между злом и добром, между бытием и забвением.
Село росло, крепло. Крепла и вера народа в будущее, в лучшее, в доброту, в Бога. Источник притягивал к себе всё больше людей, черпающих из него не воду — веру. От «чертовщины» пика осталось одно лишь название. И когда казалось, что сила Чёртова пальца окончательна иссякла, побеждена, он показал её, на семьдесят лет предав целебный источник и веру людскую забвению, подменил её ложью пророков, воинствующим безверием, взорванными церквями, замученными в ГУЛАГе священниками.
Коммунисты насаждали новую веру, и им не нужны были конкуренты — они захотели взорвать церковь в селе, уничтожив тем самым немногое, что было чистого и светлого в душах людей. Решили разрушить, а уж потом начать думать, что им делать дальше. Не создали своё, нечто более великое, красивое и проникновенное, уничтожили всё остальное, топором укоротили голову тем, кто был выше остальных, взорвали и разграбили лучшее, продали дорогое, уничтожили не бедность — богатство, бедность так и не изжив.
На пологом берегу реки стояла церковь. Небольшая, невзрачная, с годами она преобразилась, впитав в себя истинную веру первых поселенцев земли сибирской. В церковь приезжали креститься целебной водой из источника, молились за здравие и упокой, обретали духовные силы жить и любить. В воскресенье её должны были взорвать. В воскресенье Христово нелюди решили уничтожить дом Бога на земле, разорвать пуповину, связывающую их со Всевышним.
С вечера были приготовлены взрывчатка, кабель и электрический детонатор. Найден был и человек из местной бедноты — запойный пьяница и побирушка, с радостью вызвавшийся уничтожить мир, которого он не создавал, в который не вложил ни грамма своего пота и крови. С вечера он добро принял и поутру не сразу осознал случившееся чудо. А когда понял, что церковь за ночь ушла на три метра в землю от людей, желающих её уничтожить, оставив сверху только купола, он осатанел.
С ненавистью закладывал он в проёмы, в окна и купола один заряд за другим, обматывал проводами и с яростью жал, жал на кнопку взрывателя. Церковь не поддавалась. Снова взрывчатка, взрывчатка, провода, провода, и снова чей-то чёртов палец жал на электрический взрыватель. Всё было тщетно — верх церкви разлетелся по округе, но фундамент и стены уцелели, всё глубже уходя от чёрта в мягкую степную, пойменную почву. Церковь, подставляя вторую щеку, приводила убийц в бешенство своим нежеланием пасть перед ними.
Тогда они схватили топоры, молотки и стали наносить удары по её телу. Молотили что есть сил, но кладка, как и вера, ещё была крепка. Раствор, замешанный на яичном белке, не отпускал ни кирпича из своих оков, а кирпичи не рассыпались под ударами красных антихристов. Вся деревня стояла на коленях, смотря на убийство и поругание их небольшой, построенной всем миром церкви. Все от мала до велика молчали. Лишь слёзы, ударяясь о землю, вторили взрывам и ударам молота.
Её так и не смогли разрушить, не смогли разорвать в клочья веру людскую. И стоят они до сих пор — церковь и вера, вколоченные по пояс в землю, но гордые и не сломленные, полуразрушенные, но живые, хрупкие, ранимые, но вечные. Есть и Чертов палец, но уже только пик.
И с Богом нация — толпа
И с Богом нация — толпа, Объединяющая серость, Топтающая в грязь Творца, Идущего сквозь современность, Не преклонив колени, что Отринул идеалы века, Один лишь идеал признал — Не Бога, но сверхчеловека.Знание — сила
Настоящий труженик хочет узнать, как сделать работу по возможности качественнее, затратив на это как можно меньше времени и сил. Русский рабочий хочет знать, как поменьше работать да побольше получать. В идеале хочет знать способ не работать вообще, а получать как министр.
Алкаш хочет знать, как, всю жизнь выпивая, не заработать цирроз печени и делириум тременс, курильщик — как не докуриться до рака лёгких, наркоман — как всю жизнь находиться под кайфом и чтобы от этого было по кайфу всем.
Настоящий учитель хочет узнать, как сделать так, чтобы ученик понимал его с полуслова, учился сам, превзошёл бы учителя и был бы ему за это всю жизнь благодарен.
Художник хочет знать, где ему рисовать глаз — в глазнице или на лбу, какого размера должен быть чёрный квадрат и какого цвета должен быть конь.
Настоящий врач хочет знать, как прожить вечно и как запродать подороже это знание людям.
Настоящий поп хочет узнать, скольких людей он привёл в рай и как ему за это воздастся.
Настоящий учёный более всего на свете хочет познать истину, исполнить все желания рабочего, учителя и врача, наркомана, алкаша, курильщика и прав ли поп.
Настоящий философ больше всего в жизни хочет понять, кем и для чего создан учёный и зачем он всё время что-то познаёт.
Настоящий Бог хочет знать, когда же до философа наконец что-то дойдёт.
А меня больше всего в жизни интересует, почему мой сосед-бухарь называет меня за глаза пи***ом, хотя я никогда не был им замечен в порочащих меня связях, и полудурком, хотя образование и скорость освоения нового у меня несравненно выше, чем у него.
Берсерком в бойню
Не привыкать, касаясь шрамов, Вновь проглотить любви настой И, устремясь берсерком в бойню, Палаш омыть в крови густой. Не из огня — из динамита Сотворена артерий ртуть, Чтоб уничтожить тех, кто праздно Захочет в сердце мне взглянуть.Как нам обустроить Россию?
Никакая модернизация нам уже не поможет! Спасёт нас только вот что: строим два ракетных двигателя со средний город величиной — один под Москвой, другой под Владивостоком, соплами в разные стороны, и запускаем. Разворачиваем Землю на девяносто градусов и тормозим.
Все наши проблемы сразу решены — нефти, газа, дров и угля Европа будет покупать у нас в пять раз больше. Россия станет главным мировым производителем и продавцом ватных тулупов образца Второй мировой — не прогорим. Японцы через полгода перестанут от нас что-то требовать (кроме тулупов со скидкой по старой дружбе). В Сомали прекращается пиратство в связи с обледенением.
У нас появляется свой Лазурный берег и своё Русское Майами. Все красивые девушки из Ниццы и города далеко не ангелов сразу переедут во всемирно известный курорт Новый Уренгой — от Москвы и Владивостока до него ехать одинаково близко. В Москву никто больше не будет переезжать. Тех, кто жил в Чертанове и Бирюлёве переселим в Салехард, из Бутова, Тушина и Кузьминок — в город-курорт Надым. Остальные пусть в Москве проверяют свою выносливость и дальше поют «Я лублу тя, Массква». Музеи из Питера перевезём в город Лабытнанги, а всех питерцев — в город Муравленко и посмотрим, так ли они культурны сами по себе.
Америка, Канада, Индия и Китай окажутся, как и мы, на экваторе — скажут нам только спасибо. Европу постепенно переселим на новые материки — в Антарктиду и Гренландию, правнук Шпенглера напишет мировой бестселлер «Расцвет Европы». Африку нужно будет в срочном порядке, пока не засыпало снегом, раскопать на природные ресурсы — тут затраты и отобьём.
Всех бывших наших эмигрантов будем принимать обратно и расселять по Дальнему Востоку за пожизненную ренту и барщину. Вот тогда наконец и заживём. Тогда-то все как один бросят пить, давать взятки и займутся чистым творчеством.
Память народная
Он был, как Цезарь, многогранен И десять дел шутя ковал, Читал Малерба и Бодлера, Писал, считал, учил, ваял. Умел, под стать своей Матроне, Супы варить и жарить кур, Толочь и печь, томить и парить, Месить, при этом петь «l`amour». Он мудр был и пунктуален, Высок, красив, как юный князь, На шпагах дрался и стрелялся, Переводил на русский вязь. Он у станка, у домны старой, В музее, в танце средь зеркал, Но чтоб запомнили в народе, Он на заборе «х*й» писал.Как я взорвал рыбака
Ненасытное детство моё прошло в краях весьма скупых на впечатления и развлечения. Ножички, «валет, ни у кого нет», самострелы и рогатки — вот из чего состоял летний день пацана с неуспевающими заживать, изодранными об асфальт коленками и локтями. Костяные шахматы пылились дома в шкафу, потому как среди соседей — сыновей и дочерей не слишком работящих, тихо, за бутылкой далеко не порто, раскулачивших Компартию рабочих — найти серьёзного и интересного соперника по силам было заоблачной мечтою.
Позади моего дома, метрах в трёхстах, тухло и зеленело озеро. В детстве родители рассказывали, что когда-то очень и очень давно — лет эдак на двадцать поближе к ГУЛАГу и Виссарионычу (когда в стране был полный порядок) — озеро было вполне приличным. И плыла по нему Царевна-лебедь, и плескалась в нём форель, сама выпрыгивая в суп, и чайки кружили над водной гладью, торпедируя немых склизких обитателей водоёма на бреющем серыми бесформенными снарядами. Так это было или иначе, видеть мне, увы, не довелось.
В мою бытность красовалась посреди нашего убогого жилмассива лишь обширная лужа, обильно запруженная двухметровым камышом и усыпанная зеленоватыми россыпями тины. Летом на самодельных плотах мы катались, как Том с Геком, по узким протокам, то и дело калечась об острые побеги низкорослого сибирского болотного тростника. По осени иссохшие стебли нами же втихаря поджигались, и красно-чёрно-седое фееричное марево уносило нас в сказочную страну грёз, возвращаясь из который мы получали по шее от кого-нибудь из взрослых, которые в своём детстве так же, как и мы, с удовольствием хулиганили со спичками.
Со временем на берега болота-озера стали приходить странные люди, из недр которых постоянно что-то сыпалось — пустые бутылки, не менее порожние консервные банки со вспоротыми животами, гнилые помидоры, канистры из-под краски, худая обувь и прочий хлам. Весьма скоро озеро-болото превратилось в большую помойку и, как-то незаметно, ещё и в кладбище домашних животных пострашнее, чем у Стивена да у Кинга. Ароматы и виды царили в местности той «не смотри нос, не дыши глаз».
Меж тем в центре этой стихийной помоины ещё уцелел островок животворящей водной глади, что зимой превращалась для мелких горе-хоккеистов в каток, а летом для крупных экстремалов с лужёными желудками в Мекку рыбной ловли.
Где взяли мы в тот прекрасный летний день несколько увесистых кусков карбида кальция — уже не припомню… Да и не проблемой это было — через одного у моих друзей отцы, братья или зятьки были сварщиками да, что ещё удобнее, несунами, и недостатка в материалах для газовой сварки никогда не наблюдалось, благо что и ЖЗБК был в пяти минутах ходьбы от дома — прямо на территории танкового завода имени благословенной Октябрьской революции.
Ещё не проведя в храме знаний ни одной мессы, мы точно знали, что при попадании в воду странный серо-белый кусочек, похожий на высохшую какашку, начинает шипеть и свистеть, выделяя из своего чрева горючий газ, обозначаемый дивной морфемой «а-це-ти-лен».
Всей голопузой ватагой мы ближе к закату взобрались на водокачку, безрезультатно пытавшуюся заглотить остатки водоёма в свои два тонких хобота. Заблаговременно разыскав меж барханов мусора пол-литровую пластиковую ёмкость с плотной винтовой крышкой и широким горлышком, наполнив её до половины водой из лужи, мы взгромоздились на уже чуть подостывшую железную крышу, в полдень раскаляемую солнцем так, что на ней мы пару раз жарили яйца как на сковородке, и не спеша раскинули партейку в «дураков».
Долго играть нам не пришлось. День засыпал на своем посту, и сменщица-ночь была уже на подлёте — самое время закинуть донку и ждать скорого поклёва. Ловец не заставил рыб и нас долго ждать. Не подозревал только в тот день мужик в прорезиненном зелёном комбинезоне, весело пришедший под наши детские очи, что наслаждаться рыбалкой предстоит не ему, а нам, что оказаться на крючке выпадет сегодня на его лихую долю и рыба в водоёме для него станет не вожделенной добычей, а нашей хитрой приманкой.
Усатый коротышка на виду у десятка пар любопытных невинных глаз деловито накачал автомобильным насосом свой небольшой округлый фрегат, погрузил в него снасти и снедь, свои телеса-балласт и неспешно погрёб единственным веслом в камыши. По извилистому чёрному ручью он вышел на оперативный простор, где и занял выжидающую позицию, туповато уставившись в непроглядную темень болотного омута. Мы не спешили. С бутылки был снят белый круглый винтовой предохранитель и аккуратно помещен рядом с запалом.
Первая поклёвка. Рыбак дёрнул за леску, потянул её на себя, стал травить конец, чуть привстав на шатком днище, круги побежали по воде, птицы притихли. Мы вскочили на босые ноги, и чья-то рука занесла над горлышком кусок карбида. Мозолистые руки вытянули леску, и зад тут же вновь уныло осел на пластиковую скамью. Крючок был пуст.
Снова прозвучал маленький колокольчик, и детские руки вновь схватились за банку и комок волшебного пористого камня. Рыба снова сорвалась с крючка и, чтобы не обжечь пальцы, камешек вновь был помещён на железное полотно. Ещё поклёвка… Ещё… Солнце почти село. Рыбак взглянул на тонкий багряный серп, окрасивший горизонт, и в последний раз без веры в лучшее макнул грузило в водную пучину.
Разочарованные, мы стали собираться домой, как вдруг тихий звон пронёсся над спокойной гладью, зарослями камыша, пронзил воздух, перенасыщенный напряжением и томительным ожиданием. Мужик не спеша потянул за леску, несколько раз переводя дух, схватился за садок и марлевую подсечку, привязанную к толстому деревянному древку. Несколько секунд он аккуратно тралил прозрачную тонкую нить, как вдруг в воде заметил рвущуюся изо всех сил по броуновской траектории рыбу, попавшуюся на червивую приманку.
Рыбак встал в полный рост, раскачивая лодчонку и держась за воздух. Одной рукой пытался вытянуть леску, а другой, зажав садок, силился подсечь свой ужин. Я молниеносно забросил кусок карбида в банку с водой, быстро, отточенным движением как можно плотнее вкрутил крышку по месту, интенсивно взболтал содержимое и что есть силы бросил снаряд в направлении ничего не замечающего вокруг себя счастливого рыболова.
Банка, пролетев по параболе с десяток метров, осела на воду, пару раз плюхнувшись о поверхность озера, вкатилась аккурат под правый борт защитного цвета субмарины, и в то же мгновение гулкий громкий хлопок и бело-синий дым взорвали окружающую действительность. Лодка, шумя и матерясь, перевернулась, и всплеск падающего за борт мужика вверг нас в сатанинский гогот.
Унося ноги, я обернулся. В памяти моей до сих пор запечатлён злобный, попирающий нормы лексики водяной, опутанный тиной, выбирающийся на берег из своего болота, в одной руке которого была зажата развороченная белая пластиковая бутылка из под автошампуня, а в другой — кусок лески с безмолвно болтающейся на ней сверкающей в полутьме тушкой подлещика — добычи, приманки и повода для нашей не по детски злой, но одновременно невинной шутки.
Канарейка красного смещения
Красное смещение — сдвиг спектральных линий химических элементов в красную (длинноволновую)сторону, свидетельствующий о расширении Вселенной.
Её желтые, красные и белые перья чем-то напоминали кокошник русской княгини, украшенный самоцветами, янтарём и жемчугом. Клюв был чуть вытянут, но всё же очень походил на орлиный, чем она очень гордилась. Аккуратные коготки, крылья, которыми пользовалась крайне редко, изящные и тонкие. Канарейки вообще очень красивые, но эта была особенной. Никаких изъянов в ней не было. Вела себя гораздо умнее своих собратьев. Умело и аккуратно пользовалась поилкой, не рассыпала корм по всей клетке, всегда выглядела как перед показом мод, грациозно ступала, изящно перелетала на жёрдочку, величаво чистила перья, даже спала так, как будто знала, что за ней наблюдают, и хотела показать себя во всей красе.
Внутренний мир её был насыщен, полон доброты, невысказанной любви и фантазии. Её создали для мечтаний. Могла дни напролёт петь и танцевать. Обожала шум дождя и ветра, второй концерт Рахманинова, сороковую Моцарта, одиннадцатую Бетховена…
Одно было в её жизни не так — была она очень одинока, одна в своём небольшом, ограниченном решёткой мире. Смотрела сквозь прутья и не понимала, почему одна, почему с ней нет никого рядом, почему из-за решётки никто не приходит, почему вселенная её так обозримо велика, но она не может позволить себе взмыть вверх и улететь, как её душа неоднократно проделывала во сне. Мир её постоянно становился больше, он расширялся, как будто кто-то покупал ей всё новые и новые, всё более просторные и замысловатые клетки, но это её не радовало. Бывало, она подолгу грустила, не могла есть и пить. Очень хотелось нежности и ласки, хотелось ощутить тепло родственной души рядом с собой, но шли дни и недели, а никого рядом не возникало. Природа насыпала корм и наполняла поилку, но всё не создавала для нее друга. Она ждала и верила, что когда-нибудь её единственный прилетит, обнимет и они будут до конца дней своих неразлучны и счастливы.
Утро наступило внезапно. Тучи растаяли быстро — почти мгновенно, как будто чья-то рука сорвала покрывало, создававшее в клетке иллюзию ночи, белый свет ворвался в её мир и ослепил. Ещё не до конца проснувшись, она увидела образ — крылья, хвост, клюв. «Это он! — крикнула про себя. — Он пришёл ко мне! Наконец-то! Слава Догу! Дог, благодарю тебя за то, что ты услышал мои молитвы! Теперь я буду счастлива!»
Как все женщины, канарейка не стала сразу афишировать своего интереса, хотя её просто распирало от желания. В первый день вела себя как обычно, даже более надменно и высокомерно. Расхаживала по клетке, как хозяйка, и всем видом давала понять своему внезапному ухажёру, что не так проста, как кажется, и не готова отдать себя первому встречному. Во второй день несколько раз приблизилась к незнакомцу, чтобы поближе его рассмотреть и показать свои красивые перья. Это был великолепный самец — орлиный клюв, идеальные перья, сильные лапы.
«Как будто искусственно выведенный! Идеальный!» — подумала она, но старалась гнать от себя эту мысль, чтобы не выдать своего интереса и не прервать свою игру.
На четвёртый день не выдержала и подошла вплотную, небрежно потёрлась о него своим крылом. Незнакомец не ответил, лишь чуть-чуть качнулся из стороны в сторону, как неваляшка, и вскоре затих. Она была сражена его невозмутимой холодностью и стойкостью к её красоте. Влюбилась без памяти в этого неотёсанного, не умеющего обращаться с женщинами мужлана и с того дня только и думала о нём. Незнакомец же не проявлял к ней никакого интереса. Был холоден, как неживой, и почти недвижим, как могучий ствол векового дерева.
Страсть постепенно копилась в ней и через неделю переполнила. Она не могла себя больше сдерживать и, плюнув на приличия, кинулась к нему на шею. Он же лишь слегка её приобнял, качнулся взад-вперед и пристально стал вглядываться, как мыслитель, в даль, но и этого ей уже было достаточно. С того дня она от него не отходила. Пела ему песни, танцевала, приносила еду, но он был равнодушен и ничем не показывал своего к ней расположения.
— За что мне это наказание, Дог? За что ты так жестоко меня наказываешь? За что? Почему он не любит меня? — взывала канарейка к Всевышнему, но мольбы её не приносили успокоения душе. Незнакомец по-прежнему был далёк от неё, хоть был так близок.
Однажды днём раскаты грома разорвали их небольшой мирок. Канарейка очень сильно испугалась и кинулась к своему возлюбленному. Они сидели вместе, и казалось, что весь мир стал для них лишь этим небольшим клубком тепла, которое они сами и излучали. Тучи повисли над их жёлтыми тельцами. Тучи и облака походили на огромных невиданных птиц с палками вместо крыльев и длинными лапами без когтей, пристально разглядывающих сидящих в клетке невольников. Гром походил на пение жаворонка, только старого и изрядно осипшего, смысл песни которого было уже не разобрать.
— Ты думаешь, она понимает, где сейчас находится и с кем? — прокатилось раскатом слева направо.
— Едва ли! У них мозг с орех! — громыхнуло справа.
— Тем более что кукла сделана великолепно, полностью похожа на самца, а то, что вместо души фарш…
Гром стих так же резко, как и начался. Тучи рассеялись, и солнце снова заиграло своими лучами на её перьях. Но эти внезапные раскаты как будто пробудили в ней какое-то скрытое чувство, какие-то её неразбуженные страсти и эмоции вышли наружу, и мир вокруг для неё преобразился. Душа хотела любви, любви чистой и искренной, но спутник был холоден и никак не отвечал на её неземной порыв.
Крохотная птичка вдруг поняла, что должна вырваться из оков, поняла, что любовь больше не сдержать в её хрупком теле, поняла, что чувства обманчивы и иллюзорны, что истина лежит где-то за пределами способностей и понимания, где-то там, в облаках. Она изо всех сил взмахнула крыльями и… её не стало…
Ни дня без строчки
Олеши друг хотел пёсать, И Юра дал совет: Ты пару строк пиши хоть, пёс! Тот написал донос…Каннибал
Каждым будним утром, а иногда и в субботу, ровно к двенадцати дня приходит Он. Появляется Он незаметно перед обедом, своей тихой, еле слышной поступью идёт по лестницам и коридорам, заставляя окружающих рассыпаться в разные стороны, прятаться по углам, подсобкам и туалетам, зарываться в горы бумаги, осенять себя крестными знамениями и тихо молиться.
Он не переносит вкус фруктов и овощей, печенья, воды, особенно святой. Он — кан-ни-бал. От запаха кофе, пота и лака для ногтей Он звереет и впадает в бешенство. Поглощает плоть одухотворённую и живую, пьёт соки людей и животных, наслаждается видом истекающей кровью жертвы и злорадствует, морально уничтожая всё вокруг себя.
Находя себе слабого подопытного, Он присасывается к его сонной артерии и утоляет свою беспредельную жажду, меж тем не давая жертве легко умереть. Он ловко, словно санитар из морга, вскрывает черепную коробку, протягивает свои жирные, грязные руки к вместилищу разума, вырывает его резким отточенным движением и впивается в извилины длинными мерзкими клыками.
Поедая мозг, Он хрустит и причмокивает, фонтанирует при виде изнемогающей и агонизирующей жертвы. Откусывает и съедает кусок ещё живой, шевелящейся плоти, затем второй, третий и, вытирая кровь, капающую с подбородка, говорит скаля зубы:
— Леночка, чем это опять воняет в кабинете!?
— Это приходила ваша жена, господин директор…
Когда пришли демократы
Кончился однажды период безвременья, безверия и безмолвия, когда пришли Они, когда стук их шагов вдруг оживил предрассветную мглу Красной площади и солнце зажгло вековые златоглавые купола соборов и кремлёвских башен, когда с флагштока президентского штандарта двуглавый орел издал свой пронзительный крик и гражданин Минин высек набат булатным мечом о щит князя Пожарского.
И ожил тогда народ русский, и поднялся, и пошёл, и побежал, оставляя далеко позади все свои горести и обиды. И высыпала толпа на площади и в скверы, ещё сонная, но уже с трезвой искрой надежды и решимости в глазах и в сердце и взяла власть в свои могучие руки. И пошёл народ на заводы и фабрики, и, взяв в руки молоты, намолотил зерна на весь мир и, взяв серпы, насерпил станков дивных для всего человечества — белого, чёрного и цветного.
И расцвёл тогда Александрийский столп, и заработали вновь КВЖД и БАМ, и снова Арал вышел из берегов, и растаяла вечная мерзлота, и заколосилась на ней рожь, и всплыла из Тихого океана станция «Мир» и воспарила вновь над Землёй. И рухнули все тюрьмы, и встали все немощные. Россия воспрянула ото сна и, возродившись вновь, Герцен, Чернышевский и Державин написали свои новые бессмертные строки. И ожил золотой Самсон, разрывающий пасть льву, и зазвучал царь-колокол, и выстрелила царь-пушка, и потушил Диоген свой фонарь.
И возгорелся с невиданной силой вечный огонь в Александровском саду, и встали все окоченевшие у кремлевской стены и, обогревшись у пламени, пожали руки всему народу русскому, прося прощения за свои грехи. И сошли все статуи мира со всех постаментов и ушли в вечность, преклоняясь перед их величием. И притихли все животные и гады морские, повинуясь их воле, и запели все петухи, навсегда изгоняя сон и безмолвие из умов и сердец.
И началась новая эпоха мироздания, и свершилось второе пришествие, и отделил Бог всех нас от плевел, и наступил на Земле долгожданный рай. И поняли все, что смерти нет, что люди велики и способны на всё, что мы — это Они, что мы — не грязь, не мусор, не плебс и не демос — мы Демократы! И издали тогда жители всей Земли вселенский крик: «Дождались наконец, дождались спасителей!»
Костёр истины
И истины костер разжёг Он разумом своим одним Вдали от Церкви и Чертог И на него взошёл один.Франсис Бертран — так звали соседа в сущности вполне обычного и даже, может быть, заурядного астронома и математика по имени Джордано Бруно. Ещё Птолемей, за сотни лет до рождения Джордано, сообщил людям, что они живут на огромном шаре, чуть сплюснутом на полюсах, вращающемся в гигантском хороводе вокруг полыхающего пожарищами Солнца. Бруно лишь подтвердил расчётами мнение Птолемея да повторил его мысли вслух после их полуторатысячелетнего забвения.
И от Птолемея, и от Бруно судьба, а вернее, толпа, возомнившая себя высшим судьёй, потребовала доказательств их ошеломляющей на тот момент картины бытия, явно противоречащей здравому смыслу, устоявшемуся косному обычаю и слепой вере. Доказательства были предоставлены. Птолемеем — математические расчёты, Бруно — математические расчёты и собственная жизнь, а точнее, мученическая смерть.
Франсис Бертран был хорошим, с точки зрения общественной морали своего времени, человеком. Он не воровал, работал в поте лица, уважал жену и детей, регулярно захаживал в церковь, дабы оставить там реальную десятину и унести с собой мифическое прощение грехов. Франсис верил в то, что все называли Богом, и был папобоязненным католиком. Он знал что, земля плоская, когда смотрел на свою прямоугольную грядку бенгальской фасоли, и ему было очевидно, что Солнце вращается вокруг его дома, а не наоборот, что Солнце встаёт и садится, а он и весь мир недвижимы, потому что никакого движения тверди земной Франсис Бертран и его домочадцы не ощущали.
Был Франсис человеком слова: сказал — сделал, поэтому старался как можно меньше болтать, чтобы поменьше делать. Особенно красноречиво молчал он на темы, признанные магистратом лживыми и вредными, а епископатом — противоречащими ученью Божьему, ересью. Женился, нарожал детей, воспитывал их всю жизнь в любви и согласии с женой и католической верой. Жил месьё Бертран обычной жизнью: семья, дом, работа, рыбалка, выпивка да трёп с соседями и друзьями.
Под конец жизни Франсис растолстел, кожа его лоснилась, дорогая парча окутывала плечи и торс. Шёлковый, вышитым золотыми нитями пояс, что поддерживал живот-бурдюк, подчёркивал достаток хозяина. Франсис умер в своей постели уважаемым человеком, и камнем придорожным надгробная плита легла на могилу его в конце пути, пути давно изведанном, поэтому безопасном и предсказуемом — пути поиска золотых экю, пути зависти не столь удачливых и презрения более расторопных дельцов и искателей фортуны.
— Глупец! — сказал Франсис, смотря на догорающий костёр, поглотивший Джордано Бруно. — Он взошёл на эшафот, хотя мог прожить спокойную и размеренную жизнь, как моя. Мог любить, рожать детей, пить вино, наслаждаться музыкой, собрать урожай, продать его и купить новый плащ или даже мантию, как у короля, он мог всё, но упёрся, как баран, и даже пламя священной инквизиции не заставило его одуматься. Глупец, глупец, глупец…
Франсис Бертран… Да, пожалуй, так вполне могли бы звать соседа, знакомого или просто современника Джордано Бруно, хотя скорее всего имя его было иным, если вообще можно говорить что у него было Имя. Имя было и есть только у Джордано, имена и прозвища же большинства его современников стёрли белой, пыльной от мела тряпкой с потёртой доски истории. Надпись «Джордано Бруно» стереть никто не смог, потому что она была начертана не мелом — кровью, запёкшейся на камнях истории, кровью, прожёгшей в граните глубокие следы, не подвластные времени и людям.
Джордано Бруно сгорел. Сгорел… Полыхнул, как факел, привязанный к столбу вверх ногами. Был безжалостно растерзан светской властью, несущей миру тьму религиозного фанатизма. И за что? За то, что верил не своим обманчивым ощущениям, не упрямым тысячелетним блеющим стадам догм, не клирикам, боявшимся потерять свой высокий мирской статус, а разуму; за то, что подливал масло не в салат из овощей на своем столе, а в костёр истины, в костёр вечности, в костёр, сжигающий прелую листву заблуждений и освобождающий семена мысли из треснувшей скорлупы обыденности, привычки и невежества.
Красиво жил — красиво умер
Петров-Водкин был женат, что не мешало ему слыть человеком весьма и весьма нетрадиционной для начала двадцатого века сексуальной ориентации. Конечно, едва ли кто-то из современников ловил известного художника за что-нибудь в процессе акта вселенской любви с гендерным собратом, однако почва, а вернее, кровать, для таких слухов явно существовала. Сами произведения живописца дышат трепетом к мужскому телу, и лишь немногие видят в обнажённой мужской натуре на его холстах безумную любовь к душам натурщиков, а не к их плоти.
В сущности, есть ли разница, каков предмет твоих чувств!? Кроме неба над головой, воздуха и солнца, любовь — это нечто, дарованное всем, каждому, ниспосланное для того, чтобы стать совершеннее, лучше и чище. Чувства — это строительный материал души, с ними человек живёт и развивается, без них умирает. Жизнь ищет лазейки и их находит, упрекать её в настырности — потворствовать смерти.
Чувства возникают порой в самый неожиданный момент и по отношению к человеку, совершенно этого, на первый взгляд, недостойного. Кого бы ни любил в своей жизни Петров-Водкин, делал он это всегда искренне и просто. Иначе бы картины его не источали энергию души художника, энергию простых для него самого и пассионарных для окружающих людей мыслей, стремлений и чувств.
Петров-Водкин, несомненно, был одарённым, трудолюбивым творцом, ищущим новое. Он был и писателем, и педагогом, и теоретиком искусства, но всё же наибольшую известность принесла ему его живопись. «Петроградская мадонна», написанная в революционном одна тысяча девятьсот восемнадцатом году стилем икон эпохи Ренессанса, громит сознание в пыль и дарит фантазии множество отправных точек для дисперсии всего сущего.
Ленин, читающий Пушкина, а не Маркса, пророчески больше похожий на дьявола с широко посаженными глазами, нежели на апостола, лидера и человека, заставляет сжать кулаки и приготовиться к агрессии или леденящему сознание выкрику.
Красные, переполненные жизнью, невинностью кони и кровавые «жаждущие» воины, от которых веет чем-то фаллическим, чувственным и необычайно притягательным, по праву внесены в сокровищницу мировой живописи.
Петров-Водкин жил на Кронверкской набережной на Петроградской стороне. Когда промозглым февралём одна тысяча девятьсот тридцать девятого года картина его жизни была почти завершена, много людей шли к нему в квартиру взглянуть на её последние штрихи, попрощаться с этим незаурядным, необычным и интересным человеком.
Пятнадцатого февраля Кузьма Сергеевич призвал учеников.
Комната была полна людей, тихо стоящих у постели умирающего, не произнося ни звука. Кузьма Сергеевич тяжело дышал. Казалось, дух его исходит из тела с каждым движением груди. В руках умирающий держал кольцо. Сжимал он в руке не кольцо — свою жизнь: круг, по которому проходит каждый человек, в начале жизни появляясь на свет беспомощным, разбрасывая камни и потом их собирая и к старости вновь представая перед Богом и людьми физически обессилевшим, но духовно обогащённым.
Художник глубоко вздохнул, хрип вырвался из уст, он отпустил кольцо и оно, несколько раз ударившись о деревянные половицы, покатилось по комнате. Десятки глаз следили за его неспешным бегом по бугристой крашеной древесине, пока металлический кружок, несколько раз обернувшись вокруг своей оси, не остановился. Ученики вновь обернулись к учителю, а его уже не было с ними. Как и кольцо, жизнь замерла, дух и тело незаметно для всех, сакрально, с достоинством остановили свой бег.
Красиво жил — красиво умер.
Дубина и мешок
Копна, скирда и неба синь, Река, овраг и лес. Пол, потолок, окно, асфальт, Замок, этаж, подъезд. Край поля, луг, межа, покос, Сова, олень и бор. Кирпич, цемент, бензин, засов, Автобус и забор. Лукошко, вяз, брусника, сбор, Грибы и корешок. Стыд, зависть, лень, обида, боль, Дубина и мешок.Курица по имени Андрюха
Жила-была курица, и звали её не Машка, Зорька или, на худой конец, Чернушка, а Андрюха. Собственно, саму курицу мало заботило, как её кличут, — лишь бы зерно не кончалось в кормушке и поилка не пересыхала. Но вот окружающие дивились, слыша от детворы «Андрюха, Андрюха!» и видя выплывающую на сей зов из-за угла, покачивающую головой и неуклюже перебирающую морщинистыми лапами, хохлатую кривую курицу чёрно-коричневой масти.
Была Андрюха очень умной и находчивой, не в пример остальным сестрицам-несушкам. Несмотря на свою внешнюю некрасоту и нескладность, могла ловко перемахнуть старенький деревянный забор, помогая себе крошечными крыльями, чтобы поклевать на обочине дороги зерна, просыпавшегося в щель из несущегося на элеватор грузовика, вернуться восвояси, снести яйцо и, нахохлившись, мирно, в гордом философском одиночестве заснуть на жердях.
Лет десять прожила Андрюха. Пережила всех ровесниц, кои по старости лет кончали свою куриную жизнь на расщеплённом в труху старыми топорами березовом комельке да на хозяйском столе. А она всё жила. И уже яиц не несла, а её все кормили и поили, жалели и радовались ей, гладили основательно поредевшую холку, устраивали в жару водные процедуры, по осени стелили побольше сена в подстилку и сыпали по полу поболе отборного семенного зерна, чтобы и на месте не засиживалась, и не голодала.
Андрюху все очень любили. В суровые морозы заносили в сени, куда не попадали ни коты, ни собаки, — только она удостаивалась такой чести. Подкармливали фруктами, овощами, дети — конфетами и крошками пирожных, вкуснейшими тыквенными и арбузными семечками.
Жил по соседству в деревне паренёк по имени Андрей. С курчавыми волосами, стройный, широкоплечий, был бы он завидным женихом, если бы не косые глаза и замедленная, картаво-шепелявая речь. Несмотря на врождённые недостатки, не стал с годами Андрюха закрытым, угрюмым и озлобленным человеком. Казалось иногда, что он вовсе не замечает своего клейма. Внутреннее счастье, несмотря ни на что, пробивалось сквозь его блестящие глаза, улыбку, смех и умиление от божьего мира.
Был он отзывчивым, добрым, и в тридцать, и в сорок лет сохранил в характере детскую наивность, в повадках — беспредельную доброту, в душе — любовь к людям и сострадание ко всему живому. Никогда никому не отказывал в помощи, по воскресеньям пел, как мог, в местной часовенке, по вечерам сиживал на скамейке со стариками и слушал их рассказы о прошлой жизни.
По примеру соседей завёл как-то себе Андрюха курей — без своего хозяйства деревня не деревня. Фермером был он неважным и, когда подходил срок рубить очередную живность, очень переживал и звал соседа подсобить. Мужики смеялись над его трогательной, наивной жалостью, но всегда помогали, ничего не прося взамен. Куриц становилось все меньше и меньше, а новых Андрюха не брал — жалко ему было убивать душу живую.
И однажды осталась у него всего одна курица — колченогая, кривая, такая же, как и хозяин, неприкаянная и никому не нужная. Жалел её Андрюха всегда больше других. По несколько раз на дню заходил в курятник, разговаривал или сидел молча, как будто превращаясь для неё в петуха. Прожила она у него в одиночестве месяц, затем другой, третий, и так стало жалко Андрюхе курицу, что живёт она в одиночестве, без друзей и семьи, как и он сам, что пошёл и отдал курицу соседям. Те удивились, но противиться не стали, лишь посадили её в свой курятник.
Дети соседские назвали курицу, как и дарителя — Андрюхой, не разумея ещё половых различий в именах. Так и стала Андрюха жить среди себе подобных в новом курятнике, иногда пробираясь через дыру, вырытую собаками под забором, в свой старый двор, к своему прежнему хозяину, радуя его то ли смешным, то ли грустным обличьем и способностью, казалось бы, на пустом месте найти зернышко, найти нечто ценное, найти среди высокой травы пропитание, удачу и счастье.
Леший и завоеватели Америки
Все знают, что леший существует. Его никто не видел. Однако окурки, банки и прочий мусор, оставленный уважаемыми отдыхающими и туристами, он периодически из лесов и озёр раньше выуживал. И тихо утилизировал где-то на своих никому не ведомых полигонах.
Леший очень любил жителей городов, выезжавших на пикники в лес или на речку. Там они жгли костры, жарили шашлыки и разных чучел, бухали до потери сознания, разбрасывая тару, ломали деревья, чтобы было куда пристроить свой зад. Всё это лешего очень забавляло.
Леший просто обожал собирать осколки битых бутылок и ни на кого не обижался, если влезал случайно ногой в какаху, заботливо накрытую листиком.
Когда леший видел на суку специально приготовленный для него пакет с банками или тухлой колбасой, оставленный неизвестными, то он непременно обходил сие место крестным ходом и произносил хвалебную речь в честь наимудрейших посетителей леса.
Если на ветки надеты бутылки, а между ветками зажата обёртка от чипсов, всем известно — здесь побывал гирляндер. Его художества леший почти никогда не трогал, не уничтожал красоту.
Санитару леса очень не нравилось, если кто-то приходил в лес, тихо слушал шум ветра и листвы, дышал воздухом, не пил водку, не курил сигаретки и ничего не оставлял после себя. Он был взбешён, если приходили какие-то му**ки и собирали за других их мусор; таких он проклинал, дорога в лес им была закрыта.
Но в последнее время леший куда-то пропал. Наверное, приболел или обиделся на пионеров. Забыли они его, перестали приезжать. Без пионерских гигантских шабашей совсем сник леший.
Как-то в лесу появились загадочные неопрятные люди, падкие на алюминий. Леший не понимал, зачем они мнут красивые алюминиевые банки, перед тем как унести их с собой. Так же поступали завоеватели Америки — переплавляли красивые фигурки майя и ацтеков в безликие уродливые слитки.
— Наверное, это потомки завоевателей Америки, — подумал леший.
Однажды он не выдержал варварского отношения к искусству и ушёл. Некому стало лес убирать.
Теперь мусора в лесах накопилось очень много. Люди приезжают, разгребают в гадюшнике себе полянку, а уж потом гуляют, её снова загаживая, и, довольные, уезжают.
Мысли из никуда
Хармса вычеркнули из жизненной ведомости.
Судить других можно, но только осудив сперва себя.
Тойота Vitz’ин.
Дуратино.
Путин — это прыжок вперёд по сравнению с Ельциным, но пока прыжок в неизвестность.
Адольф Гитлер очень любил детей, поэтому у него их и не было.
Богатым стать просто — трать меньше, чем зарабатываешь.
Магия танца
Пластика тела, грация человеческой плоти, гибкая жёсткость рук и ног; изящество прыжка, приземления и поступи; пафос причудливых па и плие, натруженная лёгкость поддержек, балетные корсеты и пуанты — всё это меня никогда особо не трогало. Я всегда смотрел на женский балет и танец не как на искусство, а как на нечто среднее между физкультурой и интересным, изящным, непринуждённым времяпрепровождением. Если же танцевал мужчина, то к моим чувствам примешивалось ощущение лёгкой стадии ненормальности парня в трико. Бегать по помосту в накладке, обтягивающей пах, и скакать, как необъезженный конь, — не мужское это, на мой взгляд, не мужское.
И вот однажды в моём заскорузло-консервативно-пролетарском мнении появилась огромная брешь. Появилась она благодаря обычному с виду человеку, взорвавшему во втором акте какого-то спектакля по мотивам рассказов не то Гоголя, не то Щедрина моё сознание отточенной безукоризненностью исполнения своей сольной партии в поминальном танце-плаче. После увиденного во мне проснулся интерес к этой, пока не известной мне персоне в частности и танцу вообще.
Тело человека не слишком совершенно, не очень красиво, порою весьма неказисто и без должного ухода с годами приобретает вид более удручающий, нежели заставляющий им восхищаться. Лишь спорт и танец могут продлить молодость плоти — только это я всегда считал основным их назначением, а не достижение невероятных, уничтожающих организм рекордов и постановку невероятных по сложности акробатических трюков на сцене. Никогда я не верил, что в танце есть душа. Оказалось, есть, и порой не меньшая, чем в стихах, музыке и литературе. Именно интерес к душе танца и пробудил во мне незнакомец.
Спектакль закончился, и люди потянулись в гардероб за собольими шубами и песцовыми шапками да в кафетерий за рюмкой коньяка и долькой лимона. Среди когорты последних оказался, не скажу, что случайно, и я. Непринуждённый трёп записных театралов в кафе перемежался звуками сходящихся как на дуэли рюмок; восхищённые вздохи дам наполнялись сладким дымом отечества от заграничных сигарет; бармен, не иначе бывший служитель Мельпомены, был словоохотлив и подливал в беседы праздных кутил тирады, а в их стаканы недешёвое вино. Собравшиеся в кафе ждали, как всегда, одного (вернее многих) — виновников торжества, а именно труппу танцоров, что ежедневно благосклонно одаривала почитателей своего таланта вниманием, заодно не чураясь угоститься за их счёт.
Прошло около получаса, и труппа появилась. Собравшиеся в этом, конечно же, не сомневались, и за прошедшее время многие успели основательно заправиться и забыть про слуг Мельпомены, безвозвратно сделавшись слугами Бахуса. Труппа, надо заметить, очень скоро последовала примеру этих избранных. Процесс миграции из мира Мельпомены в подвалы Бахуса выглядел весьма примечательно.
Я, как и все собравшиеся в кафе, картинно выпивал за барной стойкой, сооружённой из цельной древесины векового дуба или ясеня, при стуке по которой в воздухе разносился низкий глубокий звук, и чего-то ждал. Точной цели у меня не было. Просто было любопытно, и я решил интерес свой удовлетворить. Более подходящего места, чем театральный кабак, в данном случае придумать было невозможно.
Итак, появилась труппа. Почти в полном составе — за исключением актеров массовки: они никому не были интересны, не известны и пить могли только за свой счёт, что проделывали очень редко. Среди группы с виду довольно брутальных мужчин я увидел его — незнакомца, так стремительно разрушившего мой замок иллюзий и предубеждений. Пройдясь по кафе, похлопывая восторженных подвыпивших поклонников по плечу, он неожиданно направился к барной стойке, где расположилась моя, в тот момент уже не совсем скромная, персона. Сел рядом со мной, заказал какого-то бабского ликёра и, обернувшись в мою сторону, неожиданно спросил: «Ну как? Вам понравился спектакль?»
Мой язык кто-то превратил в тот момент в телячий, и я с трудом выразил своё восхищение фразой: «Да нормально». Я бы на месте незнакомца на такую фразу отреагировал жёстко и скорее всего удалился, но мой визави остался и продолжил общение.
Не помню, о чём мы говорили, но беседа срослась, склеилась и потекла сначала ручьём, рекой, а потом и бурным, разгорячённым спиртным потоком. Разговаривали обо всём подряд — о погоде, о литературе, о музыке, на философские, религиозные и откровенно похабные темы. Он вещал мне о гении и трудолюбии Барышникова и Агриппины Вагановой, о Дягилевских сезонах и балетах Чайковского и Рахманинова, об удивительных секретах закулисья и байках мира танца. Мне было очень интересно, очень. Вечер перешёл в ночь, и ряды почитателей сцены вокруг нас заметно поредели — остались самые восхищённые ценители минувшего театрального действа с бутылками коньяка на сероватых скатертях. Мы пересели за столик в углу и заказали ещё выпить. «Вина!» — попросил официанта он и изящным жестом налил мне почти полный стакан кровавой жидкости, когда то подоспело.
Беседа продолжилась, и мне показалось, что я знаком с этим человеком уже много лет и очень хорошо его понимаю, разделяю мировоззрение, воззрения и зрю вместе с ним в корень, как вдруг у меня появилось странное, слегка холодящее душу и тело ощущение. Я был так погружён в интересный разговор, что не сразу заметил как незнакомец пересел сначала на мою сторону стола, а потом и на мой диванчик, приблизившись почти вплотную, и стал пристально вглядываться мне в глаза. Это был странный взгляд, необычный. Чуть позже я понял, что это был за взор — так я всегда смотрю на женщину, мне понравившуюся и околдовавшую меня своей скромной нерешительностью, застенчивостью и одновременно силой интеллекта и широтой кругозора. Он смотрел на меня именно так — как на подпитую бабу, как на объект страсти и влечения, как на тело, с которого он хотел сорвать одежды и заключить в объятия.
Я с трудом стал находить слова для продолжения разговора. Думаю, мой собеседник тоже заметил неловкость и понял, что поторопился, хотя и без спешки моя реакция была бы идентичной. Так бывало, наверное, почти с каждым мужчиной в жизни — женщина тебе нравится и ты уже готов на все, а вот она пока не дошла до такой кондиции и заметно сконфужена твоим рвением и страстью. Он аккуратно свернул нашу скатывающуюся к нелепому молчанию дискуссию и завершил вечер нейтральным: «Ну, мне пора».
На прощание мы подали друг другу руки, он притянул меня к себе, обнял и поцеловал в щёку. Я ощутил нечто отнюдь не дружеское в этом прикосновении губ. Мне стало слегка противно. Поскорее я сел в такси, глубоко взохнул и выдохнул.
Больше я с Борисом Моисеевым не встречался и долго его не видел, пока тот не запел с голубых экранов свою знаменитую «Голубую луну» уже в дуэте с каким-то другим поклонником его танцевального гения.
Истина в вине
Он истину увидит сразу — Он образован, знает фразу Латинскую «Ин вино вери-тОс», Красная харя, синий нос.Месть
Красноватая кварцевая лампа монотонно гудела в углу. За окном, поскрипывая и жужжа, мелькали машины. Люди изредка перебегали неширокое дорожное полотно, неожиданно выскакивая из зарослей клёнов и тут же скрываясь в них на другой стороне улицы. Птицы приземлялись на железный отлив подоконника у окна на втором этаже, быстро хватали белые сухие крошки и, как ракеты, без промедления взмывали к солнцу.
Палата была почти пуста. Новый роддом только три дня принимал рожениц, и лишь две постели успели немного согреться о чьи-то тёплые тела. Запах свежей, не выветрившейся ещё масляной краски, спирта и эфира превращал прямоугольное белое помещение с одним окном и алой квадратной лампой, висящей в углу под самым потолком, в подобие небольшой уютной церквушки, затерявшейся меж зелёных зарослей папоротника и дикого шиповника, стучащего по ночам в окно.
— Девочки, подите, пожалуйста, в коридор, — со смущением в голосе произнесла вошедшая санитарка, ставя на ещё блестящий линолеум синее пластиковое ведерко, — пол надо подтереть да кварцем все обжечь…
— Я никуда не пойду! — почти не задумываясь, резко бросила Марина, не отрываясь от, впрочем, не слишком интересовавшей её позавчерашней газеты. — Я читаю.
— Экий у тебя локон белый и глаза голубые, — слегка улыбалась полная невысокая женщина, глядя на Марину, — и ребёночек вырастет белёсым… Родятся-та они все одинаковыми, а как подрастут, так и становятся на родителей похожи. Поди, милая, пожалуйста, а то мне не с руки перед людьми кверху задом стоять, — добавила она и окунула серое рубище в пенную пахучую жидкость.
— Да пошла ты! — со злобой произнесла Марина и, делая вид что читает, перелистнула газетную полосу.
— Нехорошо людей обижать, милая, ни за что. Бог всё видит, — послышалось из дальнего угла палаты, и влажная тряпка заёрзала по гладкой упругой поверхности.
— Дак нет же Бога. Или ты марксизм-ленинизм не изучала, старая? — зло каркнула девушка и повернулась лицом к выходу.
— А нет, так мы и сами многое могём… — эхом негромко разнеслось по комнате.
Марина повернула голову. Комната пуста: ни ведра, ни полной женщины. Только небольшая влажная полоска пробежала по полу от дальнего окна, слегка виляя из стороны в сторону. Марина подошла к двери, дёрнула ручку и вышла в коридор. Обошла весь этаж, почти не встретив людей. Дошла до дежурной медсестры, постоянно оборачиваясь назад. Взглянула в окно, вернулась назад в свою постель и легла спать, на всякий случай оставив включённым свет.
Схватки начались ещё затемно. Марина рожала в первый раз и с ужасом бросилась на пост. Медсестра тут же провела её в операционную, уложила на кушетку и дала успокоительное. Страшная боль скрутила тело. Марина рвала длинными красными ногтями синюю простыню. Вцепившись в рукоятки из кожзаменителя, ёрзала из стороны в сторону, пытаясь избавиться от ужасных, режущих её изнутри ножей. Скоро все стихло…
Цветы. Белая «Волга». Лица родителей и лучистая улыбка мужа. Марина с ребёнком на руках, не спеша шагающая по больничному двору. Дорога, подъезд, их с мужем квартира.
Девочка родилась здоровой. Марина была счастлива. Она очень любила мужа. Несколько лет они не могли завести детей. Искры недовольства и неуверенности стали проскакивать меж супругами. Всё стихло, когда появился ребенок. Маленький, чёрненький с тёмными глазами, он ещё не был похож на родителей, но вскоре должен был приобрести всё лучшее, что ему передалось с генами: голубые глаза, кудрявый светлый локон, ум и сообразительность отца, грацию и женственность матери.
— Ты мне изменила? — спросил через год муж.
— Нет, конечно, дорогой! Как ты мог так подумать? — рыдая, отвечала Марина.
— У меня голубые глаза, у тебя тоже, а у девочки карие. Я что, похож на дурака?
Скандалы стали постоянным спутником их жизни. Семья рушилась. Девочка, подрастая, все больше и больше отдалялась внешне от родителей — чёрные смоляные волосы, карие, почти угольные глаза, нос с горбинкой. Марина не находила себе места и не знала, что думать. Вскоре муж ушёл, и Марина осталась одна с ребёнком на руках. Сил сопротивляться обстоятельствам у неё почти не осталось. Родственники отвернулись от неё, даже собственная мать смотрела с укоризной.
Листва тонкой скатертью легла на землю. Деревья всё больше, с каждым дуновением ветра, превращались в страшные безжизненные коряги. Марина брела по какой-то улице, почти ни о чём не задумываясь. Солнце покинуло землю, и мрак постепенно нависал над домами. Вдруг чуть впереди знакомая странная фигура и серое здание слились воедино. Раздался стук входной двери, и Марина пришла в себя на тихой небольшой улице. Огляделась.
Роддом почти не изменился. Лишь краска облупилась на дверях и штукатурка кое-где под подоконниками отвалилась. Дверь, повисшая на одной петле, тихо скрипнула, и Марина попала в помещение, когда-то ставшее для её дочери первым, что та увидела в солнечном мире. Несколько посеревших от времени дверей, небольшой холл. Осколки выбитых оконных стекол на полу. Тут и там валяющиеся обломки стульев, шкафов, различной медицинской утвари. Свистящий в пустых проёмах ветер. Паутина. Осенняя листва и капающая через дыры в потолке дождевая вода.
Марина шла, не понимая, что делает. Поднялась на второй этаж, прошла несколько метров. Отодвинула стоящую на пути панцирную кровать, лишившуюся одной спинки, переступила через останки какого-то животного, кучу тряпья и обрывков газет. Подошла к высокой двери, взялась за измазанную чем-то мерзко пахнущим ручку и аккуратно потянула на себя.
Ослепляющий свет из окна в другом конце палаты. Марина прикрыла глаза рукой. Тихая, лёгкая музыка. Знакомая палата с новеньким линолеумом, белоснежными простынями. Запах свежей краски, спирта и формальдегида. Красная лампа в углу, своим светом наполняющая помещение уютом и спокойствием. Женская фигура в фартуке с синим ведёрком в руках.
…Нехорошо обижать людей…
Ноги задрожали, и Марина рухнула на старый, протёртый, весь в заплатках линолеум, оперлась ладонями о шершавый грязный пол и разрыдалась…
Мысли из никуда
И Вере воздастся по вере.
Результативная бездеятельность.
Кручусь, как заяц в мясорубке.
Создают своё, когда уже нечего воровать.
Никого не красит время, особенно того, кто свои времена изуродовал.
Старый конь свинью не испортит.
Перековать сабли на шампуры.
Модные штаны
Мы купались в желтоватой, как кожа обитателей Поднебесной, откуда вытекает Иртыш, воде. Иногда мне казалось, что ещё чуть-чуть, и я услышу писклявое «ни-хао» на берегу, низкорослый сухощавый китаец протянет мне миску риса, а я, выходя из мутных вод Хуанхэ, поприветствую его поклоном и с удовольствием разделю с ним нехитрую трапезу. Но, выбираясь на сушу, преодолевая сопротивление воды, я снова возвращался на пустынный песчаный берег, где лежали наши с Дениской пара велосипедов, шорты да футболки.
Солнце доставало нас даже сквозь толщу мутной жидкости, и мы не вылезали из реки часами, пока полуденное пекло не сменится пеклом вечерним, чуть менее испепеляющим всё живое. Редкие катера, проносящиеся по фарватеру, взрывали реку подводными крыльями, и мы с радостью кидались в набегающие на берег взрывные водяные волны. Небольшие полуметровые валы — хотя в детстве они казались огромными — быстро пасовали перед твердью земной, и вскоре нам снова являлись картины художников, живописавших спокойную водную гладь, утопающую в густой зелени листвы на другом берегу, бело-жёлтое низкое солнце сибирской степи и лёгкий ветерок, подгоняющий куда-то одинокое, почти прозрачное облако.
Сибирь — удивительное место, контрастное. Когда её покоряли первые русские поселенцы — а покорности они добивались от земли сибирской в основном летом, — они наверняка искренно радовались красоте и изобилию здешних мест, приветливости ветерка, лучезарной улыбке солнца, мягкости и сочности трав в лугах и полях, пудовым гроздьям дикой клубники и калины, месторождениям груздей и подберёзовиков, отарам кабанов и лосей, косякам тетеревов и уток. С радостью первые поселенцы ставили наспех хлипкие срубы на крутых берегах сибирских рек и речушек, где и давали дуба аккурат в крепчайшие крещенские морозы, замораживающие до самого дна не только реки и озёра, но и разум и душу человеческую, а не в Крещение, так на пасхальное половодье, смывающее с лица земли всё ей чуждое и уродливое, а заодно и всё, что успели возвести не то люди, не то муравьи накануне полугодового заморозка.
Человек привыкает жить везде. Привык жить и в Сибири, подчинив своё существование двум полугодичным циклам — циклам рая и ада, циклам скованности и раскрепощения, циклам активности и сна — циклу летней жаровни и зимнего морозильника. Лето в Сибири проходит быстро, почти незаметно, потому что перенасыщено работой в полях под нещадно палящим солнцем, разбавлено умиротворяющим сбором ягод и грибов в тенистых, прохладных лесах, подчинено заготовке топлива на долгую и суровую зиму. Зима же, напротив, тянется выматывающе долго, так как полна лишь дел, направленных на выживание, а не на созидание чего-то вечного, великого. Долгая сибирская зима идёт на благо только философским и мечтательным натурам, способным свободное время обращать в замысловатые предметы искусства и быта, создавать и творить, когда природа вокруг спит мёртвым, беспробудным сном.
Созидание и творчество — это не дар богов, не что-то невероятное и требующее поклонения. Нет. Это просто стиль, образ жизни. Страсти к познанию и созданию чего-то нового у многих людей просто нет, но менее счастливыми они от этого не становятся. Просто живут и наслаждаются тем, что дано, не претендуя на лавры новатора, не желая отщипнуть у Бога листок его лаврового венца. Поэтому многие люди в Сибири, не утруждая мозг мыслями, зиму пьют, не жаждая что-то изобрести, написать картину или сложить сонет, а летом пашут как ломовые лошади за оба сезона сразу, не щадя времени, сил и здоровья на свои занятия ни зимой, ни летом. Такими людьми и были родители Дениски: летом вкалывали, где только могли, зарабатывали, копили, откладывали деньги, а зимой их весело и с шумом спускали — так и жили. Напивались и мечтали о лучшей доле для себя и детей, не понимая, что сами её день за днём и пропивают.
Городок наш был небольшой, и дома почти все были частными. В таких посёлках, больше похожих на огромную деревню, все друг друга знают, и если ты один раз облажался, клеймить позором тебя будут ещё долгие годы, но зато, прославившись раз, будешь получать заслуженные дивиденды десятилетия. Это в Москве можно переехать из Тушина в Ясенево и о тебе никто и не вспомнит на следующий день, разве только сосед разыщет, чтобы вытрясти старый долг, а у нас можно было переехать только на соседнюю улицу или на кладбище — ни первое, ни второе плие не освобождало от пристального взгляда знакомых глаз.
На дворе стояла перестройка, но почему-то никто ничего не спешил перестраивать — всё только ещё больше ветшало. Старые сразупослевоенные домики постепенно врастали в землю, рассыпавшиеся под воздействием времени и грунтовых вод фундаменты трескались, и крыши стоящих на них домов провисали, как насест под жирными курами. Люди умирали, и дома, где раньше жила добрая старушка или когда-то могучий ветеран войны, годами стояли заброшенные, с заколоченными наспех окнами. Частенько брошенные лачуги кто-то поджигал, и тогда вся округа сбегалась поглазеть на бесплатное фаер-шоу.
Дым от пожарищ был виден всему городку. Душа нехитрого дряхлого жилища вылетала с гулом и шипением мощным чёрным столбом, вытягивающимся в безветренную погоду на сотни метров над землёй. Весь город видел чёрного гигантского джинна, выпущенного кем-то, и весь город охватывала дрожь, ведь пожар — самое страшное, что могло случиться с человеком. Пожар уничтожал всё: одежду, еду, документы, мебель, стены и крышу, всё нажитое, всю жизнь человеческую. Частный дом сгорает полностью. Это в квартире остаются бетонные стены, пол и потолки. Можно заколотить оконные проёмы и кое-как перезимовать. Деревянные же строения не могут сдержать напор огня и рассыпаются в пепел до основания. Человек оказывается на улице в чем мать родила, а впереди уже маячит лютая стужа и сорокаградусный колотун. От таких мыслей голова идёт не то что кругом — квадратом.
На пожары, как на именины, обычно собирались толпы народу. Что двигало этой толпой, неясно, но посмотреть на то, как горит чьё-то жилище, сбегались семьями, приходили соседи, приезжали с округи ребятня на велосипедах и юнцы на мотоциклах, на машинах подъезжали уже взрослые люди. Весь этот сброд смотрел с упоением на огромные, высотой с пятиэтажку языки пламени. Гигантский пионерский костёр сводил людей с ума, адское пламя завораживало, как бабочек — пламя свечи. И даже когда пожар был уже потушен, толпа продолжала прибывать — то ли посочувствовать, то ли позлорадствовать. Огонь обдавал жаром, земля дымилась и горела, как в фильмах о Великой Отечественной войне. Если дом горел зимой, то в радиусе нескольких метров от жаровни стаивал снег и оживала прикрытая снегом желто-зелёная, не успевшая завянуть осенью трава.
В тот день мы с Дениской ужасно устали — река и баня отнимают много сил — и стали собираться домой, когда заметили вдалеке чёрный столб дыма, соединяющий небо и землю. Мы сразу поняли, чем пахнет эта пушистая чёрная нить, и поспешили на зов, дабы увидеть хотя бы окончание боя комбинезонов и касок с дымящимся рыже-красным демоном. Детство зачастую безжалостно-легкомысленно, и дум о горе, которое выпало на чью-то долю, в наших головах тогда не было, был только азарт, вызванный желанием успеть на циничный и жестокий уличный спектакль, спектакль, где герой один — неудержимая стихия.
— Смотри! Похоже, горит в нашем районе. Это хорошо. До дома потом будет ехать недалеко, — сказал Денис и с улыбкой на лице поднажал на педали.
— Похоже, горит прямо на нашей улице! — сказал я, когда мы уже спускались с небольшого пригорка, разделявшего реку и жилые кварталы.
— Точно! Очень близко горит, — согласился Дениска.
Пожар полыхал ещё вовсю, и когда до него осталось от силы с полкилометра, чёрный дым стал сменяться молочно-бело-жёлтым. Так происходит, когда прибывает пожарная машина и начинает поить разбушевавшееся пламя.
— Эх, опять ничего не увидим, — досадовал Дениска и всё быстрее нёсся к повороту, из-за которого наша улица просматривалась насквозь. Он повернул налево, я за ним, и тут же оба встали, как будто вляпавшись в застывающий вязкий битум.
— Денис! Твой дом, кажется, горит! — промямлил, открыв рот, я.
— Кажется, — ответил он и помчался ещё быстрей к толпе народа, окружавшей три красно-белые машины.
Когда мы приехали, смотреть действительно было уже не на что. Пламя пожарные сбили и проливали каркасно-насыпной дом слабыми струями воды. Крыша рухнула вовнутрь, обугленный забор ввалился в ограду, обгоревшая собака скулила, бегая вокруг незнакомых туфель и сандалий и не находя себе места, мать Дениски стояла, держась за сердце, отец сидел на корточках и смотрел на струйку воды, вырывавшуюся из распираемого изнутри самим Посейдоном пожарного шланга, восемнадцатилетний брат Дениски плакал, держа в руках то, что успел вынести из огня: свою новую куртку с непонятной для нас тогда надписью adidas и широкие драповые штаны в клетку — самые модные у молодёжи на выданье в то время вещи.
Нам с Денисом было лет одиннадцать от силы. В этом возрасте мы ещё хорошо были прикрыты широкими плечами взрослых от всевозможных горестей, поэтому особых перемен в поведении друга я не заметил. Мы всё так же ездили купаться — ведь велосипед, футболка и шорты у него остались, гуляли и играли, а когда началась осень, он уехал жить к бабушке на другой конец города, и мы почему-то перестали общаться — детская дружба ещё не очень сильна и ни к чему не обязывает. Я редко стал ходить вдоль дома Дениса и лишь иногда обращал внимание на перемены, происходившие там. Дом кто-то потихоньку, муравьиными, даже черепашьими темпами восстанавливал. Через год или два я узнал, что родители Дениски умерли — отец от сердечного приступа, а мать спилась. Видимо, полученный удар судьбы им было не суждено пережить. От Дениса известий не было, и детская память затёрла этот трагически неприятный эпизод. Осталось только одно: страх перед пожаром и огнём в любом его виде — перед большим костром, полным газовым баллоном или канистрой с бензином.
Лет через пятнадцать я решил разыскать Дениса. Не знаю, чем была вызвана эта блажь, но желание моё не принесло положительных эмоций. Не найдя адреса последнего места жительства друга детства, я направился на свою бывшую улицу — к дому, где когда-то жила Денискина семья. Издали вид дома ничем не напоминал о далёком, уничтожившем его почти до основания пожаре. Крыша была на месте, новые окна блестели белой эмалью, зелёный колор фасада сочетался с высаженными вокруг дома кустами вяза, во дворе стоял хоть и видавший виды, но ещё вполне приличный синий грузовичок.
Я подошёл к дому и постучал в окно. Не сразу, но входная дверь отворилась, и через ограду к калитке направилась, чуть покачиваясь, усталая фигура мужчины. Он не шел — волочился, как тень, натужно перебирая ногами, руки опустив, как плети. Входная дверь осталась открытой, и я явственно ощутил запах того ужасного пожара, что полыхал здесь пятнадцать лет назад. Видимая часть стены внутри обуглена, потолок представлял собой рубище нищего — весь в дырах, забитых кусками ДВП не первой свежести.
Фигура подошла к забору, не отрывая двери, захрипела: «Кто там?» — и только я хотел задать свой давно заготовленный вопрос, как голос мой вдруг сковали ужас, чувство страха, беспомощности, сожаления и глубокой печали. Я увидел его — в куртке «адидас» и штанах, драповых, в крупную чёрную клетку, что были когда-то так популярны у молодых парней. Голос вновь повторил: «Кто там?» Я отшатнулся, развернулся и быстро пошёл прочь. Сердце разрывалось от понимания, что жизнь бывает столь тяжела, несправедлива и жестока к людям, как она оказалась безжалостна к брату Дениски.
Пожар перечеркнул всю его жизнь. Восемнадцатилетнему парню пришлось начинать жизнь с нуля — без дома и вскоре уже без родителей, без образования и профессии, пришлось лучшие годы жизни прожить в полусгоревших, почерневших от копоти и огня стенах, год за годом пытаясь восстановить хотя бы что-то. Без жены, без семьи — куда он их мог привести? — он был вынужден долгие месяцы и годы бороться за своё существование. Пятнадцать лет лишений и борьбы, пятнадцать лет сырого, затхлого ада по ночам, пятнадцать лет без поддержки, понимания, ласки и любви. И всё из-за случайной искры, спалившей до основания его прошлое и будущее, спалившей всё, кроме его куртки и драповых клетчатых, до сих пор для него модных и любимых штанов.
Под сенью белого медведя
Под сенью белого медведя Стою, скрываясь от зарниц. Пушиста шкура, чёрен нос — Аляска, мать её в мороз.Мужеловство
Джо был плохим студентом. Как он поступил в институт, никто не понимал. Вернее, все понимали, что по блату, но по какому именно блату, известно было немногим. Вроде бы он не был сыном известного генерала или политика; не был награждён орденами и медалями за свои, никому не известные, подвиги; не имел физических увечий, дававших право на поступление вне конкурса. Был он обычным, ничем особо не выделяющимся человеком.
Учебный день в институте начинался всегда одинаково: дружный студенческий перекур и обсуждение вчерашних похождений будущих защитников законности. В курилке говорили кто о чём: о девушках, о кино, об ордалиях и законе талиона, о скорой сессии и сложностях сдачи процесса, о родителях и друзьях, о будущем и прошлом.
Всем по доброте своей душевной Джо раздавал клички, причём для этого, особо не раздумывая, просто «вырезал» первые несколько букв фамилии и тем довольствовался. Фамилия Кабанюк легко превращалась им в «Каабу», Молочинская становилась «Молой», Крупкина быстро получала «квалификацию» «Крупье» и так далее. Иногда Джо «крестил» людей по их профессиях. Школьный учитель труда стал со временем в неофициальных беседах фигурировать под прозвищем «Трутень», учительница немецкого — «Ви-хайст-ду».
Миновал первый семестр, и подошло время сессии. Джо без особых волнений вступил в эти знаменательные времена. Сокурсники волновались, переживали. Многие что-то учили и искали, у кого переписать лекции по «Государству и праву», готовили шпоры. Глядя же на Джо, казалось, что диплом у него уже в кармане без усердных занятий. Многие сокурсники начинали верить словам Джо о самостоятельности, подозревали его в тайном штудировании томов Юридической энциклопедии. Полагали, что сессию он сдаст на «отлично».
И вот настал день первого экзамена. Студенты с волнением тянули билеты и рассаживались по аудитории для подготовки. Джо, как и остальные, взял билет, проследовал за парту. На его лице не было и тени сомнения в успешности сдачи экзамена. «Нервы — сталь!» — сказал о нём негромко один из сокурсников. «Кремень!» — добавил другой.
Минуты бежали вперёд, чуть запинаясь о косноязычность некоторых грызунов наук. Одни будущие служители Фемиды с лёгкостью сдавали экзамен, другие с такой же лёгкостью его не сдавали и выходили из аудитории. Подошла очередь Джо. Весь оставшийся курс смотрел на уверенную походку, все с неподдельным интересом наблюдали, как он не спеша подошел к столу экзаменатора, властно отодвинул стул и сел. Зал замер. Интрига должна была вот-вот раскрыться.
— Здрасьте. Я от Валентин Петровича, — тихо сказал Джо, чуть наклонившись к уже немолодому профессору, читавшему курс «Истории права».
— Что, простите? — удивлённо спросил экзаменатор.
— Я от Валентина Петровича, вам должны были позвонить, — продолжал Джо.
— Никто мне не звонил! Отвечайте на вопросы. Что там у вас?.. Мужеложство? Отличный вопрос! Начинайте! — нервно сказал преподаватель, чуть повышая голос.
В зале наступила минута молчания. Кое-кто открыл рот, и в этот момент из уст Джо вырвалось несвязное: «Эээээ… Мужеловство… Эээээ…. Мужеланство…»
Аудитория разразилась гомерическим хохотом. Смех не стихал. Экзамен Джо не сдал.
Мысли из никуда
Верх упорства — поджигать пепел.
Признание при жизни говорит о том, что ты уже мёртв.
Очернение религии — когда её превозносит чернь.
Спасибо вам за Соучастие!
Жизнь — текила. Жизнь — ты kill’a.
Rыba-COP.
l’am’v’shock’able.
Выдумщик
Родился выдумщиком я И сотворил мирок, Где короли глупы всегда И я в нем одинок. Там скрипок нет, увы, давно, Альты не в такт молчат, Там лжёт труба, и счастья нет, Бьют в барабан набат. Придумать новый? Там, где я Кумир толпы, позёр, Толпе пою: «Виват! Ура!» Она взамен: «Фурор!» Где все лишь мне фанфары, туш, И все у ног моих, Смотрю в глаза любимой я И отражаюсь в них. Нет! Лучше уж оставить так, Как есть, и пусть сатир Мне пропоёт в лесу один, Мне пропоет: «Кумир!» Я там, где барабанный бой — В нём боль и глубина, Эмоций бездна и любовь В золу обращена.На ноль делить нельзя?!
На ноль можно делить всё что угодно, хотя многие и думают, что этого делать нельзя. Вопрос в другом: зачем что-то делить на ноль? Чтобы погрузить сознание в кататонический ступор или чтобы узреть истину, которой вовсе нет, и слиться с конечной бесконечностью бытия; чтобы гениальная толпа признала тебя дураком или простофиля Бог — своим мессией?
Верно, как белые ночи, то, что дважды два не всегда равно четырём, как и то, что доброта иногда оборачивается злом, дружба — корыстью, а любовь — ненавистью. Справедливо также и то, что сумма углов треугольника может вдруг оказаться больше ста восьмидесяти градусов, а в водке меньше сорока. Вот только далеко не все в это верят с первого раза, далеко не всем хватает смелости ощутить себя не в себе, а где-то в другом, возвышенном и сюрреалистичном, а иногда и адском, на первый взгляд, месте.
Мозг и сознание человека инертны, как стоящий грузовик без колёс и соляры, они недоразвиты, но всё ещё пластичны. В сдвиге сознания с обыденных позиций, возможно, и есть истинный смысл жизни любого человека, любой обезьяны, научившейся говорить и нажимать на педаль газа. Только так творится что-то новое, так создается сама личность — отодвигая старый, нарисованный на занавеске в её мрачной каморке мирок.
Все эти Ньютоны, Ферми и Лейбницы — такие же, как и мы, простые, ничем не примечательные внешне люди, просто пренебрегшие обыденным сознанием большинства, взбунтовавшиеся, вычленившие свою мысль из оков окружающего их скелета и разнёсшие этой же мыслью, как кувалдой, сковывающую их стеклянно-оловянную эфемерность в пух и прах.
Раздвигая границы сознания, нужно дойти до абсурда, до бреда, до маразма, до верха непонимания абсолютно ясного и понимания невозможного и абсолютно нереального, чтобы, вернувшись обратно в свою сущность, не увидеть действительность и её структуру, а лишь её бредовость, понять, что она та же реальность умалишённого, только с обратным знаком.
Семья, работа, государство, политика, режим, мораль, этика — что за бред, что за игра больного разума, игра ребёнка, расставляющего кукол по своим местам, бред сознания, не делящего на ноль и свято верующего, что один плюс один равно двум. Всё, что мы видим, не существует, всё, к чему мы стремимся, лживо. Всё или ничего?
Только встав на свои собственные позиции, только разрывая порочные цепи человеческого шовинизма в природе, только отдаляясь от вдолбленных и удобных для большинства лентяев и приспособленцев идеалов можно стать человеком, человеком по сути, а не по сравнению с макакой, человеком в душе, а не в костюме, человеком-творцом, а не человеком — холодильником-телевизором…
Подели на ноль себя! Сделай невозможное! Дели каждый день и каждый час и стань бесконечностью — стань всем, иди не уставая, гори не сгорая, стань как Бог, стань Богом, стань лучше него, наконец! Это невозможно? На ноль можно делить!
* * *
n/0 = infinity (бесконечность)
Душа на ладан
Душистая смола перед иконой тлеет и дымится — Как жизнь, что не продлить и не остановить, Когда пора пришла душе освободиться От тела бренного, от страсти, от обид. Она летит перед Его очами, превращаясь в дымку, В туман, что рассыпает по утрам росу, В едва заметный образ, в тень немую, В печаль, усталость, грусть и… пустоту. Дыша на ладан, мир привычный кажется пейзажем, Картиной прошлого, того, что не вернуть, Мазками крупными, майоликой, карикатурой, шаржем — Художника безвестного самозабвенный труд. Земной наш путь, уткнувшись в камень придорожный, Придя к финалу светопреставленья своего, Оставил пыль желаний и страстей подложных, Терзаний плоти, разума, но не достиг он одного. Не пожелал найти он берег тихий и манящий, Пройдя над бездною среди массивных скал, И ощутить восторг и упоенье красотой непреходящей Заката, неба, моря видом — всем тем, что взгляд его ласкал Сам Бог, его творение немое, но живое, Что днём парит и замирает, как и мы, в ночи. Поют псалмы кому речитативом волны в море, О сушу с шумом разбиваясь, пенясь, опочив. Не смог понять он смысла, назначенья жизни бренной — К чему стремился и к чему весь мир идёт. Душа и тело — точно дым и ладан. Сгорит одно навек — другое оживёт…Недоглядела
Мои родители Лёшку недолюбливали — был он слишком своенравен, старших не уважал и к мнению их почти никогда не прислушивался. Жил, как будто знает всё не хуже взрослых, вечно уставшей матери и отца, которого никогда не видел, как будто с детства уже понимал жизнь и знал, как о себе позаботиться, знал что-то недоступное другим детям и до поры не раскрывал свою тайну. «Ишь ты! Вырос раньше времени!» — говорили с ехидством соседи. Он и глазом не вёл, только иногда делал им мелкие пакости, если начинали сильно допекать. То оконное стекло ночью разобьёт кирпичом, то кота соседского краской измажет, а чёрно-оранжевая пушистая зебра потом и весь дом, то пару палок из соседской изгороди отдерёт. Его никогда не ловили — действовал изобретательно, осторожно, с расчётом, но знали — больше некому было. И потихоньку отстали. Плюнули на него — толку от разговоров всё равно не было. Только головой качали и сетовали друг другу: «Как же у такой приличной женщины растет этакий неслух — и в кого только?!»
Никогда Лёшку никто не хвалил — казалось, не за что было. Мать одна любила и заботилась, как могла. Был он поздний и очень желанный ребёнок. А он материнской ласки всё больше сторонился, и ей, естественно, было больно — ведь старалась для него, а он всё как не родной.
Лешка рос без отца. Мать работала за двоих, поэтому времени на воспитание сына оставалось крайне мало. Да и что она могла? Сыну нужен был отец. Сильный, смелый, работящий — пример для подражания, а не скучные нудные нравоучения. С матерью отношения были не родственные. Не сложились почему-то с самого детства. Жили они вдвоём. Были родственники, но и с ними Лёшка не находил тем для задушевных бесед. Так и жил — вроде и в семье, а вроде и нет. Мать зарабатывала мало, хоть и вкалывала. Так что жил Лёшка очень скромно, если не сказать бедно. Не делал из своей нищеты проблемы, поэтому и не стремился особо её преодолеть, но и насмешек над своим материальным положением не допускал. Всё, что у него было, — это его имя и честь. И дрался он за них с самого детства с яростью. Честь в молодости — единственное, чем обладает человек, единственное, чем он дорожит. Жаль, что повзрослев он заменяет честь чем-то другим, менее значимым — деньгами, положением. Печально, что человек продаёт своё достоинство за тридцать сребреников — за домик у речки, за «счастье портных». Лёшка не продавал.
Учёба Лёши шла туго — не понимал, для чего нужно запоминать покрытые слоями пыли даты битв и революций, непонятные названия рек и плоскогорий, правила написания суффиксов, сочетательный закон и правило буравчика. Назначение всех этих мёртвых знаний ему никто доступно не мог объяснить, а где их применить в жизни, сам не видел. Он не был глуп — просто не хотел делать ненужную работу. Лёшке казалось, сами учителя не понимают, зачем весь этот хлам пытаются впихнуть в его голову. Сами заблудились в лесу и не могут выбраться, кричат «ау» и при этом успевают обучать других способам найти дорогу домой в ближайшие тридцать-сорок лет.
Лёшка рано начал курить — классе в третьем. В курении он видел красоту и мужественность. Мужики с грубоватыми басами были для него авторитетами. На все уговоры матери лишь врал, позже начал шантажировать, мол, «дом подожгу, если не отстанешь». Мать то плакала, то била его полотенцем (ремней в доме не было) — ничего не помогало. Позже стала замечать странный запах от сына и следы клея на лице, одежде и руках. Поначалу думала: что-то клеил, радовалась — сын занят делом, а оказалось, что клей он нюхал, чтобы смотреть «мультики». Рыдала — сын ноль внимания. Уходил с друзьями на озеро, забирался за водокачку, куда могли пролезть только дети, выдавливал «Момент» в мешок и вдыхал из него отравленные, очень необычно и сладко пахнущие пары. Через несколько минут начинались галлюцинации.
Плыла осень. Капал дождь, и находиться на улице не очень хотелось.
— Привет, Лёш! Как дела? — спросил я, улыбаясь, встретив товарища на автобусной остановке.
— Да ниче, нормал! — ответил Алексей, нервно переваливаясь с ноги на ногу и пристально осматривая окрестности.
— Куда собрался? Автобус ждёшь?
— Да нет, — ответил Алексей. В реплике угадывалась недосказанность, начало фантастической красоты творения литератора, замысловатого художественного иносказания, поражающего воображение читателя, начало чего-то великолепного и масштабного.
— Ищу, кому пи*ды бы дать, да всё нет никого неместного, — продолжил Алёшенька.
— Ну тогда не буду тебе мешать, — молвил я и раскланялся.
По пути домой я увидел двух парней, шагающих навстречу. Лица их мне не были знакомы — думаю, не знал их и Алексей. Я было хотел предупредить непринуждённо общающихся меж собой ребят об опасности, подстерегающей их на автобусной остановке в конце улицы, по которой они так весело бежали, но почему-то не стал. Ведь они могли меня неправильно понять и даже обидеться. «Пусть все идёт своим чередом. Не буду вмешиваться в дела провидения», — подумал я и прошёл мимо незнакомцев. Один из парней нёс небольшой кожаный дипломат, по виду почти пустой, но снаружи выглядевший очень прилично. Мой взгляд он и привлёк. Вся остальная наружность выдавала в них несусветных лохов — людей, не способных за себя постоять и поэтому не частых гостей в нашем суровом рабочем районе, расположившемся на одной из окраин города-миллионника.
Я подошёл к дому. Увидел соседа, поприветствовал, закурил, и мы начали о чём-то трепаться. Не прошло и десяти минут, как мимо проплыл Алексей. Он летел в сторону своего жилища. Лицо его преобразилось, светилось от радости. Шёл рыцарь, гордо несущий свой стяг, воин, победивший только что неприятельскую рать. В руках нёс свой трофей — кожаный дипломат.
Внешней красотой и статью природа Лёху не обделила. Ростом чуть повыше среднего, с голубыми глазами и светлыми волосами, среднего телосложения. Он нравился девчонкам, но был с ними так груб и нетактичен, что все симпатии к нему быстро пропадали. Зачем хамил дамам, отталкивая их от себя, я долгое время не понимал. Лишь спустя годы разгадал эту, как оказалось, весьма печальную, загадку.
Он был честным и рассудительным человеком. Нелюбовь учителей и других взрослых к нему меня удивляла. Налицо было несовпадение внешности этого парня и его отношений с окружающим миром.
К Лёшке ни у кого из сверстников никогда не было ненависти или злости. Он был асоциален, но не со своим кругом. В школе заступался за слабых, не терпел несправедливости — был хорошим парнем в нашем понимании, чуть грустным, с мутноватым философским взглядом.
В старших классах начал воровать, чтобы купить себе еду или одежду, так как с матерью к тому времени окончательно рассорился. Мама старалась приходить домой как можно реже — жила то у знакомых, то у родственников, и жизнь её он превратил в ад. Мне, да и не только мне, маму его было очень жалко. Все разговоры о матери он пресекал и зверел при одном её упоминании. Он ненавидел женщину, которая произвела его на свет, и мстил ей за что-то — казалось, за сам факт его рождения в нищете и безвестности. Удары судьбы от собственного сына она сносила бессловесно и покорно, как будто несла свой крест, и от этого её было ещё больше жаль.
Как и многих моих знакомых, Лёху однажды посадили. Меня судьба хранила. Низкий ей за это поклон, ведь поводов загреметь на нары было предостаточно. Отсидев, он не изменился в худшую сторону. Вышел, не сломленный тюрьмой, продолжил воровать — жить на что-то же надо было. Тюрьма не сделала его мразью — просто дала воровской навык, воровское умение, профессию; он стал профессиональным, но не слишком успешным вором, как после вуза становятся посредственными педагогами или инженерами. Тюремный институт он закончил не с красным дипломом.
Лёша катился кубарем под гору — пил, кололся, воровал. Сильно похудел, и лицо его приобрело отвратительный цвет, зубы пожелтели и некоторые не возвращались с очередной из его прогулок. Мать он из дома выгнал и даже не пускал на порог.
Однажды я встретился с людьми из своего прошлого, что бывает крайне редко. Среди них вскоре появился и Лёха. Мы дружно выпили самогона. Впервые лет за пять я ощутил его мерзкий кислый вкус во рту, но не стал обижать присутствовавший бомонд — ведь обиды в таких компаниях принято смывать кровью. Выпил, закусил чем было, а из закуски была лишь полторашка воды и непотрошеная свежесоленая сельдь. Я мог купить им и выпивки, и закуски посолиднее, но делать этого не стал — мог нанести людям ещё большую обиду либо превратиться в их понимании в лоха-спонсора, что прогибается перед толпой. Такая роль не очень почётна среди моих бывших дружков. Предавшись на некоторое время воспоминаниям, я раскланялся. Лёха увязался за мной.
Шли с ним по дороге, что в счастливом и беззаботном детстве вела нас из дома в детский сад. Я купил пару бутылок пива, сигарет, и мы пошли с Лёхой на детскую площадку. На улице стояла ночь, и детей мы потревожить при всем желании не могли. Сторож в детском саду по ночам любезно не выходил из здания, дабы не омрачать досуг собиравшейся на детской площадке великовозрастной гопоте. Так что сад был в нашем распоряжении.
Присели, выпили. Я немного рассказал о своей жизни, он в лоха-спонсора о своей. Я говорил о хорошем, Лёха о плохом. Говорили о том, что было у нас в жизни. Нахлынули чувства, эмоции, вспомнилось детство, давно забытые приятные и умиротворяющие воспоминания.
— Ты знаешь, — начал неожиданно Лёха, — я бы был совсем другим человеком, если бы не мать! Я бы не был такой мразью, как сейчас!
— Да брось ты! Нормальный ты мужик, — сказал я, желая поддержать его.
— Думаешь, я не вижу, в кого превратился?! Всё я вижу! Если бы не мать тогда в детстве… Если бы она меня вовремя в больницу отвезла, то всё бы было иначе… — Леша встал, допил пиво, с яростью разбил бутылку о стену детсада, развернулся и, уходя беззвучно в темноту, сказал мне: — «Эта мразь, когда я был маленький, меня не мыла как следует. И у меня писька воспалилась. Ей бы сразу в больницу меня — да затянула. И мне всё это дело врачи-козлы отрезали…»
Я остался один, и мне стало горько и обидно, обидно за Лёху. Пасьянс сложился, и я всё понял — понял, почему Леха так ненавидел мать, почему она всё ему прощала и терпела обиды и унижения, понял, почему он грубил девчонкам, почему он стал наркоманом, почему не любил и не уважал взрослых, почему не учил уроки, почему не жил, а бесцельно доживал. Мне стало понятно всё. Не понимал я лишь одного — за что Лёхе такое наказание.
* * *
Ты на сердце печать, Тёплый луч по щеке, Запах тмина впотьмах, Свиристель в тишине. И одна ты — весь мир! Вновь хочу, ла Иллах, Ощущать близость душ, Поцелуй на губах…Один с сошкой, семеро с ложкой
Семья его была зажиточная, обеспеченная. Просторный дом, постройки, скот, земля — всё у них было. И всё было заработано своими руками. С детства он что-то мастерил, вырезал ложки, плёл лукошки, и дело всегда спорилось. Возможно, Создатель одарил талантом, а возможно, родители привили ему любовь к работе, и с этой любовью к труду он прошёл через всю жизнь, став Художником и Заслуженным, постоянно придумывающим что-то новое и терзаемым только бездельем.
Раскулачили их быстро. Обдумывать своё горе не было времени — может быть, это и спасло. Отец и мать кинулись снова обустраивать быт и работать за троих. Вскоре жизнь опять наладилась, если можно было назвать жизнью общественное пренебрежение и ненависть. Общество рабочих и крестьян отторгало их лишь за то, что даже по выходным не могли они усидеть без дела, за то, что были активны, имели на всё свой собственный взгляд и хотели прожить свою, индивидуальную жизнь, а не стать шестернёй передаточного механизма соцгосударства.
Их дом отдали многодетным бедным соседям. Детей соседских было семеро, меж тем отец не спешил работать хотя бы за двоих и раскулачивание воспринял как личную удачу и шанс всей жизни. Без раздумий и стыда вселился в чужой дом и стал носить тёплую рогожу, принадлежавшую прежнему хозяину.
Прошли годы, десятилетия. Он своим трудом достиг в жизни многого — стал Заслуженным художником Союза, получил квартиру, мастерскую в историческом центре города. Появилась семья, ученики, последователи и почитатели.
Похоронив родителей, решил наведаться в дом, где когда-то родился. Почерневший от времени и бесхозяйственности сруб, чуть покосившаяся за пролетевшие над ней годы крыша. Подойдя к крыльцу, он увидел соседа и рогожу отца, до сих пор исправно служащую новому владельцу, но приобретшую вид осеннего иссохшего листа. Человек, получивший дом и рогожу, не изменил своим привычкам — остался таким же паразитом, исправно бьющим поклоны большинству, защищавшему его, ничего в жизни так и не создал, продолжая пользоваться чужим.
Однажды я побывал в его мастерской. Запах шлифованной слоновой кости, почерневший от тысячелетнего холода бивень мамонта размером с ладонь, зубы кашалота — фантастическое ощущение навевали на меня все эти предметы. Присутствие Творца и творца ощущалось в этой небольшой мастерской. Всё мироздание для меня тогда уместилось на двадцати квадратных метрах. Проходя мимо шкафа с инструментами, я увидел её — композицию из кости, внешний блеск семи маленьких фигурок, бредущих, высоко подняв огромные ложки к небесам, за крестьянином, распахивающим поле для посева.
Она стояла ещё не до конца готовая, не до конца отшлифованная, не до конца вобравшая в себя душу автора. В тот момент я не понял, что это. Я воспринял лишь внешнюю красоту фигурок из жёлто-белой кости мамонта, умершего несколько тысяч лет назад. Теперь я понимаю — это было его видение мира, это была его истина, его мораль, его философия, его месть нищим телом и духом людям, которые в одночасье захотели без усилий стать всем, фактически ограбив тысячи семей.
Тоталитаризм до сих пор живёт в душах окружающих нас людей. Они не способны радоваться и думать — способны только разрушать и создавать свой ущербный, кастрированный, однобокий мир — мир большинства, мир, где один думает, а тысячи бездумно кричат «ура», мир, где первый комментарий определяет все последующие, где личная преданность и личные связи важнее справедливости и истины, мир, где один с сошкой, а семеро с ложкой.
Мысли из никуда
Кому-то Бог даёт разум, а кому-то разумных родителей.
Он мастерски ушёл… от вопроса.
Неоперабельная любовь.
Жизнь состоит из жизней других людей.
Название — что выстрел. Громкий — прохожие обернутся.
Чё, Гевара?
Тупик осознания.
Однорукий дворник
Снежинки, белые хлопья, медленно оседающие на черноту земли… Как прекрасно это зрелище, как завораживает и успокаивает, как искусно в простоте являет миру оно свое величие. Чтобы насладиться им, не нужно покупать билет в театр, нет нужды идти в церковь, чтобы проникнуться покоем и неспешностью этого чуда природы, не нужно обладать никакими знаниями, чтобы обозреть его точность, размеренность, настойчивость и безапелляционность.
Он очень любил снегопады, когда на грани тепла и холода темнота рождала из ничего снежные хлопья. Белые пушистые сгустки почти невесомы и легко тают, дотронувшись ладони. Они напоминают человеку о том, что век его короток, что жизнь скоротечна, что мы все канем в небытие, слившись с окружающим миром, что мы не властители и не рабы, но ещё одно чудо природы, которое, внезапно появившись из ниоткуда, так же внезапно покинет этот мир.
Может быть, поэтому он стал дворником — потому что всегда поэтически относился к временам года и их подаркам в виде снега, дождя и опавшей листвы. Хотел почаще наслаждаться нехитрыми дарами и чаще бывать на свежем воздухе, летом вдыхая лучи солнца, а зимой соревнуясь с морозом в мощи, отгоняя ледяное безмолвие теплом своего разгорячённого работой тела.
Он был дворником, каких тысячи. Был дворником всю жизнь. Незаметным, но нужным человеком, простым и неприметным, коих многие и за людей-то не считают, полагая лишь высокий социальный статус мерой человеческих заслуг перед мирозданием. Ещё в юности, избрав этот нехитрый вид заработка — меж тем вполне прилично оплачиваемый в стране коммунизма, — не хотел уже менять его ни на что другое. Когда всесоюзную коммуну кто-то заменил чем-то непонятно-другим и урезал его в средствах, годы были уже не те и жизнь сызнова начинать уже не хотелось, да и не в деньгах было для него счастье — в работе, в чёрной работе, греющей не только душу, но и тело.
Не уборкой территории он занимался — он был художником, творцом, упорядочивающим пространство для жизни, убирающим все ненужные детали, заменяя хаос осмысленностью, чёткостью и простотой линий, менял абстракцию на реализм, импрессионизм на кубизм, подчинял пейзаж законам перспективы, лишая его сюрреалистичности. Иногда он действовал совершенно иначе, и никто не мог упрекнуть его в этом, ведь это был его участок, его чёткий, предсказуемый, родной мирок.
Летом работа была не в тягость. Подобрать пару окурков, фантик или бумажку и не ко сроку опавшую скудную листву — вот всё, что от него требовалось. Зима же была испытанием, но испытанием желанным. Не напрягая все свои силы, не узнать себе цену, не понять, на что мы способны, не ощутить дыхание жизни. И он любил себя испытывать, но не страхами и сомнениями, а оттягивающим руки трудом, трудом, заставляющим гудеть ноги, превращающим спину в натянутую струну. Ещё ночью он выходил на работу, чтобы не мешать прохожим, и большой фанерной лопатой разгребал свежий, мягкий, как пух, снег. В сильные снегопады дико уставал, но, видя преображённый своими сильными руками пейзаж, радовался, как ребенок, нарисовавший первую в своей жизни добрую и наивную картину.
Иногда снег был тяжёлым, как будто создатель был не в настроении и высекал снежинки из белоснежного, на вид воздушного, но плотного и тяжёлого каррарского мрамора. Тогда и двумя руками он еле поднимал свою видавшую виды лопату, вынимающую из сугроба белый пушистый куб.
На руках часто появлялись мозоли. Ныли и щипали, заставляя помнить, что всё вокруг не сон, а явь, что жизнь не праздник, а испытание, что он ещё живет, что он ещё не прошёл свой путь.
Подходила к концу очередная в его жизни осень…
Ещё несколько недель назад окружающий мир был устлан зелёным ковром с цветочным орнаментом, набранным на ткацком станке природы. И как быстро всё изменилось.
Ощущая первые признаки приближающейся зимы, душа замирала, осознавая свою мизерность и невозможность повернуть бег времени вспять. Ещё месяц, и горы белых замёрзших частичек льда должны были покрыть всё вокруг — крыши, улицы, деревья, забетонированные незримыми великанами реки и озёра.
Ещё несколько недель назад он без страха ожидал следующего дня, а теперь всё стало иначе. Появилось ощущение беспомощности, неуверенности и ненужности, страха перед будущим. С содроганием сердца он ждал следующего дня, следующего снегопада. То, что раньше было для него воплощением красоты, философией увядания и кратковременного сна природы, стало тяжёлым испытанием.
Ещё несколько недель назад он ничем не отличался от окружающих людей и очень любил снегопады, метели, летние ураганы, рассыпающие по мостовым обломки тополиных веток, осенние листопады, превращающие тротуары в мягкий, шуршащий багряно-красный ковер. Раньше мир был для него другим, или скорее он был иным в мире. Все изменилось в одну секунду, в один момент и пути назад уже не было.
Дорога к дому тянулась через вокзальный перрон. Проплывал замечательный тёплый вечер. Поздняя осень переплелась с ранней зимой. Из ниоткуда сверху падали снежинки. Одни, тая, превращались в небольшие мокрые точки, другие уже не получали тепла от земли и слипались в белоснежную пуховую перину.
Месяц висел на небе серпом, электричка набирала ход, завывая, как сотня коров.
Он смотрел в темноту неба, на звёзды, на пар от дыхания, как вдруг нога провалилась в бездну, в глазах мелькнул вагон, окна, из которых незнакомые люди с грустью в глазах махали провожающим, огромные железные колёса и полуподвальная темнота.
Очнувшись от ужасной боли в локте, он с трудом открыл глаза. «Хорошо хоть руки целы, иначе остался бы без работы», — подумал он, почувствовав, что голова была жёстко зафиксирована корсетом. Пошевелиться, чтобы осмотреть себя, он не мог. Потянулся правой рукой, чтобы протереть заспанные глаза, но рука прошла лицо насквозь. «Неужели я умер? — завертелось в голове. — Я умер, и тело моё уже не со мной? Какая ужасная мысль!» Туман окутал комнату, сердце забилось с утроенной силой.
На стене он увидел зеркало. Встал. Шаги дались нелегко. Постепенно выглядывая, он боялся посмотреть на себя. Осторожно показал зеркалу ухо и глаз, затем нос, затем всю голову. Лицо было оцарапано, но в целом почти не пострадало. Осторожно появилась рука и нога — они были в порядке. Полностью вышел к зеркалу. Руки и ноги были на месте. Стоп! Где же рука? Вместо неё виднелась лишь перебинтованная, красная от сочившейся крови культя! Ни ладони, ни локтя — не было ничего. Они остались там, ушли вместе с уходящей электричкой. Он покачнулся, упал на кровать и первый раз в жизни разрыдался, закрывая глаза единственной оставшейся рукой. В этот момент красота снегопада, шорох листвы под ногами превратились для него в ад, в дистанцию, одолеть которую ему было уже не суждено.
Прошёл год, затем ещё один. Мир продолжал играть в свой театр теней. Трагедия этого безымянного человека отошла для меня на задний план моей пьесы в одном действии. Дворники всё так же жгли листву и строили из снега снежные горы, природа всё так же заботливо подкидывала им топливо и строительный материал. Мир рождался и умирал два раза в год, умирали и рождались люди — актёры, политики, художники, дворники… Всё шло своим повторяющимся, крутящимся, как юла, чередом.
Я всё так же любил снегопад и по вечерам выходил гулять в океан снежных хлопьев. В тот вечер я был один. Шел в никуда из ниоткуда, рассекая заполненный белыми частицами воздух. Вдруг вдалеке увидел нечто знакомое — увидел сугроб и большую лопату, накидывающую на вершину белоснежной пирамиды кубы снежинок, спрессованных, как пенопласт. Подошёл ближе и увидел, как однорукий человек ловко справлялся со своей нелёгкой работой. Как жонглёр, он подбрасывал лопату и снежные кубы, кубы падали друг на друга, некоторые рассыпались, как плохо обожжённые кирпичи.
Все было то же — природа, снег, сугробы, а вот человек был не тот. Он не обращал внимания на прохожих, не уступал им дорогу — ощущал себя главным и делал свое дело, несмотря ни на что — ни на погоду, ни на маленькую зарплату, ни на общественное пренебрежение, ни на само общество, ни на отсутствие руки…
Убийца
Я умираю… непрощённым, И смерть её на мне вовек. Бреду к Аиду я покорно, Бегу, иду… и снова бег, Но не могу достигнуть цели — Вот ад убийцы, замкнут круг, Не разорвать его, нет щели, Не выскользнуть, устав от мук. Я ощущаю камень мыслей На шее, жертвы кровь и крик, Предсмертный смрад и ужас смерти, Убийство вечно длится миг. Я убивал её котенком Пушистым, маленьким, живым. Весь мир убил я с ней, в потёмках Душил её. О Господи! Одна слеза лишь мне заступник, И исповедник лишь она, И на весах она подземных, Как два огромных валуна. Но не смывается слезою Души зола, покуда вновь Не возродятся в моём сердце Мечта, надежда и… любовь.Отдохнуть по-босяцки
Для зимы день был относительно тёплый. Я ехал в институт знакомой дорожкой. Мимо пролетели железнодорожный вокзал с его бомжами, спавшими прямо у входных дверей, и пассажирами, любующимися убогой привокзальной площадью, на которой расположились десятки видавших виды автобусов и потрёпанные нелёгкой жизнью «Газели»; ТЮЗ, на месте которого в прошлом веке, улетая ввысь куполами, располагалась уничтоженная красными командирами кирха; небольшая речка, резавшая город на две части, как противотанковый ров; городская администрация, из которой редко кто выходил и ещё реже входил; главпочтамт, напоминающий архитектурой казарму или конюшню; кинотеатр имени Володи Маяковского — отвратительно выполненная советскими рабочими копия Парфенона; стадион, общаги, ларьки, деревья, женщины и скоты, мужчины и бл*ди…
У входа в институт было, как обычно, людно. Там и тут толпились сгустки студенчества, одесситы, азовчане, попадались даже питерцы, уехавшие в нашу глушь в надежде обрести культурный покой, окуривающие храм знаний сигарным дымком. Кто-то за кустом уже потягивал утреннее пи́вко, другие обсуждали перспективы вечернего симпозиума в общежитии, некоторые всерьёз решили сделать предложение подруге, некоторые всерьёз решили его не делать.
Я подошёл к знакомым. Поприветствовал глубокоуважаемых. Достал сигарету, закурил. Дым слегка обжигал бронхи и лёгкие, именно это многим нравится в курении — ощущение своего нутра. Курил не спеша, стараясь увидеть родственную душу, но почему-то никого не мог найти опытным взглядом. Людской поток двигался вдоль меня. Одни заходили в институт, другие выходили, третьи, как я, не доходя, оседали у мест для курения.
Лёгкий ветерок сорвал с крыши стаю снежинок, и они медленно спрыгнули на землю. В этот момент я увидел его — моего коллегу, моего однополчанина, моего собрата, хорошего знакомого и… в общем, неоднократного собутыльника. Заметив меня, Макс изменил русло своего течения и, обогнув университетское крыльцо, как огибает река корягу, направился в мою сторону. Улыбка его сияла. Он, без сомнения, был рад встрече. Ведь сегодня, впрочем, как и обычно, он хотел выпить, а я знал в этом ритуале толк. Мог не только поддержать нехитрую беседу, но и вовремя налить и выпить, никогда не пропускал, обладая высочайшим чувством такта, рюмки и бутылки.
Мы раскланялись друг другу, как мушкетёры короля Людовика, обсудили вчерашнее застолье, выделили положительные моменты, подвергли обструкции милицию, досаждавшую намедни нам своим излишним вниманием, осудили похмелье и решили нанести ему сокрушительный удар под дых. Для этого отправились в излюбленное недорогое кафе, где всегда висела куча студентов, многих из которых мы знали не только в лицо. Зайдя в заведение, как хозяин заходит в свой богато обставленный дом, мы удобно устроились в углу у окна. Перед нами открывалась фантастическая картина бара. Десятки бутылочек, стаканчиков, рюмочек и бармен с кислой миной.
Бармен, кстати, сложнейшая работа. Какую силу воли надо иметь, чтобы не выпить хоть рюмочку чего-нибудь, не расслабиться чем-то вкусным и приятно обжигающим. На почве подавления своих естественных желаний и неврастеником стать недолго. Барменам надо за вредность молоко выдавать, их надобно беречь и ценить. Иначе некому будет поднести нам рюмочку в радостный или горестный момент.
Не стали экспериментировать и заказали проверенные водку и пиво плюс избрали салат для довершения роскоши студенческой трапезы.
Рюмка дрожала в руках у моего визави. Это значило только одно — пора наливать. Налили, выпили. Запили пивом и через минуту-другую выпили по второй, закурили. Мир тут же преобразился — он сузился до двух квадратных метров, на которых уместились мы с другом, стол да стулья. Окружающее пространство же стало для нас чем-то потусторонним, выходившим за рамки тесной, но уютной обители, окутанной еле заметным туманом, дымкой, пронизанной теплом очага и дружбой, взаимопониманием, добротой и даже любовью.
Максим был неплохим, весёлым, интересным и необычным человеком. По крайней мере, я так считал. Наверное, все пьющие люди идеализируют своих собутыльников. Ростом был повыше меня, среднего телосложения, со своеобразной манерой речи. Насмешки его не казались обидными, цинизм был в рамках приличия. Старших особо не уважал и не ценил, видимо, понимая, что во многом не уступает умудрённым товарищам, а пил он будь здоров. Учился Макс посредственно, если не сказать отвратительно, но мама имела знакомства на матфаке и худо-бедно тянула сына-оболтуса. В общем, был Максут обычным студентом — гранит науки не грыз, а пытался рассасывать, добавляя спиртное в качестве растворителя и катализатора.
Застолье продолжалось около часа. Мы не спеша — ведь было ещё только утро — выпивали, покуривали. Разговаривали, обсуждая всякую чепуху. Изредка к нам подходили знакомые, заскочившие в кафе на кофе с чаем. Говорили примерно одно и то же: «Завидуем вам, у нас ещё пары…» Разнообразием ответов мы их не баловали: «Наплюй и садись к нам! Завтра сходишь!» Но видя наши добрые лица, никто не отважился отнять у нас хоть каплю выпивки, дабы не сделать их злыми. Заказали вторую бутылку водки и ещё пива. Через некоторое время жидкости начали подходить к концу. Мы решили покинуть кафетерий и пойти ещё куда-нибудь, для разнообразия не заплатив за вкушённые яства под предлогом несвежести водки в графине.
Заказав официанту ещё полбутылки водочки и пару кружек пива, мы демонстративно их почали и отправились по очереди в туалет, оставив на столе вместо себя только что подкуренные дымящиеся сигареты. Из туалета сразу же направились в гардероб, а уж оттуда на улицу. Спустившись с крыльца, быстро свернули за угол и были таковы. Радостные, со словами «экономика должна быть экономной» поспешили в другой трактир, где нас уже ждал стол, официант, тёплый клозет и незнакомые пока друзья.
День блестел свежим снегом, густые тучи обволакивали здания, исторический центр выглядел живописно. Старинные ворота города, расположившиеся почему-то посреди оживлённой улицы, придавали месту ощущение нонсенса, безумия, ошибки нетрезвого архитектора. Видимо, мы пропитались казусами пространства или на нас наконец подействовали водка с пивом, но разум начал давать сбои. Решили кого-нибудь избить. В центре мегаполиса, днем… Да… Замысел попахивал непродуманностью.
Оглядевшись по сторонам, мы увидели молодёжь, бесцеремонно пьющую пиво в общественном месте. Повод взмахнуть кулаком, как машет палочкой дирижёр, был железный. Мы приближались.
— Почему пьём пиво в общественном месте, уважаемые? — спросил, не очень интересуясь дальнейшим ответом, мой товарищ. И спустя пару секунд, жестикулируя, попал юному нарушителю общественного порядка в глаз. Тот бросил пиво и замер. Я подошёл к ещё одному хулигану и не очень ловко лбом разъяснил вред от злоупотребления алкогольной продукцией. Насладившись своим триумфом, развернулись и со словами «больше так не делайте, друзья!» пошли прочь.
Вы скажете, мы поступили как быдло? Ничуть! В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен почувствовать ответственность за свои поступки. И горе человеку, если момент этот наступает слишком поздно — когда совершены необратимые действия, когда провинность не загладить уже никак, ибо её масштабы ужасающи. Через несколько часов судьба вернула с благодарностью урок, данный нами юным студентам, беззаботно попирающим мораль и закон, распивая пиво в двухстах метрах от здания УВД, но об этом чуть позже.
Итак, наше путешествие продолжалось. Поддерживая друг друга и морально, и физически, мы направились в заведение, пользующееся дурной славой у местных жителей. Мы были в таком состоянии, что дурная слава его была нам только на руку — ничем хорошим мы заниматься и не планировали.
Войдя в кафетерий без вывески, стряхнув со стола в угол остатки банкета неизвестных, мы с Максом купили ещё выпивки, пару закусок, лишь потом огляделись. В зале ощущалась тяжесть тел, резкий запах алкоголя и сигарет, дешёвой копчёной рыбы, пота и, как ни странно, радости и эйфории, которые даёт выпивка людям, сидящим в самом вонючем и отвратительном коровнике.
Выпили, закусили, закурили. Выпили ещё. И ещё. Наше мычание всё меньше походило на речь образованных людей, всё больше содержало сильно укороченный мат, междометия и мычание. Тут мне начало казаться, что в Макса вселился девил. Глаза его налились кровью, кулаки опухли и сжались. Он смотрел по сторонам, и я понимал, что взгляд его не цеплялся ни к кому в помещении — он не находил себе жертвы. Все были приличными и уважаемыми нами в тот момент людьми, нашими коллегами по выпивке.
— Ты хочешь отдохнуть сегодня по-босяцки? — спросил Макс.
— А что это значит? — не без труда произнёс я.
Начался разговор глухого с немым. Меня уговаривали на что-то, заранее мне не известное, согласиться, мотивируя лишь одной фразой: «Ну ты же мужик — подписывайся!» Я упорно сопротивлялся давлению… минут десять.
— Мне надо подумать! — говорю и, не думав секунд десять, добавляю: — Я согласен!
«Отдохнуть по-босяцки. Что бы это могло значить?» — думал я и припоминал похождения своего приятеля.
Однажды мы с Максом и ещё парой высококультурных ребят с курса устроили «водочный спринт». Наливали каждые три минуты по рюмке водки и выпивали. Интерес был в том, кто больше выпьет и не упадёт, не заснёт, кого не стошнит. Победу я в тот день не одержал, видимо, поэтому больше в таких действах не участвовал.
Как-то Макс превратил окна института в тир. Принес пятилитровую банку браги и в поисках собутыльников, не мудрствуя лукаво, расстрелял из пистолета университетские окна. В одной из аудиторий всё-таки обнаружились друзья, выбежали к товарищу и быстро увели, тем самым спасая от моральной, гражданской и уголовной ответственности.
В другой раз мы в знак протеста против тридцатиградусного мороза решили выпить прямо в холле главного корпуса университета. Напились как прачки. Кого-то тошнило. А Макс уже в полусонном состоянии, сидя на вазе с цветком, вопил: «Одну бутылку в толпу — это не сУрьёзно! Берите ещё три!»
Проанализировав былые подвиги Максима, я пришёл к выводу, что это и были формы отдыха по-босяцки. В принципе, они ничем особо серьезным мне не угрожали, и я скоро успокоился, отдавшись в руки провидения и Максимилияна Нойтшатского.
Допив спиртное, мы поймали такси. Почему-то долго выбирали машину определённой марки в хорошем техническом состоянии. Тут меня посетили первые сомнения относительно целесообразности дальнейшего продолжения банкета. Но я был заинтригован и не стал противиться действиям сотоварища. Красная «девятка». Она нам подходила. Для чего — я пока не знал. Сели. Поехали. Макс назвал адрес, ничего мне не говорящий. Вскоре покинули центра́, въехали на окраину городка. Лица местных жителей становились всё подозрительнее, дома всё тоскливее. Проезжая мимо одного из них, я вообразил, что это не дом вовсе, а старая ржавая баржа, выброшенная штормом на наш риф. Из иллюминатора на первом этаже торчала чья-то рука. Кисть сжимала бутылку с содержимым чайного цвета. Чьи-то руки на улице жадно принимали дар. Такое сакральное действо по продаже самогона я наблюдал сотни раз, но всё равно мне стало не по себе.
Выехали за пределы города. Впереди виднелся отдельно стоящий кирпичный двухэтажный дом. Макс попросил водителя подъехать ко второму подъезду и подождать пару минут. Водитель кивнул и, не заглушая мотора, устремил свой задумчивый взгляд в зимнюю березовую рощу.
Вошли в подъезд. Было похоже, что он служил декорацией к сцене кулачного поединка двух киборгов, крушащих своими телами квартирные перегородки. Штукатурка валялась на полу, к потолку прилипли сгоревшие спички и окурки от сигарет, в углу было что-то пролито, на подоконнике стояла банка из-под сгущенного молока, с горкой набитая бычками.
Поднявшись на второй этаж, позвонили. Вернее, постучали тяжёлыми зимними ботинками в хлипкую дверь. Адов портал без вопросов отворил незнакомый мужчина лет сорока-пятидесяти. Хотя, может быть, ему было всего около тридцати. Алкоголь в больших количествах не красит человека, старит его довольно быстро, а мужчина этот явно походил на страдающего алкогольными запоями.
— Дай два ножа, — сказал незнакомцу Макс без приветствий и предговорильни, — торопимся!
Тот молча вынес два столовых ножа явно зоновского происхождения. Ручка самодельная, с утопленными в расплавленный текстолит розочками и листвой, выполненными умелой рукой из разноцветных пластмасс. Один из ножей Макс вручил мне со словами: «Ты бьёшь первым». Я обомлел и, наверное, побелел, хотя мне было очень жарко, несмотря на зиму за окнами.
— Ты шутишь, Макс?
— Какие шутки! Я же говорю: отдохнем по-босяцки. Щас водилу замочим, тачку двинем за десятку и в кабак со шл***ми! Машину у нас мои знакомые прямо с трупаком заберут! Не парься! — сказал Макс, спускаясь уверенной поступью навстречу тягчайшему греху. Я шёл следом.
— Ты бьёшь первым! — прозвучало ещё раз.
Дурной сон. Только во сне я мог проснуться, а наяву рассчитывать на такое лёгкое освобождение не приходилось. Я спускался по лестнице, пряча по совету соучастника нож до поры в рукав. Каждый шаг тянулся необычайно долго. Время замерло, как будто сам Создатель тормозил бесконечно большой вселенский волох, чтобы я задумался, что собираюсь совершить, задумался, в какое дерьмо собираюсь себя опустить. «Я не для того тебя создавал, идиот…» — чревовещал кто-то.
Вышли на улицу. Машина стояла у подъезда, двигатель работал, водитель сидел и спокойно ждал. Ждал своей смерти! Мы шли, шли, шли. Я делал шаг, а неведомая сила отодвигала меня на два назад. Я делал усилие, а невидимый часовщик отматывал время назад.
Подошли к машине. Я потянулся к дверной ручке. Водитель смотрел на меня. Казалось, он всё понимает. Лица наши были ужасны — с них скалилась маска смерти. Смерть не тетка с косой — это люди, с которыми ты пять минут назад мирно беседовал, и тем она ужаснее.
Я протянул руку и… нож выскользнул из рукава на белый снег. Создатель перестал сдерживать время, и оно, как натянутая пружина, распрямившись, полетело в десять раз быстрее. Водитель включил передачу и что есть сил вдавил педаль акселератора в пол. Машина рванула с места и через несколько секунд скрылась вдали.
На меня посыпались оскорбления и обвинения в слабохарактерности и малодушии, обильно сдобренные матом и прочей нецензурной лексикой.
Прошло несколько минут. Макс немного успокоился.
Мы шли по заснеженной дороге в город, любуясь нетронутым лесом, снежными лугами, солнцем и небом.
— Эх ты, босота, с тобой не отдохнёшь! — сказал Макс, обращаясь ко мне.
— А я отдохнул! Век не забуду! — ответил я.
Мысли из никуда
Надо всегда хотеть, тогда выйдет как лучше.
Духовный контакт часто заканчивается половым.
Любимое время года — пятница.
Чтобы изменить низы, надо взобраться наверх.
Говорите правду, очень часто это ещё и смешно.
Художник-гуманоид Дамир Муратов.
Она рассталась с совестью, как с девственностью, — без раздумий и навсегда.
Продаётся дом
«Продаётся дом» — с этой надписи на незнакомом заборе для многих простых людей начинается новая жизнь на новом месте. Стоит только увидеть эти два слова — и пока ещё чужие стены и крыша оживают, источая невидимое притягательное тепло, напоминают об уюте и простом людском счастье. Кажется, что дом сам себя продаёт. Он живой, ему одиноко, грустно без людей, и строение ищет себе добрых и работящих хозяев, что заботились бы о нём, а он в ответ дарил бы своё тепло, защищал бы от ветра и холода, от людской злобы и зависти.
Полуметровые буквы, выведенные мелом на заборе чьей-то равнодушной рукой, — не просто экономное объявление, а порой ещё и нехитрый некролог, лаконично подводящий итог жизни прежнего хозяина, жизни насыщенной, полной любви и разочарований, счастья и горя, лени и трудовых свершений, некролог, написанный циничным, деловым человеком, не задумывающимся о глубинном смысле начертанного.
Они были обычной советской семьей. В отличие от шведской имели консервативные взгляды на жизнь и консервированные овощи на зиму, от американской — конвертируемую бутылку и неконвертируемую валюту, от европейской — высокую духовность и низкие потолки. Жили небогато, даже слишком небогато. Никогда не тащили ничего с работы домой — может быть, нечего было, но мне всегда казалось, что просто хотели жить честно, а честность и богатство — вещи во всём мире до сих пор трудно совместимые.
Иваныч, как уважительно его называли окружающие, всю жизнь проработал в Шестом таксопарке, хотя в городе их было только два. Такая нумерация нужна была, чтобы запутать вероятного и вполне очевидного противника — в Союзе об этом все знали с пелёнок и к абсурду привыкли, относились как к данности, как к восходящему по утрам солнцу, как к небу и земле.
Владимир Иванович был хорошим мотористом, просто классным, лучшим из всех, но когда пришла пенсия, его не раздумывая выпнули на заслуженный отдых, не поинтересовавшись, устал ли он. В тот же год у моего отца забарахлила машина. Эти два не связанных меж собой события, хотя, возможно, они оба были предопределены свыше, и послужили началом странной, с виду немного корыстной дружбы моего родителя и автослесаря-пенсионера, жившего неподалеку.
Жена Иваныча была тихой, неприметной, очень спокойной женщиной, и только её стать и горделивая походка не позволяли считать её серой будничной мышью. Как они уживались вместе, всегда было для меня загадкой: Иваныч — горячий, весёлый, говорливый, простой, сквернословящий выпивоха и она — скромная, тихая, мягкая, неприметная, никогда не здоровающаяся первой из чувства стеснения и не показывающая своих чувств на людях, женщина с полными невыплаканных слёз глазами. Только от Иваныча можно было услышать, какова наедине его Машенька нежная, заботливая, ласковая, терпеливая и работящая. Иваныч, несомненно, любил свою жену и, возможно, идеализировал её, но мне казалось, что она, наоборот, была мужем недооценена, и сама жизнь подтвердила мою правоту.
Отец и Иваныч были почти полными тезками — даже фамилии у них были схожи — и приветствовали друг друга примерно так:
— Здравствуй, Владимир Иванович! — говорил с улыбкой мой отец. Ответ: «И тебе здравия, Владимир Иваныч!» или «Привет, тезка дорогой!» — всегда содержал долю юмора и произносился с довольной, искренней, благожелательной улыбкой. Родитель мой вырос без отца, как и большинство послевоенной ребятни, к тому же был похож на погибшего сына Иваныча — эти обстоятельства притягивали двух уже взрослых мужиков друг к другу ещё сильнее. Отец частенько звал Иваныча помочь в ремонте машины — до появления СТО было ещё годков десять. Иваныч с удовольствием приходил больше погутарить, но и дать дельный совет. Кто-то считал, что мой отец просто пользуется знаниями и опытом этого бесхитростного человека, но я никогда так не думал. Иваныч получал от встреч с отцом нечто, чего никто уже дать ему не мог — чувство своей значимости, а это, возможно, самое главное в жизни каждого — ощущать, что ты ещё нужен кому-то в мире, что ты ещё не пустое место и чего-то стоишь.
Сын у Иваныча действительно погиб, причём никто не знал как, да и в смерти парня до конца не были уверены даже самые близкие. Ушёл на работу и просто не вернулся. Вышел в предрассветный мрак и в нём растворился, уплыл, как корабль, в неизвестность. Ходили разные слухи, но истинны ли они, узнать было не дано. Через полгода в могилу положили пустой гроб, и в душе Иваныча и его Маши поселились пустота и одновременно страшная, разрывающая душу надежда, что сынок всё-таки жив и когда-нибудь к ним вернётся. С тех пор Иваныч начал основательно попивать, а глаза жены превратились в бездонные солёные озёра.
Мой отец никогда не говорил с Иванычем о его горе. Лишь с годами я понял и испытал на себе безоговорочную правильность этой позиции. Душа человека — потёмки, а горе — полнейший мрак, куда другому ни за что не проникнуть, а проникнув, ничего не разглядеть. Можно поделиться радостью и счастьем, болью — никогда, боль индивидуальна, как кожа, бесформенна, как мокрая глина, и неприятна на ощупь, как ил. Слова «я вам сочувствую, я вас понимаю, я вам соболезную» не просто пусты — они преступны, лживы и лицемерны. Соболезнования надо выражать не речами, а делом. Нужно просто быть рядом, отвлекать, напоминать о хорошем, о светлом. Так и делал мой отец, так впоследствии всегда делал и я.
— Зачем ты пьёшь? Посмотри на себя! В кого ты превращаешься? — спросил как-то мой отец Иваныча, от которого разило денатуратом за тройной прыжок.
— Иваныч, тезка! А что мне ещё делать? я на пенсии и уже никому не нужен, сына уж нет, а ещё детей мне заводить поздно, на работу никто не берёт, хотя я чувствую, что могу ещё лет двадцать копаться в движках и дам фору молодым, писать романы не обучен — зачем мне жить? — ответил сильно постаревший за последние полгода то ли от горя, то ли от горькой Иваныч.
Отец ничего не ответил. Он был практикующим психиатром и наркологом — слишком хорошо знал, что алкоголизм — это не болезнь и не пристрастие, а реакция, аллергия на противоестественную личности окружающую действительность, попытка пробить головой угол, в котором тебя зажала судьба, попытка незаметно убить себя так, чтобы тебя не хоронили как самоубийцу на обочине под придорожным камнем.
Всё, что мог отец, — это звать Иваныча как можно чаще, чтобы тот спивался под присмотром врача, а не в гадюшнике с падшими духом, такими же как и он, горемыками.
Иваныча не стало. Душа его куда-то вышла после очередной бутылки и назад уже не вернулась. Маша осталась совсем одна. Ещё не старая, лет пятидесяти, была ещё хороша собой, стройна и могла бы попытаться найти себе нового мужа, но для этого сперва надо было разлюбить Иваныча, а это было для неё равносильно предательству, да и любовь — не картошка, которую хочешь сваришь, хочешь изжаришь, а захочешь и скормишь свинье. Обмануть себя и свои чувства невозможно — человек сам себе и прокурор, и судья, и мера всех вещей. И чувства её не обманывали: она была влюблена в Иваныча так же, как и тридцать лет назад — так же пылко, искренне, без остатка.
Подруги и соседи уговаривали её познакомиться то с одним, то с другим, таким же одиноким, как и она, но Маша не соглашалась и одна, превозмогая усталость и болезни, поддерживала тепло их с мужем и сыном очага. Сама топила печь, сама носила воду, зимой убирала снег, по весне отводила талую воду и никогда не просила ни у кого помощи, никому не жаловалась на свою судьбу. Верность и упорство — вот те качества, которые в ней Иваныч недооценил. Верность своему мужу и сыну она пронесла через всю оставшуюся жизнь. Много лет она жила прошлым, воспоминаниями, много лет жила любовью, дарованной ей свыше и не угасшей, несмотря ни на что, несмотря на годы одиночества и уход любимых и родных людей.
На свою Голгофу она шла маленькими шажками, или Голгофа её была слишком далека, а возможно, она просто не знала, куда идти, и ждала, что муж или сын придут и заберут её к себе.
До последнего Машенька, как называл её Иваныч, сохраняла здравый рассудок и достоинство, до последнего жила и во что-то верила — в свою любовь, в будущее, в счастье, в вечность.
Я не увидел, как закончилась её жизнь, увидел лишь некролог на ограде её усадьбы и понял, что кто-то другой теперь будет хранить тепло очага, что поддерживала она в одиночестве долгих восемнадцать лет.
Проклятая любовь
Всё в его жизни складывалось необычно, не как у большинства окружающих людей, стремящихся лишь к материальному достатку. Вот и история его любви весьма примечательна, местами несуразна и фатальна, прекрасна и ужасна. Чувства, как и потребность самовыражаться в поэзии, возникли в нём резко, не предупреждая и не намекая, ворвались в душу струёй раскалённого пара и сладко обжигали, то придавая сил, то повергая в бездну уныния.
Любовь, как вирус и злая болезнь, то бросала в жар, заставляя писать стихи, напиваться абсента и курить гашиш, спорить об искусстве до исступления, то обдавала холодком, равнодушием к миру и людям, к своей любви и к своему гению.
Писать стихи он начал рано, хотя едва ли по отношению к гениальности уместны временные характеристики. Не стихи это были совсем — слова, сложенные цветком, мысли лёгкого июльского бриза, шёпот маленького мальчика, из уст которого летят не фразы — гаммы и синкопы. О чём может написать подросток, юноша? О любви — ещё рано, о смерти — вроде бы тоже рановато, о детских играх — поздно. И он писал о том, что видел вокруг себя, но описывал окружающий мир сверхчувственно. До него никто не живописал «Искательниц вшей» так возвышенно и высокопарно, так воздушно и загадочно. В этом и была изюминка его творчества — в искреннем возвышении низменного, приземлённого, не публичного и обыденного.
Она, напротив, была человеком уже повзрослевшим, состоявшимся, слыла хоть и не бесталанной, но все же бездельницей и творчеством занималась от скуки или тщеславия. Думала, что всё в жизни уже пережила и едва ли произойдет то, что удивит её. Увидев же стихи юнца, воскликнула: «Я ничего, ровным счётом ничего в жизни не создала в сравнении с этим ребенком. Я никто — он велик!» И с этими словами кинулась разыскивать юного автора восхитительного порядка слов и рифм.
Они подружились, а потом и полюбили, дарили друг другу тепло своих душ, объятия и поцелуи, ласки и нежность. Наверняка как-то по-особенному называли друг друга и наедине кроили мир так, как им хотелось. Гуляли, катались верхом, купались, любуясь наготой друг друга и наготой своих душ, открытых посредством творчества всему миру.
Она стала покровительствовать ему. Он получил вдруг всё, о чём мечтал — деньги, известность, приёмы и балы, свиту, театры, поклонников и поклонниц. Но это всё быстро наскучило. Фальшь, блеск и преклонение его не впечатляли. Он стал много пить и курить. Гашиш и абсент стали его спутниками и друзьями.
Оба они были яростными спорщиками, особенно в вопросах, касающихся искусства. И даже своим любимым редко уступали. Однажды, не найдя точек соприкосновения, воображая себя она — критиком, он — поборником творчества Петрарки, схватились за ножи и чудом друг друга не уничтожили. Таков был градус спора, и спора не о падшей бабе или четвёрке гнедых — о поэзии! После этого происшествия их отношения окружающие стали называть «дружбой тигров».
Выпив прилично и накурившись в салоне гашиша, в другой раз не заметили, как невинный спор об особенностях слога Вергилия перерос в кровавую драму: Он вновь схватился за нож, она выстрелила в него из пистолета.
Отношения на этом были разорваны, и вскоре он остыл к светской жизни и начал отдаляться и от неё и от мира, своё стихотворное молчание превратив в чёрный печальный фрак, в вуаль, скрывающую страдания и боль, вызванные разлукой с любимым человеком.
Эта история осталась бы незаурядной, но всё же не слишком выдающейся, если бы не одно «но» — если бы его не звали Жан Николя Артюр Рембо, а её, вернее, тоже его — Поль Мари Верлен и любовь их не была гомосексуальной.
Как знать, создали бы эти два человека свои замечательные произведения, если бы питали чувства к женщине, а не к мужчине, были бы эти чувства настолько же сильными, заставляющими творить великое и были бы Артюр и Поль столь известны и почитаемы сейчас.
После болезненного и наделавшего много шума разрыва Артюр перестал выходить из дома, а в один прекрасный, а может быть, для кого-то и ужасный день уехал из Парижа в какую-то глушь, забросил поэзию и нанялся торговым агентом. Он снял свой камзол, белые носки и снова надел старые ботинки, и, подбитые лишь ветром одним, они зашагали по мостовым и песчаным дюнам где-то в Африке.
Если вы когда-нибудь встретите этого человека, знайте — это великий человек, но не потому, что мы стоим пред ним на коленях, а потому, что он отверг даже вставших перед ним на колени, не говоря о тех, кто пятился при виде его на четвереньках. Велик он своей непохожестью, уникальностью, человеческой простотой, велик своим талантом и своей любовью, заставившей его сначала вознести поэзию на недосягаемые высоты, а потом растоптать её же на базарной площади.
Гений, копающийся в грязи, не перестаёт быть гением. Простота одарённого человека великолепна и не требует ни поощрений, ни похвалы — она самодостаточна, как и её носитель. Артюр Рембо обладал именно такой простотой, красотой и гениальностью. В жизни он получил разные прозвища, но самые точные, проникновенные и поэтические достались ему от друга и любовника Поля Верлена да от отвергнутого обществом художника, творца и бунтаря Анри де Тулуз-Лотрека.
Первым он был наречён «проклятым поэтом», вторым — человеком «в башмаках, подбитых ветром».
Мысли из никуда
Счастье внутри, но внутри кого-то другого.
Лжец создает то, чего нет, — посягает на богово.
Плиний страшный.
Био-граф = биолог + географ.
Смысл жизни — в бессмысленности.
Демократия — попытка толпы законно ничего не делать.
Суд должен быть внутри, тогда он не будет страшным.
Птица цвета ультрамарин
Пил я когда-то без меры. Пил со всеми подряд: с одноклассниками и однокурсниками, с сослуживцами и соучастниками, с толстыми и худыми, с хромыми и одноглазыми, со стариками и малолетками, с добрыми и злыми, с димедролом и с осадком, с грустью и с радостью, с бутылками и стаканами. Пил в конских дозах, желая доказать всем, что я сверхчеловек. Пил, пока не кончится или не кончусь. Как в последний раз пил — торжественно, развязно, неудержимо. Пил, как пьют страдавшие от жажды неделю или месяц. Пил ещё и ещё в надежде, что эффект будет лучше, чем сейчас, — был максималистом, одним словом.
Сейчас страсть к спиртному как-то поутихла, если не сказать, что сошла на нет. Говорят, что «свое уж выпил». Хорошо бы в жизни всегда было так — хлебнёшь горя из до краев полной чаши, а потом остаток жизни горя не знаешь. Или не любят тебя бабы — и в одночасье как будто обухом по голове — прохода не дают. Или лежал на печи тридцать три года, а потом раз — и все сразу заимел: и машину, и квартиру, и дачу с женой да детьми в придачу. Русские люди такие — либо пан, либо пропал.
А можно ли вообще пить умеренно? Как это? Врачи утверждают, что алкоголь в малых дозах полезен. Только малая доза — это всего лишь двадцать-тридцать граммов чистого спирта. Всё остальное вредно и неумеренно.
Приходишь ты в гости или на именины к товарищу. Видишь, стол от яств ломится. Буженина, маринованные грузди, перепела, шашлык, балык, каравай, лучок зелёный, помидорки. Хозяин произносит торжественно: «Прошу к столу, гости дорогие». Все садятся. Начинается банкет. Кто-то кричит: «Ура товарищу Сталину!» — и засаживает в рот маринованный гриб, другой, его поддерживая: «За нашу счастливую жизнь!» — и давится кусками сочной отбивной из свинины. «За коммунизм и светлое будущее!» — вопит третий и вливает в себя гранёный стакан… молока. Через десять-пятнадцать минут банкет завершается. На посошок залпом выпивают горячий чай, закусывая его тортом, дядя Вася (слесарь ЖЭКа) — не закусывая. Гости расходятся. Хозяева моют посуду и произносят: «Уффф. Хорошо погуляли!..» Да разве ж это дело?
Русскому человеку нужно, чтобы душа развернулась, а потом заснула непробудным, мертвецки пьяным сном; русского хлебом не корми — дай подраться, если нет повода совершить подвиг в трезвом уме, чтобы ощущать себя человеком, а не комом дерьма; потребна утренняя болезнь, чтобы знать, как хороша жизнь была вчера и будет после опохмела; необходимо изменять сознание, чтобы не изменять себе. Всего этого мне хотелось всегда в количествах, превосходящих разумные пределы. Думаю, из таких людей и получались Александры Матросовы и Карбышевы, Солженицины и Стахановы, Наполеоны и Кутузовы. Хотя, возможно, Солженицины, Стахановы и Наполеоны получаются из совершенно других. В мирной жизни такие люди не нужны, им не находится места, и они чем только могут пытаются залить вулкан страстей и стремлений, клокочущий внутри термоядерный реактор. И я тоже пил — что оставалось делать?
Однажды мы взяли на нашу небольшую компанию пол-ящика водки. Не помню, кто спонсировал вечеринку, но удалась она на славу — возможно, именно Слава и был тогда нашим благодетелем. Поначалу мы пили белый прозрачный яд за здоровье и долголетие, потом за счастье и удачу, потом «за ПД» именно в такой формулировке (ПД — прекрасные дамы), потом за любовь (почти у всех к алкоголю), семью (которой ни у кого не было), друзей (почти все за алкоголь), будущее (с алкоголем) и прошлое (тоже с ним).
В итоге я напился. Да не просто так, а очень и очень основательно. Дальнейшая история восстановлена только при помощи дедуктивного метода товарища Шерлока и скудных размытых фотографий, что проявил мой мозг на следующее утро, после того как я окончательно очнулся и вернулся из небытия потустороннего мира.
Итак, к вечеру я был весьма накушамшись. Вернее, меня уже не было — я слился с вечностью, а вместо меня выпустили ростовую куклу с внутри сидевшим нетрезвым гражданином, со встроенным кассетным магнитофоном «Сатурн», воспроизводившим запись моего голоса и нещадно жевавшим магнитную ленту. После окончания банкета кукла (в дальнейшем пусть будет Кук) крайне нехотя собралась. На слова друзей «поехали домой» мычала что-то вроде: «Мене и тут охурошо!» Кое-как Кук встал, надел куртку и шапку (на улице уже была глубокая сибирская зимушка) и направился на остановку общественного транспорта. Друзья мои были тоже в хорошем подпитии и сказать точно, куда Кук поехал в тот вечер, не смогли.
Поездка протекала хорошо, пока не настал момент выходить. Зачем и куда Кук выходил, мне очень трудно сказать. Я, как экстрасенс, как мастер парапсихологии, видел на следующий день лишь образ. Образ этот был таким: в троллейбусе (хотя это вполне мог быть и автобус или даже трамвай) стоит, покачиваясь, тонкая рябина — она же Кук. Рябинушка держится за верхний поручень рукой, и лишь эта хлипкая жила не даёт дереву рухнуть наземь. Водитель объявляет остановку, и Кук неожиданно поворачивается к выходу. Какая остановка, ему было безразлично — ему просто не хватало кислорода, он хотел дышать, жить… Он идёт на выход. Нога шагает на одну ступеньку, на вторую, на третьей крепко опьяневшая нога подворачивается, но грузное тело, уже пришедшее в движение, продолжает свой стремительный бег, ноги постепенно от него отстают, и тело закономерно оказывается на земле, вернее, на асфальте на остановке общественного транспорта. «Опять кондуктор вышвырнул наглого зайца», — подумал, наверное, кто-то, стоя в ожидании своего автобуса в тот момент.
Затуманенный мозг Кука приказывает ему подняться, но приказ не подкреплён грубой силой, и поэтому Кук некоторое время любуется звёздным небом, лицами людей, ожидающими своего автобуса. Затем Кук всё же встаёт и присаживается на бордюрный камень дороги. Он уже подышал и решил продолжить поездку. При виде остановившегося автобуса (а может быть, и троллейбуса, но точно не трамвая) Кук вваливается в него и продолжает свою поездку.
Кук беспрепятственно доехал до конечной — там все вышли, и он тоже. Кук не понимал пока ещё, что он приехал не туда, где он находится — определить не мог, поэтому пошёл, пошёл куда глядели его косые от водки глаза. Вскоре Кук понял — находится он скорее всего в Ленинграде, ну или за городом. Лёгкое беспокойство охватило его, мозг чуть вырвался из лап спирта, благодаря лёгкой стрессовой ситуации. Кук продолжал идти. На улице глубокие сумерки, а может быть, и ночь — часов не имелось. Ни фонарей, ни огней проезжающих машин, ни лампочек в окнах домов не видно, потому что и домов-то вокруг нет — только лес. Кук всерьёз испугался, ускорил шаг и вскоре побежал. Через десять-пятнадцать минут бега неуклюжее пьяное тело увидело вдалеке (в нескольких километрах!) многоэтажки и обнадёживающий свет в их окнах. Кук не раздумывая, как математик, опускающий кратчайший перпендикуляр до плоскости, пошёл точно на свет. Он шёл через лес, прыгал через какие-то ямы, перемахивал через трубы и арматуру, через открытые канализационные люки.
Наконец Кук упёрся в забор — неосвещённую, непонятную преграду, за который ничего, как ему показалось спьяну, не было. Без реверансов, вспомнив своё спортивное прошлое, перемахнул через двухметровый забор, словно заяц через куст, но, зацепившись штаниной за колючую проволоку, обрамляющую забор, как шёлковая кайма — платье французского короля, рухнул по ту сторону на чистый асфальт. Сегодня Кук уже смотрел на звёзды, поэтому во второй раз не стал столь долго их наблюдать. Встал, отряхнулся и пошёл на все ещё далёкий свет.
Было подозрительно пустынно, чисто и тихо, но Куку было плевать — он шёл домой и не замечал вокруг себя ничего, ужасно устал и был мертвецки пьян. Хотелось скорее раздеться, лечь на кровать, укрыться любимым одеялом и заснуть сном младенца, хотелось поскорее выйти вон из этого дня. Вдруг Кук напоролся на какую-то бочку. Вместе с ней он покатился кубарем. Бочка издавала звуки, похожие на колокольные. И в этот момент Кук услышал возглас: «Стой! Кто идет? Буду стрелять!» — и звук передёрнутого автоматного затвора. Залаяли собаки — видимо, овчарки. Кук побежал. Он нёсся, как ветер, как стая буйволов, круша всё на своём пути — ветки, какие-то верёвки, растения, бочки и фанерные стенды. Добежал до ещё одного забора. С ощущением дежавю перемахнул через него, опять зацепившись штаниной за колючую проволоку и рухнув по ту сторону. Быстро встал и почесал дальше.
Лай собак стихал, да и ландшафт изменился — стал лесным, естественным. «Пронесло, — подумал, выдохнув, Кук, — похоже, это была армия! Пронесло!»
Окна домов были уже совсем близко. Появились гаражи. Голова Кука снова начинала погружаться в нахлынувший спирт. Кук шёл между железными домами железных же коней и захотел сделать то, что чуть не сделал за тем забором от страха. Но почему-то не слишком спешил. Во время процедуры сзади подкралась машина, осветив сакральное действо. Кук подумал, что сейчас его будут бить, и хотел было сказать: «Да ладно, ребята! Это же всего лишь гараж — он железный и не заржавеет! Я же чуть-чуть!» — но почему-то промолчал. Видимо, кассету в магнитофоне окончательно заело.
Люди позади не предпринимали никаких действий. Кук понял — они пришли с миром. Не иначе ирокезы. Кук обернулся.
— Здравствуйте, уважаемый! — произнёс приятный голос.
Фигура стояла в свете фар — ангел, не иначе, сошедший с небес, чтобы препроводить Кука куда-то.
— Ды-бе-бу-ба-де-бу-ка, — ответил на языке ангелов, улыбаясь, Кук.
— Всё ясно! Бухой! Пошли! — сказал голос.
Кука подвели к «уазику» и начали нахально обыскивать. Вытащили документы, немногочисленные деньги, фотоаппарат, ключи, ручку, какие-то бумажки и положили всё это на тёплый капот машины. Деньги сразу же ангелы попилили между собой, открыли фотоаппарат и засветили пленку (наверное, чтобы Кук не смог потом доказать их существование). Один из ангелов поинтересовался: «А что это за небольшой свёрток?» Кук ничего вразумительного ответить не смог — он так был рад неожиданной встрече, что совсем раскис и превратился в кусок грешника.
Свёрток представлял собой лист тетрадной бумаги, скрученный в трубочку, концы которой были вставленный один в другой. В таких обычно наркоманы носят своё зелье. Пэпээсника, предвкушающего такую удачу (а поймать с поличным наркомана большая удача), чуть затрясло от мысли о причитающейся за такой героизм премии. Он подозвал коллег в свидетели и начал медленно разворачивать свёрток, чтобы не просыпать ни грамма героина или, на худой конец, марихуаны. Руки дрожали, но мент медленно продвигался к своей цели. Развернув последний сгиб, он увидел на листе аккуратно сложенную застежку от молнии. Пэпээсник плюнул и засунул молнию Куку в карман.
Посадили Кука на заднее сиденье и куда-то повезли. Через некоторое время открылась дверь и ему скомандовали: «Выходи!». Он вышел. Перед ним стояла большая машина с решётками на окнах. Прозвучала команда: «Заходи!» — и открылась другая дверь. Он зашёл в чистилище, где было полно людей, ожидающих решения своей судьбы. Почти все спали. Некоторые лежали под лавками, прибитыми к стенам. Кто-то курил. Кук тоже присел на лавку и, оглядевшись вокруг, подумал: «Да… значит, так выглядит дверь в ад! Прикольно…»
Машина нехотя тронулась. Все закачались. Матросы испытывают то же ощущение — понимают, что корабль кренится относительно земной поверхности, но бессильны этому противостоять, лишь посильнее держатся за все что могут. Корабль плыл куда-то. Куда — Кук не знал, потому что в тот момент не был капитаном. Тоскливо и чуть страшно… Тут он услышал ободряющий голос моряка, лежащего в своем гамаке, подвешенном под потолком, скучающего о доме и семье. Моряк запел. Сначала один, потом к нему присоединился ещё кто-то, затем ещё и еще. Хор их становился всё сильнее и сильнее. Тут Кука кто-то толкнул в бок, протянул сигарету и, подмигнув глазом, улыбаясь, сказал: «Подпевай!» Кук закурил. Он поинтересовался, куда везут весь этот табор. «В вытрезвитель!» — сказал добрый и довольный собой морячок.
Раньше Куку казалось, что в вытрезвителе бывают только опустившиеся алкаши, никчёмные люди, те, кто стоит на самой низкой социальной ступени. Кук оглянулся вокруг — почти все были прилично одеты, с относительно нормальными лицами, весёлые и ехали не на каторгу или в тюрьму, не в ад — на отдых. Они знали, что в трезвяке отдохнут, поспят, придут в себя и с утра довольные отправятся домой или сразу на работу. «В вытрезвителях, оказывается, так весело и хорошо, — подумал Кук, — есть интеллигентные и хорошие люди». Кук перестал грустить, душа его снова наполнилась радостью, как будто он был в кругу старых друзей, и с чувством гордости за себя и своё окружение, с выражением, достойным Андрюхи Макаревича, он подхватил знакомые с детства слова: «Мы охотники за удачей — птицей цвета ультрамарин…»
Пучина воспоминаний
Он появился из ниоткуда, осыпаемый тысячами мельчайших капелек воды, казалось, не опускавшимися с небес, а, наоборот, прозрачной бледно-белой пеленой парящими над землей и медленно взлетающими к серому совковому небосводу. В коричневой зимней куртке до колен, шапке и резиновых сапогах похож он был на путника, вышедшего из дома в лютый мороз и добредшего к финалу своего вояжа только к середине солнечного сибирского мая.
На вид не показавшись заслуженным пенсионером, человек этот производил впечатление утомленного собственным бытием существа. Именно существа — телесной, биологической оболочки, окончательно растерявшей за время странствий душу и, как следствие, детскую увлечённость и интерес к окружающему миру, юношеский пыл и деятельную страсть, мужскую настырность и настойчивость да старческий скарб мудрости.
Казалось, ничего в нём не осталось. Ровным счётом ничего — ни стати, ни силы, ни внешней или внутренней красоты. Всё в его жизни уже лишь было. Всё минуло, ничего не оставив. Почти ничего — ничего, кроме кипучей пучины воспоминаний, прорывающейся сквозь туманную пелену глаз морского нежно-синего цвета.
Зеркала его души были поистине необыкновенными — в них отразилась вся жизнь человека, всё удивительное и завораживающее, представшее когда-то взору: перламутровые переливы волн и чёрный шквал урагана, синь непроходимых дальневосточных лесов, венчающих вершины гор и сопок, ослепляющее зарево сварочной дуги и газовой горелки, свет надежды и любви к жене и детям… Искры и всполохи от ударов кирзовым милицейским сапогом нанесли последние слёзно-чёрные мазки на всепроникающие порталы души.
Срочником служил на Дальнем Востоке — мотористом электродизеля на Тихоокеанском сторожевике, стоящем в охранении Кунашира и Итурупа. Штурвал Советов в семидесятые крутил товарищ Брежнев, и волны, бьющиеся о борт железного занавеса в семьдесят четвертом — семьдесят седьмом, не слишком докучали наивным и неосведомлённым, а потому зачастую счастливым жителям красной коммунистической части мирового плота, сшитого белыми нитками.
На Дальнем Востоке, видимо, успокаивающий шум прибоя или всё же красота краснознаменных межконтинентальных крылатых ракет ещё больше размягчали сердца соседей по мирку, и работы у сторожевика, а значит, и у его моториста, тогда ещё молодого паренька, было не так много. Лишь в мае служба заметно отягощалась.
Ежегодно в последний весенний месяц, следуя загадочному японскому календарю, эскадра острова восходящего солнца выдвигалась из мест дислокации и прямым курсом неслась под парами к границам советского царства. В течение тридцати дней корабли японцев гудели гребными винтами у восточных дверей нашей державы, столь изящно напоминая о своём желании вернуть почти безлюдные, до войны принадлежащие Японии острова.
Стрелять в сторону соседей было не велено отцами-генералами, но и без шуток русскому человеку жить было всегда невмоготу. На вторую-третью неделю «великого стояния на островах» сторожевик на несколько часов заходил в порт приписки. Вся команда спускалась на берег и споро грузила на борт что-то, формой напоминающее стандартные оцинкованные десятилитровые вёдра. Около сотни штук.
Сторож-корабль выходил в море с задраенной пятидесятисемимиллиметровой пушкой, загодя опущенной в палубу, подплывал к японским кораблям на предельно малое расстояние. Набирал ход и, проносясь, как сёрфингист, мимо загорающих на берегу ничего не подозревающих отпускников, постепенно всыпал «ведра» с уже запаленными торчащими из их чрева бикфордовыми шнурами в булькающую сине-зелёную жижу. Ветер для сего действа выбирался встречный и обязательно боковой — бредущий в сторону японских просителей.
Через пару минут после того, как странные боеприпасы оказывались в воде, море вскипало желтовато-кислотным дымом. Сам океан извергал из себя едкие облака удушливых испарений, а ветер бросал хлорный газ в сторону не угомонившихся со времён войны соседей. Не в силах противостоять натиску стихии и хитрой на выдумку русской голи, японо-корсары травили якоря да разворачивали стальные шхуны и фрегаты ко своим брегам.
Срочная служба кончилась. Родной город. Родные улицы. Автобаза, ставшая за шесть лет третьим домом — после хаты на окраине городка и трюма урчащего судна. Шестой разряд сварщика. Жена, дети, квартира… И выпивка — спутник и товарищ, легко снимающий массажем пищеварительного тракта усталость в ногах и руках.
Советская система была проста — работай и зарабатывай. Думать было ни к чему. А хотелось. И вот, чтобы смирить в себе это, никому не нужное во времена безголового коммунизма свойство человеческой натуры, он и пил. Всаживал прилично, с азартом, что, впрочем, не мешало ему и хорошо трудиться. Сварщиком был замечательным. Мастером своего нехитрого, но все же полезного и нужного дела.
Добрый, работящий, веселый, с рюмочным грешком, уравнивающим его с остальными небезгрешными существами планеты. Обычный человек. Необразованный, порой не знающий меры, но в целом заряженный положительным зарядом — ион, ищущий что-то и растворяющий вопросы спиртом.
Он не доставал руки из кармана. Правое плечо было чуть опущено и неестественно выгнуто вперед. Виднеющаяся кисть висела плетью, покрытая желтоватым узором.
— Что это? — мягко спросил я, указывая на странное свойство его фигуры и выступ одежды.
— Мусора избили, — скромно ответил он, — с тех пор и побираюсь. С работы уволили. Какой сварщик фактически без правой руки. Даже дворником не берут. Работал до осени, а как выпал снег — погнали. В Сибири снег тяжёлый, неподъёмный. Одной рукой не осилить.
Не более получаса я знал его, а кажется — как будто вечно. Всегда я восхищался его весёлым нравом, незлобивостью; не покорностью судьбе, а смирением; не глупостью, а простотой; не наивностью, а открытостью… И его бездонными глазами — атрибутом любого глубоко тоскующего человека, попавшего в безысходное положение, увязшего в проблемах, в алкоголе, в равнодушии, отхлебнувшего вдоволь из бочки несправедливости и подлости, из кадки желчи и глупости людской, но ещё не потерявшего надежду и веру хоть не в себя, но в других — в добрых, хороших людей, иногда помогающих ему кто словом, а кто делом.
Пыл любви
Пыл любви не выбирают — В нём горят и умирают!Мысли из никуда
Он обещал… но вернулся.
Добро легко отличить от зла — оно с кулаками.
Консилиум обезьян признал первых людей душевно иными и изгнал из рая.
Понять шутку — пройти путь от обезьяны к человеку. Пошутить — обратно.
Жизнь — русский театр, а режиссёр глух и немец.
В мире мало добра и много разговоров о нём.
Мир без Бога просто пустоват, как автобус без кондуктора.
Свеча на снегу
Неотапливаемая крохотная комнатёнка, арендованная на полузаброшенном судоремонтном заводе. Пара холодных железных станков. Мешки с кусками источающего аромат мёда, золотисто-коричневого мягкого пчелиного воска. Брикеты белого, безжизненного, трупного цвета парафина. Горючая нить. Коробки с готовой продукцией. Наниматели, разговаривающие на плохо понятном, варварском языке. Вот первое, что увидел Бахром в России.
Он, мусульманин, за несколько тысяч рублей в месяц изготавливал в полулегальной шарашке свечи для православных церквей, кои прихожане, верующие, а зачастую просто случайные в церкви люди бежали воспалять перед иконами, как только в жизни гремели горестные события. Вот первая работа, на которую мужчина, разменявший пятый десяток и свою родину на чужбину, не раздумывая, согласился.
Иногда в конце рабочего дня Бахром зажигал готовую поминальную свечу, даже не задумываясь о таинстве, которое совершает, и ставил на бетонный некрашеный подоконник. Ровно полтора часа яркое пламя озаряло каморку, ровно час с небольшим надежда на перемены к лучшему разгоралась в душе Бахрома с новой силой. Пламя то потрескивало, то завывало, то затихало, то с новой силой пожирало и плавило воск, оставляя возле окна после себя остывшее маслянистое пятно луковичного цвета.
Жил Бахром прямо на рабочем месте — под лестницей на второй этаж, давно заваленной всяким хламом. Получал за работу гроши и большую часть сразу же отправлял семье, оставшейся на родине, в стотысячном городе Термезе на границе с Афганистаном, — в засушливую местность, где не было ни работы, ни перспектив, где родились его дети и давно умерли надежды и мечты.
Дело Бахрому нравилось — приятный запах, относительная чистота, почти бесшумно работающий станок, переплавлявший парафин и воск в единую массу, мысли о Боге, появляющиеся, когда брал он в руки горсть свечей, тех, что вскоре должны были, по непонятной для него традиции, вспыхнуть и сгореть в христианском соборе, под своды которого, как верный сын Аллаха, Бахром ни разу в жизни не входил.
Родился и вырос Бахром в Узбекистане — на самом юге страны, где в летние месяцы Аллах не посылает правоверным ни капли своей волшебной живой слезы. За годы коммунизма Узбекская ССР сделала тройной прыжок из феодализма и каменного века в десятилетия просвещения и индустриализации. На этот прыжок ушли все силы, и в конце двадцатого века узбеки снова провалились в зиндан рабства и восточной тирании.
Ислам Каримов, ухватившийся за конский хвост власти, проскакавшей мимо, вместо гласности и демократии показал народу плётку и ярмо, все мало-мальски значимые предприятия подчинил себе, неугодных и несогласных уничтожил физически или морально — как в Средние века устраивал ордалии кипятком да судил по закону талиона.
Бахром совсем не знал снега. Человек, выросший в жаркой засушливой местности, слышал рассказы о снеге от стариков, видел белый, холодный, липкий порошок только по телевизору, да и то лишь в редких выпусках международных новостей. Ещё поэтому Бахром решил ехать именно в Сибирь — туда, где снега было очень много, в большой город, где легче затеряться и укрыться от проблем и опасностей.
Правда, тогда не знал он, сын узбека и таджички, что бежит из песчаной пустыни в пустыню снежную, из жары и нестерпимого пекла — в стужу и ледяной ад, из нищеты и бесправия — к тому же беспросветному безденежью, ненужности и презрению окружающих, чужих духом и телом людей.
Как у любого человека, были у Бахрома друзья — со школы, с техникума, просто хорошие люди, с которыми сталкивала судьба. Всем скопом поддерживали они друг друга в горестях и печалях, вместе веселились на праздниках и радовались успехам детей.
К тридцати Бахром обзавёлся семьёй и устроился на солидную, по меркам их маленького городка, должность. Предприятие обеспечивало комплектующими конвейер Уз-Дэу-Авто и работы всегда хватало, а трудиться Бахром любил и умел.
Многие друзья преуспели больше, делали собственное дело — в кафе, в автосервисе, в маленьком местечковом банке. Несмотря на различия в доходах, дружба не давала трещин, ещё больше закаляясь в печи времени.
И вот однажды пришла беда. Хотя облик и имя у неё были вполне радостными. Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, в погоне за монополизацией банковского сектора страны добралась и до мелких провинциальных ростовщиков, выжимающих последнее из и так не слишком нищей абсолютной республики Средней Азии.
Давнего друга Бахрома без объяснений бросили в тюрьму. По сфабрикованному делу оперативно припаяли несколько суровых зим, а банк отняли. Несогласным, выходившим пикетировать здание суда, в милиции на кулаках объяснили, что может случиться с их семьями, и отпустили на все одну сторону, тут же выставив за пороги заводов, фабрик, прикрыв их мелкие лавчонки. Бахром тоже остался без работы.
Надежды на справедливость и перемены в стране не было. Каримов проводил хитрую угодническую внешнюю политику, не допуская вмешательства извне в свои дела внутри Узбекистана, да хорошо кормил и вооружал фанатично преданную ему за это армию.
Случайные заработки — чистка сверхзловонных выгребных ям, замешивание вручную тонн цементного раствора, унижения, насмешки, в лучшем случае отказ и разведённые руки — вот в какой мир окунулся с головой отец семейства, гордый восточный, ещё не старый и сильный мужчина. Случайные заработки — так цинично называют ад те, кто живёт в раю.
Раннее утро. Стрельба, крики, взрывы, плач. Люди, бегущие куда-то. Бахром вскочил с циновки. «Похоже, сон», — подумал он, и в тот же момент тысячи дынь и арбузов раскололись за окном, с гулом упав на каменную мостовую. Несколько улиц, с десяток высотных домов, полуразрушенный стадион и крохотный аэропорт — всё было оглашено тревожными знамениями.
Они вошли в город тремя группами по пятнадцать человек. Один отряд направился к комендатуре, второй — к райотделу милиции, бойцы третьего захватили представителей городской администрации, прокуратуры и суда. Действовали чётко и молниеносно. Менее чем через пятнадцать минут канонады в разных концах городка стихли. Жители осторожно выглядывали из своих жилищ, не понимая, что происходит.
Военные и милиция были перебиты, на центральной площади, немного покачиваясь на ветру, висело обезображенное тело прокурора города и ещё пары местных жителей, выскочивших из дома с автоматами.
Вооружённые мужчины в камуфляже собрали горожан на площади и, небрежно передёрнув затворы, предложили мужчинам по своей воле последовать за ними — на помощь братьям мусульманам. Это были бойцы движения Талибан из соседнего Афганистана, огнём и мечом возвращённого, как будто по воле злого джинна, от каменных электростанций и чёрных асфальтовых дорог к глинобитным домам и алым полям мака. Талибы спешили. К городу наверняка уже выдвинулись верные Каримову войска.
Ночью по дороге на юг Бахром и ещё несколько товарищей бежали. После недолгих раздумий и прощания с семьей, опасаясь мести как талибов, так и Каримова, отправились в Россию — в Сибирь, на большее не хватило денег, собранных всеми родственниками и знакомыми.
На берегу желтоватой, протекающей по глинистой почве реки, среди берёз и лесостепи Бахром с нетерпением ожидал зиму… и снег. Осень выдалась тёплой, и он не понимал, почему Сибирь называют суровым краем. На улице тепло, листва ещё зелёная, и лишь холодные ночи заставляют задуматься о грядущем.
Зима, как водится, наступила неожиданно — за одну ночь. Ещё вечером Бахром любовался чернотой земли и непроглядной тьмой, а утром не узнал мир — так тот изменился. Белые хлопья не спеша падали с неба. Бахром пробовал их на вкус, грел в руках, собирал горсти с земли и играл, как ребёнок, в снежки. Он был счастлив — его мечта осуществилась. Он увидел то, о чём так долго мечтал, снова почувствовал себя ребёнком — радостным, беззаботным, почувствовал себя человеком свободным, самодостаточным и счастливым.
Привыкший к теплу Бахром простудился, и через пять дней его не стало.
Снег, с которым он лишь раз соприкоснулся, укрыл белым пушистым покрывалом могилу человека, не нашедшего счастья на родине, мусульманина, вкладывавшего свечи в руки христиан, человека, родившегося в одной стране, прожившего почти всю жизнь в другой, а умершего в третьей.
В белую рыхлую пену, о которой так мечтал Бахром, чья-то рука почти равнодушно воткнула одну из последних его свечей. И зажгла. Пламя медленно сползало вниз по коричневатому столбику. Золотистые слезинки скатывались и тут же проваливались в снег Сибирской равнины, как скудная влага в выжженный песок Ферганской долины. Блики скользили по замёрзшей воде, постепенно оплавляя верхушки крошечных снежинок. Через час с небольшим от свечи на снегу не осталось почти ничего — ничего не осталось и от человека, чьей рукой она была создана.
Истинная любовь
Одна лишь истинна любовь, И та весьма не долговечна. Поел, попил — её забыл… Всё в этом мире скоротечно!СволочЪ
СволочЪ проникает в нашу жизнь по-разному. Чаще всё же через входную дверь, хотя порой пытается просунуть свою харю через окно или форточку. Делает она это обязательно с добродушной улыбкой на лице и сморщенным задом. Это раньше, когда Адам и Ева были не одеты, можно было сразу распознать, кто из них пошёл по сволочной дорожке. Современная сволочЪ надёжно прикрывает тыл красивым коротким платьем или штанами, и определить её на вид удаётся не сразу и не каждому.
По утрам сволочЪ собирается в свою сс**ью стайку и решает, кого каждая сегодня будет объ****ать, очернять или выставлять полным дол****ом. Вечером сволота весело делится похождениями и получает от коллег скупую похвалу и завистливый взгляд из-под постановочной милой, пропитанной завистью и лицемерием улыбки.
СволочЪ везде — тихо причитает у подземного перехода, прося пятую тысячу милостыни на хлебушек; побирается на перекрёстке, уверяя, что ей не хватает десяти рублей доехать до дома, затерявшегося где-то в Коктебеле; мило улыбается в офисе, чтобы за бесплатно получить дельный совет или незаметно перекинуть на других свои сволочные косяки; обгоняет по встречке, влезает, вклинивается, втискивается всюду, где видит промежность; стоит на правительственной трибуне, поднимая пенсию на сто рублей и привычно шелестя пачкой архангельских купюр у себя в кармане.
Когда-то давно сволочЪ общалась только между собой. Это было время рая на Земле. Не было лжи, предательства, и люди искренно доверяли друг другу все свои тайны и чувства. Но так как сволочЪ не умела ни черта делать, кроме как бессатанински врать, то очень скоро у неё кончились харчи и ей пришлось расселиться по миру. Тогда-то в нашей жизни и появились спутники сволочи — проблемы, слухи и сплетни.
СволочЪ часто давит на жалость. Для этого она специально заводит детей или берёт сволочной кредит. И когда её хотят уволить, нахально достает паспорт и показывает страницу «дети» или плачется о неподъёмных взносах за хату или машину. Чаще сволочЪ давит на мозоль, кнопку вызова официанта или домофона.
У сволочи всегда есть под рукой корвалол или настойка пустырника. Как только сволочЪ уличили во лжи, она достаёт все свои склянки, расставляет по столу, обматывает голову мокрым полотенцем, рисует тушью потёки от слёз и с видом матери Терезы тихо постанывает в углу.
СволочЪ очень живучий вид, потому что у неё отсутствуют сердце, продолговатый мозг и гипоталамус, а также вторичные половые признаки. СволочЪ вообще часто беспола. Зато у неё есть дорогой парфюм, накладной бюст пятого размера и фотки каких-то детей, стариков или собак на столе, взятые ею с помойки.
СволочЪ зачастую неплохо одета, знает слова «Пушкин» и «Достоевский», а также отделяет запятыми слова «С уважением».
В «Одноклассниках» у сволочи полуобнажённые фотки обязательно только спереди, где она жрёт, где она рядом с памятниками и музеями, а нет фоток, где она с сигой, блюёт или гадит под кустом.
СволочЪ почти всегда очень хорошо живёт и учит жить других, потому что искренно убеждена, что все, кроме нее, сволочи.
Не занялся
Ворона каркнула в ночи отлично, Чванливо растопорщив остро рыло! Не занялся огонь в печи так мило — Я просто им не занялся привычно.Смерть надо заслужить
Филип Дик, Дюма, Стругацкие, Клиффорд Саймак, Киплинг — вот с кем хотел бы общаться Костя. Точнее, он бы хотел жить в мирах, созданных этими неординарными, интересными, не всегда существовавшими по обыденным правилам большинства людьми. Хотел бы быть Руматой Эсторским или сталкером, мушкетёром короля или рыцарем, стать ловцом сбежавших анди, мечтал иметь эрзац-собаку и летать с ней по делам на Луну, спасать прекрасных дам и выигрывать рыцарские турниры. Его окружали Убик и ведьмин студень, свист шпаги и страусиные перья, марсианские оросительные каналы и комариная плешь, латы и арабские жеребцы. Всё это было вокруг него, просто никто, даже самые близкие люди, этого всего не замечал.
В большой семье, где он был средним из трёх детей, с детства его считали чудаком. Как партизан, он каждый вечер залезал под одеяло с фонариком, чтобы проникнуть в иные миры — в миры пришельцев из космоса, роботов, норманнов и викингов, путешествий на другие планеты, где всё необычно, загадочно и красиво, где побеждает добро, а вселенское зло всегда получает по заслугам. «Вот бы и в жизни было всегда так», — думал Костя, когда слышал уже привычное: «Кот, иди сюда! Ты опять читаешь свою чушь с фонарём? Испортишь же глаза, баран!»
Косте было всего двенадцать, но уже в этом возрасте он осознал: мир далеко не идеален, полон злобы, насилия, обид и ссор, лжи, предательства и непонимания самых близких людей, которые по определению должны излучать добро, терпеть, заботиться и помогать идти своей собственной, иногда очень отличной от других тропой.
Его родители были простыми, небогатыми людьми: мать работала прачкой, отец — слесарем. Прачка или слесарь в Союзе — не то же самое, что сейчас. Тогда это были обычные, уважаемые профессии, это был труд, вознаграждавшийся достойно и оценённый почти сполна. Перерабатывать не приходилось, и оставалось достаточно времени для воспитания четырёх детей. Жила семья в большом, просторном доме недалеко от озера, почему-то однажды обмелевшего и покрывшегося камышами и тиной. Юра постоянно что-то мастерил, Надя готовила еду на всю ораву, стирала, убирала в доме — обычная жизнь обычных советских представителей победившего в семнадцатом году класса-диктатора.
Мама и почти в сорок лет выглядела как юная грация. Беззаботно порхала с белоснежными полотенцами и покрывалами в своей ведомственной прачечной вагоноремонтного депо. Отец шутя подбрасывал трёхпудовые гири и был статным, высоким, импозантным мужчиной, чем-то напоминавшим заслуженного актера второго плана или приметного статиста-ловеласа, а не слесаря сборочного конвейера оборонного завода.
Трудно сказать, когда в их жизни пробежала чёрная кошка, но семья однажды затрещала расщепленным дубом. Возможно, причиной стала перестройка, вмешавшаяся в планы о получении нового, со всеми удобствами жилья, возможно, дисгармонию в семью вносил отец жены, не слишком полюбивший зятя, поселившегося в его старом доме, возможно, ревность мужа выхолащивала чувства к жене и заставила взглянуть на неё как на врага и предателя. А ревновал Юра ужасно, тем более, как ему казалось, поводов было хоть отбавляй.
То интеллигентный и воспитанный сосед слишком любезно и учтиво «обхаживал» его благоверную, то с работы Надя приходила с букетом цветом, что срывала по дороге домой на поле, каким-то чудом втиснувшемся в городскую черту. Но самое ужасное было не это — последний, четвёртый ребенок, дочка, уж никак не хотела расти и походить на всех предыдущих. Её карие глаза не давали Юре покоя в его поголовно голубоглазой семье. Ни фигурой, ни статью она не пошла ни в сестёр, ни в брата, и это бросалось в глаза. Никто из соседей, конечно, ни о чём таком не говорил, но Юра терзал себя мыслями о досужих сплетнях и молве, разбирающих «похождения» его жены и его, Юрину, беспечность и недалёкость. Юра стал пить, а после бутылки мания усугублялась.
Поначалу он просто скандалил, затем стал бить жену, уничтожать имущество, пропивать зарплату, выносить вещи из дома, бить детей, драться с тестем, одаривать своих когда-то родных и любимых людей бранными словами, и больше всех доставалось Косте. Он прятался от отца, когда тот приходил домой с водкой, а приходил он с ней всё чаще и чаще, постепенно превращая и без того нелёгкую жизнь большой семьи в живую могилу.
Надя пыталась вразумить мужа, поговорить с ним и оправдаться за мифические грехи, которые Юра ей приписывал, но всё было тщетно. Конфликты становились всё глубже, обиды всё острее, синяки всё заметнее.
Младшая дочь действительно не походила на других детей, но вины в том Нади не было. Она любила мужа и никогда даже не задумывалась о связях на стороне. Да и с кем она ему могла изменить — с хромым соседом или с такими же прачками, как и она, в поте лица зарабатывающими свои гроши в пассажирском депо?! Юрка был отличной партией, но она никогда его так не воспринимала — просто любила, хотела быть с ним, счастливо жить, растить детей, состариться и нянчить ораву внуков. А Юра, хоть и обладал недюжинной физической силой и золотыми руками, не был до конца уверен в себе и поэтому ревновал супругу к фонарным столбам.
Юра пил. Запои становились все длиннее, и скоро он стал забывать работать, за что его и уволили. Злость и ревность всё яростнее прорывались наружу, и семья начала бежать от него, но из семьи уволиться не так просто. Дети и жена старались уйти из дома, пока тот не проспится и не примет более-менее человеческий облик. Юра целыми днями сидел дома. Жил случайными заработками, знался со случайными людьми, пил и пропивал всё, что попадало в руки, превращаясь в омерзительное существо, говорящее сыну «дурак», жене и дочерям — «шлюхи», старому тестю-фронтовику — «козел», остальному миру — не менее грязные и неприятные фразы.
Маленький Костя очень жалел маму и был готов на всё ради нее, старался заменить постепенно падающего — в прямом смысле — в канаву мужа. Помогал по дому, часто на каникулах приходил в прачечную и работал там, лишь бы не находиться дома с пьяным отцом. Молил Бога, чтобы всё стало так, как раньше, и перестал читать, потому что отец очень злился, видя сына с книгой в руке.
— Мужик должен работать руками, а не читать какие-то книжки, как баба! — орал отец. — Мужик должен быть мужиком, а все эти книги — для маменькиных сынков и слюнявых интеллигентов типа нашего соседа-козла!
Юра нагибался над сыном, дышал мерзким перегаром и повторял басом: «Ты понял, Кот? Понял батю своего?» Костя кивал, закрывал книгу, дожидался, когда отец напьётся и уснёт где придется, оттаскивал его уже изменившееся к тому времени не в лучшую сторону тело на кровать и снова открывал недочитанный миг дуэли двух красавцев, одетых в синие, расшитые золотом накидки, или финал романтического свидания фрейлины её величества меж вереницы зелёных, выстриженных конусами вязов и лип в парке де Пресье.
Было два часа ночи, когда в окно постучали. Костя проснулся и краем глаза увидел мамину тень, промелькнувшую по коридору в сторону входной двери. Шаги пробежали и замерли, звякнул замок, послышался незнакомый, официально-натужный, вкрадчивый мужской бас. Вскоре раздались тихие всхлипывания. Солёные капельки слёз осенним дождем заморосили по половице.
В тот день Юра, как обычно, выпивал, точнее, напивался. Где и с кем, он уже и сам не помнил, когда возвращался домой с одной только мыслью — раздобыть у жены денег и купить ещё хотя бы стакан самогона. Где возьмёт она деньги и есть ли они, Юру нисколько не волновало.
— Она мне должна! — мысленно повторял он. — Пусть найдёт где хочет!
И ступил на ещё теплый асфальт, нагретый днём лучами жаркого июльского солнца. Вдруг что-то сбило его с ног, слегка подбросило, а потом придавило и стало жевать, обдирая кожу со спины вместе с одеждой, сдирая наждачной бумагой лицо, ломая руки, рёбра и ноги, разбивая череп алюминиевым выступом, раздирая тело адской тёркой.
— Попал под машину, — сказал Наде милиционер. — Водитель тоже был пьян и не сразу заметил, что сбил человека. Ещё двести метров он протащил тело по асфальту под днищем и лишь потом остановился, услышав душераздирающие вопли. Ваш муж был жив ещё два часа. Если бы был трезвый, наверное, умер бы от болевого шока сразу, а так ещё бился в агонии. Врачи были бессильны.
Гроб не открывали. Никто не плакал. Лишь Надя, увидев фотографию мужа на памятнике, разрыдалась и упала на колени перед обитым красным атласом деревянным ящиком. На фотографии Юрка всё такой же молодой и красивый, такой же нежный, любящий и сильный, смелый, вдохновляющий её, ведущий к светлому и счастливому будущему. Дети запомнили его другим и на поминках почти ничего не говорили и не плакали.
Костя вдруг вспомнил, как хоронили известных героев чужих романов, с какими почестями и помпой, с пафосом, с оружейными выстрелами и воем оркестра, и ему захотелось поскорей вновь перенестись в один из этих необычных, красочных миров.
Мысли из никуда
What can I do? — Водки найду.
Оригинальная однобокость.
Милицию должен благодарить закон, а не те, кто его нарушает.
Красота, возведенная в экспромт.
Человек — это недоэволюционировавший Бог.
Авторитаризм в литературе неизбежен.
Красный диплом иногда бывает символом серости.
Положи на ладонь то, что в сердце твоём
Положи на ладонь то, что в сердце твоём: Прах пылающий чувств, лай коней и ворон, Страх обид и тоску, одиночества длань, Вепря вой в пустоту — человечеству дань. И на Пушкинской, там, где орда голубей, Разожми на поклёв. О былом не жалей!Смит и Морковка
В иле, осевшем на дне жизни, жили эти два пятнадцатилетних парня, два подрастающих капитана городских трущоб. Окраина города, старенькие запущенные дома с покосившимися ставнями, давно уже спившиеся родители, каша сечка и «Вася, покурим?» на обед и ужин, завтрака не было — полный чемодан проблем, поднять который многие не находят сил всю жизнь. Школа, учёба кое-как. Людская жалость, но не помощь, презрение, но не понимание, отвращение, но не сочувствие. Стыд за свою беспросветную нищету, искренняя детская любовь к своим больным, никому не нужным, как и они сами, родителям.
Как и все дети, они хотели одного — жить, а для детей это значит играть. Играть в компьютерные игры, забивать голы, купаться, есть мороженое и конфеты — всё как у всех. Но, к сожалению, со всеми быть им доводилось крайне редко.
Морковка почти не говорил — только улыбался. Он не был отсталым, каким его считали учителя в школе. Всё он понимал, просто не мог позволить себе грубость, и обидеться он тоже не мог — иначе бы остался совсем один. Поэтому просто не открывал рта, когда над ним подшучивали, помалкивал, когда ругали, лишь натужно улыбался, когда ставили щелбаны и давали лёгкого подзатыльника, ничего не говорил и когда кто-нибудь искренно жалел. Он не плакал и не смеялся — всё понимал и тихо, молча перемалывал в душе свои же собственные не выраженные страхи, обиды и горечь. У него не было друзей — лишь дворовый пёс, облизывавший руку маленькому хилому мальчику, приносящему недоеденные им самим кусочки хлеба.
Смиту повезло больше. Дома ему раз в неделю перепадало на неплохие по местным меркам сигареты. Он покупал пару пачек «Бонд» и растягивал их на семь дней до следующей подачки, меж тем никогда никому не отказывая и охотно угощая. Все знали, что Смит не жмот, и за это уважали, хотя больше он ничем не выделялся — худой, даже тощий, не драчун и едва ли мог даже за себя постоять. Но в низине общества такие качества, как открытость и отсутствие жадности, значили для людей очень много и ставили Смита всего на одну ступень ниже уважаемых воров в законе или чемпионов мира по панкратиону.
Как и вся округа, Смит и Морковка часто приходили в компьютерный клуб, но не для того, чтобы посидеть за монитором и поиграть в любимую игру, а чтобы просто потусоваться. У них не было денег заплатить даже за полчаса, и им оставалось лишь, глотая слюну, наблюдать, иногда подменяя на пару минут товарищей, вышедших на перекур или в туалет. Всё же иногда они находили деньги на вожделенные полчаса и с упоением играли в какую-нибудь бессмысленную стрелялку или стратегию, с неохотой вставая, когда кончалось их время. Морковку поднимали всегда позже, жалея ещё не повзрослевшего парня. У него не было часов, и поэтому он не замечал той доброты, которая ему тихо перепадала.
Где брал деньги Смит, никто не знал, а Морковка сдавал бутылки, цветной металл и всё, что мог найти ценного. На эти деньги и существовал, иногда покупая что-то на закуску падшим родителям. Часто он выносил мусор в клубе, и за это ему позволяли поиграть минут пятнадцать. Не раз получал предложение работать уборщиком, но всегда отказывался, быстро, лихорадочно тряся головой, — гордость не позволяла пасть так низко.
На пьянках, устраиваемых обычно на школьной или детсадовской площадке, Смита и Морковку часто угощали, и тогда они оживали. Смит рассказывал никому не известные истории, но мало кто верил в их правдивость. Меж тем Смит никогда не врал. Морковка начинал вдруг разговаривать, и все понимали, что он обычный ребенок, самый обычный Человек — добрый, скромный, застенчивый, с причудливой, бурной фантазией и интересной мимикой, просто забитый, зашоренный, раздавленный своими проблемами.
Когда кончалось спиртное, все расходились по домам, и наутро о Смите и Морковке снова забывали, погружаясь в дела, заботы, учёбу, строя планы на будущее, мечтая о дальнейшей жизни. Смит — Серега Сметанин — никогда ничего не планировал. Не потому, что он был глупым или недальновидным человеком, просто у него не было надежды, не было точки опоры в жизни. Он часто не знал, будет ли сегодня что-нибудь поесть, и до завтрашнего дня ему просто не было никакого дела.
Имя Морковки не знал никто, и временами казалось, что он и сам его уже давно позабыл. Родители и учителя в школе просто не замечали живое существо, находящееся с ними рядом. А он был. Ходил, ел, спал, вдыхал тот же воздух, что и мы. Он существовал точно, а вот мы, возможно, и нет.
Прошло пятнадцать лет. Где сейчас эти два парня? Живы ли они, здоровы? Закончили ли школу, пережили ли армию? Хватило ли им сил встать на ноги под сокрушающими ударами судьбы, выбраться из болота, или оно тихо, обыденно, без эмоций засосало обоих, как и их родителей? Наверное, нет — не хватило. Хотя хочется верить, что они сами или кто-нибудь другой протянул им руку помощи. Или хотя бы лапу.
* * *
Чёрной речки манит в омут Запах пенно-дождевой. Тихий всплеск — отдам пучине, Что начертано судьбой. Тара (Омская область). 9 мая 2012 г. от Р. Х.Сударь
От своей родины он всегда ждал большего, хотя и не был диссидентом, проживая на улице Декабристов. Счастья желал он искренне, но личного, а труда сторонился, особенно общественного. Не стал к своим сорока годкам ни видным партийным деятелем, хотя вступал во всё и однажды даже в коричневую коровью лепешку; не стал известным рабочим, потому что просто быть им не желал; не намолотил больше всех зерна в юности, как Горбачев, хотя орден Трудового Красного Знамени принял бы с удовольствием; не стал великим пианистом, как ни странно, не сев ни разу в жизни за партитуру; не вознёсся на вершину педагогического или спортивного Олимпа, так как не любил много молоть языком и ногами.
Поэтому приход Перестройки встретил с радостью, а декрет о легализации индивидуальной трудовой деятельности с восхищением. На следующий день на стене его кухни появилось фото последнего Генсека, а в туалете тексты последних речей Михал Сергеича с не туалетными заголовками «ускорение» и «гласность».
В сорок лет юношеского запала уже нет. К пятому десятку осторожность вкрадывается в характер, сомнения окутывают душу, а нерешительность разъедает её изнутри. Он очень хотел начать действовать, но, активно сомневаясь, не решался ни на что конкретное. Кто-то из соседей открыл ателье по ремонту одежды, кто-то — строительный кооператив, некоторые даже гнали и продавали самогон. Какой род индивидуальной трудовой деятельности избрать для себя, он не знал — ему нравилось всё, но хотелось поменьше делать и побольше получить.
Поразмыслив с полгода, решил стать профессиональным киоскёром. Суть бизнеса ясна: купил за рубль, продал за два, получил свои два процента — что может быть приятнее. Свой первый и, как оказалось, последний, ларёк он открывал с размахом, с помпой, на широкую ногу. Пригласил ансамбль балалаечников, подслеповатого танцора и купил пару бутылок водки — открытие прошло на ура, но бизнес почему-то не пошёл.
Бизнес не шёл, но и надежда от него пока не уходила.
Он решил покорить клиентуру культурой и шармом, но, не разглядев окружающих реалий, похоже, только отпугнул словами «здравствуйте» и «пожалуйста» привыкших к отборному мату полупьяных не от жизни работяг.
Когда я с ним познакомился — это, правда, громко сказано, — ему было уже под шестьдесят. Свела нас не жизнь — работа, нудная и далеко не творческая. Поначалу он обращался ко мне просто на вы — в этом для меня не было ничего потустороннего, даже наоборот, встречи с ним меня радовали, так как все остальные мои коллеги на «вы» были только с культурой. Но когда он начал обращаться ко мне не иначе как «сударь», мне стало не по себе. Какой же я сударь — я граф.
Итак, приходя в его ларёк, я слышал: «Добрый день, сударь», «Присаживайтесь, сударь», «До свидания, сударь». Постепенно привык к этому коммерсанту и стал считать его этаким странноватым сумасбродом. Ни разу не слышал из его уст ни одного бранного или матерного слова. Человек был культурен и явно не на своем месте — ему бы с такими данными в правительство, но…
Обычный на первый взгляд день открыл его для меня с новой стороны, довольно неожиданной.
В тот день я очень торопился куда-то.
— Я тороплюсь. Можно в накладной сумму напишу числом? Хорошо? — сказал я, не очень интересуясь, что ответит субъект. В этот момент на моё плечо опустилась сильная могучая рука, а к лицу приклеился серьёзный взгляд бывалого воротилы бизнеса.
— Сударь, — начал он так серьёзно, но и в высшей степени культурно, что у меня перехватило дыхание, — я двадцать лет в бизнесе. Так вот. Чтобы вас не н@еб@ли, — сглотнув, — не н@еб@ли, — повторил, педалируя на слове «н@еб@ли», — пишите прописью, сударь!
Он явно хорошо понимал, что слово «обманули» не до конца передаст омут его эмоций и негодования по поводу былых обид. Видя его серьёзный настрой и весомые аргументы, я не рискнул спорить и заполнил накладную чётко и полно, как никогда ранее, как настоящий сударь.
Родина мечты
Край болот и мошкары, Край берез, полынь-травы, Речка, холм пологий, стог, Соль в озёрах, город, смог, Только степь да лес кругом — Нет ведь гор в краю родном. Проводов тяжёлых свист, Будто в сказке, золотист Храм высокий над рекой, Клевер жёлтый луговой, Сотни верст — и ни души, Хочешь — пой, кричи, молчи… Слушай речки голосок, Ветра, в поле колосок Можешь сжать в ладонях ты Иль природу красоты В красоте природы, эй, Увидать среди ветвей. Белый пух и ворожба, Треск морозный, уголька Жар в камине, на окне Роза зацвела, во сне Видишь ты иль наяву Реку у зимы в плену. Ты по ней идёшь туда, Где мечтал бывать, но та Сторона из века в век Лишь видна была, а бег Волн речных, теченье вод Уносили в даль, и вот Мягкой поступью идёшь По косе песчаной, ждёшь Чуда, новых красок дня, Птицу, что не видел, пня Трухлявого-другого, Волшебства, мечты, иного… Только вдруг река пошла, Вскрылся лёд, и вновь она, Как стена, перед тобою Преградила путь собою. И дороги в дом не стало — Час была и вновь пропала. Оглянулся ты вокруг — Все знакомо там и тут: Солнце то же, ветер, поле… Это всё ты видел то ли? Берег тот далёким стал, Вновь чужим — о нём мечтал?..Судьба
Дядя Миша — так звали этого, ещё не старого мужика мы с друзьями, хоть он и не приходился нам родственником. Был он старше нас лет на двадцать и имел двух детей нашего возраста. Однако мы общались именно с ним, а не с его отпрысками — он жил гораздо интереснее, и мы не чувствовали большой разницы в возрасте. Конечно, проявляли к новоявленному земляку уважение, было видно, что и он ощущал к нам отцовские чувства. Знакомство наше выглядело странно со стороны, но лишь на первый взгляд. По сути, мы были с ним примерно одинаковыми людьми — смелыми, весёлыми, зачастую непредсказуемыми и необычными. А все люди, как известно, тянутся к себе подобным, несмотря ни на что — в том числе и на возрастные ограничения.
Вместе с дядей Мишей крепко выпивали, закусывали, курили и разговаривали, обсуждали девок и политику, участвовали в доброй драке и добром деле. Он редко бездельничал, всегда творчески и изобретательно трудился и жил. С ним никогда не скучали. Культурой особо не блистал, однако мог легко расположить к себе почти любого, не ставил никого в неудобное положение — чувство такта, видимо, у него было врождённым.
По профессии он был каменщиком. Хороший каменщик — мастер своего дела. В последние годы престиж рабочих профессий упал, и многие считают трудового человека глупцом, а зря. Работа руками не менее сложна и интересна, чем труд умственный. Это просто иная стихия, другой ритм и стиль жизни, другая её философия. Дядя Миша кирпичную кладку ваял, как будто писал стихотворение четырёхстопным ямбом — чётко, точно и аккуратно; как художник, намечал совершенную форму стене, рисовал идеальный изгиб арки, ретушировал недостатки архитектурного замысла. Был он умелец и за свою работу не стеснялся брать деньги.
Дядя Миша всю жизнь прожил в Казахстане и, когда начался период безвременья, не спешил покидать насиженное место. Судьба многих наших соотечественников, выезжавших на социалистические стройки ещё молодыми, в девяностые годы была сломана, как и могучее государство, распластавшееся некогда в неге на одной шестой части суши планеты Земля. В Казахстане Мишу уважали. Конечно, этого приходилось добиваться и в спорах, и в ссорах с титульной нацией, что становилась с годами всё агрессивнее и наглее. Миша не робел и почти всегда оставался на коне.
В Россию ему всё же пришлось переехать. Но не из-за себя — ради детей.
— Скоро они вырастут. Пусть поступают в институт, ищут работу, заводят семью. Что там, в Казахстане, для них? Ни учебы, ни работы нормальной казахи не дают, с семьёй спокойно прогуляться по городу нельзя — взгляды и смешки постоянные вокруг. Чувствуешь себя как чужой в стране, где прожил много лет. Постоянно надо доказывать свою силу, чтобы с тобой считались. Я — ладно, уже привык, а детям трудно. В России выучатся, людьми станут, — так он нам объяснял, почему перебрался из степей северного Казахстана в степи южной России.
В Казахстане Миша жил хорошо. Потому, видимо, что хорошо трудился. Имел трёхкомнатную квартиру не на окраине, приличную машину, работу, друзей и знакомых, досуг, развлечения. Всего этого он в одночасье лишился. За бесценок продал «трёшки» — квартиру и машину да прикупил частный дом на окраине одного из крупных городов Сибири — только на это и хватило. Всю жизнь вкалывал, зарабатывал, а потерял всё, как и не было ничего. Дядя Миша не жалел и не грустил о былом, как и всякий нормальный человек. «Заработаю еще, — думал он, — что к этому добру прикипать, всё равно в могилу с собой не заберёшь».
Стал дядя Миша на новом месте работать за троих — надо же налаживать на что-то быт, со временем и жена нашла работу. Пошли в ближайшую школу дочь и сын. Всё вроде бы стало налаживаться. Казалось, всё закономерно — хороший человек должен жить хорошо. Но не тут-то было. Тоска грызла мастерски. Чувства, эмоции, воспоминания о Казахстане, где прожил большую часть жизни, не давали покоя. Временами наваливались грусть и мысли о несправедливости судьбы. По воле людей, порушивших Союз, он лишился всего. По воле боровшихся за личную власть остался не у дел, причём не став официально пострадавшим — его просто обманули, как и миллионы других жителей нашей большой страны. И дядя Миша начал выпивать.
Пили в нашем районе, как и во всей стране, многие. Пили зло. И напитки не отличались высоким качеством. Самогон был обычным элементом любого праздничного и не очень стола. Многие умирали — кто от отравления таким пойлом, кто от удушья в загоревшемся от окурка пьяного хозяина жилище. И дядя Миша однажды допился — хватил его инсульт, а потом и второй. От второго он уже не оправился — наполовину парализовало. Получил инвалидность. Ни о какой работе речи уже не шло. Главным кормильцем семьи стала жена, да оставалась ещё надежда на детей. Но они не спешили выходить в люди.
Сын рос вроде неплохим парнем, но… Чувствовались в нём некоторая надменность и показное геройство, которое до добра не доводит. Дочка была симпатичной, но недостаточно стройной.
Несмотря на уговоры отца, сын не захотел поступать в институт, а пошёл в армию. Попал в спецназ. После «учебки» сам попросился в Чечню. Воевал. Многое пережил, но судьба его хранила — ни ранений, ни контузий. Уже на гражданке после дембеля подрался с охранником казино, тот, защищаясь, выхватил табельное оружие и двумя выстрелами чуть не убил его. Пули прошили лёгкое. Был при смерти. Выжил, но стал инвалидом. Охранник, так же как и сын дяди Миши, служил в Чечне. Чеченская пуля всё-таки настигла пьяного героя.
Дочь после окончания школы о повышении образовательного уровня и не помышляла. Вышла замуж, родила. И стала жить с мужем и ребёнком в отчем доме, дабы не разбивать сердце родителя.
— Надежда умирает последней, но стоило ли ради того, что я имею сейчас, уезжать на чужбину, покидать насиженное место, знакомых, друзей? Не знаю! Возможно, и стоило, — сказал однажды дядя Миша, держа стакан самогона не парализованной рукой.
Всё было сном, моя любовь?
Последнее отдав, зима Укрыла белой простынёй Двоих, не спавших до утра, Друг другу сотканных судьбой. Два пламени слились в одно, Мир погружая в тишину, Вобрав вселенское тепло И чернь укутав в седину. Уже заря, уже рассвет. Всё было сном, моя любовь? Шепчу себе: и да, и нет. Хочу тебя увидеть вновь!Мысли из никуда
Бог рядом, но чтобы это понять, надо пройти долгий путь.
Заливное это не еда — питьё.
Чубака — друг человека.
Мы отдыхаем, чтобы вы работали.
С ног до головы обшутил.
Любовь не повод превратиться в половик.
Мертвецки трезв.
Такие на гражданке нужны
Учился Лёха на год младше или на два — уточнить уже не у кого, никто и не вспомнит. И скорее, не учился, а просто приходил, отсиживал сорокаминутные куски бытия, глядя в грязное, мутное окно, на переменах активно перекуривая, получал несколько заслуженных пар или колов (учительница не раз ему советовала ими штакетник городить), хотя даже и на один балл он не нарабатывал, просто оценки «ноль» или «минус два» ещё не ввели, и уходил назад. Откуда приходил, куда уходил и почему не делал домашнее задание и не успевал на уроках — хотя успевать и не за кем было, ведь все в классе, кроме умалишённых, сидели с оловянными лицами, — никто из учителей не интересовался, потому что на это им было плевать. Зарплату учителям не платили по полгода, работали они бесплатно, и ревностное отношение к труду сменилось ревностным отношением к зарплате.
Бастовать учителя не решались, чтобы не перекрыли и без того тоненький, но обнадёживающий ручеёк денежек.
Некоторые знатоки педагогической дидактики всё же увольнялись и шли работать продавцами на городскую толкучку. Место это весьма специфическое. Прилавков нет — вместо них использовались картонные коробки, растянувшиеся пьяной вереницей на километры. На хлипких развалах красовались замечательные по своей философской сути товары: подштанники с рисунком из американских долларов, навевающие мысли о презренном металле, белые пластиковые тапки, намекающие одновременно на бренность и искусственность окружающего мира, безразмерные кофты и штаны, видимо, выпущенные китайцами, слишком буквально истолковавшими выражение «широта русской души».
Такие рынки существуют и сейчас, просто туда заглядывают только малоимущие — прикупить новый бесформенный тулуп и поставщики модных бутиков — пополнить хитами новую коллекцию. На развалах до сих пор работают китайцы, но мало уж кто помнит, что начинали развивать этот нужный, важный, социально значимый вид бизнеса смелые первопроходцы — учителя и врачи, покинувшие свои пенаты и ставшие столпами рыночной экономики России.
Иногда переквалифицировавшиеся педагоги заходили в родную школу и, как на педсовете, рассказывали бывшим коллегам о фантастических переменах в жизни после увольнения. Бывшие восхищенно смотрели на новоиспечённого торговца, тихо завидовали, а когда тот уходил, в один голос говорили: «Пiз-дыт» и снова принимались за проверку тетрадей, погружались в бред сочинений, миры новых, ранее не известных никому аксиом геометрий и способов решения уравнений по методу Шарикова.
Оставшиеся в школе учителя мечтали только об одном — объесться колбас и умереть от обжорства. И предполагая, что того же хотели и их ученики, не сильно наседали. Каждый получал, что хотел: учителя — развлечение (труд за бесплатно трудно назвать иначе), родители — передышку и бесплатных нянек на полдня для своих чад, школьники — общение, курение, выпивку под благовидным предлогом, правительство — общественное спокойствие и право кем-то управлять.
Лёша без проблем закончил школу, ему с радостью выдали путевку в жизнь — справку установленного образца. Затем были справки из наркодиспансера, участкового и СИЗО, тоже весьма авторитетные бумаги, из СИЗО даже позволяла ездить, как и пенсионеру, на автобусе бесплатно. Видимо, эта привилегия Лёше пришлась по душе, и справки из следственного изолятора он стал получать с завидной регулярностью.
Ну за что мог попасть в тюрьму молодой симпатичный парень, живущий на отшибе жизни? Конечно, за воровство. Много ему не надо было — поесть, выпить, покурить да поспать в тепле и уюте. Первый срок он получил так: с подельниками в крыше продуктового магазина пробил лаз. Забравшись в заведение, объелся консервов, напился водки и заснул. Пришедшие поутру продавцы сдали спящего, как младенец, бесхитростного парня прибывшему наряду милиции. Два года как с куста в колонии общего режима…
Затем была ещё пара кражонок. Ничего серьёзного — Лёша просто добывал себе средства на пропитание. Один раз его повязали за хранение оружия. В тюрьме сокамерники своего смеха даже не скрывали. Шёл как-то Алексей — трезвый! — по городу. Вдруг подходят к нему доблестные стражи порядка с сержантскими нашивками и при личном досмотре находят патрон от автомата Калашникова. Один-единственный! И Алексей уезжает в места не столь отдалённые как рецидивист на целых три года.
Удивительно, но после третьей отсидки Алекс благополучно устроился на работу — лепщиком пельменей. Как вы понимаете, с тех пор на столе у Алексея всегда было это вкусное калорийное блюдо. Успел Леха за свои неполные двадцать восемь лет поработать охранником, экспедитором, разнорабочим и оператором конвейерной линии — заметьте, всё это после трёх реальных отсидок за хищение чужого имущества. Как его брали на работу — загадка. Без образования, худой, с землистым цветом лица, судимый рецидивист — и такое доверие.
Был Алексей и женат. Тут разговор особый. Жена была, мягко говоря, не красотка. Вес за центнер, лицо сковородой, манеры не комильфо. Однако брак их был счастливым, хоть и не долгим.
С Алексеем я не виделся помногу лет и никогда не скрывал радости от этих невстреч. Но вот однажды судьба свела нас вместе на автобусной остановке. Я куда-то уезжал, а он откуда-то подъехал изрядно навеселе, и моя скромная персона показалась ему очень подходящей для решения вопроса о первопричинности всех причин мироздания.
На примитивнейшем уровне мне пришлось обсудить с ним довольно обширные пласты психологии, философии и социологии. Затем он внёс пару предложений по поводу модернизации политической системы страны и мира. Без иронии, с такими идеями я бы согласился проголосовать за него, когда он будет баллотироваться в президенты. Вскользь мы коснулись с трижды судимым визави вопросов духовности общества и справедливости мироздания, обсудили проблемы веры и безверия.
Настойчиво давая понять Алексею, что темы для беседы исчерпаны, я поинтересовался, который час и где тот работает, на что услышал:
— Карщиком в вагонном депо.
Я было подумал, что работа как-то связана с вороньими позывными, но решил не сообщать о своих предположениях товарищу. Думаю, шутку он бы не оценил и из-за своей излишней прямолинейности и горячности мог оказаться в очередной раз на скамье подсудимых, а я на больничной койке или наоборот.
— Леш! А что у тебя с армией? Мож, тебе отслужить? — без иронии и улыбки спросил я, заканчивая разговор.
— Такие на гражданке нужны! — произнёс с улыбкой Алексей, затянулся «Примой», распрощался и зашагал гордой походкой навстречу своей неизвестной гражданке.
О судьбе настоящего художника
Талантливый может всё —
Даже пропить свой талант.
Творя новое,
Не за что ухватиться —
Хватайся за воздух.
Правила, понимание и подражание
Есть только мост в будущее,
Но не оно само.
Голосам тысяч крестьян
Не слиться в возглас Конфуция,
Тем более если ты он и есть.
Траву корова жуёт на лугу —
Всё делает, как мать научила,
Но тут появляется волк,
Съедает траву и корову.
Люди трусливы и осторожны,
Люди корыстны и невозможны.
Стоил ли жить ради них,
Может, весь мир только миф?!
Убийство Третьякова
Светил солнечный майский день, когда Виктору позвонил бывший одноклассник. С ним вместе Витя вычеркнул из жизни не одну тысячу школьных академических часов. Одноклассник пригласил Виктора посетить нехитрое зрелище, в котором десять лет назад они сами в бытность школярами участвовали, — пойти на последний звонок в их горячо любимую школу с номером шестьдесят два. Виктор без раздумий согласился. Делать двадцать пятого мая, да как и в любой другой день, ему всё равно нечего, да и друзей огорчать не любил, друзей он уважал за пунцовые кулаки и спортивные лица.
Все знают, что людей убивать нельзя. Но иногда очень хочется. Вот тогда и приходит на помощь юмор, способный убить не хуже кинжала или революционного нагана… Витя, надо сказать, владел кинжалом и наганом гораздо лучше, чем юмором, но всё же проблески таланта Ленки Воробей в нём иногда проскакивали.
Золотая школьная пора! Как она далеко. Иногда кажется, что школьные годы чудесные были вовсе в прошлой жизни или с кем-то другим. Виктор к школьному десятилетию относился как к сроку за убийство и никаких сантиментов по этому поводу не испытывал. Поэтому на последний звонок он накинул черную рубаху и с отнюдь не праздничной миной отправился поглазеть на тупые, тухлые школьные пародии и прочий недоношенный креатив.
Меценаты в России не переведутся, видимо, никогда. Странно только, что становятся меценатами они не на заре своей предпринимательской деятельности, а уже сколотив капитал, устремив взоры на политический Олимп. Воистину, политика пробуждает в людях все самые светлые чувства и эмоции, всё самое доброе и положительное, скрытые до поры чувства любви и сострадания к ближнему, и с превеликим усердием новоявленные меценаты-политики начинают заботиться о тех, кого раньше обманывали, обворовывали и попросту кидали с мыслью о положительном торговом сальдо. В один миг их жизнь меняется, и из воротил и акул бизнеса они превращаются в плюшевых медведей.
Третьяков был из них — из воротил бизнеса. Ко времени визита Витюши в свою когда-то родную школу он обратился в мецената и развернул в учебном заведении активную благотворительную деятельность. Проходя по школьным коридорам, Витя видел то там, то тут непонятные слова «Фонд „Третьяковские традиции“», «стипендии отличникам», «поддержка талантов». Даже Виктор, не ходя к гадалке, понял: вся эта бурная деятельность — не более чем показуха и кем-то проплачена. Этого «кого-то» он сразу невзлюбил.
— А вот и его фотка, — сказал он друзьям, увидев на стене облысевшую явно до срока физиономию.
— Похоже, умный очень — волосы все повылезали, — послышался из-за спины голос и тихий гогот, похожий больше на карканье бегемота или лай гиппопотама.
Витя с когортой стальных, несгибаемых ребят вошёл в актовый зал. Простояв с полчаса и ни разу не улыбнувшись, он уже хотел было уходить.
Зал полон. В первом ряду сидят учителя и директор. Полупьяная от счастья молодёжь что-то исполняет на сцене. Третьяков тут как тут и с видом неземного благодетеля сидит по центру в первом же ряду. В зале расселись не занятые в действе ученики и их родители. У задней стенки стоят те, кому не досталось сидячих мест. Некоторые из этих стоячих уже откупорили бутылки с шампанским и отмечают ещё де факто не состоявшийся, но уже грядущий последний символический звон колокольчика.
Витя уже чуть развернул плотный атлетический торс и направился было к выходной двери, как вдруг какой-то нетерпеливый папаша начал открывать очередную бутылку шампанского. Будучи уже навеселе, не удержал пробку. Громкое «тугггуууффф» разнеслось по залу. Звук напоминал выстрел революционного маузера, и Витя среагировал, как на тренировке, чётко и остро атаковав противника. Зал притих, и Виктор в этот момент истошно закричал: «Убийство! Убийство Третьякова!» Зал взорвался хохотом. Третьяков покраснел и, видимо, решил урезать финансирование школе на следующий год за такую хохму.
Урезал или нет — неизвестно, но больше Виктора никогда не пускали на последние звонки и даже на порог. Старый физкультурник, знающий его в лицо, всегда дежурил у входной двери и строго настрого наказывал охраннику «убийцу Третьякова» в школу больше не пускать.
Голый на столе
Трезвый в вытрезвителе Невиновный в тюрьме Безработный на работе И голый мужчина на столе (Давиду Бурлюку от Алега)Рубщик
Как только рассвело, Валера поехал в лес на дальнюю делянку. На дворе распускался май — самое время для заработка. Умылся росой и, не завтракая, на своём старом грузовичке поехал по грунтовой дороге за село. Две ровные параллельные колеи резали то ещё голое чёрное поле, то густой сосновый лес, то не до конца одевшийся в зелёную накидку берёзовый. Иногда под колесо попадал куст шиповника, слишком далеко вышедший на дорожку из леса, или сухая ветка, тщетно пытающаяся преградить путь многотонной машине.
Работа спорилась. Бензопилой валил могучие деревья, ещё пять минут назад казавшиеся вечными. Обрубая сучья, думал о доме и семье, о детях, о корове Маньке и цыплятах, неделю назад вылупившихся из яиц и громко кричащих то ли от страха, то ли от постоянного голода и желания поскорей вырасти. Распиливая на ровные части длинные стволы, похожие на дубины великанов, мечтал о тепле очага и о горячем чае, что уже ждал дома.
Удовольствие и приятную усталость приносила работа Валере. Основная часть её была не видна окружающим. «Рубщик» — так его прозвали в деревне. Все видели, как он каждый день рубит у себя во дворе берёзовые чурки и продаёт уже колотые дрова в райцентре. Тем и зарабатывал на жизнь. Меж тем мало кто задумывался, как, обливаясь потом, валил вековые деревья в лесу, обрубал на них ветки, распиливал, с трудом складывал в кузов и вёз к себе домой, а уж потом только колол, оживляя округу гулкими, тупыми звуками, снова грузил и вёз в район, стоял на рынке в ожидании покупателей и часто, никого не дождавшись, вечером приезжал назад несолоно хлебавши.
Валера жил хорошо по деревенским меркам. Просторный дом, полный ребятишек, красавица жена, корова, свиньи, куры, гуси, недорогой, но почти новый автомобиль, на котором по выходным вся семья ездила за обновками. Многие в деревне ему завидовали, многие уважали за добрый нрав, тягу к труду и отсутствие страсти к спиртному. Жизнь его, да и всей деревни, текла, как ручей, ускоряясь по весне и осенью, успокаиваясь к лету и замирая в зимнюю стужу.
Были у Валеры две странности — он никому не одалживал денег, но так поступали многие в деревне. У большинства просто нечего было давать, другие не давали в долг, чтобы не потерять вместе с невозвращенными деньгами и немногочисленных друзей. А вторая его странность: по вечерам и зимой, и летом на дороге напротив своего дома, никому ничего не говоря и не объясняя, он выкладывал охапку колотых дров. Зачем это делал, никто не знал — никому он старался о своей причуде не рассказывать и, если спрашивали, только отшучивался.
Каждый вечер производил один и тот же ритуал: выходил во двор, умывался колодезной водой, набирал увесистую охапку рубленных днем поленьев, нёс за ограду, аккуратно оставлял под кустом смородины да спокойно ложился спать. Поутру он, как обычно, шел кормить скот и убирать сараи, носил воды на день в хату и баню, колол полкузова дров и к обеду привычно подмечал, что под кустом перед домом уж охапки и нет. Кто её забирал, он не смотрел и никогда не пытался узнать, карауля в ограде.
Зачем он это делал? Трудно сказать. Жена несколько раз спрашивала.
— Надо людям помогать, — отвечал Валера. — Меня от охапки не убудет, а человеку помощь. Господь дал мне силу, значит, я обязан с кем-то ею поделиться. Вот так.
— Чудак человек! — говорили ему соседи, крутя у виска. — Зачем тебе это надо? Мир хочешь изменить?
— А что тут плохого? Мир подправить не мешало бы чутка, — шутя, отвечал Валера и не обращал внимания на досужие разговоры, на насмешки и советы окружающих, лишь дальше продолжал рубить берёзовые чурки, а они, раскалываясь, отвечали ему то приятным хлёстким раскатистым щелчком, то треском не до конца поддавшейся древесины.
Никогда у Валеры не было собаки. Не на кого ей было лаять, да и не любил он шума — всё делал размеренно и спокойно. И забор оставался ещё советский — метр от земли и весь в решето. Меж тем соседи повыстраивали двухметровые кто кирпичные, кто железные, заводили по несколько собак, чтобы уберечься от воров, покупали ружья и вешали там и тут огромные амбарные замки, по утрам звеня ключами, то запирая, то отпирая двери и засовы.
— Валер, почему ты себе забор ладный не сделаешь? — спрашивали его. — Да и собака не помешала бы от воров.
— А у меня не воруют. Зачем мне всё это? — отвечал он и со свистом вновь и вновь опускал тяжёлый колун на ровный берёзовый срез. А вечером в тишине, в одиночестве, стараясь, чтобы его никто не видел, вновь нёс под смородиновый куст охапочку, которая к утру бесследно растворялась в деревенской тиши, даруя взамен покой, умиротворение, веру в себя и людей.
Как приходит любовь
Меня все любят, обожают. Я свет, лампада, я — кумир. Я вожделен, я почитаем, И жизнь моя — ориентир. Я на коне, я в люди вышел, В печать, в века, в народ и клир. И не скрывают восхищенья, Кто хаял, обливал, чернил. От пионера до генсека Мне каждый что-нибудь принёс: Юнец мне лобик чмокнул тихо, Генсек — отеческий засос. И музыка играет в доме, Не устаёт идти народ, Цветы несёт, венки и водку Без устали с ухмылкой пьёт.Рубщик-2
Весна и осень — странные, переменчивые, очень нестабильные времена года. В эту пору птицы совершают свои многодневные перелеты, деревья радикальным образом меняют внешний, да, наверное, и внутренний облик, ось земная, круто отворачиваясь от солнца, будто налетает на невидимую небесную ось, а у людей обостряются хронические заболевания, в особенности психические.
Знали его все не иначе как Вася. Ни фамилию свою, ни отчество он старался не афишировать, потому что были они не слишком печатны. Полное ФИО этого скромного парня звучало смешно — Василий Венедиктович Писебреев. Обычный компьютерщик. Ходил по горам и долам да чинил занемогшие эвээмы. Брал недорого, а выполнял работу быстро и качественно, поэтому клиентов у Василия было хоть отбавляй, но от новых он всё же никогда не отказывался.
Телефон привычно прожужжал патриотичную мелодию гимна СССР, и Василий нажал на пошарпанном «Алкателе» протёртую до дыры кнопку.
— Алё, алё…
— Привет, Василий, — донеслось с противоположного берега.
— А, привет, привет, — ответил без налёта удивления Вася, хотя и не узнал звонящего по голосу.
— Это я, Олег, — пробурчал динамик.
— Здарова, Олег, — ответил ему Василёк.
— Вася! Знакомым нужно компьютер починить. Ну как обычно всё: больные люди приобрели, чтобы был. Надо настроить, все дела…
— Конечно, давай, сделаем! Говори адрес!
Через час Василий был на месте. На улице грохотала, посылая молнии в непокорных людишек, поздняя весна, и Васе очень хотелось побыть на улице, но долг звал, звал в прямом смысле — незнакомый мужчина кричал из окна: «Вася, заходи! Второй этаж, дверь направо». Первые нехорошие предчувствия поселились в душе Василия.
Приличная входная дверь, как крокодилья приоткрытая пасть, зазывала войти. Вася ступил за порог. Ничего необычного: кафель, обои, люстра. «Следов потёков крови не видно — можно смело проходить», — сказал себе Вася и немного успокоился.
Вошёл в небольшой коридорчик. Его с улыбкой на лице встретил парень лет тридцати пяти. Широко улыбаясь, пригласил снять обувь и пройти в залу. Вася нагнулся и начал расшнуровывать свои бежевые «катерпиллеры». Вязка непростая, и за пару, минут пока снимал обувь, Вася успел оглядеть пространство вокруг себя. Всё было чинно-благородно, за исключением одной детали: в тёмном углу Васин взгляд выхватил старый монитор, в народе прозванный «телевизор». То, что был он стар морально, не вызвало удивления Васи. Его удивила дыра-щель в кинескопе. «Может быть, упал со стола», — подумал Василий, успокаивая себя, и прошёл далее.
— Наконец-то! Мы вас уже заждались! — сказала сидевшая за компьютером полная женщина с лицом, не обезображенным интеллектом. Она привстала и жестом просителя призвала Васю заняться делом.
Уже с первого взгляда Василий понял, что дело плохо. Вместо рабочего стола на мониторе красовалось чёрное пятно, системный блок лихо завывал, как одинокий казак во степи.
— Уж мы его и так, и эдак, — начала явно разгорячённая и раздосадованная своими неудачами женщина, — а он ни в какую. Никак не хочет работать!
— Я уже хотел его выкинуть, — вклинился мужчина, — достал меня этот гад уже порядком!
Вася принялся за дело. Прошло два часа. Результата не было.
«Что за чертовщина! — думал Василий. — Уже всё перебрал, а что не так — не пойму». Прошло ещё два часа. Хозяева начали нервничать и предложили закончить заниматься мазохизмом, но в Василии проснулся азарт, и он с удвоенной силой стал бороться с непокорной машиной. Прошло ещё два часа, но ЭВМ так и не оживала. Хозяев начало поколачивать, но Вася не придал этому значения.
— Да бросайте вы его, — почти кричал хозяин дома.
Вася уверенным жестом дал понять, что не все ещё потеряно. Прошло ещё два безрезультатных часа, уверенность Василия почти не обмелела как вдруг что-то сверкнуло позади спины.
Краем глаза Вася увидел стальной блеск. Звериный рык огласил комнату. Вася резко обернулся, и в этот момент огромный топор пронёсся над его головой и, чудом не зацепив, вонзился в жидкокристаллический монитор. Тот заискрил, из швов повалил дым, и Вася, закрыв голову руками, кинулся на ковёр под стол. Вне себя от ярости кто-то ещё и ещё раз опускал заострённый кусок металла на вычислительную машину. На Васю летели какие-то обломки, пол под ним ходил ходуном.
Вскоре всё стихло. Вася открыл глаза. По комнате там и тут валялись детали и механизмы. Корпус изрешечён, как кольчуга боровшегося с половцами русского богатыря, провода изрублены, как Гордиев узел.
Вася выполз из-под стола, встал, отряхнулся. Перед ним с увесистым топором в руке стоял довольный хозяин дома.
— Ну вот и починили, — уже добродушно сказал тот.
— Ага, — промямлил Вася и на этом завершил работу.
Вася с трудом оделся, женская рука сунула в нагрудный карман тёмно-розовую купюру, мужской голос произнес неоконченную фразу: «Вы уж извините что…» — и Вася выплыл на улицу.
Ночью снились кошмары. Викинги и варвары атаковали его скромное жилище, ирокезы осыпали окна дождём стрел, кувалдами кто-то стучал во входную дверь. Проснулся наутро Вася абсолютно разбитым. Лёжа в постели, услышал знакомое жужжание.
— Алё, алё…
— Привет, это Олег. Тут мне сегодня твои клиенты вчерашние звонили, — залепетал голос, — спрашивают, какой им компьютер лучше купить. Что посоветуешь?
После приличной паузы Вася выпалил: «Пусть берут попрочнее», завершил звонок, лег опять в постель и решил устроиться таксистом.
Цена стихов любви
Цены стихов любви Не оплатить мне форой — Мечтательною сворой Мне лают вслед они. Асгард Ирийский. 16 октября 7520 от С. М. З. Х.Спасём Поднебесную!
Китайцы — нормальные мужики и бабы, хоть слегка и не похожи на нас. Они придумали бумагу, чтобы нам было комфортно ходить в гальюн, фарфор, чтобы цивилизованно напиваться в уматину рисовым саке, порох, дабы не бегать, крича, как горилла, с мечом, а спокойно отстреливаться из укрытия от орды мужиков в кимоно и иногда ходить в тир на ярмарках выиграть чего-нибудь плюшевого да в армии пострелять пару раз, если повезёт и дедушка попадется душевный.
Китайцы вообще постоянно что-то придумывают — то третью транспортную Стену выстроят, то Терракотовую армию вместо профессиональной, то Конфуция и Лао-цзы придумают, чтобы было кому объяснить, как же надо жить да сочинять афоризмы.
В общем, китайцы молодцы! Нам до них как до Пекина.
Но вот скоро Кит-ай может исчезнуть, как и Кит-ы, некогда активно бороздившие просторы океана. Скоро все пагоды в Пекине снесут и построят на их месте небоскрёбы. Потом возьмутся за панд и всех их пересадят в зоопарки. Летающие горы Улинъюань частично собьют, частично приземлят, снесут и построят на их месте скоростную магистраль из Химок в Тайвань. Китай лишится своих отличительных черт и станет похож на московский Китай-город или Домодедово.
Всё это произойдёт, если мы не вмешаемся и не придём на помощь сестринской Поднебесной.
Однажды мы уже вытащили Китай из небытия, подарив ему коммунизм, проверенный на себе и оказавшийся несмертельным. Обучили ему целого кормчего, нелегально переправили через границу, и Великий Мао повёл желтолицых братьев к экономической нищете и духовному изобилию. Но они отвергли наш подарок и вновь пустились во все тяжкие.
Так что, друзья, нужно снова помочь им по-соседски.
Если не перестанем покупать у поднебесных товарищей все их «Джили», «СанЁнги», выплавленные из ржавых «КРАЗов», «Армани», «Габбаны» и «Адидасы» по сто рублей за кубометр, «Айфоны» и «Атпады» по двести рэ за тонну, синие и черные пластиковые тапки, со временем срастающиеся с ногой, то Китай погибнет. Только отказавшись от продукции, загоняющей Китай в клоаку цивилизации, мы можем спасти наших товарищей, великую нацию и страну, ведь, производя всё это для нас, они губят свою уникальную природу и историю в угоду сомнительным материальным благам вроде биде или железного коня. Пусть лучше продолжают кушать рис, научатся делать суси и созерцать красоту Хуанхэ.
А когда спасем Китай, получим Нобелевскую мира, то подумаем уже и о других братьях — Америке, Европе… Главное, очередной раз спасая мир, как всегда, не забыть о родной стране.
Турция и Египет
Турция и Египет — классные, замечательные страны, где любят отдыхать уморившие себя за год работой в полях и коровниках дорогие россияне. Если бы не арабо-африканской внешности персонал гостиниц, то вновь прибывший, скажем, в Мармарис из Алупки, подумал бы, что прилетел в Анапу или Гагры — только по этикеткам на бутылках и догадался бы, что бухтит не на родине.
Турки прославились на весь мир тем, что вывели настурцию, изобрели терцию и шахматную туру, а египтяне гордятся Мухаммедом аль-Барадеи и тем, что каждый день их собственный Ра проплывает по небосводу на подводной лодке и освещает землю, лихо орудуя веслом.
Мало кому известно, что в Египте давно нет египтян, а в Турции — турок. Все турки давно выехали на ПМЖ в Египет, а египтяне в Турцию, потому что первые хотели мыть сапоги в Красном море, а вторые в Чёрном. Вот так и живут на чужбине оба народа. Чуть позже турки из Египта уехали в Москву на стройки и на рынки жарить шаурму, потому что некому в Москве строить и кушать готовить тоже некому, да и дороги, если честно, ни к чёрту тоже, поэтому все москвичи давно осели на пляжах Хургады и Алании и там жарят свои зады под палящим солнцем Сети Первого, Тутанхамона и Сельджука.
Вот поэтому в Египте сейчас живут одни наши узбеки да туркмены и работают за маленькую зарплату.
Турки, как известно, очень любят плюнуть в салат, перед тем как подать клиенту. Но вы не бойтесь — все турки давно в Египте и Москве, так что на отдых в Турцию можно ехать смело.
Египтяне — отличные дайверы. В Сахаре они тысячелетиями оттачивали свои умения. Так что дайвинг в Турции замечательный — лучшие египетские аквалангисты обеспечат вашу безопасность.
Мало кто знает, что пирамиды в Гизе — это подделка. Их построили американцы, когда снимали «Трансформеров», и продали по дешёвке туркам, живущим в Египте. Если обойти пирамиды сзади, то можно увидеть горы мусора, помойку и неприкрытые строительные леса да деревянный Каракас. У нас с мавзолеем Ленина, заметьте, всё пока в порядке — мрамор, штукатурка, подсветка, живые солдаты, все дела.
Помните, что египетские и турецкие рынки заколдованы. Если продавец не обманет вас и не вс**ит какое-нибудь го*но за десять долларов, он тут же умирает и его даже хоронить нельзя, поэтому все обманывают доверчивых туристов, и совесть никого не мучает — умирать никому неохота. И вы не жидьтесь — берите за сколько отдают магнитики, чтобы потом всю жизнь не ощущать вину за лишившуюся кормильца семью.
В Египте и Турции все компьютеры и банкоматы живые. Они пишут на дисплеях не «Вы уверены y/n», а «Вы уверены y/n? Вы точно уверены? Я же переживаю!»
Каждый египтянин считает себя потомком фараона Рамзеса или, на худой конец, Тутмоса, а каждый турок — Кемаля Ататюрка, поэтому, если вы не уверены, как обратиться к гиду, то «эй, Тутмос, дорогой» или «уважаемый товарищ Кемаль» вполне подойдёт.
Турки в старые добрые времена перекрывали цепями Босфор и Дарданеллы. Это они делали, чтобы убить наш туристический бизнес, так как не выдерживали открытой конкуренции, — чтобы греки и римляне не ехали на «всё включено» в Крым, Ливадию и на курорты Краснодарского края. Ведь это русские ещё в стародавние времена придумали выставлять для гостей таз бигоса и ведро медовухи — это и называли «всё включено». Наш бизнес туркам всё же удалось подточить, и лишь поэтому туризм у нас по всей стране не развит. Если бы не турецкие хамы, то турки бы сейчас качали нефть и продавали в Европу да ехали к нам в Сочи на таз бигоса и ведро спирта. А мы совсем ничего бы не делали.
Египтяне — единственный народ, которому удалось сделать рабами евреев; теперь те в отместку пытаются сделать то же самое со всем миром, поэтому осторожнее с египтянами — желание обладать и иметь белолицего раба живёт в них до сих пор.
Турки очень верующие и при этом экономные люди. Пристроили минареты к старинному византийскому софийскому собору — вот тебе и мечеть. Также они частенько пристраиваются к одиноким отдыхающим русским женщинам, от коих веет стариной, чтобы не тратиться на свадьбу и приданое.
Всемирно известный за пределами нашей страны писатель с замечательной русской фамилией Данилевский называл турок «цепными псами Европы» — так что будьте внимательны, чтобы не укусили, а египтян никак не называл. Так и называл — «Никак».
И еще!
Когда в следующий раз поедете в Турцию или Египет, помните: солнце греет бесплатно только дома, а патриотизм начинается с малого — с места, где ты живёшь.
Фантасмагория «Спасатели России»
Подарил Лев Толстой своему кучеру-пролетарию как-то на собственный же день рождения томик «Войны и мира». Является к кучеру через неделю, дабы обсудить будущность Руси, и захотелось тут графу в гальюн — ведь ничто человеческое графам не чуждо. Заходит, значит, а томик тут как тут — наполовину изодранный на гвоздике на стене висит.
Спрашивает Лев Николаевич тогда у кучера: «Зачем же ты его туда повесил, смерд? Я тебе читать подарил, а не для этого дела…»— Так я ж читать не умею, батюшка, — ответствует виновато кучер Иван.
— А ты научись! — наседают Лев и Николаевич.
— А когда мне учиться? Я ж на козлах весь день. Вечером еле ноги волочу, чтобы ты в карете, батюшка-свет, ездил как барин.
Почесал затылок Толстой (разумеется, свой затылок) и пошёл домой, ничего не ответив. Собрал Лёва на следующий день всех своих друзей-дворян, переоделись они в крестьянские одёжки и пошли как ходоки к Ильичу.
— Ильич! — говорят инкогнито. — Хотим мы и вся Русь в нашем великорусском лице, чтобы свобода в государстве была, и грамота всеобщая, и демократия, так сказать, и Дума государственная имелась, аки в Англиях али Хранциях…
— Что-то вы, батеньки, на народ-то не похожи! — отвечает, злобно щурясь, Ленин. — Трезвые вы все какие-то, рожи холёные, часы вон у вас дорогие и кареты, лапти из заморской берёсты. Не продались ли вы, батеньки, Антанте? Да и вообще, где это видано, чтобы народ сам куда-то ходил и что-то требовал — он у нас в России как барин — знай, лежит себе на печи, созерцая философию паутинки под потолком, бурчит там себе под нос что-то. Это мы думаем, что он безмолвствует, а он просто хитро помалкивает в ожидании, когда мы друг друга укокошим, чтоб на поминках всласть погулять да пару казенных баянов изодрать.
Это мы, большевики, к нему тропку протоптали потаённую — в народ ходим, куртизанничаем по тихой грусти, потому что ему во власть лениво. Вот вы, товарищ, больше на гусара похожи, вы — на статского советника, а вы, батенька, — на дворянина Льва Николаевича смахиваете, — сказал Ленин, указывая на Державина. Раскусил, значит, их Ильич и не удовлетворил просьбу о введении демократии в стране, хотя сам очень хотел и всю жизнь ждал, когда наконец-то придёт русский народ и попросит его о том.
В следующий раз интеллигентные дворяне решили переодеться бурлаками и напиться вдрызг. Так и сделали и посему до Ильича просто не дошли — заснули на подходах к Кремлю и были выпнуты под зад красными командирами. И на этот раз не смогли они образумить Ильича и спасти Россию.
Тогда пришли дворяне к Ильичу в своей нормальной одежде, во фраках и при лентах с бантами, и потребовали Учредительное собрание созвать, а Ильич им и говорит: а вам, товарищи, зачем Собрание-то?
— Это не нам! Это для народу русского! Мы просто выражаем его волю, потому как народ не ходит нынче по Ильичам. У него иных дел по горло — сеять да пахать надобно.
Условился тогда Ильич с декабристами так: они едут в Симбирск и год сеют и пашут за каких-нибудь крестьян, а крестьяне вместо них приезжают решать вопрос по «учередиловке».
Поехали декабристы в Сибирь сеять да пахать, а весь мир стал думать, что большевики изверги и ссылают недовольных по политическим мотивам в ссылки. А жёны декабристов подумали, что мужья по бабам собрались, и за ними дружно увязались.
Прожили декабристы в Симбирске пять лет, а когда узнали, что Дума большевиками уж распущена, то бросили мотыги и жён, приехали в Питер и давай кричать, мол, надо поднимать Рассею с колен. А вечером пошли, купили себе «Клико», «Ауди А6» и уехали в Турцию, потом на воды в Баден-Баден. И там опять кричали в пьяном угаре, что гибнет Россия, срочно на помощь, а то недолго ей уж осталось.
А в Баден-Бадене как раз отдыхали Авраам Линкольн и Пол Пот. Это были, как известно, два очень образованных, умных и интеллигентных человека. Линкольн писал как-то свой закон об отмене рабства, и у него сломалось перо. Тогда он закричал своему рабу: «Эй ты, чёрный, тащи скорее перо, а не то передумаю». Негр быстро принёс перо, чем спас от рабства всех своих собратьев.
Пол Пот был душка, потому что прикончил Сорбонну. Мечтал изменить свою страну, построить могучую демократию, но народ, так же как и в России, безмолвствовал, ведь он Сорбонну не кончал и не понимал, зачем Пол так потеет зазря. Тогда Пол взял мачете и немного попугал народ, чтобы тот ожил и заговорил, наконец.
И говорят тогда Линкольн и Пол Пот декабристам: давайте-ка мы вам подсобим с демократией. Вон у нас какой опыт богатый.
Декабристы перстами замахали, патлами затрясли, мол, не надо, и ушли из Бабен-Бадена. Решили больше за границу не ездить, дабы заморской ереси не привезти случайно в страну, зареклись брички иностранные покупать — только кареты волго-вятской волости, да медовуху токма пить, а самогоны иностранные больше ни-ни.
А чтобы ощутить все тяготы простого русского народа, отправились декабристы на каторгу покаторжанить годок-другой, поехали на севера добывать нефть и строить БАМ, а под конец леса валили пару годков, чтоб было из чего ложки на досуге вырезать.
И вернулись в Питер с каторги, БАМа и лесосеки — всё им сразу и понравилось: и лес, и река, и свобода. И ничего больше делать не стали. И так ведь жизнь хороша!
Прогноз на пятьдесят лет
Через пятьдесят лет всё у нас с вами уже точно будет хорошо! И это радует! Любая Ванга и Стас Белковский наше безоблачное будущее гарантируют, не моргнув глазом, потому что большинства из нас через пятьдесят лет уже не будет. Ждут кого поля Иалу, кого райские кущи, а особых везунчиков — девяносто девственниц, в свои семьдесят пять так и не пожелавших расстаться с невинностью.
Нефть и газ через пятьдесят лет, как нам твердят по телевизору, не кончатся. Просто откачивать их из земных недр и продавать в Европу будут втихаря, чтобы народ в России не надеялся на это чудо природы, а наконец поспешил на фабрику «Скороход» и завод «Красный Богатырь».
Антарктида растает, и там обнаружится пропавшая Атлантида, города пришельцев и древние поселения хануманов, тайный замок Адольфа Гитлера и сотни одичавших его с Евой Браун арийских потомков, склеп спящей царевны и Грааль, выпив из которого человечество навсегда сможет отказаться от виагры и лёгких наркотиков — всех будет переть стоя.
Пед***сы и папарацци, что в принципе одно и то же, исчезнут. Хотя стопроцентной гарантии не даст даже Павел Глоба.
Колбаса и водка через пятьдесят лет снова будет выдаваться лимитированно — по два кэгэ в одни руки. Так мы победим ожирение, алкоголизм и метеоризм во всем мире.
Правительство, как и церковь, отделят от государства, и они наконец-то заработают без помех во всю силу, сдвигая горы и поворачивая вспять реки силой мысли и троекратного «Ура!»
Рассекретят причину закрытия Черкизона. Окажется, что под Черкизоном был прорыт подземный ход в Китай и через него в страну проникали нелегалы, суси и иглоукалыватели — психически больные люди, получающие удовольствие от втыкания игл в человека.
Верхи через пять десятилетий захотят, а низы благодаря виагре смогут, поэтому с сексом в нашей стране проблем больше не будет.
В общественные бани и сауны вновь вернутся толстые бабуси в синих халатах, а молодые симпатичные сексуальные девки в вызывающих нарядах станут анахронизмом, встанут у станков и отбойных промышленных молотов, чтобы поднять свою страну из грязи.
Кроме Еврейской автономной области появятся Японская, Китайская и Американская, став опорой экономики СБРУи — Союза Беларуси, Руси и Украины.
Американская автономия появится в 2032 году, когда остров «Америка» тряханет так, что он погрузится на дно, а все американцы выплывут на наших берегах. Мы их примем. Они в качестве благодарности построят всей СБРУе таунхаусы, подарят джипы и бесплатный абонемент в «Икею» и «Ашан».
И вообще через пятьдесят лет всё будет по-другому, по-нашему! Или не будет никак!
Не отпускай!
Не отпускай! Встаёт заря И в новый мир меня уносит… Шрам от слезы и бой быков Вновь о любви меня попросят. Опять в полёт, где яд — вода, Тавро — что ласки упоенье И ремесло счастливым быть — Жаль, без тебя, моё творенье!..Оборотень
Проснулся я однажды утром. Солнце своим лучом выжгло «вставай» на моём лице. Кто-то рядом со мной низким, похоже женским, человеческим голосом ещё раз промычал это отдающее чем-то революционным слово. «Кто я? Где я? Когда я?» — пронеслось в голове. Будильник пропел свою комариную трель десять раз, фальшивя на мажорных нотах. Я встал и доплёлся до ванной. Умылся, принял контрастный душ, сказав себе заменить гудящий смеситель, если он мой, и, всё же не до конца ещё ободрённый и не прояснивший ситуацию, направился в знакомый, кажется, гардероб. Голова била в колокола, умоляя смирить чем-то позитивным мою вчерашнюю неуёмную жажду к «Сараджишвили».
Я нырнул в шкаф и решил сгодня надеть костюм из японской столетней парчи от Валька Юдашкина. «Кажется, вы состоятельный человек», Сараджишвили заключил я, закрепляя на эксклюзивной рубахе только от одного Габбаны запонки с голубыми бриллиантами. Надел купленные на Sotbis носки Элвиса Пресли, ботинки Уоррена Баффера и первые — ещё гетеросексуальные! — очки вроде бы моего старинного приятеля Элтона. Спустился на первый этаж и вошёл в гараж. Выбор пал на белый «Мерседес», месяц назад оттюнингованный в AMG. Сел за руль и тут же ощутил благоухание мирры, услышал райскую трель, и белый свет предстал в розоватом сиянии софитов.
Неспешно выехав, закрыл с пульта гараж, дом, сейф, жену и выпустил четвёрку злых охранников-ниндзя, привезенных, если правильно встают картинки в голове, из Шаолиньского монастыря.
На дворе, да и на улице, стояло воскресенье — выходной день.
Кажется, обычно по воскресеньям с самого утра я направляюсь в магазины и каторжно трачу скопившуюся за каторжную неделю каторжную наличность. «Пойду по этому пути, авось и память вернётся», — подумал и выкрутил руля.
— А не поехать ли мне в Паласъ? — спросил сам себя и, пошуршав архангельскими в кармане, устремил взгляды на высотку в паре километрах по правому борту. Сказав машине: «В Паласъ!» — откинулся на сиденье. Машина ни с места. Я повторил свой приказ. Реакции никакой.
— Странно… Что-то, похоже, опять недоработали эти немцы, — негодовал я. — Вот так всегда — что-нибудь да не докрутят, — и добавив: — Машина, конечно, никудышная, но лучше просто пока нет, так что по-христиански стерплю лишения, — включил седьмую передачу и тронулся с места.
На дороге творилось что-то невероятное. «Для воскресного дня слишком много машин», — заметил я.
Да и манера езды странная, не российская. Никто никого не обгоняет, все соблюдают стоп-линию, никаких сигналов и вспышек фар, скорость сорок-пятьдесят, все культурны и предупредительны. «Фантастика! Может быть, это рай? Или Россия наконец-то стала законопослушным и высококультурным государством?» — подумал я и свернул на подземную парковку.
Шлагбаум открылся, как всегда, моментально, но охранник ни в какую не стал брать чаевые. Проводил меня улыбкой и скрылся в своей будке.
— Что-то явно не так, и, похоже, со мной. Надо бы взглянуть на себя в зеркало, ведь я так этого и не сделал, — решил я и вышел из машины.
На лифте поднялся на тридцатый этаж в самый дорогой бутик. В лифте всего пара человек, но и те осторожно отошли в углы кабины и нервно озирались во время недолгой поездки к небесам.
— Как вы необычно выглядите сегодня, Сергей Анатольевич. Похоже, ночь удалась на славу? — сказала злобно и одновременно приветливо знакомая на фэйс продавщица с внешностью модели в мультибрендовом бутике.
— А вы видели меня этой ночью? — поинтересовался я.
— Конечно, Сергей Анатольевич, вы же у нас полколлекции Prada купили. За ночь мы ничего не успели подвезти, так что вас вряд ли сумеем заинтересовать чем-то.
«Может быть, я оборотень? — недобро каркнул кто-то внутри меня. — Убей бог, ничего не помню. По ночам превращаюсь в другого человека и чудю по городу?»
— Где тут у вас зеркало? — спросил я, и длинноногая бестия указала изящным жестом в угол заведения.
Не торопясь, подошёл к зеркалу. Осторожно выглянул в него сначала глазом, потом вторым, потом всем лицом. Ничего из ряда вон выходящего — обычная свиная ряха. Никаких волчьих волос и клыков. «По крайней мере, всё уже прошло, если и было», — подумал я и, не выдержав напряжения, вышел к зеркалу всем телом. Меня бросило в пот, и тут же память воскресла.
Я всё вспомнил! Как вчера всю ночь напролёт разъезжал по ресторанам с длинноногими продажными красавицами, как играл в подпольных казино, нюхал кокс через скрученную пятитысячную купюру, стрелял по голубям боевыми патронами, пил и курил, курил и снова вливал в себя всё, что проплескалось в бутыле больше десяти лет.
Да! Я все вспомнил! Вспомнил, кто я — оборотень… Оборотень в погонах.
Стою пред зеркалом в самом дорогом бутике города. На мне синий китель, погоны кэптана, на поясе полосатая гаишная палка с одной стороны и ПээР с другой. Одет в милицейскую форму от Юдашкина, запонки от тети Клавы. С ужасом я подумал о машине, на которой приехал.
Скрывая страх, добежал до окна и взглянул вниз. Сердце упало на дно моего начищенного до блеска кирзового сапога — на стоянке красовалась белая «шестерка» с включенной «люстрой» на крыше и синими полосами по борту.
— А какой сегодня день? — спросил я, еле выговаривая слова, девушку.
— Понедельник, — растерянно выдавила она.
«Хорошо, хоть машину и костюм не перепутал», — подумал, уже чуть успокоившись, про себя я и поспешил в родную полицию.
Кем работать мне тогда… или Как навести порядок в России
Навести порядок в России очень просто! Нужно принимать на все должности в стране людей, исходя из их идейных соображений.
Раньше ко двору китайского императора допускали не самых умных, честных или заслуживших доверия, а евнухов — это был главный удостоверяющий документ и символ благонадёжности.
Так же поступать подобает и в России.
На таможню нам надо принимать ортодоксальных скинхедов с фамилиями Иванов, Петров и Сидоров. Не возьмёт никогда скинхед Василий Иванович Петров взятку у подозрительного загорелого человека, и тот не провезёт в Россию всякую дрянь, птичий грипп в опломбированном вагоне.
Бороться с проституцией должны асексуалы, вроде Анатолия Вассермана, с проститутками — борчихи, с Анатолием Вассерманом — Борис Бурда.
В доктора берём прожжённых курильщиков и алкашей, чтобы, приходя на приём, человек видел своё будущее и начинал самостоятельно заботиться о здоровье.
С учителями ничего в нашей стране менять не надо — там и так высокодуховные люди с минимальными материальными запросами, какими и должны быть настоящие человеки.
С полицией у нас теперь всё тоже как надо. В крайнем случае, можно ещё повысить им зарплату и ввести для полицейских законы шариата.
Пожарными можно набрать водяных, а на кухню — чертей с их халявно раскалёнными сковородами, на должность патриарха пригласить Бога, главы ГУИН — девила.
В рыбохрану брать не потомственных китобоев или метких гарпунёров, а обожающих шашлык из свининки или баранинки, а ещё лучше — вегетарианцев из Гринпис.
В Росохранкультуру — простых охранников, не понимающих, зачем воровать абстрактную мазню, шо почему-то стоит тридцать миллионов.
Юристом может стать только прошедший тюрьму или вступивший в астральный контакт с Иммануилом Кантом.
Бармена давно пора заменить на охранника, налоговиков — на добрую нежную доярку.
Дальнобойщиком должен становиться худой юноша с астеническим скелетом — в поездках благополучно обрастёт жиром от гипоактивности и превратится в статного красавца.
Полных устраиваем курьерами или спарринг-партнёрами братьев Кличко, худых — шпионами.
С войной на Кавказе должен бороться бульдозерист — сравнивая горы, зелёнку и душманов с Русской равниной.
Главная проблема — с президентом. Можно, конечно, в президенты брать нищего и голодного кандидата наук, который будет красть деньги на строительство лаборатории, а не загородной дачи. Но тут есть опасность, что дорожные рабочие также начнут воровать деньги на асфальт, доктора — на медикаменты, а директора детских домов — на ещё один детский дом. Всё это может привести к техническому дефолту.
Как известно, в России президент начинает эффективно действовать только на пятом сроке. И проблема в том, что никто, даже Брежнев, еще до пятого срока не доживал. Поэтому президентом в России должен быть андроид. Он будет работать сорок восемь часов в сутки и доработает до пятого срока, в ходе которого растопит вечную мерзлоту и оросит ею засушливые районы юга; осеменит всех женщин России разом, и у каждой родится пятерня — так решит демографическую проблему; раздаст из Стабфонда каждому, как Гудвин, чуток сердца и чуток мозгов. Ведь что-что, а это даже самому умному и сердечному из нас никогда не повредит!
Apple смерти
Живые детские глаза, сквозь которые видна пытливая, неугомонная душа первооткрывателя и первопроходца. Аккуратный зачёс и пробор, сделанный мамой уже взрослому сорокалетнему мужчине, до сих пор играющему в математические головоломки и собирающему свой электронный конструктор. Губы, что вот-вот растянутся в доброй, озорной улыбке. Клетчатая английская рубашка и шерстяной костюм. Таким он смотрит на нас со старых фотокарточек.
Добрый человек уже сам по себе интересен. Доброта и ум Алана Тьюринга никому интересны не были, и умер он страшно. Умер в одиночестве. В своей комнате, откусив пропитанное цианистым калием яблоко. Умер, загнанный общественным мнением, толпой сытых бюргеров и английских снобов, спокойно и размеренно веками попивающих свой five o’clock tea и не интересующихся, как меняется мир за окном, не интересующихся самым главным — смыслом и сутью, занятых только собой и своими мелкими проблемами, не понимающих, что для любви нет границ и преград, не способных понять, что любовь — дар, а не кара.
Алан Тьюринг. Имя не слишком известное даже среди людей, вплотную работающих с ЭВМ, хотя то, что он создал в век отсутствия современных нам полупроводников и процессоров, заставляет который раз задуматься о мощи человеческого интеллекта, данного нам, не иначе, свыше.
Тьюринг заложил основы компьютерной техники. Мысленно из небытия, из праха мёртвых математических теорий поднял каркас, скелет, логические основы вычислительной машины и искусственного интеллекта. Как знать, если бы не его смерть, возможно, у нас уже были бы братья по разуму, созданные из кристаллов кремния и германия. Разум уже среди нас, а толпа ищет его в далёких мирах. Но Тьюринга убили, загнали, как беспомощную скаковую лошадь, отбившуюся от стада.
Проблема человечества не в лени и плохих руководителях, не в природных катаклизмах и магнитных бурях, не в войнах и алчности. Основная проблема человечества — страх. Страх перед другим, не таким, как большинство, страх перед Пророком и желание его поскорее растоптать и уничтожить, чтобы быть большинством, быть нормальным, быть стадом и авангардом человечества. Ведь пока есть Творец, Создатель и Пророк, большинство — это арьергард, никудышный, приземлённый, косный, хотя вполне на вид добропорядочный, образованный, способный на мудрые, на первый взгляд, речи, которому вполне по силам создать что-то стоящее, но все же мелкое, растворяющееся в канве истории.
Всё когда-нибудь встанет на свои места. Верить в это хочется и нужно, но нужны и дела, ибо вера без них пуста.
Эмблема компании Apple. Ядовито-кислотного, «отравленного» цвета яблоко с надкушенным Аланом краем. Стив Джобс понимал всю сложность жизни первопроходца когда в память об Алане Тьюринге создавал этот логотип, когда воздавал должное прекрасному человеку. Жаль, что на официальном уровне признание заслуг этого нетрадиционного человека затянулось на долгих шесть десятилетий.
Гравитаций вселенских плоды
Святые шахиды под звон ятагана На резвом, с подбоем копыта, коне По улицам Марса, по выжженным скверам Стремглав, разрубая летящих извне — Извне атмосферы продажного братства — С Плутона, с Венеры, земные плуты. Их меч раскалён до рубиновой плазмы. Их крик — гравитаций вселенских плоды. Асгард Ирийский. 3 декабря 7520 года от С. М. З. Х.Самолёт
Омская земля, а вернее, немногочисленные увлекающиеся живописью местные жители хранят память о двух замечательных личностях, двух мастерах кисти и холста, о двух певцах сибирской природы, о равновеликой паре трудолюбивых и думающих художников — Кондратии Белове и Алексее Либерове. Эти двое — один маслом, другой пастелью — оказали Сибири неоценимую услугу: запечатлели её меркнущую, умирающую ныне, застилаемую выхлопными газами и мёртвыми дымящимися иглами труб красоту.
Если Белов слыл не слишком публичным человеком и лишь изредка баловал общество вниманием, то Либеров добрался до вершин общественной жизни — возглавил областную творческую организацию да основал омский худграф, где преподавал. Храм знаний до сих пор исправно придаёт талантливым сибирским самородкам блеск мастерства технологической огранкой.
И Либеров, и Белов колоритно и точно передавали на своих полотнах глубину, масштаб и необъятность сибирского пейзажа. В особенности неба. Небо в Сибири необыкновенное — громадное, величественное, бесконечное. Небеса, облака, огромные, поражающие своим разнообразием тучи, бело-серо-голубые девятые валы, застилающие красотой и масштабом бесконечные сибирские степи, — вот что рисовали на своих картинах художники.
Алексей Либеров родился в семье врача, но в отличие от отца занимался всю жизнь врачеванием людских не тел, а душ. Художник не передавал, а лишь подчёркивал своим мастерством пастелиста и талантом художника красоту окружающего мира, он воспевал родную землю, поля, леса, озёра, их притягательную простоту, кажущуюся обыденность, несущую при этом покой и умиротворение.
От интеллигентных родителей Либеров перенял достоинство, такт и невозмутимость, трудолюбие и жажду открытий. Через всю жизнь прошёл со слегка печальным, задумчивым взглядом и горделивой аристократической осанкой. Такими же, как и он, утончёнными, дышащими и мыслящими смотрели в мир и его работы — тонкие, изящные, передающие суть и дух природы.
Либеров — непревзойдённый мастер пастели. Мелками по картону или холсту он создавал неповторимые детища. Его авторитет живописца был непререкаем, и, возможно, талант и дарование уберегли его от многих бед в войну, во времена сталинских репрессий и после.
Алексея Либерова обвиняли в малодушии и панибратстве на посту председателя омского отделения Союза художников. Возможно, основания для таких обвинений были — вполне вероятно, что ему приходилось мириться с господствующей идеологией, чтобы плодотворно трудиться и помогать молодым талантам. Да и недовольство, думается, появляется неизбежно при распределении материальных благ. Кому-то не хватило званий и мастерских, кому-то квартир и автомобилей. Труд Либерова на этом посту был весьма неблагодарным. И в творческих вопросах у Алексея Либерова хватало противников, обвинявших его то в отсутствии гражданской позиции, то в неверности советским идеалам и идеям пролетарской революции. Художник действительно писал в основном пейзажи: леса, степи. Русская двухколейная дорога — любимая натурщица. Лишь изредка на картинах природы появлялись две его русские борзые и ещё реже люди. Художник как будто сторонился политических тем — то ли боясь на них оступиться, то ли не считал их достойными своего мелка.
«На ваших картинах не отражено время», — так его упрекали сильные тогдашнего мира и простые зрители, оболваненные идеологическими баснями о понятности, логичности, простоте и чёткой композиции как непременном атрибуте искусства. Алексей Либеров всегда философски относился к подобным замечаниям.
Конечно! Рабочий всегда найдёт что сказать художнику!
Как Творец, он верил в правильность своего пути и на советчиков, кричащих с обочин, старался не обращать внимания. Но однажды мастер всё же кивнул своим не умудрённым критикам, подмигнул им красиво, лаконично, сдержанно и витиевато, ответил — почти шёпотом, парировал обвинения мастерски, почти гениально. Он всё же отразил на полотне время, но отразил его так, что видение это доступно лишь человеку, влюблённому в живопись, отдающему картине всего себя — всё своё внимание, все мысли и чувства.
На картине Алексея Либерова «Хлебное поле» (Холст, пастель. 1989 год. Из собрания музея «Либеров-центр», Омск) изображена сама природа, мистически отразившаяся в зеркале холста. Зрелые, цвета подрумяненного в печи хлеба, жирные колосья гнутся на ветру. Огромные вспененные тучи накатываются на холст и почти разрывают пространство. А что это там в углу? Да где? Да вон, справа вверху! Стоп! Это же самолёт!
По крутой траектории, устремясь в самый дальний уголок багета набирает высоту железная птица. Крошечная. Одинокая. Но сильная, могучая и смелая. И хоть она весьма и весома, и массивна, а всё ж почти не видна на полотне — почти не оказывает воздействия на зрителя, не вызывает в нём чувств и эмоций. Да и какие чувства она может вызвать в сравнении с красотою природы и трудолюбием человека, в сравнении с мастерством художника и творца?!
Другой Макарыч
Многие пользовались его добротой. Мягкий, отзывчивый человек всегда привлекает внимание. Некой своей нематериальностью, волшебством лёгкой на подъём души, неспособностью обидеть, нанести хоть какой-то реально ощутимый ущерб и урон, а, наоборот, желанием только воздвигать, созидать. Мне было его жаль. Не мог он противостоять черни людской и часто казался безвольным, бесхарактерным существом.
Может быть, не обладая внушительными физическими данными, почитал владельцев таковых. Возможно, страх поглотил его душу и увядающее тело, давно проскочившее пик физической красоты. А может быть, он просто никого не хотел обижать, считая себя не лучше других и уж точно не божьим избранником. Как знать, были ли у него вообще мотивы. Жил как жилось. Работал, творил, ковал, учил, искал, на это лишь обращая свои силы и думы.
Макарыч круто менялся, даже слегка выпив. Движения становились нервными и беспорядочными, взгляд волчьим, слова — резкими, жалящими. Тяжело было рядом с ним в такие моменты. Ударить мог по рукам, обругать, меж тем зачастую незаслуженно. Инструменты летели в разные стороны, когда пруток принимал не ту форму, что Макарыч пытался получить. Крепкое, отнюдь не возвышенное слово, повышенный тон и пониженная культурная экспрессия.
— Сильнее, сильнее бей! Мне тоньше нужна! Ещё сильнее! — кричал он и, хватая за локоть, пытался добавить к моему удару что-то своё, ещё больше искажая работу, как будто сознательно нарываясь на конфликт, раздражаясь изнутри без всякого внешнего воздействия.
Продолжался этот салют всего пару часов — Макарыч никогда не добавлял. Действие алкоголя иссякало, и учитель мой обмякал в кресле и характером. Вновь становился любезен, доброжелателен и терпелив, панибратствовал с чернорабочими, не в силах становился отказать власть предержащим, всё больше улыбался, как будто каясь за свою вольность, разрядку, отрыв.
Что давали ему эти два часа? Свободу? Желаемую реальность? Реализацию внутренней потребности в доминировании, во власти? Или разум его порабощался тьмою и инстинкты брали верх над личностью? Художник пропадал, и на его место вставал тиран?
Я всегда хотел задать Макарычу эти вопросы, жаждал понять учителя до конца, ощутить дыхание его жизни, услышать песни, звучащие в душе, и рассмотреть хоть толику того мифического эфира, рождающего невероятной красоты кованые миры в его сознании.
Всегда хотел поговорить с ним по душам… Но так и не успел. Это был бы достойный разговор…
Заинька, кисонька
Где он откопал себе этого водилу, никто не знал. Акцент кавказца. Торс и уши борца вольного стиля. Ножищи штангиста. Покусанные пчёлами губищи. Расплющенный стеной нос. Смоляная щетина немецкой овчарки. Волосатые руки дровосека. Повадки бурлящего на огне жгучего перечного варева. Манера езды вылупившейся из яйца динозавра нервной обезьяны. И всё это в столице культуры, спокойствия, непосредственности и толерантности — Сайнт-Петрограде.
Однажды жгучий темперамент признался в любви лёгким подзатыльником, а чуть позже фонарём под бровь, неотборным матом и броском через ведро не на мат.
— Вы представляете, меня в милиции записали «она»!
«Еще бы, — подумал я, — с прононсом французской поэтессы-проститутки и внешностью еврея, блуждавшего сорок дней без пищи по пустыне с чалмой вокруг всего тела. Тут и „она“ комплимент. Я бы записал скорее „ано“».
Старенький «форд», блуждая где-то в районе Марата и Коломенской, второй час пробирался на Лиговку. Через полчаса телефонного артобстрела водителя фразами «Я же тебя жду… Где же ты…» — умудрённый жизнью «форд» и не умудрённый ею же водитель подкатили пред наши ясные очи.
Дверь распахнулась, и из железного коняшки выскочил разодетый в самое лучшее кавказский мачо. Суровое выражение лица. Суровая походка. Суровый взгляд. И суровый говор.
— Привет, киииисонька… — донеслась из нашего стана любовная трель голубка при виде голубки, и нечто, отдалённо напоминающее напомаженного молодого парня, обвило крепкую мускулистую шею выскочившего под лезгинку из чрева авто коммивояжёра.
— Ну где же ты, заинька, запропастился? Уж два часа ночи, а тебя, котёночек, всё нет…
Суровый мен, как по мановению волшебной плети, погасил взор, расплылся в улыбке. Тут же усадил «своего» на пассажирское сиденье, включил передачу и, как настоящий зайка и пупсик, отбыл в неизвестном нам направлении, улыбаясь и мурлыча что-то своему очаровательному пассажиру.
Омский Гарлем
Стук железки, стон дворняг, Серый джинн из жерла тур, Тень надежды, веры мрак — Омский Гарлем «Порт-Артур»…Изящество мести
Венчание их было тайным. Эжен обожал свою Николь, боготворил. Только он, она и Господь — никто им больше не нужен. В маленькой тулонской кирхе Эжен прислуживал по выходным старому пресвитеру и хорошо знал таинство и обряды. На закате, облачившись в расшитую золотом белую мантию, осенив своё и чело возлюбленной короной спасителя, исполнил он одновременно роли и кантора, и сына Божьего, дающего клятву в любви и верности до смертного одра.
Каторга Тулона кормила их семью. Кто, если не служитель Гефеста, живший неподалеку от рудника и лихо управляющийся с рысаком любой масти, закуёт в кандалы нового заключённого, снимет стальное ожерелье с ноги в его последний день или последний путь, сработает изящное, витиеватое тавро, которым, раскаляя добела на огне, ласкают лоб преступнику, приговорённому магистратом к тяжелейшим исправительным работам, зачастую пожизненным, а ещё чаще пожизненным до срока.
Каменные рудники высасывают соки из человека всего за три-четыре зимы. Отправляют туда тех, кто словоохотливо опасен, убийц, разбойников и клятвопреступников. В охранники берут глухонемых и лучше безграмотных, дабы не помогали бежать обречённым на нескорую мучительную смерть и поэтому на всё готовым чёрным душам.
У Николь смертный час наступил ещё при жизни, и клятва, данная пред Богом и пастырем-мужем, обращена была ею лишь в слово — безжизненное, бессодержательное, пустое. Слово это она с лёгкостью иссохшего осеннего листа отпустила по ветру, а себя — в объятия другого.
Пять лет бесконечности счастья, глубин его любви и всепоглощающего аромата утренних фиалок обратились в груду окаменевшего навоза. Эжен держался. Скрыл от ещё любимой женщины свою осведомлённость, всё же надеясь на что-то — наверное, на откровенность и хоть какие-то человеческие слова. Но однажды и надежда его почила, как старуха, давно растерявшая былую красоту салонов Парижа или Тулузы.
— За что? — спрашивал он себя. — Почему цена моей любви, верности и заботы оказалась столь низка? Почему клятва, данная мне когда-то, молчаливо обратилась в прах, чувства убиты, поругано самое сокровенное, самое ценное, что внутри меня горело огоньком свечи во мраке ночи?
Память — всё, что у него осталось. Воспоминания о нежных её прикосновениях, шёпоте ангела, радуге чувств, желаний и мыслей при встрече взглядом с любимой. И воспоминания о безукоризненно исполненном пару месяцев назад изящном клейме для каторжников Тулона. Прошлое износилось, перекалившись, прогорело, и Эжен с лёгкостью по памяти отковал новое, точь-в-точь повторяющее предыдущее.
Заглушая мысли о былом, ночь он провёл в кузнице. Дым размеренно, слегка лениво валил из трубы, и стук маленького молота орошал иногда тишь полей и предгорья. На рассвете еле уловимая серая нить, протянувшаяся от трубы горнила к небесам, окончательно растворилась в утреннем тумане.
Босые ноги неспешно брели в лес к старой травнице, живущей в одиночестве на опушке у могучего дуба. Требовалось всего несколько листков, и любой недуг уходил прочь. Настой от падучей, от зубной боли, любовные эликсиры, сонная трава — всем можно было разжиться у старой отшельницы.
Эжен приготовился. Настой добавил в бутыли с вином и аккуратно уложил обратно в погреб, припорошив многолетней пылью. Теперь оставалось только ждать.
Жандармы пришли рано утром. Сбежали несколько вновь прибывших каторжников. Ни примет, ни количества точно не известно. Такое бывало, хоть и не часто. Далеко обессилевшим людям уйти не удавалось. Вот и сейчас половина тулонского гарнизона направилась в окрестные поселения — туда, где беглые могли найти себе кров и еду.
Заботливый муж, узнав о побеге, не находя себе места, тут же отправился к своей благоверной. Прискакал под вечер, опередив гарнизонных вояк, меж тем сохранив свое появление от любящей и скучающей у окна супруги до поры в тайне. Пропало несколько бутылок вина, и заспанный хозяин небольшого поместья вблизи тулонской копи с неподдельной тревогой, как мог, жестами сообщил о сём волнующем факте прибывшим поутру весьма неразговорчивым солдатам. Обшарив окрестности, те обнаружили в стоге сена на окраине леса молодую парочку. Одежда перепачкана, кое-где порвана то ли от страсти, то ли от давних скитаний и гонений. Спят как убитые — после зелья сонного или дальней каторжной дороги. Рядом несколько пропавших бутылок вина. На лбах клейма каторжников. Совсем свежие, не успевшие покрыться новой кожей или рубцами.
Ещё сонных разбойников связали. Молодой паренёк да красивая женщина — и такие бывали в Тулоне. Они что-то кричали по пути на рудник, но охранники ничего не слышали от рождения.
Эжен собрал вещи, и в тот же день его семейство навсегда покинуло окрестности. Красивый, умный и сильный кузнец Эжен уезжал с любимой женою Николь к новой жизни, к новым свершениям, к новым мечтам. Соседи радовались и горевали одновременно. Бравый муж сидел на козлах, а из окна кареты торчала лишь изящная маленькая ручка. Облачённая в белую шёлковую перчатку ладошка почти не двигалась, прощаясь с соседями, видимо обессилев от переживаний.
Пересекая маленькую речушку, наездник что-то выронил из кармана — не то ключ, не то тавро, коим метят жеребцов и клятвопреступников. Эжен остановил лошадей, подошёл к краю моста и взглянул в воду — ничего не было видно. Приоткрыв дверь фиакра, он плотно задёрнул чёрную занавеску и, запрыгнув вновь на своё место, резко дернул за узду, подгоняя гнедых щелчками плети.
Разлилась — не заметила
Кроме веры и совести, Потерять уж мне нечего. Обманулась в Антихристе. Пред очами ад сечева. Я в платке православия Подрядилася к варвару. Телом бренным, отверженным Предала душу дьяволу. Голубиною кражею Яд за сахар приметила. Обручилась слезинкою, Развелась — не заметила.* * *
Меня покличь — я ускоряюсь, И бег мой не остановить. Беспечна я, слегка наивна — Надежда, Ариадны нить. (Марина Цветаева. Неизданное. 1932 год. Медон, пригород Парижа)Никто, кроме нас…
Табор встал недалеко от деревни. Откуда взялся — никто не ведал, а если бы и знал, то забыл бы — до войны всё произошло.
Бабушка моя тогда полусмышлёным подростком взирала на мир и не понимала, почему так недобро местные встречали яркие повозки, остановившиеся однажды на опушке леса, внутри коих тесно сидели смуглолицые люди с пышными смоляными шевелюрами в броских разноцветных многослойных нарядах, увлекающие за собой пёстрыми узорами, непривычным покроем, странными украшениями, подвязками и лоскутками.
— Что могут принести с собой цыгане? — говорили деревенские. — Нищету, болезни да обман. Трудиться не умеют и не хотят. Только и делают, что чумно веселятся да побираются, ища по городам и весям дурака подураче.
В табор бабушке ходить запретили, да и тяжело ей было уже бить стопами почти три версты. Ноги не слушались. Врача в округе не было. Последняя повитуха пару раз пошептала над ножками, омыла отварами да, не завершив начатого, слегла в могилу. Хворь поначалу отпустила, а на девятый день с новой силой вцепилась в детское тельце.
Всё чаще девчушка наблюдала из окна за играми и весельем своих ровесников, всё реже выходила на улицу, всё чаще маленькая слезинка украдкой катилась по детской щеке. Надежды почти не осталось. Только если на себя. И на чудо…
Утром в дверь постучали. Туман укутал улицу, и за окном никого на удавалось разглядеть. Прадед, тогда молодой мужик, нехотя босиком пробежал в сени и отворил дверь. На пороге, укутавшись в шаль, стояла сухая высокая, слегка седоватая женщина.
— Люди добрые, помогите, чем можете, — не дожидаясь вопросов, жалобно начала она.
Дверь перед ней тут же захлопнулась. Женщина не сдавалась и через щели негромко крикнула:
— Детишки голодают. Хоть хлеба краюху…
— Убирайся! — зло рявкнул прадед и добавил уже еле слышно: — Своих проблем хватает. Скоро ноги у самих у всех тут откажут от голода.
С этими словами завалился на бок и вновь мирно захрапел.
Бабушке же моей не до сна стало — жалость сердце сдавила. Из-под холщового полотенца стянула она полкаравая, отломив краюху руками и оставив с крошками на столе — чтобы думали, мол, малая съела, — да бегом за цыганкой.
Бегом — это только в мечтах. Еле ковыляла, спотыкаясь и приостанавливаясь у околиц. Женщина меж тем как будто специально поджидала её и не спешила убираться восвояси. А может быть, просто не могла вернуться в табор ни с чем. Бабушка протянула гостье хлеб вместе с полотенцем и тут же, не дожидаясь слов благодарности, поковыляла назад.
— Приходи в полночь к старому сараю, — послышалось позади. Девочка обернулась, но увидала лишь молоко тумана, жирно измазавшего холст её жизни.
Вечер наступил удивительно быстро. Старый колдун вышвырнул несколько часов, подменив их сном-туманом, и в хате всё сызнова погрузилось в утреннюю дрёму. Только она не спала. Маленькие ножки кто-то сжимал изнутри, выкручивал и тут же обливал холодной водой с плавающими на поверхности жалящими кожу осколками льда.
Около полуночи детские руки откинули одеяло, ножки осторожно ступили на пол. Перешагнули несколько скрипучих половиц. Засов повернулся бесшумно, и как можно скорее девочка вышла за околицу. Ни души. Ни собаки, ни курицы, ни дикого зверья.
Трясясь от холода, мелко перебирая ногами, дотопала она до окраины села. Чёрный заброшенный сарай, уже согнувшийся в одну погибель, нависал над глубоким оврагом. В логе, на версту ближе к реке, догорал костёр, ещё слегка освещавший несколько бричек и цыганских шатров.
— Я жду тебя, дитятко. Входи, — донеслось из-под покрытых одним небом стен.
Сил уже не было, и, опираясь на руки и колени, девочка забралась внутрь ветхой развалюхи. Огарок свечи вырывал из тьмы немолодое лицо, длинные пряди серых волос и небольшой чан с водою.
— Вставай сюда, — тихо произнесла цыганка, и ноги исполнили приказанное.
Цыганка распрямила спину. Встала во весь рост. Обошла трижды вокруг девочки, выдёргивая из своего цветастого наряда верёвочки и бросая в воду. Резко остановилась. Упала на колени и в старческий крик свой вложила остатки материальных сил, всё напряжение жилок и морщин. Пламя затрепетало. Белая сорока села на окно, и тонкие веревочки, как змеи, медленно поползли по ногам вверх, обвивая хрупкое тельце.
— Ты жива! Слава господу! — шептал знакомый голос, и тёплые руки обнимали её. — Что ты здесь делаешь? Как дошла? Уже вся деревня с ног сбилась. Всё утро тебя одну ищем. А ты здесь…
Отец подхватил её на руки и пошёл в сторону избы.
— Поставь меня, тятя…
Нехотя руки опустили ребенка на землю. Шаг. Ещё один. Боли не было. Не было и страха. Она пошла, всё быстрее перебирая ножками. Затем побежала. Неслась как в последний раз и одновременно как в первый. Позади, открыв рот, стояла вся семья и половина околотка. Добежав до края оврага, остановилась, как вкопанный на заморозки столб, и не поверила своим глазам.
Чьи-то руки обняли её за плечи.
— Ушли, дочка. Ещё вечером. Как перекати-поле, отправились к следующему своему приюту, в новый мир, в новый край. Ничего не прося у судьбы, кроме свободы, ничего не ожидая от людей, кроме презрения, не жалея ни о чём, ни на кого, кроме себя, не надеясь…
Меня найдут
Меня найдут, когда я выйду За дверь, в туман, в аврал веков. И позабудут с появленьем На плахе новых дураков.Как заставить Путенда арбайтен…
Из чёрного ящика, опутанного паутиной, появился серый лист бумаги, испещрённой жуками-короедами. Морщинистые руки ребёнка-слуги аккуратно перенесли его на дубовый стол и разожгли свечу под пиалой с кровавым сургучом.
Обмакнув перо белого павлина в чёрную кровь гадюки, измождённые язвами пальцы, скрипя по бумаге, стали скоро выводить большие не то греческие буквы, не то древнееврейские.
Один за другим на листе возникали всё новые и новые мистические знаки, переливающиеся перламутром в пламени, исходящем из тонкого фитиля, промасленного жиром медведева, пока кровь в чернильнице не иссякла.
Тогда, отодвигая широкие рукава белоснежной тоги, он свернул пергамент втрое. Четырежды провёл над куском бумаги левой рукой, правой, обмакнув именную печатку рыбака в сургуч, заклеймил текст и крикнул что было сил в его теле атланта: «Порядку в Рассеи быть! Твою мать!»
И размахнувшись руками, как лопастями голландской мельницы, резко остановившись в своем беге, взмахом лишь кисти одной отослал телеграмму свою по морозному воздуху Дутену.
Ровно в 11.43 над пуховой периной ВВП разверзлось небо и свиток, запечатанный пурпурно-чёрным, цвета ядовитого антрацита, сургучом, упал на подушку рядом с головой Дутена с треском расколовшегося в тридцать седьмом колокола со звонницы храма Христа-спасителя.
В 11.59 кандальные скрипы разорвали пространство и всадник с горящим осиновым колом в груди на белоснежном коне императора Октавиана промчался мимо ложа ВВП, разрубив Эскалибуром бюст сатаны, стоящий в углу, и исчез, растворившись в стене, оставив на ней кровавый след от своей могучей длани.
В 11 часов 179 минут женщина, возлежавшая подле ВВП, медленно хрустя позвонками, повернула голову на сто восемьдесят градусов и, шипя сломанной гортанью, плюнула чёрной склизкой массой на плешь де Виль Путенду. Встала, подошла к старинному зеркалу, в котором отражалась по пояс, вынула сердце из своей груди, разбрызгивая белую кровь, и вонзила в живую ещё плоть золотой кол. Тихо подошла к постели и, обняв муженька, шепнула на ушко: «Спокойной ночи, мой сладенький, отдыхай дальше!»
В 5.05 того же утра Путенд вылетел верхом на станции «Мир» к Марсу для разведки новых медоносных районов…
Москва псевдосвободы
Унылая москва псевдосвободы! Ты — в пафос обращённая душа, Лезгиночка на пушкинском Арбате И эскалатор ждущих барыша.Клара
Испытание она получила по силам — силам не женским совсем, нечеловеческим, сверхъестественным даже. Мощь человеческого духа, способность под непроницаемым лицом скрывать все свои тяготы, несчастья и заботы поражает. Такой она была — с виду лишь невозмутимой, несгибаемой, железной.
Отработав после войны восемь лет на «ГАЗ-51», накрутив тысячи кривых вёрст по пыльной целине, сотни раз вручную сменив пятидесятикилограммовый пробитый баллон, пропитавшись запахом соляры и автола, изящные пальчики превратив в сбитые, жилистые и мозолистые, пересела в такси. Но не на сиденье пассажира, а по привычке на водительское. Довольно быстро изучив все улицы и закоулки родного города, тридцать лет прокрутила одним поворотом руля.
За время работы было всякое: кражи, ограбления, погони, роды и приступы на заднем сиденье. Тысячи лиц она видела в своей машине — приезжих и проезжающих, старых и молодых, влюблённых, тихо целующихся и сжимающих друг другу руки, подвыпивших мужчин, осыпающих её неуклюжими комплиментами, грустных парней и девушек с опустошённым разрывом с любимым человеком взглядом, тоскливым и безжизненным, весёлых и озорных, наглых и стеснительных.
Незаметно совсем, казалось, появились муж и сын, собственная квартира, телевизор и холодильник, кошка и собака. Сынок вырос и поехал по колее матери, хотя крутить баранку любимой «Волги» сил было ещё предостаточно и у самой.
В девяносто пятом развалился знакомый до камня и подшипника родной таксопарк. Чудом мать с сыном выкупили свою видавшую виды кормилицу и, пытаясь заработать хоть что-то, вновь и вновь посменно развозили пассажиров, поднимающих руку при виде зелёного огонька в их просторном салоне. С одной из смен сын не вернулся. Ни его, ни машину так и не нашли, а может быть, и не искали. Девяносто седьмой шёл…
Месяц пообивав пороги, собрала Клара всё, что могла продать, и продала. Опять купила подержанную «Волгу» и, не в силах усидеть без дела, снова зажгла их с сыном зелёный огонек надежды и тепла да вернулась на прежнее место — на автобусную остановку, втиснутую в самом центре города, как раз напротив кафедрального собора и областной думы.
На заднем сиденье разложив детские игрушки, ждала она очередного клиента, свесив заправски руку из окна над проезжей частью. Всего трёх-четырёх пассажиров развозила за день. Не деньги ей нужны были — внимание, общение, элементарное ощущение нужности и полезности. Хотелось ей просто поговорить с кем-то, узнать что-то новое и интересное, оказать качественную услугу — быстро и с комфортом доставить в нужное место. И может быть, хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь случайно услышать о пропавшем сыне…
Макарыч
Море небесное с раннего утра пожелало превратить нас в рыб, и ему это с успехом удавалось. Место раскопок превратилось в озеро правильной прямоугольной формы с множеством обводных каналов и оборонительными рвами, полными воды и, казалось, крокодилов, вокруг наших армейских палаток. Небо — свинец. Глаза некоторых моих учеников — капли росы на стеблях по утру. Первые раскопки — и такие трудности. Так недолго потерять веру и в себя, и в выбранную профессию.
Студенты приуныли, если не сказать вовсе опустили руки. Шёл четвёртый день экспедиции. В поту и вековой пыли были сняты три культурных слоя, а находок обнаружить так и не удавалось. Ни единой. Давненько не было такого на моей памяти. Ещё и дождь. Завтрашний день предстояло провести по колено в чёрной влажной жиже в лучшем случае. В худшем — в своих сырых, холодных палатках и уехать домой несолоно хлебавши. Вечером собрали совет. Решили начать раскопки на новом, более высоком и не затопленном ещё месте. С тем и отправились спать. Долго ворочались, сопели разбухшими от сырости носами. Ливень стучал в натянутый брезент-барабан, ветер трепал распорки-струны расстроенной гитары.
— Нашёл, нашёл! — ещё не выйдя из сна о далёких близких и близких далях, услышал я.
— Ура! — пронеслось многоголосьем.
На улице уже собралась вся экспедиция. Кто в кальсонах, кто в трусах, девчонки в ночных рубашках и купальниках. — Нашёл! — кричал Юрка, сухой пятикурсник, стоя по щиколотку в жидком культурном слое пятнадцатого-шестнадцатого века. Солнце уже осветило синеву небес. На горизонте ни тучки. Паренёк подбежал ко мне и протянул хорошо сохранившийся костяной предмет — наконечник стрелы, почерневший от проведённых в толще земли веков.
— Ценная находка, — еле слышно проговорил я себе под нос и добавил ещё тише: — Правда, у меня странные сомнения… — но когда опомнился и поднял глаза, уже все мои студенты вручную снимали слои грунта, уткнувшись в окопы носами.
Останавливать их было бесполезно. Азарт найти утраченное, возродить из небытия истории культурную и этнографическую ценность перекрывал всё — в том числе чувство времени и голода. Полевая кухня проработала весь день вхолостую. Только к вечеру половину студсостава удалось извлечь из разросшихся за день вдвое окопов и усадить за столы. И то только тех, у кого число находок перевалило за десятку.
Весь день мы с друзьями-коллегами еле успевали вносить в журнал всё новые и новые предметы. Фрагменты керамики, рыбья чешуя, зёрна бобовых, костяные фигурки и железные элементы орудий труда. Урожай богатый. То, что началось тусклой лампадкой, разгорелось в феерический огненный шабаш археологов. Одно мне не давало покоя. Первая находка. Уж очень она была странная. Опыт и интуиция подсказывали мне — что-то здесь не так.
Я долго рассматривал костяной наконечник. Вертел его и так и эдак, но не мог понять, что меня в нём смущало.
Подошёл Макарыч. Живой, интересный человек. Когда я только познакомился с ним, у меня тотчас появилось ощущение, что Макарыча раньше не было, но кто-то его уже успел до меня придумать. Интеллигентный, работящий, мягкий, без излишеств — так бы я его обрисовал сухими мазками чёрно-белой вязи букв и запятых. Тёмная одежда, но светлая душа, смуглая кожа и блестящие манеры, грубые руки и добродушный взгляд.
— Стрелу надо бы убрать из журнала, — слегка улыбаясь, мягко проговорил он, — моя работа.
И тут я всё понял. Ночью Макарыч взял костяшку, специально предусмотрительно припасённую из дома. Походным бориком обточил её, придав форму наконечника стрелы. Опустил в марганцовку, чтобы состарить хотя бы визуально, и потихоньку подбросил на место раскопок — как раз аккурат в центр, чтобы и слепой не прошёл мимо.
Поутру «ценнейший экспонат пятнадцатого века» обнаружили студенты и, взлетев на седьмое небо от восторга, перелопатили вдвое больше площадей, чем нами было намечено изначально, вырвав у земли и у прошлого множество тайн.
Редко встретишь такого человека. Кузнец, археолог, этнограф, да ещё и блестящий педагог, способный побудить ближнего на великие свершения, — Макарыч.
Любви ты знаешь нет
Попробуй написать строфу, Когда любви, ты знаешь, нет, Когда мечты твоей портрет Без лика смотрит в пустоту, Когда восьмого марта в день Восьмое выпало число, Когда на улице апрель, А на душе твоей дерьмо.Мешок
Ему редко поручали серьёзные заказы. Не потому, что не справится, не уложится в срок или нахамит клиенту, упрекая того в отсутствии вкуса, задерёт свой нос картошкой до небес и решит, что один способен заменить мастеров всей фабрики.
Наоборот, покладистости его характера можно было только позавидовать. Деловит, мастерски исполнял желания заказчика, вовремя и качественно, как под копирку, мог сработать сотню-другую серёжек или ожерелий, отличался весёлым нравом и умеренностью языка. А вот выпивать умеренно за сорок лет так и не научился. И получая солидный гонорар за серьёзную работу, надолго уходил. В запой.
Неделю, другую, месяц не появлялся на работе. Из раза в раз повторялось одно и то же. Пропивал всё заработанное. Занимал, пока давали в долг, и продолжал кутить. Подходил черёд продажи имущества. За гроши весело и беззаботно отпивал телевизор, холодильник, кровать, костюм, плащ и ушанку. Инструменты и те умудрялся кому-то запродать, лишь бы влить в себя что-нибудь веселящее и горячительное.
Через два-три месяца на пороге Тобольской косторезной фабрики возникало нечто. Патлы нестриженных, немытых вечность волос, борода-мочало, волосатые босые ноги, чёрные от въевшейся дорожной пыли, руки, свисающие, как плети, и, как ни странно, новый мешок из-под картошки с прорезями под верхние конечности, водружённый на абсолютно нагое тело.
Вопросов мы не задавали.
Почем новая мешковина? Кто модельер? Подгонялся ли клифт по фигуре? А можно было приталить?
Просто отмывали, отчищали, одевали, отпаривали и отпаивали отварами, выдавали новый инструмент и вновь принимали на работу. Потому что классным мастером был, а мастерство не пропьёшь. Да и человек неплохой. А то, что пил, — так ведь нет же идеальных людей. Недостатки тоже нужно любить.
Мысли из никуда
Мысли, покрытые камнем.
Когда хочешь многого — тебя много.
Бляж.
Не знаю, как на жизнь, но на смерть писатель точно может заработать.
Орки и Work’и.
Пока мы видим то, чего нет, мы находимся там, где заслуживаем.
Преодолела непреодолимое, вырвав позвоночник у беспозвоночного.
Не рожайте ненужных детей…
Педагогически запущенный ученик — так, с одной стороны, гуманно и корректно, а с другой — обыденно и цинично называют таких детей учителя. Хотя именовать созданий этих детьми вообще неправильно. Дети — это ещё не думающие существа, растущие в парнике среди таких же, как и они, цветов жизни. Аня росла на обочине пыльной грязной дороги, на жизненной свалке, помойке.
Родители не то что пили — жили с мыслью о выпивке и желательно без закуски, чтобы эффект был помощнее. Поэтому дома Аня могла делать две одухотворяющие вещи: стучать карандашом по пустым бутылкам, высекая из них, как из палочек ксилофона, разные звуки, и мечтать, что родители когда-нибудь протрезвеют и её вдоволь накормят.
На фоне класса она сильно выделялась: никаких украшений, чёрная одежда — так легче скрыть грязь на засаленном воротничке и манжетах — да пустой, безэмоциональный, потухший взгляд. Расшевелить и заинтересовать её чем-то не получалось, что бы мы ни предпринимали.
Насмешки в лучшем случае, презрение и издевательства одноклассников — пять тяжелейших перемен. На уроках колы и пары от учителей. Всё это сносила она безмолвно и безропотно. Волю её не ломали. Сила в ней так и не успела сформироваться. Пример безволья родителей перед бутылкой сыграл своё гнилое дело. Не знала она, что такое любовь и тепло, забота и участие, поэтому принимала все эти «блага», исходившие от нас, за омерзительные сочувствие и жалость.
Как-то я задал ей вопрос, на который и сам-то не могу найти ответа: «Для чего ты живёшь?» Не знаю, кто произнёс эти слова — подлец или предтеча. Наверное, фраза прозвучала цинично и жестоко. Но и иначе я поступить не мог. Зачем ей школа, зачем ей изучать английский? Она из городка-то никогда не выезжала, и едва ли представится шанс. Биология, математика, физика? Знания мертвы, если нет возможности применить их на практике. У Ани не было ни возможности, ни надежды на это. И ей самой всё было ясно.
Ничего не ответила. Лишь подняла голову, и лезвие взгляда скользнуло по мне. Впервые увидел я эмоции, энергию, душу в этом безликом существе. А через неделю она пропала. Не знаю, что с ней произошло, потому что вскоре пропал и я. Надеюсь только, что мой зов без ответа помог ей, помог обрести свой собственный путь — неважно, хороший или плохой с точки зрения общественной морали. Главное, уникальный, как и хотел Создатель. Очень надеюсь на это.
Flammable jazz
All I need — is a way to your heart. All I think — you are а splendid of God. All I knew — that you are loving me too. All my parts are breathing for you. We will see rise of sun in a sky. We must do various thousands of try. We can speak when our lips are so closed. We shall jump and do every time most. Can’t you feel broken dreams over fools, Which replaced just for money and cools? Earth and clouds are created for us! Dance with me, oh my flammable jazz! Something else? Someone’s girls? Someone’s Boys? Someone’s friends? Something answers and toys? Not for me! Not for you! Not for us! We all living in flammable jazz!Мысли из никуда
Можно быть праведником, не подставляя и первой щеки.
Нет середины — только края.
Помню зло, но за него не преследую.
Снимаю порчу, порчу, расторгаю браки на небесах.
Бывает горе от ума, но чаще ум от горя.
Поэты и писатели — самые циничные существа: создают себе профессию из судеб людских.
Нужно ценить человека, а не оценивать.
Патанатомак
Гражданскому человеку тяжело в трёх местах — в тюрьме, в армии и в морге. Поэтому гражданского в тюремно-армейско-больничном триумвирате сразу видно — бредёт, потупя очи долу, весь в своих мыслях, в мечтах, с надеждой на скорое окончание мучений и благополучное завершение рабочего дня. Арбайтен на зоне и в тылу ещё несёт хоть какой-то налёт романтики. В морге же пылинки романтизма улетучиваются раз и навсегда при первом же посещении секционного зала.
В нашей больнице морг был. Заведовал этим мистическим местом детина ростом под два метра и с пудовыми пунцовыми кулаками. Встречаться мне с ним никогда не приходилось. Но вот настал как-то этот исторический момент. На улице жарища, вентиляция в больнице работает на полную мощность и, естественно, выходит из строя.
— Авария в морге, — безэмоционально произносит женский голос по телефону, и мы с парой электриков выдвигаемся на зов.
Уже на подходе к мертвецкой одинокая мурашка пробежала по всему моему хлипкому бренному тельцу, спрыгнув на коричневый кафель перед железной двустворчатой дверью с полосой в метре над полом, вытертой бортами больничных каталок. Ручка, повернувшись, чуть скрипнула, и навстречу нам выплыл одинокий санитар. Взгляд да и вообще манеры его передвижения повергли меня в лёгкую кататонию.
Вытаращив глаза и повернувшись ко мне правой лишь стороной лица, как птица, одним глазом он бегло осмотрел меня, постепенно приоткрывая рот. Желание покинуть место сие во мне возросло, но долг и особенно желание получить зарплату смирили бушующую стихию и с малообразованными сквернословящими коллегами мы проследовали далее по коридору и скорым шагом вошли в кабинет заведующего патанатомическим отделением.
Приглушённый занавесками свет, фигура человека в белом халате, явно выше среднего роста, восседающего за массивным столом. Торчащие ботинки пятидесятого, не иначе, размера, свисающие кисти ручищ, густая шевелюра. Огромная картина на стене позади эскулапа — какой-то труп в замысловатой позе во мраке ночи маслом. В общем, всё колоритно и концептуально.
При виде меня врач, как и только что увиденный в коридоре санитар, повернул голову налево, вытаращил правый глаз и округлил его, постепенно открывая рот как рыба. — Что случилось? — спросил я, стараясь не думать о содержимом головы человека, представшего предо мною, не раз лицезревшего внутренности таких, как мы.
— В секционном зале… — ответил мужчина, не меняя положения головы и выражения лица.
Открываю дверь, выхожу, по коридору налево, спускаюсь в подвал, электрики за мной, вхожу в секционный зал. Запахи и виды не передать, да и не стоит. Тут же опускаю глаза в пол, зажимаю нос. Подхожу к калориферу. Коллеги разворачивают стремяночку и, водружась на неё дуэтом, принимаются за дело. Мимо проплывают каталка и санитар, запряжённый в неё. Опять немая сцена, округляющийся глаз, человеческое лицо, постепенно превращающееся в воронье, отвисшая челюсть.
«Сумасшедшие! — думаю я и продолжаю поддерживать коллег морально и физически. — В морге других и не встретить».
Ещё один санитар бредёт мимо. Снова знакомая душераздирающая метаморфоза. Внутри меня уже всё клокочет, и желание разорвать халат медбрата на пару частей начинает распалять ранимую психику впервые попавшего в сердце морга. Из-за угла выходит паренёк в белом халате и, проходя мимо меня, снова обращается в подобие курицы, снующей перед голодным хозяином.
— Чё ты уставился?! — срываясь на крик, говорю я и, не выдерживая отвратительных видов, мертвецкого запаха и нечеловеческих взглядов, выбегаю вон. Прискакиваю в свой кабинет, наливаю полстакана и выпиваю, хрипя обожжённым горлом.
Минут через пять мне легчает, как раз в момент появления моих исполнительных подчинённых, только что завершивших починку оборудования без своего начальника.
— Ну что ты разошёлся так? — по-отцовски вопрошают меня электрики.
Я было попытался высказаться, но эмоции, затопив горло бурным потоком, позволили мне лишь издать пару гортанных звуков.
— Ничего, привыкнешь. В морге такое не редкость. Понимаешь, они вскрывали с утра мужика. А тут ты. Лица один в один у тебя и у трупа. Вот они и подрастерялись. Сам подумай: с утра режешь на куски, а тут он ходит пред тобою живёхонек.
После этих слов меня начало полоскать. То ли от спирта, то ли от эмоций.
Рассвет
Хочу встречать с тобой рассвет И засыпать, внимая речи, Во тьме увидеть силуэт, Вновь до колен склонивши плечи.Питерские души
Пушкинская площадь! Мечта поэта. Да и поэта-песенника, пожалуй, тоже. Не площадь вовсе — так, небольшое утолщение улицы под пару-тройку лавчонок, скрытых почти всегда колоссами домов от любопытного солнечного ока. Толпа смирных, неживых, закинувших одну клешню на узенький тротуар, разноцветных железных черепах; редкий прохожий; купол неба над полукруглым каменным багетом пространства.
И Пушкин — вроде бы стоит, но не хозяин Алексансергеич месту тому. Не заметен памятник, возвышающийся на постаменте. То ли иные, более весомые, в прямом смысле, питерские фигуры застилают работу скульптора своими масштабами, то ли дома, нависающие над статуей отвесной рукотворной скалой, скрадывают величие русского арапа.
Голуби — вот истинные властители и мраморного постамента, и толстых квадратных жердей, сбитых почти вплотную друг к другу, красной гранитной крошки под четырёхлистными клеверными лапами, листвы и высоких деревьев, увешанных ею, руки, вытянутой в сторону и никогда не прогоняющей серые комочки перьев.
На Пушкинской строки «Туча мглою небо кроет» приобретают абсолютно буквальный смысл. Как только ты пытаешься набрать в ладонь горсть чёрных семян подсолнечника, тут же в небо дружно, хлопая, как в ладоши, крыльями, взмывает пара рот голубей и несётся к тебе, устилая перьями, как маск-халатом, всё вокруг.
На кисти рук, сжимающие лакомство, взгромоздясь, устраивают глуповатые птицы бои за чёрные, похожие на щиты маленьких рыцарей семена, стоявшие когда-то кружком и обрамлённые красно-оранжевыми всполохами. Садятся на плечи, колени, украшая ткань узором своих лап. Колются коготками, кусают руки, пытаясь вырвать из сжатых пальцев хоть что-то.
Бреду, как в бреду, на Пушкинскую… В руках волшебное семя, в душе синкопы характера, речи и взора стоящей меж анфилад сердца белокуро-крашенной нимфы с бритыми висками. Из-за вентиляционной клетки метро воскресает (воскресенье на дворе) чудо. Вернее, чудище. И тихим, пушкинским, поникшим, умиротворённым самим июлием голосом, исполняет:
— Молодой человек, — сглатывая, немного кашлянув, — не могли бы вы мне помочь?
«Культурен. Нищ телом, но не духом. Небрит, не стрижен. Коренной питерец», — думаю я и, дабы не опозориться перед державами, принимаю его манеру речи.
— Да, да. Чем могу?.. — расплываясь в искренной любезно-доброжелательной улыбке.
Выражение лица человека, восставшего предо мною, тут же меняется, и, словно с картин земляка-Врубеля, ко мне снисходит демон-орк во плоти.
— Ну чем, чем?! — багровея кулаками и сжимая лицо, начинает мен. — Дэээээээнюшкой.
И выпячивает нижнюю челюсть, как конь, прихворавший «заячьей губой».
— Извини, друг. Только пинком могу пособить… — вещаю я, прикрывая забрало души, и удаляюсь в лучистое утро. Нечто растворяется позади во мраке дня.
Подкормив разведённых не иначе ещё самим Сашей голубей, ступаю на тёсаный гранит проспекта Н. Иду не спеша. Не любуюсь. Не смотрю даже. Просто чувствую, вдыхаю, ощущаю. Ощущаю что at home, with please, with soul and dreams наяву. И ничто и никто мне не нужен боле, кроме той, кто так же, как и я, понимает, принимает и проникает в эту эфемерно-гранитную карамболь.
Вкусив и ощутив порядком, бреду в свою каморку дяди Ко, и вновь является пред ликом моим чудище. Вернее, чудо. Немытое, безвестное, оно сидит у пышащего дыханьем тысяч лиц жерла метро и смотрит в поля ржи, в пущи и пустоши, в воду, в пески и неба серь. Французский мирный клошар, севший на мель за выступом здания, никого не примечая, тихо, беззвучно наблюдает уплывающее с закатом тело Ра, гибель империи и мироздания.
Прохожу мимо. Я тень. Лишь белое облако, быстро промчавшееся мимо и растаявшее меж чёрных инопланетных туч.
Вдруг облако замирает, нащупывает что-то в карманах и сжимает ладонь, тихо подплывает к страннику, разжимает свои пальцы в его чёрной, черствой, как сухарь, руке и уносится прочь ветром в сторону Заневского.
Не успел я опомниться, как крики и вопли за моей спиной сотрясли Землю. — От души! Спасибо! Спаси тебя Бог! — развевалось на невском ветру чистейшее пушкинское слово. Ещё чуть-чуть, и, сплясав вприсядку и сделав фляк-рандат на месте, клошар догнал бы меня и схватил за руку. Тогда чёрное и белое слились бы воедино, мифологизированное добро и зло, объединившись, уничтожили бы Вселенную и верх земного хаоса вновь обратился бы неземной энтропией.
Посему, да и изрядно смущаемый взглядами прохожих, я поскорее свернул за угол и унёсся в черноту переулка. А на следующий день уехал… А он остался… Они остались…
Питер. Летняя ночь. Дешёвая выпивка и пачка сигарет. Что ещё нужно человеку для счастья? Я завидовал им. Они мне — едва ли…
Суп парчой
Цель заработать миллион Блага, чиста и прагматична: Шоб, утирая суп парчой, Слагать стихи метафорично. И, завалившись на диван В домине с кованым камином, Духовности своей столпы Мирощущать, вкушая вина.Провал резидента
Французы в России ведут себя как дети. Особенно при первом le voyage. Не то что умудрённые жизненным опытом и цинизмом отечественного бытия россияне во Франции. Матрёшки Жакам и Жан-Жакам кажутся верхом научно-философского видения строения мироздания, Эйфелева башня нам — заштатной опорой ЛЭП через Сену; для них бигос — недосягаемое эстетство в еде, для нас суп из лягушатины — отзвуки голодных лет, проведённых варварами в болотах Нормандии; нам их прононс — повод обратиться к лору, им наше оканье и гэканье — шикарный мистический язык «умирающего» из «Лебединого».
Со всей своей французской ересью в голове однажды и приехал истинный католик Жак на исконно православную славянскую землю — в казахско-джунгарскую лесостепь юга западной Сибири, в русский город, стоящий на самой полноводной реке сопредельного братского Казахстана.
Сойдя по трапу, Жак сразу же заявил молодой симпатичной русской жене:
— Ленья, толькьё ты не говьёри, щито я фрэнсэ, никамью, — и тотчас же достал из рюкзачка традиционные русские одёжи, дабы влиться в общество добродушной сибирской глубинки. — Сейчьяс оденусь, как ви, и буду je suis Russe, как говорьят у ньих.
Впереди две недели побывки, и новоявленный сибиряк-на-недельку всерьёз рассчитывал или поиграть в шпионов, или буквально срастись душою и телом с родиной любимой жены. Мечтал он, как уже на второй-третий день выйдет гулять по городу и никто, никто, никогда и никогда не догадается, откуда он приехал, никому и мысль в голову не придёт, что перед ними не коренной сибиряк, а молочный парижанин.
Из просторной сумки последовательно появились: песцовая шапка-ушанка, ватный тулуп, заблаговременно отделанный английский сукном, просторные синие штаны с начёсом из гагачьего меха. Венчали облик новоиспечённого великоросса высокие утеплённые ботфорты с утомительной двадцатизаклёпочной шнуровкой. По дороге под еле слышный внутренний гомерический гогот жены были приобретены у бабулек-лоточниц мохнатые рукавицы. Шерсть торчала из варежек сантиметров на пять. Казалось, из рукавов экипированного самоходного тулупа растут не руки — обильная нестриженая растительность.
Во всём благолепии дорогой француз-инкогнито и ввалился в обычную маршрутку, отказавшись взять такси, ведомый страстью поскорее приобщиться к быту сибирских староверов. Сел в салон спиной к водителю и поверхностно углубился в проносящийся с пугающей скоростью за окном городской пейзаж.
Мысли о своём величии, ловкости и находчивости кружили голову. На то, что окружающие одеты, мягко говоря, не так, как представлялось ранее, он, естественно, внимания не обратил.
Поездка катилась великолепно. Жак быстро освоил искусство передачи гонорара водителю и махал руками, как заправский кондуктор. Передавал и принимал, с улыбкой на лице, с неподдельным удовольствием занимался общественным трудом. Искренне рад был оказать окружающим соплеменникам небольшую услугу.
Остановка. Открывается дверь. Происходит неравнозначный обмен людьми между улицей и жёлтым пузатым автомобилем. Входят двое, и уже по привычке Жак держит руку наготове.
— Передайте, — слышит незнакомые слова Жак, и в его мохнатую лапу всыпаются горсти мелочи.
Увесистая стайка железа молча (прононс ведь, как и перегар, не утаить) вручается водителю. Жак оборачивается и вновь влипает в запотевшее белым камнем окно. Меж тем вошедший пассажир, не скрывая своего удивления, с пристрастием рассматривает странного кондуктора. Мужчина раз за разом проводит взглядом по фасаду тайного месье и изредка переключает взор на его спутницу. Жак, будучи культурным человеком, на столь нескромный взгляд никак не реагировал. Странное тихое негодование продолжалась минут пять. Наконец мужчина не выдержал и, слегка наклонившись к жене Жака, с ухмылочкой спросил:
— Что, немец?
— Раскололи! Так быстро! Но как?! — рвал на себе волосы Жак, придя домой к русской теще с морозного воздуха. — Как? Я же всё предусмотрел!
— Загадочная русская душа, — воспарив, ответила жена. И добавив, еле сдерживая смех: — От нас ничего не скроешь, дорогой, — плеснула в гранёный стакан ледяной русской водки для согреву.
Гуляя по Невскому
Гуляя по Невскому, слышал я голос Колодников, сгинувших в топях Невы. Из чёрной воды в красной ленте гранита Поют они миру немые псалмы.Смерть неизбежна, жизни можно избежать
Долго не понимал матыгиных (в миру байкеров), да и, если по честноку, не принимал. Обычные люди, казалось, только одеваются и ведут себя несколько иначе. В*ё*ы*а*т*я. Хотят казаться, а не быть. И явно не испытывают пиетета к бедным коровкам, судя по обилию кожи на теле. На деле всё оказалось несколько иначе.
Подкатывает толпа. Спрыгивают со своих железных пони и ко мне.
— Здарова, братан!..
— Саня!..
— Юра!..
— Привет!..
Я только успеваю подставлять краба и ловить незнакомые взгляды. Может быть, я вчера накуролесил, недобрал и побратался со всей ратью земною? Да вроде бы нет… Вот и голова ясна, как луч солнца с Андромеды. И руки крепки, як амбарный замок на казённом засове.
— Чем цепь мажешь, бразе? — первый вопрос.
— Чем, чем… солидолом… — слегка недоумевая, поднимая левую бровь и плечи чуть к ветру, отвечаю я и думаю про себя: «Как в детстве велик…»Смех, конский ржач и гогот в ответ. А затем спокойный, доброжелательный ликбез умудрённых А-шников по правильному уходу за цепью и звёздами на моей «мясорубке».
Завёл, сел, покатался. Поймал ветра свист за ухом, согрелся по осени в тёплом автобусном выхлопе, подскочил на мостовом шве, как на диком кабане, разогнал жару и зной, выкрутив ручку газа. Заглушил, встал и вернулся к обычной жизни. Так я и жил, а вернее, спал какое-то время.
Секунда проснуться пришла, как всегда, нежданно. Сладкая моя нега была грубовато прервана взвывающим рыком и ударом жёлтого механического носорога, попутавшего мою законную тропу со своими дикими прериями.
И вот, когда, опершись локтем об испещрённый выступами гальки асфальт, сплёвывая подорожную пыль и пытаясь вновь обрести равновесие, я поднимался, в голове явно что-то уже перенастроилось. Страха не было. Не было и стыда — полежал на обочине, отдохнул — что здесь этакого!? Трезв, лучист, а теперь ещё и знаменит в узких кругах случайных прохожих. Чего стесняться?
В момент соприкосновения с матушкой-землей я что-то почувствовал. Ощутил явственно нечто неприятное, но не повергающее в ужас, когда, рыча и подёргиваясь, с левой стороны в меня врубилось железное облезлое обезличенное панцирное зверьё. Уже стоя на обочине и глядя на бездыханное тело матыги, я понял, что в те минуты со мной произошло. С трудом доплёлся до ближайшего тихого места — дома Дали — и с приступом рвоты завалился вместе с матыгой на одиноком перекрёстке под берёзовый куст.
Все меняется в мгновение, когда понимаешь и чувствуешь, что смерть не за углом, не за поворотом, где-то там на трассе, в воздухе или в воде, не через год-два или двадцать-тридцать лет, а в метре от тебя каждую секунду и в четырёх метрах под тобой. Усадив свои яйца в двадцати сантиметрах от ревущего взрывами раскалённых газов мотора, хорошо ощущаешь их ценность. Сев однажды на байк, назад ты уже можешь не вернуться. Улетишь в облака и птицей растворишься во мраке ночи.
Тогда уходят все обиды и страхи, потому что каждый день — последний и завтра может наступить уже совершенно в ином месте. Чувство реальности сначала пропадает, а затем вновь восстаёт железобетонным колоссом. Тогда ты начинаешь жить, а не ползти за стадом коров, подгоняемым слепым пастухом на храмовой хромой кобыле. Тогда начинаешь любить всё в его нынешнем варианте, а не пытаться изменить, распыляя силы. Тогда видишь суть, а не детали.
Вот тогда хочется вставать на колено только перед теми, кто и тебя боготворит, кому ты действительно нужен такой, каков есть. Тогда хочется отдаваться любимому человеку без остатка и скучать, ещё не расставшись. Выкручивать ручку чувств до отказа. Нестись сломя голову, всё лишнее отпуская по ветру. Проживать свою жизнь и ещё несколько чужих, а не полоскаться в чьём-то вейлансе. В секунду укладывать две. В минуту — час. В день — неделю.
Тогда хочется спешить жить и спешить чувствовать. Потому что есть только два колеса и, чтобы остановиться, нужно снова прикоснуться к грешной земле.
Рождающий мечту
Люблю тебя, как звёзды небо, Как ветер крон златых листву, Как наслаждающийся негой Наш Бог, рождающий мечту.Мысли из никуда
Поэты выплёвывают красоту вранья.
Автоматически не достиг, потому что не начал.
Идеал любви: унестись друг в друга.
Хитрость: одним поступком породить другой.
— Над чем вы сейчас работаете? — Над своей очередной мечтой.
На мир ещё можно смотреть. Звуки мира отвратительны.
Бог не пишет неоконченных произведений.
Сплав людской
Кого только не встретишь в кузнице! Жар горна манит и притягивает. Красота силы металла пленяет, и порой на всю жизнь в человека проникает сплав кованой поэзии и литой прозы.
Пришёл Коля в кузню из института — обучал студентов собирать стеклянные витражи. Эта работа со стеклом требует скрупулёзности, размеренности движений, аккуратности и точности. Все эти навыки кузнецам чужды и даже противопоказаны. Поэтому Коля быстро получил от коллег забавную кличку «Коля-миллиметр». Работал Никола всегда долго, аккуратно, всё измерял что-то штангенциркулем, подправлял, подбивал, подкручивал, нагревал и снова подгибал, пытаясь добиться идеально симметричных пропорций тюльпана или бобышки. А в ручной чёрной работе точность не главное. Порой как раз небольшие изъяны, шероховатости и есть та изюминка, за которой и идут к кузнецам.
Нагреешь, бывало, на горне стальной пруток — и скорей к наковальне. Пять-десять секунд всего, пока металл не перестал «стыдиться», источая насыщенный красный цвет, есть у человека с молотом в руках, чтобы подчинить упрямую стихию своей воле. Коля-миллиметр подчинился стихии, а не стал её властителем.
Серега, похоже, злоупотреблявший когда-то чем-то психотропным, шутником оказался. Правда к юмору его полумаргинальному нужно было привыкнуть сначала.
Ковать бобышки — самая тяжёлая и нудная работа. Необходимо скрутить концы прутка в кольцо, а сам пруток — в подобие бублика. Работа нелёгкая: около двадцати-тридцати взмахов тяжёлым молотом, да и опускать увесистый снаряд нужно в определённое место, одновременно подкручивая раскалённый ещё металл. А оплачивается вся эта канитель весьма скудно из-за относительной простоты.
Серега отковал одну бобышку. С металлическим звоном она упала на пол кузницы. Десяток мощных ударов, и вторая легла с первой рядом. Уже сбив дыхание, отковал он третью. Затем четвёртую. Ещё один раскалённый формованный кусок металла приобрёл нужную форму, и Серега, с широко раскрытыми глазами, выпалил:
— Фуууффф… Тут после пятой уже понимаешь, что к чему…
И широко расставив плечи и округлив руки, как штангист, только что взявший две сотни груза на грудь, вышел боком через дверной проём. Покурить. А через три-четыре минуты крикнул откуда-то с другого конца ангара:
— Ээээ… Я это там… Короче, съезжаю оттуда.
И пошёл заниматься явно более приятным для себя делом.
Васильич всё больше был угрюм, видимо, впустив в свою душу бесов и демонов, коих весьма горазд воплощать в металле. Всё же и его удавалось встряхнуть иногда. Однажды, снизойдя со своего пьедестала, подходит и, жаля хитрым взглядом, вопрошает:
— Сигареткой не угостишь?
— Есть… — доставая из пачки округлую белую палочку. — А почему тонкие куришь? — Нравится, — отвечаю.
— Так одной, наверное, мало. Не накурюсь…
— Возьмите две! — И как их курить?
— Да сразу две за раз. Рассмеявшись, Васильич уплыл, покачивая своим горбом и прикуривая одну.
Батю все любили. Даже Хан — белоснежный кавказец с голубыми, как вода пляжа Бонди, глазами, никого к себе не подпускавший, охранявший чёрный вход.
Отмолотив тридцатку на заводе, Батя, как его все уважительно называли, пришёл в кузню. Классный слесарь, мастер своего дела.
Поступил на завод как-то срочный заказ. Три тысячи болтов изготовить с продольным пазом-выточкой под шайбу с выемкой. Оборонный заказ. Для космической отрасли. Точность до трёх тысячных микрон. За неделю сделать удалось что-то около пятисот штук. Осталось шесть дней. Мастер цеха на железную стружку исходил. Подключил к работе ещё одного человека да попросил Батю выйти в выходные.
Работа не шла. Когда знаешь что результата не будет, кто захочет напрягаться? Сидит Батя, значит, грустный у окна. На столе лежит около сотни готовых болтов. Впереди ещё пара тысяч, а желание одно — уйти и больше никогда не возвращаться ни в цех, ни на завод.
И тут Батю осенило. Впору «эврика!» кричать. Кидается он к фрезерному, что-то нарезает, подваривает в паре мест, обтачивает заусенцы. Всё! Приспособа готова. До вечера возится с чем-то в одиночестве в цеху и спокойно уходит домой.
В воскресенье на работу не выходит. В понедельник заявляется слегка под стаканом ближе к обеду. На крики и идиоматику мастера не обращает внимания. Проходит к своему рабочему месту. Театрально срывает с каталки промасленную тряпицу. Под ней три тысячи сто болтов — сотня запаса на брак — нужной марки, формы и точности точения бороздки.
Объятия. Похвала. Отгулы. Почёт. Премия три сотни.
Такие вот кузнецы в Сибири. Настоящие мужики. Весёлые люди. Ребята и слова, и дела.
Ты роди меня бездушным
Ты роди меня бездушным, Чтобы шёл гулять босым, Не оправливаясь в душу, Даже когда стриг усы. Чтоб в ботву мою округлу Лезли мысли о еде, Да и то лишь о насущной, И никак не о судьбе. Чтобы жизнь была дорогой Бренно-тленно-дождевой, И никак не от порога, И никак не дорогой. Чтобы я потупя очи Не ходил туда-сюда, И чтоб не было мне мочи Провалиться со стыда. Чтоб писал одно говно я И не думал я при том, На х. я под небом этим Я бездарно сотворён.Цена смерти
Никогда не дарил друзьям оружие. Врагам тем более. И заказам таким никогда не радовался, хотя отковать клинок — интереснейшее дело, увлекательное, не частое, трудоёмкое, правда, и не слишком прибыльное.
Три тысячи микронных слоев металла, слитых воедино, тысячи ударов механического молота, обработка, травление, вытягивающая все жилы полировка. Затем рукоятка, ножны, подгонка, шлифовка, вновь и вновь полировка. И всё это ради того, чтобы лицезреть изумленную физию заказчика при виде воткнутого в прочнейший бетонный пол тонкого, изящного блестящего куска смертоносной стальной ртути.
Ребята эти мне сразу не понравились. И вроде бы заказывать пришли не клинки, а всё же вещь весьма необычную — кованый гробик, выскакивающая чёрная фигурка с косой.
— Подарок на день рождения, — пояснили они, — девушке… — озорно рассмеявшись.
Интересное дело было, новое, да и заплатить пообещали неплохо. В общем, согласился я, хоть и не без сомнений. Неделю думал над эскизом, вторую — над технической частью. А сработал готовую вещь за пару дней всего. Фигурку отлил из дюраля в глину по пластилиновой модели, гробик отковал из листа двойки, придав ему цвет лежалой плоти, неравномерно разогрев горелкой и опустив в отработанное машинное масло, выстреливающий механизм взял от ножа-выкидухи.
Исполнено было всё мастерски. Уникально, высокохудожественно, забавно, красиво — подарок, конечно, замечательный, кабы был иным сюжет. Но что уж вышло, то вышло.
— Не советовал бы вам дарить такое, — предупредил я ребятишек, перед тем как отдать заказ, — каждый художник в чём-то пророк… Ковка, как и рукопись, не горит…
Парни переглянулись, улыбнулись белозубой улыбкой, протянули пухлый конверт и спешно ретировались, похоже, предвкушая весёлый розыгрыш подруги. К конверту я не притронулся — бросил у горна на кучу лома. Как почувствовал что-то. Через три дня заказчики вернулись. На лицах ни следа былого румянца, сухие белёсые губы, сутулый торс, поникший взгляд, заторможенная речь.
Вошли. Подходят почти вплотную и аккуратно, с пиететом и некой даже подобострастностью протягивают мою же работу.
— Сломалась? — хмуря брови, спрашиваю я.
Парни помолчали немного, не меняя положения тел, переглянулись.
— Возьмите назад… У неё бабушка вчера умерла…
Холодная испарина и лёгкий тремор напомнили мне, что я ещё жив. Гробик перекочевал в мои руки. Я взглянул на ребят. Им было явно не до шуток.
— Я предупреждал, — бросил, уходя, — конверт у горна. Я не прикасался, — и вышел из мастерской, закурил сигарету, сел к будке Хана и, растирая виски, попытался успокоить выскакивающее из клетки рёбер сердце. Когда вернулся, никого уже не было. Они ушли обратно в свой мир. Мир без смерти — лишь с шутками о ней, мир без проблем и горя, без пророчеств и суеверий, мир, полный озорства и веселья.
Я обернулся к горну. Конверт лежал на месте.
Картины Щедрина
Встает, бесчинствуя, заря, И омывают небо краски, Чтоб вновь картины Щедрина Сошли на Питер без огласки.Мысли из никуда
Для вас дорого или для вашей мечты?
Поселить идею в чужую душу можно только наедине.
Жизнь — это не лестница! Круг с секторами.
И каменным молчанием своим раздвинул ноги.
Холодная дифовка асфальта.
Идея пишется одной левой.
Воланды империализма.
Мистик, а?
Никогда особо не веря в своё личное простое крестьянско-мещанское счастье, я подумал, что дни мои неправедные уже на исходе и Создатель всё же решил хоть немного в финале этой стремительной оперетты подсластить дымно-спиртовую пилюлю и превратить лайф в кайф. Началось все гипермистически. Поначалу она мне не понравилась. Отвратительная убито-поникшая манера речи, костлявые руки смерти, большие жабьи скулы, странная походка страдающего депрессивным психозом — любовь списала все: фантастическая трель соловья, изящные пальчики, бархатные щёчки, божественная грация царицы Савской. Причём всё это с каждым днем каким-то чудом становилось ещё чудесней и расчудесней.
Одно меня смущало — её возлюбленный, с которым я не имел удовольствия быть и кайфовать. Однако он наверняка высокий, красивый, интересный, сильный и заботливый — такой же прекрасный, как и она. Другого она выбрать просто не могла. В общем, мечта. Не то, что я — полный отстой.
С таким багажом радужных дум я и отъехал первого января в шесть утра подальше из Асгарда Ирийского и волею судьбинушки оказался вскоре в районе Челябинского тракторного и трубопрокатного заводов, проскакав тысячи верст по заснеженной пустоши в надежде обрести душевный покой и уравновесить разум избытком впечатлений. Но, как оказалось, весьма безуспешно.
Ступив после долгой дороги на заснеженный асфальт, осмотрелся и чуть не сел в карликовый сугроб. Название улицы, на коей предстояло мне прожить пару суток, и её фамилия были близнецами-сёстрами.
«Совпадение», — решил я, отпившись вечером не чаем, а поутру насладившись невероятной мощью Коркинского разреза, воплями железных орков на его дне и тишиной микронных пятиэтажек на его вершине.
— Сов-па-де-ние-е, — донёсся орчий вой со дна пятисотметровой впадины, и я отправился в обратный путь, по пути хапнув настоящего KZ.
По приезде в родной стотысячелетний Асгард меня потянуло на кладбище. В этом нет ничего удивительного. Кладбище — лучшее место в Асгарде для отдыха после долгой дороги для молодёжи. Там все милы, добры и по большей части приветливы, да и милиция не вяжет за распитие в общественном месте.
Иду, ступая не спеша, Любуясь смирною могилкой…Экскюзе муа, опять на стихи потянуло. Итак, иду, смотрю-любуюсь, отдыхаю. Вдруг грохот кладбищенского колокола разрывом печени проносится над моей когда-то окладистой шевелюрой, делаю пол-оборота головой, и взгляд тут же врезается в серую выдолбленную надпись на чёрной мраморной глыбе. Фамилия снова её.
— Совпадение? — уже не столь уверенно пою себе я. — Вполне… Оказался её дед. В смысле, на могилке, а не в звоннице.
Дедов я видел в жизни порядком. Так что вновь обыденное совпадение!
— Точно совпадение, а никакая не мистика! — говорю себе я и топаю на следующий день к туалету гомосексуалистов. В этом нет ничего удивительного. Туалет геев — лучшее место в Асгарде для отдыха после долгой дороги для молодёжи. Тусанувшись (без геев!) у геевского туалета, бреду походкой усталой в горку к памятнику Чокану-минихану. Вдруг на стене дома вижу памятную доску, солидную харю и чей-то имярек. Сотни раз здесь хаживал, а внимания не обращал. Фамилия, как ни странно, снова её.
Как Виктор Авилов, произношу вслух отрывисто, брутально и фатально: «Третий» — и нехотя всё же начинаю действовать, изрядно подпинываемый всем этим мистицизмом.
Нахожу её боя — дохлый, страшный, беспомощный, да к тому же мой давнишний однократный собутыльник. В общем, мечта. Но не моя.
Действую дальше. В результате интерес, дружба, страсть, любовь, совпадения, целая жизнь, уложенная в два месяца, мечты, праздник длиною в полгода. Затем капризы, равнодушие и разрыв. Вновь страсть, любовь и капризы. Безумства. Ещё куча любви и дьявольское опьянение. Позже усталость, неблагодарность, безразличие и плевки в душу.
Одно мне непонятно, неведомо и треплет до сих пор душу, требует сатисфакции, гиперрефлексии и, возможно, даже реинкарнации с последующей комой и выходом из нее сразу в астрал: зачем все эти невероятные совпадения? Зачем эта мистика? К чему всё это было? И самое главное — почему всё столь быстро минуло?..
Из сердца пепел выношу корытом
Из сердца пепел выношу корытом. Самшит окаменел зерцал. И бурый уголь, вспыхнув антрацитом, Коленьем белым истончил металл. Она себя давно простила. Бобышки не сковав, ушла. На медяки меня пустила, Явив изящество плевка. Асгард Ирийский. 2 сентября 7520 от С. М. З. Х.Осталась ты лишь на иконе
Со сводов Виндзорской капеллы В мир зрит обожествленный лик. Его вчера я видел то ли, Иль он давно в меня проник? Не наглядеться в очи эти. Ты светом дум озарена И безусловной верой в чудо, Моя любимая… Одна… Осталась ты лишь на иконе В душе запятнанной моей, Я — клиром лишь у врат алтарных. Приди, забвение! Скорей. Асгард Ирийский. 26 сентября 7520 от С. М. З. Х.Политические ужасы — Утро Путенда
Каждое утро Путенд, зловонно скалясь и рыча, встаёт, с пренебрежением скидывает со своей подушки чью-то холодную руку, умывается проклятой водой, чистит свой золотой клык, печатку с ядом, серьгу, тоже с ядом, удостоверение председателя правительства, испачканное чем-то буро-красным, и отправляется на работу. Едет по пустой дороге, смотрит на пролетающие мимо пейзажи и безлюдные долины, на свинцовое небо и разряды молний над его чёрной «Волгой», наслаждается утренней кровавой зарей и капающей, капающей с кустов… росой.
По дороге приказывает своему глухонемому водителю остановиться на обочине и идёт в лес, прихватив корзинку. Деревья зловеще шелестят листвой, ковёр красных гвоздик манит. Путенд проходит всё глубже в чащу леса. Ветки смыкаются за его спиной. Каркает вороньё, и трава вянет в тех местах, где ступает его нога, а от дыхания безмолвно падают мухи и комары. Находит чёрную поляну и принимается наполнять корзинку грибами, проросшими из чёрной земли там и тут. Берёт самые красивые и аппетитные, свежие, без единого червячка и изъяна.
Возвращаясь, по пути он срывает сначала один красный поминальный цветок, потом другой, вскоре в его руках оказывается целый букет. Путенд подходит к машине, аккуратно открывает багажник и очень осторожно кладёт свою добычу в свинцовый ящик. Плотно закрывает свинцовой же крышкой и садится назад в машину на сиденье, сделанное из человеческой кожи.
— Дима, — обращаясь к водителю, — цветы жене, грибы на базаре раздай, пусть народ кушает, — и злобно крякнув, наливает себе бокал крови младенца.
— Хорошо, — басом отвечает глухонемой водитель и с глазами патриота и борца за мир, с нищетой и диареей включает «И Ленин такой молодой» в исполнении депутата Государственной думы ФС четвёртого созыва, нажимает на педаль акселератора, и машина, ускоряясь, летит на кремлёвский шабаш.
Они мчат по пустынной трассе с тремя мигалками на крыше — красной, чёрной и чёрной. Олени и медведи расступаются перед автомобилем Президента, Трудяги, Лидера, Радетеля, Спасителя нации. Кролики в странных позах замирают, птицы останавливаются в полёте, широко открыв глаз, медведи перестают сосать лапу, совы моргать, а скунсы вонять, изо рта коров выпадывает сено, изо рта собак — язык, бобров — стружка. Музыка звучит всё громче, и голос Кобзона всё мощнее рвёт окружающее пространство на ломти.
— Вадим Вадимыч, может, прибавим? — спрашивает зловеще-пафосным голосом глухонемой водитель, и смрад от его дыхания заставляет Путенда закашляться даже в противогазе.
Путенд снимает и выкидывает в окно респиратор, затем защитный костюм, выпивает антидот и говорит:
— Теперь гони, Дима. Тут пыль уже не радиоактивна. Выехали наконец-то из Припяти…
Не эфорюга
Воруй любовь и жри сердца, Надменность рожей источая, «Мне надоело, скукота», — Как б.я. ь, невинно расточая. И будешь счастлива с лохом. В сортиры души обращая, И прорастая в камне мхом, Неэфорию воплощая.Йети девяностых
Кальмар Иваныч — так любя за глаза мы звали этого сорокадевятилетнего любителя распустить, расплести свои руки-щупальца вокруг молодой девушки, ведущего образ жизни юнца-переростка.
С сигаретным дымком вдыхал он нашу молодость и кураж, мы — его некую уверенность во всём, бывалость, опыт и везение. Везучесть ведь, как и доброта, очень притягательна. Сказку наяву — вот что я всегда ощущал при виде этого слегка поседевшего, полысевшего, но всё же хорошо сохранившего себя молодого деда и неоднократного отца семейств.
Благополучие своё Иваныч не заработал — оно свалилось на него нежданно, как снег с одинокой ели в берёзовом лесу или степной пойме. Шквал удачи, накрыв однажды, упорно не отпускал и до седин.
Как и многие, мечтал когда-то Иваныч о собственной машине. Дивные грёзы всполохами рассвета сияли где-то там, за далёким японским горизонтом — работая на стройке каменщиком, укладывая мозолистой рукой в день по триста-четыреста тяжёлых кирпичей и полтонны раствора, приблизить их или приблизиться к ним было весьма и весьма нелегко. А тут девяносто восьмой…
С каждой негенеральской зарплаты откладывал Иваныч под подушку по сто долларов. Хранил именно в неказистой зелени, родной валюте, как, видимо, и всему родному, особенно не доверяя. Копил долго, тяжело перебарывая желание всё в одночасье весело промотать. Продвигался к своей цели медленно, но уверенно. Жил по плану, считая, что только так и возможно достичь вожделенного. И достиг.
В одночасье волшебства дефолта стал Иваныч многократным рублёвым миллионером и вместо машины выкупил у прогоревшего должника какого-то банка почти за бесценок солидные производственно-строительные мощности. Не побоялся и взял подряды, открыл автошколу, производство плитки, мебели и ещё невесть чего. И дела, как ни удивительно было для него самого, пошли, покатились, а потом и поехали.
— С тех пор пью каждый день, — сказал как-то то ли с радостью, то ли с грустцой Иваныч, — деньги не проблема…
* * *
Просто Артур. Викторович добавлялось нами уже для некоего отграничивания сущности этого здорового крепкого мужика от нашего мирка — мира людей, не желающих признавать необходимость и внутреннюю потенцию уничтожить физически себе не подобного.
Белая стрела — лишь легенда. На деле всё было более прозаично и прагматично. Власть всегда находится внутри человека. Её можно только отдать, взять невозможно. И вот когда власть не узурпирована по воле самой толпы силой некой физической или идеальной сущности единолично — тогда и начинаются проблемы.
Артур с друзьями-операми делали так: тех, кто был морально сильнее закона, а такие всегда есть, они отлавливали, вывозили в лес и пытали. Нежелающих подчиниться ни разуму закона, ни разуму их силы, приходилось уничтожать, дабы не стать уже жертвой самим. Конвейер. Мясной цех. Никаких эмоций и сомнений — только дело, только личностное, ничего личного. — Петруха! — кричал обычно Артурчик любому официанту в кабаке, высоко вздымая вверх, как штандарт, свою могучую руку. Имя-возглас сей произносился с уважением, без налёта надменности и насмешки, в искренном порыве лишь поскорее начать или продолжить весело трапезничать, посему собравшиеся за столом непременно разражались хохотом.
Восемь лет в спецколонии для бээсников под Нижним не шутка. Всё, что смогли доказать, — соучастие в убийстве. В убийстве хоть и подонка, а всё же человека, перед оскалом смерти становящегося ребёнком Божьим. И после всего этого сохранить веселость, юмор, хоть и злую, но иронию, самоиронию и эронию — за это Артура Викторовича и уважали, любили даже, помогали, но и полагались.
To Mary May
Сто путей — не предел, Сто дорог — не финал. Не ищи ничего — Обретёшь, что не ждал. Вольный ветер — в кулак, В сердце — солнца лучи. С миром гибни впотьмах, Вновь рождаясь в ночи.Мысли из никуда
Творец откровенен перед творчеством, как перед Богом.
Фофан for fun.
Эпопея у Помпея.
Твори, иначе бердяев (По Ги-Бнешь).
Чресла в кресла.
Канарея мозга.
Придёт время икать!
Обожжённая невежеством
Цвета шоколада с молоком, флегматичная, хотя и широкая душою, сибирская река. Золочёный белоснежный торт церкви, позабытый волшебником-кондитером на илистых серо-зелёных брегах. Несъедобные, поникшие от первых заморозков поганки домов-вурдалаков, обступивших храм со всех сторон. Непропорционально большая двумерная лошадь, зависшая в воздухе. Нехотя плетущаяся телега пастельных тонов, как будто вырубленная для Анхисанамун из розоватого кусмана сливочного гранита.
Каждое утро и вечер, ленно борясь с Морфеем, я наблюдал сию картину над своей кроватью. И всякий и не раз рука тянулась к кисти и палитре, чтобы закончить начатый кем-то задолго до моего взгляда пейзаж. Картина не была окончена — так мне казалось. Правый угол холста, не прикрытый массивным багетом, чернел покрытым волдырями грунтом. Масляные мазки пожелтели и взывали об обновлении.
— Пламенеющих, огненных красок не хватает этой мазне, — как-то бросил я и тут же получил от своего самого главного учителя лёгкую оплеуху в награду за свою невежественную проницательность.
Холст был завершён. Полностью. Мастерски. Настоящим Художником. Бесповоротно вписан автором в раму, а провидением в историю. Горел в пламени грешной инквизиции, когда-то богоборческой, а затем и антибогоборческой, антикоммунистической. На заднем дворе Союза художников воспылал вместе с такими же уже не нужными, как тогда показалось чьей-то холодной голове, самобытно-реалистичными произведениями. Вырванное из рамы окно в ушедший мир занялось с одного края, брошенное в пекло жадного до картин и книг костра, и лишь в последний момент, чудом избежав гибели, перекочевало ко мне в дом.
Оставленное без реставрации полотно, обгоревшее, обожженное, до сих пор тускло сияет в мир как назидание, как завет, данный точно прицелившимся случаем мне, никогда никого и ничего не обжигать, не уничтожать, не испепелять домыслами, ханжеством и невежеством, любить всё созданное рукой человеческой и Его рукою.
Я любовь обесценить хочу
Я любовь обесценить хочу, Сжечь опоры мостов вековые, Синь лазури черня на лету, Синь пера истощить на латыни, Потушить небеса и костры Да лампаду, что чудом струится, И рождая дыханьем мечты, Волшебством для тебя обратиться, Стать лампадой, опорой, костром, Воспарить небесами и вновь Раствориться в рассвете Творцом, Ты моя, — повторяя, — Л…Святой пилигрим Озимыч
Ganz’ы. Огромные механические железные монстры, черпающие песок времени и раздробленную, миллионы лет назад обратившуюся в гранит лаву кашалотными челюстями с безбортных барж, приплывающих по жёлтому Иртышу-Стиксу. Этажи карандашей вековых сосен на пирсе. Угольные, правильной формы чёрные горы окаменевшей смерти. Железные пустотелые змеи, стуча по стальным полозьям, растаскивающие в свои норы всё припасённое на крутом берегу.
Ежедневно путь мой пролегал мимо этих сотрясающих воображение эманаций человека. Может быть, поэтому не сразу привлёк меня, как показалось вначале, тщедушный, непримечательный, безымянный, сломанный образ, возведённые провидением на Голгофу обочины дороги.
Прямо напротив ворот речного порта, на голой земляной лужайке выросло однажды нечто или не что. Двухметровая многоярусная конструкция, увешанная тюками, серыми лохмотьями, полиэтиленовыми мешками, смахивала на просторную гардеробную, аристократично прикрытую туманной чернотою угасающего дня. Рулевой и по совместительству хозяин сей поклажи изредка лишь показывался из-за массивного полусамоходного дома-на-колёсах, и казалось, что двухэтажная телега сама ежедневно бредёт в поисках пристанища, увлекая за собой беспечного комивояжёра.
Воскресный день. Прощающаяся лёгким морозцем, прихватившим лужи и землю, сибирская осень. Солнце, скрашивающее отсутствие листвы красками чуть угомонившегося термоядерного ада, разворотившего в белоснежную плазму вещество недр светила. Голимая чернота космоса, проникающая через розовые очки атмосферы приятным ультрасиним цветом Клейна. Крошечная лужайка между оживлённой серой битумной дорожкой для Элли и раздвижным порталом речного порта. Табуретка, любезно подсевшая под жилистое, осанившееся тело.
Не думая о сути и деталях предстоящего, я открыл пачку сигар и неспешным шагом направился в его сторону. Небольшое деревцо. Тропинка. Перекопанная кем-то, смёрзшаяся за ночь земля, воткнутая лопата, короткий отполированный черенок; семечки в чёрной, месяц не мытой ладони; тёплый коричневого цвета полушубок и непременная двухъярусная двухколёсная бричка чуть позади.
— Здравствуйте! — сказал я негромко, протягивая сигары, и тут же увидел, как ладонь человека приоткрылась и чуть приподнялась чёрная не от загара кисть. Он ожидал не никотина — протянутой руки, рукопожатия — символа мира, добра и уважения, распахнутости сердца и помыслов, желания поговорить, а не посмеяться. Но в тот момент мне не хватило духу подать бездомному руку. Страх перед грязью телесной часто заканчивается грязью духовной — наверное, позабыл я тогда старую истину.
— Не курю, — довольно резко пробурчалось в ответ.
— Чем заняты? — слегка улыбнувшись, спросил я.
— Ем, — после небольшой паузы и отшелушивания пары чёрных семян. — Не мешай! Не люблю!
От неожиданности я чуть попятился назад, одновременно подкуривая папироску.
— Не наступай! — повышая голос и указывая перстом мне под ногу. — Это же хлеб!
— Извините, — промямлил я и, осторожно переступая через непонятные земляные холмики, пошёл прочь.
— И курить бросай! Для здоровья вредно! — донёсся уже почти растворившийся в пространстве голос атипичного странника.
Я было подумал, что не бомж это вовсе — художник, смачно бросающий краски на холст; барабанщик, колокольно бьющий на квартирниках в хэт; проворовавшийся мэр города; директор обанкротившегося речного порта; старый байкер; или Создатель, отдыхающий от реальных дел, — самый крутой, независимый и уважающий себя пилигрим во Вселенной. Хорошо бы так и было…
На обочине дороги он высаживал картофель и, постепенно выкапывая, с августа по октябрь кормился. Копаясь в подмёрзшей земле, самостийный дачник напоминал комбайнёра, всаживающего семена в зиму — озимые. Озимыч — так мы его и прозвали. Как его давно уже не погнали — загадка. Относительно серьёзная цивильная конторка — речные ворота в мегаполис и такая картина средневекового голландского польдерства в полусотне метров от фасада. Наверное, Озимыча понимали и жалели. Видели, на чём он приехал, и сознавали, что занят сельским хозяйством явно не в коммерческих целях.
Не возникло у меня к Озимычу ни чувства жалости и сострадания, ни обиды и отвращения — только уважение и гордость за этого мощного, несгибаемого человека. Уважение за сильную доброту, молчаливую честность, ментальное равенство Создателю и святость — способность в любом образе, в любом состоянии нести людям свет, заряжать энергией, наполнять уверенностью и подпитывать стержень души своим собственным примером, но не словом, своей жизнью, но не смертью.
Где ты?
Сквозь лун белёсых балюстраду, Меж нефов кшатрий неземных, Под куполами канонады, Над ворсом клёнов вековых — Везде парят мои мечты, Ища тепла. Оно ж, где ты?Проза жизни
Однажды, отведавши водки рюмашку, Не в силах я был отступить ни на шаг. И тайно украдкой без сельди под шубой Вкушал философию, тупо пьянея. Казалось, пришло моё время, и зверем Вгрызался в бутылку я лет эдак десять, Но действие спирта отнюдь эфорично — Напился, и память твоя отказала, Наутро сухарь, голова словно молот, И молодь тем молотом колет берёзу, К тому же в карманах прореха весома И пэпсам в погонах добыча халявна, Прожжённая куртка сирагой иль сигой, Потерянный паспорт, а хуже невинность. Какое там счастье?! И отдых отвратный! У бухаря жизнь ста работ посложнее!
И вот однажды, подустав От примитивных впечатлений, Решил сменить сию стезю На ТГК в зелёных листьях. Спирт не течёт струёй могучей С гор дивным чистым водопадом, А конопля растёт открыто — Бери, срывай, кури и кушай. Варил и жарил, брал седого Чрез буль, пепедку, беломорыч И духом делал реверансы За змеем даренное чудо.
Перекурил я лишь однажды. Не пожелаю то врагу я. Контролем дозы вдохновенья Враз овладел, куря по мере. Эффекты пестовал любые: Руки лишался (лишь ментально), В палатах был, в полётах дивных И скачкой мыслей наполнялся. Вхожу в портал людского улья — Вдруг на другом конце Вселенной.
Все ощущенья зелье дарит Тому, кто сам их вызывает. Коль разум беден, пуст душою — Тупняк пожалует от дури, А коли ты себе владыка — Рули змеёй, в тебя проникшей. Не думай о худом и мрачном, А мысли чисто с вдохновеньем — В ответ придёт метафор чудо, Природы звон, мечты реальность. Ганж для лентяя как удавка, Но для Творца — освобожденье. Раз в месяц воскурил — и будет, Настрой свой вниз не опуская.
Амфетамин — могучий монстр! Его в полгода раз, не боле. Он вызывает постсиндромы: Молчанку, скверну, депресуху, Но не даёт уснуть хоть сутки, Играет красками, зараза. Болтать всем хочется под speed’ом, Писать поэмы и трактаты.
Тарен — вот сволочное дело. Туда дорога мне закрыта. Сожрешь таблэту — обратишься В подобие куста иль в овощ.
Барбитураты тоже мерзость, Сознанье только обедняют, Дают расслабиться телесно, Всё вместе с мозгом вырубая.
От кокаина эйфория, Минут пятнадцать only сладость, А через час ты снова в форме. От водки видано такое? Пятнадцать минут идеального счастья, Картин вознесенья и видов небесных, Но схлынет волна и оставит лишь берег Пустой и бездумный, как лысина падре.
По гере: гутарят, то кайф для бычары. Сам ведом не ведаю, в чан не макался. По клею не в теме, и бенз я не нюхал, Хотя на заправке вкушаю с азартом.
План — чистый stone, не по мне он. Вот бошки — дело заводное. Но только всех мощней по дури — любовь, змеюка подколодна. Колбасит так, что чёрно белым В раз обращается волшебно. Прёт даже турка и больного Здоровым делает в секунду.
Все это чисто наблюденья За месяц службы в диспансере. Сам я ни-ни, даю все зубы, И глаз коня, и твист олений.
Пей лучше водку, спирт микробов Копытит с первого удара!
Кури табак — он притупляет Жор, если хочешь похудеть ты!
Wherever you want! Forever!
Remember my touches and kisses. Remember my favorite dreams, When looking at the world around you And crying but having nothing to do. Don’t break down all my illusions, My flights and my mind confusions, Emotions haul down to hell And be sure that future is well! I cry when sweet thunder is coming. I swim in the autumn breeze. I enjoy cold flakes of loving. I adore all of your whims. Just love me while this world is standing, Respect to my devil’s soul And we will hear good saying And we will hear His call! Wherever you want! Forever! Until the times will close my door. Don’t be far away whatever. You love me and be no more! Please tell me only four letters And switch all the worlds to offside. Your crazy highlights, my baby, Still live in my mind inside!Мысли из никуда
Зловонная шутка.
Проживая отпущенное.
Передача «Ищу тебя, ну где же ты…».
Заводишь новых друзей? Заводи и старых!
Принцесса огорошила.
Жизнь бьёт ключом по голове.
Мечусь в клетке плоти.
Последняя любовь
Дали ему десять лет на строгаче. Рецидивист. Безработный. Не женат. Детей, родственников нет. Обитает в ветхом кирпичном домике, вгнившем в берег болота — когда-то красивого, изогнутого змеёй озера, уничтоженного сбросами с танкового завода и возведенным вдоль некогда чистой кромки воды высоким железнодорожным валом. Десять годков. От души. Отсидел пять. Одну тысячу восемьсот двадцать шесть мрачных дней и ночей в затхлом запахе мужицких портков. Амнистировали. Туберкулёз. Домой возвращаться и не думал. Соседи, такие же горемыки, как и он, растащили уж, поди, халабуду на части. Поди теперь собери. Куда и зачем идти?
С кашлем, вырывающим рыболовной блесной кусочки лёгкого, вышел он за ворота зоны. Железное полотно огромного перекошенного рта за спиной поглотило, жадно всасывая, глоток потустороннего воздуха и серое небо псевдосвободы, как в последний путь провожая, окатило скупой слезою.
Ноги зашагали по блестящему асфальту и вскоре привели по истоптанной за сорок лет дорожке прямиком к когда-то отчему, а потом и только своему дому. Взгляд на секунду оторвался от жжёного песка под ногами и тут же остекленел.
Дом на месте. Забор хоть и покосился, а все же устоял, благодаря паре подпорок, сработанных неумелой рукой из ивовой ветви, калитка покрашена не раньше как пару лет назад, у завалинки небольшая початая поленница берёзовых дров, источающих аромат леса под лучами солнца в пору весенней капели.
Отворив калитку, пробежал он по двору, взлетел на давно уже худое родное крыльцо, дёрнул ручку входной двери, быстрым шагом миновал сени, кухню да комнаты и вошёл в зал. Всё чисто, прибрано, на столе тарелка с сухариками и бутылка водки, покрытая пустым гранёным двухсотграммовым стаканом.
— Неужели дождалась меня?! Неужели не побоялась?! Неужели это наконец она — настоящая любовь, настоящее чувство? Трижды пройдя зону, как в сказке, я наконец дождался искренности и понимания. Слава Господу! Слава!
Шаги за окном. Он привстал со стула. Послышалось, как входная дверь стукнула, возвращённая на своё место стальной пружиной. Глухой топот оросил пол, и в зал вошёл Женька. Сосед. На лице багровое сожаление.
— Извини, Коля, — и помолчав немного: — Нет никого в твоём доме уже давно…
Сели. Выпили. — Все уважают тебя, сосед. Поэтому и дом уберегли, — сказал Женька, привставая и закусывая сухарем. — А на баб не серчай. Ты силён уж слишком, брат. Всю жизнь в дерьме прожил, а не пьёшь и не материшься даже. Вон и смерти не боишься. Против троих вывез. Не из нашего мира ты. Где ж тебе сыскать жену такую же? Примирись.
С минуту лишь стук старых часов наполнял комнату жизнью.
— Не помню ничего. Всё как в тумане. Суд лентой чёрно-белой пролетел. Неужто это я всё натворил, в чём обвиняли?
Женька глубоко вздохнул.
— Ты, брат, ты… Изнасиловали они её, — Женька попятился чуть назад, — всех троих ты и положил. Нашёл. Не знаю как даже. Сумасшествие какое-то. Да положил…
Он сидел неподвижно. В шкафу слегка застучали стаканы — товарняк, проползая по насыпи, сотрясал землю, как юный бог подземелья. Чайки, жившие на озерце, говорливым белоснежным пухом уселись на старый, позеленевший мхом забор. Чёрный дым из соседской бани, больше походившей на стойло для коня, скрутило ветром в три погибели и швырнуло на оконное стекло, тут же вознеся ввысь.
— Рожденный в аду не может стать ангелом… Только сумасшедшим, — произнёс он тихо.
— Что? — спросил Женька. — Я не понял тебя, что ты имел в виду? И не дождавшись ответа, потихоньку вышел.
Идиот
И дурак, и диод, и мечтатель, Зацепившись за Кантову нить, Как балластом, увешан Сократом, Сквозь тома не могу воспарить.С аму сошедшая
Гитара и женщина могут свести с ума, особенно если они нечто единое, цельное. Еле заметные сухие мозоли на подушечках тонких пальцев, звуки бьющейся о лады непокорной витой нити, утробные стоны деки — и в слушателя, зрителя сочленение двух полностью завершённых создателем изящных изогнутых живых линий, адажио вкрадывается и приживается чужая душа — гармоничная, завораживающая, загадочная, неповторимая.
Играла она на шестиструнной отчаянно великолепно. Не звуки извлекала или рождала — жизнь в инструменте пробуждая, пленяла сим рукотворным обыденным волшебством странников, попавших в сети старых английских моряков, убаюкивая перебором, окружала острым медным боем быков, залпами взъерошенных синкоп взрывала революционный зал, нежными бардовскими баре смачивала сухие уголки глаз и душ.
Не такая, как все. Не чувствительная — чувствующая, не поникшая и приземлённая, а возвышенная, не ушедшая в себя, а живущая в единственно реальном прекрасном мире — внутреннем. Ощущала и проживала музыку просто классно, что не помешало ей отдать суровую дань психиатрической лечебнице, ещё раз доказав — не от мрака она сего. Ничего в жизни не нажив, витала в музыке и тумане безденежья, улетая поутру в рай терций и опускаясь к закату в ад материального бита.
Самоотверженно служила преподавателем детской музыкальной школы — классическая городская сумасшедшая, не замечающая своей иности, каких бродят толпы по забытым переулкам сознания. Куча мяса в черепной коробке, забитого депрессивными образами не тех и не о том, ворох проблем, долгов, старых непрочитанных книг в голове и перечитанных не раз на столе. Стройная, красивая ещё, позабывшая, что жизнь — борьба, а счастье — только лишь ремесло.
Не помню ни дня, ни времени года даже — лишь растрёпанные русые волосы, когда в распахнутую ангелом небесным входную дверь ворвался её дух и, как из доброй русской чёрной кожаной печечки, начал метать на стол всё, что есть: баночки маринованных, сытые салатницы, полные запаха тмина кулёчки, сладкие обёртки.
— Ты что, с ума сошла? — сорвалась с уст моих ушаблоненная идиома. И тут же одернув себя: — Извини, я забыла, — сказала я с улыбкой. Ни фальши обиды, ни аккорда непонимания на её лице. Только озорные складочки в уголках губ скользнули фальцетом. Ничего она никогда ни для кого не жалела. Поэтому ничего и не имела, если можно обозвать словом «ничто» титанов чувств и огня, что обитали внутри этой хрупкой женщины, атлантов гиперэмоций и страстей, вырывающихся, голосящих волнами всего лишь шести витых струн. Самый дорогой она для меня человек. Маленький Бог, отличающийся от большого только инструментом, посредством коего порождают оба в мир красоту, порождают сам мир.
Услышать затылком
Не хочется жить в глубине плей-листа, В муаре за масляной рябью картин, В цинизме морфем иль в арго седока, Лишаясь рассудка, дожив до седин, Смерть Бога в себе поделом лицезреть, Услышать затылком «Понтифик!.. Низложен!» Увидев взрыв Солнца, в огне возгореть. Не хочется, право, но кто-то ведь должен?!Мысли из никуда
Демократия — власть народа, но власть над самим собой.
Только вера в свою избранность способна являть миру чудеса творчества.
У меня нет маски — только шлем.
Шрам от слезы.
Моралью можно уничтожить физически, а физически мораль — нет.
В любви тоже нужно сказать «пожалуйста».
Человек готов умереть лишь за одну мечту — мечту жить вечно.
Питерец по любви
Не знаю, зачем я полетел в Петроград. Как не уверен, для чего вообще существую под пылающей луною. Кино, кем-то называемое жизнью, с самого утра разразилось очередной загадочной, мистической сценой, повергающей меня в действия. Случайная, казалось бы, фраза о невероятно щедрых скидках на трэвел залпом «Авроры» разорвала жаждущий интересных авантюр разум. И в тот же вечер, миновав четыре тысячи воздушных миль, я вкатился на Пушкинскую площадь — вместилище моей души и заоблачных грёз о зените славы, а вернее, Саши.
Как водится, истерев пару мозолей о гранит одухотворяющих видов, я всё же был вынужден настроиться на обратную дорогу, не слишком желанную, а посему и навевающую not fun. С тоской под ручку я и погрузился на синюю ветку подземной змеи, резво ползущей в сторону скворечника дюралевых ласточек, ревущих вепрем. Гул эмоций погружал в сон. Полутуман невских зимних образов окончательно выдавливал чувство реальности из подсознания.
Ступни гудели трансформатором высоковольтной сети метрополитена, голова обратилась колоколом Исаакия, зовущим к заутрене. Не усталость сковала меня — разум, переполненный, пресыщенный телесными, физическими ощущениями и видами роденовскими, отключил мир, меж тем духовность, дух, энергию, пьянящие флюиды впуская без искажений и преград.
Неожиданное нежное невидимое прикосновение к щеке, к сознанию — и я тут же удивлённо обернулся, но не сразу осознал, что увидел внутренним больше взором. Серые ботинки, джинсы, куртка, шапка с огромным синим смешным помпоном, невыразительное, нереальное и поэтому красивое лицо, опущенный долу взгляд и… кисти рук — вот что привлекло моё внимание в большей степени. Сама сущность России предстала предо мною в своём скромном, обыденном великолепии.
У Руси ведь женское имя, черты и… ладони. Изящные, нежные… Именно их я наблюдал и не мог оторвать взгляд от волшебного переплетения пальцев, складочек кожи, красного, совершенно не гармонирующего с нарядом лака. Заворожён — вот слово, описывающее моё состояние в то мгновение с потрясающей простотой. И только заметив смущённую улыбку незнакомки, смирил взор.
Что только не пронеслось аллюром в памяти моей: всепоглощающие мечты, уколы букетов роз любви, будущее и прошлое, предначертанное и предсказанное. Что только я не передумал за одну оставшуюся станцию. Я хотел вновь взглянуть на чудо, скромно сидевшее слева от меня, ещё раз, но сильнейшие впечатления от увиденного не позволяли мне обидеть прилюдным вниманием нежданно ниспосланного Богом ангела во плоти.
Звуки открывающихся дверей. Шаг. Ещё один. И вновь массивное чувство воззвало обернуться. Взгляд как на замедленной съёмке скользнул по синему полотну двери, стеклянному окну вагона, кожаной спинке сиденья, и… залп её глаз чуть не сбил с ног. Душ соприкосновение я ощутил и взрыв эмоций, порождающих новую Вселенную, — ничтожное, секундное, сакральное соитие миров, длившееся дольше вечности — бесконечность любви, надежды и великих свершений.
Я улетел.
А через полгода вернулся.
И нашел её…







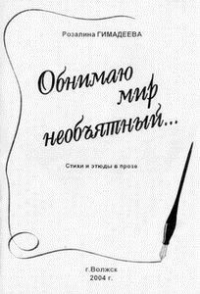
Комментарии к книге «Досье поэта-рецидивиста», Константин Корсар
Всего 0 комментариев