Ларс Свендсен Философия философии
Lars Fr. H. Svendsen
Hva er filosofi
© Universitetsforlaget, 2004
© Е. Воробьева, перевод, 2017
© Г. Ваншенкина, оформление, 2017
© Прогресс-Традиция, 2017
* * *
Что же такое философия?.. Философия стремилась постичь бытие… Но стану ли я счастливее, если постигну его?.. И что это на самом деле значит: постичь бытие?.. Что значит постичь этот вот стол? – Я крепко ухватился за столешницу и потряс ее. – Что это, черт побери, означает! – Я не могу постичь ничего, кроме собственных мыслей!…
Ханс Егер, Из жизни богемы Христиании (1885)Введение
Философствовать – значит подвергать сомнению понимание себя. Ведь философия не просто поиск мудрости, внешней по отношению к нам, это неизбежность встречи с собственным невежеством, это необходимость задавать себе неудобные вопросы, сомневаться во всем, что ты знаешь и чем являешься. Этот глубоко личный аспект философии будет служить нам путеводной нитью через всю книгу.
Я думаю, важно не забывать о причинах, по которым мы начинаем заниматься чем бы то ни было, и в том числе философией. Большинство людей приходят к изучению философии, столкнувшись с теми или иными экзистенциальными проблемами. Так было и со мной. Я был весьма растерянным подростком, которому недоставало ориентиров в этой жизни, и надеялся, что философия мне поможет. В ходе изучения моя растерянность не уменьшилась, скорее, даже наоборот, – но я втянулся в сам процесс. По неведомым причинам поиск решения философских проблем приносил мне ни с чем не сравнимое наслаждение.
Несколько лет спустя я уже зарабатывал свой хлеб философией. Но при этом я утратил кое-что важное. Постепенно философия стала приносить мне все меньше радости, превращаясь в такую же работу, как любое другое занятие. Философия стала скучной. И тут меня осенило, что проблема не в самой философии, а в том, как я над ней работаю. Я стал профессиональным философом, и этим определялись методы моей работы. Поэтому, завершив работу над докторской диссертацией, я решил оставить профессиональную философию и попытаться вернуть радость. Я решил написать книгу о преследовавшей меня скуке и, таким образом, применить философию к собственной жизни в надежде, что это покажется интересным и другим людям. Работа над книгой реабилитировала философию в моих глазах: я вспомнил об экзистенциальных предпосылках, побудивших меня выбрать эту область знаний десять лет назад.
Получая профессиональное образование, легко потерять из виду исходную причину, по которой мы вообще обратились к философии. В итоге мы превращаемся в специалистов по философии, которая никак не связана с реальным опытом, в которой нет жизни, которая занимается лишь более или менее абстрактным обсуждением проблем, интересных только узкому кругу. Эта книга выросла из идеи, что философия имеет общечеловеческое значение, и для того, чтобы оставаться актуальной в наши дни, философия должна обратиться к людям.
Когда мне предложили написать книгу о том, что такое философия, я сразу загорелся этой идеей. Над этим вопросом так или иначе размышлял каждый философ, и, скорее всего, многие хотели бы рано или поздно написать об этом. Вероятно, к подобной задаче следует подступаться, лишь имея за плечами долгие годы занятий философией. С другой стороны, в основе всякой философской деятельности, независимо от того, на какой стадии развития мы находимся, лежит тот или иной взгляд на саму сущность этой науки, и попытка изложить этот взгляд довольно очевидный шаг. Когда мне поставили условие, что книга должна иметь объем около ста страниц и быть довольно доступной по содержанию, я призадумался. Возможно ли осветить эту тему должным образом, оставаясь в заданных границах?
Эта книга не расскажет вам об истории философии от античности до наших дней, хотя некоторые отсылки к истории философии в ней, безусловно, присутствуют. Она также не является общим введением в философию, поскольку для этого пришлось бы довольно глубоко осветить в ней различные дисциплины в рамках философии – к примеру, метафизику, теорию науки, этику, эстетику и логику. Отдать должное всем этим разделам в заданных мне границах было бы просто невозможно. Скорее, «Философия философии» – это попытка достаточно сжато и доступно объяснить, что такое философия вообще и каковы ее аспекты. Отвечая на вопрос, что такое философия и какой она должна быть, я ни в коем случае не претендую на объективность. Любая метафилософия – теория о сущности философии, ее цели и возможностях – создается под влиянием определенных философских воззрений автора.
Невозможно изложить все существующие взгляды на философию в рамках одной книги, и я решил ограничиться западной философской традицией. Гегель пишет, что истоки «настоящей» философии лежат в античности. Таким образом, он исключает из спектра философских учений труды индийских мыслителей, относя их скорее к религии. Уязвимость подобной позиции состоит в том, что и в западной традиции граница между философией и религией не всегда была четкой. Вместе с тем Гегель по-своему прав. Понятие «философия» имеет греческое происхождение, и изначально оно использовалось для обозначения только одной философской традиции, сложившейся в Древней Греции. Существуют и другие философские традиции, которые роднит с западной философией стремление к обретению мудрости, но на страницах данной книги я не буду обсуждать взаимоотношения между западной и восточной философией, равно как и вопрос о том, правомерно ли применять термин «философия» за пределами западной традиции. Даже в пределах «западной философии» существует бесчисленное количество различных учений, развивающихся параллельно, сближающихся, пересекающихся и вновь расходящихся в своем развитии. Но в силу того что все они исторически происходят из античной философии, они оказываются достаточно близки, чтобы можно было отнести их к одной традиции.
Кроме того, в настоящей книге вы не найдете истории развития понятийного аппарата философии от античных времен до наших дней. И хотя я нередко буду ссылаться на различные источники по истории философии, основной акцент я делаю на современном состоянии философской науки. Тем не менее, очевидно что для ясного понимания того, чем философия является и должна являться сегодня, необходимо понимать также и то, чем она являлась прежде, поскольку в истории философии можно найти множество альтернатив сегодняшним философским методам.
И хотя я старался сделать книгу как можно более доступной, мне не удалось полностью избежать применения специальной терминологии. Пожалуй, такая книга должна служить в первую очередь картой философского ландшафта. Как и любая другая, эта карта содержит множество названий. Тому, кто немного знаком с философией – в особенности новейшей философией – большинство этих названий будут знакомы. Для прочих читателей я привожу ссылки на философские энциклопедии.
Ограниченный объем книги не позволяет подробно рассказать обо всех философских школах и традициях – франкфуртской, кембриджской и оксфордской школах, но одна из глав посвящена различию между аналитической и континентальной философией, поскольку это различие сыграло – и до сих пор играет – решающую роль в развитии современной академической философии. И хотя эта книга написана норвежским автором, в ней вы не найдете описания воззрений норвежских философов, в первую очередь потому, что отдельной философской традиции, которая бы коренным образом повлияла на понимание того, что есть философия, в Норвегии не существует. Точно так же не существует и отдельной истории норвежской философии. Нельзя сказать, чтобы Норвегия особенно выделялась на карте современного философского ландшафта, о чем мы говорили выше. Пожалуй, самой любопытной чертой норвежской философии является необыкновенно большое число профессиональных философов, что, в свою очередь, объясняется потребностью в большом количестве преподавателей для подготовки студентов к обязательному экзамену по философии, который сдают в бакалавриате и магистратуре.
В главе 1 я даю краткое изложение различных вариантов ответа на вопрос «Что такое философия?», после чего пытаюсь поразмышлять о том, почему мы начинаем заниматься философией и на каких основах покоится философская наука (глава 2). Затем я останавливаюсь на взаимоотношениях между философией и наукой (глава 3), литературой (глава 4) и историей философии (глава 5). В следующем разделе (глава 6) я рассказываю о расколе между аналитической и континентальной философией, сильно повлиявшем на современную философскую традицию. Таким образом, в первых шести главах я постепенно описываю инвентарь, которым пользуется философская наука. В оставшихся главах, которые с одной стороны более нормативны, а с другой – более субъективны, я рассказываю о том, какой должна быть современная философия с моей точки зрения. В главе 7 я обосновываю метафилософскую позицию, которую можно назвать прагматическим плюрализмом или перспективизмом. Затем я привожу аргументы за то, что философия снова должна стать любомудрием (глава 8), и показываю, в чем именно деятельность профессионального философа не соответствует этому идеалу (глава 9). И наконец, я объясняю, почему философия будет существовать всегда (глава 10).
Работая над этой книгой, я, как и всегда, получал ценные комментарии от друзей и коллег. Я многим обязан Анне Гранберг, Эйвинну Раббосу, Ингрид Углевик, Кнуту Оготнесу и Кнуту Олаву Омосу.
Глава 1. Что такое философия?
Что такое философия? На это вопрос можно дать множество ответов, и все они будут очень разными. Можно ответить описательно и дать детальное описание проблем, решением которых занимаются и занимались философы, то есть перечислить философский инвентарь. Можно обратиться к социологической науке и ответить описанием и анализом того, чем занимаются философы по роду деятельности, насколько мне известно, подобное исследование никогда не проводилось. Можно попытаться дать ответ, продемонстрировав типичное решение какого-нибудь философского вопроса. А можно ответить нормативно, то есть описать, какой должна быть философия.
Чтобы оставаться живой, философия не должна ограничивать себя рамками, в которых она существовала прежде. Кроме того, она не должна соответствовать пониманию философии, которое было принято в определенное время. Границы и методы философии всегда составляют одну из ее проблем, и они всегда открыты для пересмотра. Нет такого философского аргумента или утверждения, которое нельзя было бы оспорить. Не существует и общепринятых методов или общепринятых авторитетов, к которым мы могли бы обратиться. Абсолютно все элементы философии, включая и легитимность существования самой философской науки, могут быть подвергнуты сомнению. В платоновском диалоге «Теэтет» Сократ говорит, что главный вопрос не в том, о чем бывает знание или сколько бывает знаний, а в том, что такое знание само по себе. Как правило, философия обращена не к частностям, но к общему, она пытается ответить на вопросы вроде «Что есть предмет?» или «Что такое чувства?». Впрочем, эта нацеленность на общее нередко становилась поводом для критики. Так, Витгенштейн утверждает, что важнейшее требование к философскому исследованию – отдать должное феноменам и что самые большие сложности возникают у нас именно из-за ориентированности на общее, заставляющей нас пренебречь опытом, который можно почерпнуть из частностей. В философии ничего нельзя принимать как данность, даже сам предмет философии и ее определение. «Сущность» философии, если она вообще имеет место быть, невозможно объяснить, передать, скорее она заключается в деятельности, которая заставляет нас постоянно задаваться вопросом о ее цели и смысле.
Вопросы «Что такое математика?», «Что такое физика?», «Что такое биология?» – это не вопросы соответствующих наук. Это вообще не научные вопросы, а философские. И вопрос «Что такое философия?» – тоже философский. Таким образом, философия оказывается единственной дисциплиной, которая изучает саму себя. Каждый философ имеет какую-то метафилософскую позицию – явную или неявную, – поскольку любое философствование неизбежно строится на каких-то теоретических предпосылках. Эти предпосылки можно обсуждать на метафилософском уровне. Всякая философия содержит в себе – или, по крайней мере, подразумевает – некое понимание сущности и целей философии. Некоторые авторы редуцируют это понимание до одной-единственной характеристики – метода (к примеру, лингвистического анализа) или определенного содержания, – другие опираются на более сложную концепцию. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что явная или неявная рефлексия, присущая всякой философии, делает невозможным нейтральный ответ на вопрос о том, чем является философия и чем она должна быть.
Невозможно провести совершенно четкую границу между философией и тем, что ею не является, не причинив ущерб собственно философии. К примеру, мы не можем однозначно отделить философию от науки, с одной стороны, и искусства, с другой. Разумеется, существуют философские концепции, посвященные именно такому разграничению, однако эти концепции всегда слишком поверхностны и не вмещают всех богатств, которые может предложить философия. Порой понятие «философия» употребляется в очень узком смысле, когда определенная традиция или школа пытается присвоить его себе. Например, представитель какой-нибудь философской традиции может заявить, что философы другой традиции занимаются не «настоящей философией», а всего лишь «эмпирической психологией» или «историей идей». Ни одно сжатое определение не способно охватить все многообразие философии. Конечно, можно потрудиться и составить такое широкое определение, которое включит в себя все возможные варианты, но подобное определение окажется бесполезным, поскольку под него будут подпадать любые – хоть сколько-нибудь общие – попытки понять мир. Чуть точнее можно охарактеризовать философию как мышление о мышлении, то есть осмысление собственного восприятия. Но и это определение нельзя назвать удачным, поскольку многие философские учения описывают далеко не только наше восприятие различных феноменов, но и сами эти феномены.
Слово «философия» происходит от греческого φιλοσοφία – любовь к знанию, к мудрости. Таким образом, философ – любитель мудрости. Пифагор утверждал, что в то время, как обычные люди думают о преходящих удовольствиях и житейских тяготах, философ стремится к истине. Но ведь есть и другие люди, помимо философов, которые занимаются поиском истины: к примеру, журналисты или следователи. Истина как таковая оказывается слишком размытым критерием. Может быть, у философов и журналистов истина разная? Принято считать, что философ занят поиском «глубинной» истины, вечной и неизменной. Как тогда быть тем, кто не верит в вечные и неизменные истины и скептически настроен относительно «глубины», поскольку стремление к «глубине» явно говорит о пренебрежении поверхностным. Разве такие люди не могут быть философами? И как же Ричард Рорти, который считает, что истина вообще не является значимым аспектом философской деятельности, и чрезмерное стремление к истине скорее вредно, поскольку отвлекает наше внимание от более важных вопросов – к примеру, развития межличностной солидарности? Стоит упомянуть и Стивена Стича, который утверждал, что, если у человека сформировано ясное представление о предмете, истинность отдельных утверждений его уже не особенно волнует. Едва ли мы вправе утверждать, что Рорти и Стич не заслуживают называться философами исключительно из-за своих взглядов на ценность истины. Другими словами, мы не можем определить философию как особое отношение к истине.
Традиционно философские утверждения должны обладать двумя качествами: универсальностью и необходимостью. Универсальность означает, что они должны быть верны не только для одного человека, но для каждого человека. Необходимость здесь понимается как противоположность случайности: все происходит, согласно данному утверждению, не случайно, а потому, что должно произойти именно так. Однако со временем многие начали сомневаться, что в мире вообще существует что-либо, соответствующее этим двум критериями. Так что теперь требование к философским утверждениям только одно: они должны быть в некотором смысле фундаментальны. Многие философы пытались ответить на вопрос о том, что в мире наиболее фундаментально, и ответы были самыми разными – от «атомов» до «Бога». Нашлись и те, кто утверждал, что мы никогда не сможем получить достоверные знания о самом фундаментальном явлении, что бы это ни было, и даже не сможем узнать, существует ли вообще такое явление. Тем не менее отрицание возможности познания самого фундаментального явления и даже существования такового, само по себе фундаментальное утверждение, поскольку в нем задаются непреложные границы человеческого познания.
Существует ли вообще такая вещь, как строго философский вопрос? Всякий вопрос – это вопрос о чем-то, и философский вопрос тоже должен быть о чем-то. Но это что-то подразумевает некий предмет, и нам, таким образом, необходимо определиться с предметом философии, если таковой у нее имеется. Предмет философии – это все и ничего. Философия занимается формированием представления о мире и наших знаниях. Можно было бы возразить, что такова роль науки, но наука никогда не давала нам чего-то подобного, и чем дальше, тем меньше способна его дать, поскольку научные дисциплины становятся все более узкими и специализированными. Разумеется, существуют ученые (и некоторые философы), которые пытаются вывести «теорию всего», но, как правило, такие теории служат лишь иллюстрацией провала, который ожидает любого эмпирика, попытавшегося подчинить себе метафизику.
С начала развития философии и вплоть до середины прошлого столетия одной из главных дисциплин философии была космология (хотя статус ее менялся с течением времени), которая, в частности, решала вопрос о фундаментальной структуре бытия. Однако сегодня космология как «теория всего» практически исчезла с карты философского ландшафта. И если сегодня кто-то и предложит «теорию всего», скорее всего, это будет адепт естественных наук, а не философии. Как правило, философы встречают подобные теории с большим скепсисом, который объясняется тем, что эти «теории всего» чаще всего страдают редукционизмом и чрезмерно упрощают ту область действительности, которую они якобы пытаются объяснить. Поскольку философия должна дать нам целостное представление о мире и наших знаниях, можно утверждать, что предметом философии является всё. Не существует ограничений на те предметы и проблемы, которые могут оказаться релевантными для философа. С одной стороны, философия занимается исследованием самых общих вопросов, какие только можно вообразить. Аристотель задавался вопросом, каковы признаки «сущего», иначе говоря – что такое вещь. С другой стороны, тот же Аристотель обсуждал множество других вещей – от лягушек до пьянства, ударяясь тем самым в противоположную крайность. Едва ли можно провести четкую границу, которая отделяет предметы, относящиеся к области философии, от предметов, которые однозначно к ней не относятся.
Вместе с тем справедливо будет утверждать, что зачастую философия вообще не имеет никакого предмета, а скорее занимается размышлениями о предметах. Другими словами, предметом философии может быть все что угодно, а потому попытка дать определение философии через ее предмет начисто лишена смысла. Поэтому существует мнение, что определяющим для философии служит не предмет, а метод. Но в философии используется такое разнообразие методов – в том числе логический анализ, диалектика, герменевтика, деконструкция, – что и здесь не удается достичь полного согласия. Мы опять зашли в тупик.
В ходе истории термин «философия» употреблялся применительно к различным видам интеллектуальной деятельности. В античные времена не существовало четкой границы между философией и наукой, но постепенно происходит выделение различных областей науки – сначала астрономии, физики и химии, затем психологии и социологии. Тем самым область философии постепенно сужалась, поскольку многие ее участки отходили вновь возникающим наукам. С другой стороны, в наши дни слово «философия» применяется без всякого разбора: каждое уважающее себя предприятие должно иметь собственную «философию», под которой подразумевается та или иная управленческая практика. Если вы зайдете на интернет-страницу , вы обнаружите, что это сайт косметической марки. А сайт окажется в каком-то смысле «философским», поскольку он посвящен одной из форм современного движения New Age, не имеющего, впрочем, ничего общего с профессиональной философией. Ни один профессиональный философ не согласится, что в его деятельности есть что-нибудь общее с упомянутой маркой косметики или движением New Age. Звание философа не защищено никакими квалификационными требованиями, в отличие, к примеру, от звания психолога, так что философом может назваться всякий, кому придет в голову. Дональд Джадд однажды сказал: «Если кто-нибудь называет это искусством, значит, это искусство». Пожалуй, то же можно сказать и о философии: если некую деятельность называют философией, значит, так оно и есть. Мы хотели бы знать, что делает философию философией и что общего у всех видов деятельности, носящих такое название.
Здесь велико искушение прибегнуть к формальному определению искусства, которое существует в теории искусств. Эта теория была разработана Артуром Данто и Джорджем Дики и в общих чертах сводится к тому, что искусство – это продукт человеческой деятельности, которому приписан статус произведения искусства людьми, уполномоченными высказываться от имени определенного круга организаций из мира искусства. Применительно к философии получается, что философским может считаться такое произведение, которое назвали философским люди, уполномоченные на это определенными философскими организациями. В таком случае я, будучи научным сотрудником философского факультета при университете, мог бы решать, что является философией, а что нет. Но такое решение меня не устраивает, поскольку оно является чисто внешним, никак не связанным со свойствами, содержанием и формой самого объекта. В том, чтобы представители определенных учреждений могли по собственной воле присваивать чему-либо статус философии, мне видится слишком много произвола и слишком мало обоснованности. Должны быть какие-то критерии. Каковы же они?
Вопрос «Что такое философия?», судя по всему, основан на потребности провести границу между философией и не-философией. Он говорит о желании выделить необходимые и достаточные условия для того, чтобы с полным правом называть что-либо философией. Тогда можно было бы говорить о том, что некое учение или утверждение является философским тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет критериями Х, Y и Z. Но едва ли можно найти такие критерии, с которыми все однозначно согласятся. Не существует одного или нескольких четких критериев, проводящих границу между философией и тем, что ею не является. Пожалуй, это и к лучшему.
Витгенштейн утверждает, что философа делает философом отсутствие членства в каком-либо «идейном кружке». Но в таком случае философов вообще не существует! Каждый философ принадлежит к какой-либо школе или как минимум традиции. Большая часть философской деятельности происходит в «рамках нормальной науки», пользуясь выражением Томаса Куна, или парадигмы. Парадигма ограничивает нас в выборе теоретических вариантов, сама по себе не являясь предметом для дискуссий. Парадигма очерчивает круг допущений, которые считаются верными, проблем, которые релевантны для изучения, и методов, которыми можно пользоваться в работе. Для «нормальной науки» характерно не ставить под сомнение парадигму, а принимать ее как данность, работать в ее рамках, развивать и уточнять ее. По большому счету именно так работают и философы, так что каждый философ в некотором смысле является членом «идейного кружка». Абсолютно самостоятельных мыслителей не существует, не был таким и сам Витгенштейн.
С другой стороны, в его утверждении есть зерно истины. Физик, работающий исключительно в рамках нормальной науки, вовсе не подвергая сомнению саму парадигму, может при этом быть блестящим физиком. А вот философ, который никогда не сомневается в своей парадигме – и не выходит, таким образом, за ее рамки, – не может быть по-настоящему хорошим философом. В рамках философии действует принцип постоянной самокритики, и благодаря ему невозможно одновременно быть настоящим философом и полностью подчинить свое мышление какой-то одной философской школе. Философия – это деятельность, а не набор догм, методов или истин, которые можно усвоить раз и навсегда.
Глава 2. Основание философии
Потребность в цельной картине
Мы подчиняемся интеллектуальному стремлению – возможно, даже потребности – иметь цельную картину бытия. Откуда возникает такая потребность? Причина в том, что в попытке прожить свою жизнь как можно лучше мы сталкиваемся с некоторыми проблемами. Какие цели ставить перед собой в жизни? Как найти смысл в цепочке происходящих с нами событий? Существует ли вообще какая-то осмысленная, цельная картина бытия, в которой мы должны занять свое место? Эпиктет утверждал, что причиной возникновения философии послужило осознание человеком своей слабости и неполноценности. Человеческая жизнь хрупка: смерть, несчастные случаи, разрыв отношений с другими людьми, ущерб, наносимый окружающим нашими собственными действиями, – как со всем этим жить? Мы не можем избежать этих вещей, не можем никак не оценивать их, ведь быть человеком – значит неизбежно оценивать себя. Вопрос, который запускает цепочку философских размышлений, часто носит экзистенциальный характер: В чем смысл жизни? Кто я? Этот вопрос может касаться и нашего познания: Что есть истина? Что я могу познать? Он может быть из области этики. Чем отличается добро от зла? Каковы границы моей этической ответственности за других людей? Этот вопрос может проистекать из интереса к устройству окружающего мира: бесконечна ли Вселенная или же ограничена во времени и пространстве? Может ли свобода воли существовать в мире, где действуют законы физики? Все люди имеют какое-то мнение по этим вопросам, даже если никогда не формулировали ответы. Философия – это попытка ответить на фундаментальные вопросы о самых общих свойствах действительности, о смысле человеческого опыта и нашем месте в мире, а также увязать все ответы в единую картину в надежде, что целое окажется не просто суммой своих частей.
Мы проживаем свою жизнь, опираясь на горстку расхожих мнений, привычек и предпочтений. Значительная часть этого набора усвоена нами от других. Прежде чем сформировать собственное представление о мире, мы впитываем чужие. Над большинством из них мы никогда не задумываемся – просто принимаем как данность. Но можно попытаться выяснить, каким образом некоторые из этих усвоенных представлений связаны с другими, какие из них выдержат проверку, а какие нет. Для этого придется начать думать самостоятельно. В основе философии, как я ее понимаю, лежит одна идея, выраженная в кантовском описании просветительской мысли как императива, заставляющего нас использовать собственный разум для преодоления своей беспомощности, в которой мы сами же и виноваты. Это не означает, что я отрицаю все, что говорили другие философы, – сам Кант построил свою философию в диалоге с предшествующими и современными ему философами, – но говорит о том, что я сам несу ответственность за свое понимание добра и зла и свои размышления. Человек должен сам прокладывать свой путь в познании и не признавать никаких авторитетов, кроме собственного разума. Философия поощряет нас постоянно сомневаться и задавать вопросы: кто мы есть, как мы живем, что есть истина, что есть добро и т. д. Мы должны сами задать эти вопросы и сами найти ответы, не перекладывая эту задачу на третьих лиц, пусть даже самых авторитетных. А потом мы должны поставить под сомнение найденные ответы, равно как и сами вопросы. Философия не приносит удовлетворения: мы постоянно заходим в тупик, бродим кругами, и нередко оказывается, что мы потратили годы, чтобы пройти путь, который никуда не ведет. Но мы продолжаем заниматься ею в надежде достичь большей ясности, найти наконец объяснение.
Большинство людей связывают философию с именами определенных философов – так, мы говорим о философии Платона или философии Ницше. Это не лишено смысла, поскольку отдельные личности оказывали сильное влияние на развитие философии в целом. Вместе с тем философия не сводится к изучению идей ряда более или менее канонизированных мыслителей – в ней есть элемент индивидуальности, ведь каждый из нас пытается найти собственные ответы. Мы сами берем на себя ответственность за свои размышления. Ницше пишет, что в конечном счете всякая философия есть не что иное, как исповедь сочинителя. Иоганн Готлиб Фихте подчеркивал индивидуальный элемент в философии, говоря, что философские убеждения человека тесно связаны с его личностью. Новалис не ограничивался и этим, утверждая, что каждый человек должен развить собственную философию. Пожалуй, он немного перегнул палку, ведь немногие из нас сподобятся создать систему взглядов, которую можно было бы со всей ответственностью назвать «собственной философией». Тем не менее Новалис указывает на одну важную вещь: философия должна быть индивидуальной. С моей точки зрения, философия заключается в первую очередь в саморефлексии. И, как отмечает Витгенштейн, философия – это прежде всего работа над собой, над своими представлениями и методами.
Основа философии
В диалоге «Теэтет» Платон утверждает, что в основе философии лежит изумление, Аристотель в «Метафизике» пишет, что людей побуждает философствовать удивление. А вот я бы сказал, что основа философии – замешательство. Вариант, предложенный Платоном, стал расхожей истиной, и зачастую складывается впечатление, что философия в том и состоит, чтобы изумляться. Но вы не станете выдающимся философом только оттого, что будете изумляться по каждому поводу. Изумление – или удивление, или отчаяние, или замешательство, раз уж на то пошло, – запускает философский процесс, но затем неизбежно встает вопрос, как двигаться дальше. Довольно-таки очевидно, что в конечном счете философ снова оказывается в состоянии изумления, удивления и т. п., но справедливо ожидать, что по дороге от одного изумления к другому он сумел сделать какие-то открытия.
Уильям Джеймс утверждает, что философия смотрит на знакомое как на нечто неизвестное, а на неизвестное – как на знакомое. Философствовать – значит в том числе пытаться ломать привычные шаблоны мышления и посмотреть на вещи по-новому. Еще Цицерон говорил, что не существует настолько абсурдной идеи, которая не приходила бы в голову какому-нибудь философу. Это обусловлено, в частности, слабостью, которую философия питает к радикальным решениям. Если чувства могут обманывать нас, наш ответ – сомневаться во всем! Если всеобщая и объективная мораль не существует, мы будем считать любые моральные нормы относительными. Если существование человеческого сознания противоречит материалистическим воззрениям, мы объявим сознание иллюзией. Подобные радикальные решения едва ли можно назвать практичными, но они показывают нам другую точку зрения. Главное – не принять полет фантазии за действительность.
Бертран Рассел писал, что сила философии в том, чтобы начать с чего-то столь очевидного, что об этом и говорить не стоит, и прийти к чему-то настолько парадоксальному, что этому никто не поверит. Очень заманчивая мысль, но она во всем противоречит моему опыту философствования, в ходе которого я скорее начинал с чего-то настолько сложного, что неясно, как подступиться, и пытался разобраться в этом достаточно, для того чтобы двигаться дальше. С этой точки зрения философия представляет собой продвижение от сложного к скучному. Ведь когда мы поняли какое-то явление – или нам просто показалось, что мы его поняли, – оно обычно предстает довольно банальным. Правда, позднее чаще всего оказывается, что мы что-то недопоняли, и тема снова становится увлекательной. Либо мы переходим к следующей теме и пытаемся перевести ее из разряда непонятных в разряд тривиальных.
Витгенштейн пишет: «Философская проблема имеет вид: “Я не знаю, как из этого выбраться”». Вот и Хайдеггер описывает философию как тягу повсюду быть дома. Таким образом, философская проблема – это своего рода потеря ориентации, которая вызывает дискомфорт. Все начинается с ощущений, возникающих у нас в ответ на бытие. У истоков всякого философствования лежит личный опыт. А философия тогда является размышлением о смысле полученного опыта. Философия получает материал для работы и обоснование своей деятельности в том, что пережито. Это очень важно, поскольку означает, что, для того чтобы оставаться оправданным, философское размышление должно сохранять связь с опытом, давшим ему толчок. Трудность в том, что нередко мы, начиная размышлять, теряем из виду конкретный опыт и углубляемся во все более оторванные от реальности теоретические построения, со временем начинающие жить собственной, абстрактной жизнью. В результате мы имеем философию, не подкрепленную реальным опытом, и, с моей точки зрения, этой философии не хватает главного – связи со своей основой.
Здесь может возникнуть желание возразить, что источником философии служат прежде всего книги. Но любой человек, даже тот, кто не прочел в жизни ни одной книги, время от времени задумывается над философскими вопросами. Большинство из нас помнит, как, будучи детьми, мы впервые столкнулись с философской проблемой. Я, к примеру, сидел и размышлял, какой из органов чувств для меня важнее. Что было бы хуже – потерять зрение или слух? Сначала я закрыл глаза, потом открыл их, потом заткнул пальцами уши. Насколько пострадали бы мои взаимоотношения с миром, если бы я лишился одного из этих чувств? И каково было бы иметь одно-единственное чувство – к примеру, только обоняние, каким бы явился мне мир тогда? Некоторое время спустя я углубился в более абстрактные размышления. Я помню, как содрогнулся от мысли о том, что, возможно, все дорогие мне люди, моя семья, существуют лишь в моем воображении, во сне, и однажды я проснусь в полном одиночестве. Откуда мне знать, что они действительно существуют, что я их не выдумал? Думать об этом было неприятно. Разумеется, никакого удовлетворительного ответа я не нашел, но со временем я научился игнорировать сам вопрос. Впрочем, вскоре я задумался о смерти, и здесь справился не лучше. Сейчас я думаю, что мы часто приписываем детским высказываниям гораздо более глубокие и сложные философские смыслы, чем в них заложены, поскольку, очевидно, есть разница между предположением ребенка о том, что мир ему всего лишь снится, и аналогичными рассуждениями Декарта. С другой стороны, мы должны признать, что первые ростки философии появляются в наших умах в довольно раннем возрасте. Философия вырастает из нашего отношения к окружающему миру, другим людям и, в конце концов, к самим себе. История философии – это история человеческих попыток решить эти вопросы всеми возможными способами.
В своем знаменитом седьмом письме Платон пишет, что знание, к которому стремится философ, не найти в книгах, оно возникает в результате долгого учения, как искра в душе. Особенность философии в том, что ее невозможно сформулировать словами, как другие науки. Я не вполне согласен с тем, как Платон приравнивает философию к мистическому переживанию, а кроме того, я убежден, что всякое знание, не только философское, имеет такой недискурсивный, невыразимый аспект. Тем не менее, Платон высказывает очень важную мысль, а именно – что философия связана не только с полученными знаниями, но и с опытом. В том числе с опытом размышления, который преображает человека. Эта идея находит выражение в метафоре пещеры, в которой фигурирует пайдейя, или образование. Размышления оказывают влияние на личность человека, они делают его лучше. Понимание истинной природы вещей меняет человека, и Платон говорит, что пленник, который «увидел свет», уже не сможет спокойно жить, вернувшись в пещеру. Ему будет трудно видеть в темноте, а если он расскажет другим пленникам, что видел, и попытается их освободить, они воспротивятся ему. Чтобы познать Истину и Добро, человек должен пройти путь познания. Метафизические размышления Платона порождены отнюдь не теоретическим интересом. Он хочет дать людям лучшую жизнь и убежден, что необходимым условием для этого является знание.
Цель – пребывать в мире осознанно. Думаю, именно это имеет в виду Новалис, описывая философию как ностальгию. Философия не чужда обычным людям: все мы так или иначе задумываемся над философскими вопросами. Человек – существо метафизическое. Кант считал метафизику естественной предрасположенностью человека. Для Канта наша склонность к метафизике столь же непреложна, как наше дыхание и чувственный опыт. Метафизику придумали не философы, она предшествовала философии, и задача философии – дать критический обзор этой метафизики, чтобы уберечь нас от иллюзий. Эти иллюзии тоже естественны, в том смысле, в каком естественны болезни, и Кант называет критическую философию лекарством от болезни разума, которая отравляет наше существо. Некоторые философы – к примеру, Платон и Спиноза – утверждали, что философия предназначена лишь для избранных. Кант же, напротив, считает, что философия открыта для всех, что сама идея философии демократична. В философии буквально каждый человек может сформировать свое мнение, и большинство мнений заслуживают серьезного рассмотрения. Велика вероятность, что они будут опровергнуты, но для этого нужны рациональные аргументы. В точных науках все обстоит иначе – профессиональному физику не требуется всерьез рассматривать мнение профана о строении элементарных частиц или другой физической проблеме. В философии это неизбежно. Философией пропитаны наш язык, политика, все наши поступки – другими словами, любая человеческая деятельность. Все философствуют, хотя и не все это осознают. И тем не менее философия часто кажется нам чуждой. Одна из причин состоит в том, что современная философия достигла достаточно высокого уровня абстракции и вдобавок может быть сложна для понимания. Другая причина заключается в полной перестройке мышления, которую нередко вызывает философия. Дело не только в пополнении своих знаний новыми фактами, но и в том, чтобы найти в себе мужество усомниться в базовых предпосылках, на которых строится наше понимание мира и самих себя. Мы должны просто-напросто научиться мыслить иначе – и на принятие философского стиля мышления может уйти немало лет. С этой точки зрения философия действительно оказывается чужеродной, потому что ее нельзя просто встроить в привычный образ мышления, который она как раз и подрывает. И если, к примеру, Платон, Кант или Гегель не кажутся поначалу непонятными – и не остаются непонятными еще очень долго после начала изучения, – то вы, судя по всему, просто ничего не поняли в их философии. Великая философия дает возможность посмотреть на мир под совершенно новым углом, и в этом она сродни великому искусству.
Разделы философии
В попытках понять бытие философы, принадлежащие к различным дисциплинам в рамках философской науки, пользуются различными инструментами и применяют их к различным явлениям. Традиционно к философии относят следующие пять дисциплин: (1) метафизика, или онтология: учение о том, что есть бытие, каковы наиболее фундаментальные свойства реальности; (2) эпистемология: учение о знании; (3) этика: учение о морали; (4) эстетика: учение о красоте и сущности искусства и (5) логика: учение о принципах правильного мышления. Помимо этих пяти, существует еще целый ряд других дисциплин, и некоторые из них по большому счету можно считать подразделами названных выше, а другие трудно отнести к какой-либо категории. Вот лишь часть из них: философия науки, философия языка, философия сознания, философия права, политическая философия, социальная философия, философия религии, философская антропология, феминистская философия, экофилософия и экзистенциальная философия. Этот список можно продолжать до бесконечности, так как трудно представить себе тему, которая не могла бы стать предметом для философствования. Границы между различными дисциплинами зачастую размыты. Логика является неотъемлемым элементом любой философской дисциплины, поскольку с ее помощью проверяется легитимность любых философских аргументов. С другой стороны, сама логика покоится на предпосылках из области метафизики. Также метафизика распространяется на область этики, поскольку она необходима для рассуждений о свободе воли и тому подобных вещах.
Можно ли сказать, что некоторые из этих дисциплин важнее других? Традиционно считалось – и до сих пор считается, – что философские дисциплины подчиняются иерархии, и наиболее фундаментальная из них главенствует над другими и считается «первой философией». Этот статус долгое время принадлежал метафизике, или онтологии. Однако в наше время ведущую роль играет эпистемология, иногда вкупе с логикой. Бертран Рассел утверждал, что логика лежит в основе философии, а не так давно китайский философ, математик и логик Хао Ванг привел новые аргументы в пользу того, что самой фундаментальной дисциплиной философии является именно логика. Необычную позицию занимает французский философ Эммануэль Левинас, утверждающий, что первой философией следует считать этику. Его утверждение базируется на идее, что в философской традиции всегда отдавалось предпочтение обезличенному представлению сущего в разуме, и тем самым полностью игнорировалось само сущее, несводимое к чему бы то ни было. С точки зрения Левинаса, самым фундаментальным опытом человека является его отношение к Другому, а поскольку в основе этого отношения лежит этика, значит, она и должна быть первой философией. Сам я придерживаюсь мнения, что никакой первой философии не существует, в том смысле, что не существует чего-то универсального, стоящего выше различных философских взглядов на мир. Я не считаю одни философские дисциплины более фундаментальными или важными, чем другие. Поэтому я отказываюсь от иерархического представления разделов философии, но считаю их равноценными, поскольку каждый из них может быть в той или иной степени применим при описании отдельных явлений.
Философские «данные»
Михаэль Тойниссен предложил считать метафизику не первой, а последней философией, поскольку она не предлагает «первичного толкования» мира, а скорее развивается после предложенных толкований – к примеру, научных – и пытается рационально определить истинность или ложность этих толкований. Философия вообще возникает только после того, как мы собрали данные в других научных областях. Не существует никаких «философских лабораторий» и соответствующих баз данных, которые имеются в других науках. Мы не проверяем философские теории путем наблюдения. Причина заключается в том, что философские теории, как правило, нейтральны по отношению к наблюдаемым явлениям. Разумеется, каждый философ отталкивается от того, что может наблюдать, но, в отличие от естествознания, философия существует в райских условиях доступности всех необходимых доказательств. И поскольку философия не относится к позитивным наукам, ее утверждения невозможно подвергнуть непосредственной проверке реальностью. Философия развивается не путем накопления эмпирических данных в новых областях, а скорее путем размышления над тем, что мы уже знаем. Чаще всего философские разногласия касаются не «фактов», хотя и тут возможны варианты. Разногласия возникают не вследствие того, что философские теории основываются на различных фактах, а вследствие того, что фактам придается очень различное значение. Два противника на философском поле могут оперировать одними и теми же фактами, толкуя их по-разному. Если взять какой-нибудь классический философский вопрос, к примеру, вопрос о возможности свободной воли, мы едва ли приблизимся к ответу, совершая дополнительные наблюдения. То же касается и известного вопроса существует ли реальный материальный мир за пределами нашего сознания: идеалист и реалист не имеют разногласий относительно того, что мы можем наблюдать, но они склонны объяснять это по-разному. Философы не согласны друг с другом по поводу того, какие доказательства следует считать решающими, какие критерии должны лежать в основе выбора решающих доказательств. И хотя мы принимаем к рассмотрению различные виды «данных», нам придется выбирать, какие из них считать более весомыми, если они противоречат друг другу. Многие современные философы, особенно представители англо-американской традиции, отдают однозначный приоритет науке. Другие утверждают, что научные объяснения имеют смысл лишь постольку, поскольку они подтверждают наш повседневный опыт.
Итак, с какими же «данными» имеет дело философия? В общей сложности их можно разделить на четыре категории: (1) повседневный опыт, (2) общепринятые убеждения, (3) сохранившиеся в культуре или искусстве представления прошлого, (4) научные теории и факты. Между этими четырьмя категориями не существует жестких границ. Возьмем, к примеру, представление о гелиоцентрической системе мира. Это (2) общепринятое представление, которое (3) сохранилось в нашей культуре и (4) является научным фактом. Впрочем, оно противоречит (1) нашему повседневному опыту, поскольку для нас все выглядит так, как будто это солнце движется по небу. Получается, что философские «данные» могут противоречить друг другу, и не всегда легко определить, на какие из них следует полагаться. Бывает и так, что друг другу противоречат данные из одной категории. Я склонен утверждать, что именно противоречия и составляют основу философии. Мы начинаем философствовать, оказавшись перед лицом неразрешимого конфликта между различными представлениями, которые одновременно кажутся нам истинными, но при этом несовместимы друг с другом. К примеру, Кант использовал такие противоречия как предпосылки для собственной философии – так называемые антиномии. Примером такой антиномии является противоречие между убеждением, что все в мире подчиняется законам природы, и верой в свободу воли. Кант считал, что разрешение этих антиномий было прямым свидетельством, что его философия верна. Аристотель посвятил третью книгу «Метафизики» подобным противоречиям. Именно такие нестыковки в наших представлениях запускают цепочку философских размышлений, поскольку они фрустрируют нас и вызывают потерю ориентации.
Даже самые укорененные из наших представлений могут быть поставлены под сомнение. Это делается не для того, чтобы нарушить доверие к этим представлениям, – в случае, если они не пройдут проверку, – но для того, чтобы получить весомые основания для доверия. В этом случае мы слегка отстраняемся от того, что ранее принимали как данность, и признаем, что некоторые утверждения не обязательно верны просто потому, что мы считаем их верными. Впрочем, такое сомнение не может быть тотальным. Сомнение возможно лишь при условии, что мы считаем истинным нечто другое. Тем не менее порой нам приходится отказываться от самых фундаментальных представлений. Проблема заключается в том, что интуитивные представления могут быть очень различными, и философия в значительной мере состоит из споров о том, чьи интуитивные представления наиболее интуитивны. А разрешить этот вопрос однозначно не так уж просто. Наша интуиция может подводить нас, как и наши органы чувств. Но подобно тому, как мы все равно вынуждены полагаться на свой чувственный опыт, мы вынуждены полагаться и на интуитивные представления. Без них мы не можем заниматься философией, поэтому нам приходится принимать их на веру. Некоторые интуитивные представления можно отбросить, но нельзя отбросить их все. А «глубоким» интуитивным прозрениям мы придаем большой вес: если мы получаем результат, который идет вразрез с нашими фундаментальными интуитивными представлениями, мы решаем, что этот результат ошибочен. И нужно все начинать сначала. Если вам казалось, что философы могут развивать теории, следуя только своему вдохновению, я вынужден вас разочаровать.
Философия как критика
Из-за узкой специализации большинство сегодняшних профессиональных философов гораздо более ограничены в развитии «увлекательных» метафизических теорий, чем представители естественных наук. Философы видели обрушение слишком многих метафизических замков, чтобы без опаски предаваться метафизическим рассуждениям. Мы не можем запретить кому бы то ни было – в том числе и философу – развивать метафизические теории, но мне кажется, что эта задача второстепенна по отношению к критической функции философии. Когда Кант называет свои философские труды «критикой», он не подразумевает тех негативных коннотаций, которыми это слово сопровождается в наши дни. Этимологически слово «критика» восходит к греческому κριτική – «искусство разбирать, судить, упорядочивать, исследовать». Критика – это не только доказательство отдельных утверждений, но и практика, призванная упорядочивать мышление и действие, отделять здоровое от нездорового. Критика – это бесконечный процесс, в котором разум постоянно участвует в разрешении новых противоречий.
Философские вопросы встают тогда, когда в наших понятиях возникает путаница, когда идеи входят в противоречие, когда в нашем уме сталкиваются несовместимые мысли, обойти которые никак не получается, и мы больше не знаем, как нам относиться к самим себе и к миру. Нам требуется навести ясность в своем уме и языке. У нас есть веские основания полагать, что абсолютно все, что происходит в мире, имеет причину, но нередко, запутавшись в терминах, мы говорим, что у всего есть основание, а это уже другая история. Размышляя о мире – а этим занимается каждый человек, – мы нередко попадаем в ловушку собственного языка. Витгенштейн отмечал, что нас часто вводят в заблуждение картины, встроенные в наш язык. С его точки зрения, задача философии состоит в обнажении этих «грамматических фикций» и демонстрации их беспочвенности. Вместе с тем такая форма философии может разочаровать того, кто ищет в философии «глубоких» откровений.
Глава 3. Философия и наука
Философия традиционно была тесно связана с религией, искусством и наукой. В конечном счете все эти дисциплины сводятся к стремлению познать мир и поместить человеческую жизнь в какой-то более широкий контекст. В нас заложена такая потребность. Самые спорные и неоднозначные понятия в нашем лексиконе связаны не с упорядочиванием отдельных фрагментов опыта, но с описанием всего опыта как единого целого. Основным инструментом для создания такой целостной картины всегда была – а во многих частях света и по сей день остается – религия, однако в современном западном мире эту роль приняла на себя наука. Некоторым направлениям философии удалось сформировать целые культуры и определить мировоззрение отдельных народов. В качестве примера можно привести античный стоицизм. Однако приходится признать, что в целом эту роль вплоть до настоящего времени играла религия, а теперь она отдана науке.
Философия как прародитель науки
Знание существовало до возникновения философии, а после ее возникновения продолжало развиваться и за ее пределами. Но наука – методический поиск доказуемых и точных знаний о мире – это философский проект, сформированный философскими школами античности, прежде всего платоновской Академией и аристотелевским Ликеем. С исторической точки зрения философия может считаться прародителем всех научных дисциплин. Древнегреческие философы изучали самые разные темы и объекты, и вся их деятельность считалась «философией». Сколько-то заметное разделение между философией и наукой наметилось лишь в середине XVII века, и тогда же между ними началось соперничество, в котором наука поразительно быстро одержала верх. Разрыв между философией и наукой был следствием взрывообразного развития научных дисциплин в эпоху научной революции. Наука существовала и до этого, в Античности и Средневековье, когда аристотелевские теории обладали большим авторитетом, однако в те времена наука считалась всего лишь разделом философии. То, что мы сегодня называем естествознанием, тогда было философией природы, или натуральной философией.
Тем удивительнее, как быстро произошел разрыв. Еще Декарт, живший в середине XVII века, не проводил никакого различия между философией и наукой. Современники считали его продолжателем научных исследований Галилео Галилея, но потомки отнесли его скорее к философам, нежели к ученым. Хотя для самого Декарта, повторюсь, никакой разницы не было. Несколько десятилетий спустя Лейбниц и Ньютон оказались по разные стороны казавшейся непреодолимой пропасти, которая разделила науку и философию, несмотря на то что Лейбниц считал себя ученым, а Ньютон – философом, что отражено в названии его самого известного труда «Математические начала натуральной философии» (1687). Впоследствии многие философы внесли важный вклад в науку: к примеру, Кант прославился как физик еще до того, как разработал свою философию, но к тому времени различие между этими двумя видами деятельности уже стало общепризнанным.
В эпоху Просвещения философия и наука заключили союз в борьбе за рациональный взгляд на мир, который должен был прийти на смену суевериями и предрассудкам, и выступили единым фронтом против религии. Впрочем, один из союзников оказался значительно сильнее другого, и философия вынуждена была пуститься на поиски новых задач. К примеру, она могла стать своего рода вассалом науки и заниматься прежде всего устранением метафизических препятствий на пути развития своего сюзерена. Такой взгляд на роль философии получил широкое распространение, особенно в англоязычном мире. Исходя из этого взгляда, философия сама по себе не может служить источником позитивного знания и должна довольствоваться расчисткой дороги от препятствий, мешающих науке в поиске знаний. Другими словами, собственно философских проблем с этой точки зрения не существует.
Взгляд на философию, как на вспомогательную дисциплину, пришел на смену традиционному пониманию философии как праматери всех наук. В попытке защитить статус философии как самостоятельной дисциплины многие философы, в особенности немецкие идеалисты, провозгласили философию сверхнаукой, которая может подчинить себе естествознание, и для Гегеля философия была дисциплиной, которая систематизирует все научные области и тем самым придает им полноценность. Однако после падения гегельянства стало очевидно, что науке совсем не нужна философия, и к концу XIX века философия оказалась выброшенной на периферию, а статус главной науки получило естествознание. С тех пор эта тенденция только усиливалась. В XX веке научные исследования развивались так бурно, что теперь наука считается не просто одним из источников истины, но ее единственным Источником. А место философии – на задворках. Получается, что наука оттеснила своего прародителя.
Когда философии удается выделить новую область действительности и развить методологию для исследований в этой области, возникает новая научная дисциплина, которая сразу же отделяется от философии. Физика и математика произошли от древнегреческой космологии. Экономика как научная дисциплина имеет истоки в философии утилитаризма, юриспруденция и политология – в политической философии, а лингвистика – в философии языка. Философия постоянно оказывается повитухой при рождении новых научных дисциплин. Все естественные науки родились подобным образом в эпоху научной революции, в XIX веке так появились на свет психология, социология и педагогика, а в XX веке – лингвистика, информатика и когнитивистика.
Многие философы недовольны этим, потому что таким образом область философии постоянно «съеживается», но, с другой стороны, можно сказать, что порождение новых наук – одна из важнейших задач философии. Философия, которая постоянно «теряет» области действительности, уступая их новорожденным научным дисциплинам, – это продуктивная философия, и именно такой она должна быть. Вместе с тем постоянное деление суммы человеческих знаний на все большее количество научных дисциплин, непрерывное ее дробление наделяет философию новой и весьма важной синоптической – объединяющей – функцией. В свете этого весьма прискорбно, что философия становится такой же раздробленной и узкоспециализированной, как современные научные дисциплины, ведь и она, в свою очередь, равняется на них.
Отношения между философией и наукой
Ни один вопрос не может быть слишком общим – равно как и слишком узким – для философии. Но философские вопросы не являются эмпирическими. На них нельзя ответить, просто-напросто указав на соответствующие эмпирические данные. Если на вопрос можно ответить просто, значит, это не философский вопрос. Именно поэтому некоторые вопросы, которые изначально были философскими, со временем становятся научными. К примеру, в какой-то момент такой переход совершил вопрос о праматерии. Теория об атомах, разработанная Демокритом и Лукрецием, была попыткой дать исключительно умозрительный ответ на вопрос, каковы мельчайшие составляющие материи. Сегодня этот вопрос относится к области физики, а не философии. Вместе с тем физики могут сделать ряд предположений об элементарных частицах, и эти предположения в свою очередь могут стать предметом философских изысканий. Наглядный пример – философские вопросы, возникшие вследствие открытий в квантовой физике.
Кое-кто утверждает, что пропасть между философией и наукой непреодолима, другие же считают, что они плавно перетекают друг в друга. Последней позиции придерживался, к примеру, Бертран Рассел. Он утверждает, что философское знание ничем существенным не отличается от научного знания. Однако при этом Рассел указывает на то, что некоторое различие имеется, так как методы философии опираются на критику, а методы науки в первую очередь, на эмпирические доказательства. В таком случае задачей философии становится критическое рассмотрение тех принципов, которыми мы пользуемся как в науке, так и в повседневной жизни. Уиллард Куайн считает, что философия и наука образуют неделимое целое. Он утверждает, что эпистемология – это раздел психологии, а следовательно, и естествознания, поскольку все они занимаются изучением одного из явлений природы. По его мнению, вся сумма знаний представляет собой «сеть представлений» (webofbelief). Но является ли представление о сети частью этой сети? И чем можно доказать существование этой сети? У представлений, которые скорее можно отнести к метафизическому аппарату, четко отделенному от науки как таковой, не существует никаких научных подтверждений, а значит, в действительности наука и философия не образуют единого целого.
В то самое время, когда философия начала равняться на науку как на своего рода эталон, наметилась и обратная тенденция, самыми заметными представителями которой стали Хайдеггер и Витгенштейн. В юности Витгенштейн был очень озабочен доминирующей позицией, которую заняло естествознание в современной ему картине мира, отодвинув в тень все остальные дисциплины. Научные теории – например, классическая механика, стремятся описывать мир общими формулами. Проблема в том, что эти общие формулы претендуют на универсальность и якобы способны объяснить абсолютно всё. И тогда философия должна взять на себя задачу ограничить область действия науки и отделить собственную сферу влияния от областей научных дисциплин. Эта тема получает дальнейшее развитие в поздней философии Витгенштейна. Его не устраивало господство науки и проникновение ее в сферы, для нее не предназначенные. Он хотел уравнять научные теории с бесчисленными альтернативными точками зрения на те же проблемы. При этом он полностью отрицал право науки вмешиваться в философские вопросы. С его точки зрения, метафизические вопросы характеризуется неясностью языковых формулировок, которые мы пытаемся прояснить с помощью научных вопросов. Он проводит строгое различие между философией и наукой и утверждает, что худшие ошибки философии возникают из-за попыток описать непосредственный опыт языком физической науки.
Хайдеггер также считал что сциентизм – представление о том, что лишь наука способна дать нам адекватное и фундаментальное представление о мире и объяснение любого явления – вреден для метафизики, причем Хайдеггер заходит в своем неприятии науки даже дальше, чем Витгенштейн. Он утверждает, что наука сама по себе не является важным инструментом, помогающим установить и сохранить важные истины. Один из самых известных афоризмов Хайдеггера: «Наука не мыслит». По-видимому, он имеет в виду, что наука не занимается фундаментальными онтологическими вопросами. Наука ограничивается частной онтологией, то есть изучает те же самые области и, может быть, даже объекты, но под другим углом, ставя другие вопросы, которые и относятся к частной онтологии. Так, биология исследует объекты, определенным образом связанные с понятием жизни (лат. bios), а филология основана на определенном понимании языка, исходя из которого трактуются объекты ее изучения (тексты). Объекты исследования распадаются на области, изучаемые отдельными науками (природа, язык, общество и т. д.). Когда все науки обзаводятся своими областями исследования, для философии не остается ничего. Это отсутствие собственной области означает, что философия не может быть наукой, поскольку всякая наука позитивна, то есть основана на эмпирических данных. Научные дисциплины занимаются исследованиями исключительно в своей области действительности, тогда как философия изучает природу самих этих областей, и философское исследование требует осмысления их бытия. В любой науке имеется понятие бытия, но ни одна наука не может ответить на вопрос о смысле бытия, поскольку этот вопрос относится к области фундаментальной онтологии. В отличие от философии, научные дисциплины не подвергают сомнению свое основание, а именно, лежащее в основе всех теорий понимание бытия, которым обусловлено отношение к объектам исследования. Науки лишены саморефлексии. Историческая наука не может ответить на вопрос, что такое история, математика не может рассказать, что такое математика, а физика – что такое физика. Особенно очевидно это в последнем случае: физика не может ответить на вопрос, что такое движение, а может лишь изучать характеристики разных его видов.
Хайдеггер признает, что философия имеет явное преимущество перед науками в том смысле, что науки основаны на философии, но не наоборот. Частная онтология всегда требует обоснования, которого не может предоставить сама. Частные онтологии основаны на общей, фундаментальной онтологии. Науки исследуют объекты, сущее: они рассказывают нам, чем является это сущее, а чем не является, но само по себе сущее они принимают как данность и просто описывают его свойства. Философию отличает от научных дисциплин именно то, что философия не принимает сущее как данность. Согласно Хайдеггеру, это означает, что философия принципиальным образом отличается от любой эмпирической научной дисциплины. Поэтому Хайдеггер считает, что философию и науку разделяет непреодолимая пропасть. Философия выходит за пределы сущего и подвергает сомнению именно те данности, на которых основаны все эмпирические науки. Задача философии заключается не в том, чтобы указать наукам на их ошибки в восприятии сущего. Иначе философия ничем не отличалась бы от них. Скорее философия может породить какие-то идеи, принципиально недоступные научным дисциплинам. Взгляды Хайдеггера развивал и его ученик
Ханс-Георг Гадамер, определивший свою философскую герменевтику как защиту практического разума от повсеместного засилья сциентизма.
Философия науки
Философия науки – это подраздел философии, отвечающий на вопрос «Что такое наука?». Но этот вопрос можно понимать по-разному. Ответ может быть дескриптивным, то есть описывать все, что на сегодняшний день считается наукой. Он может быть и нормативным, то есть задавать критерии, которым должна отвечать наука. Некоторые философы занимают настолько жесткую нормативную позицию, что впору усомниться, существуют ли в мире такие науки, которые отвечают заданным критериям научности. Другие философы считают, что задача философии науки заключается в определении того, какой должна быть научная деятельность. Как же соотносятся между собой дескриптивный и нормативный аспекты? На чем следует сосредоточиться: на научных теориях или на научной деятельности? Большинство философий науки содержат элементы обоих аспектов, но ранжируют их по-разному. Логический позитивизм занимается в основном нормативным, теоретическим аспектом, то же можно сказать и о Карле Поппере. Томас Кун и его последователи отдавали предпочтение дескриптивному, практическому аспекту.
Науки занимаются поиском знаний о различных объектах. Биология исследует жизнь, антропология исследует человека, социология исследует общественное устройство, филология исследует язык и т. д. Объектом философии науки является знание само по себе. Ученые развивают свои теории об объектах, философы развивают теории о научных теориях. Научная деятельность заключается вовсе не в том, что ученые занимаются беспристрастным наблюдением за миром, а затем сводят свои наблюдения в некую теорию. Любой ученый получает образование в какой-то научной традиции, его обучают применять теории для истолкования наблюдений, а кроме того, у него имеется целый ряд ожиданий и представлений, напрямую с наукой не связанных. Философия науки рассматривает ряд допущений и предположений, которые ученые должны принять для того, чтобы вообще приступить к исследованию, зачастую даже не отдавая себе в этом отчета. Представим, что биолог проводит эксперименты с температурными колебаниями в процессе онтогенеза дрозофил, чтобы выяснить, как это повлияет на длину крылышек, и в результате прослеживается отчетливая тенденция к увеличению длины крыльев при повышении температуры в заданном диапазоне. Биолог несколько раз повторяет опыты и убеждается в своей правоте, поскольку каждый раз при тех же условиях эксперимент дает тот же результат. Но откуда ему знать, что выявленная им закономерность повторится и в будущем, что те же причины приведут к тем же следствиям? Как можно перейти от заключения, что причина «А» имеет следствие «Б» в некоторых случаях, к утверждению, что это происходит во всех случаях? Вот вам пример вопроса, о котором ученый в своей деятельности просто не задумывается. Ответ принимается как данность. Но и вопрос этот не относится к области науки. Науки не могут ответить на вопрос, будет ли будущее таким же, как прошлое, с точки зрения причинно-следственных связей. Впрочем, это не означает, что ученые лишены возможности задаться этим вопросом. Задавшись им, они перестают быть учеными и становятся философами. Существует множество таких ученых, в том числе физиков: Эйнштейн, Бор, Гейзенберг. Здесь важно подчеркнуть различие между научными представлениями и представлениями, которых придерживаются люди, занимающиеся наукой. К примеру, сам по себе детерминизм не является научным представлением, но многие ученые занимают детерминистскую позицию. При этом доказуемость детерминизма является не научным, но философским вопросом.
Одна из самых спорных тем в современной философии науки – это тема о том, что именно описывают и объясняют научные дисциплины. Есть две основные точки зрения, известные как реализм и антиреализм (инструментализм), причем у каждой существует несколько вариантов. Я ограничусь описанием основных черт каждой позиции. Научный реализм утверждает, что цель науки состоит в точном описании действительности. Это утверждение может показаться неоспоримым: чем же еще заниматься науке? Однако антиреалисты готовы поспорить с этим и требуют внести уточнение: цель науки состоит в точном описании наблюдаемой действительности. Принципиальное различие в том, что антиреалисты считают возможным дать точное описание исключительно наблюдаемой действительности. Под наблюдаемой действительностью они подразумевают ту действительность, которая окружает нас и состоит из деревьев, стульев, вулканов, собак, гроз, лабораторных пробирок и т. д. – то есть все то, что мы, люди, можем непосредственно наблюдать при помощи органов чувств: видеть, слышать, обонять, осязать или пробовать на вкус. Многие науки, например, анатомия, занимаются исключительно наблюдаемыми явлениями. Другие научные дисциплины развивают теории об объектах и явлениях, которые невозможно наблюдать в общепринятом смысле слова. Это относится ко многим областям физики: к примеру, ни один человек в действительности не видел шесть сортов кварков, которые якобы являются фундаментальными единицами материи. По поводу анатомии у реалистов и антиреалистов не возникнет разногласий: она дает точное описание устройства живых организмов. А вот насчет элементарных частиц в физике они могут поспорить: с точки зрения реалиста, теория кварков может служить точными описанием действительности на субатомном уровне, а антиреалист заявит, что «кварки» – всего лишь удобный понятийный инструмент для описания наблюдаемых объектов и явлений. Антиреалисту неважно, действительно ли существуют кварки. С точки зрения антиреалиста, утверждение «кварки существуют» не будет ни истинным, ни ложным. Вопрос, действительно ли они существуют, лишен смысла. Важно не это, а то, способна ли теория кварков дать нам действенный инструмент для объяснения наблюдаемых явлений. Кто же прав – реалисты или антиреалисты? Как водится, у философии имеются веские аргументы в защиту обеих позиций, так что это противостояние не удастся разрешить однозначно. Скажем, нам не удастся решить вопрос, просто задав его разным ученым и узнав их мнение, поскольку этот вопрос не относится к области науки. Скорее всего, большинство ученых окажутся реалистами (впрочем, это зависит от конкретной дисциплины: скажем, физики чаще поддерживают антиреализм, а биологи обычно придерживаются позиции реализма). Для большинства ученых объекты, которые они исследуют, реальны, но само по себе это не означает, что реализм является наилучшей точкой зрения на науку.
Все научные дисциплины как-то сообщаются с философией. К примеру, вопрос о строении ДНК относится к области молекулярной биологии, но исследования могут привести ученого к размышлениям, какова природа строения и что это вообще такое, а это уже философский вопрос. Или вопрос, какова форма правления в отдельно взятом обществе, относится к области социологии, но вопрос, что такое общество – это философский вопрос. Это не означает, что только философия может решать такие вопросы, скорее – что любой ученый время от времени становится философом. В медицине исследование причин той или иной болезни: например, какую роль играют бета-амилоиды в развитии болезни Альцгеймера, – не является философской задачей, но целый ряд предположений, которые делает ученый в процессе исследования, могут и должны становиться предметами философских изысканий. Что такое болезнь? Какой взгляд на человеческий организм лежит в основе исследований? Возможно ли установить закономерность связи между причиной (к примеру, содержанием белка) и следствием (болезнью)? Наука не может дать ответы на эти вопросы просто потому, что это не научные вопросы.
Наука как идеология
Позиция сциентизма зиждется на идее, что только науки – прежде всего естественные науки – способны дать нам адекватное и фундаментальное представление обо всех явлениях действительности. Нередко эта идея сопровождается убежденностью, что методология естественных наук должна служить эталоном для всех остальных дисциплин. Раньше таким эталоном служила прежде всего физика, но в наши дни пальма первенства постепенно переходит к биологии, которая считается «сверхнаукой» о человеке и претендует на решение традиционно философского вопроса, что такое человек. Я сомневаюсь, что науки в принципе имеют такой потенциал, а уж биология тем более. Биологизм – лишь одна из форм сциентизма. Здесь особенно важно отметить, что сциентизм не наука, а метафизическое мировоззрение, в котором наука используется для объяснения всех без исключения аспектов человеческой жизни, мышления и поведения. Антисциентизм не подразумевает полного отрицания науки и ее объяснительной силы, он просто приводит аргументы в пользу ограничения сферы влияния науки. Известный американский лингвист Ноам Хомский, который отнюдь не отрицает науку, утверждает, что из романов можно узнать больше о человеческой жизни, чем из науки. Я думаю, в этом он прав. По крайней мере, можно сказать, что из романов мы узнаем о человеческой жизни нечто другое, не то, о чем говорит наука, и это знание не менее ценно.
Признание, что существуют ненаучные формы знания, играет ключевую роль в понимании целей и возможностей философии. Культурная среда оказывает значительное влияние на философию. В религиозной культуре философия будет заниматься прежде всего вопросами, связанными с существованием Бога, взаимоотношениями между верой и знанием и т. д. В современном западном обществе высшим авторитетом обладает не религия, а наука. Наука занимается поиском эмпирических знаний о мире. Вследствие научной ориентированности нашей культуры философия приобрела соответствующую направленность и занимается вопросами о возможности и истинности знания, о методологических и логических предпосылках науки и т. п.
Останутся ли у философии задачи после того, как наука даст все ответы, объяснит все события прошлого и предскажет все события будущего с помощью законов природы, а также разработает технологии, которые (скорее всего) значительно улучшат нашу жизнь? Безусловно, останутся проблемы этического и экзистенциального характера, которые наука решить не может. Более того, наука может породить новые проблемы, поскольку она дает нам знания, но не мудрость. Многие ученые думают, что наука способна обеспечить нас всеми необходимыми ответами.
Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген» утверждает, что нам больше не нужно прибегать к суевериям, чтобы поразмышлять над глубинными проблемами человеческой жизни, и что решение всех этих проблем можно найти в биологии. Но биология не может дать ответов на некоторые вопросы, лежащие за пределами ее компетенции. Так, ни одна наука не может решить проблем, которые обозначили Ницше и Хайдеггер в связи с понятием «нигилизм».
Очевидно, что философия значительно хуже, чем научные дисциплины, подходит для решения определенных задач – например, для определения свойств элементарных частиц. Но столь же очевидно, что она гораздо лучше подходит для решения задач другого рода – таких как, какие нравственные обязательства мы несем перед другими людьми. Кроме того, ни одно научное исследование не поможет ответить на вопрос о смысле жизни. Лично я считаю, что и философия не может ответить на этот вопрос – просто потому, что он не имеет ответа, – но в этом деле она принесет гораздо больше пользы, даже потерпев неудачу.
Глава 4. Философия и литература
Отношения между литературой и философией были напряженными еще во времена античности. Согласно Платону, сущность творчества состоит в подражании (mimesis), а не в рациональном осмыслении, он считает творчество иррациональным и потому опасным конкурентом философии. Творчество взывает к чувствам, а не к разуму, и тем самым подрывает власть разума над чувствами. Аристотель придерживается иной точки зрения и считает, что свойственное искусству подражание приводит к открытиям, которые могут оказаться полезными в повседневной жизни. По его мнению, подражание – это не слепое копирование чувственного опыта, но попытка познать сущность вещей, то есть общее в конкретном. Но творчество всегда показывает общее через частное, а философия рассматривает общее именно как общее. Поэтому и для Аристотеля творчество уступает философии как источник знания.
Эта второстепенность искусства в целом и литературы в частности сохранялась вплоть до XVIII–XIX веков, когда развитие романтизма и немецкого идеализма повысило статус искусства и сделало его самостоятельным источником знания. Согласно Фридриху Шеллингу, единство духа и природы может найти выражение только в искусстве. Артур Шопенгауэр ставит искусство выше философии и науки, а источником всякой духовной деятельности он называет гениальность. Впрочем, этот период был лишь краткой интермедией, после которой монополию на знания о мире приобрела наука, а философия стала постепенно отдаляться от искусства и сближаться с наукой, хотя и здесь не обошлось без исключений.
Философия как литература и литература как философия
Из всех видов искусства больше всего проблем в отношениях с философией возникает у литературы. Дело в том, что именно литература сильнее всего сближается с философией как по форме, так и по содержанию. Философские произведения всегда обладали чертами художественной литературы: здесь уместно вспомнить и диалоги Платона, и стихотворные произведения Парменида, и поэму Лукреция «О природе вещей», и «Утешение философией» Боэция, и «Дневник обольстителя» Кьеркегора, и «Так говорил Заратустра» Ницше, и «Что зовется мышлением?» Хайдеггера – самые наглядные примеры, охватывающие всю историю философии. Можно пойти немного дальше и назвать «Феноменологию духа» Гегеля философским воспитательным романом. Витгенштейн считал свой «Трактат» одновременно и философским, и литературным произведением. Кроме того, существуют романы, в которых имеются философские пассажи и даже целые главы, состоящие из философских рассуждений, например, многие труды Достоевского, «Волшебная гора» Томаса Манна или «Человек без свойств» Роберта Музиля. Было бы несправедливо полностью исключить эти романы из области философии только потому, что они являются литературными произведениями. Другими словами, провести четкую границу между философией и литературой трудно, и, по моему мнению, это совершенно необязательно. Мы интуитивно можем заметить различие между «литературными» и «философскими» трудами авторов, которые пишут и то и другое. К примеру, «Тошнота» Сартра явно является литературным произведением, а его «Бытие и ничто» – однозначно философским. Но вот объяснить, в чем заключается разница, не так уж легко.
Общепринятое различие между философией и художественной литературой состоит в том, что художественная литература строится на вымысле, а философия вроде бы нет. Главный персонаж романа Томаса Манна Ганс Касторп, не существовал в действительности, равно как и Ставрогин Достоевского. Но вымышленными являются и многочисленные марсиане, которые приводятся в пример в работах по аналитической философии. А как быть с рассказом Платона о кольце Гига, которое делает своего хозяина невидимкой? Большинство персонажей диалогов Платона написаны, по всей видимости, с реально живших людей, но едва ли сами диалоги являются точным пересказом разговоров, которые они вели. Философские работы полны вымысла, в том числе в виде мысленных экспериментов с инопланетянами, параллельными мирами, обменом телами и т. п.
Можно было бы разделить философию и литературу, заявив, что философия оперирует пропозициями, то есть утверждениями, претендующими на истинность, тогда как литература просто описывает вымышленные события и выражает чувства. Именно так смотрел на литературу Кант, отдавая ей должное за честность, с которой она предается развлекательной игре с воображением, не претендуя на истину. Но использовать истину как критерий различения литературы и философии затруднительно, поскольку в некотором смысле изобразительное искусство и литература тоже претендуют на истину. Для таких философов, как Хайдеггер, Гадамер и Адорно, стремление искусства к истине является ключевым не только для самого искусства, но и для философии. Марта Нуссбаум утверждает, что философия – и особенно философия морали – зависит от художественной литературы, поскольку некоторые истины, касающиеся человеческой жизни, можно адекватно изложить только в литературной форме. И как уже упоминалось выше, Ноам Хомский считает, что из романов мы узнаем о жизни больше, чем из науки. Идея не в том, чтобы заменить науку литературой, а в том, чтобы признать роль обеих в нашем поиске знания о себе и мире. Можно ли использовать слово «истина», говоря о тех открытиях, которые мы делаем благодаря о литературе, зависит от принятого нами определения истины. Но есть основания считать, что любое определение истины, которое исключает художественную литературу из ее источников, будет точно так же исключать и философские произведения.
Метафоричность
В философии применяется широкий арсенал средств художественной литературы, в том числе метафоры, к примеру, «бритва» Оккама, «свет разума» Локка, монады Лейбница, в которых находит «отражение» вся Вселенная, бесчисленные юридические метафоры у Канта, «призрак коммунизма», бродящий по Европе у Маркса, «языковая игра» Витгенштейна и многие другие. Философы охотно пользуются метафорами, и Жак Деррида отмечал, что между метафизикой и метафорой издавна установилась тесная связь. Наш язык пронизан метафорами настолько, что его без метафор невозможно себе представить, и это лишний раз подтверждается опытом логического позитивизма. Большинство философских терминов имеют метафорическое происхождение. Сам по себе термин «метафора» может послужить примером (от греч. meta-ferein– пере-носить). Тем не менее, философы традиционно испытывали недоверие к изобразительным возможностям языка, поскольку фигуральные выражения вторгаются в чувственный опыт и загрязняют предположительно «чистое» мышление. Такая позиция особенно явно выражена у Готлоба Фреге, который жаловался, что вынужден доносить до читателя нечувственные идеи посредством чувственного языка.
Метафоричность философии представляет собой проблему лишь в том случае, если принимать за идеал язык, лишенный метафор. Страх перед фигуральными выражениями коренится в том, что философия – дисциплина дискурсивная, или аргументативная, и использование метафор и тому подобных средств выглядит как подмена аргументов образами. Другими словами, кажется, что логика подменяется риторикой, а философия традиционно пыталась отмежеваться от риторики. В основе этого отмежевания лежит противостояние между философией и литературой. Платон пишет об извечном противостоянии между философией и поэзией, но никаких свидетельств такого противостояния найти не удалось. Судя по всему, Платон сам выдумал это противостояние, чтобы обозначить самостоятельное (и привилегированное) положение философского дискурса по сравнению с другими письменными жанрами. Мы унаследовали от Платона представление о том, что аргументы служат истине, а риторика представляет собой искусство убеждения, с истиной никак не связанное. Но никакие аргументы не могут быть хороши «сами по себе», а лишь с определенной точки зрения, и риторика, таким образом, защищает либо одну точку зрения, либо другую, а вне риторики языка не существует. Сам Платон прибегает ко всем мыслимым средствам риторического арсенала. Ту же идею мы находим у Канта, который считает риторику обманчивой и убежден, что она отнимает у других людей свободу, наводя ложный блеск. Впрочем, крестовый поход Канта против риторики сам построен на риторических инструментах (к примеру, сравнение риторики со стенобитной машиной).
Стиль
Ненавистники метафоры, в том числе Фреге и Кант, мечтают о письме «без стиля», пользуясь выражением Ролана Барта. Только вот письма без стиля не существует. По другую сторону баррикад находится Витгенштейн, который саму философию считает вопросом стиля. Он стилистически вписывается в немецкую традицию как прямой последователь Новалиса, Шлегеля, Шопенгауэра и Ницше. Согласно Витгенштейну, задача философа – показать связи между вещами так, чтобы прояснить их для читателя. Этот процесс напоминает создание художественного текста, и он утверждает, что философский труд – это сочинение, то есть вымысел. Все это в полной мере относится к философскому творчеству самого Витгенштейна, и в этом смысле показателен упрек, брошенный Расселом в письме от 1912 года, где он пишет, что в ответ на требование предоставить исчерпывающую аргументацию Витгенштейн ответил ему, что это нарушит красоту его изложения. Витгенштейн подчеркивает, что искусство – важный источник истины, и отмечает поразительное сходство между философскими и эстетическими изысканиями. Он сравнивает самого себя с художником или архитектором. В этом он был далеко не одинок: многие другие тоже видели сходство между философией и искусством. Даже Рудольф Карнап, который скорее относил философию к наукам, в предисловии к «Логическому построению мира» (1928) подчеркивает сходство между позицией логического эмпиризма и идеологией современного искусства и архитектуры.
Многих философов можно узнать по стилю. Кант, Гегель, Ницше, Витгенштейн, Хайдеггер, Адорно, Деррида, Куайн и Дэвидсон обладали настолько индивидуальным стилем, что необязательно было видеть обложку, чтобы безошибочно угадать их произведения. Карл Ясперс указывал, что между формой и содержанием высказывания у всех великих мыслителей существует неразрывная связь. Как у великих писателей и художников, так и у великих философов есть собственный стиль, хотя, безусловно, не он делает этих философов великими. Философия и стиль так тесно связаны, что трудно себе представить, чтобы философ вдруг изменил своему стилю. Кантова «Критика чистого разума» (1781) не могла быть написана в стиле Гегеля, а «Феноменологию духа» (1807) Гегеля трудно представить написанной в стиле Канта. «Бытие и время» (1927) Хайдеггера невозможно переписать в стиле Куайна, а «Слово и объект» Куайна нельзя было бы написать в стиле Хайдеггера. Эти философские произведения можно «перевести» в плоскую, практически лишенную стиля прозу, но в этом случае они потеряют так много, что от исходного текста мало что останется. К примеру, если перевести диалоги Платона или афоризмы Ницше в виде сухих, формальных тезисов, у читателя сложится совершенно иное представление об их философии. Вместе с тем стиль не настолько важен, чтобы вне стиля авторов этих произведений попросту не существовало, чтобы они не могли вступать в диалог с другими текстами. И хотя стилистически Куайн и Деррида отстоят друг от друга так далеко, как это только возможно, их тексты могут «говорить друг с другом».
Кроме того, не существует веской причины предпочитать какой-то один стиль всем остальным. Аналитическая философия традиционно стремилась выражаться максимально «непосредственным», лишенным метафор языком – в отличие от более «богатого» языка континентальной философии, – поскольку наивысшей ценностью для этой традиции является «ясность». Но «ясность» можно понимать по-разному. Скажем, философу, воспитанному в континентальной традиции, Деррида покажется более «ясным», нежели Куайн, а для адепта аналитической школы Куайн будет более «ясным», чем Деррида. «Ясность» относится в первую очередь к способности считывать коды, заложенные в тот или иной текст. Короче говоря, ясность имеет отношение к контексту и зависит от того, к чему привык читатель. И, как отмечал Витгенштейн, невозможно доказать, что один стиль рациональнее другого. Языка вне риторики не существует, и аналитическая философия на самом деле не отстает от континентальной в том, что касается фигур речи и прочих приемов художественной литературы, что наглядно отражено в работах того же Куайна. Разница лишь в том, что эти две традиции прибегают к разным фигурам речи. По моему мнению, невозможно утверждать, что какой-либо философ аналитической традиции, к примеру Дэвидсон, пишет более «ясно», чем любой философ континентальной традиции, скажем, Деррида.
Стандартизация
В истории философии можно найти не меньшее жанровое разнообразие, нежели в истории художественной литературы. Здесь имеются и диалоги (Платон, Беркли, Юм), и афоризмы (Бэкон, Ницше, Витгенштейн, Чоран), стихотворения (Парменид, Поуп, Хайдеггер), романы (Камю, Сартр, Мёрдок), молитвы (Августин, Экхарт) и многое, многое другое. В наши дни философия гораздо более однородна с точки зрения жанра. По мере того, как философия становилась профессиональным занятием, в ней происходила стандартизация формы и стиля. Сегодня основными жанрами философии, практически вытеснившими все остальные, стали статья и монография.
Кроме того, наметилась явная тенденция к стандартизации языка философии – среди профессиональных философов в наши дни повсеместно распространился английский. Впрочем, не всякая философская мысль может быть выражена на любом языке. У древнегреческого языка имелись средства выражения, которых не было в латыни. На немецком можно провести такие тонкие различия, которые невозможно провести на английском, и наоборот. При переводе философских понятий с греческого на латынь, а затем с латыни на немецкий и английский произошла существенная их трансформация. Хайдеггер считает, что мы имеем дело с процессом упадка, в ходе которого понятия все более отдаляются от своих истоков. Но если не следовать за Хайдеггером в его преклонении перед истоками, мы также заметим, что этот процесс может оказаться продуктивным и открыть новые подходы и точки зрения. Новый язык дает новую перспективу. Хайдеггер довел эту идею до абсурда, утверждая, что настоящая философия может существовать лишь в рамках немецкого и греческого языков. Разумеется, это не так, и философствовать можно на любом языке, но – по-разному. Это связано со свойствами разных языков, а не философии. Билингвы, говорящие на двух языках как на родном, нередко сталкиваются с тем, что могут сказать на одном языке то, что не могут сказать на другом. Мышление и язык связаны, следовательно, от того, каким языком вы владеете, зависит содержание ваших мыслей. А знать несколько языков – значит создавать возможность для появления новых мыслей.
Глава 5. Философия и история
Ответ на вопрос, что такое философия, много раз менялся в ходе истории. Если задать его вслух, может возникнуть впечатление, что существует некая единая философия, ядро, которое существовало всегда. Но философия была – и остается – настолько разной, что такое ядро едва ли может существовать. Вместо того чтобы задавать настолько общий вопрос, следовало бы, наверное, спросить: «Чем была философия в 347 г. до н. э., когда умер Платон?» «Чем была философия в Священной Римской империи?», «Какова была философия поздних схоластов?», «Что такое немецкая философия 1750–1800 годов?» или «Чем была философия в Оксфорде в 1950 году?» Ответы на эти вопросы будут различными, поскольку в эти моменты и в этих местах философия не была одинаковой. Философия постоянно меняется, в том числе и потому, что философы регулярно испытывают потребность ее менять. Известный афоризм о философии гласит, что, когда священник утрачивает веру, он отказывается от сана, а когда философ теряет свою веру, он просто меняет формулировку темы. Между прочим, крупнейшие философы тем и отличаются от остальных, что они в какой-то момент теряли веру и не могли продолжать философствовать в прежнем русле и потому пытались найти новое понимание того, что такое философия и чем она должна быть.
Отношение философии к собственной истории
Философия относится к собственной истории иначе, чем другие дисциплины, и философы в целом глубже изучают историю своего предмета, чем любые другие исследователи. Исследователи в области естественных наук просто оставляют историю позади, чего философы сделать не могут. Врачи, знакомые с открытиями Галена и Парацельса, едва ли читали их труды и уж точно не станут обращаться к этим трудам для решения своих насущных проблем, за что пациенты будут им только благодарны. Любой химик слышал об алхимии – предшественнице современной химии, но почти наверняка не читал алхимических сочинений и едва ли станет повторять эксперименты, которые в свое время ставил Джон Ди. Нет такого физика, который не слышал бы о Галилео Галилее, но мало кто читал его работы. С философией все иначе. Любое более или менее серьезное философское исследование содержит обширный экскурс в историю философии. От каждого философа – будь он последователем континентальной или философской традиции – ожидают, что он прочел основные труды Платона, Аристотеля, Декарта, Юма и Канта. Этих философов читают не только из интереса к истории дисциплины, но и потому, что их считают авторами идей, которые до сих пор сохраняют актуальность в рамках философии.
История философии была частью философии со времен античности. Аристотель был, по всей видимости, первым, кто осознал себя частью философской традиции. Доказательством тому служит книга I трактата «О душе». Но лишь во времена Канта и Гегеля историческая перспектива в философии обрела по-настоящему принципиальное значение. Кант уделяет большое внимание своему месту в истории. Он выделяет три стадии в истории метафизики: догматическую, скептическую и критическую. Догматический метод особенно отчетливо проявился в философии рационализма, которая утверждала, что разум сам по себе является источником знания, возникающего в результате анализа врожденных понятий по образу математического анализа. Метод скептицизма лучше всего проиллюстрирован эмпирической философией, которая строится на идее, что источником истины является чувственный опыт. Кант утверждает, что он превзошел эти две стадии, переведя философию на новый, критический уровень. Он считает себя философом-революционером. Но для того чтобы продемонстрировать революционный характер критической философии, он должен показать ее в контексте истории метафизики.
Еще более важную роль играет исторический контекст в философии Гегеля. Он считает, что философия неразрывно связана с современностью, точно так же, как и любой живущий индивид. Разумеется, мысленно можно выйти за пределы своего времени, но такая философия будет существовать лишь в воображении и никогда не станет реальной. Нет такой точки зрения за пределами истории, откуда можно было бы устанавливать вечные истины, актуальные в любое время и в любом обществе. Все идеи относительны и актуальны для той исторической ситуации, в которой они возникают. Гегель убежден, что философия не может выйти за пределы своего времени.
В его утверждении содержится зерно истины. Разумеется, и выбор темы, и инструментарий философа напрямую зависят от исторической ситуации, в которой ему выпало жить. Тем не менее, очевидно, что философия не ограничена пределами «зеркала заднего вида», то есть не связана рамками своей истории. Философия не может дать прогноза будущего развития, но должна дать своим современникам представление о самих себе как о продукте предшествующего развития. При этом, формируя представление о нынешнем состоянии, философия тем самым делает шаг в будущее. Понимание текущей эпохи – это в том числе и понимание присущих ей ограничений, а Гегель утверждал, что именно такого рода знания дают возможность для дальнейшего развития. Получается, что философия своего рода духовная повитуха, которая может направлять дальнейшее развитие. Философия не может сама по себе реализовать новую эпоху – это задача истории, – но она может указать, что новая эпоха должна сделать для преодоления ограничений, которые связывали предыдущую. В предисловии к лекциям по истории философии Гегель подчеркивает, что не следует считать историю философии дисциплиной, посвященной исключительно прошлому. История философии в той же мере касается и настоящего.
Работа над описанием истории философии служит пониманию настоящего, она актуальна лишь постольку, поскольку связана с проблемами настоящего. История философии как жанр имеет ряд недостатков. По-моему, основной из них заключается в том, что она слишком увлекается сравнением, упуская из виду ту роль, которую разные философы играют в формировании представления о мире в настоящем.
Философия и среда
Каковы отношения между философским рассуждением и окружением, в котором оно происходит? Джордж Сантаяна утверждал, что его философия осталась бы неизменной независимо от того, под каким небом он был бы рожден. Верится не очень. Если бы Сантаяна родился в XVI или, наоборот, в XXI веке (вместо середины XIX века) в Йемене и получил образование в Иране (вместо Испании и США соответственно), он, без сомнения, совершенно иначе относился бы к другим философским традициям и культурным условностям и развивал бы свою философию совершенно по-другому. Философия возникает и развивается отнюдь не в культурном вакууме, даже если сами философы утверждают обратное или рассуждают так, словно они находятся в безвременье и не зависят от исторического контекста. Философам нередко кажется, будто их мыслительная деятельность проходит вне времени, но в действительности любая философия очень исторична.
Ницше критикует философов за отсутствие чувства истории, за веру в то, что они оказывают философии честь, пытаясь вынести ее из исторического контекста и поместить в перспективу вечности. Некоторые философы и слышать не хотят о том, что между философской мыслью и внешними факторами существует какая-то взаимосвязь. Философия для них – автономная деятельность, которая подчиняется исключительно собственным критериям рациональности. Другие занимают прямо противоположную позицию и придерживаются мнения, что ведущая философия любой эпохи является отражением социальной и политической среды, в которой она возникла. В общих чертах философы аналитической традиции обычно поддерживают первую точку зрения, а философы континентальной традиции отстаивают вторую. И как обычно, наиболее правдоподобной является промежуточная позиция. Философия – равно как и любая другая деятельность, в том числе наука и искусство – не может происходить в социальном и политическом вакууме. Для того, чтобы понять античную философию, необходимо понять общество, в котором она возникла, и ту роль, которую она в нем играла. Впрочем, философию Платона и Аристотеля нельзя свести к простому отражению современного им общества. Их идеи продолжают быть актуальными далеко за пределами того исторического контекста, в котором они родились.
Многие идеи, возникшие в определенную историческую эпоху и повлиявшие на дальнейший ход развития философии, родились в ответ на конкретные исторические обстоятельства. Тем не менее, подобная историческая обусловленность не отменяет универсальности этих философских идей. Возьмем, концепцию прав человека, возникшую в ответ на произвол и насилие. Права человека не только существуют для людей, но и были придуманы людьми, то есть являются продуктом исторического развития, а следовательно, существует принципиальная возможность их пересмотра. Однако их историческая обусловленность – тот факт, что они возникли под влиянием обстоятельств и могли бы не возникнуть или же принять совершенно иную форму, если бы обстоятельства сложились иначе, не отменяет их универсальности. Декларация прав человека, принятая ООН, во многом была реакцией общества на геноцид, проводившийся нацистами. И все же эта декларация справедливо считается универсальной и вне этого контекста. Идеи, возникающие в ответ на определенные исторические обстоятельства, могут оказаться актуальными не только в этих обстоятельствах.
С исторической точки зрения трансцендентальная философия Канта выросла из потребности, с одной стороны, закрепить универсальный статус современной науки, а с другой, защитить свободу и нравственную ответственность человека от посягательств этой самой науки. Развитие герменевтики неразрывно связано с церковной реформацией, а экзистенциализм возник в ответ на появление массового общества. Любая философия связана с той культурой, в которой она развивается. К примеру, нетрудно продемонстрировать, как философия Аристотеля вырастает из античной культуры. Он жил не в XX веке, и об этом нужно помнить, читая его труды. Иногда их подают так, как если бы они были напечатаны в последнем номере какого-нибудь философского журнала, например Mind или Synthese. В философских произведениях нередки анахронизмы. Описание истории философии требует системного подхода, ведь как иначе отделить существенное от несущественного? Но вместе с тем системный подход почти неизбежно приводит к появлению анахронизмов, потому что при этом вся история философии рассматривается под углом, необходимым для решения определенных эпистемологических проблем, более или менее чуждых философам прошлого. Занимаясь историей философии в наши дни, мы, разумеется, пользуемся всеми современными методами и инструментами, которыми древние философы не обладали. Это не означает, что можно пренебречь всем тем, что не укладывается в современную парадигму и плохо поддается современным методам исследования. Именно «аналитическая» история философии чаще всего грешит весьма однобоким подходом к философии прошлого, то есть напрочь игнорирует предположительно нерелевантные для нынешней философии аспекты творчества философов прошлого, называя их «суевериями» или религиозными убеждениями. Тем самым создается история философии, подогнанная исключительно под современную философскую парадигму.
Как следствие философов прошлого обычно делят на две категории: (1) первопроходцы, поднявшие именно те вопросы, которые решает современная аналитическая философия, и направившие развитие философии в русло, в котором работает сам автор или его кумир, и (2) обскурантисты, которые интересовались неправильными темами, пользовались неправильными методами и таким образом препятствовали развитию в «правильном» направлении. Проблема в том, что инаковость мыслителей прошлого совершенно не может проявиться в таких однобоких изложениях истории философии, а ведь именно этой инаковости нам стоило бы поучиться. Мало кто отдавал этой инаковости должное в меньшей степени, чем Рассел, который пишет историю философии на совершенно гегельянский манер и выстраивает ее таким образом, что она неизбежно выводит к нему самому, а все, что не укладывается в нужное русло, он просто отбрасывает. История философии по версии Рассела – это подготовительное чтение для понимания работ самого Рассела. Многие современные истории философии имеют тот же недостаток: они написаны таким образом, чтобы представить философию своего автора как кульминацию всего предшествующего развития.
Философия и прогресс
История философии не кумулятивна. Она не похожа на строительство стены, при котором один кирпич укладывается на другой, медленно, но верно подводя нас к решению какой-либо задачи. В истории философии вы не найдете явных опровержений. Когда происходит философская революция – к примеру, появляются мыслители вроде Декарта или Канта, – она происходит не потому, что кому-то удалось убедительно опровергнуть взгляды своих предшественников, а скорее потому, что многие успели устать от традиционной философии и почувствовать, что она движется на холостом ходу и обществу нужно что-то новое. А когда они устают от нового, вполне можно вернуться к старому и окинуть его свежим взглядом. Скажем, античность породила очень много качественной философии. Многие идеи и взгляды не утрачивают своей актуальности на протяжении 2500 лет. Кое-что, конечно, устарело, но в практической части мы все еще можем поучиться у античных философов. Очевидно, что современная логика сложнее Аристотелевой. Ни один серьезный философ в наши дни не станет отстаивать идею Августина о том, что некоторые гармоничные музыкальные интервалы выражают Истину способом, недоступным человеческому разуму. Некоторые философские проекты уже стали пройденным этапом. Вместе с тем древняя философия по-прежнему остается источником вдохновения и обновления для философии современной, несложно заметить, что философия Аристотеля внесла существенный вклад в функционалистский подход к человеческому познанию, современный прагматизм многое позаимствовал у Гегеля, а идеи Хайдеггера можно использовать в качестве аргументов против возможности создания искусственного разума.
А как же так называемые вечные вопросы? Некоторые свойства и события человеческой жизни остаются относительно неизменными, хотя наше отношение к ним со временем меняется. Мы знаем, что все мы смертны, и знали это всегда, так что вопрос о сущности смерти касается всех людей во все времена. Тем не менее, вопросы о смерти, которыми мы задаемся, различны в разных эпохах и культурах. Некоторые темы стары как мир, другие появились относительно недавно. Некоторые быстро исчезают с философской повестки дня, другие остаются там надолго. Лично я думаю, что «вечных вопросов» и тем более «вечных ответов» не существует. Несмотря на это, в философской традиции с древнейших времен и до наших дней наблюдается некая преемственность, благодаря которой полученные ранее ответы могут пролить свет на новые вопросы, а на старые вопросы иногда находятся новые ответы. Эта преемственность обусловлена отчасти тем, что мы продолжаем опираться на труды классических философов, Платона и Аристотеля. За те 2500 лет, что существует философия, человек довольно сильно изменился. Изменения эти носят не биологический, а культурный характер. Тем не менее, у нас так много общего с людьми, жившими в античную эпоху, что написанные в то время тексты до сих пор вызывают в нас отклик. Так происходит не только в философии. Вы можете читать древний эпос – скажем, о Гильгамеше – и черпать в нем жизненную мудрость, актуальную до сих пор.
Впрочем, подобное обращение к прошлому во многом противоречит самой концепции современной философии. Философия после Декарта в основном позиционировала себя как прогрессивную в том смысле, что можно отбросить мертвый груз традиции, забыть ошибки предшественников и начать с чистого листа. Но идея о том, что можно оставить позади «иллюзии» прошлого и построить что-то на пустом месте, сама по себе иллюзорна. Декарт даже не осознавал, насколько глубоко на него повлияла схоластическая философия. Антиисторическая направленность аналитической философии объясняется в том числе и ее стремлением положить начало чему-то совершенно новому, порвать с прошлым настолько решительно, чтобы никому и в голову не пришло видеть в новой философии продолжение старых традиций. Особенно отчетливо это проявляется у Карнапа, утверждавшего, что логический позитивизм настолько радикально отличается от прежней философии, что его и философией-то нельзя назвать. Этот разрыв, в частности, предполагал отказ от всех традиционных философских проблем – и метафизических, и этических, и эпистемологических. Вместо этого Карнап посвящает себя логическому анализу. Утверждение Карнапа, что логический позитивизм не является философией, не слишком убедительно. Можно рубить дрова и справедливо утверждать, что эта деятельность не является философской, но само утверждение, что рубка дров не философское занятие, будет философским утверждением. Логический позитивизм – философское направление, несомненно связанное с предшествующей философской традицией. Разумеется, можно оставить позади некоторые из ошибок прошлого – так, в наши дни мало кто считает логический позитивизм актуальным направлением, – но это не равнозначно полной «перезагрузке» философии и началу с чистого листа. Философ всегда, по крайней мере, одной ногой стоит в прошлом.
Для чего нужна история философии
Существует мнение, которого, в частности, придерживается Куайн, – что те, кто пишет историю философии, и те, кто ее систематизирует, выполняют две совершенно разные задачи, поскольку для истории философии имеет значение смысл текста, а для систематизации философии имеет значение его истинность. Оценить это утверждение затруднительно, поскольку для того, чтобы установить истинность текста, необходимо сначала понять его, то есть осознать его смысл. Верно и обратное: невозможно понять смысл текста, не оценивая при этом его истинность. В частности, нужно оценить последовательность и непротиворечивость логической аргументации, попытаться понять, какие истины он призван донести до читателя и, в конечном счете, выполняет ли он эту задачу. Гадамер утверждал, что мы можем понять текст лишь постольку, поскольку мы понимаем его интенцию сообщить некую истину о чем-то. Каждый текст создается с целью сообщить нам некую истину, и именно ее мы должны стремиться понять, пытаясь понять текст.
Куайн утверждал, что мы начинаем заниматься философией по одной из двух причин: либо из интереса к истории философии, либо из интереса к философии как таковой. Куайн считает, что между этими двумя случаями есть принципиальная разница, и работа над историей философии очень сильно отличается от занятия собственно философией. Аласдер Макинтайр отвечает Куайну так: через сто лет интересоваться теми, кто занимается собственно философией сегодня, будут только те, кому интересна история философии. Я думаю, в этом он прав, и не сомневаюсь, что сто лет спустя Куайна будут читать только те, кому очень интересна история философии, а те, кому интересна философия сама по себе, всегда будут читать таких «историчных» философов, как Гегель и Хайдеггер. Впрочем, все это лишь догадки. Некоторые философы, обладавшие большим влиянием в свою эпоху, со временем оказываются преданы забвению, а те, кого современники практически игнорировали, оказываются канонизированы последующими поколениями. Большинство современных философов, даже самые известные, скорее всего, не оставят следа в истории философии и не станут частью философского канона. Кого будут помнить в будущем, предсказать сложно, поскольку это зависит от того, какие темы и задачи будут считаться приоритетными для философии, а этот вопрос пока остается открытым.
Философские проблемы не возникают из ниоткуда. Те задачи, которые философия решает сегодня, прошли долгую эволюцию, в процессе которой философы подхватывали идеи прежних философов, которые, в свою очередь, заимствовали идеи у своих предшественников. В ходе исторического развития эти идеи не раз подвергались критике и пересмотру, но их исторический багаж никуда не денется. У тех понятий, которыми пользуются сегодняшние философы, есть своя история, и она во многом определяет их значение. Можно сказать, что в каждой философской идее содержится вся история философии, независимо от того, осознает это ее автор или нет. Чарльз Тейлор утверждал, что невозможно заниматься философией, не занимаясь при этом историей философии. Это, конечно, преувеличение. У первых философов такой возможности почти не было, и все же они занимались философией. Дети философствуют, не опираясь при этом на историю философии. Можно изучать философскую проблему, не принимая во внимание историю ее решения, и нередко из таких чисто системных упражнений может выйти что-то любопытное, хотя их результат будет немного наивным, потому что автор не учел широкий исторический контекст и, следовательно, не мог обеспечить необходимый уровень саморефлексии. Зрелое понимание философии предполагает знакомство с важнейшими трудами из истории философии, а также с теми философскими концепциями, которые содержатся в этих трудах. Зрелая позиция относительно того, что есть философия сегодня, может сформироваться только при условии хорошего знакомства с тем, чем философия была раньше.
Тот, кто незнаком с историей философии, практически обречен повторять ее. К примеру, так называемый принцип доверия – знаменитый принцип, сформулированный в рамках аналитической теории интерпретации – был впервые открыт еще в немецкой герменевтике начала XVIII века, где он был известен под названием «Prinzip der Billigkeit». Критика «третьей догмы эмпиризма», то есть разницы между формой и содержанием, которую Дональд Дэвидсон излагает в статье 1974 года, впервые была сформулирована еще Гегелем в «Различии философских систем Фихте и Шеллинга» в 1801 году. Разумеется, от очередного изобретения колеса нет никакого вреда, но и восхищаться здесь тоже нечем. Случается, что старые идеи, раскритикованные в пух и прах, внезапно всплывают снова и получают большое распространение, поскольку все забыли о причинах их прошлого провала. История философии в значительной мере состоит из таких повторений, но дело в том, что ничто не повторяется в точности. Бывают и весьма плодотворные повторения, и в истории философии можно найти множество примеров, когда старые идеи использовались в новой трактовке. К примеру, этика добродетели из античной философии оказалась важным дополнением к весьма нормативной современной этике.
Многие ошибочные философские идеи тоже подвергаются переработке и повторному использованию. Из-за «лингвистического поворота» в философии, пионером которого считается Фреге, многие высказывали мысль, что язык должен был играть главную роль и в более ранней философии. Но ведь так и было! Вспомним «Кратил» Платона, интерпретации Аристотеля или философию языка у схоластов. Философию от Декарта до Канта часто описывают как период, когда философы занимались исключительно сознанием и полностью забыли о языке, но самое поверхностное ознакомление с трудами этого периода полностью опровергнет подобные утверждения. Как быть с философской школой Пор-Рояля (например, Бозе) и англо-шотландской школой (к примеру, Монбоддо)? А как же Локк, Лейбниц и Руссо? В немецкой философии были Тетенс, Ламберт, Гердер, Гаман, Кант и Гумбольдт – все они подробно рассматривали вопросы языка. Представление о «забвении языка» в ранней философии можно объяснить только полным незнанием истории философии.
Философия подвержена колебаниям так же, как мода. Некоторые разделы философии умирают, а затем воскресают. Так, по всей видимости, было с политической философией, по крайней мере, в англо-американской традиции, но затем она внезапно пережила бурное возрождение после выхода «Теории справедливости» Джона Роулза в 1971 году. Философская этика довольно долго влачила жалкое существование, но в последнее время снова стала актуальной в связи с прогрессом медицины и возникновением новых этических проблем. Всего несколько десятилетий назад метафизику считали напрочь устаревшей, но потом ситуация резко изменилась, начали выходить и активно обсуждаться объемистые труды. Как ни странно, это возрождение метафизики отчетливее всего проявилось в аналитической англо-американской традиции, которая всегда отрицала значимость метафизики.
История философии как саморефлексия
Знание истории философии позволяет, в числе прочего, видеть альтернативы собственной позиции. Можно проследить исторические истоки собственного мышления и тем самым обрести новое понимание себя, осознав свою историческую преемственность. Мы многому можем поучиться у философов прошлого, не только на их успехах, но и на их ошибках. Важно знать декартову концепцию дуализма души и тела, чтобы понимать, почему такой взгляд неверен и не повторять тех же ошибок. Неоспоримые истины одной эпохи могут быть отвергнуты следующей как закоснелые предрассудки. В аналитической философии XX века одно поколение философов считало нейтральный чувственный опыт единственной надежной основой познания, тогда как следующее поколение объявило «нейтральный чувственный опыт» мифом. Философ, осознающий важность истории, учитывает ее в своей работе, которая никак не может происходить вне исторического контекста. Философская деятельность становится ситуативной и развивается в поле его интересов. Философский вопрос звучит не просто как «Что есть Х?» но и как «Почему мы задаемся этим вопросом об Х именно таким образом в данной исторической ситуации?» Таким образом, историческая осознанность ведет к более глубокой саморефлексии.
Эта саморефлексия необходима также при описании истории философии. Бытует мнение, что историю философии следует описывать как историю проблем, то есть каким образом одна или несколько проблем решались в разные исторические эпохи. Но такое представление об истории философии уже само стало историей. В основе этого представления лежит труд Вильгельма Виндельбанда «История философии» (1891). В начале XX века повсеместно распространяется идея о том, что философия в первую очередь связана с проблемами, а не с теориями или системами. Эта идея находит отражение в названии целого ряда произведений той эпохи: «Некоторые проблемы философии» Уильяма Джеймса, «Некоторые основные проблемы философии» Д. Э. Мура и «Проблемы философии» Бертрана Рассела. Ориентированность философии на проблемы сохраняется и по сей день, и она, очевидно, повлияла на наши представления о том, что такое хорошо написанная история философии. Но сами эти представления исторически обусловлены, а потому их не следует принимать как данность.
Даже самое, казалось бы, нейтральное применение методов, постановка задач и т. п. в философии и науке неизбежно оказываются под влиянием исторической ситуации. Историческая ситуация, в которой я нахожусь сейчас, – это продукт всего предшествующего исторического развития. Тот текст, который я пытаюсь понять, тоже является частью истории. Следовательно, этот самый текст принимал участие в формировании нынешней исторической ситуации, а значит, отчасти именно он сделал меня тем, кто я есть, даже если я никогда не видел его раньше. Философы, идеи которых нам совершенно не близки, могли оказать на наше мышление гораздо больше влияния, чем мы предполагаем. Платон и Аристотель, а точнее тексты, написанные Платоном и Аристотелем, оказали на всех нас самое решительное воздействие еще до того, как мы услышали имена их авторов. Именно поэтому ознакомление с историей философии помогает понять себя.
Глубокое представление о философии невозможно получить, читая книги о философии, в том числе и эту книгу. Лучше обратиться напрямую к источникам и почитать труды классических философов. Большинство из них писали так, что от текста можно получить большую пользу, даже не обладая специальной подготовкой. Пожалуй, не стоит начинать знакомство с Платоном с диалога «Парменид», но прочесть «Пир» под силу каждому. «Метафизику» Аристотеля едва ли можно порекомендовать новичкам, но «Никомахову этику» можно читать без предварительной подготовки. А уж после можно приступать к более сложным работам.
У философии как дисциплины есть одна поразительная черта: на всех уровнях, от школьной скамьи до докторской степени, можно работать с одними и теми же текстами, просто глубина понимания этих текстов будет постепенно увеличиваться. Также необходимо заметить, что самое важное, чему можно научиться у классических философов, – это собственно философствование, и это совсем не то же самое, что пересказ идей Платона, Аристотеля и Канта. Говоря словами Канта, нельзя научиться философии, в лучшем случае – философствованию. И еще одна важная вещь, которой можно научиться у классиков: как сложно разработать ясную, связную и убедительную философскую систему.
Глава 6. Континентальная и аналитическая философия
Не существует никакого принципиального различия между континентальной и англо-американской биологией или физикой. Науки, и особенно естественные науки, в гораздо меньшей степени, чем философия, подвержены конфликтам между различными традициями, частично завязанными на географию. Многие – пожалуй, почти все – современные философы предпочли бы избавиться от разделения на континентальную и аналитическую философию, но в нынешнем философском мире это разделение пока еще настолько сильно, что его невозможно обойти вниманием в книге, претендующей на описание более или менее полной картины. Противостояние континентальной и аналитической философии влияет на процесс обучения студентов, найма университетских преподавателей, выпуск философских журналов и восприятие новых работ по философии. И хотя многие профессиональные философы сходятся во мнении, что это противостояние сомнительно и не идет на пользу делу, оно по-прежнему многое решает. Объясняя суть своей работы, философ едва ли сможет обойтись без терминов «континентальная философия» и «аналитическая философия», поскольку именно они сформировали современный философский ландшафт. Вместе с тем различие между этими двумя традициями трудно объяснить непосвященным. Человеку со стороны трудно будет понять, вокруг чего разгорелся сыр-бор.
А временами дело доходило до настоящих скандалов: когда Деррида получил звание почетного доктора философии Кембриджского университета. В газете The Times от 9 мая 1992 года было напечатано обращение, призывающее руководство университета пересмотреть свое решение. Под обращением подписались многие выдающиеся философы, в том числе Куайн. Решение университета о присвоении звания критиковали в первую очередь потому, что работы Дерриды не имели в философии такого большого веса, как в других дисциплинах, так как не соответствовали «принятым стандартам ясности и убедительности», а также потому, что «стиль изложения в его работах затрудняет понимание», а те места, которые все-таки можно понять, «либо банальны, либо неверны». Тот факт, что это обращение было опубликовано в ведущей британской газете, говорит о весьма напряженном противостоянии традиций, в ходе которого лидер одной из традиций (Куайн) утверждает, что ведущий представитель другой традиции вовсе не заслуживает права называться философом.
Раскол
Велико искушение заявить, что раскол между континентальной и аналитической философией оказался гораздо глубже, чем различие между любыми другими традициями и школами в истории философии. Представители различных школ и раньше испытывали разногласия по многим вопросам, но у них, по крайней мере, было общее основание и принципиальное согласие в том, что касается терминологии, постановки проблем, методов исследования и т. п. Эмпирики и рационалисты хотя бы могли вести между собой дискуссию о своих разногласиях касательно источника знания. Между Англией и континентальной Европой постоянно происходил обмен идеями. Локк подвергался влиянию Декарта и Мальбранша, в свою очередь оказывая большое влияние на французскую философию. Лейбниц посвятил целую книгу критике идей Локка. Юм основательно изучил работы Бейля, а Кант и Гегель сыграли большую роль в развитии как английского идеализма (Грин, Брэдли), так и американского прагматизма (Пирс, Дьюи).
Раскол между континентальной и аналитической философией прервал этот чрезвычайно плодотворный обмен идеями между представители разных культурных и языковых традиций. Два философа, один из которых получил образование в русле континентальной, а другой – в русле аналитической традиции, едва ли найдут, о чем поговорить, несмотря на то что будут иметь степень по одной и той же дисциплине. У них практически не будет общей терминологической и методологической базы, не будет общих проблем. Если они и смогут общаться, то на темы, связанные с периодом до раскола. Впрочем, и здесь им трудно будет понять друг друга, поскольку такие понятия, как «онтология», «истина», «доказательство» и т. д., имеют разные значения в этих двух традициях. Это будет приводить к систематическим недопониманиям и в результате к обрыву коммуникации. Значение слов может меняться в зависимости от контекста и традиции. Ведущие представители обеих традиций зачастую просто неспособны понять друг друга. Когда Морис Мерло-Понти и Гилберт Райл принимали участие в одной и той же конференции, Мерло-Понти спросил: «Разве мы делаем не одно и то же?», и Райл ответил: «Надеюсь, что нет!» Хайдеггер и Карнап тоже не достигли взаимопонимания, равно как и Альфред Джулс Айер с Жоржем Батаем или Джон Сёрл. В 1930-х годах Теодор Адорно жил и работал в Оксфорде и не раз выражал недовольство отсутствием в тамошнем кругу коллег, достаточно квалифицированных, чтобы понять его работу. Звучит неожиданно, учитывая, что многие ведущие философы аналитической традиции – в частности Айер, Райил и Остин в работали в Оксфорде в то же самое время. Адорно пытался говорить с ними о философии, но ему, по его словам, приходилось упрощать объяснения до элементарного, чтобы они вообще хоть что-то поняли. Айер, в свою очередь, считал Адорно просто «забавным персонажем». У них не было общей почвы для установления контакта.
Аналитическая философия
Термин «аналитическая философия» принадлежит, по всей видимости, Герберту Фейглю, но направление существовало и до того, как он дал ему название. Трудно сказать точно, когда возникла аналитическая философия – в подобных случаях точную дату не установить, – но если всё же попытаться, то можно предположить, что это было в 1912 году, когда встретились Рассел и Витгенштейн. Изначально речь шла о философском проекте, согласно которому решение философских проблем заключается в лингвистическом и понятийном анализе. Молодой Витгенштейн определял философию как «критику языка». Он считал, что все философские проблемы носят лингвистический характер, поскольку в основе их лежит непонимание логики языка. Такая лингвистическая философия сильно отличается от собственно лингвистики, поскольку философский анализ языка не интересуется языком не как таковым, а лишь как средством решения специфических философских задач. С точки зрения представителей аналитической традиции, решение проблем можно найти благодаря переводу на искусственный язык или улучшению естественного языка. Так, Ричард Харе определял этику как «логическое исследование языка морали». В предисловии к антологии «Лингвистический поворот» (The Linguistic Turn, 1967) Ричард Рорти пишет, что «лингвистический поворот» можно считать важнейшим философским открытием за последнее время, а может быть, и за всю историю философии. Новая форма философии должна была не просто стать новым подходом – она должна была прийти на смену онтологической направленности античной и средневековой философии и когнитивистской ориентации философии Нового времени. Еще отчетливее эта позиция проявляется у Майкла Даммита, утверждавшего, что основная идея лингвистической философии заключается в следующем: (1) объяснение языка дает объяснение мышления, (2) объяснение языка не предполагает объяснения мышления и (3) только объяснение языка может дать адекватное объяснение мышления. Впрочем, впоследствии оказалось, что далеко не все философские проблемы можно решить подобным образом. Не имеет смысла отрицать, что лингвистический анализ может послужить прекрасным методом для разрешения некоторых философских проблем, но мало кто согласится, что этот метод является единственным адекватным методом. Таким образом, аналитическая философия потеряла то единственное, что могло бы послужить общим знаменателем.
Постепенно понятие «аналитическая философия» расширилось и включило в себя почти всю англо-американскую философию, которая равняется на естественные науки и придает большое значение определению терминов и строгой логической аргументации. На сегодняшний день большинство представителей аналитической традиции ориентируются скорее на когнитивные дисциплины, нежели на лингвистику. Впрочем, здесь необходимо заметить, что не все философы, относящие себя к аналитической традиции, действуют с оглядкой на естественные науки. Поэтому Питер Хэкер, описывая развитие англоязычной философии в XX веке, предложил провести различие между «аналитической философией» и «научной философией». В числе представителей первого направления он называет Остина и Райла, в числе последователей второго – Рассела и Куайна. Мне кажется, что такое разделение нецелесообразно. Исключение Рассела из представителей аналитической философии противоречит здравому смыслу, хотя и подчеркивает, что не все философы аналитической традиции ориентируются на естественные науки.
Куайна можно назвать довольно неоднозначным представителем аналитической школы, поскольку, с одной стороны, он довел лингвистический поворот до логического предела, настаивая, что все онтологические утверждения должны быть «переведены» на язык семантики. С другой стороны, его работа подорвала многие основы аналитической философии. Справедливо было бы считать его первым представителем постаналитической философии, для которой характерны некоторые элементы, чуждые классической аналитической традиции, в том числе возобновление интереса к онтологическим и метафизическим вопросам. В настоящее время в рамках традиции, которую принято обозначать как аналитическую, хотя точнее было бы называть ее англо-американской, существуют три основных направления: (1) «классическая» аналитическая философия в традиционном понимании, не считая повышенного интереса к онтологии (Дэвидсон, Элстон, Сёрл), (2) сциентистская философия, которая полагает, что философские задачи можно решать при помощи науки – к примеру нейропсихологии, которая должна ответить на вопросы о философии сознания (Чёрчленд, Деннет) и (3) направление, сближающееся с континентальной философией в проблематике и основных идеях, но по-прежнему придерживающееся более или менее классического «аналитического» стиля в изложении (Патнэм, Макдауэлл, Брэндом). Впрочем, разнообразие позиций так велико, что говорить о существовании единой традиции уже почти не имеет смысла.
Континентальная философия
Говорить о единой традиции в случае континентальной философии еще труднее. Само понятие «континентальная философия» было придумано Джоном Стюартом Миллем, впервые упомянувшим его в рецензии на книгу в 1832 году. Но оно не получило особого распространения вплоть до того момента, когда аналитическая философия начала использовать его о противостоящей традиции, таким образом дистанцируясь от нее. В широкий обиход это понятие вошло лишь после Второй мировой войны. Изложения сущности континентальной философии обычно начинаются с Гегеля. Это весьма примечательно, учитывая, что во времена Гегеля никакой аналитической традиции, которой «континентальный» Гегель мог бы противостоять, еще не существовало. Гегель – важный предшественник позднейших представителей континентальной традиции, как, впрочем, и многие другие философы, включая Канта. Было бы гораздо логичнее начинать описание континентальной философии с Хайдеггера, жившего на сто лет позже.
Общее понятие «континентальная философия» включает в себя множество весьма различных направлений, традиций и школ, между которыми можно найти не так уж много общего. Если, к примеру, оглянуться на имевшую место в 1980-х годах дискуссию о постмодернизме, то континентальные философы занимали в ней кардинально противоположные позиции, и между взглядами Юргена Хабермаса и Жана-Франсуа Лиотара практически не было пересечений. Другими словами, континентальная философия – явление весьма гетерогенное.
Одно из общих мест в континентальной философии – явный интерес к истории философии, хотя некоторые представители традиции, в том числе Жан-Поль Сартр и жиль Делёз, относились к ней довольно равнодушно. Континентальные философы относят свою деятельность скорее к области гуманитарных, нежели естественных наук. Стиль изложения, свойственный континентальным философам, тяготеет к литературному, и терминология, которой пользуются континентальные философы, унифицирована гораздо меньше, чем в аналитической традиции.
Почему нельзя провести четкую границу
Провести четкую и однозначную границу между двумя традициями невозможно. Проблема в том, что противостояние между ними носит одновременно географический и методологический характер, то есть неоднородно с точки зрения логики. И сравнивать Хайдеггера и Куайна, говоря, что Хайдеггер представляет континентальную традицию, а Куайн аналитическую, – это всё равно, что сравнивать Арнольда Шёнберга и Филипа Гласса, говоря, что Шёнберг сочинял свои произведения в технике додекафонии, а Гласс – американец. Логичнее было бы выстраивать оппозицию на основании либо географии, либо методологии, вместо того чтобы смешивать эти критерии. С точки зрения географии можно говорить о континентальной и англо-американской философии, но это едва ли уместно. Во-первых, и основатели, и более поздние представители аналитической философии жили и работали не только в США и Великобритании. Многие предшественники аналитической философии, в том числе Фреге и члены Венского кружка, проживали на континенте. А представители аналитической философии имелись в Германии, Польше, Финляндии и Австралии. Собственно, они есть повсюду, в том числе в тех странах, где явно преобладает континентальная традиция, например, во Франции. Во-вторых, в Великобритании и США есть свои представители «континентальной» традиции, вышло несколько антологий с названиями вроде «Американские континентальные философы» (англ. American Continental Philosophers). Многие известные философские институты в англоязычных странах придерживаются отчетливой континентальной направленности. Поэтому очевидно, что провести чисто географическое разграничение этих двух традиций не получится.
Обратимся теперь к методологии. Тогда один из полюсов оппозиции будет носить название «аналитический». Изначально понятие «аналитический» было вполне понятным термином, имевшим конкретное определение, но со временем его стали применять ко всем направлениям англо-американской философии, в которых наблюдается хоть какая-то логическая последовательность. Но даже если предположить, что мы по-прежнему можем вкладывать в понятие «аналитическая философия» относительно конкретный смысл, у нас все равно возникнет проблема на противоположном полюсе. Понятие «синтетическая философия» совершенно ни о чем не говорит. Название «не-аналитическая философия» кажется каким-то беспомощным, поскольку анализ – а также целый ряд прочих отличительных признаков аналитической философии – является главным методом любого философского исследования. А разнообразие направлений в рамках континентальной традиции так велико, что задача найти единую методологическую базу, общую для всех и к тому же отличную от методов аналитической философии, практически невыполнима. Каков наименьший общий знаменатель для таких философов, как Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти, Сартр, Адорно, Хабермас, Деррида, Фуко и Делёз? Сложно придумать что-либо помимо того, что все они великие философы XX века.
Ричард Рорти утверждал, что две традиции различаются, прежде всего, тем, что аналитическая философия сосредоточена в первую очередь на проблемах, а континентальная – на именах собственных. Это, конечно, преувеличение, но в целом он был весьма недалек от истины. Обзор континентальной философии состоит, как правило, из глав, посвященных отдельным философам: Канту, Гегелю, Хайдеггеру, Гадамеру и т. д. Там, где аналитический философ напишет статью под названием «Стройная теория истины», континентальный, скорее всего, сочинит работу, озаглавленную «Удалось ли Канту создать стройную теорию истины?» А если представитель аналитической школы напишет текст «Доказуемо ли существование внешнего мира?», последователь континентальной традиции сформулирует ту же тему так: «Опровержение идеализма у Канта». Впрочем, это мало о чем говорит. Во-первых, и континентальная философия часто сосредоточена на проблемах, особенно самые интересные ее области. Именно в силу того, что для континентальной философии характерен выраженный историзм, эти проблемы обсуждаются в контексте идей более ранних философов.
Стэнли Кэвел – один из самых «континентальных» философов в англо-американской традиции – пишет в книге «Глас рассудка» (The Claim of Reason, 1979), что философия для него ряд текстов, а не ряд проблем. Мы, философы, проводим большую часть рабочего времени за чтением, толкованием и комментированием текстов, написанных нашими современниками или предшественниками. Это факт, причем верный для обеих традиций, но в ранней аналитической философии эта тенденция была менее выраженной, поскольку было принято прилагать усилия к выяснению того, был ли философ Х прав, не слишком вдаваясь в то, что, собственно, он имел в виду. Но тексты Куайна и Дэвидсона требуют экзегезы (толкования) – точно так же, как тексты Хайдеггера и Дерриды.
Комментарий постепенно стал самым распространенным жанром и в аналитической философии, так что можно обсуждать, натурализм Куайна, а не натурализм вообще. Если рассматривать историю философии как единое целое, такой подход является скорее правилом, нежели исключением. Крантор, комментатор Платона, написал в 300 году до н. э. комментарий к «Тимею», и уже в 100 году до н. э. такая форма философского исследования получила широкое распространение. Начиная с этого момента философы говорили не о самих по себе проблемах, а скорее о том, что философы прошлого – прежде всего Платон и Аристотель – писали об этих проблемах. В средневековой схоластике эта форма исследования стала практически единственной. Философское образование в общем и целом сводилось к разъяснению философии Аристотеля, и многие философы сделали карьеру, занимаясь исключительно комментированием его трудов. Эта тенденция сохранялась вплоть до возникновения новейшей философии во времена Декарта. Для философов той эпохи было важнее подчеркнуть свой разрыв с прошлым, нежели поддерживать с ним постоянный диалог. Аналитическая философия – это именно та традиция, в которой разрыв с прошлым проявился сильнее всего, но, как я уже говорил, и здесь в последнее время возрождается жанр комментария. Таким образом, и здесь мы не найдем надежного критерия для разграничения традиций.
Противостояние континентальной и аналитической философий невозможно свести к какому-то одному пункту. Можно попытаться разграничить их, описывая аналитическую философию как «сциентистскую», а континентальную как «гуманистическую». Вплоть до Возрождения не существовало различия между гуманитарным и научным взглядом на мир и человека, но затем оно наметилось, и противостояние континентальной и аналитической философий можно трактовать как проявление этого разделения. Разумеется, и в континентальной философии можно обнаружить претензии на научный подход: и Гуссерль, и Хайдеггер подчеркивали необходимость обеспечить «научность» философского исследования. Тем не менее большинство философов смотрели на науку скорее как на одну из проблем философии, нежели как на образец, которому следует подражать при решении проблем. Многие континентальные философы, особенно после Второй мировой войны, считают науку потенциально опасной идеологией. Свойственная науке рациональность считалась одной из предпосылок к геноциду и массовому истреблению. Впрочем, некоторые представители континентальной традиции пишут о естественных науках и логике безо всякой враждебности, точно так же, как некоторые аналитические философы пишут об истории, искусстве и смысле жизни. Можно говорить об основных тематических предпочтениях той или иной традиции, но нет никаких оснований для проведения строгого разграничения в этой области. Если изучить, какие идеи господствуют в обеих традициях сегодня, то можно обнаружить довольно большое сходство. Скажем, «языковой поворот» имел место в обеих традициях. Ведущие представители и аналитической, и континентальной философии, такие как Куайн и Деррида, отрицали эпистемологический фундаментализм.
Отношения с метафизикой
Выяснение отношений с метафизикой характерно для обеих традиций, но происходило оно по-разному. Аналитическая философия пыталась избавиться от метафизики и считала, что может прочно обосноваться за ее рамками, тогда как континентальная философия укоренилась в пределах метафизики, руководствуясь идеей, что любая попытка выйти за ее пределы обречена на провал, и стремиться нужно лишь к тому, чтобы сохранять самообладание в отношениях с метафизикой. Что любопытно, представители аналитической традиции считают континентальную философию худшей из возможных форм метафизики, и это взаимно. В этом смысле очень показательны отношения между Хайдеггером и Карнапом.
Одна из характерных черт логического позитивизма – почти ожесточенное противостояние любой метафизике. При этом метафизикой позитивисты считали практически всю предшествующую философию и стремились преодолеть ее, отдавая предпочтение строго научным формам познания мира. Карнап всем сердцем поддерживал такое отношение к метафизике. Логический позитивизм признавал только два типа проблем: логические и эмпирические. Это означает, что решать проблемы можно либо путем формального логического анализа языка, либо путем эмпирического исследования мира. Проблемы, которые не решаются ни одним из этих способов, просто не считались существенными. В статье «Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1931) Карнап рассматривает текст Хайдеггера «Что такое метафизика?» (1929) и подвергает его логическому анализу. Карнап относит себя к лагерю «противников метафизики». Но если предшественники могли лишь утверждать, что метафизика ошибочна, неясна или неплодотворна, Карнап заявляет, что может нанести метафизике смертельную рану, доказав, что она попросту неполноценна и лишена смысла. Метафизика порождает лишь «мнимые предложения» (Scheinsätze), либо используя слова, лишенные смысла, либо комбинируя слова против синтаксических правил (либо совершая обе ошибки одновременно). Карнап разносит текст Хайдеггера в пух и прах. Он делит все предложения Хайдеггера на три группы: (1) осмысленные предложения, (2) предложения, которые лишены смысла, так как составлены неправильно с точки зрения грамматики или противоречат сами себе, и (3) предложения, которые лишены смысла, поскольку составлены из бессмысленных слов. Карнапу удается найти у Хайдеггера несколько осмысленных предложений, но большая часть текста лишена смысла, поскольку Хайдеггер использует слово «ничто» для обозначения объекта. Предложение «Ничто само себя ничтит» служит кульминацией, поскольку в нем автор изобретает новое бессмысленное слово «ничтить», благодаря которому предложение становится вдвойне бессмысленным. И так далее.
Хайдеггер, в свою очередь, заявил бы, что позиция Карнапа тем не менее метафизична. Для Хайдеггера преодоление метафизики само по себе является метафизической проблемой. Под метафизикой в данном случае понимаются и (1) системы, сформированные философской традицией, и (2) неотъемлемая часть человеческого бытия. Быть человеком – значит иметь понимание бытия, и потому метафизику нельзя просто «отменить». Вместо этого следует осмыслить метафизику, чтобы прийти к пониманию ее роли в нашей жизни, в понимании нашего бытия-в-мире. С другой стороны, у нас есть склонность прятаться от самих себя, и иногда мы понимаем себя неправильно. Наше понимание бытия оказывается превратным. Существует несколько типов такого превратного понимания.
Первый тип – когда мы толкуем самих себя, но при этом прячем собственную сущность. Это естественная превратность. Второй тип можно назвать философской превратностью – в этом случае некоторые усвоенные нами теории мешают пониманию бытия. Впрочем, любая философская деятельность начинается в условиях такого превратного понимания – не существует никакой нейтральной позиции за пределами метафизики. Вопрос о бытии – это вопрос, которого мы не можем избежать, поскольку он лежит у истоков нашего бытия. К примеру, мы задаем вопрос о том, почему вообще существует что-либо, а не ничто. Именно поэтому Хайдеггер утверждает, что метафизика заложена в нашу сущность. Мы не можем полностью избежать метафизики, но можем сформировать осознанное отношение к ней. Именно этого, согласно Хайдеггеру, нет у Карнапа, поскольку Карнап не замечает, что его «научное понимание мира», лишь еще одна из форм метафизики. Карнап и Хайдеггер были единодушны в том, что метафизика не так проста, но по-разному понимали ее сущность и методы ее преодоления.
Карикатуры
Карикатура на континентальную философию, нарисованная представителем аналитической традиции, обличает отсутствие уважения к логическим правилам, отрицание науки, пренебрежение точностью при определении понятий и попытки выдать неясность за глубину. Особенно часто достается Хайдеггеру, которого выставляют этаким шарлатаном. Кроме того, континентальную философию часто обвиняют в преклонении перед историей философии, в жертву которой приносится собственно философская работа. Континентальная философия деградирует до бесконечного повторения истории философии, не имеющего никакой конкретной цели и не служащего для иллюстрации актуальных проблем. С другой стороны, аналитическую философию часто представляют исключительно сциентистской, антиисторичной, сухой и настолько озабоченной правилами аргументирования, что за ними совершенно исчезает цель. Представители аналитической традиции с ужасом наблюдают за тем, как континентальные философы балансируют на шатких понятиях, лишенных точных определений и связанных между собой весьма непоследовательной логикой. В то же время последователи континентальной традиции с неменьшим страхом смотрят на аналитических философов, которые напрочь игнорируют историю используемых понятий и слепо доверяют наукам, которые наделены монополией на открытие истины о мире.
Как в любых карикатурах, в этих содержится зерно истины. Они чутко улавливают некоторые черты аналитической и континентальной философии, но лишь отрицательные черты. Наиболее авторитетные современные философы обеих традиций едва ли подойдут под такое описание. Аналитическая философия традиционно опиралась на естественные науки и эмпирические данные, скептически относилась к Канту и враждебно – к Гегелю и Хайдеггеру. Но со временем, когда эмпирический проект столкнулся с довольно глубокими проблемами, именно Кант и Гегель оказались самыми актуальными собеседниками. Самые многочисленные и серьезные работы последних лет по Канту, Гегелю и Хайдеггеру были написаны англоамериканскими философами, получившими образование в рамках аналитической традиции. Юрген Хабермас и Поль Рикёр со своей стороны могут послужить наглядными примерами континентальных философов, открывших для себя богатые ресурсы аналитической философии. Самые лучшие философские работы наших дней невозможно однозначно отнести ни к аналитической, ни к континентальной философии. Такие философы, как Хабермас, Роберт Брандом, Джон Макдауэлл и Хилари Патнэм, не относятся ни к одной из традиций, но соединяют в себе лучшие черты обеих. Возьмем, к примеру, Патнэма: его ранние работы явно относятся к аналитической традиции как по стилю, так и по содержанию, но в последние двадцать лет он все чаще высказывает мнения, более характерные для континентальной традиции, к примеру, что философия ближе к искусству, чем к науке. С другой стороны, в стиле изложения он по-прежнему остается аналитическим философом.
Диалог
Самый плодотворный диалог между аналитической и континентальной традициями происходит тогда, когда они обсуждают свою общую историю, предшествовавшую расколу. Речь идет о философских учениях XVIII–XIX веков, и в особенности о философской системе Канта. Проблема только в том, что две традиции понимают Канта по-разному. Аналитические трактовки, как правило, принимают во внимание лишь отдельные отрывки из кантовских текстов, к примеру, главу «Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий» из «Критики чистого разума», и цель их состоит в том, чтобы выяснить, выполняет ли текст поставленную задачу, например, удается ли ему опровергнуть скептицизм. Континентальные трактовки часто рассматривают философию Канта как одно целое, исходя из идеи, что отдельные тексты можно понять и оценить лишь в свете целостной системы. Кроме того, континентальные трактовки чаще принимают во внимание исторический контекст, в котором создавались произведения. Представители аналитической традиции стремятся переформулировать, уточнить и зачастую формализовать философию предшественников, не обращая особого внимания на исторический контекст. Представители континентальной философии, напротив, убеждены, что идею невозможно вырвать из контекста без существенных потерь. Для аналитической традиции историчность философских проблем не имеет особого значения, и потому создается такое впечатление, что они извлекают философские проблемы из некоего вневременного хранилища, на которое исторические события не оказывают никакого влияния. Философские вопросы возникают в определенных исторических контекстах, равно как и ответы на эти вопросы. Это не означает, что за пределами своего исторического контекста вопрос теряет актуальность, но для того, чтобы понять вопрос, необходимо понимать и контекст. А чтобы рассматривать некую проблему в свете сегодняшней исторической ситуации, необходимо понимать, чем сегодняшняя ситуация отличается от прежней.
Осознание собственной историчности было визитной карточкой континентальной философии с самого начала ее развития. Аналитическая философия, напротив, практически полностью игнорировала тот факт, что она сама является исторической традицией. Лишь в последние 10–15 лет ситуация начала меняться. Изначально представители аналитической школы решали проблемы из некого «вечного» списка, не принимая во внимание историю их решения и тексты современников. На самом деле, аналитические философы вели себя даже более консервативно, чем континентальные, в том смысле, что они пытались решать вечные проблемы вне контекста, пользуясь нейтральными методами. Такой подход можно назвать базовым для современной философии, как в эмпирической, так и в рационалистской традиции. Без сомнения, он принес философии много пользы, поэтому континентальные философы демонстрируют недальновидность, отвергая его за «антиисторичность». Точно так же недальновидны аналитические философы, отвергающие континентальную философию исключительно в силу недостатка логической стройности и не ценящие более широкий контекст, который учитывается в этой традиции при решении проблем.
Для философов в принципе характерно не соглашаться друг с другом, и в философии наблюдается гораздо меньше согласия, чем в других дисциплинах. Разумеется, философы придерживаются более или менее единого мнения относительно того, какие тексты следует считать каноническими. Никто не оспаривает статус текстов Платона, Аристотеля и Канта. Однако тексты других философов – к примеру, Гегеля, Хайдеггера и Дерриды, – уже могут вызвать споры. И чем ближе к современности, тем больше разногласий возникает относительно того, что следует считать каноном философии. Можно сказать, что философия постоянно пребывает в допарадигмальном или даже многопарадигмальном состоянии. Разногласия между различными философскими позициями – перманентное состояние, которое нельзя разрешить раз и навсегда, да это и не нужно, поскольку такое противостояние приносит свои плоды. За 2500 лет философы так и не пришли к единому мнению, что такое разум, несмотря на то, что именно это качество лежит в основе всей философии. Тем не менее со времен Аристотеля никому не удалось внести полную ясность в этот вопрос. Было создано множество концепций разума (формальные, ситуативные, прагматические и т. д.), и сегодня у нас сформировано довольно полное и разностороннее представление, но и разногласия по этому вопросу сильны, как никогда. Но именно эти разногласия часто оказываются продуктивными, поэтому жаловаться не приходится. С другой стороны, продуктивными разногласия можно назвать только тогда, когда обе стороны стремятся к диалогу и поиску точек соприкосновения.
Идеальный философ – это человек, способный рационально общаться с другими и стремящийся понять их, чтобы вместе достичь истины. Философы нередко бывают именно такими, но есть также множество примеров философской «аргументации», основанной скорее на обвинениях, нежели на рациональном обмене мнениями и доброжелательном стремлении понять противника. Разногласия – это хорошо. Когда слишком много людей во всем согласны друг с другом, это настораживает. Однако, для того, чтобы разногласия были продуктивными, требуется взаимное уважение и взаимная готовность к диалогу. Целый ряд «аналитических» философских институтов не включают в программу обучения таких философов, как Гегель, Хайдеггер, Фуко и Деррида (хотя их работы могут быть включены в библиографию по таким дисциплинам, как литературоведение, история идей и т. п.), и точно так же многие «континентальные» философские институты не включают в программу Фреге, Куайна, Дэвидсона и Даммита. А ведь не обладая знаниями о противоположной стороне, невозможно вступить диалог и вести настоящую дискуссию.
Молодые философы все чаще работают с обеими традициями. Это не означает, что противостояние между ними снято, скорее дело в том, что молодое поколение философов научилось говорить на двух языках. Предпосылкой к такому развитию стало понимание, что аналитическая школа – это просто еще одна историческая традиция, а не единственно возможный подход к философии. Никто не стремится полностью стереть разницу между двумя традициями, но нынешнее поколение философов сумело оценить вклад каждой из них в общий философский инструментарий, к которому мы прибегаем для решения философских проблем. В одних областях лучше подходят методы аналитической философии, в других – континентальной, а в третьих они прекрасно дополняют друг друга.
Глава 7. Перспективизм и плюрализм в философии
Источники философских разногласий
Почему среди философов так много разногласий? Очевидный ответ заключается в том, что у всех людей разный опыт и как следствие, разная философия. Рабовладелец, живший в Древней Греции в 300 году до н. э. (Аристотель), имел другие представления о человеческом достоинстве, чем пиетист, живший в Пруссии в XVIII веке (Кант). В попытке разработать последовательную философию мы делаем выбор в пользу различных теорий. Если мы уверены, что любое знание должно быть основано на эмпирических наблюдениях, то исключаем из своей картины мира нормативные знания в сфере морали, поскольку они не основаны на эмпирических наблюдениях и не выводятся из них. В то же время некоторые философы полагают, что мы, несомненно, обладаем внутренним знанием о нормах морали, и поэтому они вынуждены отказаться от идеи, что любое знание основано на эмпирических наблюдениях. Обе позиции вполне приемлемы, но каждая из них предполагает отказ от другой и не существует неоспоримых аргументов в пользу какой-либо одной позиции.
Разногласия между философами могут возникать на нескольких уровнях. Можно выделить три уровня, на которых происходит философская деятельность:
Цель философии: чего мы стремимся достичь посредством философии?
Проблемы философии: на какие вопросы мы должны ответить для достижения цели (1)?
Методы философии: какими способами мы будем решать проблемы (2) ради достижения цели (1)?
Ни на один из трех вопросов не существует однозначного ответа. При этом они тесно связаны между собой. В зависимости от того, как мы понимаем цель (1), мы формулируем проблемы (2), а это, в свою очередь, влияет на методы (3). Если начать с другого конца и, например, предположить, что существует только один правильный метод в философии, это повлияет на наш выбор проблем, которые подходят для применения данного метода, и в конечном счете на нашу цель. Все проблемы и цели, которые не согласуются с выбранным методом, будут объявлены нерелевантными для философии. Нейтральной позиции в этом отношении нет.
Существует ли нечто универсальное, что принимает как данность любая философия? Кое-кто считает, что таким безусловным фактом является материальный мир, который наилучшим образом объясняют естественные науки, и если в научной картине мира нет места таким явлениям, как человеческая воля, сознание и т. д., то их следует отбросить как иллюзии. Другие утверждают, что безусловным фактом является собственный жизненный опыт, что мое бытие-в-мире служит фундаментом, а научный подход – лишь основанная на этом фундаменте абстракция. Разумеется, существует материальный мир, который поддается количественному описанию, но, кроме того, существует и качественный чувственный опыт, как, например, чувство одиночества, любви и т. д. Существует мнение, что звук – это всего лишь движение воздуха, и это верно в некотором смысле, но с другой стороны звук – это явление, которое мы слышим. Различие между двумя этими подходами очень велико. Мы никогда не сможем объяснить человеку, глухому от рождения, что такое звук, даже если он понимает, что такое движение воздуха. У звука как явления есть некие качественные свойства, которые невозможно свести к чисто количественному описанию. То же можно сказать и о других наших чувствах. Иначе говоря, на мир можно смотреть с разных точек зрения. В идеале необходимо учитывать все эти аспекты, но их далеко не всегда получается объединить в одну непротиворечивую картину.
Перспективизм
Занимаясь философией, мы уже занимаем некую позицию, то есть смотрим на вопрос под определенным углом. Мы предполагаем, что занятая нами позиция наиболее разумна. Последователь метафилософского монизма утверждает, что его позиция универсальна. В то же время плюралист заявляет, что существует бесконечное многообразие точек зрения, соответствующих различным нормам рациональности, и что нет такой высшей, нейтральной нормы, которая была бы рациональнее всех остальных. Если мы хотим доказать, что одна концепция рациональности лучше другой, можно пойти двумя путями: (1) дать рациональное обоснование, что выбранная нами концепция является оптимальной, либо (2) дать внерациональное обоснование, что наша концепция рациональности является оптимальной. Оба пути проблематичны. Путь (2) предполагает отсылку к той или иной внерациональной причине – например, ницшеанская «польза для жизни». Но если спросить последователя Ницше, почему польза является решающим фактором, мы тем самым потребуем дать рациональное обоснование. В конечном счете этому ницшеанцу придется заявить, что иметь то или иное представление рационально, поскольку это полезно для жизни. Таким образом, мы вернемся в исходную точку.
Давайте обозначим адепта первого пути как «просветительского философа». Он может показать, почему принятие той или иной концепции рациональности рационально, но у него в распоряжении будут, судя по всему, только ресурсы той самой концепции, в пользу которой он приводит аргументы. Это значит, что «просветительский философ» будет заниматься так называемым «предвосхищением основания» (когда в качестве аргумента принимается то, что еще следует доказать), которое, скорее всего, не входит в принятую им концепцию рациональности, и как следствие он будет противоречить сам себе. Проблему можно решить, допустив «предвосхищение основания» в свою концепцию, но тем самым мы даем всем остальным карт-бланш на аналогичное действие и снова возвращаемся в исходную точку, где имеется множество различных концепций и нет очевидных критериев, позволяющих предпочесть одну из них другой.
Бытует мнение, что все наши представления должны быть доказуемы или как минимум иметь какое-то обоснование. Представление, которое невозможно доказать или обосновать, не считается рациональным. Но в таком случае мы все нерациональны. Требование обоснования вполне уместно, но обосновать можно далеко не все по той простой причине, что мы могли бы потребовать обоснование для любого обоснования, а затем обоснование для нового обоснования, и так до бесконечности. В какой момент нужно прервать эту цепочку обоснований? Мы оказываемся заложниками ситуации, которую Ханс Альберт назвал «трилеммой Мюнхгаузена». Впервые она была сформулирована еще эллинским философом Агриппой: мы можем либо (1) прервать цепочку обоснований в любом месте, либо (2) продолжать регресс в бесконечность, либо (3) ходить по логическому кругу. Предпринимались попытки разрешить эту трилемму при помощи так называемых трансцендентальных аргументов, существующих в нескольких вариантах, но надежность этих аргументов вызывает сомнения.
Рациональность человека проявляется во множестве конкретных и абстрактных видов деятельности. Для философии одним из важнейших видов рациональной деятельности всегда была аргументация. В ходе исторического развития эта деятельность не раз претерпевала изменения, в разные эпохи считались приемлемыми или неприемлемыми очень разные типы аргументов. Так, средневековый философ Ансельм Кентерберийский вел дискуссию о том, как возможно спасение не только современников Христа, но и последующих поколений, которая совершенно неактуальна в наши дни. Ансельм решает поставленную проблему, указывая на тот факт, что после изгнания Люцифера и его приспешников (численность которых составляла около трети всех ангелов) на небесах освободилось очень много места и это место необходимо заполнить, чтобы восстановить равновесие. Его способ аргументации был вполне уместен для той эпохи, но сегодня кажется не слишком убедительным, хотя некоторые религиозные секты до сих пор мыслят приблизительно в таком ключе. Причина, по которой меняется способ аргументации, заключается отчасти в том, что на многие аргументы, казавшиеся убедительными раньше, находятся не менее убедительные контраргументы. Велико искушение воспринимать этот процесс как путь прогресса, подводящий нас все ближе к правильному пониманию рациональности.
Однако здесь возникает проблема несоизмеримости. Эту проблему практически одновременно обозначили Томас Кун и Пол Фейерабенд около 1960 года, но проблески осознания ее встречаются еще у досократиков. В двух словах: проблема заключается в том, что не существует нейтральной позиции, с которой можно было бы оценить рациональность различных аргументов и теорий. Приводя аргументы в пользу собственной парадигмы или перспективы, мы пользуемся ею же, а следовательно, нет никакого объективного способа разрешить соперничество между различными концепциями. Не существует нейтральных позиций, чувственного опыта, фактов и т. д., независимых от точки зрения наблюдателя или теории, в рамках которой он действует. Другими словами, не существует универсальной точки зрения на мир, которую можно было бы принять за архимедову точку опоры. В отсутствие такой универсальной точки опоры можно говорить только об относительной оценке, а любая относительная оценка предполагает границы, не обязательно совпадающие с границами той парадигмы, которая подвергается оценке. Для наших целей важно понять, что оценка некоторого аргумента как плохого или хорошего будет зависеть от точки зрения, на которой мы стоим. В тех случаях, когда все участники ситуации согласны относительно того, какие аргументы следует считать хорошими, а какие плохими, мы можем определить «рациональное» при помощи «лучшего» аргумента. Именно так обычно и происходит аргументация, поскольку все мы воспитаны в одних и тех же общественных рамках и усвоили примерно одинаковые правила аргументации. Но когда стороны не так единодушны, сразу же возникают серьезные проблемы, поскольку мы больше не можем принимать «хорошие» и «плохие» аргументы как данность, а следовательно, не можем определить, что считать рациональным.
Ницше пишет, что рациональное мышление есть не что иное, как толкование, основанное на схеме, которую трудно опровергнуть. Он также отмечает, что любой философ в своей деятельности доходит до такой точки, когда на сцену выходят его убеждения. В современной философии принято говорить не об убеждениях, а об интуиции, то есть о фундаментальных представлениях, что нечто должно быть таким или иным, но смысл тот же. Философия в значительной степени строится на интуитивных представлениях, которые либо вступают в противоречие, либо согласуются друг с другом. Когда интуитивные представления слишком разнятся, нам трудно вести конструктивную дискуссию. По мнению Ницше, существуют только индивидуальные позиции, и он утверждает, что «объективность» – это не что иное, как наблюдение явлений с множества различных индивидуальных позиций. Стандартное возражение против его позиции таково: если перспективизм верен, то он является лишь одной из многих возможных перспектив, а в таком случае он верен не больше, чем любая другая перспектива. Впрочем, это возражение не слишком опасно. Любой последователь перспективизма согласен признать, что перспективизм сам является перспективой, наравне с другими, но это ничего не говорит о его истинности или ложности. Чтобы оценить, насколько перспективизм верен, целесообразен и т. п., необходимо сравнить его с конкурентами и доказать, что как минимум одна из альтернатив лучше преспективизма. А до тех пор, пока это не доказано, критика не наносит перспективизму заметного ущерба.
Системность
Существует ли единая рациональная база для тематизации разных видов опыта или есть лишь ряд мало связанных между собой перспектив и практических подходов? Кант поставил перед собой цель создать именно такую базу, он считал себя миротворцем в области философии. В 1796 году он опубликовал небольшую работу под названием «Сообщение о скором завершении трактата о вечном мире в философии». В этой работе философия представлена как «поле битвы». У человека есть склонность, а скорее даже тяга к философствованию, но, поскольку человек также является стадным животным, мы сбиваемся в различные лагеря, ведущие между собой войну. Кант же хочет установить мир в философии путем образования «критического суда» над всем философским дискурсом, превратив тем самым войну в судебный процесс. Однако количество лагерей, перечисленных Кантом в этом исследовании, уже говорит о том, что его проект был чересчур оптимистичен. Кроме того, само «поле битвы» имело настолько сложный ландшафт, что было бы наивно верить в возможность «критического трибунала», ведь для этого потребовалась бы какая-то нейтральная позиция, и стороны никогда не смогли бы договориться о том, где ей быть. В философии Канта немало спорных моментов, в том числе и тот, что он уделяет слишком мало внимания истории философии, но мне кажется, что в философской концепции Канта содержится, по крайней мере, одна важная идея, а именно – идея о том, что критическая философия состоит из системы перспектив.
Набора никак не связанных между собой перспектив недостаточно. Нам необходима система. Раньше считалось, что каждый уважающий себя философ должен создать собственную философскую систему или по крайней мере стремиться к этому (как правило, дело ограничивалось лишь стремлением, и к тому моменту, как автор умирал или разочаровывался, система находилась в зачаточном состоянии). Философские системы Канта и Гегеля представляли собой синтез практически всех знаний человечества: естественных наук, математики, этики и права, культуры и истории, религии и искусства и т. д. Однако после Гегеля попытки развить такие системы предпринимались все реже, и в наши дни мало кому придет в голову пытаться выстроить целостную философскую систему. Философы в большинстве своем работают «по образцу науки», как выразился Кюн, то есть исследуют ограниченный и четко определенный круг проблем, которым можно заниматься отдельно в соответствии с общепринятыми критериями академической деятельности. Подобный подход принес философии много пользы, но при этом лишил ее амбиций по созданию общей картины.
Кое-кто даже утверждает, что время философских систем прошло. Такую точку зрения высказывал, в частности, Ричард Рорти. С другой стороны, очевидно, что философия не может быть начисто лишена системности – тогда она перестала бы быть философией. Даже самые «несистемные» философы – к примеру, Ницше и поздний Витгенштейн, подходили к исследованию определенных тем довольно систематично, хотя и не стремились к созданию единой системы. Витгенштейн сам подчеркивал, что, несмотря на фрагментарность его трудов, тот, кто понимает его, «сможет вынести из них целостную картину мира», то есть речь не идет о беспорядочном наборе отдельных наблюдений. К слову, сам Рорти как философ гораздо более систематичен, чем те же Ницще и Витгенштейн. Любая философия системна, хотя и в разной степени. Но время больших систем, объединяющих все знания человечества, действительно прошло.
Начиная с 1900 года Рассел доказывал, что философы должны отказаться от попыток выстраивания целостных систем, характерных для идеалистов XIX века. Он пришел к таким взглядам после периода увлечения философским идеализмом с сильным религиозным уклоном, который он пережил в 1890-х годах. К концу 1897 года он все больше стал склоняться к тому, что философия не должна быть проводником по жизни и выполнять функции религии и этики и что у нее нет задачи построения масштабной идеалистической системы всего. Вместо этого философ должен был решать одну проблему зараз, как поступают ученые. Аналогичная идея лежала в основе появившегося примерно в то же самое время первого конвейера на автозаводе Форда. Таким образом, занимаясь каждый одной определенной проблемой, философы смогут углубить специализацию и вместе с тем охватить все области философии, не беспокоясь о целостности философского знания, считал Рассел. Этот подход стал основой аналитической традиции, а затем и академической философии вообще, что привело к постоянному сужению специализации отдельных философов. Это означает разрыв с платоновским идеалом философа как «синоптика», то есть того, кто видит полную картину человеческих знаний. Кроме того, вследствие такого развития философия чем дальше, тем меньше занимается глобальными культурными проблемами, которые с трудом укладываются в схему разделения философского труда.
У философов по-прежнему сохраняется желание видеть связи между различными сторонами нашего знания о мире и опыта взаимодействия с ним. Задача философии состоит не только в том, чтобы изучать отдельные явления, но и в том, чтобы видеть связь этих явлений с другими явлениями, а также учитывать более широкий контекст, в котором эти явления существуют. Все явления можно исследовать с различных точек зрения, или перспектив. Но эти перспективы не образуют единого целого – между ними имеются системные противоречия и нестыковки, которые затрудняют достижение системного понимания. Поэтому философия должна заниматься критическим изучением всего, что только можно, в том числе таких явлений, которые обычно принимаются как данность, по умолчанию, и пытаться затем выстроить их максимально связное целое.
Проблема заключается в том, что, судя по всему, на сегодняшний день всю сумму знаний человечества невозможно объединить в непротиворечивую и однородную систему. Картина мира в современных естественных науках не согласуется с гуманитарными идеями современной культуры, поскольку в естественных науках отсутствует представление о нормативности, смысле, цели и т. д. Величайшие научные открытия последнего времени заставляют нас думать, что наука – единственный надежный источник знаний о мире. Как следствие вся гуманитарная область знания кажется зыбкой, и это угрожает нашей идентичности и нашим ценностям. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы настаивать на сохранении обеих перспектив и считать их взаимодополняющими.
Комплементарность
Окружающий мир в нашем повседневном восприятии может радикально отличаться от того, каким он предстает в научной картине. Мы видим твердые объекты там, где субъядерная физика видит скопления элементарных частиц. Мы ощущаем как мысли нечто, что нейронаука считает электрическими импульсами в нервных клетках. Многие считают, что мир науки самый «настоящий», а наш повседневный опыт является более или менее иллюзорным. Так, к примеру, лауреат Нобелевской премии по физике Артур Эддингтон указывал рукой на стол и утверждал, что это не настоящий стол, а скорее комбинация атомов и пустот. Как справедливо заметил в ответ на это Густав Гемпель, объяснение должно быть убедительным. А объяснение, которое дает Эддингтон непосредственно наблюдаемому нами столу, убедительным не назовешь. Пожалуй, наилучшим выходом будет считать позицию элементарной физики и непосредственного наблюдателя комплементарными, или взаимодополняющими. Наш повседневный опыт восприятия мира, который Гуссерль называет «естественной установкой», не очень хорошо согласуется с научными представлениями. Мы продолжаем считать стол твердым объектом и по-прежнему возлагаем на окружающих ответственность за их мысли и действия (а не просто считаем их заложниками нейрофизиологических процессов). Когда Раскольников в «Преступлении и наказании» убивает старушку процентщицу топором, можно объяснить этот поступок тем, что нейроны в его мозгу генерируют заряд, который приводит к возникновению нервных импульсов и передаче их в руки Раскольникова, в результате чего мышцы сокращаются и производят действие, опуская топор на голову старушки. Такой взгляд более чем справедлив. Но это лишь один взгляд из возможных. Проблема в том, что он не учитывает этических аспектов поступка Раскольникова. Другая возможная перспектива – рассматривать убийство старушки именно как поступок. Всем живым существам свойственно поведение, которому есть причины. Но люди кроме того могут совершать поступки, а у поступков есть основания. В этом заключается отличие человека от животных. Основания, в отличие от причин, подчиняются неким нормам. Любой поступок можно изучать как часть поведения, но тогда мы упускаем те аспекты, которые отличают поступок от поведения. Для полноценного понимания явления нам нужны обе перспективы.
Философ Х утверждает, что представление, которое я считаю истинным в повседневной жизни, не выдерживает рациональной критики к примеру, представление о свободе воли. Философ Х заявляет, что свобода воли не может существовать в мире, неизбежно управляемом природными законами. Я могу избрать различные стратегии возражения. Я могу опровергнуть его аксиому какой-нибудь другой аксиомой, могу попытаться доказать, что люди неизбежно должны считаться существами, обладающими свободой воли, и что позиция философа Х ошибочна. В такой ситуации и философ Х, и я будем действовать исходя из этого, что позиция каждого безальтернативна. Но я могу избрать и другую стратегию, просто-напросто показав, что имеются альтернативы позиции философа Х. В этом случае мне не придется доказывать, что существует только одна альтернативная позиция, которую мы обязаны занять, я должен буду лишь показать, что существуют и другие возможные позиции наряду с позицией Х. То есть аргументация будет строиться не на том, что мы неизбежно обладаем свободой воли, а на том, что мы можем ею обладать. В истории философии к такому методу особенно часто прибегали скептики, показывая, что одна альтернатива так же возможна, как другая. Кант развил подход скептиков в своем методе, который он называет полемическим использованием разума. Этот метод заключается в непрерывной критической оценке, так что проблема не решается раз и навсегда, но ведется постоянная борьба с различными формами догматизма путем демонстрации других, не менее возможных альтернатив. Важнейший результат философского исследования заключается для меня не в том, что я открываю новую истину, но скорее в том, что я обретаю способность одновременно видеть несколько вариантов: спектр возможностей моей мысли расширяется. При этом весьма важно, чтобы эти варианты не были взяты с потолка. Они должны быть обоснованными. Иногда для того, чтобы дать дорогу новому, требуется доказать, что старое неверно, но зачастую различные варианты решения одной проблемы могут существовать бок о бок как взаимодополняющие перспективы.
Предпосылкой к размышлениям о мире служит не теория относительности Эйнштейна, не эволюционная теория Дарвина и не психоанализ Фрейда. А также не эмпиризм Юма, не трансцендентальная философия Канта и не феноменология Гуссерля. Предпосылкой и исходной точкой служит знакомая нам всем повседневность. Разумеется, некоторые научные теории оказывают влияние на наше обывательское восприятие мира, но в значительной степени эта наивная картина мира остается донаучной. Без этого повседневного опыта, связанного различными условностями и установившимся порядком, теории вообще не могли бы появиться. Теории появляются потому, что установившийся порядок и принятые условности не всегда позволяют нам хорошо справляться с повседневностью. Отдельные условности вступают в противоречие, мир не отвечает нашим ожиданиям, возникают конфликты интересов. Мы оказываемся в ситуациях, когда нам приходится выбирать между дружбой и беспристрастностью, свободой и порядком, индивидуальным и коллективным и т. д. Нам непонятно, как вести себя в этих ситуациях и что предпринять. Можно сказать, что, если наши ожидания не подтверждаются, мир становится ненадежным. И тогда возникает потребность в теоретическом осмыслении мира с целью снять фрустрацию. Важно подчеркнуть, что теоретические исследования подразумевают, что у нас уже есть определенные бытовые представления – без них не возникло бы фрустрации, а следовательно, не было бы повода заняться теорией. Окунаясь в теорию, мы стремимся разобраться с теми аспектами окружающего мира, которые кажутся нам самыми важными. Постепенно мы приобретаем определенную теоретическую подготовку именно в этих аспектах, при этом наша точка зрения является результатом углубленного изучения определенных, интересных нам, аспектов повседневного опыта. В результате теоретических изысканий в наши обывательские представления могут вноситься коррективы, но эти коррективы не могут просто отменить повседневный опыт как таковой, потому что именно он лежит в основе всего.
Режимы рефлексии
Джон Кекес выделяет следующие возможные перспективы, или «режимы рефлексии»: естественные науки, история, этика, эстетика, религия, субъективность. Этот список кажется мне достаточно случайным в том смысле, что он не обязательно должен состоять именно из названных пунктов, но многие могут согласиться, что таковы самые распространенные точки зрения на действительность. Естественные науки пытаются объяснить мир, указывая на регулярные соответствия между причинами и следствиями. История – здесь она понимается в широком смысле и включает также социологические дисциплины – пытается объяснить мир через описание человеческих обществ, организаций и конвенций. Религия пытается объяснить мир сверхъестественным порядком, который объясняет происхождение и придает смысл всему сущему. Этика не столько объясняет, сколько оценивает и пытается установить нормы для оптимальной организации нашей жизни и деятельности общественных институтов. Эстетика тоже скорее оценивает, но для нее критериями являются красота, уродство, стиль и другие внешние свойства объектов. Субъективная точка зрения связана с тем, какую роль наш личный опыт и интересы играют в общей картине мира. Между различными перспективами нет четких и непроницаемых границ. Эстетика и этика плавно перетекают друг в друга, религия связана с эстетикой, наука – с историей и т. д. К тому же очевидно, что различные перспективы имеют разную значимость для разных людей – для меня религиозная перспектива может быть менее важна, чем для кого-то другого, и тем не менее я признаю, что она имеет право на существование. Каждая перспектива пытается своим способом объяснить нам мир, а философия пытается понять эти столь различные способы понять мир. Таким образом, философия – это искусство удерживать в уме как минимум шесть мыслей одновременно.
Для того чтобы описать какое-то событие, можно использовать любую из упомянутых перспектив. Возьмем в качестве примера террористическую атаку на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Естественные науки могут изучать физические характеристики этого события, которые привели к конечному результату. История может осветить идеологические противоречия, лежавшие в основе теракта, а также их социальные и исторические истоки. Религия может оценить «духовную» составляющую этого события и то, насколько оно согласуется с высшей справедливостью. С точки зрения этики можно говорить о том, насколько произошедшее оправданно: был ли теракт безусловным злом, или США получили по заслугам? В эстетической перспективе можно рассматривать это событие как готовый голливудский фильм, обладающий определенными визуальными характеристиками. В субъективной перспективе мы говорим о том, какую роль сыграл теракт в моей жизни, изменив мир, в котором я продолжаю жить.
Итак, любое явление в принципе можно рассматривать с любой из этих перспектив, но это не означает, что все они одинаково хорошо подходят для исследования данного конкретного явления. Физика мало чем может помочь в описании «Пьеты» Микеланджело или «Лавандового тумана» Джексона Поллока, зато здесь очень пригодятся религия, история и эстетика. Эти перспективы, в свою очередь, мало полезны для изучения поведения частиц в гребне волны, хотя мы, конечно, можем изучать с эстетической точки зрения картины, изображающие море. Этика плохо подходит для анализа суточной нормы осадков, а религия неприменима к изучению кварков и лептонов. Разумеется, нельзя полностью отрицать релевантность той или иной перспективы для описания явления, лежащего за пределами ее традиционной области, но в таком случае потребуется хорошее обоснование. А обоснования чаще всего блистают своим отсутствием, поскольку ярые сторонники отдельных перспектив, как правило, убеждены, что их любимая перспектива подходит для объяснения всех без исключения явлений. К примеру, социобиологическая теория утверждает, что объяснение любой человеческой черты можно найти в генах. Здесь мы видим типичную логическую ошибку, поскольку выдвигается предположение, что способность биологии объяснять некоторые человеческие черты распространяется на все человеческие черты без исключения.
В других случаях проблема не в логической ошибке, а скорее в том, что две конфликтующие перспективы дают взаимоисключающие объяснения одному и тому же явлению. Наука может давать объективные, номологические объяснения нашим действиям, которым будет приписываться строгая неизбежность, тогда как в субъективной перспективе эти действия совершаются нашим волевым усилием, и мы сами решаем, хотим мы совершить некоторое действие или нет. Ни объективное, ни субъективное объяснения не могут претендовать на роль единственной истины – они дополняют друг друга. В большинстве случаев выбор между этими двумя перспективами не вызывает трудностей, но проблемы могут возникнуть, например, в ходе судебного процесса, когда свобода воли фигуранта может быть поставлена под сомнение, если будет доказано, что существуют объективные причинно-следственные связи, которые могут оказаться сильнее свободы воли. Аналогично может возникнуть конфликт между эстетической и этической точкой зрения, например, на насильственные действия. В насилии можно увидеть красоту, поскольку наши представления о прекрасном не всегда подчиняются нашей нравственности. Никто не может запретить нам высказывать подобные эстетические суждения, как, например, тогда, когда Карлхайнц Штокхаузен назвал террористическую атаку на Всемирный торговый центр гениальным произведением искусства. Можно считать, что такое заявление – проявление плохого вкуса, особенно если оно сделано вскоре после трагедии, когда многие родственники погибших еще носят траур. Тем не менее такая точка зрения имеет право на существование. Мы занимаем по отношению к насилию как этическую, так и эстетическую позицию. Конфликты ценностей в современном обществе могут возникать не только между различными социальными группами, но и в душе отдельного человека, относящегося к различным сферам общественной жизни. И подобно тому, как конфликты между различными социальными группами невозможно разрешить отсылкой к нейтральной высшей инстанции, так и внутренние конфликты человека нельзя урегулировать таким образом. Тем важнее сохранять плюрализм взглядов.
Каждая перспектива учитывает только релевантные для себя факты. Ничто не может быть релевантно «само по себе». Некоторые факты релевантны только для одной перспективы, а для другой совершенно не релевантны. Строго говоря, все перспективы занимаются подтасовкой фактов, поскольку разрозненные данные необходимо собрать в единое целое, которое неизбежно будет носить идеализированный характер. Проблемы начинаются в тот момент, когда эта идеализированная версия принимается за действительность. В таких случаях одна перспектива предпринимает попытки вытеснить все остальные и подогнать все существующие факты под себя. Любая перспектива является обобщением, и порой может возникать видимость, что одна-единственная перспектива способна объяснить все аспекты действительности. Такая перспектива становится тоталитарной и напрочь забывает о том, что она является лишь одной из многих равноценных перспектив. Она превращается в идеологию сциентизма, историзма, религиозного фанатизма, морализма, эстетизма или субъективизма. С моей точки зрения, одна из главных задач философии отдельных перспектив – философии науки, философии этики, философской эстетики и т. д. – заключается в том, чтобы обозначить границы для своей перспективы. Эта задача – важная составляющая критической функции философии. Чтобы нормально осуществлять эту критическую функцию, для философа очень важно осознавать существование и других перспектив, то есть быть в некоторым смысле «многоязычным». Я убежден, что это соображение может служить главным аргументом против чрезмерного сужения специализации в философии.
Таким образом, главная задача философа состоит в том, чтобы вмешаться, когда одна из перспектив начинает слишком доминировать. Это важно потому, что ни одна из перспектив сама по себе не может удовлетворительным образом описать все важные аспекты нашего опыта. Я уверен, что не существует одного верного описания мира, поскольку существует несколько. Человеческая жизнь богата, неупорядоченна и многогранна, она не может быть охвачена анорексичной философией, истончающей каждое понятие до полного его исчезновения. Все гораздо сложнее. Человек участвует во многих видах деятельности – от квантовой физики до воспитания детей, от геноцида до занятий искусством и т. д. Вероятно, самое главное свойство человека – это разнообразие его деятельности, и маловероятно, чтобы существовала одна-единственная теория и один-единственный вокабуляр, которые могли бы охватить всю сложность жизни. Тем не менее многие теоретики убеждены, что самое простое решение является самым лучшим. «Бритва Оккама» стала распространенным принципом, согласно которому всегда следует избирать самую простую из гипотез, не противоречащих фактам. Я могу согласиться с тем, что все нужно делать максимально просто, но здесь важно не перегнуть палку и не упростить сложное. У нас нет задачи упростить все любой ценой. И макро-, и микрокосмос довольно сложны, и мы должны отдать должное их сложности. Плюрализм обогащает наше представление о мире.
Глава 8. Философия как наука о мудрости
Библейский Иов вопрошает: «Где премудрость обретается? И где место разума?» Отвечая на этот вопрос сегодня, мы уж точно не указали бы на профессиональную философию, несмотря даже на то, что в переводе с древнегреческого философия буквально означает «любовь к мудрости». Основные проблемы современной профессиональной философии связаны с теорией познания: что я могу знать и каким образом. Таким образом, в центре внимания оказывается знание, а не мудрость. Мудрость же скорее касается экзистенциальных вопросов: что такое хорошая жизнь и как ее достичь. У классических философов мы находим именно такое понимание мудрости. Это особенно отчетливо проявляется у Канта, который разделяет академическое и мирское понимание философии, то есть философию как науку о знании и науку о мудрости. Кант стремился не к занятиям академической философией ради философии, он был убежден, что только поиск мудрости придает философии собственную ценность. Необходимо подчеркнуть, что академическое и мирское понимание философии упоминалось и другими философами, жившими до Канта, и встречалось у многих более поздних философов, в частности, у Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше, Джеймса, Дьюи, Хайдеггера, Витгенштейна и Фуко. Но на сегодняшний день академическое понимание философии доминирует.
Существует довольно большая разница между тем, как понимает философию большинство людей, и тем, чем в действительности занимаются профессиональные философы. Обыватели убеждены, что философы занимаются решением «глубоких» вопросов о смысле жизни, о том, как относиться к жизненным испытаниям и т. п. Вероятно, именно поэтому античная философия так популярна среди людей, не имеющих к профессиональной философии никакого отношения. Они уверены, что философы – это такие люди, которые стремятся обрести мудрость. Но можно иметь докторскую степень по философии, для получения которой требуется около десяти лет непрерывной учебы, и ни разу не обратиться к этой теме. Можно даже пройти все ступени карьерной лестницы профессионального философа, совершенно обходя стороной эти вопросы. Профессиональный философ, чья деятельность связана с темой мудрости, скорее исключение, нежели правило, по крайней мере в наши дни, и сегодня философ, которого интересует исключительно мудрость, не будет иметь большого авторитета среди коллег. Короче говоря, между представлением обывателей о профессиональном философе и собственно профессиональным философом практически нет ничего общего.
Получается, что либо большинство людей имеют неправильные ожидания, либо профессиональные философы предают свой предмет, даже не пытаясь соответствовать таким ожиданиям. По моему мнению, ожидания как раз справедливы, а теперешняя философская практика неверна.
Философия и реальная жизнь
В понимании Платона философ должен постоянно подвергать сомнению собственное понимание жизни. Античные философы никогда не стремились исключительно к теоретическому знанию, итог их работы всегда должен был иметь практическое применение. Для Платона философия была дисциплиной практической: она связана с формированием человеческой личности. Общая черта всех философских школ античности состояла в том, что их философия была непосредственно связана с реальной жизнью. Можно встретить упреки в адрес тех философов, которые красиво говорят, но не живут согласно
декларируемой философии. Сенека утверждал, что они превратили любовь к мудрости (философию) в любовь к словам (филологию). Сегодняшняя философия его бы наверняка разочаровала, поскольку она как раз ближе к филологии – и в континентальной, и в аналитической традиции. Философия наших дней ближе к главному исключению из античной философской традиции – Аристотелю. Именно он впервые провел различие между теоретической и практической мудростью. В своей «Метафизике» Аристотель заявляет, что наивысшая форма знания та, к которой мы стремимся исключительно ради самого знания, а в «Никомаховой этике» пишет, что созерцательная жизнь (biostheoretikos) гораздо возвышеннее, чем жизнь практическая или политическая (biospolitikos). Впрочем, в «Политике» он подчеркивает, что даже у теоретических с виду занятий имеется практическая сторона, поскольку они приводят к тому, что человек проживает свою жизнь с мудростью.
Для Платона, Аристотеля и большинства античных философов жизнь, прожитая в занятиях философией, является лучшей из всех возможных. Сегодня мало кто с ними согласится. Если под философской жизнью подразумевать ту жизнь, которой живут профессиональные философы, то она едва ли отличается от любой другой жизни. Сейчас уже трудно сказать, какую жизнь можно было бы назвать философской, и это связано в том числе с тем, что философия в значительной мере потеряла связь с реальной жизнью за пределами академического дискурса. Многие – вероятно, почти все – профессиональные философы считают философию теоретической дисциплиной, которая совершенно не обязана влиять на реальную жизнь философа больше, чем влияла бы любая другая теоретическая дисциплина. С дескриптивной точки зрения с этим утверждением все в порядке: именно так все и обстоит на сегодняшний день. Но с нормативной точки зрения можно заметить проблему: действительно ли философия должна быть такой? Я не утверждаю, что все философы обязаны быть «мудрецами», живущими эталонной жизнью. Скорее хочу отметить, что в античной философии имелся один важный аспект, связанный с ролью, которую философия играет в повседневной жизни, и именно этот аспект составляет, пожалуй, главную причину, по которой люди вообще начинают заниматься философией, но о которой они чаще всего забывают в процессе обучения. Гуссерль различал обезличенную «научную философию» и персонифицированную «мировоззренческую философию». Сам Гуссерль хотел развивать научную философию, адептам которой не нужна мудрость, но нужна теоретическая одаренность. Сегодня, окидывая взглядом философию XX века, мы отчетливо видим, что Гуссерль достиг своей цели: у нас есть много теоретически одаренных философов, но очень мало мудрецов.
Кант подчеркивал, что слово «философ» означает «наставник мудрости», и это идеал, которому мы чаще всего не соответствуем, как ни больно это осознавать. Как пишет Кант, лишь тот может по праву называть себя философом, кто на личном примере воплотит в жизнь этот идеал. Любопытно, что Кант придает такое значение этой связи между жизнью и философией, а точнее, их неразрывному единству. Он пишет, что философы античности были более преданы истинной цели философии, нежели его современники, поскольку понимали, что философия направлена на суть человека как деятельное, а не только мыслящее существо. После Канта между теоретическим и практическим аспектами философии наметился все увеличивавшийся разрыв, хотя были и исключения в лице Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера, Сартра, Фуко и Левинаса. Хайдеггер подчеркивал, что нужно заниматься «конкретной философией», подразумевая под этим, что философия должна непосредственно воплощаться в жизнь. По Хайдеггеру, философские понятия дают возможность преобразовать собственную жизнь, но они не могут сделать это сами по себе. Освоение философских понятий всегда заключается в конкретных действиях, пишет он. Учение Хайдеггера об актуализации философии, согласно которому понимание философии означает проживание ее, вызывает некоторые возражения – особенно в свете его отношения к нацизму в 1930-х годах – но оно интересно, поскольку Хайдеггер был одним из немногих философов Нового времени, которые сохранили этот аспект античного понимания мудрости.
Хорошая жизнь
Мудрость принято ассоциировать с духовностью и интеллектом, с глубоким пониманием себя и свойств окружающего мира. Но мы не назовем человека мудрым, если его поступки не соответствуют тому же стандарту. Мудрость имеет как теоретическую, так и практическую сторону. Поэтому справедливо было бы сказать, что мудрый человек – это тот, кто по-настоящему знает себя и мир и поступает в соответствии с этим знанием. Но начинать необходимо именно с поиска знания. Знания о том, что есть хорошая жизнь. Философия – это такая деятельность, в которой мы постоянно ходим туда-сюда между сложным и очевидным. Мы выстраиваем сложные теории, а затем пытаемся вернуться к тому очевидному, что и послужило толчком к занятиям философией, обладая, хочется надеяться, более глубоким пониманием этого простого явления.
Что очевидное можно сказать о хорошей жизни? Можно было бы ориентироваться на образцы и пытаться понять, в чем заключается их суть. Но можно ли просто взять и увидеть, что есть хорошо? Платон в «Федре» утверждает, что мы можем непосредственно наблюдать красоту, но не добро. Он пишет, что красивые вещи демонстрируют свою красоту, но хорошие поступки не демонстрируют добро аналогичным образом. Это объясняется, в частности, тем, что красота связана с органами чувств, а добро – нет. Красота – это эстетика, а эстетика в переводе с древнегреческого – «чувственное восприятие». Понятие добра связано с этикой, которая не имеет отношения к органам чувств. Так как же нам подобраться к пониманию добра?
Самый очевидный способ – начать с наших смутных интуитивных представлений, что есть добро, хотя нет никакой гарантии, что интуитивные представления разных людей совпадают. Говоря о добре, важно понимать, с чего начинать. Большинство философов, занимающихся вопросами этики сегодня, начнут с разговора о правилах и предписаниях. В первую очередь они расскажут об общем правиле для оценки поступков и о том, как это правило можно обосновать, а также о том, как можно оценить некий конкретный случай с точки зрения этого правила. Мы можем задать вопрос, как правильно поступить в определенной ситуации, и это совершенно законный вопрос, но можно пойти еще чуточку дальше и задать вопрос, как поступить хорошо. Философия добра не может ограничиться рассмотрением, что такое добрый поступок. Я убежден, что философия добра должна заниматься вопросом, что есть хорошая жизнь. Что такое хороший человек? Можно ли стать лучшим человеком? Именно такие вопросы должна задавать философия, именно на них она должна искать ответы, но для большинства современных философов это оказалось бы непросто, потому что это означает, что философия снова должна стать наукой о мудрости, а в наше время это совсем не так.
Если я попытаюсь определить «добро» как Х – и этим Х может быть, любовь, свобода, счастье или разум мы столкнемся с той проблемой, что любой Х может соответствовать этому добру в большей или меньшей степени. Один из самых многообещающих кандидатов на роль добра – любовь, но одной любви недостаточно. Добро должно быть также связано со справедливостью, в отличие от любви. Любовь не беспристрастна – она избирательна. Можно сказать, избирательность является одной из добродетелей любви, поскольку без избирательности и любви бы не было. Однако добро мы избирательным не считаем, оно для всех. Разумеется, любовь может быть – и чаще всего является – добром, но она может также противоречить добру. Та всеобъемлющая любовь, которую мы находим у Франциска Ассизского, едва ли может причинить кому-то вред, но такова любовь святого, а не простого смертного. Таким образом, любовь нельзя приравнять к добру, ведь очень много зла происходит именно из-за любви – к самому себе, к ближнему или к абстрактному идеалу. Аналогичные аргументы можно применить и к остальным кандидатам на роль добра: свободу можно использовать самым разрушительным образом, стремление к счастью может иметь ужасные последствия как для самого искателя, так и для его окружения, разум может изобрести геноцид и т. д. Еще один вариант – приравнять добро к Божьей воле. Платон обсуждает эту возможность в диалоге «Евтифрон». Хочет ли Господь чего-то потому, что оно является добром, или нечто является добром потому, что этого хочет Господь? Платон делает вывод в пользу первого варианта. Впрочем, прибегая к Богу для решения этого вопроса, мы все равно ничего не достигнем, потому что всегда можно усомниться, действительно ли хорошо то, чего хочет Бог – невозможно не задуматься об этом, читая Книгу Иова. И если кто-то утверждает, что то, чего хочет Бог, по определению хорошо, он просто-напросто выводит дискуссию о добре за пределы рациональной дискуссии, а следовательно, и сам оказывается за ее пределами. Как бы то ни было, я считаю, что в попытках идентифицировать добро с любым другим качеством мы очень быстро столкнемся с трудностями.
Мне кажется, что, рассуждая об этом сегодня, было бы неплохо обратиться к античной философии этики. Она может сказать современному человеку гораздо больше, чем, этика Канта, хотя Кант жил ближе к нашему времени. Все дело в том, что античная этика в значительной степени была этикой самореализации, а это очень близко человеку эпохи романтизма или постромантизма. Во времена, когда каждый стремится как можно лучше реализовать себя, мало кто задумывается о том, что представляет это «я», которое мы так хотим реализовать. Именно этот вопрос лежит в основе античной этики, и именно так его формулирует Аристотель. Вопрос о том, какое «я» мне нужно реализовать, равнозначен вопросу «Как мне следует жить?» Этот вопрос вызовет у большинства современных философов дискомфорт, поскольку он увлекает нас в область науки о мудрости и уводит от конструирования понятий, которому мы обучались.
Этическая мудрость
Так что же значит обрести этическую мудрость? Здесь, очевидно присутствует эмоциональный компонент. В частности, любовь к ближнему – это качество, которым должен обладать каждый приличный человек. Но этого недостаточно. Чтобы приблизиться к пониманию, что такое добро, важно не бросаться за первым попавшимся сентиментальным порывом. Чувства не только «непосредственны» и «естественны». Чувствами можно овладевать, их можно углублять, они могут созревать и т. д. Аристотель пишет, что этическое учение в значительной степени касается науки чувствовать то, что нужно, так, как нужно, и в нужный момент. Мы должны научиться обращаться со своими чувствами так, чтобы благодаря им понимать ситуации правильно, а также должны стараться поступать в соответствии с этим пониманием. Некоторые чувства считаются особенно благоприятными с точки зрения этики. К примеру, забота или сострадание. Создается впечатление, что с точки зрения этики чувства можно разделить на две группы: хорошие и плохие. Но все не так просто. Разумеется, некоторые чувства – например, зависть, – чаще всего не приносят нам ничего хорошего. И наоборот, любовь к ближнему почти всегда хороша. С другой стороны, возможна ситуация, когда зависть идет нам на пользу (к примеру, заставляет нас улучшать себя), а любовь к ближнему – во вред (к примеру, когда на основании ее мы предотвращаем покушение на жизнь жестокого диктатора). Наши чувства могут оказаться по ту или иную сторону границы между добром и злом в зависимости от обстоятельств. Возьмем, к примеру, гнев. Многие склонны сразу поместить гнев с «плохой» стороны границы, но гнев может быть хорошим и правильным чувством – к примеру, если мы видим, как с другим человеком обращаются несправедливо. Поэтому «правильность» того или иного чувства зависит от контекста. Аристотель высказывает очень важную мысль, говоря, что этическое развитие состоит в основном в том, чтобы испытывать правильное чувство в правильный момент. Это развитие совпадает с процессом взросления и созревания.
С процессом созревания чувств тесно связано развитие способности к этическим суждениям. Чувства не всегда могут подсказать нам, что правильно, а что нет. При этом овладеть этической теорией нельзя посредством решения примеров и произведения подсчетов, как в математике. Этические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не так просты, как хотелось бы философам. Не существует «этических формул», которые безошибочно подскажут нам, что именно нужно делать, когда действительность не соответствует нашим стройным, но абстрактным теориям. Не существует никакой высшей инстанции, кроме способности к этическим суждениям. Но для того чтобы она работала как надо, требуется также этическое воображение. Нужно уметь представить себе ситуацию с других точек зрения, нежели собственная. А для этого, в свою очередь, нужно хорошо знать себя. Мы должны знать, на что мы способны, а на что нет. Мы должны иметь знания о мире, чтобы понимать, какие препятствия нам могут встретиться на пути реализации добра. Обретение этической мудрости подразумевает утрату этической невинности. Именно поэтому мне не нравятся такие понятия, как альтруизм и доброта, – в них слишком много невинности. Обретение этической мудрости требует понимания, что мир несправедлив, и мы мало что можем поделать с этим фактом, но обязаны хотя бы попытаться.
Ханна Арендт описывает мышление как деструктивную деятельность. Эта деструктивность, однако, имеет благородную цель освободить нас от застарелых ментальных привычек. Благодаря мышлению мы можем посмотреть на себя и свои поступки со стороны. Однако Арендт подчеркивает, что мышление должно сопровождаться способностью к суждению. Лишь вынося суждения, мы можем воплотить свое мышление в жизнь. Целью мышления должно быть возвращение к тому миру, от которого оно отталкивается. Мышление не должно стремиться к абстрактному знанию, оно должно наделять нас способностью к суждению – и к осмысленному действию.
Глава 9. Недостатки философии
Время от времени приходится слышать жалобы на академическую философию в целом, как будто статус академической дисциплины наносит ущерб философии. Типичные примеры таких жалоб можно найти у Шопенгауэра. Он утверждает, что государственное финансирование превращает философию «в шутку». Это забавно слышать, особенно в свете того, что философия всегда была более или менее академичной. В античности существовали философские школы. Платон руководил Академией до самой своей смерти в возрасте 80 лет, а затем она продолжала существовать еще около 900 лет, пока в 529 году ее не закрыл император Юстиниан. Аристотель проходил обучение в платоновской Академии в течение 20 лет – он пришел туда в возрасте 17 лет и оставался до тех пор, пока руководство после смерти Платона не перешло к племяннику Платона Спевсиппу. После этого Аристотель основал собственную философскую школу, Ликей. Эти философские школы сильно отличались от современных университетов, но представляли собой академические сообщества, где философией занимались профессионально. То же можно сказать о философии в период развития схоластики и появления университетов в XIII веке. Большинство крупных философов – и нынешних, и прежних, – в том или ином смысле были академическими философами. И даже философы, которые демонстративно отрицали академичность – к примеру, Ницше и Кьеркегор, имели хорошее образование, потому что иначе они не смогли бы написать свои труды. За исключением некоторых досократиков, которые, впрочем, тоже были самыми образованными людьми своего времени, сложно найти какого-нибудь крупного философа, не получившего академического образования. Разве что Руссо. Большинство философов даже преподавали в каком-нибудь учебном заведении. Разумеется, есть исключения, но их немного, а сегодня и вовсе почти не встречается.
Неактуальность философии
Профессиональная философия не вызывает большого интереса за пределами узкого круга посвященных, но это не означает отсутствия интереса к философии вообще. Проблема в том, что большая часть академической философии становится совершенно неактуальной. Что любопытно, параллельно с этим растет интерес к внеакадемической философии. Здесь хочется прибегнуть к дарвинистской аналогии: мы объясняем селекцию определенных биологических качеств тем, что они способствуют выживанию отдельного организма, но это вовсе необязательно означает, что они способствуют выживанию всего вида. Каждая сельдь стремится занять место в центре косяка, поскольку таким образом она лучше защищена от хищников, но это никак не поможет всему косяку, если его внезапно съест кит. Точно так же специализация и «механизация» отдельного философа улучшает его положение в среде профессиональных философов, поскольку повышает шансы на получение академических должностей, а также обеспечивает ему большее количество студентов, которых он обучает решать те же проблемы и теми же методами, что и он, но вместе с тем способность к выживанию всей популяции философов снижается. В современной философии важную роль играет поиск решений и новых точек зрения на проблемы, которые интересуют исключительно философов, и именно таким путем можно сделать академическую карьеру и получить признание. Актуальность философии для окружающего мира при этом совершенно не важна. Превращение философии в профессию улучшило ее техническое качество, но также сделало ее более скучной и безжизненной.
Имеют ли нынешние философы какое-то влияние за пределами академических кругов? Зависит от того, о какой философской традиции идет речь. Континентальная философия играет довольно важную роль как в академической культуре, так и в обществе. Аналитическая философия имеет влияние главным образом в профессиональных кругах: ученый-лингвист вполне может заинтересоваться трудами Куайна, но этого едва ли стоит ожидать от простого обывателя. Философия не единственная дисциплина, которая все больше отдаляется от простых людей. Такое происходит с большинством наук. Но мне кажется, что этот процесс хуже сказывается на гуманитарных науках, и в том числе на философии, чем на естественных науках. Если мы рассматриваем философию как дисциплину, цель которой состоит в том, чтобы сделать жизнь многих людей, а не только профессиональных философов, более осознанной, то и заниматься ею нужно так, чтобы она была доступна многим. С моей точки зрения это главная задача философии, и ее выполнение оправдывает существование философии как научной дисциплины.
Оправданность
Любые исследования должны быть оправданны. Как отмечает Кнут Эрик Транёй, у оправданности есть два аспекта: внешний и внутренний. Внешний аспект касается оправданности исследования перед обществом (которое ожидает получить что-то в обмен на вложенные ресурсы), а внутренний аспект выражается в оправданности исследования перед научными кругами (и здесь играют важную роль доказательства и актуальность исследования). В современной профессиональной философии внимание уделяется исключительно внутреннему аспекту, а именно обоснованности результата. Ценится логическая последовательность и то, что автор предусмотрел все мыслимые – а также и все «немыслимые» – возражения, что он ознакомился со всей актуальной литературой в своей области и т. д. Разумеется, все это очень важно, поскольку поддерживает занятия философией на высоком профессиональном уровне. Проблема только в том, что это превратилось в самоцель. Между тем требование актуальности проникает гораздо глубже в суть вещей: в чем заключается смысл данного исследования? Почему именно эта тема так важна? Здесь часто ссылаются на то, что данная тема уже давно находится в центре внимания, и вопрос актуальности снимается простой отсылкой к профессиональной традиции, к которой текущее исследование может добавить нечто новое. Этого, может быть, и достаточно для внутреннего оправдания, но заметить актуальность такого исследования со стороны может быть непросто.
А как же внешнее оправдание? Транёй в этой связи говорит о влиянии исследований на благосостояние. Общество требует, чтобы ресурсы, потраченные на исследования, приносили какие-то дивиденды в виде улучшения благосостояния. Он перечисляет четыре формы таких дивидендов: (1) технологии, (2) прикладное применение, (3) прогнозирование и (4) самореализация. Транёй не слишком вдается в подробности, каким образом гуманитарные дисциплины могут сделать вклад в первые два пункта, совсем немного говорит о прогнозирующей функции (учиться на исторических примерах), зато уделяет очень много внимания последнему пункту, самореализации. И здесь он проявляет себя как классический гуманист. Гуманитарные дисциплины учат нас тому, что значит быть человеком, тем самым способствуя нашей самореализации в этом качестве. Кроме того, они поддерживают существование той культуры, которая сформировала нас и сделала теми, кто мы есть, чтобы мы, познавая культуру и передавая ее дальше, учили всех остальных быть теми, кто мы есть и объяснять, почему мы именно таковы. Гуманитарные дисциплины отвечают требованию оправданности в первую очередь за счет того, что обращаются не только к узкому кругу специалистов, а ко всему человечеству, помогая каждому понять, кто он есть. По-моему, философия больше не выполняет этой задачи.
Философия – это и академическая дисциплина, и общечеловеческое занятие. Я убежден, что внешнее оправдание философии в конечном счете заключается именно в последнем аспекте. Но между этими двумя аспектами существует конфликт. Левинас описывает современное мышление как мышление, разворачивающееся в мире без людей. Мне это описание кажется вполне убедительным, поскольку значительная часть современной философии слишком узка и сложна для непосвященных. Современная наука и исследовательские институты требуют от своих адептов исключительно узкой специализации. Общее положение дел таково, что современный исследователь знает очень много в очень маленькой области. Эта тенденция касается в том числе и философии. По каждой философской теме выходит столько литературы, что для того, чтобы оставаться профессионалом, нужно постоянно поддерживать свою квалификацию. И даже если вы специализируетесь на изучении одного-единственного философа, не факт, что у вас получится быть в курсе всех важных исследований, посвященных различным аспектам его работы, так что вы вынуждены будете остановиться на каком-то одном аспекте. Это постоянное сужение специализации сильно расходится с традиционным образом философа, которого Платон описывал как синоптика, видящего целостную картину. Кроме того, концентрация на методах в новейшей философии привела к дополнительному сужению специализации, поскольку актуальными считаются только те проблемы, которые поддаются исследованию избранными методами. Это равнозначно заявлению, что исследовать природу можно только посредством микроскопа, а любые другие явления, для изучения которых лучше подходит, например, телескоп, следует игнорировать.
Уход из общественного пространства
Академическая философия постепенно становится все более закрытой. Ученые-философы обучают студентов высших учебных заведений, публикуют статьи в научных журналах и выступают на научных конференциях. Само по себе это неплохо, но проблема в том, что они очень мало участвуют в общественной дискуссии за пределами академических кругов, а иногда и вовсе не предпринимают таких попыток. В Норвегии дела с этим обстоят немного лучше, чем во многих других странах, поскольку тысячи студентов ежегодно проходят подготовку к выпускному бакалаврскому экзамену по философии, обязательному для всех специальностей. Это очень важное средство популяризации философии. Весьма печально, что значительная часть философских исследований, не входящая в учебники для подготовки к данному экзамену, так и остается неизвестной за пределами узкой профессиональной среды.
Для того чтобы получить признание в академических кругах, философы должны публиковаться, и академические лавры для большинства гораздо важнее, чем распространение и популяризация фундаментальных идей. Сам факт наличия публикаций, а также названия журналов, в которых эти публикации выходят, сегодня значат гораздо больше, чем собственно содержание статей. Они публикуются главным образом в профессиональных журналах с очень маленьким тиражом и еще меньшим числом читателей. Зато количество этих журналов увеличилось за последние десятилетия в несколько раз, и статей публикуется так много, что никому не под силу прочесть их все. Большинство статей, выходящих в таких журналах, вообще никто не читает, но цель публикации заключается совсем не в том, чтобы статью кто-то прочел. Публикация – это самоцель. Статьи пишутся даже не для того, чтобы их читали коллеги автора, скорее для того, чтобы было что предъявить при прохождении собеседования на новую должность в научном учреждении.
Философы умеют – или, по крайней мере, должны уметь – проводить различия, разъяснять утверждения, демонстрировать следствия различных положений, приводить альтернативные точки зрения и оценивать надежность аргументов. Мы вправе ожидать от философа умелого обращения с целым рядом критических методов. Поэтому они должны быть хорошо приспособлены к интеллектуальной деятельности, и, будучи интеллектуалами, должны обращаться к общественности и читать публичные доклады, писать хроники, статьи и книги для широкой публики, давать интервью в газетах, на радио и телевидении. Однако современные философы практически ничего из этого не делают. Вышеупомянутые критические методы используются исключительно для внутренних целей.
Никогда еще не было в мире так много людей, зарабатывающих свой хлеб философией. Вместе с тем философия стала закрытой, как никогда раньше. Поразительно, что это происходит именно в тот момент, когда интерес к философии за пределами академических кругов очень высок. В англоязычных странах при университетах и институтах работает около 14–15 тысяч философов. В одной только Норвегии их около двухсот. Многие ли из них обращаются к широкой публике? Большинство представляют свои работы на суд коллегам, зачастую это происходит из желания продвинуться по карьерной лестнице, но очень редко кто-либо из них контактирует с кем-то помимо коллег или студентов, да и желания такого никто не проявляет. Это означает, что общечеловеческим аспектом философии – ее актуальностью для всех людей – грубо пренебрегают.
Речь не идет об отрицании всякой философии, которая слишком «узка» и малопонятна непосвященным. Зачастую философам приходится вникать в очень узкие проблемы, чтобы разобраться с более широкими темами. Можно выполнять очень сложные обходные маневры, чтобы добраться до довольно простых выводов. Примером тому может послужить философия Канта. Проблема в том, что нынешняя философия почти целиком состоит из узких, технических и очень сложных для понимания тем. Судя по всему, такое положение дел не служит ничему, кроме выстраивания академической карьеры или развлечения отдельных людей, которые получают удовольствие от интеллектуальной гимнастики повышенной сложности. Известны примеры логического обскурантизма, возникшие в результате развития идеи Рассела о том, что ядром философии является логика. Предложение «Мальчик пел» можно записать следующим образом: ∃x[G(x) & S(x)],)], а предложение «Нынешний король Норвегии лыс» будет выглядеть так: ∃x[Kx & ∀y (Ky → ◘y=x) & Sx]. По большому счету, эти формулы бесполезны. Они служат исключительно переформулированию известных проблем на непривычном жаргоне. Разумеется, такая переформулировка может внести ясность в какое-то рассуждение, но чаще всего никакой ясности она не вносит, а иногда даже мешает пониманию, потому что помогает спрятать отсутствие всякой глубины за логическими формулами. И чаще всего это приводит к тому, что работа становится недоступной для всех, кроме очень узкой группы специалистов. Аргументация уже не служит формированию идей, она скорее стала самоцелью, и в результате «лучшим» философом считается тот, кто может сформулировать самые «убийственные» аргументы. А в итоге философия становится богата аргументами, но бедна идеями.
Профессионализация
Как уже говорилось, превращение философии в профессию привело к
тому, что философские проблемы стали гораздо более узкими и сложными для понимания. Профессионализм и узкая специализация – две стороны одной медали, они повсюду сопровождают друг друга. Философы, которые ограничиваются исследованиями одной строго ограниченной темы, кажутся более «профессиональными», нежели те, кто пытается работать «синоптически», поскольку узкая перспектива больше напоминает научную деятельность в других дисциплинах. Древний идеал философии, подразумевающий видение всей картины человеческих знаний, нынче сменился идеалом узкой специализации. Хочется даже сказать, что предмет, которым мы начали заниматься, чтобы расширить свой взгляд на мир, превратился в предмет, который значительно сузил его. Ницше предупреждал об этом еще сто с лишним лет назад. Он видел, что влияние науки так возросло, что философам уже на студенческой скамье придется выбирать специализацию, чтобы уцепиться за какую-то тему, а следовательно, они никогда не достигнут того целостного понимания, которым по определению должна обладать философия.
Профессионализация предмета предполагает, что философом можно быть в рабочее время, с 9:00 до 17:00, и что философия необязательно должна становиться образом жизни. Эта модель весьма далека от античной концепции философии, согласно которой философия определялась как стремление к совершенству. Античные скептики проживали свой скепсис, тогда как нынешние скептики, покидая вечером свое рабочее место, забывают о философии до следующего рабочего дня. Философия в том виде, в каком ею занимаются в университетах, связана отнюдь не с формированием человека, но с выстраиванием карьеры. И в этом заключается опасность для философии. Карл Поппер подчеркивает, что истинно философские проблемы всегда коренятся в других проблемах, лежащих за пределами философии, и философия умрет, если лишится этих корней. Пожалуй, можно с уверенностью утверждать, что процесс отмирания корней уже начался. Д. Э. Мур заметил однажды, что интерес к философии проснулся в нем не благодаря жизни или науке как таковым, но благодаря тому, что говорили о них другие философы. В некотором смысле утверждение Мура верно для очень многих профессиональных философов – большинство проблем, которыми мы занимаемся, мы рассматриваем в свете того, что писали о них наши предшественники. Но важнее всего, чтобы философия сохраняла интерес к чему-то за пределами самой себя. В статье 1917 года Джон Дьюи пишет, что философия потеряла себя и все дальше отходит от своей сущности. Тем не менее он видит возможности для развития и возвращения к себе, если философия перестанет быть лишь инструментом, при помощи которого философы решают свои проблемы, и снова станет средством решения проблем всех людей. Или, как говорил Витгенштейн: какой смысл изучать философию, если единственное, на что она годится, – это поддерживать разговор об узких проблемах логики, и если она совсем не помогает размышлять о гораздо более важных проблемах повседневной жизни?
Почему студентов, а также интересующихся философией обывателей так сильно привлекают философы вроде Кьеркегора, Витгенштейна и Хайдеггера, хотя их работы отнюдь не просты? Главным образом потому, что их философия решает в первую очередь экзистенциальные задачи.
Одна из тем, которыми философия занималась на протяжении всей истории – во множестве разных интерпретаций, – это личная идентификация. Эта тема подразумевает множество различных точек зрения. Изначально мы имели дело с экзистенциальным вопросом: «Кто я?» В новейшей философии он скорее формулируется как «Что я?», то есть что представляет собой объект, который называется мной? У этого вопроса есть и более узкая формулировка: «Что означает оставаться одним и тем же человеком с течением времени?» И если во многих других областях современную философию можно заподозрить в полном отсутствии фантазии, с этим вопросом дело обстоит совершенно иначе. Здесь мы находим весьма изобретательные мысленные эксперименты с бесчисленными вариациями таких тем, как трансплантация мозга и т. п. Эти эксперименты проводятся с величайшим остроумием и таким вниманием к деталям, что остается только позавидовать.
Проблема лишь в том, что все это оказывается совершенно неактуальным. Деятельность, которая начиналась как поиск ответов на серьезные, экзистенциальные вопросы, превратилась в бессмысленную интеллектуальную гимнастику. Отдельно стоит отметить, сколько интеллектуализма наблюдается в философском дискурсе. Судя по всему, личная идентификация находится у человека где-то в голове (именно поэтому в философии ставят столько мысленных экспериментов с трансплантацией мозга). Но как же быть с влиянием, которое оказывает на личную идентификацию серьезное увечье, – к примеру, потеря руки или шрам на лице? Или, если уж на то пошло, подростковая прыщавость? Когда я читаю лучшие из сегодняшних философских работ (в том числе Джона Перри) о человеческой самости и личной идентификации, написанных в полном соответствии с действующим академическим стандартом, мне трудно всерьез увлечься текстом. В силу своей профессии я как раз отношусь к узкому кругу тех, кому такие исследования могут быть интересны, однако я не могу увидеть актуальность в этих исследованиях, поскольку те понятия, которые в них используются, настолько истончились, настолько ограничены требованиями обоснованности, что с их помощью просто невозможно приблизиться к решению экзистенциальных проблем. Эти философские исследования оказываются не в состоянии ответить на вопрос о том, почему для столь многих современных людей личная идентификация становится проблемой. А чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть на культурный аспект личной идентификации. Ясность – это, конечно, хорошо, но в погоне за ней профессиональная философия сформировала настолько выхолощенные понятия, что ими уже невозможно пользоваться. Мы не можем спилить толстое дерево скальпелем. Точность и ясность – философские добродетели, но доведенная до абсурда, добродетель перестает быть таковой и превращается скорее в фетиш.
Как уже было сказано, я вовсе не против академической философии в целом. В конце концов, я сам академический философ. А эта книга – образчик академической философии. Никто не ожидает, что все научные работы в области физики или социологии будут доступны для понимания любому обывателю, и нельзя требовать этого от философских работ. Однако это не означает, что в современной философии все хорошо. В своих лекциях по логике Кант приводит две крайности, связанные с философской работой: педантизм и галантность. Первая крайность связана с закрытостью и чрезмерной академичностью философии и ориентируется исключительно на пользу от этого занятия, а вторая выражается в легкомысленной болтовне в социальных кругах и ограничивается заботой лишь о содержании. Далее Кант описывает, каким образом педантизм приводит к излишнем формализму, а галантность заставляет делать все в угоду публике, которая любит «глубокомыслие». Его возражение против обеих крайностей заключается в том, что ни одна из них не помогает выполнить задачу философии, которая состоит в формировании мышления человека. В наши дни обе крайности выражены еще сильнее, чем во времена Канта. Дело в том, что они усиливают друг друга: когда профессиональная философия становится слишком «педантичной», она освобождает пространство, которое моментально заполняется пустым и совершенно несерьезным мудрствованием. А это, в свою очередь, приводит к тому, что профессиональная философия еще больше дистанцируется от окружающего мира и еще больше погрязает в формализме, стремясь подчеркнуть свою серьезность.
Около 2500 лет назад философия начиналась как грандиозный проект, целью которого было обретение мудрости и знаний о мире, о хорошей жизни и т. д. И в XX веке людям как никогда нужны были эти знания и эта мудрость. Но в тот момент философы были заняты совсем другими вещами. Мы пережили столетие, в котором войны, геноцид и пытки унесли сотни миллионов человеческих жизней, в котором концентрационные лагеря нацистов и трудовые лагеря коммунистов показали нам такие глубины зла, о которых мы раньше и не подозревали. В прошлом столетии умерло от голода больше людей, чем когда-либо ранее. Человек изобрел оружие, которое может в один миг уничтожить жизнь на земле. И как же философия помогла нам понять все это – и предотвратить повторение? Практически никак. Некоторые философы уделяли внимание этим проблемам, но большинство, кажется, сильнее интересуется методологией науки, развитием символической логики и тому подобными вопросами. В то столетие, когда философия была нужна нам, как никогда, она подвела нас – так, как никогда не подводила.
Глава 10. Будущее философии
Не раз высказывалась мысль, что науки приближаются к своему концу, поскольку скоро они найдут ответ на все вопросы, на которые в принципе можно ответить. Говорили также, что и философия приближается к своему концу, поскольку осознала, что на ее вопросы нет ответов. Но нет никаких оснований полагать, что это правда. Науки и раньше оказывались в ситуации, когда казалось, что вскоре им некуда будет развиваться. Так было с физикой в 1890-х годах. Но всегда возникают новые вопросы, совершаются новые открытия, которые требуют новых перспектив, и наука продолжает жить. Однако в философии ситуация иная. Философия продолжает жить потому, что мы не можем перестать задавать философские вопросы. Самые фундаментальные вопросы философии не академические, они неизбежно возникают у каждого человека в силу того, что людям свойственно размышлять о себе и об окружающем мире. И тот факт, что на эти вопросы невозможно дать однозначный ответ, не мешает нам задавать их снова и снова, каждый раз по-новому.
В одной из лекций о метафизике Кант отмечает, что все те, кто отрицает метафизику, хотят иметь собственную, поскольку никто не может не думать о своей душе. И даже тот, кто утверждает, что бессмертной души не существует, занят метафизикой точно так же, как тот, кто утверждает обратное. А тот, кто совершенно равнодушен к этому вопросу, скорее всего, имеет множество других представлений метафизического характера, к примеру, о фундаментальных свойствах действительности. Я говорю это вовсе не для того, чтобы выставить на посмешище противников метафизики, но потому, что убежден: одна из важнейших задач философии заключается в выражении наших базовых метафизических представлений, без которых мы не можем обойтись, и в критическом их рассмотрении. Раз за разом метафизику объявляли умершей, но ей всегда удавалось воскреснуть, потому что вопросы о личной идентификации, свободе воли, абстрактных объектах и др. просто всплывают раз за разом и настоятельно требуют ответа. Причина, по которой метафизика не может умереть, состоит в том, что она занимается самыми общими проблемами, которые только можно придумать, и в нашем мире одни проблемы всегда будут более общими, чем другие, независимо от их характера. И тот, кто объявляет себя противником метафизики – например, последователь натурализма, – тоже является метафизиком, поскольку его позиция непременно основывается на метафизических предпосылках и имеет метафизические следствия. Другими словами, невозможно просто взять и избавиться от метафизики, как избавляются от ошибочных представлений.
Многие философы мечтают о конце философии. Адорно пишет, что в совершенном обществе философии бы не существовало. На самом деле это мечта о состоянии, в котором нет той фрустрации, которая и порождает философию. Витгенштейн пишет, что ясность, к которой стремится философия – это ясность, благодаря которой философские проблемы просто исчезнут, так что можно будет наконец успокоиться и перестать философствовать. Витгенштейн гораздо ближе к античным философам, чем ему самому казалось. Для стоиков цель философии состояла в безмятежности ума (атараксии) и внутренней свободе (автаркии). Терапевтическая философия Витгенштейна, в сущности, служит тем же целям. Когда он пишет, что цель философии заключается в прояснении мыслей, он тем самым возвращается к философии в том виде, в каком она существовала за тысячи лет до него. Витгенштейну так и не удалось достичь ясности и покоя ума. Последние заметки к работе «О достоверности» были записаны за два дня до смерти философа, в конце апреля 1951 года. Левинас утверждал, что самое лучшее в философии – это неудача. Благодаря неудаче философия остается открытой. Витгенштейн был как раз таким философом, который оставался открытым до последнего.
Мы испытываем тягу к глубине, к тому, что сулит нам полное понимание бытия и дает толчок к развитию. И тем сильнее оказывается разочарование, когда философ пытается разрушить метафизический воздушный замок. Однажды я получил письмо от человека, который прочел написанную мной книгу «Философия скуки». Работа ему понравилась, но он заметил: «Одна вещь мне показалась непростительной. Читая главу о Хайдеггере, я с каждой страницей наполнялся счастьем – иначе говоря, я становился все больше христианским мистиком лучшего толка, – думается мне, я долгие годы не читал ничего настолько прекрасного, но вот я дочитал до страницы 136, где Вы внезапно и без всякого предупреждения опрокидываете ведро, которое только что наполнили светом…» Мне неоднократно поступали жалобы на то, что в моих книгах слишком много негатива и критики, что я ограничиваюсь описанием того, как не следует смотреть на тот или иной вопрос, и ничего не пишу о том, как надо. Этот упрек вполне понятен: читатели хотят внести нечто новое в понимание той или иной темы. Однако такой критический подход обусловлен тем, как я понимаю основную задачу философии. Я понимаю недовольство читателей: все мы хотим получить больше, а не меньше, новую теорию или нечто подобное, что даст нам более глубокое понимание. Но я не думаю, что философия может дать нам такое понимание. Я считаю философию скорее рефлексивным, нежели продуктивным занятием. Философия – это непрерывная деятельность по наведению порядка в том хаосе, который мы создаем, размышляя о мире. Этот хаос усиливается в такие времена, как наше, когда все меняется слишком быстро. Проблема в том, что иногда философия лишь усиливает хаос. Беркли утверждал, что философы только поднимают пыль, а затем жалуются, что ничего не могут разглядеть. Трудно с ним не согласиться. Тем не менее мы продолжаем философствовать, потому что остановиться не можем.
Когда философский проект терпит крах, может показаться, что вся философия лежит в руинах. Но философия сама доказывает несостоятельность проекта, а затем продолжает свои поиски. Удалось ли философии достичь чего-то за 2500 лет? На этот вопрос не так просто ответить. Очевидно, что философия менялась, развивалась из некой исходной точки и становилась все более сложной. Но едва ли ей удалось приблизиться к цели. Когда кто-то утверждает, что философия как попытка ответить на традиционные вопросы достигла своего предела, напрашивается возражение, что мы никогда не перестанем задавать вопросы и искать ответы. Философия в принципе бесконечна, и в этом отношении она напоминает сизифов труд. Но этот труд может быть на удивление радостным.
Список литературы
Энциклопедии и справочники
Politikens filosofileksikon (Politikens forlag, København 1988). Norsk utgave: Filosofileksikon (Zafari, Oslo 1996).
The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, Oxford 1995).
Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy (Routledge, London 1999).
Routledge Encyclopedia of Philosophy, 10 томов (Routledge, London 1999).
Historisches Wörterbuch der Philosophie, 12 томов (Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1974 ff).
Философская энциклопедия, 5 томов (Советская Энциклопедия, Москва, 1960–1970).
Более подробные сведения можно найти в серии книг Blackwell Companions to Philosophy (Blackwell, Oxford), где выходили отдельные тома, посвященные метафизике, этике, эстетике и т. д. По составу эти книги немного разнятся: одни состоят из энциклопедических статей различного объема, другие представляют собой скорее хрестоматии, а некоторые соединяют в себе и то, и другое.
Норвежская философия
Bostad, Inga (red.): Filosofipå norsk, 2 bind (Pax, Oslo 1995). Eriksen, Trond Berg og Øystein Sørensen (red.): Norsk idé-historie, 6 bind (Aschehoug, Oslo 2001ff.). (Verket gir en omfattende behandling av norske tanketradisjoner, men legger relativt liten vekt på norske filosofer.)
Johnsen, Egil Børre og Trond Berg Eriksen (red.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, 2 bind (Universitetsforlaget, Oslo 1998). (Mindre deler av norsk filosofi-historie er kort belyst i enkelte artikler.)
Глава 1
Общие введения в философию
Böhme, Gernot: Einfuhrung in die Philosophie. Weltweisheit – Lebensform – Wissenschaft (Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994).
Liibcke, Poul (red.): Vor tids filosofi, 2 bind (Politikens forlag, København 1988).
Карл Ясперс. Введение в философию. Москва: Пропилеи, 2000.
Томас Нагель. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. Москва: Идея-Пресс, 2001. Nagel, Thomas: What does it all mean? A Very Short Introduction to Philosophy (Oxford University Press, Oxford 1987).
Бертран Рассел. Проблемы философии. Новосибирск: Наука, 2001. Russell, Bertrand: The Problems of Philosophy (Oxford University Press, Oxford 1998 (1912)).
Solomon, Robert C: The Big Questions (Harcourt Brace, Fort Worth 1982). Utaker, Arild: A lese filosofi (Solum, Oslo 1983).
Философия философии
Deleuze, Gilles og Felix Guattari: What is Philosophy?(Oversatt av H. Tomlinson og G. Burchill), (Verso, London/ New York 1994).
Jaspers, Karl: Was ist Philosophie? (Piper, Munchen/Zurich 1996).
Nielsen, Kai: On Transforming Philosophy. A Metaphilosophical Inquiry (Westview Press Oxford/Boulder, Colorado 1995).
Nasss, Arne: Hva er filosofi? (Pax, Oslo 1965).
Ragland, C.P. og Sarah Heidt (red.): What is Philosophy? (Yale University Press, New Haven/London 2001).
Глава 3
Kaiser, Matthias: Hva er vitenskap? (Universitetsforlaget, Oslo 2000).
Nydal, Rune: I vitenskapens tid. Introduksjon til vitenskapsfilosofi etter Kuhn (Spartacus, Oslo 2002).
Tranøy Knut Erik: Vitenskapen – samfunnsmakt og livsform(Universitetsforlaget, Oslo 1991).
Глава 4
Lang, Berel: The Anatomy of Philosophical Style: Literary Philosophy and the Philosophy of Literature (Oxford University Press, Oxford 1990).
Nussbaum, Martha: Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (New York/Oxford 1990).
Skilleås, Ole Martin: Philosophy and Literature. An Introduction (Universitetsforlaget, Oslo 2001)
Глава 5
Bjelke, Johan Fredrik: Filosofi – problemer eller ett Problem? Filosofi og filosofihistorie (Dreyer, Oslo 1979).
Rorty, Richard, J.B. Schneewind og Quentin Skinner (red.):Philosophy in History (Cambridge University Press, Cambridge 1984).
Глава 6
Critchley, Simon: Continental Philosophy. A Very Short Introduction (Oxford University Press, Oxford 2000).
Critchley, Simon og William Schrader (red.): A Companion to Continental Philosophy (Blackwell, Oxford 1998).
Dummett, Michael: Origins of Analytical Philosophy (Duckworth, London 1993).
Friedman, Michael: A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer and Heidegger (Open Court, Chicago/La Salle 2000).
Glock, Hans-Johann (red.): The Rise of Analytic Philosophy (Blackwell, Oxford 1997).
Hacker, P.M.S.: Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy (Blackwell, Oxford 1996).
Tugendhat, Ernst: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie (Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976)
Глава 7
Kaulbach, Friedrich: Philosophie des Perspektivismus (Mohr, Tubingen 1990).
Kekes, John: Pluralism in Philosophy: Changing the Subject (Cornell University Press, Ithaca/London 2000).
Næss, Arne: Hvilken verden er den virkelige? (Universitetsforlaget, Oslo 1982).
Rescher, Nicholas: A System of Pragmatic Idealism, 3 bind (Princeton University Press, Princeton, N.J. 1994).
Глава 8
Cottingham, John: Philosophy and the Good Life (Cambridge University Press, Cambridge 1998).
Hadot, Pierre: Philosophy as a Way of Life (overs. M. Chase) (Blackwell, Oxford 1995).
Hadot, Pierre: What is Ancient Philosophy? (overs. M. Chase) (Harvard University Press, Cambridge MA 1995).
Nehemas, Alexander: The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault (University of California Press, Berkeley / Los Angeles/London 1998).
Wolf, Ursula: Die Philosophie und die Frage nach dem guten Leben (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1999).

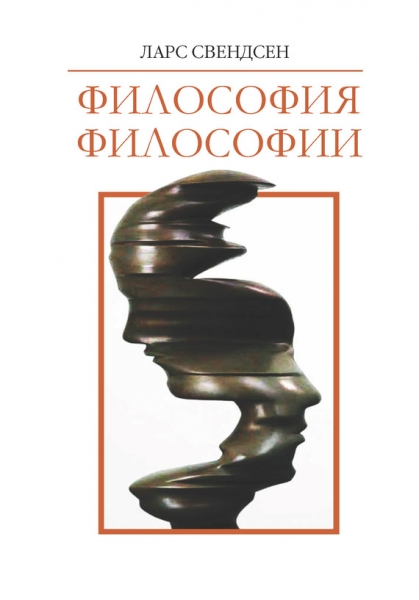



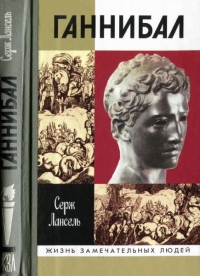
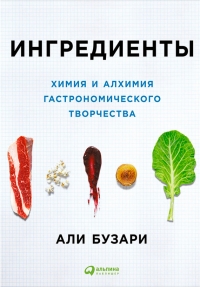


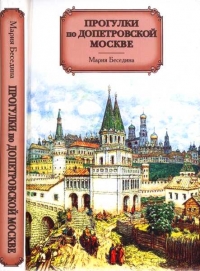
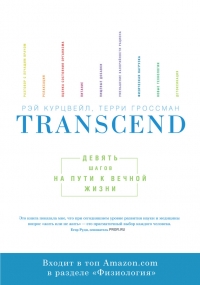
Комментарии к книге «Философия философии», Ларс Свендсен
Всего 0 комментариев