Эдвард Слингерленд И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
© Edward Slingerland, 2014
© М. Солнцева, перевод на русский язык, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®
Введение
В нашем университетском научном музее можно поиграть в майндбол. Два игрока садятся друг напротив друга за длинный стол. На голову каждого надевается повязка с электродами, фиксирующая основные паттерны электрической активности поверхности мозга. На столе лежит металлический шар. Задача игрока – умственным усилием толкая шар, докатить его до другого конца стола. Побеждает тот, кому удастся это первым. Движущей силой, измеряемой электродами у каждого игрока и сообщаемой шару магнитом, спрятанным под столом, является комбинация альфа- и тэта-волн, которые генерируются мозгом в расслабленном состоянии: чем больше альфа- и тэта-волн, тем с большей силой вы толкаете шар. То есть майндбол – это соревнование, где побеждает тот, кто сильнее расслабится. За игрой очень интересно наблюдать. Участники прилагают видимые усилия, чтобы расслабиться, закрывают глаза, глубоко дышат, принимают позы, напоминающие о йоге. Паника, которую они начинают чувствовать, когда шар приближается к их стороне стола, обычно компенсируется растущим азартом противника, и оба игрока, по мере того как шар катается туда-сюда, поочередно теряют хладнокровие. Нельзя придумать лучшей иллюстрации того, насколько трудно стараться не стараться.
В нашей культуре стремление не стараться чрезмерно, а “плыть по течению”, “быть в ударе” давно привлекало творческих людей. Великий Чарли Паркер советовал начинающим музыкантам: “Не играйте на саксофоне. Дайте ему играть на вас”{1}. Такая же открытость важна для актеров и других деятелей шоу-бизнеса, которые полагаются в первую очередь на спонтанность и кажущуюся непринужденной восприимчивость. Эстрадный комик, если он не в ударе, не вызывает смех, а актер, который не полностью вжился в свою роль, выглядит скованно и неправдоподобно. Объясняя, как готовиться к роли, Майкл Кейн предупреждал{2}, что нельзя просто заучить сценарий и играть его по пунктам, от фразы к фразе. Когда приходит время вашей реплики, единственный способ выглядеть естественно – не пытаться ее вспомнить.
Ты должен уметь стоять на сцене и не думать о следующей реплике. Ты должен прочитать ее на лице своего партнера, ведь он, вполне возможно, заново осмысливает диалог, будто слова сами пришли ему в голову от только что увиденного и услышанного, будто для него все происходящее внове, неожиданно. Если не пытаться сделать это, то когда придет время твоей реплики, ты не услышишь партнера и не сможешь ответить естественно, действовать спонтанно.
Умение “быть в ударе”, наверное, нигде не ценится так, как в профессиональном спорте. В 2005 году в журнале “Спортс иллюстрейтед”{3} вышла статья, составленная лишь из рассуждений профессиональных баскетболистов о том, что значит достичь этого состояния:
Можно читать книги о том, как поймать ритм, как подготовиться, но все равно это никогда не похоже на то, чего ждешь. Мяч кажется легким, а броски непринужденными. Даже не нужно целиться. Расслабляешься и знаешь, что мяч попадет в корзину. Невероятно… Это как отличный сон – не хочется просыпаться.
(Пэт Гэррити, форвард “Орландо мэджик”.)Это внетелесный опыт, будто видишь себя со стороны. Чувствуешь, что почти не замечаешь защитников. Каждое твое движение заставляет думать: “Боже, этот парень такой медленный”. Ты обходишь других и даже не слышишь привычного шума. Он заглушается. На следующий день идешь на тренировку и думаешь: “Ну почему я не могу делать такое всякий вечер?” Любой хотел бы поймать это ощущение.
(Джо Думарс, бывший защитник Сборной звезд НБА.)Профессиональным спортсменам хотелось бы сохранить это ощущение, потому что оно слишком легко исчезает. Как сказал Гэррити, баскетболист “в ударе” не хочет очнуться, но нередко это случается. Бен Гордон, бывший защитник “Чикаго буллз”, выразился так: “Когда это ощущение начинает проходить, чувствуешь себя отвратительно. Я говорю себе – «ну давай же, ты должен играть агрессивнее». Так понимаешь, что все кончилось. Это уже не инстинкт”.
Спортсмены пытаются всеми силами удержаться в этом блаженном состоянии. Множество многообещающих игроков, потеряв хватку, сошло со сцены – или, что возможно, еще хуже, “прославились” именно тем, что перестали быть собой{4}. Любители бейсбола знают о “болезни Стива Бласса”, названной по имени питчера из “Питсбург пайретс”, игравшего в 60–70-х годах. Бласс, почти десять лет державший в страхе лучших игроков мира, внезапно стал сдавать. Он был хорош на тренировках. У него не было травм, он не терял навыки. Он просто больше не мог бросать, когда это было нужно. Его случай изучала армия спортивных психологов, тренеры пытались выбить из него дурь изнурительными упражнениями, но ничего не помогло, и Бласс рано ушел из спорта{5}.
Неумение расслабиться преследует и представителей шоу-бизнеса. Известный пример – певица Карли Саймон. Она всегда с неохотой появлялась перед большой аудиторией, но пика ее боязнь сцены достигла на концерте в 1981 году. “После двух песен меня все еще била дрожь, – позднее рассказывала Саймон журналисту, – и я сказала, что, наверное, почувствую себя лучше, если кто-нибудь поднимется ко мне на сцену. Явилось человек пятьдесят, и это было как в группе телесной терапии. Они растерли мне руки и ноги, приговаривая: «Мы тебя любим». Я смогла закончить первую часть шоу. Но перед второй частью все-таки сорвалась, а десять тысяч человек стояли и ждали”. После этого провала Саймон надолго прервала выступления, хотя, в отличие от Бласса, позднее сумела все же вернуться на сцену{6}.
Широко распространено мнение, что эта проблема – необходимость расслабиться и отключить разум, когда необходимо, – стоит только перед профессиональными спортсменами и другими публичными людьми. Для тех, кто соревнуется на высшем уровне, спонтанность – основное требование. Их благосостояние зависит от умения постоянно “быть в ударе”. Но куда меньше людей понимает, что все мы сталкиваемся с этим испытанием. Возможно, мы не чувствуем такого давления, как Стив Бласс или Карли Саймон, но во многом нашу жизнь можно изобразить как массовую игру в майндбол.
Наверное, проще всего заметить масштаб проблемы в сфере физической активности. Представьте, что вы играете последний сет. Это лучшая игра в вашей жизни, и вы вот-вот победите своего друга, когда-то блиставшего в университетской теннисной команде. И, когда победа близка, вы внезапно понимаете, что начинаете проигрывать. Вы становитесь напряженным, слишком осторожным. Вы начинаете обдумывать свои удары вместо того, чтобы просто бить, и друг начинает наверстывать упущенное. Вы знаете, что нужно сделать: расслабиться. Но чем больше вы об этом думаете, тем сильнее напрягаетесь. И – беспомощно наблюдаете, как теряете преимущество, а противник снова торжествует.
Или представьте, что вы берете уроки сальсы и ваша первоначальная стеснительность лишь обостряется из-за назойливой инструкторши, которая все время требует спонтанности. “Расслабьтесь! Получайте удовольствие!” – щебечет она, пока вы спотыкаетесь, пытаясь повторить заученные движения, и стараетесь хотя бы не наступить на ногу партнеру. “Расслабьтесь! Почувствуйте музыку!” И чем настойчивее она требует получать удовольствие, тем скованнее вы себя чувствуете. Вы обнаруживаете, что щедрая порция текилы помогает расслабиться – но, увы, ценой катастрофического нарушения координации движений. Способность танцевать одновременно и умело, и с наслаждением кажется фантастической.
“Выключить” мозг и позволить телу делать свою работу действительно трудно. Но гораздо чаще мы сталкиваемся с необходимостью заставить разум освободить себя. Основную трудность в майндболе представляет то, что игру можно выиграть, лишь расслабившись, а это значит, что выиграть можно, лишь не стараясь выиграть. В обыденной жизни эта проблема заметнее всего проявляется при бессоннице. Допустим, завтра вам предстоит важная встреча, на которой придется проявить себя наилучшим образом, так что вы ложитесь пораньше и стараетесь расслабиться и уснуть, но обнаруживаете, что не в силах избавиться от потока мыслей. (Подсчет овец лишь усугубляет дело.) Ни одна поза не кажется удобной. Вы устали, но никак не можете “отключить” мозг. “Расслабься!” – требуете вы от себя, но тщетно.
Та же проблема дает о себе знать и в более сложных ситуациях, обычно при общении, где давление куда сильнее. Например, на свидании. Любой, кто достаточно долго был одинок, знаком с явлением “не было ни гроша, да вдруг алтын”: иногда вы испытываете долгие периоды отчаянного одиночества, и ваши попытки познакомиться с кем-либо не оканчиваются ничем. А потом внезапно на вас обрушивается множество женщин или мужчин (или и тех, и других – все зависит от ваших предпочтений). Привлекательные люди улыбаются вам на улицах, начинают заговаривать с вами в кафе. Недоступная красотка за прилавком видеопроката, которая прежде и не смотрела в вашу сторону, вдруг отмечает ваше пристрастие к фильмам Вима Вендерса, и вот вы уже собираетесь в пятницу (в пятницу!) вдвоем посмотреть “Небо над Берлином” и поесть индийской еды. (Этот пример никоим образом не автобиографический.) Вы обнюхиваете свою одежду, пытаясь понять, не источаете ли особые феромоны, но если у этого феномена и есть биологическая причина, вы не в состоянии ее заметить. Душ никак не снижает эффективность.
Все наслаждаются этим периодом изобилия, но когда снова наступает черная полоса, он кажется расточительным и несправедливым. Когда у вас много возможностей, вы не можете насладиться ими всеми, а когда они вам нужны, не попадается ничего. Серьезные размышления (а в периоды одиночества у вас много времени на размышления) приводят к выводу: лучший способ добиться свидания – это не хотеть добиться свидания. Проблема в том, что очень трудно понять, что делать с этим знанием. Как заставить себя не хотеть того, чего вы на самом деле очень хотите?
Большинство из нас (а под “нами” я подразумеваю людей, которые могут прочитать эту книгу – жителей развитых обществ) зациклены на борьбе, труде, усердии и старании. Трехлетние дети проходят курсы подготовки, чтобы попасть в лучший детский сад, и вырастают в одержимых конкуренцией школьников, глотающих “Риталин”, чтобы улучшить результаты тестов и справиться с жестким графиком внеклассных занятий. Наша личная и профессиональная жизнь все теснее связана с ускоряющейся погоней за продуктивностью, оставляющей за бортом досуг, отпуск и простые удовольствия. В результате люди всех возрастов проводят свои дни прикованными к смартфонам, погруженными в бесконечный поток игр, электронных писем, эсэмэс, твитов, звонков; они встают слишком рано, ложатся слишком поздно и погружаются в беспокойный сон при ярком свете крошечных дисплеев.
Чрезмерное внимание, уделяемое современным человеком разуму, силе воли и самоконтролю, не позволяет оценить важность “телесного мышления”: полуавтоматических действий, проистекающих из подсознания при незначительном участии сознательной психики или вовсе без него. В результате мы слишком часто заставляем себя напрягаться сильнее и двигаться быстрее там, где напор скорее вреден. Это оттого, что проблема чокинга, или мандража (choking), выходит далеко за пределы поля или сцены. Политик, который по-настоящему не расслаблен и не уверен в себе, когда произносит речь, покажется пустым, непривлекательным (это и подвело Митта Ромни). Точно так же нельзя заставить себя испытывать любовь к чтению, страсть к обучению и глубокое любопытство к миру. Подобно результативности в бейсболе или счастью (самой иллюзорной цели современного человека), спонтанности тяжело не только достичь – ее трудно удержать. Попробуйте – и она ускользнет.
Что такое у-вэй и что такое дэ
В этой книге мы рассмотрим множество аспектов феномена спонтанности и его загадку: почему спонтанность столь важна для нашего благополучия и при этом труднодостижима. На самом деле вопрос, как постараться не стараться, занимал мыслителей на протяжении всей истории и по всему миру. Наиболее интересные ответы предложили древние китайцы. Я считаю, что конфуцианцы и даосы{7} выработали очень ценное понимание человеческой натуры, полезное и нам. Чтобы взглянуть на жизнь сквозь призму учений древнего Китая, рассмотрим два тесно связанных понятия: у-вэй () и дэ ().
У-вэй буквально переводится – “недеяние”. Однако это вовсе не унылое бездействие, а динамичное, непринужденное, естественное состояние сознания человека, который действует активно и эффективно настолько, насколько нужно. Люди, пребывающие в у-вэй, чувствуют, будто они не делают ничего, хотя в то же время они могут создавать блестящие произведения искусства, ловко находить выход из затруднительного положения и даже приводить весь мир к гармонии. Человеку в состоянии у-вэй должное и эффективное поведение дается столь же естественно, как тело следует ритму музыки. Это гармоничное состояние одновременно сложно и целостно, оно предполагает примирение тела, эмоций и разума{8}. Если бы нужно было точно перевести понятие у-вэй, лучше всего подошло бы “действие без усилий” или “спонтанное действие”. Пребывание в состоянии у-вэй приводит к расслаблению и наслаждению, но оно вознаграждается куда больше, чем любые обыденные радости. Во многих отношениях оно подобно описанному Михаем Чиксентмихайи понятию “потока”, или способности “быть в ударе”, но с важными (и многое проясняющими) отличиями. Их мы и рассмотрим.
Люди в состоянии у-вэй обладают дэ. Обычно слово дэ переводят как “добродетель”, “могущество”, “харизматическая власть”. Дэ – это сияние, заметное окружающим и служащее признаком того, что некто пребывает в состоянии у-вэй. Обладать дэ очень полезно. Дэ правителя и вообще людей, имеющих отношение к политике, оказывает почти магический эффект. Им нет нужды угрожать или сулить награду: люди будут сами желать им подчиниться. В масштабе поменьше дэ позволяет человеку наиболее эффективным образом взаимодействовать с людьми. Если вы обладаете дэ, то нравитесь людям, они доверяют вам и чувствуют себя рядом с вами спокойно. Даже дикие звери не трогают вас. Преимущества, даруемые дэ, неоспоримы, и поэтому состояние у-вэй так привлекательно, и поэтому древнекитайские мыслители потратили столько времени, чтобы понять, как его достичь.
Показательно, что ни в одном языке, кроме китайского, нет точных эквивалентов ни у-вэй, ни дэ, и это отражает разрыв в нашем концептуальном мире. Так же, как немецкое слово Schadenfreude, то есть “злорадство”, позволило людям, говорящим по-английски, сконцентрировать свое внимание на всегда присутствовавшем, но обычно ускользающем аспекте эмоциональной жизни. Ну а введение в наш обиход слов у-вэй и дэ, я полагаю, позволит добиться лучшего понимания тех граней умственного и социального мира, которые мы прежде упускали. Я познакомился с этими понятиями в студенчестве, и они стали частью моего словарного запаса и быстро распространились среди моих близких, друзей и знакомых. “Ты относишься к этому не в духе у-вэй”, – сообщает мне жена, когда я пытаюсь применить силу к чему-то, к чему не следует: к заклинившей двери или зануде бюрократу. “У этого парня нет дэ, а у тебя есть”, – объясняю я своей коллеге, когда хочу, чтобы именно она, а не кто-либо другой, присоединилась ко мне во время важного собеседования на грант. И она понимает, о чем я.
Понимание концепций у-вэй и дэ крайне важно для понимания древнекитайской философии. Ниже мы познакомимся с пятью мыслителями периода Чжаньго (“Борющиеся царства”, V–III века до н. э.). То было время общественных потрясений и политической нестабильности. Могущественные царства поглощали слабые, а государей-неудачников, как правило, казнили. Огромные армии разоряли деревни и делали ужасной жизнь простых людей. Период Борющихся царств{9} также стал (и не случайно) временем невероятного философского подъема, когда появились все главные школы китайской мысли. Несмотря на разность взглядов (социогенетизм против биогенетизма, научение против инстинктов, и т. д.), все эти мыслители строили свои религиозные системы на естественности и спонтанности и чувствовали, что жизненный успех в целом связан с харизмой, исходящей от абсолютно расслабленного человека, или эффективностью, с которой он действует, когда абсолютно поглощен процессом. Иными словами, все они хотели добиться состояния у-вэй и получить дэ.
Кроме того, все эти мыслители сталкивались со своей версией майндбола. Как они могут предлагать последователям добиваться спонтанности? Как стараться не стараться? Ведь разве сам факт попытки не испортит результат? Мы можем назвать это затруднение “парадоксом у-вэй”. Все мыслители, с которыми мы познакомимся, считали, что нашли безошибочный способ разрешить парадокс и безопасно привести людей к у-вэй, а также объяснить, почему их соперники этого сделать не смогут. Это считалось особенно важным, поскольку для них у-вэй и дэ были не просто способом выиграть теннисный матч или добиться свидания: это были ключи к личному, политическому и религиозному успеху.
Древний Китай и современная наука
Социальный и религиозный мир китайских мыслителей сильно отличался от нашего. Поэтому я считаю особенно интересным, что за последние несколько десятилетий многие представления о спонтанности двухтысячелетней давности подтверждены современными учеными. Растет число трудов по психологии и нейронаукам, из которых ясно, что древнекитайские мыслители обладали куда более ясным представлением о том, как люди мыслят и ведут себя, чем современные западные философы и религиозные деятели, и что споры древних о достижении у-вэй отражают реальную проблему, касающуюся работы мозга. Ученые начинают все больше ценить роль, которую играет в жизни “быстрая и экономная” неосознаваемая психика, и приобретают более ясное понимание того, почему спонтанность и эффективность{10} тесно связаны.
Теперь мы знаем кое-что и о психологических механизмах у-вэй, в том числе и о том, какие именно участки мозга отключаются, а какие работают в полную силу. Такие методы, как функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ), позволяют увидеть красочные изображения работы мозга в состоянии у-вэй. К науке о мозге не стоит относиться как к волшебному способу отыскать истину. Изображения ФМРТ{11}, которыми пестрят популярные статьи и книги, не являются снимками самого разума, однако они определенно сообщают нам нечто, чего мы еще не знали о работе мозга. Это ценная деталь мозаики. Более того, нейронауки могут быть полезны тем, что дают возможность лучше оценить сложность нашего воплощенного разума. Например, когда мы противостоим искушению, это не бесплотная душа борется с плотью, а одни участки мозга, отвечающие за определенные функции, конфликтуют с другими участками мозга. Нейронауки, таким образом, дают более точное описание человека, чем когда-либо прежде.
Другая важная часть мозаики спонтанности – эволюционная психология. Она отчасти объясняет, почему состояние у-вэй так приятно его обладателю и привлекательно для окружающих. Предметы и события приносят удовольствие, когда они полезны для эволюции (например, оргазм или шоколад). Состояние у-вэй приятно нам потому, что огромное количество задач нельзя решить с помощью сознательной психики. Чтобы справиться с ними, нужно освободить быстрое бессознательное восприятие. Ученые-когнитивисты все больше убеждаются в том, что наше сознательное, эксплицитное сознание нередко становится хитрым лжецом, а спонтанные, неосознаваемые жесты отражают то, что действительно у человека на уме. Физиологически сложно осознанно вызвать спонтанность, и, возможно, поэтому мы так ценим ее. Поэтому же мы находим естественных людей привлекательными и заслуживающими доверия, а попытки сымитировать спонтанность и легкость, например коммерческие брачные стратегии вроде “Правил” и “Системы”, не приносят никакой пользы.
Поэтому, несмотря на то, что древнекитайские мыслители предложили разнообразные догадки, почему привлекательно дэ, ответ, возможно, кроется в очень простом психологическом явлении: спонтанное поведение трудно имитировать, а значит, раскованные, непринужденные люди редко оказываются лгунами. Нас всех также интересует эффективность, а люди в состоянии у-вэй нередко пользуются успехом в обществе. Все это дает эмпирически подтвержденную, научную базу{12} для восприятия у-вэй и дэ как понятий, которые могут помочь нам устроить собственную жизнь. Поэтому мы займемся рассмотрением глубоких эволюционных и нейробиологических причин того, почему у-вэй эффективно, почему дэ работает и почему некоторые современные исследователи феномена спонтанности{13} упускают важные аспекты опыта у-вэй.
От современной науки к древней философии
Если современная наука может столько рассказать об у-вэй, то зачем нам вообще обращаться к этим древним китайским дядькам? (Насколько известно, все они были дядьками.) Как историк, изучающий древнекитайскую философию, и (это не совпадение) как человек, выросший в Нью-Джерси, где на дух не переносят туфту, я начинаю страдать мигренью, когда слышу людей, превозносящих “Восток” как единственный и непогрешимый источник мудрости. Тем не менее, в куче нью-эйджа есть зерно истины. Есть несколько важных аспектов, в которых древнекитайская мысль может помочь справиться с отдельными затруднениями философского и политического свойства и лучше подготовиться к принятию биологического и социального мира, в котором мы живем.
Если называть “западным” образ мышления, усвоенный в Европе и ее бывших колониях после эпохи Просвещения, то можно сказать, что для него характерно принятие рационального мышления как основы человеческой натуры, а мышления – как процесса, протекающего в высших сферах, абсолютно не связанного с шумным физическим миром. Это дуалистический взгляд в том смысле, что разум и якобы свойственная ему абстрактная рациональность{14} резко отграничены от тела и эмоций и занимают по отношению к ним господствующее положение. Хотя психофизиологический дуализм{15} отчасти является универсальной чертой человеческой психологии, традиция, прослеживающаяся от Платона до Декарта, превратила смутные догадки о разнице между людьми (у которых есть разум) и вещами (у которых его нет) в странную метафизическую дихотомию нематериального разума и неживой материи.
Это дуалистическое представление не только исказило наше восприятие себя, но и оказалось неожиданно вредным для науки{16}. До середины XX века ученые-когнитивисты воспринимали разум как мозг в колбе, выполняющий обработку абстрактной информации, – и это спутало им карты. К счастью, в последние несколько десятилетий когнитивные науки стали избавляться от концептуальных оков дуализма и начали воспринимать разум по-настоящему “телесным”{17}. Это значит, что наше мышление завязано на конкретный опыт, и даже то, что кажется довольно абстрактным, связано через аналогии и метафоры с нашими телесными ощущениями. Нам трудно думать о правосудии, не представляя себе весы, а размышляя о жизни, мы неизбежно приходим к образам путешествия и дороги{18}. Телесное восприятие сознания{19} также неразрывно связывает мышление с ощущениями, и это ставит под вопрос строгое разграничение рассудка и эмоций. Более того, когнитивисты начинают принимать тот факт, что мозг создан в первую очередь для действия, а не для обработки абстрактной информации (но, если необходимо, он умеет и это). Эта революция “воплощенного разума” была, по крайней мере отчасти, вдохновлена азиатской религиозной мыслью (в том числе древнекитайскими и более поздними соображениями китайских буддистов об у-вэй), что делает сплав когнитивных наук и китайской мысли{20} в этой книге вполне оправданным.
Западные философы (обычно они отстают от ученых) также начали понимать важность для своей дисциплины и эмпирического знания, и незападных традиций. Пока еще небольшое число философов, не избегающих психологии, признает, что древнекитайская традиция с ее телесным видением “я” позволяет скорректировать чрезмерное увлечение современных западных философов{21} рацио, сознательным и силой воли. Так, современная западная философия настаивает на важности абстрактного, репрезентативного знания о мире, то есть фактах вроде “Столица Италии – Рим” или E = mc2, а древнекитайские философы говорили о “ноу-хау”: практической, неявной, нередко не поддающейся описанию способности делать что-либо хорошо. Я умею ездить на велосипеде, но не могу объяснить, как я это делаю. (Сосредоточившись на том, как ездить, или пытаясь объяснить это другому, зачастую можно ухудшить свои способности к езде на велосипеде.)
Для древнекитайских мыслителей кульминацией познания было не понимание абстрактных принципов, а достижение состояния у-вэй. Целью же виделась способность действовать в физическом и человеческом мире абсолютно спонтанно и в то же время в полной гармонии с естественным порядком природной и социальной реальности “Путь”, Дао,). Из-за желания знать{22}, как, а не знать то или это, в китайской традиции последние две тысячи лет уделяется куда больше внимания анализу внутреннего ощущения у-вэй, разрешению парадокса, лежащего в основе этого понятия, и выработке приемов, позволяющих его достичь. Идеальный человек в древнем Китае скорее похож на тренированного спортсмена или умелого художника, а не на бесстрастного аналитика, взвешивающего все “за” и “против”. Этот образ лучше подходит и нашему интуитивному пониманию того, что такое совершенный человек, и научному пониманию того, как устроен разум.
Понятия у-вэй и дэ (помимо того, что они помогают нам выйти за рамки строгого психофизиологического дуализма) открывают важные аспекты спонтанности и социального взаимодействия, которые ускользнули от современной науки, все еще тесно связанной с другой основой западной мысли: крайним индивидуализмом. Идеальный человек{23} в западной философии не только бестелесен, но и в высшей степени одинок. В последние двести лет на Западе господствовал взгляд на человека как на актора, преследующего собственные интересы и принимающего во внимание лишь вознаграждение и наказание. Человеческие сообщества, согласно этому воззрению, формировались, когда одинокие охотники и собиратели – как правило, мужчины во цвете лет (при подозрительном отсутствии супруг, детей, стариков и больных) – встретились на поляне, обсудили правила, по которым собираются жить, и ударили по рукам. Экономисты и политологи лишь сейчас начинают понимать, что это сказка, сочиненная пару веков назад высокопоставленными мужчинами-землевладельцами (кого философ Аннет Байер назвала “сборищем попов{24}, женоненавистников и холостяков-пуритан”).
На самом деле мы – не совершенно автономные, самодостаточные и рациональные индивиды, а эмоциональные стайные животные, всю жизнь зависящие от других. Мы кооперируемся не потому, что хорошенько взвесили все “за” и “против” общежития, а потому, что эмоционально привязаны к семье и друзьям и приучены к ценностям, которые позволяют нам спонтанно взаимодействовать с остальными членами нашего общества. Эти общие ценности являются цементом, который скрепляет крупные группы, а чтобы ценности работали, их необходимо принять искренне и не задумываясь (в духе у-вэй). Поэтому затруднения, касающиеся у-вэй и дэ, связаны с противоречиями социального взаимодействия, особенно в рамках современных крупных анонимных сообществ.
Кроме того, помещение у-вэй в изначальный древнекитайский контекст помогает увидеть, до какой степени это фундаментальное духовное или религиозное понятие. Одной из основных черт состояния у-вэй является ощущение погруженности в Единое: Дао, “Путь”. Хотя мои читатели вряд ли примут древнекитайское религиозное мировоззрение, я могу показать, что даже для нас нечто очень похожее на Путь лежит в основе любого искреннего опыта у-вэй: чувство принадлежности к некоей системе ценностей, пусть смутных или незначительных. Таким образом, у-вэй отличается от современных психологических концепций вроде “потока”, позволяя нам увидеть важное социальное измерение спонтанности.
Есть еще одно важное преимущество рассмотрения у-вэй и дэ в изначальном контексте, по крайней мере, для читателей за пределами Восточной Азии. Следует понимать, что китайская культура никогда не теряла интереса к у-вэй – она никогда не прыгала в кроличью нору гиперрациональности и крайнего индивидуализма. Мыслители, которых мы рассматриваем здесь, все еще живы в сознании наших современников-китайцев. Поскольку китайский язык не фонетический, его письменная форма остается почти неизменной уже несколько тысячелетий, хотя разговорные диалекты претерпевают серьезные трансформации. Тексты, которые мы будем разбирать, написаны примерно с V по III век до н. э. на классическом китайском (вэньянь), который служил литературным языком до начала XX века. До последнего времени классический китайский язык был lingua franca и языком науки всей Восточной Азии. На протяжении большей части истории тексты, которые мы будем обсуждать, заучивались каждым образованным человеком в сфере культурного влияния Китая. Книга “Лунь юй” (“Беседы и суждения”) повлияла на большее количество людей, чем Библия. Даже сейчас большие фрагменты этих текстов изучают школьники по всей Восточной Азии, а классический язык – вместе с сопутствующим образом мышления – превосходит по своему охвату все разговорные диалекты Китая.
В результате мы имеем необычно высокую степень преемственности между периодом формирования китайской мысли и современной культурой Китая (и всей Восточной Азии). Например, современный восточноазиатский подход к личным отношениям (гуаньси) и неформальные деловые связи сначала неприятно удивляли западных бизнесменов, которые считали их прикрытием для коррупции и непотизма (несомненно, нередко так оно и было). Однако у них есть разумное объяснение, основанное на конфуцианском предпочтении интуитивных решений, а не на строгом следовании правилам. Вы лицом к лицу встречаетесь с партнером, потому что мимика, оговорки – его поведение в у-вэй, а также дэ, – говорит все, что вам нужно о нем знать. Лучший способ гарантировать выполнение соглашений – это создать тесные личные отношения, обычно через ряд совместных вечеров, подкрепляемых вкусной едой и поразительным объемом алкоголя. Даже в древнем Китае хорошо понимали, что такие персональные связи открывают простор для злоупотреблений, и утверждали, что единственный способ предотвратить коррупцию – это заменить спонтанные, основанные на доверии социальные отношения безликими и связанными правилами общественными институтами{25}. На практике в Китае осталось и то, и другое, но доминирующие культурные нормы продолжают опираться на у-вэй и дэ. Нельзя понять современный Китай, не осознав этого. Так что, кроме прочего, эта книга дает некоторое представление о китайской мысли, которое может быть полезно человеку, живущему в эпоху возрождения Китая.
Переоткрытие спонтанности
Древнекитайские источники, рассказывающие о спонтанности, дают нам уникальный взгляд на ту грань духовной и общественной жизни, которой на Западе в последние несколько веков уделялось мало внимания. То есть, пусть эта книга и не дает стопроцентного способа достигнуть состояния у-вэй за десять шагов, однако из нее вы узнаете довольно много о проверенных временем методах. Иметь в распоряжении такое попурри может быть довольно полезно. Если одна техника смогла помочь заснуть вечером перед важной встречей, это не значит, что она окажется полезной днем, когда вам нужно будет поймать ритм во время теннисного матча. То, что помогает мне, малоподвижному интроверту-ученому, расслабиться до состояния у-вэй в начале рабочего дня (тишина, одиночество, солнечный свет и много кофе), может совершенно не совпадать с тем, что нужно гиперактивному экстраверту-актеру (добрый глоток бурбона, громкая музыка и групповой мозговой штурм). Я надеюсь, что, прочитав здесь о древней мудрости, а также об открытиях современных когнитивных наук, вы обнаружите нечто такое, что сможете применить в жизни.
Более того, само введение понятий у-вэй и дэ в наш обиход заставляет пересмотреть взгляд на поведение и взаимодействие. Мы привыкли думать, будто спонтанность (если мы вообще о ней задумываемся) – это полезный аксессуар для коктейльной вечеринки или нечто такое, что необходимо лишь артистам и спортсменам. Однако множатся доказательства того, что древние китайцы, считавшие спонтанность краеугольным камнем личного процветания и успеха в обществе, были правы. Это значит, что парадокс у-вэй куда глубже, чем казалось, а преодолеть его важнее, чем мы думали.
Нас приучили считать, будто лучший способ достичь поставленных целей – это основательно все обдумать и настойчиво добиваться своего. К сожалению, применительно ко многим сферам жизни это ужасный совет. К привлекательности и спонтанности лучше идти не напрямую, а старательное обдумывание и упорство могут лишь отдалить от цели. Далее мы узнаем, как культивировать спонтанность, и получим некоторые сведения о том, как она влияет на отношения с людьми. Наше исследование у-вэй и дэ не даст простых решений и не откроет никаких “восточных тайн”, которые моментально превратят нас в бесстрастных мастеров дзэн. Тем не менее я убежден, что, осознав силу спонтанности, оценив связанные с нею затруднения и обдумав все это с древнекитайскими философами и современными учеными-когнитивистами, мы лучше поймем, как мы живем и взаимодействуем с людьми, и будем делать это эффективнее.
Глава 1 Умелые повара и благородные мужи: что такое у-вэй
История о поваре Дине – наверное, самый известный и яркий образ у-вэй в древнекитайской литературе. Повара позвали поучаствовать в религиозной церемонии, предполагающей жертвоприношение быка, в присутствии правителя и при скоплении народа. Это большое событие, и повар Дин в центре внимания. Какая именно это церемония, в тексте не уточняется, но скорее всего речь идет об освящении только что отлитого бронзового колокола. Во время ритуала еще дымящийся колокол приносят из литейной и остужают кровью жертвенного быка. Для этого требуется отличное чувство времени и идеально точное выполнение всех действий.
Повар Дин разделывает тушу огромного животного с непринужденной грацией[1]: “Взмахнет рукой, навалится плечом, подопрет коленом, притопнет ногой, и вот: вжик! бах! Сверкающий нож словно пляшет в воздухе – то в такт мелодии «Тутовая роща», то в ритме песен Цзиншоу”. Мелодия “Тутовая роща” и песни Цзиншоу были почитаемыми произведениями искусства: тело Дина и нож двигались в идеальной гармонии, превращая обыденное занятие в шоу. Царь Вэнь-хой поражен: “Прекрасно! Сколь высоко твое искусство, повар!” Дин отложил нож: “Ваш слуга любит Путь, а он выше обыкновенного мастерства”. Затем повар переходит к объяснению того, каково это – творить в состоянии идеальной легкости:
Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, но минуло три года – и я уже не видел их перед собой! Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному желанию. Вверяясь Небесному порядку, я веду нож через главные сочленения, непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому никогда не наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях.
И теперь Дин не столько режет, сколько освобождает части туши, позволяя лезвию двигаться сквозь пустоту, не ощущая ни малейшего сопротивления:
Хороший повар меняет свой нож раз в год – потому что он режет. Обыкновенный повар меняет свой нож раз в месяц – потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом уже девятнадцать лет, разделал им несколько тысяч туш, а нож все еще выглядит таким, словно он только что сошел с точильного камня. Ведь в сочленениях туши всегда есть промежуток, а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее толщины вводишь в пустоту, ножу всегда найдется предостаточно места, где погулять. Вот почему даже спустя девятнадцать лет мой нож выглядит так, словно он только что сошел с точильного камня.
Это не всегда просто. Иногда непринужденный танец прерывается, когда повар чувствует препятствие. В этот момент его сознательная психика снова включается, однако остается открытой для ситуации:
Однако же всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется нелегко, и собираю воедино мое внимание. Я пристально вглядываюсь в это место, двигаюсь медленно и плавно, веду нож старательно, и вдруг туша распадается, словно ком земли рушится на землю.
Царь Вэнь-хой тут же увидел, что эти слова относятся не только к разделке туш. “Превосходно! – воскликнул он. – Послушав повара Дина, я понял, как нужно вскармливать жизнь”. Таким образом, историю следует воспринимать метафорически: мы сродни ножу, а кости и сухожилия суть препятствия, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни. И точно так же, как нож Дина остается острым потому, что никогда не встречается с костью или сухожилием, человек в состоянии у-вэй следует по “пустотам” жизни, избегая трудностей, которые наносят вред духу и изнуряют плоть. Эта метафора с годами не потеряла силы. Я, например, могу засвидетельствовать, что после сорока с лишним лет непростой жизни мой “нож” несколько затупился.
Другое мое любимое описание у-вэй относится к ремесленнику. Краснодеревщику Цину поручили вырезать раму для бронзовых колоколов: точно таких, которые освящались при помощи повара Дина. Это также важное общественное поручение, результат которого оценивает сам правитель и которое предполагает щедрое вознаграждение и почести. Как и повар Дин, Цин демонстрирует почти сверхъестественное искусство: получившаяся рама “так прекрасна, словно ее сработали сами боги”. Как и Дин, краснодеревщик удостаивается похвалы правителя, который спрашивает: “Каков секрет твоего искусства?” Впрочем, Цин отрицает, что сотворил нечто выдающееся: “Какой секрет может быть у вашего слуги – мастерового человека?” После некоторого давления, однако, он признает, что, возможно, секрет у него все-таки есть:
Когда ваш слуга задумывает вырезать раму для колоколов, он не смеет попусту тратить свои духовные силы и непременно постится, дабы упокоить сердце. После трех дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жалованье. После пяти дней поста я избавляюсь от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после семи дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе.
Соображение, будто можно делать раму для колоколов, позабыв о себе, может показаться странным, но это говорит лишь о том, что Цин так сильно сосредоточился, что все внешнее потеряло для него значение. “Тогда для меня перестает существовать царский двор, – объясняет он. – Мое искусство захватывает меня всего, а все, что отвлекает меня, перестает существовать для меня”. Теперь мастер готов:
Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Вот тут я вижу воочию в дереве готовую раму и берусь за работу. А если работа не получается, я откладываю ее. Когда же я тружусь, небесное соединяется с небесным – не оттого ли работа моя кажется как бы божественной?
Удивительно, насколько эта история напоминает то, что нам известно о великом художнике совсем из другого времени и места – о Микеланджело. Когда Микеланджело стали расспрашивать о его сверхъестественных способностях скульптора, он якобы ответил, что, получив заказ, просто ждет, пока не отыщется глыба мрамора, в которой он разглядит статую. А после просто “отсекает лишнее”{26}. Здесь, как и в случае с краснодеревщиком Цином, мы видим, что материал обуславливает творческий процесс. Вмешательство творца оказывается минимальным.
Истории о поваре Дина и краснодеревщике Цине взяты из книги “Чжуан-цзы”. Она (а также “Дао дэ цзин” – другая даосская работа) содержит самый богатый среди текстов периода Борющихся царств материал на тему у-вэй. Описания состояния у-вэй в “Дао дэ цзин” имеют вид не историй, а коротких стихов с таинственным смыслом. Большая часть книги, вероятно, была зарифмована на китайском, который мы теперь можем реконструировать лишь отчасти. Темный, как и все прочие, фрагмент “Дао дэ цзин”, описывающий путь Неба, очевидно, рассказывает, как следует жить правильно воспитанному человеку[2]:
Кто знает, почему бывает Небу что-то ненавистно? Именно поэтому Премудрый человек как бы во всем испытывает затруднение. Дао Небес умеет без борьбы одерживать победу, умеет молчаливо откликаться, является само без зова, умеет неумышленно замыслить. Широко раскинута сеть Неба, и хоть она редка, но из нее не выскользнуть.
Улавливающая все “сеть Неба” напоминает расслабленную сосредоточенность повара Дина и краснодеревщика Цина: созвучные миру легкость и открытость. Однако, в отличие от персонажей “Чжуан-цзы”, достигших совершенства после лет тренировки, мудрец из “Дао дэ цзин” достигает состояния у-вэй, не прикладывая усилий, а расслабившись и достигнув некоей изначальной гармонии с природой:
Знают Поднебесную, не выходя за дверь, и видят Дао Неба, не подглядывая из окна. Чем далее уходят, тем меньше знают. Именно поэтому Премудрый человек не делает ни шагу, а все знает, он прозревает то, чего не видит, и добивается успеха, находясь в бездействии.
Эпизоды, в которых речь идет непосредственно об у-вэй, довольно часто встречаются в “Чжуан-цзы” и “Дао дэ цзин”, поэтому само понятие у-вэй обычно связывается с даосизмом.
Куда реже обращают внимание{27} на то, что непринужденная легкость и естественность, восхваляемые в даосских текстах, играют главную роль и в раннем конфуцианстве. Это может показаться странным: когда речь заходит о конфуцианцах, на ум обычно приходит занудный традиционализм и сложные ритуалы, слабо соответствующие у-вэй. Нельзя отрицать, что конфуцианство многое сделало, чтобы заслужить такую репутацию. На ранних этапах обучения благородный муж должен заучить целые стеллажи древних текстов, запомнить точный угол поклона и длину шагов, которыми он входит в комнату. Его циновка должна всегда лежать прямо. Но, несмотря на строгость и ограничения, эти усилия направлены на культивирование спонтанности. Более того, обучение не считалось законченным, пока человек не переставал прилагать усилия, умственные или физические.
Сам Конфуций во фрагменте, который служит краткой духовной автобиографией, указывает у-вэй как цель, которой он пытался достичь всю жизнь:
В пятнадцать лет я ощутил стремление учиться; в тридцатилетнем возрасте я утвердился; достигнув сорока, освободился от сомнений; в пятьдесят познал веление Неба; в шестьдесят мой слух обрел проникновенность; с семидесяти лет я следую желаниям сердца, не нарушая меры[3].
Выражение “мой слух обрел проникновенность” буквально означает “мой слух следовал потоку” и предполагает, что, слушая учение древних, Конфуций немедленно понимал их и получал удовольствие. К семидесяти годам он настолько усвоил Путь, что мог воплощать любую мысль или желание, которые приходили в голову, и все же действовать в согласии с моралью и служа примером для других. Результат – непринужденность и естественность, как и у повара из “Чжуан-цзы” или мудреца из “Дао дэ цзин”.
Взгляд Конфуция на у-вэй – непринужденную, естественную, но исключительно культивируемую спонтанность – в период Борющихся царств восприняли два его последователя, Мэн-цзы и Сюнь-цзы, хотя они и были в корне не согласны насчет путей к этому состоянию. Мэн-цзы, изобразив у-вэй естественным плодом воспитания, попытался найти компромисс между позициями даосов и конфуцианцев. Для него должное состояние у-вэй было подобно ростку, готовящемуся прорасти, или телу, готовому пуститься в пляс под заразительную музыку. Сюнь-цзы, не впечатлившийся любовью даосов к природе, вернулся к модели, опробованной Конфуцием: у-вэй как результату строгого обучения длиною в жизнь. Для Сюнь-цзы “не стараться” не было ни легко, ни забавно: совершенство формы и эмоций, идеально выраженное в танце, было для него нелегким достижением, требующим лет упорных упражнений и индоктринации. В любом случае, озабоченность тем, как достигнуть состояния у-вэй, издревле лежала в основе споров о том, как достичь благополучия. Этой дискуссии стоит уделить внимание потому, что она выводит на первый план идеи вроде спонтанности и харизмы, о которых мы, современные люди, обычно не задумываемся.
Мозг в состоянии у-вэй
Мы можем сразу указать{28} некоторые отличительные черты упомянутых философских позиций. Во-первых, хотя есть лишь один повар Дин и один Конфуций, эти носители у-вэй ощущали противоречие. Они чувствовали разрыв между Я (сознание и личная идентичность) и различными силами – духовными устремлениями, желаниями сердца, – которые в состоянии у-вэй берут верх. Для у-вэй характерно чувство непринужденности и естественности, хотя человек в этом состоянии деятелен. Кто-либо или что-либо начинает выполнять работу сознательной психики, которую мы обычно воспринимаем как себя самих. Во-вторых, люди в состоянии у-вэй действуют с высокой эффективностью: огромная бычья туша распадается на части после нескольких взмахов ножом, а сложные социальные ситуации разрешаются с непревзойденной уверенностью. Полагаю, все мы в определенные моменты жизни испытываем это сочетание непринужденности и эффективности. Когда мы абсолютно поглощены нарезкой или обжаркой, трудное блюдо готовится буквально само. Расслабившись, мы с легкостью проходим важное собеседование. Наш собственный опыт объясняет, почему древнекитайские рассказы о спонтанности так привлекательны и важны. Сочетая древние воззрения и современную науку, мы сможем наконец понять, как на самом деле достигается подобное состояние.
Мы часто говорим о себе так, как будто мы раздвоены: “Утром я не мог заставить себя вылезти из постели”, “ Мне нужно держать себя в руках”, “ Я последнее время не в ладах с собой”. Хотя люди все время используют подобные выражения, мы редко задумываемся, насколько странно это звучит. Кто та личность, которая не желает покидать постель, в каких отношениях она со мной? Действительно ли мои эмоции обладают собственной волей? Как я могу держать их под контролем? И кто тогда я, если не эти эмоции? Так как во всех случаях мы говорим об одном-единственном “я”, разделенность присутствует{29} скорее в метафорическом, чем в буквальном смысле. Но то, что мы часто прибегаем к подобным выражениям, означает, что они отражают важный аспект нашего жизненного опыта. Причем разговоры о разделенности не ограничены английским языком: во многих китайских рассказах об у-вэй фигурирует Я, сталкивающееся с той частью личности, которая в той или иной степени от Я независима.
Яркий пример из “Чжуан-цзы” начинается с появления Куя: мифического существа, передвигающегося на одной ноге, медленно и с трудом. С завистью глядя на сороконожку, Куй говорит: “Я передвигаюсь, подпрыгивая на одной ноге, и нет ничего проще на свете. Тебе же приходится передвигать десять тысяч ног, как же ты с ними управляешься?”. Сороконожка отвечает: “Разве не видел ты плюющего человека? Когда он плюет, у него изо рта вылетают разные капли – большие, как жемчуг, или совсем маленькие, словно капельки тумана. Вперемешку падают они на землю, и сосчитать их невозможно. Мною же движет Небесная Пружина во мне, а как я передвигаюсь, мне и самой неведомо”.
Только автор “Чжуан-цзы” мог быть настолько непочтителен, чтобы использовать плевок для объяснения действия Небесной Пружины. Этому сравнению определенно недостает романтики, мистического флера, обычно ассоциируемого с даосизмом. Но в этом и есть смысл: в состоянии у-вэй мы не чувствуем ничего особенного – оно есть, и все. Просто сплевывание – это одна из множества вещей, которые наше тело знает, как делать, но которые мы почти не можем осознанно контролировать или объяснить словами. Другим примером может служить бипедализм – хождение на двух ногах, а не на тысяче, как у сороконожки, или на одной, как у Куя. Мы не думаем о том, как ходим, а просто идем. Более того, если мы начнем об этом думать, то можем споткнуться. Ниже мы подробно разберем опасность такого упражнения. Сейчас же мы просто отметим, что есть множество вещей, которые тело делает без всякого вмешательства сознательной психики, а когда мы задумываемся о них, то остро чувствуем разрыв между сознательным Я и “бессознательным” телом, у которого иногда как будто появляется собственный разум.
Недавние исследования показали, что это ощущение не безосновательно. Хотя существую лишь один я, в определенном смысле мы действительно разделены на два существа. Сейчас большинство исследователей соглашается{30} с тем, что мышление определяется двумя системами с принципиально различными характеристиками. Первая, самая важная (имплицитное чувственное мышление, или система № 1), действует автоматически, без усилий, почти бессознательно, и примерно описывается нами как “тело” (а Чжуан-цзы – как Небесная Пружина). Вторая система (эксплицитное рассудочное мышление, или система № 2) действует медленно, взвешенно, с усилием и примерно соответствует “разуму” – нашему эксплицитному “я”.
Таким образом, когда я заставляю себя не тянуться за второй порцией тирамису, во мне идет отнюдь не метафорическая борьба. Мое сознание (озабоченное долгосрочными последствиями для здоровья приема тирамису внутрь) борется с инстинктами (которым очень нравится тирамису и которые не разделяют тревоги сознательной психики насчет будущего). Это не оттого, что чувственное мышление не заботят последствия. Проблема в том, что представления этой системы о должном сформировались тысячелетия назад. Большую часть нашей эволюционной истории принцип “сахар и жиры – это хорошо” отлично подходил для выживания людей, так как получение достаточного количества питательных веществ требовало постоянных усилий. Однако тем из нас, кому повезло жить в изобилии промышленно развитого мира, сахар и жиры настолько доступны, что уже не выступают безусловным благом. Напротив, позволяя себе злоупотреблять сахаром и жирами, можно получить неприятности. Огромным преимуществом рассудочного мышления является способность изменять свои предпочтения в свете новых обстоятельств. Так что разницу между этими системами можно усмотреть и в том, что чувственное мышление старше и ригиднее, а рассудочное мышление моложе, более гибкое и поэтому быстрее адаптируется к последствиям того или иного поведения.
Эти две системы до определенной степени разделены и анатомически: за их функционирование отвечают разные участки головного мозга. Более того, первые данные о существовании этих систем ученые получили благодаря клиническим случаям, в которых частичное повреждение мозга позволяло исследователям увидеть, как одна система функционирует без другой. Видели ли вы фильм “Помни” (2000)? У пациентов, страдающих антероградной амнезией, не могут формироваться новые эксплицитные кратковременные воспоминания. Они помнят, кто они такие, и помнят свое отдаленное прошлое, однако обречены (по крайней мере сознательно) бесконечно забывать настоящее. Интересно вот что: хотя эти люди не могут приобретать новые сознательные воспоминания, на бессознательном уровне у них могут формироваться новые имплицитные. Они не могут вспомнить врача{31}, который ежедневно подает им руку с булавкой, но по какой-то причине будут избегать пожимать ему руку. Такое же разобщение мы наблюдаем{32}, когда речь заходит о навыках разных типов: бессознательное “знание как” существует отдельно от сознательного “знания что”. Как и в случае с эмоциональными воспоминаниями, эти два типа знания, похоже, создаются и обрабатываются разными частями мозга. Пациент с амнезией не только “помнит”, что не стоит пожимать руку доктору с булавкой, но и способен приобретать новые физические навыки после тренировок, не имея никакой осознанной памяти о них и даже не имея возможности объяснить, как или почему он получил эту новую способность.
Несмотря на то, что о “разуме” и “теле” говорить неверно, это позволяет уловить важное различие между двумя системами: “медленной” сознательной психикой и “быстрым” бессознательным набором инстинктов, интуиции и навыков. “Я” обычно ассоциируется с “медленной” сознательной психикой, потому что она лежит в основе нашего сознательного понимания и ощущения собственного “я”. Но под этой сознательной личностью находится другая – более масштабная и могущественная, – к которой у нас нет прямого доступа. Именно эволюционно древняя часть психики знает, как плеваться или переставлять ноги при ходьбе. Именно с этой частью мы боремся, пытаясь устоять перед новой порцией тирамису или заставить себя вылезти из постели и отправиться на важную встречу.
Цель у-вэй – заставить обе составные части “я” работать эффективно и сообща. У человека в состоянии у-вэй разум воплощен в теле, а тело – в разуме. Работа двух систем синхронизируется, чем достигается осмысленная спонтанность, идеально соотносящаяся с обстановкой. Плавность, с которой скользит нож Дина, передается звукоподражаниями – вжик! бах! (Характерная черта “Чжуан-цзы” и головная боль переводчиков.) Легкость, очевидная тем, кто наблюдает за работой Дина, отражает внутреннее ощущение повара, когда его охватывает “духовное желание” и бычья туша буквально распадается под ножом на части. Точно так же краснодеревщик Цин описывает творческий процесс как стремление дать раме для колоколов самой открыться ему. Все, что нужно, – это приложить руку, и рама появляется сама, как по волшебству.
То, как осуществляется интеграция, объясняет нам, например, повар Дин. Вспомните три стадии “видения”, которые он описывает правителю: “Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, но минуло три года – и я уже не видел их перед собой! Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа”. Эти строки описывают акт “видения” при использовании разных частей “я”. Пока Дин был неопытен и видел “только туши быков”, он смотрел глазами – и перед глазами его было огромное страшное существо, которое он каким-то образом должен разъять на части. Любой видевший вблизи быка (что нечасто случается в современном мире) может представить себе состояние повара-дебютанта. Вот он стоит с ножом перед стеной плоти, не представляя, с чего начать. (Я, например, отправился бы искать другую работу.)
Но нам придется поверить, что повар Дин проявил больше настойчивости и после трех лет практики достиг точки, когда “уже не видел их [туши] перед собой”. Возможно, теперь Дин видит, как на тушу накладывается нечто вроде схемы из мясного магазина. Бык для него уже не инертное препятствие. Обладающий опытом и аналитическим умом повар воспринимает тушу как сумму ее частей, как последовательность движений ножа, как трудности, которые он должен преодолеть. На этой стадии бык для повара Дина то же, что для гроссмейстера шахматная доска в середине партии: там, где мы видим просто фигуры, шахматист видит линии атаки и уязвимые сектора обороны.
Наконец, Дин достигает этапа, когда он уже не смотрит глазами: “Я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному желанию”. Студентам я объясняю это состояние посредством аналогии со “Звездными войнами”. В финале первого фильма (1977) Люк Скайуокер отправляется на трудную миссию. Ему нужно взорвать Звезду Смерти и, чтобы преодолеть защиту станции, придется пролететь по узкому каналу и пустить протонные торпеды в единственное ее незащищенное место. У Люка, преследуемого Дартом Вейдером с его подручными, лишь один шанс. Когда Люк достигает нужной точки и пытается активировать систему наведения, он слышит слова погибшего Оби-Вана (произнесенные звучным голосом Алека Гиннеса): “Используй Силу, Люк”. К ужасу тех, кто следит за ним с базы, Люк отключает компьютер, закрывает глаза и обращается к Силе, чтобы почувствовать время для выстрела. И – попадает. Звезда Смерти уничтожена, и он победителем возвращается к принцессе Лее – предмету юношеских грез рубежа 70-х – начала 80-х годов. (Мне до сих пор кажется очень привлекательной эта ее прическа.)
Если бы Чжуан-цзы был нашим современником и имел хорошего адвоката, я бы посоветовал ему требовать роялти: стратегия Люка в точности совпадает со стратегией повара Дина: “Я перестал воспринимать органами чувств” (отключил систему наведения) и “Даю претвориться во мне духовному желанию” (позволяю Силе вести меня). Более того, связь Чжуан-цзы с “Звездными войнами” исторически корректна. Джордж Лукас, изобретая мифологию “Звездных войн”, в особенности рыцарей-джедаев и персонажей вроде Йоды, по крайней мере отчасти вдохновлялся бусидо, кодексом японских воинов, где конфуцианство сочетается с изрядной долей японского дзэн-буддизма. Последний, в свою очередь, вышел из китайского чань-буддизма{33}, а тот (как я люблю говорить, когда хочу позлить коллег-буддологов) – это просто Чжуан-цзы в буддистских одеждах. Наденьте на повара Дина самурайский доспех, дайте ему меч, и в “Последнем самурае” он будет выглядеть как родной. Так что между историями{34} о поваре Дине и о Люке Скайуокере существует прямая линия интеллектуальной преемственности. Правда, идея “темной стороны” Силы сугубо христианская и в восточноазиатском контексте не имеет смысла, но образ ведомого Силой джедая весьма похож на Дина, закрывающего глаза и “дающего претвориться в нем духовному желанию”.
Насколько я знаю, Джордж Лукас не конфуцианец, однако во всех древнекитайских примерах мы находим то же сочетание непринужденности и раскованности. В книге “Лунь юй” есть прекрасный фрагмент: когда Конфуций услышал музыку древних совершенномудрых правителей, служивших для него примером добродетели, его охватил такой восторг, что он “в течение трех месяцев не знал мясного вкуса и сказал: «Не ждал от исполнения музыки такого совершенства»”. Именно эта радость сделала Конфуция безразличным к материальным благам и репутации и позволила ему следовать желаниям сердца, не преступая меры. Примерно то же – в истории о краснодеревщике Цине, чья способность мгновенно уловить, какое именно дерево “содержит образ” рамы для колоколов, обусловлена достижением полнейшей естественности. Точнее, ему нужно совершенно очистить разум от внешних соображений: деньги, слава, честь, чувство собственного физического существования.
Как понять это нам, современным людям? Можем ли мы обойтись без мистических сущностей вроде “духовного желания” или Силы и все еще понимать, что здесь написано? Я думаю, да. Чтобы добиться этого, нам нужно ясное понимание того, как ощущаются усилие и сознание.
Начнем с небольшого упражнения. Взгляните на колонку внизу и как можно быстрее прочитайте слова про себя, а потом скажите вслух “большие” или “маленькие”, в зависимости от того, написано слово заглавными или строчными буквами.
БОЛЬШИЕ
маленькие
маленькие
большие
МАЛЕНЬКИЕ
Если вы не киборг из Альфы Центавра, вам, скорее всего, было легко, пока вы не достигли двух последних слов, где вы немного сбились и потратили больше времени на то, чтобы произнести “маленькие” вместо “большие”, а потом “большие” вместо “МАЛЕНЬКИЕ”. Легкая запинка{35} перед тем, как вы начали говорить, ощущение, что нужно остановиться, не читать слово, а сосредоточиться на его написании, порождает “ хм”, отличительный знак осознанного усилия или применения воли. Задача, в которой не совпадает значение слова и его внешний вид, называется эффектом Струпа{36} – по имени английского психолога, который опубликовал статью об этом явлении в 30-х годах, изначально используя слова, напечатанные “неправильными” цветами (например, слово зеленый – красными чернилами). Тест Струпа – классический пример задания для диагностики когнитивного контроля, то есть ситуации, когда сознательная психика (система № 2) должна подавить автоматические безусловные процессы (система № 1).
Эксперименты по нейровизуализации показывают, что в когнитивном контроле принимают участие в первую очередь два участка головного мозга: передняя цингулярная кора и латеральная префронтальная кора. Мы будем называть их “участками когнитивного контроля”{37}. Все еще идут споры о конкретной роли этих участков, но одним из наиболее вероятных предположений является то, что передняя цингулярная кора сродни детектору дыма, а латеральная префронтальная кора – пожарной команде. Как и детектор дыма, передняя цингулярная кора постоянно активна. Она ловит малейший намек на опасность, вроде когнитивного противоречия. В случае эффекта Струпа в конфликт вступают два автоматических процесса: идентификация цвета и размера текста и автоматическое прочитывание простого слова (если вы грамотны и знакомы с языком эксперимента). Этот конфликт регистрирует передняя цингулярная кора, посылающая сигнал латеральной префронтальной коре, которая должна справиться с ситуацией.
Латеральная префронтальная кора отвечает за множество высших когнитивных функций, вроде сопряжения сознательного и подсознательного знания, рабочей памяти (маленького прожектора сознания, позволяющего нам сосредоточиться на эксплицитной информации) и осознанного планирования. Скорее всего, когда речь идет об эффекте Струпа, латеральная префронтальная кора также осуществляет контроль над другими участками мозга, усиливая активацию относящихся к заданию связей за счет других. Ослабляя некоторые нейрональные пути, латеральная префронтальная кора (служа эквивалентом огнетушителя) прямо приказывает им перестать делать то, что они делают.
Выше я просил вас прочитать слово “МАЛЕНЬКИЕ”, но произнести при этом – “большие”. Передняя цингулярная кора позволила латеральной префронтальной коре узнать о конфликте между вашим восприятием вида слова и пониманием значения слова. После этого латеральная префронтальная кора выяснила, что требуется для этой задачи – вас попросили назвать вслух размер букв, а не читать само слово, – и решает отдать приоритет тому, чтобы сказать “большие”. Вся эта канитель возникает в результате легкой задержки и чувства усилия, которого вы не ощущаете, когда слово “маленькие” действительно написано строчными буквами. В последнем случае две зоны мозга работают в согласии, распознающая конфликты передняя цингулярная кора не включается, и латеральной префронтальной коре не приходится выбирать между вздорящими наборами нейронов{38}.
Вооружившись этой информацией, мы можем увидеть, что мозг в состоянии у-вэй способен функционировать, не обращаясь к Силе из “Звездных войн”. Мы даже можем увидеть достоверную картину его работы благодаря недавним работам по нейронауке, посвященным сходным с у-вэй состояниям. Существуют проблемы с нейровизуализацией, потому что оборудование, как правило, неудобное и громоздкое. Техникой нейровизуализации, которая дает лучшее пространственное распознавание и позволяет лучше увидеть, что мозг человека запускает, а что нет, является функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ), измеряющая приток крови к нейронам. Во время сеанса ФМРТ пациент должен лежать абсолютно неподвижно в очень шумной металлической трубе. Это мало подходит для изучения естественного поведения. Никогда не удалось бы получить точное изображение ФМРТ повара Дина или краснодеревщика Цина за работой. Однако Чарльз Лимб и Аллен Браун смогли{39} обойти некоторые из этих ограничений и позволили нам взглянуть на мозг джазовых пианистов за игрой. Они разработали неферромагнитный синтезатор, который можно было поместить внутрь сканера, по сути являющегося гигантским магнитом, и поместить музыкантов внутрь так, чтобы те могли сидеть с синтезатором на коленях. Исследователи попросили их сыграть в двух разных состояниях. В одном (“Гаммы”) они должны были вновь и вновь играть гамму в первой октаве. В другом (“Джазовая импровизация”) они должны были в той же тональности сымпровизировать мелодию, основанную на прежде заученной.
Самым удивительным открытием стал паттерн мозговой активности, когда пианисты переходили к импровизации. Регистрировалось снижение активности латеральной префронтальной коры и увеличение активности в следующих сенсомоторных системах: передней цингулярной коре и фронтальной осевой доле медиальной префронтальной коры{40}. Передняя цингулярная кора, как мы видели, возможно, отвечает за отслеживание конфликтов. Она обычно работает с латеральной префронтальной корой, помогая поддерживать когнитивный контроль. Передняя цингулярная кора регистрирует конфликт, а после обращается к латеральной префронтальной коре, чтобы та уладила проблему. И это взаимодействие, возможно, порождает субъективное ощущение осознанной сложной деятельности.
Однако это исследование показывает, что в спонтанной, но требующей отточенности навыков ситуации (вроде джазовой импровизации) передняя цингулярная кора продолжает оценивать происходящее, несмотря на то, что латеральная префронтальная кора отключается. Именно это сочетание мозговой активности может относиться к тому расслабленному, но бдительному состоянию{41}, в которое мы входим, когда поглощены некоей трудной задачей. Именно передняя цингулярная кора начеку, когда повар Дин без усилий режет тушу, и готова прийти на помощь, когда он достигнет “трудного места”. Иными словами, по крайней мере некоторые формы у-вэй предполагают отключение активного сознательного понимания и контроля с сохранением фоновой оперативной бдительности. Когда вы отпускаете сознательную психику, тело берет ситуацию под контроль.
Древнекитайский идеал у-вэй заключается именно в таком непринужденном действии. Люк Скайуокер, когда он позволил Силе вести себя, и люди в состоянии у-вэй из древнекитайских текстов демонстрируют почти сверхъестественные успехи{42}. Более того, все это достаточно убедительно с точки зрения современной науки. Несмотря на уверенность сознательной психики в том, что она у штурвала и точно знает, что делать, тело прекрасно справляется и без нее. Эволюция “загрузила” повседневное принятие решений и формирование суждений{43} в нашу автоматическую, чувственную, бессознательную систему, потому что в большинстве ситуаций она действует быстро, точно и экономно. Социальный психолог Тимоти Уилсон предложил термин адаптивное бессознательное. Это широкий набор безусловных навыков, привычек и ощущений, которые позволяют нам идти по жизни почти без участия сознательного восприятия, и сейчас растет число популярных трудов{44} о силе подсознательного мышления. Стратегия “мышление без мышления”{45}, разумеется, имеет свои пределы, но очевидно, что любое действие, которые мы хотим совершить быстро и с успехом, должно быть превращено в безусловный навык или привычку. Как говорит джазовый пианист Грег Берк, лучшая импровизация исходит от тела, свободного от мыслей, когда “выбор нот, пауз{46}, атак и форма каждой фразы, – все выражает естественное и неделимое целое”.
Нужно, однако, заметить, что это непринужденное естественное тело существует не в социальном вакууме. Джазовый пианист играет с другими людьми – или, по крайней мере, для них. Его способность быть абсолютно поглощенным ритмом музыки также обусловлена тем, что его это всерьез занимает. То же самое верно для любого состояния у-вэй, одиночного или группового. На этот аспект у-вэй (его зависимость от социального взаимодействия и общих ценностей) обычно не обращают внимания современные исследователи феномена спонтанности, и это критическая ошибка. Случай пьяного ездока покажет нам, почему.
Глава 2 Опьяненные Небом: социальное и духовное преломление у-вэй
У моих студентов пользуется популярностью история из “Чжуан-цзы” о человеке, которого подвозят домой после попойки. “Вот и пьяный, упавший с повозки, – объясняет Чжуан-цзы, – может удариться сильно, а до смерти не убьется. Тело у него такое же, как у других, а ушибется он по-особому”. Я советую аудитории не пытаться проделать подобный опыт и делюсь воспоминанием об одном происшествии. Всех его подробностей я уже не помню, а суть такова: как-то мой друг скатился сначала по склону поросшей травой горки, потом – по лестнице и в результате очутился стоящим на ногах на тротуаре; ни малейшего ущерба он себе при этом не нанес. Мы были так впечатлены, что попробовали сделать то же самое. И все до единого, будто первоклассные гимнасты, приземлились на ноги и потихоньку побрели в общежитие.
Объяснить наш внезапный атлетический успех довольно просто: пьяные обычно физически раскованней (и зачастую свободнее от пут условностей), так как участки мозга, обеспечивающие когнитивный контроль, у них частично отключены. (Нейробиолог сказал бы: ингибированы.) Пьяный смутно представляет себе, что происходит вокруг. Это делает его менее сдержанным (и он начинает танцевать макарену), а также менее подверженным беспокойству о последствиях. Плохо то, что об этом иногда приходится жалеть похмельному рассудку (например, о макарене). Но если пьяный падает с повозки, он не ожидает удара о землю, не напрягается и остается сравнительно целым. Пьяный ездок у Чжуан-цзы “не знал, что едет в повозке, и не знал, что свалился с нее, мечты о жизни и страх смерти не гнездились в его груди, и вот он, столкнувшись с каким-либо предметом, не ведает страха”. Это потому, что “дух его целостен”.
Почему Чжуан-цзы превозносит частичную парализацию участков мозга, ответственных за когнитивный контроль? Потому что состояние опьянения представляет собой суррогат у-вэй: непродолжительное подавление самоконтроля. В то же время очевидно, что образ пьяного человека – просто метафора, и Чжуан-цзы в сущности хочет, чтобы мы опьянялись Небом: “Если человек может стать таким целостным от вина, то насколько же целостнее может он стать благодаря Небу? Мудрый хоронит себя в небесном, и потому ничто не может ему повредить”. Пример ездока демонстрирует, что “опьянение Небом” до некоторой степени уводит нас от обыденного. То, что опасно для большинства людей, не причинит вреда мудрецу, опьяненному Небом.
Мы видим здесь тесную связь у-вэй с особым религиозным мировоззрением, и это важно. В предыдущей главе мы попытались дать естественнонаучное объяснение некоторых аспектов у-вэй – то есть привели научные данные о том, как поведение может быть непринужденно-естественным и при этом удивительно продуктивным. В то же время, “пересадив” у-вэй из Китая периода Борющихся царств в современность, мы упустили некоторые его важные черты. Для древних китайцев пребывать в состоянии у-вэй значило не просто почувствовать себя определенным образом или изменить меру контроля сознания над своим поведением. Это значило найти подобающее место во вселенной. Это важно и для нас.
Все, начиная с древних китайцев, любят историю о поваре Дине. Все, начиная с древних китайцев, считают, что действовать ловко и быстро – это хорошо. Однако философов вроде Чжуан-цзы мало заботило, как вы разделываете бычью тушу или собираете раму для колоколов. Их интересовало, как вы связаны с другими людьми. Поэтому Дин говорит, что он любит Путь (Дао), а не свое мастерство. Увидев его за работой, Вэнь-хой не объявляет о том, что оставляет трон и идет в повара, а понимает, как “вскармливать” собственную жизнь. Это история о социальной эффективности: способности взаимодействовать с людьми так же легко, как нож повара разделывает быка.
Социальное преломление у-вэй становится очевидным из текстов вроде “Лунь юй”. Там мы видим, что Конфуций всегда появлялся в подобающем облачении, знал правильный способ входить в комнату, произносил наиболее уместные слова и обращался с другими самым тактичным образом, но не строгим и не формальным. Его поведение как будто спонтанно проистекало из самой его природы, что обезоруживало идеологических оппонентов, смиряло своенравных правителей и заставляло ленивых учеников взяться за занятия с удвоенной силой. Кажется, что когда Конфуций с изяществом ведет себя на пиру или ловко расправляется с грубияном-собеседником, мы слышим “вжик” и “бах” ножа повара Дина.
Такая социальная эффективность, в свою очередь, зависит от мистической силы дэ, харизматического луча, исходящего от человека в состоянии у-вэй, притягивающего других и внушающего доверие. В “Лунь юй” читаем:
Правитель, положившийся на добродетель, подобен северной Полярной звезде, которая замерла на своем месте средь сонма обращающихся вкруг нее созвездий.
В древнем Китае считалось, что Полярная звезда – это неподвижный центр ночного неба, а все другие небесные тела движутся вокруг нее по концентрическим окружностям. Истинно добродетельный конфуцианский правитель просто занимает место во дворце – и “гравитационная сила” его дэ, притягивая людей, указывает всем надлежащее место. “Дао дэ цзин” рассказывает о скрытом даосе с пустым разумом и сердцем ребенка, который может свободно идти среди диких зверей или через стены пламени. Идеальный правитель, по мнению Лао-цзы, может силой своего дэ привести общество к гармонии, но, в отличие от конфуцианского правителя, сияющего с высоты как Полярная звезда, этот мудрец невидим{47}, он скрывается в темных долинах и приводит все к порядку, как сила тяжести заставляет воду течь с горы. Мудрец, по Чжуан-цзы, просто обладает сильным дэ, которое оказывает на других терапевтический эффект и позволяет ему беспрепятственно идти по миру, природному или социальному.
Мыслители древнего Китая видели неразрывную связь между дэ и Небом, любимым коктейлем мудреца из “Чжуан-цзы”. Понятие Неба (тянь,) – очень древнее, оно со II тысячелетия до н. э. появляется в надписях на бронзовых сосудах. Это понятие относится к верховному божеству, которому поклонялись правители Чжоу и которое воспринималось как живущее на небе существо: тянь означает одновременно и это существо, и небосклон. Важно понимать, что речь не о месте, локусе (вроде христианского рая), а скорее о божественном создании, которое раздает указания, контролирует погоду, определяет успех в сражении и вознаграждает и защищает своих последователей. Небо со времен династии Чжоу также считалось источником благодати: то, чего хочет Небо, по определению не может быть дурным. Таким же неотъемлемым благом обладает Путь: “Дао” буквально означает тропу, дорогу. Это слово также может означать правильный способ сделать что-нибудь. Для мыслителей древнего Китая это имело вселенское значение: Путь – способ существования идеального человека или верное служение воле Неба. Путь – это Путь Неба, источник всей благодати и всех ценностей.
Так что у-вэй и дэ неразрывно связаны с Небом. У-вэй работает, потому что пребывание в состоянии у-вэй означает, что ты следуешь Пути Неба, а любой следующий Пути приобретает силу дэ. Эта связь имеет ключевое значение для понимания спонтанности того типа, который ценили в древнем Китае. На Западе спонтанность ассоциируется с индивидуальностью: люди просто делают, что хотят. У-вэй, напротив, подразумевает, что человек становится частью чего-то большего: космического порядка, олицетворяемого Путем{48}. Мудрецы (от Конфуция в семидесятилетнем возрасте до даосов) описывали у-вэй как пребывание “в согласии” с вселенной. А дэ имеет силу потому, что Небо создало человека, животных и неживую природу такими, чтобы они мгновенно и без вопросов реагировали на добродетель. Мудрец, обладающий дэ, привлекает людей, усмиряет диких зверей, обеспечивает урожай и приятную погоду. Вознаграждая правителя в состоянии у-вэй такой властью, Небо обеспечивает исполнение своей воли. Дэ сияет, будто нимб, над человеком в состоянии у-вэй и сообщает окружающим: “Небо любит меня! И вам стоит попытаться. Я клевый”.
Видеть религиозную суть у-вэй важно не только ради исторической точности. Пример доведенного до совершенства навыка{49} (вроде разделки бычьих туш) хотя и служит ценной аналогией, но уводит в сторону, будучи оторванным от изначального культурного и религиозного контекста. Проблема в том, что мы можем представить себе виртуоза (повара, пианиста, теннисиста и так далее), который при этом остается человеком жестоким и неприятным (уверен, вы знаете парочку таких). А у-вэй подразумевает ощущение себя идеальной частью Единого, к которому принадлежат и другие люди. Именно это объединяющее социальное и религиозное качество у-вэй делает его уникальным.
Здесь стоит вспомнить, возможно, самое известное современное исследование{50} о спонтанности как идеале: концепцию “потока” Михая Чиксентмихайи. Рассмотрев признаки “потока” по Чиксентмихайи, мы отметим множество совпадений: глубокая и при этом непринужденная концентрация, отзывчивость, отличная продуктивность, глубокое удовлетворение, деперсонализация и изменение восприятия времени. В последние десятилетия Чиксентмихайи и его коллеги продемонстрировали, что ощущение “потока” является универсальным для различных культур и сходным образом описывается людьми разных занятий. По мнению Чиксентмихайи, основным признаком, объединяющим эти впечатления – главной чертой “потока”, – является точное соответствие наших навыков сложности стоящей перед нами задачи. “Поток” возникает, когда мы находим “золотую середину” между слишком легким и слишком трудным. Поскольку мастерство со временем растет, “поток” требует “спирали самосовершенствования”{51}, которая “заставляет людей напрягаться, искать новых испытаний, чтобы развивать свои способности”. Акцент на препятствиях и сложности лучше всего демонстрирует разницу между “потоком” (по Чиксентмихайи) и у-вэй. Философия древнего Китая открывает некоторые аспекты спонтанности, которые игнорирует западный индивидуализм.
Рассмотрим историю И. (по уверению Чиксентмихайи, известной и влиятельной жительницы Европы):
Ученый с международной репутацией, она создала успешное предприятие, давшее работу сотням людей и в течение жизни целого поколения бывшее лидером в своей области. И. постоянно путешествует, посещая политические, деловые и научные мероприятия. У нее есть дома в разных частях света. И. всегда находит время посетить концерт, музей или библиотеку. Пока она на встрече, ее шофер не ждет ее у подъезда, а направляется в местную картинную галерею или музей, потому что на пути домой босс захочет узнать его мнение о представленных там картинах[4].
В этом примере определенно присутствуют препятствия и спираль самосовершенствования. Из того, что мы прочитали, ясно, что И. – выдающийся человек. История ее жизни вдохновляет, а сама она “как будто излучает энергию”. Однако должен признаться, что мне, когда я впервые прочитал об И., ее образ жизни показался изнуряющим: постоянные поездки, неустанное самосовершенствование. (Я прочитал “Поток” в колледже и, помню, подумал, что будь я ее шофером, мне бы хотелось расслабиться и покурить, вместо того чтобы тащиться в музей, а после еще и отвечать на вопросы.)
В книге Чиксентмихайи упоминаются случаи, которые кажутся мне привлекательнее истории И.: например, рассказ о Серафине Виньон, 76-летней жительнице деревушки в итальянских Альпах. Судя по всему, Серафина ведет ту же жизнь, что и ее предки последние пару сотен лет: встает в пять часов утра, чтобы доить коров, готовит пищу, убирает, выводит стадо на пастбище или занимается садом, прядет шерсть. Когда у нее спросили, что доставляет ей удовольствие, она ответила: как раз то, чем она ежедневно занимается. “Выходить на улицу, разговаривать с людьми, ухаживать за животными… Я разговариваю со всеми – с растениями, птицами, цветами, со всеми живыми существами, – объясняет она. – Все вокруг живое, и ты видишь, как они растут и меняются каждый день… Я чувствую себя легкой и счастливой. Обидно бывает, когда сильно устаешь и приходится возвращаться домой… Даже если работа тяжела – это все равно прекрасно”[5].
В этой истории нет никакой сложности и препятствий, а тем более спирали самосовершенствования. Напротив, рассказ Серафины внушает чувство умиротворения, расслабленности и поглощенности чем-то большим, чем ты сам: красотой Альп, древней традицией, придающей жизни упорядоченность, чувством родства с животными. Единое, к которому Серафина чувствует причастность (природа, культурные традиции), также кажется ей источником благодати. Это возможно прежде всего потому, что она испытывает глубокую привязанность к прекрасному месту, где живет, и к своему образу жизни, видит в них смысл. Когда я начинал изучать китайскую философию и прочитал об этом случае, я понял, что опыт Серафины не просто ближе к у-вэй, нежели бесконечные переезды и самосовершенствование И., но и похож на мой собственный опыт. Эта уверенность со временем укрепилась.
Несомненно, если повезет, то в сложных ситуациях, связанных с работой, я смогу войти в состояние у-вэй. Когда я “в ударе”, я регистрирую все признаки “потока”. В голове рождаются целые абзацы. Я абсолютно поглощен тем, что делаю. Я теряю ощущение времени, забываю о еде, я расслаблен и наслаждаюсь работой. Нельзя отрицать, что здесь играют свою роль сложность и препятствия, но они второстепенны. Так, во время сочинения книги сложность задачи и возникающие препятствия могут ввести в состояние у-вэй, лишь если они связаны с чем-то большим: например, с идеей, которая меня занимает и которой я хочу поделиться с другими.
Этот акцент на небезразличии, на выходе за пределы “я”, позволяет соединить состояния у-вэй, связанные с высокой сложностью и препятствиями, с их обычными спутниками: обыденными несложными действиями, которые позволяют нам отдаться тому, что мы любим и ценим, что считаем превосходящим нас самих. Я чаще всего испытываю состояние у-вэй (как и Серафина), контактируя с природой. Меня в состояние у-вэй приводит прогулка по полуострову Пойнт-Рейес в Калифорнии (которую я совершил сотни раз), прополка огорода, забота о саде или просто возможность посидеть на берегу океана, глядя на прибой. Эта деятельность не похожа на беспокойную жизнь И. ничем, кроме психологического описания того чувства, которое она вызывает. Более того, если не обращать внимания на акцент на сложности и препятствиях, данные Чиксентмихайи и его коллег показывают, что опыт “потока”, как правило, присущ сравнительно простым социальным ситуациям{52} вроде беседы с друзьями, семейного обеда или игры с детьми.
Но почему тогда исследователи “потока” уделяют столько внимания трудностям и препятствиям как характерным чертам этого опыта? Потому, что большинство этих исследователей – из стран Запада{53}. В рамках нашей культуры участие в сверхмарафоне или осмотр незнакомого музейного собрания признается занятием скорее индивидуальным, направленным на самосовершенствование. Мы сосредотачиваемся на соответствии собственных знаний и навыков выпавшей задаче и не обращаем внимания на то, что оно уводит от важных для нас вещей. Кроме того, исследователи “потока” сделали акцент на сложности и препятствиях потому, что желали отделить его от сходных состояний (потеря чувства собственного “я”, искаженное восприятие времени, расслабленность), не заслуживающих наименования “потока”. Хорошим примером служит бездумный просмотр телепередач, но мы можем причислить сюда всякую несложную пассивную деятельность, которая поглощает внимание, но не бодрит и не воодушевляет, а, напротив, оставляет ощущение пустоты и усталости (азартные игры, чтение желтой прессы, бесцельный серфинг в интернете, обмен сплетнями со знакомыми, которые нам даже не нравятся). Когда встает вопрос, как с индивидуалистической точки зрения отделить “поток” от подобных занятий, сразу приходят на ум сложность и препятствия.
Однако если принять во внимание мировоззрение древних китайцев, мы увидим иной, куда более удовлетворительный способ провести различие. Связь у-вэй и настоящего “потока” с благим Единым позволяет нам почувствовать себя, по словам Серафины, “легкими и счастливыми”, а не грязными и уставшими. Это Единое можно представить как систему ценностей – структуру, в которую мы помещаем себя и свои поступки и которая позволяет нам определять одни вещи как хорошие, другие – как плохие, и соответственно поступать. Многие на Западе пытались обосновать роль ценностей при помощи объективных фактов и рациональных рассуждений, однако ценности лежат вне сферы действия науки. Наука позволяет нам узнать, что есть, а не как должно быть: она имеет дело лишь с фактами. Это значит, что всякий раз, вынося ценностное суждение, мы выходим за рамки фактов{54}. Мы чувствуем, например, что рабство – это неправильно, потому что в людях есть нечто, отличающее их от скота, хотя в биологическом смысле между Homo sapiens и Bos taurus (домашней коровой) различий почти нет. Ценностные суждения основываются исключительно на недоказуемых, но глубоких убеждениях. Более того, человек не может без них обходиться{55}. Вообразите жизнь без представлений о добре и зле или без мотивации, основанной на этих представлениях!
Понимание роли ценностей в жизни человека, в свою очередь, является ключом к пониманию у-вэй. Я предполагаю, что отличительной чертой у-вэй служит поглощенность “я” чем-то большим{56}. А это значит, что то, какими именно мы выйдем из состояния непринужденности и естественности – полными энергии или опустошенными, – зависит (по крайней мере отчасти) от наших ценностей. Как то, что мы только что делали, отражает наше понимание самих себя и того, что для нас важно? Например, если вы дорожите друзьями, то, скорее всего, закончите совместный вечер за выпивкой с ощущением, что хорошо провели время. Простое предчувствие ценности также может стать подспорьем в достижении у-вэй: то, что Пойнт-Рейес среди моих личных ценностей занимает особое место, делает меня восприимчивее к у-вэй во время прогулок там. Уже сами приготовления к такой прогулке погружают меня в состояние у-вэй, даже дорога приобретает особый смысл.
На протяжении большей части человеческой истории систему ценностей предлагала институционализированная религия, и ее в той или иной степени принимали большие группы людей. Для древнекитайских мыслителей, например, такую систему представлял комплекс верований в Небо и его Путь. Для наших религиозных современников имеющее ценностный характер Единое очень похоже на Путь у древних китайцев: это упорядоченная метафизическая структура (божий промысел, исправление кармы и так далее), обслуживаемая жречеством и подкрепленная корпусом текстов, которые придают смысл деятельности, направленной на служение высшему благу. Такие системы обычно включают представление о “сакральности”{57}, наделенности особым смыслом определенных мест, предметов и поступков. Другой важной чертой традиционных религий является то, что они стремятся к подробной регламентации поведения своих адептов. Разработано множество ритуалов, которые нужно исполнять с определенной периодичностью, а также конкретные указания, что можно, а что нельзя есть, носить и трогать. Предусмотрено также множество вариантов коллективной деятельности. Это делает контакт с сакральным (обычно в компании людей со сходным мировоззрением) довольно надежным способом вхождения в состояние у-вэй. Более того, возможно, именно так у-вэй и ощущало большинство людей большую часть истории.
Мы, однако, живем в эпоху, когда ценности и обещания традиционных религий поставлены под сомнение. Многие теперь отрицают традиционные религиозные системы и считают себя атеистами или людьми “верующими, однако не религиозными”. Это не значит, что они научились жить вовсе без ценностей. Даже убежденные гуманисты выступают приверженцами некоей очень абстрактной метафизической системы, основанной на таких понятиях, как уважение человеческого достоинства, свобода, индивидуализм, равноправие, а также предпочтительная рациональность общественного устройства. С этой точки зрения гуманизм устроен так же, как и традиционная религия{58}: он предлагает последователям систему ценностей, позволяющих отличать хорошее от дурного, а также наказывать или избегать тех, кто эти ценности не разделяет.
C другой стороны, некоторые черты современной светской мысли служат источником не только ее силы, но и ее слабости. Акцент на рациональность и верифицируемость, например, означает, что она открыта изменениям в частностях, однако (как и в случае с любой стоящей системой ценностей) ее основы, например свобода или признание прав человека, не подлежат пересмотру. Обратной стороной открытости выступает несколько обескураживающий минимализм: либерализм лишен почти всего, что бывает у системы ценностей – и при этом работает. Большая доля его предписаний – негативные: не нарушайте права человека, не ущемляйте ничью свободу выражения, не позволяйте сильным притеснять слабых. Отлично: вы воздерживаетесь от организации геноцида и диких предрассудков. Но гуманизму нечего сказать о том, что вы должны делать. Кроме обрядов вроде прослушивания Национального общественного радио, чтения “Нью-Йорк таймс” и покупки местных “органических” продуктов, у гуманистов нет подсказок насчет того, как жить. И этот вакуум должен быть чем-нибудь заполнен: ненарушение прав человека дает массу свободного времени.
Поэтому мы любим причислять себя к определенным социальным общностям (Футбольные мамаши из пригорода, Продвинутые хипстеры, Мятущиеся художники), которые спокойно уживаются под обширным, но пустым куполом гуманизма{59}. Эти группы или социальные роли дают нам как раз то, чего ему не хватает: предписаний насчет одежды, питания и остального, что регламентируют традиционные религии. Скажем, Мятущийся художник одевается в черное, ему полагается иметь незаметные эзотерические татуировки, курить и читать Камю. Минивэн служит Футбольной мамаше священной колесницей, однако он неприемлем для Продвинутого хипстера – разве что последний водит его с иронией. (Вообще для Продвинутых хипстеров ирония – как волшебный щит, который позволяет без вреда, даже с пользой для себя, контактировать с вещами и ситуациями – мясным рулетом, забегаловками, китчевыми фильмами, одеждой в духе 70-х годов, – которые иначе считались бы “некошерными”, табу.)
Вдобавок к формулируемым этими общностями размытым нормам (которые можно модифицировать и комбинировать так, как вам нравится) нерелигиозные люди часто принимают более конкретные ценности, например заботу об окружающей среде, экономические реформы или гедонизм. Все это может быть включено в светский либерализм. Например, гедонизм (он мне больше всего по вкусу) подразумевает, что цель жизни заключается в максимизации удовольствия (в широком понимании этого слова). Слово “гедонизм” изначально относилось к древнегреческой философской школе, и первые гедонисты (несмотря на современное преломление термина) вовсе не были весельчаками. Вам вряд ли захотелось бы встретиться с ними на вечеринке. Древнегреческим гедонистам большая доля того, что приятно “черни” (то есть мне или, вероятно, вам) – вроде секса, еды или вина, – в долгосрочной перспективе причиняет страдание. Это оттого, что чувственные удовольствия по своей природе преходящи. Единственным способом максимизировать удовольствие, с точки зрения древнегреческих гедонистов, служит обращение к вечным удовольствиям вроде философствования и сведение своего присутствия в физическом мире к абсолютному минимуму.
Наверное, я как гедонист помещу себя между древнегреческим и современным вариантом (но ближе к современному). Я знаю цену интеллектуальным занятиям, но не чураюсь и пищи, секса и вина. Укрытую довольно абстрактным светским либерализмом мою маленькую личную веру подкрепляют отношения с некоторыми людьми, наслаждение умственным трудом, любовь к океану, удовольствие от хорошей еды и вина и странная уверенность в том, что люди рождены для средиземноморского климата с доступом к свежим цитрусам и качественному оливковому маслу. (На самом деле есть очень немного мест, куда я хотел бы переехать: если там нельзя вырастить лимоны, это уже не вариант.)
Правда, я уже шесть лет я живу в Ванкувере и вполне счастлив, несмотря на трагическую гибель моего лимона в горшке в первую же зиму. Это лишь доказывает, насколько гармонична и устойчива моя система ценностей. Если вы припрете меня к стенке, я буду вынужден признать, что у меня нет никакого внятного, тем более эмпирически подтверждаемого, объяснения тому, что, к примеру, делает особенным Пойнт-Рейес. И все же для меня это особенное место, и его ореол распространяется на другие стороны моей жизни: семью, друзей, определенную местность, вкусы и цвета. К таким, как я, состояние у-вэй легче всего приходит в мимолетные мгновения, когда чувствуешь себя дома и к чему-либо причастным. Если везет и мы правильно организуем свою жизнь, то большую часть времени дрейфуем от одного такого мгновения к другому и считаем себя “счастливыми”. Если у нас и есть доминирующая система верований, то обычно она явлена минимально.
Какими бы нелепыми ни казались фрагментарные системы персональных верований приверженцу традиционной религии, это все, что определенно есть у нас, безбожников, – и это тоже может вызывать состояние у-вэй. С большим трудом я умудрился создать сад в средиземноморском духе выше 49-й параллели, и забота об этом саде, даже простое наблюдение из окна кабинета за тем, как он противостоит дьявольскому дождю и тьме ванкуверской зимы, часто приводит меня в состояние у-вэй. То же самое я могу сказать о времени, которое провожу с женой и дочерью, о выпивке с друзьями и коллегами после работы, о разборе трудного древнекитайского текста, о размышлениях над тем, что заставляет людей строить огромные пирамиды или прокалывать щеки вертелом, о прогулке по крутой тропе от кампуса до дикого пляжа у пролива Джорджия. Интересно, что если вы понаблюдаете за занятиями, которые вызывают состояние у-вэй у меня или кого-либо другого, то в общих чертах реконструируете, скажем, нашу систему ценностей. Также вы сможете сказать, кого мы ценим, а кого нет, и это, наверное, еще важнее. У-вэй может прийти во время групповой активности, лишь если все участники группы искренне ценят свои взаимоотношения. Мы можем без усилий взаимодействовать с другими людьми, только когда заботимся о них и чувствуем себя расслабленными.
Поэтому у-вэй – это нечто большее, чем просто опыт индивида, самосовершенствующегося во время соревнований по триатлону “Айронмен” или преодолевающего новый уровень в “Тетрисе”. У-вэй подразумевает растворение “я” в чем-либо, что больше тебя и что можно разделить с другими. Для тех, кто не разделяет веру древних китайцев в Небо и Путь, природа Великого Единого – системы ценностей, которая придает форму и смысл опыту у-вэй, – варьирует от группы к группе, даже от индивида к индивиду и от мгновения к мгновению. Однако такая система должна быть больше личности. Важной чертой у-вэй является то, что это состояние относится не только к психическому опыту индивида, но и к его социальным связям.
Теперь мы имеем представление, как духовная и социальная природа у-вэй раскрывает ту грань спонтанности, которую игнорирует современная психология. Однако мы не задали важный вопрос. Находиться в состоянии у-вэй прекрасно. Всем хочется иметь чуть-чуть дэ, чтобы облегчить себе жизнь в мире социальных связей. Но как приобрести эти качества? Как постараться не стараться?
Древнекитайские философы, к счастью, не просто описали состояние непринужденного совершенства, но и разработали ряд культурных практик, ментальных техник и физических упражнений для достижения спонтанности правильного сорта. Как мы увидим, они колебались между старанием (работай над собой, и достигнешь у-вэй) и не-старанием (перестань стараться, и у-вэй придет). Мы начнем с Конфуция и его последователя Сюнь-цзы, предложивших первую и лучшую из стратегий старания, в противовес которой появились все остальные стратегии.
Глава 3 Изо всех сил не стараться: об “отделке и полировке” личности
Один из моих любимых сюжетов в книге “Лунь юй”{60} – обманчиво простой рассказ о том, как вел себя Конфуций, принимая слепого учителя музыки. Слепцы в старом Китае нередко становились музыкантами. Это, с одной стороны, позволяло им преуспеть, с другой стороны, считалось, что слух у них тоньше, чем у зрячих. Скорее всего, учителя музыки в дом Конфуция привел его помощник и оставил на попечение мудреца. В Китае музыканты, даже гениальные, жили не так, как нынешние рок-звезды или оперные дивы: они считались обслугой, сравнительно низкой по положению, и должны были держаться в тени. Но Конфуцием музыкант, несмотря на его положение, был немедленно принят и окружен заботой:
Когда музыкант Мянь, придя к Учителю, приблизился к ступеням, Учитель сказал:
– Это ступени!
Подойдя с ним к постланным для сидения циновкам, Учитель сказал:
– Это циновки.
После того, как все уселись, Учитель ему сообщил:
– Здесь сидит такой-то, там – такой-то.
Когда музыкант Мянь ушел, Цзычжан спросил:
– Так надо общаться с музыкантами?
– Да, так именно и надо помогать слепому музыканту, – ответил Учитель.
Суть в том, чтобы продемонстрировать не обращение с гостем определенного ранга, а у-вэй конфуцианского благородного мужа. Заметьте, насколько лаконичен Конфуций, отказывающийся от обычного поведения (как правило, отчужденного и церемонного) хозяина, особенно по отношению к нижестоящим, чтобы с изяществом и уважением (но без суетливости и снисходительности) встретить слепого гостя.
Однако этот рассказ может ввести в заблуждение. Кажется, будто он описывает просто хорошего человека. Но когда мы сталкиваемся с человеком, ведущим себя изящно и непринужденно, мы, как правило, думаем, что он таким родился. “Лунь юй”, однако, показывает, что Конфуция следует воспринимать иначе. Он постоянно называет себя не особенно одаренным человеком, который просто “любит древность” и посвятил свою жизнь изучению Пути, переданному правителями Чжоу. Оглядываясь вокруг, Конфуций приходил в отчаяние, видя раздробленный Китай, который вот-вот рухнет в хаос (период Борющихся царств длился триста лет). Конфуций обратился к династии Чжоу (ок. 1000–700 годы до н. э.) и объявил время ее правления золотым веком, когда Поднебесная пребывала в гармонии с Небом. Чтобы снова обрести эту гармонию, с точки зрения Конфуция, следовало возобновить изучение забытых или с пренебрежением отброшенных древних культурных практик – Пути правителей Чжоу, открытого им самим Небом.
Конфуций считал, что грациозным и учтивым не рождается никто, и до конца жизни упрекал тех, кто думал, будто неотесанность может быть желанной или хотя бы социально приемлемой. В книге “Лунь юй” рассказывается, что однажды Конфуций, войдя в комнату, увидел там молодого человека по имени Юань Жан. Мы почти ничего не знаем о Юань Жане, но он кажется этаким древнекитайским хиппи (возможно, последователем Лао-цзы, с которым мы познакомимся в следующей главе; я всегда представлял Юань Жана с дредами, в мешковатой одежде и пахнущим пачули). Итак, Конфуций увидел чувака, который “в ожидании Учителя… сидел, раскинув ноги”. В указанной ситуации правильной является формальная, до сих пор распространенная в Японии поза: выпрямившись, подобрав под себя ноги. Юань Жан расслабился, раскинув ноги, что удобно, но фамильярно по отношению к старцу вроде Конфуция. Реакция Учителя прекрасна: “Кто в детстве не был кроток и послушен старшим, достигнув зрелости, не сделал ничего, что можно передать потомкам, и в старости все продолжает жить, не умирает – это разбойник”. И ударил невежу палкой по ноге. Не могу передать словами, как часто мне хочется взяться за палку, когда я имею дело с ленивыми студентами, в голос разговаривающими или жующими во время занятий. Удар палкой по ноге пошел бы им на пользу. Увы, университетские юристы посоветовали мне не делать этого, так что я удовлетворяюсь зачитыванием указанного отрывка и надеюсь, что до них дойдет: ведите себя прилично!
Несмотря на популярность в старом Китае образа мудрого старика даоса, отдыхающего в деревне, играющего в шахматы без цели и пьющего вино, куда шире была распространена стратегия достижения у-вэй, заложенная в “Беседах и суждениях” и разработанная Сюнь-цзы в конце периода Борющихся царств. С точки зрения Конфуция и конфуцианцев, состояния у-вэй можно достичь, всю жизнь упорно стараясь уйти от естественного. Эти философы были глубоко убеждены, что наши природные наклонности, если дать им волю, могут привести к очень неприятным последствиям. С их точки зрения, единственным способом достичь полноценной жизни и общественной гармонии было исправление нашей натуры в соответствии с культурным идеалом, заимствованным из прошлого. Их целью было у-вэй, но конфуцианцы понимали его как искусственно взращенную спонтанность, как плоды просвещения и образования, а не как результат плавания по течению.
Иначе говоря, Конфуций и Сюнь-цзы{61}, одобряя спонтанность как конечную цель, и на личностном, и на культурном уровне предпочитали рассудочное мышление. В случае индивида они подчеркивали важность силы воли, осознанного размышления о своем поведении и подавления, когда необходимо, чувственного мышления (что на ранних этапах обучения означало – почти всегда). Культурные формы, которые они превозносили, можно считать кристаллизацией деятельности рассудочного мышления людей прошлого, сосудом мудрости, проистекающей из рациональных рассуждений. Совершенно освоив и восприняв культуру, унаследованную от правителей древности, несовершенные по природе люди могут превратить себя в нечто прекрасное. Хотя их упор на рассудочное мышление может напоминать западную рационалистическую философию, подчеркивание Конфуцием роли личностной трансформации является, как мы увидим, существенным отличием.
Но никто не сможет познать эту древнюю мудрость самостоятельно. Конфуций говорил: “Я днями целыми не ел и ночи напролет не спал – все думал, но напрасно, полезнее – учиться”. Самостоятельные раздумья можно сравнить со случайными ударами по клавишам фортепиано: миллион обезьян за миллион лет, вероятно, сможет сочинить что-нибудь путное, но начать все-таки лучше сразу с Моцарта. Тот же мотив видим в “Цюань сюэ”[6]:
Я пробовал глядеть вдаль, поднявшись на цыпочки, но не увидел того простора, который видно с высоты. Когда стоишь на высоком месте и зовешь кого-либо рукой, рука не становится от этого длиннее, однако ее видно издалека. Если крикнуть по направлению ветра, голос не станет от этого сильнее, однако слушающий слышит его очень отчетливо. Если ехать в повозке, запряженной лошадьми, ноги не станут от этого быстрее, однако можно преодолеть расстояние в тысячу ли. Если плыть в лодке, от этого не станешь лучше плавать, однако можно переплывать большие и малые реки. При рождении совершенный человек не отличается от других. [Он отличается от остальных тем, что] умеет опираться на вещи.
Под “вещами” подразумеваются культурные практики, доставшиеся от династии Чжоу: плоды рассудочного мышления. Сюнь-цзы хотел подчеркнуть, что тот тип естественности, который ценил Конфуций, не растет на деревьях, а достигается тяжелым трудом. Иначе говоря, он делал акцент на том, что чувственное мышление нужно подавить и полностью изменить с помощью заслуживающего доверия рассудочного. Эволюционная структура нашего телесного разума показывает, что Сюнь-цзы был в чем-то прав.
Чувственного недостаточно: зачем нам нужны сознание и культура
Итак, в недавних работах по когнитивным наукам подчеркивается сила чувственного мышления. Оно быстрое, экономное, действенное и отвечает за большую часть того, что мы делаем. После изучения этой литературы складывается образ сознательной психической деятельности как спортивной группы поддержки, которая скачет вокруг, порождая шум по поводу того, что происходит на поле, хотя и никак не участвует в игре. Возникает вопрос: если сознательная психика затратная и медленная, а неосознаваемая – быстрая и продуктивная, зачем вообще нужна сознательная психическая деятельность?
Ученые предлагают некоторые ответы{62} на этот вопрос, проливая, таким образом, свет на достоинства конфуцианской стратегии. Когнитивисты показали, что сознание окупается, позволяя нам справиться с рядом впечатляющих задач. Во-первых, она проявляет гибкость там, где автоматические навыки наталкиваются на стену. Как мы видели, когда неосознаваемая психика заходит в тупик, она посылает сигнал SOS (через переднюю цингулярную кору) сознательной психике, требуя взяться за дело, понять, что не так, и попробовать это исправить. Сознание также служит арбитром, когда бессознательные желания приходят в конфликт друг с другом (желание поесть сладкого противостоит желанию пойти поспать) и когда преодоление бессознательных желаний служит нашим интересам в долгосрочной перспективе (желание поесть сладкого противоречит намерению сбросить вес).
Помимо того, что сознание позволяет нам придерживаться диеты, оно, очевидно, является ключевым элементом в том, что касается жизни в социуме. Неосознаваемая психика отлично справляется с быстрой оценкой принадлежности, распознаванием угрозы внешней среды и распознаванием эмоций по выражению лица. Но лишь сознательные процессы способны к сложному моделированию чужой психики{63}. Сознание готовит виртуальное представление невысказанных мыслей других людей, чтобы мы могли понять, как с ними взаимодействовать: он расстроен из-за того, что я не поздоровался с ним, а она удивлена тому, что я опоздал. Кроме того, в виртуальной среде сознательной психики мы можем анализировать поступки, не совершая их. Например, вы давно увлечены женщиной, да и ей вы, кажется, нравитесь. Вы видите ее каждое утро. Что вы скажете, когда встретитесь с ней завтра в очереди в кафе? Мысленно потренируйтесь. Практика в воображении{64} столь же важна, когда речь идет о физических навыках. Любой, кто учится ездить на велосипеде или играть в гольф, мысленно повторяет то, чему он научился, прокручивая приемы в голове, и это помогает сделать непривычные движения плавными и эффективными.
В сознательной психике также коренится язык – главный инструмент социальных животных вроде нас. Хотя у языка есть свои пределы (известно, как трудно описать вкус вина или эмоцию), он в высшей степени удобен для передачи личного опыта. Так, вы можете, хотя бы сбивчиво, объяснить мне, почему предпочитаете эту марку шардоне другой или почему злитесь на меня. Язык также важен для наррации{65}, которая обусловливает наше неразорванное чувство собственного “я”. У эго есть дурная привычка присваивать себе достижения чувственного мышления, но без ощущения единства нарратива, которое дает сознательная психика, мы не понимали бы, кто мы, откуда и куда направляемся. Мощные галлюциногены, временно парализуя участки мозга, ответственные за ориентацию в пространстве и в языке, могут породить ощущение, каково это – жить без эго и, соответственно, языка. Возможно, такая жизнь полна цвета и волшебства. Однако, наевшись мухоморов, довольно трудно передать мысль или что-либо предпринять. Поэтому попытки передать прекрасный глубокий опыт словами, через искусство или цифровые технологии, как правило, банальны и невразумительны. (Среди записей начала 90-х годов в моем дневнике есть такие, где я неоспоримо, с диаграммами и графиками, доказываю, что Истина есть синий цвет.) Если вдохновленные наркотиками тексты и выходят пристойными (сразу вспоминаешь Джека Керуака и Олдоса Хаксли), то лишь потому, что наркотический опыт был сильно переосмыслен, преображен трезвой сознательной психикой во что-нибудь вразумительное.
Кроме того, язык играет ключевую роль в абстрактном мышлении, требующем, по словам философа Дэниела Деннета, “строительных лесов”{66} (scaffolding). Эти цепочки рассуждений настолько сложны, что нам нужны внешние точки опоры, чтобы мы не забыли, где находимся. Такими “лесами” могут выступать{67} важные культурные изобретения вроде исчисления, статистики или двойного слепого эксперимента, позволяющие нам открыть принципы мироустройства, недоступные чувственному мышлению. История современной науки{68} – это история того, как за долгий срок люди объединили неизвестные доселе методы мышления и взаимодействия, позволившие прийти к выводам, противоречащим нашей интуиции, но дающим более точную картину мира. Земля движется вокруг Солнца. Простуду вызывает не холодный ветер и не голые ноги, а микроорганизмы (хотя попытайтесь это объяснить моей теще-итальянке).
Комплект “строительных лесов” можно назвать культурой: массой информации{69}, передаваемой из поколения в поколение в рамках процесса, который во многих важных аспектах напоминает биологическую эволюцию. Одной из ключевых деталей этого процесса является то, что он может давать решения, к которым в принципе не может прийти за свою жизнь индивид или одно человеческое поколение. Так, малые, но значительные “вариации” могут быть “отобраны”, потому что одни идеи выживают, а другие – нет, хотя ни один человек никогда осознанно не решал предпочесть одну “вариацию” другой. Точно так же культурная эволюция может указать проблемы, которые нельзя заметить за время жизни одного человека, например, эффект недостатка витаминов в местной кухне, и “разработать” их решение.
У фиджийцев существует ряд пищевых запретов. Так, беременным и кормящим женщинам запрещено есть рифовых рыб определенных видов. В глазах одного поколения этот запрет может выглядеть необоснованным и нелепым. Почему бы беременной женщине не съесть кусочек барракуды или морского ежа, если ей хочется? Но недавние исследования показали, что древние табу касаются лишь тех рыб, при употреблении мяса которых высока опасность получить заболевание сигуатеру: отравление, вызванное накоплением токсинов в организме некоторых рыб на вершине местных пищевых цепочек. Табу существенно снижают для женщин риск отравиться, когда они наиболее уязвимы. Важно, что прямая связь между поеданием барракуды, заболеванием сигуатерой и рождением больного ребенка не обязательно была установлена конкретным членом сообщества. Люди, принадлежащие к одной культуре, просто стали избегать запретной рыбы. Люди склонны подражать тем, кто добился успеха. Кроме того, на Фиджи в почете женщины с большими семьями и успешными детьми (которые также нередко являются теми, кто не ел ядовитую рыбу во время беременности и кормления). Все это привело к возникновению адаптивной системы пищевых запретов{70}, которая из поколения в поколение передавалась в рамках культурной эволюции.
Как и на Фиджи, накапливаемый со временем “коллективный разум” группы{71} обычно могущественнее разума отдельного ее члена. Поэтому столь важно культуральное наследование и поэтому методы вроде краудсорсинга работают. Сюнь-цзы сравнивает конфуцианский Путь, унаследованный его поколением, с указателем переправы через глубокую бурную реку. Люди, пробуя и ошибаясь, нашли удобное для переправы место и оставили знаки, чтобы и мы воспользовались бродом. Мы можем игнорировать их указания и импровизировать, но это контрпродуктивно и просто опасно. Иными словами, если уважаемый член общины советует варить эти корнеплоды два часа, а после растолочь благословленной жрецом палкой, пропев двадцать раз священную песнь, возможно, стоит заткнуться{72} и сделать в точности то, что вам сказали.
Наша способность полагаться на личное рассудочное мышление (работа участков мозга, отвечающих за когнитивный контроль) и заимствованное рассудочное мышление (плоды таких мыслительных усилий, сохраненные культурой) означает, что мы, в отличие почти от всех существ, не являемся заложниками бессознательного. Мы можем перерабатывать и употреблять в пищу продукты, которые не стало бы есть ни одно другое животное. Мы можем обмениваться информацией, где найти добычу в разные времена года, как построить пригодный для моря каяк и как разрешать споры между партнерами по охоте. Это позволило людям освоить почти все экосистемы планеты. Но, живя в крупных, сложных социальных группах, которые появляются вместе с культурой, мы нуждаемся не только в рассудочном мышлении. Это хорошо понимали конфуцианцы.
Рассудка недостаточно: встраивание сознательного в чувственное
Во всех мировых религиях встречается идея, что “тело”, “плоть” (вместилище желаний, инстинктов и бессознательных привычек, укорененных в чувственном мышлении) является препятствием на пути к самосовершенствованию, а единственный способ подчинить “тело” – использовать “дух”, “разум”. Мы находим этот мотив и у конфуцианцев. Например, Сюнь-цзы любил сравнивать разум с правителем. Иероглиф синь, который мы переводим как “разум”, обозначает конкретный человеческий орган – сердце, так что иногда синь переводят так: “сердце (разум)”. Для древних китайцев “сердце (разум)” было не только источником некоторых эмоций, но и, что важнее, источником рассудочного мышления и воли. В то время как другие органы могут функционировать лишь “чувственным” способом, “сердце (разум)” способно останавливаться, взвешивать “за” и “против” и принимать осознанное решение. Из-за этой уникальной силы его считали естественным правителем личности.
Образ разума как владыки беспутной плоти широко распространен в мировой культуре. Платон, например, сравнивал душу с колесницей, разум – с возничим, чувственное сознание в разных его формах – с парой диких лошадей. В Китае более распространенной метафорой был контроль над водой: строитель каналов пытается направить воду туда, где она нужна, и отвести ее из мест, уязвимых для наводнений. Это вполне очевидный образ для страны, находящейся во власти могучей и непредсказуемой Хуанхэ, являющейся источником воды и плодородия для всей долины, но часто выходящей из берегов и причиняющей огромные разрушения. “Мы” (возница, строитель каналов и т. д.) должны применить силу, чтобы обуздать природу (животных, водную стихию и т. д.). Эта дихотомия (разум и иррациональное) описывает внутренний опыт самоконтроля, однако она не совсем верна с научной точки зрения. Самоконтроль целиком зависит от разума, воплощенного в теле. Определенные участки мозга усиливают определенные нейрональные пути за счет других. Мы соотносим их с участками когнитивного контроля и представляем как рациональные агенты только потому, что там источник сознания и языка. Эти части мозга пишут сценарий нашей жизни и присваивают себе все заслуги.
Другим распространенным представлением является следующее: быть рациональным требует большого труда – постоянной концентрации внимания и сознательных усилий. Традиционная метафора сознания правильно передает соотношение сил. По сравнению с передней цингулярной корой и латеральной префронтальной корой остальной мозг действительно во многом похож на табун мустангов или на могучий водный поток. Сознательная психика может направлять эту силу в определенном направлении или подавлять ее, но это отнимает время и требует много энергии. Сознательный контроль очень медленный и затратный. Эксперименты во множестве ситуаций показали, что человеку, преодолевающему свое чувственное мышление, требуется больше времени, чтобы среагировать, чем тому, кто просто следует спонтанной реакции. Вспомните ощущение “ хм…” и паузу, возникающую, когда вы должны прочитать “МАЛЕНЬКИЕ”, но произнести: “Большие”. Это ничтожное количество времени – мы говорим о секундах или долях секунды, но они играют важную роль в гонке на выживание. Организм, тратящий бесценные миллисекунды всякий раз, когда ему нужно принять решение, вскоре сойдет с дистанции.
Более того, эксперименты в социальной психологии показали, что ресурсы когнитивного контроля не бесконечны. Когда преподаватель стучит по столу{73} клюющего носом студента и просит “внимания”, это не просто метафора: внимание дорого дается, и если его “потратить” на одно дело, меньше ресурсов останется на другие. Этот феномен известен как “истощение эго”{74}. Расширяя когнитивный контроль в одной области (например предпочтя полезный редис шоколаду или подавив эмоциональную реакцию), вы отчасти лишаетесь возможности применить его в другой, например при решении сложной головоломки. Мораль? Усилие – это усилие, не важно, физическое или ментальное. Хотя активность мозга в любом случае требует затрат энергии, когнитивный контроль, преодолевающий автоматические импульсы, тратит ее особенно много.
Получается, перед нами фундаментальная проблема. Сознательный контроль необходим для цивилизованной жизни. Если бы люди не применяли его в больших масштабах, они не смогли бы жить в больших группах и работать сообща. Но этот контроль физиологически затратен, сильно ограничен по своей природе, его легко нарушить. Культурная информация свободно течет через нашу память и физическое пространство (знаки на бумаге, орудия труда), но способность использовать эту информацию ограничена рамками нашего небезграничного сознания.
Одной из сильных сторон конфуцианства (и той чертой, которая отличает эту школу от современной западной философии) является то, что в решении этой задачи он опирается на у-вэй. Как и в случае с дикими животными и потоками, ответ кроется в обуздании{75}. Возничий у Платона всегда должен тянуть вожжи, чтобы удержать лошадей под контролем. Его задача была бы куда проще, если бы он смог усмирить диких лошадей. Одним из лучших помощников цивилизации является способность людей осознанно, в собственных интересах изменять поведение растений, животных и сил природы. Также сознательная психика может достичь новых желанных целей и интегрировать их в бессознательное, где они превратятся в привычки, не нуждающиеся в постоянном контроле. Затратное осознанное действие может стать у-вэй.
Что происходит, когда мы осваиваем новый двигательный навык{76}, например управление автомобилем? Когда вам было шестнадцать и вы отправились на первый урок вождения, приходилось быть начеку, слушать команды инструктора, сидящего рядом, и думать, как крутить руль или нажимать на педали. Префронтальные участки, ответственные за сознательное внимание, особенно латеральная префронтальная кора, работали на полную мощность, поэтому вам нужно было защититься от любых раздражающих факторов вроде радио или разговоров. (В 80-х годах, когда я учился водить, пытаясь управиться с “Фордом-ЛТД” размером с небольшой танкер, мобильные телефоны еще не стали угрозой.) Если на этом этапе вы хотя бы на секунду ослабите внимание, то в любой момент можете утратить контроль над машиной.
Но с практикой постоянная сосредоточенность постепенно переходит к другим участкам мозга, в особенности к базальным ганглиям. Это ряд нейронных кластеров под корой больших полушарий. Базальные ганглии, похоже, ответственны за автоматические двигательные навыки – действия, освоенные настолько хорошо, что вы можете больше не думать об этом. “Мышечную память” точнее было бы называть “памятью базальных ганглиев”{77}. Когда мы повторяем сложные двигательные действия вроде вождения, наши базальные ганглии и сенсомоторная система наблюдают и запоминают их. Со временем непосредственный контроль{78} над этими действиями передается им. Более того, с помощью изящных манипуляций ученым удавалось выработать у подопытного моторные навыки, парализуя его сознательную психику с помощью перегрузки рабочей памяти задачами на вычисление. Нейровизуализация показывает, что в таких условиях базальные ганглии и соответствующие моторные участки коры могут самостоятельно освоить некоторые навыки{79}, оставив испытуемого в неведении. Исследования показали, что по мере того как навык в выбранной области улучшается, активность мозга постепенно снижается{80} и задействованными остается все меньше участков мозга. Чем больше навык становится “вживленным”, тем больше сознательная психика может расслабиться{81} и позволить базальным ганглиям и сенсомоторной системе разбираться с ним самостоятельно.
Старайся не стараться: взращенная естественность
Знание того, каким образом мы осваиваем новый навык вроде вождения автомобиля, важно для понимания стратегии у-вэй, которой следовали Конфуций и Сюнь-цзы. Если люди хотят жить в гармоничном обществе, они должны освоить конфуцианский Путь: ритуалы и познания чжоуской династии. У разума есть сила осознать Путь, но этого мало. Нужно зайти дальше простого понимания Пути и жить им. Рассудочное мышление должно стать чувственным. Конфуцианцы пытались достичь этого, тренируя воплощенный ум до тех пор, пока сознательно выученные действия можно будет выполнять в состоянии у-вэй, как мы выжимаем сцепление или шнуруем ботинки.
Рассмотрим фрагмент “Цюань сюэ”. Сюнь-цзы описывает, как люди перешли от естественного состояния{82} к цивилизации. Естественному состоянию свойственно ничем не сдерживаемое чувственное мышление. Результаты плачевны, в чем легко убедиться, взглянув на страны, где разрушились институты власти. Положение спасли, объясняет Сюнь-цзы, легендарные совершенномудрые правители: “Ваны-предки питали отвращение к смутам, поэтому они создали [нормы ритуала] и долга, чтобы [в соответствии с ними] разделять [людей], удовлетворять их желания и стремления. Добиться того, чтобы желания не превосходили [возможности] вещей [их удовлетворять], а вещей всегда было бы достаточно для удовлетворения желаний, когда и желания, и вещи соответствуют друг другу и взаимно растут”. Здесь мы видим интересную последовательность чувственного – рассудочного – чувственного мышления. Совершенномудрые правители древности питали отвращение к хаосу естественного состояния. Их чувство неприятия – типичная чувственная реакция. Но, руководствуясь этой эмоцией, они прибегли к рассудочному мышлению. Как, учитывая ограниченность ресурсов, распределить их между людьми с разными нуждами и возможностями? Решением явилось создание поддерживаемой ритуалом социальной иерархии, которая обеспечивала людям доступ к ресурсам в зависимости от их пользы для общества.
Современные западные философы сказали бы, что цель достигнута: вы поняли условие задачи, решение найдено, и теперь все, что нам нужно – донести до каждого эту мысль. Сюнь-цзы на этом не остановился. Для него рациональное решение – лишь первый шаг. Следующая ступень – научить людей изменить свои желания в соответствии с этим решением. Демонстрируя куда более тонкое понимание когнитивных способностей человека, чем современные западные философы, Сюнь-цзы утверждает, что привитие норм требует замедленного сознательного контроля. Чтобы быть психологически эффективными, плоды рассудочного мышления (как лучше распределить ресурсы) должны быть встроены в чувственные сенсомоторные процессы (через ритуал и обучение).
Ритуалы – это в основном выработка навыков – от того, как проводить важные публичные религиозные мероприятия, до того, как одеваться, входить в комнату, есть пищу и общаться с родителями. Старшие и высокопоставленные получают лучшие куски мяса и места поудобнее, а молодые и незначительные учатся откладывать удовольствие. Дети всегда уступают родителям, справляются об их здоровье определенное число раз в день, не уезжают за границу и не принимают важных решений, не посоветовавшись с ними. Конфуцианский ритуал, таким образом, охватывает и религиозные церемонии, и то, что мы называем хорошими манерами. У каждого есть предписанная ритуалом социальная роль, более точно – комплекс ролей{83}, определяемых ситуацией: в зависимости от обстоятельств и окружения вы можете быть чиновником, мужем, сыном или отцом, младшим или старшим, учителем или учеником. Каждая из этих ролей имеет точно определенный спектр приемлемого поведения, обязанностей и привилегий. Освоение ритуала сопровождается учебой, которая предполагает заучивание классических текстов с последующим коллективным обсуждением их смысла и актуальности. Это дает ученику и цитаты, и полезные в разговоре обороты, и примеры для подражания, и советы по взаимодействию с людьми.
Ранний конфуцианский ритуал и учеба кажутся экзотичными и архаичными: трудно представить себе настолько строго регламентированную жизнь. Вот несколько примеров образцового ритуального поведения Конфуция из книги “Лунь юй”:
В жару он надевал легкую одежду из тонкой грубой ткани и всегда носил ее поверх рубашки.
Он носил черный кафтан с халатом из каракуля, белый – с дохой из пыжика и желтый – с лисьей шубой.
Для дома у него был длинный меховой халат с коротким правым рукавом. Во время сна всегда пользовался коротким одеялом в половину своего роста.
Сидел на коврике из толстых шкур лисицы и енота. Когда кончался траур, надевал на пояс все подвески. Всегда носил лишь юбки, сшитые из обрезков ткани, за исключением случаев, когда участвовал в какой-либо торжественной церемонии.
Когда шел выразить соболезнование, не надевал халата из каракуля и черной шапки.
Он не садился на циновку, постланную криво.
Когда он залезал в повозку, то держался прямо, ухватившись за веревочные поручни.
В повозке не оглядывался, говорил неторопливо и не показывал руками куда ехать.
Идея до такой степени регулировать свое поведение многим покажется дикой. Мы не уделяем внимания ритуалу, а когда задумываемся о нем, в голову приходит лишь дурное.
Но ритуал не настолько чужд нам, как можно подумать. Мы считаем, что дети, выросши, должны идти своим путем, но осуждаем ребенка, который не сумел выкроить время, чтобы поздравить мать с днем рождения. Мы считаем странной сложность древних предписаний касательно одежды, но никогда не пришли бы на важную деловую встречу в спортивном костюме{84}. Когда вы в следующий раз появитесь на людях, подумайте, как много из того, что вы делаете и говорите, заранее определено: то, как вы обращаетесь к людям на улице и в магазине, как приветствуете друзей или коллег, как ведете себя с незнакомцами и со знакомыми людьми. Конвенции, пронизывающие даже нашу довольно вольную жизнь, могут казаться малозначительными, но попробуйте прожить без них хотя бы день. Например, сходите в магазин и, не встречаясь глазами с продавцом и не поздоровавшись с ним, просто бросьте деньги на прилавок и потребуйте то, что хотите купить. Вы скоро станете изгоем и будете дурно влиять на социальную жизнь. Существуют убедительные доказательства того, что незначительные жесты, интонация{85} и мимика могут изменять настроение окружающих, которое распространяется кругами.
У Конфуция и Сюнь-цзы привитие культурно-нравственных норм нередко сравнивается с отделкой или перестройкой плохо сконструированной личности с использованием в качестве инструментов ритуала и обучения. Ритуал, например, “подравнивает” наши эмоции, сдерживая чувства, которые, по сути, слишком сильны. Непреодолимое желание ребенка, чтобы его нужды удовлетворялись, превращается в ясное понимание того, чего именно должно хотеть и ожидать. А малоразвитые эмоции усиливаются, “полируются”. Лень или страх часто перевешивают наше чувство возмущения несправедливостью, но конфуцианцы считали, что силу духа можно развить путем правильного обучения. Современным ученым есть что сказать об этом аспекте конфуцианского ритуала. Изучение эмоций показывает, что общественные установки и направленное осознание играют ключевую роль в превращении инстинктивных реакций в зрелые. Например, младенцы рождаются со способностью улыбаться{86}, когда испытывают удовольствие. Это простая рефлекторная реакция. Не достигнув возраста нескольких месяцев, они не способны улыбаться кому-либо, чтобы добиться ответа или поделиться своим ощущением счастья. Еще позднее они получают способность улыбаться в ответ на воображаемое счастье (слушая сказку, например) или на чужое счастье (эмпатическое). Этот процесс поддерживается рассказами, искусством{87}, подражанием и литературой.
Конфуцианский взгляд на обучение может оказаться полезным. Например, мы почти не осознаем, до какой степени зависим от историй, которые помогают понять, как себя вести. Верующие люди опираются на обширный комплекс притч. Например, девиз “Как поступил бы Иисус?” важен для многих американцев. Но и у людей нерелигиозных есть свои тексты. Например, пытаясь научить нашу дочь справляться с эмоциями и правильно взаимодействовать с другими детьми, мы с женой часто обращаемся к повести “Чарли и шоколадная фабрика” Роальда Даля. Чарли, идеал доброго и щедрого мальчика, и Верука Солт, отбившаяся от рук испорченная девица, оказались в этом отношении особенно полезными. Оклика “Верука!” оказывается достаточно, чтобы пресечь эгоистичное поведение моей пятилетней дочери, и, когда она задумывается, совершать или не совершать хороший поступок, мы просим ее подумать, что бы сделал Чарли на ее месте. Девиз “Как поступил бы Чарли?” еще не так популярен в сравнении с “Как поступил бы Иисус?”, но служит той же цели.
Кроме того, конфуцианство помогает заполнить пробелы в современном понимании соотношения научения и мышления. Сейчас на Западе в особом почете нестандартное мышление: все мы, как “Эппл”, хотим “думать иначе”, чем другие. Если бы конфуцианцам понадобился рекламный слоган, он звучал бы так: “Думай как древние”. Они считали, что мудрость, содержащаяся в классических трудах вроде “Книги песен и гимнов” (“Шицзин”), должна составлять основу психической жизни. Поэтому Конфуций сравнивает того, кто не знает “Шицзин”, с человеком, который “встал лицом к стене и ничего не видит”. Более того, понять значение “Шицзин” – нелегкая задача, нельзя уловить смысл древнего текста, сидя в одиночестве в своей комнате. Чтобы правильно понять конфуцианскую классику, ее нужно помещать в определенный социальный контекст и изучать под руководством мудрого наставника, в компании других учеников.
Акцент на традицию, преклонение перед авторитетом и коллективизм идет вразрез с философией Просвещения. Рене Декарт в “Размышлениях о первой философии” (1641) провозгласил, что нельзя принимать на веру ничто из того, чему учат в школе. Единственным способом отыскания истины, утверждал он, служит самостоятельный поиск, логическое выведение из первых принципов. Эта идея, привлекательная и глубоко укорененная в нашей культуре, почти наверняка неверна. Мы изначально настроены получать знания из культуры, мы абсолютно зависимы от нее, и это качественно отличает нас от других животных. Мы одобряем творческий подход и новаторство, но не замечаем, в какой степени художник или бизнесмен обязан идеям и усилиям других людей, ныне живущих и умерших. Например, технологическая “магия” Стива Джобса зависит от существовавших до него технологий и идей. В более глубоком смысле его творческий импульс мог возникнуть{88} лишь в социокультурной среде Кремниевой долины в конкретный исторический момент. Таким образом, взгляд древних конфуцианцев на научение и мышление (как и в отношении многого другого) более точен, чем тот, что мы унаследовали от европейского Просвещения.
Можно воспринимать такое предпочтение древней мудрости индивидуальному мышлению как реакцию на опасность неконтролируемого чувственного мышления и неточность рассудочного мышления. Поскольку у нас всех есть пределы, конфуцианцы оставляют в системе место для поддерживающих факторов среды, которые будут направлять нас по прямому и узкому Пути. Можно представить их в виде подпорок вдоль дорожки{89} в боулинге для детских вечеринок: они позволяют даже самым маленьким участникам почувствовать восторг от нескольких сбитых кеглей и особенно важны, когда у ребенка еще не хватает сил прокатить шар до конца, не вступая на дорожку.
Но современных читателей “Бесед и суждений”, вероятно, сильнее всего удивляет – и отпугивает – крайний культурный консерватизм Конфуция. Как мы видели, он не садился на циновку, постланную криво, и дал следующий ответ ученику, спросившему о том, как стать благородным мужем: “Не смотри на то, что чуждо ритуалу. Не внемли тому, что чуждо ритуалу. Не говори того, что чуждо ритуалу. Не делай ничего, что чуждо ритуалу”. Конфуций думал, что гармония в обществе зависит от того, следуют ли люди определенным культурным моделям во всех областях жизни. Так, он считал, что музыка древних Шао и У является лучшей, правильно сочиненной музыкой, в отличие от аморальной “поп-музыки” Чжэн, ценимой его современниками. Тексты Чжэн, судя по “Шицзин”, довольно вольные, и хотя мы не знаем, какая именно музыка их сопровождала, это, скорее всего, был простой запоминающийся мотив. Они исполнялись смешанными группами из мужчин и женщин и поощряли половую распущенность. Это знакомо обеспокоенным родителям всех наций и эпох. Для Конфуция музыка Чжэн была все равно что Элвис Пресли для поколения моих родителей или рэп для нашего собственного. Типпер Гор без колебаний снабдила бы ее предупреждающей наклейкой.
Этот культурный консерватизм приводил к всеобъемлющему и долгосрочному контролю над всеми элементами окружения ученика, направляя его поведение и мысль в одобренное древними русло. В современных условиях подобная “культурная ригидность” выглядит архаичной и чуждой. Но с точки зрения современной психологии стратегия культурного погружения вполне разумна. Существует обширная, хотя и довольно противоречивая, литература о фиксированной установке (прайминге): изменении поведения человека с помощью превращения слова или понятия в более существенное почти незаметным способом. Участники, которые разгадывали головоломки{90} со словами, относящимися к старикам (“Флорида”, “седой”, “морщины”), выйдя из лаборатории, шли медленнее других, а те, кто имел дело со словами, имеющими отношение к вежливости, дольше ждали, прежде чем перебить другого. Люди, разгадывающие словосочетания{91} о помощи, чаще поднимали предмет, который ронял экспериментатор. Те, кто фиксировался на социальной роли “профессора”{92}, куда лучше выполняли задания, касавшиеся общих знаний, чем те, кто не фиксировался, а те, кто фиксировался на роли “футбольного хулигана”, справлялись хуже других. Этот эффект распространяется и на физические действия, что помогает нам понять, как и почему ритуалы так хорошо работают. Люди, которые держат ручку в зубах{93}, чтобы изобразить улыбку, как в мультфильмах, более склонны радоваться, чем другие – то есть искусственная улыбка делает нас счастливее, по крайней мере на время.
Отношение всего этого к конфуцианскому обучению очевидно. Чтение книг о сдержанных и грациозных людях может сделать вас сдержаннее и грациознее. Скромное поведение, уважительное обращение и должная поза, вполне вероятно, сделают вас скромнее, вежливее и обходительнее. Когнитивные исследования феномена ритуала все еще в зачаточной стадии, но теперь у нас есть предварительные экспериментальные доказательства того, что ритуальное поведение оказывает эффект{94} на манеры и эмоции и может играть важную роль для групповой самоидентификации и установления доверия. Когда интенсивные мультимедийные ритуальные тренинги, санкционированные религиозными авторитетами и осуществляемые в течение всей жизни, сочетаются с умственным погружением в классику, возникает крайне эффективная программа концептуального и поведенческого фиксирования установки.
Так что отделка и перестройка личности играют в конфуцианской стратегии видную роль. Может показаться странным, что люди, желавшие легкости и изящества, добивались этого, будучи скованными этикетом и культурой. (Как мы увидим, даосы считали, что Конфуций действительно перегнул палку.) Но конфуцианский Путь говорит не только о сдержанности и ограничениях. Как известно скульпторам, за грубой обработкой следует точная, а затем и шлифование. В понятиях конфуцианского саморазвития эти последние шаги представляли собой совместное пение и танцы. Такая групповая активность служила последней ступенью отделки и переделки, создавая в результате конфуцианского благородного мужа.
В одном из конфуцианских текстов периода Борющихся царств отмечается, что музыка отличается “своей способностью проникать внутрь{95} и трогать душевные струны”. Та идея, что музыка, “проникая” в людей, непосредственно влияет на эмоции, встречается во многих древнекитайских текстах – как и идея, что связь открыта в обе стороны: слушая чью-либо музыку, можно точно и быстро понять характер ее автора. А обилие народных песен на бытовые темы вроде возделывания земли, ткачества или буколической любви в “Книге песен и гимнов” объясняется тем, что правители Чжоу отправляли специальных чиновников путешествовать по стране и записывать музыку и песни простолюдинов, чтобы понять, что у тех на уме. Губернатор провинции N может доносить, что дела идут прекрасно, но если люди, работая в поле, поют блюз, становится понятно, что ситуация требует более тщательного рассмотрения. (Современным эквивалентом является ежедневный дайджест китайских микроблогов, предоставляемый правящей элите.)
Идея диагностики общественных настроений через изучение популярной музыки вовсе не безумна. Эксперименты показывают, что люди довольно точно распознают{96} гнев, грусть, счастье и другие эмоции, передаваемые музыкальным произведением, даже если оно относится к совершенно неизвестной им культуре. Эффект распространяется и в обратном направлении: слушая яростную музыку, мы становимся злее, а печальная заставляет нас обниматься с бутылкой и припоминать свои ошибки. Поэтому оркестры агрессивными маршами “заводят” выходящих на поле регбистов, а люди для свадьбы или другого счастливого события выбирают в первую очередь веселую танцевальную музыку.
Кроме того, говоря о социальной роли музыки, следует помнить, что она почти всегда предназначена не для одной пары ушей и сопровождается танцем или синхронизированными движениями. Эта совместная физическая активность служит не только эффективной передаче определенных эмоций, но и объединению людей. Западные религиоведы, например Эмиль Дюркгейм, рассуждали о том, что сплоченность, порождаемая музыкой{97} и танцами, является причиной их широкого применения в религиозных традициях по всему миру. Ритуальные песнопения и строевые песни использовались в течение всей истории, чтобы порождать и выражать единение. Я больше всего люблю хаку, старинный военный танец, в исполнении сборной Новой Зеландии по регби. (Вбейте New Zealand All Blacks haka на “Ю-Тьюб”.) Эта квинтэссенция праведного гнева и насилия не только сплачивает команду и дает ей энергию и решительность, но и запугивает противников.
Музыка порождает у слушателей эмоции и одновременно служит доказательством того, что человек чувствует то, что должен. Музыка и танец, кажется, обходят хитрую сознательную психику, воздействуя непосредственно на чувства. Ученые лишь недавно занялись изучением этого, но некоторые экспериментальные работы уже подтверждают догадки и древних конфуцианцев, и современных религиоведов: групповая деятельность вроде музыки{98}, танца или марширования помогает транслировать эмоции, способствует групповой самоидентификации и облегчает межличностное взаимодействие, даже если мы говорим о студентах, впервые встретившихся перед экспериментом в искусственной, бедной стимулами среде лаборатории. Это тип экстаза (буквально ec-stasis, пребывание вне себя), который, как надеялись конфуцианцы, позволит благородным мужам совершить переход от рационального самоконтроля к спонтанной, но аккуратно направляемой радости Пути. Восторг, внушаемый величественной музыкой, воплощает, с точки зрения конфуцианцев, финал долгого самосовершенствования: человек приходит в совершенно новое место, которое, тем не менее, кажется ему очень знакомым.
Конфуцианское у-вэй: в цивилизации как дома
Несмотря на культурный консерватизм, конфуцианский взгляд на цивилизацию все же оптимистичен. Зигмунд Фрейд (выберем его как западный контр-пример) считал противоречие между чувствами и рассудком непоправимой трагедией современной жизни{99}. Мы были несчастны в естественном состоянии, поскольку мир, в котором все позволяли своему Оно (чувственному мышлению) делать что угодно, был хаотичным, непредсказуемым и жестоким – даже для тех редких личностей, которым повезло оказаться на вершине социальной пирамиды. Цивилизованная жизнь лучше для всех, но она имеет свою цену: все должны либо подавить, либо сублимировать большую часть инстинктивных желаний и жить под пятой рассудка. В результате появляется состояние, которое Фрейд называл Unbehagen – “недовольством” или “неудовлетворенностью”. Оно также означает физический дискомфорт. Если вы отправляетесь в заброшенный старый дом и у вас волосы встают дыбом, когда вы задумываетесь о привидениях, – это Unbehagen. По Фрейду, цивилизованный человек живет как раз в таком старом доме.
Конфуцианский идеал цивилизованного человека противоположен человеку Фрейда, охваченному Unbehagen. Конфуцианская стратегия нацелена на усиление самоконтроля: одобряемое рассудочным мышлением поведение делается более приемлемым, когда превращается в “естественное”, спонтанное. Конфуцианский благородный муж чувствует себя в цивилизации как дома, не ощущая при этом беспокойства. В “Цюань сюэ” описывается, как конфуцианское учение может взять контроль над телом ученика, изменив его психику: “Все, что воспринимает его слух, он откладывает в сердце, и это затем, распределившись по телу, выявляется в его манерах и поведении: он сдержан в разговоре, осторожен в поступках. Все это может служить примером для других”. На этом этапе сознательный контроль уже не нужен. Всякое действие благородного мужа свободно, непринужденно – и при этом абсолютно правильно. “Мудрец следует своим желаниям{100} и полностью удовлетворяет свои чувства, контролируя их с помощью [правильных] принципов, – объясняет Сюнь-цзы. – Зачем ему «заставлять себя» быть «терпеливым» и «беспокойным»?”. Смысл в том, что для человека вроде Конфуция в возрасте семидесяти лет вся строгость древней культуры становится подобна воде для рыбы – совершенно незаметной и абсолютно комфортной.
Таково у-вэй конфуцианцев. Идея замещения изначального трудного характера новым, социально приемлемым, кажется идеальным решением проблемы взаимодействия людей в больших сообществах. Сам Конфуций к семидесяти годам превратился в идеально социализированного человека: изящного, в совершенстве владеющего этикетом и при этом абсолютно естественного и искреннего. Впрочем, изучив историю ранних конфуцианских текстов, мы обнаруживаем, что самосовершенствование не всегда протекало просто. Более того, иногда кажется, что на каждого выходящего из жерновов самосовершенствования Конфуция, непринужденно изящного и искреннего, приходился десяток подражателей, которые умели говорить и даже делать правильные вещи, но не обладали внутренней убежденностью истинного благородного мужа.
Берегись деревенского ханжи!
Почему спонтанность приходится культивировать? Иными словами, почему нужно стараться не стараться? Конфуцию и Сюнь-цзы ответ был ясен: мы рождаемся с некими глубинными недостатками, так что простое следование инстинктам ни к чему хорошему не приведет. Они, безусловно, правы. По причинам, рассматриваемым нами ниже, эмоции и желания, с которыми мы рождаемся (наши изначальные ценности, если хотите), плохо подходят для сложного мира, где мы живем. Есть причина, по которой детей необходимо учить. Им нужно освоить технические навыки, вроде арифметики, чистописания и географии. Но еще важнее, чтобы они научились вести себя, а это значит ценить определенные вещи – чувства других людей, следование правилам, – которые дети обычно не ценят изначально. Это значит, что состояние у-вэй будет плодом бессознательного, направляемого сознательной психикой.
Но, в отличие от совершенствования физических навыков, внедрение конфуцианских добродетелей приводит к парадоксу. В ранних текстах постоянно подчеркивается, например, что вы не станете конфуцианцем, если уже хотя бы немного не любите Путь. Конфуций предупреждал учеников: “Кто не проникнут горестным порывом, тех не просвещаю, непотрясенных не учу, не повторяю тем, кто не способен отыскать по одному углу три остальных”. То есть учитель не может наставить того, кем не движет желание учиться, и не может поведать о Пути тому, кто этого не желает. Обучение плодотворно лишь при условии активного, искреннего и благодарного соучастия ученика.
С точки зрения Конфуция, его современники не были готовы к такому участию. Они ценили недостойное – славу, деньги, власть, секс, пищу, – а должны были ценить и любить конфуцианский Путь. Конфуций довольно резок: “Я не встречал еще того, кто любил бы добродетель так же сильно, как чувственные наслаждения”. Или: “Далека ли человечность? Едва к ней устремлюсь, она ко мне приходит”. Здесь видна здоровая доля раздражения. Все смогли бы поступать правильно, если бы захотели, но как внушить это желание тому, у кого его нет (или тому, кто желает совсем иного)? Мы видим эту проблему, когда разочарованный ученик объясняет Конфуцию, что он вообще-то любит Путь, однако чувствует, что не может найти в себе силы следовать ему. Конфуций перебивает: “В ком сил недостает, на полпути бросают. А ты еще не начинал идти!” Это суть парадокса, с которым столкнулся Конфуций, воплощение парадокса у-вэй.
Как мы можем сознательно приобрести абсолютно искренние желания и эмоции, прежде не обладая ими? Что происходит, если изучать Путь Чжоу без правильной мотивации? То есть следовать всем ритуалам, которым велел следовать Конфуций, изучать “Шицзин”, петь правильные песни и танцевать правильные танцы – но без глубокой любви? Тогда вы становитесь имитацией хорошего человека: тем, кто выглядит как хороший человек, но не обладает истинной добродетелью. Конфуций говорил о “деревенском ханже”, о “воре дэ”. Одно из лучших объяснений привел его последователь Мэн-цзы[7]:
Те, кто пытается выразить неодобрение{101} деревенскому ханже, не найдут основания; те, кто пытается критиковать его, не найдут недостатков. Он следует всем распространенным течениям и живет в соответствии с подлыми временами. Живя так, он выглядит почтительным и порядочным; поступая так, он кажется честным и добродетельным. Многие всегда довольны им, и сам он доволен собой, но все же с ним нельзя обсудить Путь совершенномудрых правителей древности. Поэтому его называют “вором дэ”. Конфуций говорил: “Я отвергаю все, что не является тем, чем кажется. Я отвергаю сорняки, опасаясь, что их могут спутать с культурными растениями. Я отвергаю лесть, опасаясь, что ее могут спутать с истиной. Я отвергаю хитроумные речи, опасаясь, что их могут перепутать с порядочностью. Я отвергаю напевы Чжэн, опасаясь, что их могут спутать с настоящей музыкой… Я отвергаю деревенского ханжу, опасаясь, что его могут спутать с тем, кто действительно обладает дэ”.
Служа ложной моделью добродетели для простых людей, деревенский ханжа оказывается лжепророком, который не просто останавливает развитие истинных достоинств в самом себе, но и сбивает с истинного пути других. За это Конфуций ненавидит его.
Очевидно, Конфуций считал большинство современников, считающих себя учеными и благородными мужами, – ханжами, механически исполняющими ритуалы и бездумно заучивающими тексты. Однажды ученик спросил его о сыновней почтительности. Учитель ответил: “Ныне сыновняя почтительность сводится лишь к содержанию родителей. Но ведь содержат и животных. В чем будет тут отличие, если не проявлять самой почтительности?” Чтобы быть почтительным сыном, определенно необходимо совершать некие действия. Нужно регулярно навещать родителей и заботиться об их удобстве, правильном питании и добром здравии. Но этого недостаточно. Искренняя сыновняя забота подразумевает совершение всех этих действий с правильным настроем, с любовью и уважением, и простое повторение всех необходимых поступков в течение долгого времени не сможет внушить этих чувств.
К чему это приводит? Стратегия Конфуция кажется предписанием просто продолжать пытаться: стараться уделять внимание и видеть смысл – и тогда со временем придет любовь. Сюнь-цзы говорит об этом еще откровеннее: ему не нужен изначальный энтузиазм. Просто двигайся вперед, говорит он, и любовь к ученью родится сама. Все так. Опасность в том, что эта стратегия приведет в мир, полный ханжей, притворяющихся верным общественным ценностям, но преследующих личную выгоду. Современным аналогом можно назвать свидание, на котором каждый притворяется тем, кем не является, ценящим вещи, которые на самом деле не ценит, где единственная форма взаимодействия – фарс: пустые люди с поддельными интересами и эмоциями играют по чужому сценарию с единственной искренней мотивацией – самоудовлетворением. Выглядит удручающе?
Теперь вы понимаете, что двигало теми, кто, услышав Конфуция, белел от страха и удирал прочь. Конфуцианскую стратегию достижения у-вэй следовало подробно изложить не только потому, что она была самой распространенной, но и потому, что с ней полемизировали все остальные философы древнего Китая. Это основная стратегия, с которой должны начинать все, кто озабочен естественностью, так как (вопреки заявлениям некоторых даосов) мы не рыбы и не птицы. Люди в первую очередь – это обладающие культурой животные, а значит, любой вариант у-вэй требует обучения и усилий. К тому же конфуцианский подход не лишен противоречий, и никто не указывал на них охотнее, чем Лао-цзы, представитель древнекитайской контркультуры.
Глава 4 Перестань стараться: о приятии безыскусного
Сборник “Беседы и суждения” был составлен учениками Конфуция после его смерти. Текст хронологически неоднороден. В позднейших вставках (возможно, появившихся много лет спустя после смерти философа) есть несколько эпизодов, изображающих противостояние Конфуция и людей, не испытывающих восторга от его проекта трудного обучения как способа достичь у-вэй. Учитель, разумеется, одерживает победу, доказывая превосходство своего Пути. Важно то, что здесь мы впервые встречаем представителей течения, которое со временем превратилось в одну из главных ветвей китайской религии.
Однажды Конфуцию, путешествовавшему с учениками, преградила путь река. Незнакомый с местностью Учитель обратил внимание на двух впряженных в плуг мужчин в поле. В те времена плуг обычно тащили быки, так что философ удивился. (Это как если бы наш современник, житель Нью-Джерси, стриг лужайку механической газонокосилкой.) Эти люди сознательно пользовались устаревшей технологией.
Конфуций, остановив колесницу, посылает одного из учеников, Цзылу, спросить пахарей, где лучше переправиться через реку. Из диалога мы узнаем имена этих людей (в переводе столь же странные, как и их поведение): Чан Цзюй (“Возвышающийся в болоте”) и Цзе Ни (“Приметный в грязи”). Можно предположить, что эти имена получены ими не от родителей, так что здесь еще одна тайна. Загадочные пахари отказались от нормальных имен (вещь для конфуцианцев немыслимая) и приняли метафорические, слегка вызывающие прозвища.
Но их ответ еще страннее. Когда Цзылу (всегда строго придерживающийся протокола) вежливо справился о броде, господин Возвышающийся в болоте перебил: “А кто это в повозке с вожжами в руках?” Пораженный ученик кротко ответил, что это Кун Цю (Конфуций).
– Не луский ли Кун Цю?
– Да, он.
– Этот сам знает, где переправа.
И пахари вернулись к работе. В их ответе, возможно, содержится намек на то, что Конфуций всю свою взрослую жизнь путешествовал по Китаю, пытаясь убедить какого-нибудь правителя прислушаться к себе. Тот, кто столько времени в пути, должен уметь находить дорогу. За поразительной грубостью кроется некоторое понимание того, кто такой Конфуций и что он делает. Это не обычные пахари.
Вдобавок к своей невероятной вежливости Цзылу довольно упрям, так что он предпринимает еще одну попытку. В этот раз он обращается к господину Приметному в грязи, но тот вместо ответа бросает: “А ты кто?”
– Ученик луского Кун Цю?
– Да.
– Вся Поднебесная, словно бушующий потоп; с кем сможете добиться перемены? Чем следовать за тем, кто избегает того или иного человека, не лучше ли последовать за теми, кто бежит от мира?
И, не обращая более внимания на Цзылу, эти двое продолжили пахать. Кто эти люди? Они считают себя учеными, как Конфуций, однако живут в деревне и трудятся в поле, используя примитивные технологии. Они отвергают не только нормальные имена, но и свою эпоху.
Этот случай похож на другой, не менее странный, фрагмент из “Бесед и суждений”. Мы находим Конфуция в уделе Вэй, где он временно живет, пытаясь убедить в своей правоте местного правителя. Дело движется не слишком успешно, и мы видим сидящего в дверях Конфуция, играющего на каменном гонге печальную мелодию (в древнем Китае это значило то же самое, что бренчать на гитаре блюз). Прохожий с плетеной корзиной за плечами (обычной ношей крестьянина) останавливается послушать. Через несколько минут он замечает: “Как тяжело на сердце у того, кто так бьет в гонг!” Послушав еще, добавляет: “Как грубы эти звуки! Так мелки и назойливы! Никто тебя не ценит – ну и оставь, только и всего”. И загадочный прохожий цитирует “Шицзин”:
Глубоко – переправлюсь в платье,
А мелко – перейду, подняв полу.
И уходит по своим делам – скорее всего на встречу со своими приятелями Возвышающимся в болоте и Приметным в грязи.
Хотя этот человек одет как крестьянин, он знаток музыки и цитирует “Книгу песен и гимнов”. Как и пахари-грубияны, это, очевидно, не крестьянин, а получивший классическое образование ученый, представитель элиты, в добровольном изгнании. Пахари бегут от мира, а цитирование “Шицзин” передает следующую мысль: плыви по течению. Если мир катится ко всем чертям, попытки его исправить лишь ухудшат положение. Конфуцию казалось, что мелодия отражает чувство долга и нереализованного предназначения, но, по мнению прохожего, она указывает на невежественное упрямство. Если у Конфуция что-нибудь не получается, он не должен продолжать. Ему нужно перестать стараться навязать конфуцианский Путь всем подряд и позаботиться о себе. Отказаться от современной техники, уйти с работы, сорвать изящную одежду и уехать в глушь, в деревню.
Если вам покажется, что это похоже на 60-е, ничего удивительного. Замените “Возвышающегося в болоте” на “Мунчайлд”, запряженный людьми плуг на деревенский клозет, а отсылку к “Шицзин” – на цитаты из Эмерсона и Торо, и отшельники из “Бесед и суждений” сольются с толпой в сан-францисском районе Хейт-Эшбери образца 1968 года. Это, насколько мы можем судить, первые хиппи, торчащие, врубающиеся и порицающие Человека за две тысячи лет до “Грейтфул дэд” и футболок-“варенок”.
В книге “Лунь юй” эти хиппи предстают в невыгодном свете. Как и следовало ожидать от книги, написанной последователями Конфуция, последнее слово остается за Учителем. Все столкновения с “примитивистами” в “Беседах и суждениях” заканчиваются тем, что Конфуций оправдывает свой отказ от легкого пути, а “хиппи” выглядят ленивыми бездельниками. После случая с пахарями, например, Конфуций презрительно бросает: “Человек не может жить с животными и птицами”. Образ жизни отшельников видится ему непростительным отказом благородного мужа от ответственности перед собой и обществом. (Похоже на реакцию поколения Эйзенхауэра на то, что дети бросают школу и прекращают мыться.) Впрочем, у “хиппи” вскоре появилась собственная книга, в которой они изложили свои соображения непосредственно, без конфуцианских “шпилек”.
“Дао дэ цзин” – “Книга пути (Дао) и благодати (дэ)” – наверное, самый старый (после “Бесед и суждений”) текст периода Борющихся царств. Авторство “Дао дэ цзин” обычно приписывают загадочному Лао-цзы (“Мудрый старец”) и поэтому текст иногда называют просто – “Лао-цзы”. “Мудрый старец” – это как раз тот псевдоним, который можно выдумать, чтобы придать вес своим словам. Ученые давно пришли к выводу, что у “Дао дэ цзин” не один автор и что это, возможно, единственная сохранившаяся компиляций примитивистов. Я, следуя традиции, буду называть того (или тех), кто составил классическую версию этого текста{102}, Лао-цзы.
Как и отшельники из последних глав “Лунь юй”, Лао-цзы считал, что живет в глубоко порочную эпоху, которой свойственны вызывающее социальное неравенство, экономический хаос и мелочное потребительство. В отрывке, который звучит так, будто он взят из памфлета “Захвати Уолл-cтрит”, Лао-цзы жалуется:
Когда дворец блещет убранством, поля заполоняют сорняки и житницы стоят совсем пустые. И надевать при этом яркие наряды, носить отборные клинки, чревоугодничать, купаться в роскоши – это зовется воровской кичливостью. В ней все противоречит Дао.
Как и Конфуций, Лао-цзы считал общественный упадок признаком того, что мир оставил Путь Неба. Он поставил своей целью снова свести их в гармонии у-вэй. Но взгляды Лао-цзы на Путь, строго говоря, представляют собой прямую противоположность взглядам Конфуция.
Долой Человека (и Мэдисон-авеню): социальное познание и гедонизм
В отличие от Конфуция, Лао-цзы считал, что суть – в отказе от культуры, а не в ее развитии. Конфуций видел людей изначально несовершенными и нуждающимися в воспитании. Лао-цзы думал, что мы хороши такими, какие мы есть – точнее, были, прежде чем общество все испортило. Для Лао-цзы человеческая натура изначально блага и мы должны следовать своим наклонностям. Следовательно, образование и обучение контрпродуктивны и уводят нас прочь от внутреннего совершенства. Конфуций считал, что вкусы человека должны со временем улучшаться, как у приобретающего опыт дегустатора. Лао-цзы, напротив, считал приобретенные вкусы и культурные новшества источником хаоса:
Пять цветов ведут к утрате зрения, пять тонов ведут к потере слуха, пять ощущений вкуса расстраивают вкус, охотничий азарт приводит к умопомрачению, редкие товары делают людей преступниками. Именно поэтому Премудрый человек заботится о чреве и пренебрегает тем, что можно лицезреть очами. Он отбрасывает то и берет это.
Контраст между “чревом” и “очами” – прекрасная метафора. “Чрево” выступает источником базовых желаний, которые, по Лао-цзы, довольно скромны: немного простой пищи и воды, крыша над головой, возможно, изредка покувыркаться в постели и – все. С другой стороны, “очи” постоянно доставляют нам неприятности, потому что могут видеть вещи вдалеке, вещи, которых у нас нет, но которые мы начинаем желать, лишь замечая. Мы видим более вкусную пищу, привлекательные блестящие вещицы, мужчин и женщин более молодых и красивых, чем наши нынешние партнеры.
Более того, само навешивание социальных ярлыков вроде “красивое” и “хорошее”, с точки зрения Лао-цзы, нарушает наше природное здравомыслие. В одном отрывке сказано, что “когда все в Поднебесной знают, что прекрасное прекрасно, то вот и безобразное”. Смысл этого загадочного утверждения раскрывается ниже: вычленяя и эксплицитно определяя добродетель, мы вводим дихотомию, которая превращается в ментальную ловушку. Лао-цзы провозгласил, что тот, “кто говорит, не знает”. Этот девиз подчеркивает, что словесные ярлыки часто лишают нас способности судить здраво и видеть то, что прямо перед нами. Адресатом критики были, разумеется, конфуцианцы с их строгими предписаниями, какую музыку слушать, какую одежду носить, как входить в комнату и (это вреднее всего) быть “хорошим”. С точки зрения Лао-цзы, мы, называя определенное поведение “хорошим”, добиваемся лишь того, что оно не будет хорошим, поскольку сознательное называние и прямое усилие отравляют наш опыт.
Ту идею, что прикрепление к вещам словесных “ярлыков” отчуждает нас от собственного опыта, отчасти подтверждают современные психологи. Например, из обширной литературы о вербальном затемнении{103} становится понятно, что осмысление восприятия вкуса и его последующее описание снижают нашу способность оценивать. Джонатан Скулер и Тим Уилсон в рамках ставшего классическим эксперимента предлагали студентам клубничный джем{104} пяти марок и просили некоторых, когда те пробуют, отмечать качества, которые им понравились и не понравились, и обдумывать причины, в силу которых они предпочли один джем другому. Уилсон и Скулер обнаружили, что процесс анализа не просто существенно изменяет оценку, но и изменяет ее в худшую сторону: выбор тех участников, кто обдумывал свой выбор, оказался хуже (по сравнению с экспертной оценкой) выбора тех, кто не анализировал ответы.
В ходе другого эксперимента{105} участники оценивали плакаты, которые им предлагали забрать с собой, чтобы повесить в общежитии. Те, кто долго обдумывал свой ответ, делали плохой выбор даже по сравнению с собственной долгосрочной оценкой, потому что спустя несколько недель эти люди сообщали о меньшей удовлетворенности своим выбором (нежели те, кто долго не думал): они начинали ненавидеть репродукции Моне, которые так хвалили во время эксперимента. Мы располагаем обширной литературой по нередко вредоносному эффекту долгих размышлений на способность испытывать наслаждение и констатировать его.
С точки зрения Лао-цзы, от у-вэй нас уводят, во-первых, негативный эффект, который размышления и вербализация оказывают на нашу способность жить, а во-вторых, непрерывный рост наших желаний (они после временного удовлетворения появляются вновь из-за более привлекательного миража). Лао-цзы говорит:
Нет худшего несчастья, чем незнание того, что для тебя является достаточным; нет тяжелее бедствия, чем страсть к приобретению. Когда же ведают о том, что то, чего достаточно, является достаточным, находятся в незыблемом достатке.
Осознание того, что “то, чего достаточно, является достаточным”, требует сопротивления сладкоголосым сиренам консьюмеризма и ограничения себя очень простыми удовольствиями. С современной точки зрения об этом фрагменте можно многое сказать. Желаниям наших “очей” обязана своим существованием индустрия рекламы, превратившая их подстегивание в точную науку. В ту минуту, когда на прилавке появляется новый “айфон”, наш прежний “айфон” начинает казаться менее привлекательным, а модное парижское поветрие делает никому не нужными целые контейнеры отличной одежды. Генри Дэвид Торо жаловался{106}: “Главная обезьяна в Париже напяливает новую шляпу, и все обезьяны в Америке делают то же самое”. (То была одна из многих черт цивилизованной жизни, которые увели его к Уолденскому пруду.) Темной стороной искажающего эффекта искусственных социальных норм можно считать и нездоровые пропорции тела, доминирующие в модельном бизнесе, где семнадцатилетних анорексичек выставляют идеалом женской красоты. Мужчины привыкают к тому, что именно это они должны считать красивым, и многие женщины вредят себе, пытаясь соответствовать навязанному рекламой стандарту. Лао-цзы увидел бы здесь идеальный пример извращенных культурных норм, уничтожающих природные пристрастия.
Лао-цзы был во многом прав, но не стоит слишком быстро переходить к обвинениям конфуцианства и Мэдисон-авеню во всеобщем беспокойстве и неудовлетворенности. Постоянная перемена пристрастий и болезненное желание обладания – не столько плоды усилий злокозненных маркетологов и необузданного капитализма. Скорее они отражают фундаментальную черту человеческой психологии. Мы устроены так, что совершенного счастья или удовлетворения невозможно достичь – по крайней мере, обычными путями. В классической работе 1971 года Брикмен и Кэмпбелл представили теорию гедонистической адаптации{107}, или гедонистической беговой дорожки, согласно которой положительные и отрицательные события лишь на время повышают уровень удовлетворенности (неудовлетворенности). Брикмен и Кэмпбелл заявили, что знают теперь, почему люди, которые выигрывают крупные суммы в лотерею или (это другая крайность) оказываются парализованными в результате несчастного случая, поначалу испытывают сильную радость или отчаяние, но вскоре возвращаются к обычному уровню удовлетворенности. Дальнейшие исследования подтвердили, что влияние на удовлетворенность обстоятельств, которые интуитивно воспринимаются как радикальные и неизменяемые (травма позвоночника, брак, смерть супруга), удивительно быстро проходит.
Базовым механизмом здесь, скорее всего, выступает адаптация – явление, хорошо известное исследователям восприятия: после восприятия чего-либо в течение определенного времени сенсорная система организма “приспосабливается” к этому обстоятельству. Сенсорная адаптация очень важна: органы чувств не перегружаются тысячами бомбардирующих нас раздражителей. Это позволяет новому стимулу выделяться на привычном фоне и предупреждает нас об изменении обстановки. Исследователи гедонистической адаптации предполагают, что точно так же, как мы привыкаем к шуму большого города, перемены к лучшему и худшему регистрируются – и отходят на второй план.
Еще одним источником неудовлетворенности является неизбывная тяга человека сравнивать свои достижения с чужими. Психологи долго не могли понять, почему увеличение ВВП стран Запада не приводит к фундаментальным изменениям в сообщаемом уровне удовлетворенности. А после обнаружили, что как только достигнут минимальный уровень материального благосостояния, объективный уровень достатка становится для нас менее важен, чем то, как мы выглядим рядом с нашими соседями{108} или коллегами. Как только у вас появляется достаточно денег, чтобы покупать самое необходимое и обеспечивать себе некоторые удовольствия вроде визитов в ресторан и покупки одежды, престиж начинает играть более важную роль, чем фактические доходы. Престижность, в свою очередь, не может быть стабильной, так как она по своей природе относительна: точка отсчета сдвигается по мере того, как дела у других идут лучше или хуже. Более того, мы, кажется, созданы так, что озабочены скорее тем, чего у нас нет, чем тем, что есть: в очереди нас больше беспокоят двое впереди, чем удовлетворяет нахождение сзади еще двадцати.
Этому есть убедительная эволюционная причина. Мы и другие приматы – социальные животные со склонностью к строгой иерархии, и положение в ней может показать, распространит ли представитель вида много своих генов. Тот, кому надоело быть № 5 и кто ночами планирует, как превзойти или убрать №№ 1–4, обычно оставляет после себя больше генов, чем те, кто просто наслаждается тем, что дает ему жизнь. Почти всеобщее изобилие и безопасность, которые позволяют персонажу “Большого Лебовски” (1998) наслаждаться ванной, коктейлем “Белый русский” и игрой в кегли, являются совсем недавним достижением – и даже Чувак в итоге не может избежать столкновения с суровой реальностью. Психологическая адаптация, призванная максимизировать репродуктивный успех, входит в прямой конфликт с личным счастьем, что проявляется, в частности, в неудержимом росте желаний и борьбе за положение в обществе.
Так что Лао-цзы, похоже, не был прав и в наших духовных недугах не следует винить одних конфуцианцев или рекламистов. Однако разумно последовать за ним в восприятии постоянного сравнения себя с другими как порока “очей”, а не “чрева”, и распространения этого воззрения на многие сферы, помимо благосостояния. Наше “чрево” чувствует себя прекрасно и в нынешней машине, но “очи” уже приметили новую, более красивую, у соседа (или в журнале, или на билборде), и это впечатление немедленно снижает уровень удовлетворенности автомобилем, который мы водим сейчас. Сама машина при этом нисколько не меняется, но наш сравнивающий ум все равно отвергает ее. Психологическая литература на эту тему представляется комментарием к “Дао дэ цзин” – научным подтверждением феномена, который Лао-цзы увидел с невероятной точностью. Он даже ввел специальный термин фань (): “возвращение”, “перевертывание”, “отрицание”, “беговое колесо”. Все, что угодно, в крайнем выражении превращается в свою противоположность. В тексте говорится о древнем сосуде, выполненном так, чтобы стоять прямо, если он пуст, но раскачиваться и проливать содержимое, если он наполнен:
Наполнить до краев, придерживая, чтобы не разлить, – не идет в сравнение с тем, когда уже пусто. Не сохранить надолго острым то, что натачивают все острее. Когда забита вся палата златом и нефритом, никто не сможет их сберечь. Кто гордится тем, что знатен и богат, сам обрекает себя на несчастье. Дао Неба в том, чтобы успешно завершить свои труды и удалиться.
Другим символом, еще лаконичнее отражающим идею бегового колеса, является символ инь-ян:
На этом изображении, которое мы должны представить медленно вращающимся против часовой стрелки, белый ян (сильная, светлая, “мужская” субстанция) постепенно набирает силу, достигая максимума на двенадцати часах. В этот момент семя черного инь (слабой, темной, “женской” субстанции) рождается и точно так же набирает силу, достигая пика на шести часах, когда раскрывается семя ян. Этот цикл на Западе воспринимают как позитивный образ мистического знания, лепят на доски для серфинга и татуируют на двадцатилетних задницах. На самом деле он символизирует куда более мрачное мировоззрение, сходное с буддистским учением о дуккхе – беспокойстве или непостоянстве: желания ведут к страданию, потому что в мире ничто не вечно. Цикл инь-ян нужно не превозносить. Из него нужно выбираться.
Как выбираться? Не делая ничего. Из всех мыслителей древнего Китая Лао-цзы использует понятие у-вэй ближе всего к буквальному значению: недеяние. Для Лао-цзы вредоносный цикл приводится в движение желанием (еще одна параллель с буддизмом). Желание, в свою очередь, порождают и усиливают две вещи, лежащие в основе конфуцианского стремления к у-вэй: культурное знание и активная деятельность. Утонченные вкусы и насаждаемые потребности, по Лао-цзы, препятствуют естественному наслаждению миром, и мы можем противостоять им, сделав свою пищу проще, а телесные желания – скромнее. Однако еще коварнее конфуцианская цель сделать всех добродетельными. Для Лао-цзы попытки стараться не стараться не просто бесплодны. Они и есть источник людского страдания.
Осознай – и потеряешь
Самое ясное объяснение Лао-цзы того, как сознательное усилие и стремление делают мир порочным, таково:
Верх добродетели – ее не проявлять и потому быть добродетелью проникнутым. При низшей добродетели стараются ее не упустить и потому не обладают добродетелью. При высшей добродетели бездействуют и лишены намерения действовать. При низшей добродетели берутся за дела и преисполнены намерения действовать. При высшей человечности берутся за дела, но лишены намерения действовать. При высшей справедливости берутся за дела и преисполнены намерения действовать. При высшей ритуальности берутся за дела, и если не встречают отклика, то тащат с пылом за собой.
Поэтому с утратой Дао и обретают добродетель; с утратой добродетели овладевают человечностью; с утратой человечности усваивают справедливость; с утратой справедливости вверяют себя ритуалу. Ритуальность составляет мелочь в проявлении преданности и доверия. В ней заключается начало смуты.
Это версия первородного греха, ухода от изначально бессознательного совершенства у-вэй. Давным-давно люди были искренне добродетельными: они обладали добродетелью (дэ) именно потому, что не старались. С тех пор все становилось только хуже. Сначала появились “человечные” люди, искренние, но все же ощущавшие необходимость “творить добро”. Вот тогда и начались неприятности. Потом появились “справедливые” люди: самодовольные лицемеры, которые постоянно думали о том, как они хороши, и хотели влезть в дела всякого. Еще хуже те, кто не знал ничего, но строго подчинялся ритуалу, движимый неутолимым стремлением навязать свое видение правильного всем вокруг. Это, в свою очередь, заставило людей стать лицемерными, показало, что нужно подменять искреннюю почтительность пустой формой, а подлинную привязанность – витиеватыми выражениями любви. Для Лао-цзы триумф внешнего над сутью подобен румянцу туберкулезного больного – симптомом серьезной болезни:
Лишь стоит пренебречь великим Дао, приходят с человечностью и справедливостью. А возникает мудрость, и появляется большая ложь. Когда враждует вся родня, то начинают исповедовать сыновнюю почтительность с родительской любовью. Страна объята распрей, и тогда жалуют преданные подданные.
Справедливости ради отмечу: это не то, чего хотел Конфуций. Кроме того, Конфуций беспокоился насчет “деревенских ханжей”, которые делают все, что должен делать добродетельный человек, но проявляют лишь поддельную добродетель. Однако, с точки зрения Лао-цзы, схема Конфуция, с ее упором на старание, обучение и постоянный самоанализ, не способна породить никого, кроме деревенских ханжей. Сама попытка быть хорошим противоположна цели. Лао-цзы говорил: “При низшей добродетели стараются ее не упустить и потому не обладают добродетелью”.
Психолог Даниель Вегнер посвятил много времени изучению “иронии” сознательного усилия. Он замечает (это вполне можно принять за цитату из “Дао дэ цзин”):
Многие из желанных целей{109}, если преследовать их абсолютно сознательно, могут оказаться недостижимыми из-за влияния отвлекающих и стрессогенных факторов… так что мы не просто не достигнем цели, но получим… прямо противоположный результат. Мы достигаем того, чего менее всего хотели добиться.
Вегнер и его коллеги собрали множество доказательств, указывающих на то, что мы вгоняем себя в депрессию, пытаясь быть счастливыми, вызываем у себя тревогу, пытаясь расслабиться, отвлекаемся, пытаясь сосредоточиться. Когда мы стараемся забыть о чем-либо, то лишь лучше это запоминаем, а когда пытаемся уснуть, нас мучает бессонница. Пытаться не думать о сексе{110} – лучший способ больше думать о сексе. Если хотите, чтобы кто-нибудь промахнулся, скажите ему: постарайся не промахнуться. В работе “Удар и маятник” Вегнер и его коллеги{111} не только задокументировали разрушительный эффект таких пожеланий при игре в гольф, но и показали, что если просить человека нераскачивать маятник, висящий на его руке, он начинает раскачивать маятник сильнее, и притом в направлении, в котором его просили этого не делать. Эффект усиливался при увеличении когнитивной нагрузки (экспериментаторы просили испытуемых считать от тысячи в обратном порядке с интервалом три). Это повторяет ситуацию, в которой оказывался конфуцианский ученик: горы классических трудов, которые нужно запомнить, и невероятное число ритуалов, которые нужно заучить.
Этот парадоксальный эффект сознательного усилия был отмечен австрийским психиатром Виктором Франклом, который впервые применил терапевтический метод парадоксальной интенции. Франкл, говоря о бессоннице, сравнил{112} “сон с голубем, который садится рядом, почти на расстоянии руки, и остается сидеть, пока на него не обращают внимания; если попытаться его поймать, он мгновенно улетает”[8]. Поэтому Франкл рекомендовал людям, страдающим бессонницей, пытаться бодрствовать как можно дольше. В результате они быстрее засыпали{113}. Известный (возможно, печально известный) теннисист Джон Макинрой, насколько я знаю, не учился на франклианского психоаналитика, но интуитивно чувствует силу этой техники. Когда он столкнулся с противником, чей удар справа был сокрушителен, Макинрой, как рассказывают, похвалил его во время смены сторон: “Ваш удар справа сегодня особенно хорош”. Разумеется, противник тут же начал портить простые подачи{114}.
Ирония не ограничивается физической активностью, эмоциями и физиологическими процессами вроде засыпания. Она распространяется и на морально-нравственную сферу. Участники эксперимента, которым предлагали быть честными и непредвзятыми{115}, становились более предвзятыми. Точно так же феномен “морального оправдания” описывает отрицательный эффект положительной оценки собственного поведения{116}. Участники эксперимента, которым позволяли обосновать свою непредвзятость, в заданиях проявляли предвзятость чаще прочих. Люди, которых просили представить{117}, что они только что потратили время на общественные работы, демонстрировали значительное повышение самооценки (чаще других соглашались с утверждением “я – милосердный человек”) и куда охотнее покупали себе “в награду” какой-нибудь предмет роскоши. В рамках исследования, направленного на проверку разрушительного эффекта называния положительного нравственного поведения, “раздувающего” положительное представление людей о себе, участникам в разных обстоятельствах предлагали пожертвовать на благотворительные цели до 10 долларов. Те, кто был настроен нейтрально, давали в среднем 2,71 доллара, а те, кто был настроен на слова забота, щедрость и доброта, в среднем предлагали лишь 1,07 доллара.
Если считать себя хорошим, можно стать плохим. Рассуждения о хорошем поведении могут подтолкнуть к дурному. Лао-цзы был в чем-то прав, когда предупреждал, что сознательные попытки быть справедливым превращают нас в лицемеров и что стремление к добродетели обречено на провал. Что же нам делать? Согласно Лао-цзы, просто вернуться к себе.
Возвращение к себе, приятие безыскусного
Удивительно, сколь явно метафоры Лао-цзы направлены против “Бесед и суждений”. Конфуций призывал улучшать себя с помощью культуры (вэнь,). Первоначальное значение слова вэнь – “узор”, “украшение”. Лао-цзы учит быть “умеренными в желаниях”, “простыми”. Конфуций подчеркивает важность “отделки и полировки” личности (как куска нефрита); Лао-цзы просит принять “безыскусное”. Конфуций сравнивает процесс самосовершенствования с муштрой, дорогой к мудрости длиною в жизнь; Лао-цзы предлагает остановиться, повернуть вспять, к корням, “походить на младенца” и “дорожить матерью”. Хорошо понимая возможный нелепый исход стараний и разрушительность себялюбия, Лао-цзы считает, что единственный способ достичь у-вэй – это попытаться исправить ущерб, нанесенный гиперактивными “благодетелями” и самодовольными моралистами, порожденными усилиями конфуцианцев:
Когда отринут мудрость и отбросят знания, от этого народу польза возрастет во много раз. Когда отринут человечность и отбросят справедливость, в народе воцарятся вновь сыновняя почтительность с родительской любовью. Когда отринут изощренность и отбросят выгоду, то воры и разбойники переведутся. Эти три дают лишь лоск и не годятся, поэтому проникнись главным: будь безыскусен, неразлучен с первозданным, уменьши свое личное, умерь желания.
По Лао-цзы, чтобы достичь у-вэй, нужно отбросить, а не приобрести, постепенно освободить ум и тело, отказаться от книжной мудрости и искусственно взращиваемых желаний. Целью является расслабление до степени абсолютного недеяния (у-вэй) и бессознательности, подобной погружению в теплую ванну:
Когда учатся, имеют каждый день прибыток, а занимаясь Дао, ежедневно терпят умаление. Умаление следует за умалением, и так доходят до бездействия. Но в состоянии бездействия непременно действуют. Поднебесную берут незыблемо посредством недеяния. А кто при помощи деяний собирается взять Поднебесную, тому для этого их никогда не хватит.
Лао-цзы иногда называет это конечное состояние “естественностью” или “самоестественностью” (цзижань,). Как необработанный материал, совершенно естественный человек избавляется от “лоска” цивилизованности и возвращается к своей истинной природе, простой и чистой.
Но как это сделать? Любой, кто способен прочитать “Дао дэ цзин”, принадлежит к образованной элите (то есть уже “заражен” культурой) – к той самой социальной группе, к которой принадлежат грубияны-отшельники, на страницах “Лунь юй” потешающиеся над Конфуцием. Как можно ученого педанта превратить в человека безыскусного? Может сложиться впечатление, будто Лао-цзы думал, что спасительное влияние оказывает просто изучение его текста. Мы видим намеки на технику, которая станет заметнее в “Чжуан-цзы” и превратится в практику чань(дзэн) – буддистского коана: использование парадоксального языка или экспрессивной поэзии, чтобы сбить с толку. “Если Дао могут высказать, Дао не является незыблемым, – заявляет Лао-цзы, – если могут назвать имя, имя не является незыблемым”. Этот парадокс довершает соображение: “За сокровенным – сокровенное, врата множества чудес”. Мы видим загадку, которая, похоже, не имеет ответа (по крайней мере, в рамках обыденной логики). То же самое можно сказать про дзэнские коаны вроде “Каким было твое лицо до рождения твоих родителей?” или “Что представляет собой звук хлопка одной ладонью?” Эти парадоксы воспринимались дзэн-буддистами как “врата” или “двери” мудрости, потому что человек, сталкиваясь с ними, может вырваться за пределы обыденного мышления. Точно так же мы вправе считать, что “сокровенное”, которое Лао-цзы просит читателей обдумать, должно служить тайным ходом за пределы языка.
Однако дзэн не ограничивался размышлениями над коанами. Они всегда сочетались с той или иной медитативной практикой. Точно так же в “Дао дэ цзин” мы видим намеки на то, что у Лао-цзы был более конкретный рецепт: набор медитативных практик или духовных упражнений. Например, один фрагмент состоит из риторических вопросов:
Возможно ли, сохраняя душу и в объятиях с единым, с ними не расстаться? Возможно ли, как младенцу, сосредоточивать дыхание и быть предельно мягким? Возможно ли избавиться от недостатков, если добиться чистоты и зреть сокровенное?.. Возможно ли без самки открыть или закрыть Небесные врата?
Совершенно неясный текст. Что такое “душа в объятьях с единым”? А “сокровенное”? Как его узреть? Где “Небесные врата” и почему для их открывания нужна “самка”? (Звучит порнографически.) Если коротко: никто не знает, что хотел сказать Лао-цзы, но огромное количество комментариев к фрагменту, а также то, как его позднее воспринимали даосы, предполагает, что речь здесь идет о неких медитативных практиках, дыхательных техниках и, возможно, сексуальных приемах. В первые века нашей эры было много самопровозглашенных даосов, вдохновлявшихся Лао-цзы, которые занимались всем этим, и часто не без помощи галлюциногенных грибов.
Все это имело следующую цель: отключить сознательную психику, чтобы позволить действовать без помех спонтанному “чувственному”. Состояние, которого хотел достичь Лао-цзы, возможно, похоже на то, что в спорте называется “эйфорией бегуна”. Нейробиолог Арне Дитрих написал{118} интересную работу о переходной гипофронтальности: подавлении участков когнитивного контроля в префронтальной коре во время интенсивных физических тренировок. Сильная физическая активность является стрессом для организма, и тело отвечает, временно отключая участки мозга, которые не кажутся необходимыми, – например, энергозатратную префронтальную кору. Получающееся состояние сознания очень похоже на ум в состоянии у-вэй по версии Лао-цзы. Дитрих замечает:
Некоторые феноменологически уникальные черты этого состояния{119}, вроде ощущения отсутствия времени, жизни здесь и сейчас, сниженное восприятие окружающего мира, покой (снижение анализа) и плавность (уменьшение рабочей памяти и внимания), согласуются со снижением функций лобных долей. Даже малопонятные ощущения вроде единства с собой и/или с природой могут стать более эксплицитными, учитывая, что префронтальная кора – это именно та структура, которая позволяет нам разделять, оценивать и анализировать окружающий мир.
Интересно, что тот же паттерн проявляется при употреблении алкоголя, некоторых наркотиков и действительно хорошем сексе. Эти занятия временно отключают сознательную психику, оставляя бессознательное за главного. Когда Лао-цзы говорит о возвращении к состоянию “младенца”, с научной точки зрения это больше, нежели метафора. Медитация, по Лао-цзы, нацелена на отключение именно тех участков мозга, которые развиваются во взрослом возрасте, позволяя взять верх эволюционно более древнему, примитивному мышлению.
В результате получаем ощущение общности с окружающим, без ожиданий и обдумывания. Такая расслабленность приводит к удивительным успехам, как следует ожидать в силу связи у-вэй и дэ. Состояние истинного дэ (“сокровенной добродетели”) олицетворяет гармонию с Небом и Путем, которая дает мудрецу-даосу власть над людьми и животными. Поскольку он не думает о себе, его ценят другие, а поскольку он ничего не хочет, все ему дается.
Премудрый человек не скопидом. Но он все больше обретает, всецело помогая людям, и неизменно богатеет, когда все людям отдает.
Состояние, когда сознательная психика сдерживается и нас ведут моторные программы и низкоуровневые когнитивные системы, описывается так: “Держать в объятьях единое”. Это состояние у-вэй не только приводит к личному успеху, но и умиротворяет тех, кто окружает мудреца. В идеале мудрец, руководствующийся указаниями Лао-цзы, за счет силы своего дэ способен изменить мир к лучшему:
Изогнутое цело, кривое прямо, пустое полно, ветхое ново, в малом обретают, при многом заблуждаются. Поэтому Премудрый человек держит в объятиях единое и в этом выступает образцом для Поднебесной. Себя не видит и поэтому находится в просвете; не считает себя правым и поэтому заметен; не хвастается и поэтому заслужен; не зазнается и поэтому всех старше. Он не соперничает и поэтому никто не может с ним соперничать.
Как и в книге “Лунь юй”, существует политическое преломление этого видения. Дэмудреца настолько могущественно, что влечет к нему других. Естественность мудреца делает{120} окружающих естественными. А конечной целью видится мир без искусственности, лицемерия и неуемных желаний, где люди живут в простоте и в гармонии друг с другом и с природой, где нет нужды рассуждать о морали, поскольку доброта и участие возникают спонтанно, без усилий.
Как пожелать не желать?
Этот прекрасный образ всегда способствовал популярности “Дао дэ цзин”. Это вторая после Библии книга по числу переводов. Она оказала существенное влияние на западную культуру, особенно в последние десятилетия. Звучащее в ней недоверие к книжному знанию и социальным нормам, а также призыв к радикальному опрощению (поближе к земле и подальше от искушений города) сделали ее одним из главных источников вдохновения для контркультуры 60-х годов. Рискну предположить, что перед этой книгой было возожжено больше косяков и благовонных палочек, чем перед любой другой книгой в истории. И трудно устоять против пронизывающих текст восхищения перед естественностью и подозрительности к лицемерию. Кто бы не хотел жить в гармонии с вселенной?
Однако нельзя отрицать, что большинство хиппи 60–70-х годов променяло свои коммуны на компьютерные стартапы, а одежду из конопляных волокон – на “Банана рипаблик”. Как и большинство западных контркультурных движений (от немецкого романтизма до современных отделений культурной антропологии), авторы “Дао дэ цзин” верят в “золотой век”, когда люди жили в идеальной неосознаваемой гармонии с природой. Нечто похожее мы видим в современных работах о спонтанности. Так, Михай и Изабелла Чиксентмихайи пишут: “Разумно было бы предположить{121}, что в примитивных культурах, которые оказывались хорошо приспособлены к окружающему миру, люди пребывали в «потоке» большую часть времени, так как они не знали иного образа жизни, иных возможностей. В таких идеальных сообществах… выбор был самоочевиден, а сомнения и неисполненные желания – редки и преходящи”. Они цитируют антропологическое исследование, посвященное жизни индейцев Тихоокеанского побережья США, чтобы показать образ жизни, очень похожий на жизнь “благородного дикаря”{122}.
Основная проблема мифа о “благородном дикаре” заключается в том, что это просто миф. Хотя образ по ряду причин дожил до наших дней, он удивительно мало соответствует действительности. Якобы мирным и гармоничным аборигенным культурам были свойственны жестокие войны (сопровождающиеся геноцидом и порабощением пленных) и общественное расслоение{123}. У людей из первобытных доземледельческих общин, наверное, было больше свободного времени, они имели лучшее пищеварение, осанку и зрение по сравнению с нами, одомашненными поедателями отрубей, – но при этом в их жизни было столько недоедания, болезней и насилия{124}, что нельзя не ужаснуться. Ответ на вопрос, почему это так (и почему большая доля контркультурных движений сходит со сцены, оставляя ее потребительскому капитализму), может помочь нам понять ограниченность у-вэй по Лао-цзы.
Лучший способ осознать изъяны его стратегии – рассмотреть два противоречия. Первое относится к изображению в “Дао дэ цзин” природы человека. Автор (или авторы) текста утверждает, что для того, чтобы “вернуться” к естественности, людей должно стать гораздо меньше:
В небольшом и малолюдном государстве способствовать тому, чтобы таланты не использовались, даже если бы их было в десять, сто раз больше, чем обычно, и побуждать народ из почтения к смерти не ездить далеко. Появись там лодки и повозки, им не нашлось бы места для использования, появись там даже латы и оружие, их негде было бы расположить. Пусть люди снова бы завязывали на веревках узелки вместо письма и было бы им сладко есть, прекрасно одеваться, удобно жить и радостно изведывать свои обычаи. Со страною по соседству друг на друга бы глядели издалека и слушали бы друг у друга лай собак и крики петухов, но меж собою не общались бы до самой старости и смерти.
Это до странности похоже на гипотетическое общество Чиксентмихайи. “Узелки” – это способ ведения записей, который, по легендам, существовал в Китае в дописьменный период, и это позволяет понять, насколько далеко хочет увести нас Лао-цзы. Нам нужно отказаться не только от волов, запряженных в плуг, но и от грамотности. Странновато, что текст утверждает, будто писать – плохо, но книгу “Дао дэ цзин” якобы предполагалось “по прочтении уничтожить”. Вы прочитали ее, ваш ум очистился, и теперь вы можете провести остаток жизни счастливо, приняв безыскусное.
Но остается вопрос: если естественно быть безыскусным и если все, что нам нужно, это вернуться к себе, то зачем нужна книга, советующая поступить так? То, что она нужна нам, предполагает, что, возможно, жить в простоте не так уж естественно. То, что идеальный правитель должен “способствовать” тому, чтобы крестьяне не использовали орудия труда и не путешествовали, предполагает, что они изначально настроены делать и то, и другое, и даже больше.
Можно отбросить это противоречие как неточное понимание антропологии или психологии. Однако оно связано с похожей, куда более глубокой проблемой: как стараться не стараться. “Дао дэ цзин” пестрит предостережениями о вреде старания. Так, тот, кто старается оказать влияние на мир, обречен на поражение:
Кто вознамерится взять Поднебесную и ею заниматься, на мой взгляд, это ему не удастся. Поднебесная – чаша душевная, и сформовать ее нельзя. Формуя, ее только портят, владея же, утрачивают.
В то же самое время текст призывает нас “заниматься делом недеяния” и улавливать “образ” Дао, чтобы мы могли контролировать мир и избежать цикла возвращения. Более того, книга обещает, что если мы перестанем стараться, то достигнем успеха. Мудрец “не делает ни шагу, а все знает, он прозревает в то, чего не видит, и добивается успеха, находясь в бездействии”.
Есть и другие фрагменты, где мы сталкиваемся с грубым “инструментальным” мышлением, замаскированным под мистику. “Моря и реки потому способны царствовать над горными потоками, что умеют быть внизу, – начинается один из таких отрывков. – Только поэтому они способны царствовать над горными потоками”. Это отсылка к распространенному в древнекитайских текстах мотиву: реки и моря, ниже которых нет в мире, “правят” над долинами. И вот урок, который могут извлечь люди:
И при желании подняться над народом следует словесно перед ним принизиться, при желании быть впереди народа следует поставить себя сзади его. Именно поэтому, когда Премудрый человек встает над всеми, народу он не делается в тягость; когда он пребывает впереди, народу не наносится вреда. Все в Поднебесной с радостью его выдвигают и им не пресыщаются. А так как сам он не соперничает, никто и не способен с ним соперничать.
В подобных отрывках наиболее заметен “инструментальный” подход автора или авторов “Дао дэ цзин”. Советы кажутся практичными и отчасти циничными. И не случайно здесь же становится наиболее заметен парадокс у-вэй. Мы видим инструкцию, как подделать у-вэй: казаться ценящим слабость, чтобы приобрести силу, и казаться скромным, чтобы люди не возражали, когда ты нацепишь корону.
Интересно, что эта проблема похожа на противоречие, которое (как описывают Михай и Изабелла Чиксентмихайи) возникает при защите концепции “потока”: “Большую часть людей не интересует{125} то, что «поток» дает оптимальный субъективный опыт, но их интерес немедленно возрастает при любом упоминании о том, что «поток» может улучшить качество работы. Если его можно продемонстрировать на примере фулбэка, который играет жестче, пребывая в «потоке», или инженера, который создает более качественный продукт, находясь в «потоке», люди немедленно принимают эту концепцию и начинают ее ценить. Разумеется, это сводит на нет самостоятельную ценность такого опыта”. Авторы приходят к выводу, что “возможно, лучше преуменьшить” связь между “потоком” и эффективностью.
Их мнение было неприемлемо для Лао-цзы, поскольку он был уверен, что, должным образом оценив слабость и скромность, можно стать сильным и влиятельным. Привлекательность текста в том, что описываемый тип у-вэй эффективен. Более того, “Дао дэ цзин” часто использовали в откровенно “инструментальных” целях. Учение Лао-цзы вдохновило Сунь-цзы: в его “Искусстве войны” показано, как притвориться слабым, то есть предпринять тактическое отступление, чтобы заманить врага в ловушку и устранить его. Так называемые мягкие боевые искусства основываются на принципе: уклоняйся, будь “слабым”, обрати пыл противника против него самого и врежь ему по затылку, когда он проскочит мимо.
“Инструментальное” прочтение у-вэй, вероятно, противоречит духу текста. У Лао-цзы у-вэй работает, только если вы искренни: вы можете приобрести силу, лишь если в определенном смысле не желаете ее. Как и в случае “Бесед и суждений”, нам нужно пересмотреть свои основные ценности, а не только поведение. В “Дао дэ цзин” есть прекрасное описание того, каково это – жить без активной системы когнитивного контроля. Здесь способность поддерживать такое состояние связывается со следованием определенным ценностям:
Не ведаешь заботы, когда перестаешь учиться. Как мала разница между словами “да” и “ладно”! И как же связаны между собой прекрасное и безобразное! Чего страшатся люди, не может не страшить. Какое запустение! Нет этому конца! Толпа находится в веселье, словно на пиру или на празднике весны. Один я только пребываю безучастным и ни в чем себя не проявляю, как новорожденный, который еще не научился улыбаться. Я выгляжу понурым как бездомный. В толпе у каждого имеется какой-либо излишек, и лишь у одного меня – словно все утеряно. Какое сердце у меня, глупца! В нем столько безрассудности! Обыденные люди отличаются понятливостью, один я только ничего не смыслю. Обыденные люди дотошно во всем разбираются, один только я остаюсь невеждой. Какое у меня спокойствие! Оно напоминает океан. Несусь как ветер в вышине! Словно не могу нигде остановиться! Каждый из толпы находит себе применение, один я являюсь ни на что не годным неучем. В отличие от остальных людей, я дорожу лишь тем, чтобы меня кормила грудью мать.
Но упор на принятие определенных ценностей лишь делает очевиднее противоречие, связанное с достижением у-вэй. Чтобы искренне пребывать в состоянии у-вэй, нужно изменить желания. Нужно искреннее ценить, чтобы “кормила грудью мать”: придерживаться слабости, темноты и незнания и так оставаться в гармонии с Путем природы. Нужно желать не желать.
Так что здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в “Лунь юй”: нас просят любить нечто, что мы еще не любим, и ценить нечто, что мы еще не ценим. По Лао-цзы, единственный способ извлечь выгоду из у-вэй – искренне не желать ее. Но как это возможно?
Эту проблему ясно видел последователь Конфуция по имени Мэн-цзы. Считая, что примитивизм Лао-цзы порочен, Мэн-цзы концентрируется на образе человеческой натуры в “Дао дэ цзин”. То, что люди ценят облегчающие их труд приспособления, роскошь, искусность, путешествия, означает, что во всем этом есть нечто естественное, по крайней мере в разумных пределах. Мэн-цзы считал, что нашел способ обойти парадоксы “Лунь юй” и “Дао дэ цзин”: достижение у-вэй не требует любви к тому, что мы еще не любим, и искреннего принятия совершенно новой системы ценностей. По Мэн-цзы, все мы до определенной степени уже в состоянии у-вэй. Нужно лишь осознать это .
Глава 5 Старайся, но не слишком: о пестовании ростков морали
В период Борющихся царств потерпевшим поражение представителям династии Шан было позволено укрыться в царстве Сун. Возможно, из-за ассоциаций с этой неудачей “человек из Сун”, глупец и неумеха, в текстах того времени стал мишенью для насмешек. Кажется, впервые этот персонаж появляется в книге “Мэн-цзы”:
Среди жителей владения Сун был такой, который возымел печаль по поводу того, что его всходы на поле не растут. Он начал подтягивать их руками из земли. Вернувшись домой сам не свой от таких усилий, он сказал своим домашним людям: “Ну и намаялся же я сегодня! Я помогал всходам расти!” Сын его побежал в поле разглядывать ростки, а они все завяли.
Так появилась китайская поговорка, которая описывает усилие, ведущее к прямо противоположному результату: “Тянуть ростки, помогая им расти”. Мэн-цзы хотел этим показать путь достижения состояния у-вэй: “Нужно работать над этим, но не через силу. Не уподобляйтесь человеку из Сун!” Очевидно, у него были две мишени: те люди, которые слишком стараются, и те, которые не стараются вообще: “Но пользы всходам не только не приносят, а губят их как те, кто не пропалывает их, полагая, что в этом нет пользы, и оставляет их на произвол судьбы, так и те, кто подтягивает руками ростки из земли, якобы помогая этим их росту”.
Мэн-цзы провозгласил себя последователем Конфуция и считал долгом защищать конфуцианство от философов-конкурентов. Первыми были примитивисты – последователи Лао-цзы, воспринимавшие у-вэй буквально как “недеяние”: отрицая культуру и самосовершенствование, они “не пропалывали всходы”. Второй угрозой являлись моисты, “подтягивающие ростки”: они полностью отрицали у-вэй и отстаивали совершенно рациональную модель этики (вполне уместную на современном нам Западе). “Земледельческую” модель нравственного совершенствования Мэн-цзы, которая совмещает необходимость усилий с идеалом естественности, можно считать ответом обеим названным школам. Попутно она решает проблемы стратегий достижения у-вэй и Конфуция, и Лао-цзы.
Хотя Мэн-цзы во всеуслышание объявлял о своей приверженности конфуцианству, он находился под таким сильным впечатлением от воспевания Лао-цзы “естественности”, что сильно изменил конфуцианскую мысль. Поэтому мы рассматриваем его отдельно{126}, а не вместе с Конфуцием и Сюнь-цзы. Мэн-цзы, верный конфуцианским ценностям и в то же время увлеченный той идеей, что у-вэй проистекает из наших наклонностей, а не навязывается извне, предложил уникальную версию конфуцианства, которая кажется довольно привлекательной и сейчас. Мэн-цзы пытался примирить традиционализм Конфуция и Сюнь-цзы с радикальным примитивизмом Лао-цзы. Отвечая мыслителям, которые утверждали, что единственным ответом на социальный хаос периода Борющихся царств может быть следование каждым человеком строгому рационалистическому моральному кодексу, Мэн-цзы заявлял, что правильным выходом является конфуцианский упор на у-вэй. Нам действительно нужно взращивать мораль, но любая жизнеспособная модель нравственного воспитания должна быть основана на телесной спонтанности. Чтобы вести себя нравственно, нужно стараться, но не слишком, и это в каком-то смысле не противоречит наклонностям. Вы точно не хотите подтягивать собственные всходы.
Против рационализма: одним только рассудком не обойтись
Моисты – представители направления, основанного Мо-цзы, – разделяли обеспокоенность Конфуция нравственным хаосом своей эпохи, однако не проявляли энтузиазма относительно акцента на эмоциональном обучении и приверженности традиционным культурным формам. С их точки зрения, эта стратегия вела к затуманиванию ума, кумовству и коррупции, не говоря уже об огромных зря потраченных деньгах и времени. Они призывали к радикальной реорганизации общества{127} на абсолютно рациональных основаниях (максимизация благосостояния, населения и порядка в государстве). Сложные ритуалы и дорогие музыкальные выступления, лежащие в основе конфуцианской практики, должны быть упразднены: они забирают здоровых молодых людей с полей и из мастерских, где те могли бы делать что-нибудь действительно полезное. Сыновняя почтительность должна быть переосмыслена и направлена с собственных родителей на всех родителей в стране. И никакого фаворитизма!
Моистское нравственное “обучение” (насколько здесь уместно это слово) состояло в усвоении одного-единственного принципа: как определить последствия поступка и вычислить, приведут ли эти последствия к умножению благосостояния, населения и порядка в государстве. Если ответ отрицательный, значит, поступок дурной. Моральный выбор, таким образом, существенно упрощался. Никакого больше пестования{128} длиною в жизнь нравственного чутья! Этот конфуцианский подход, с точки зрения Мо-цзы, был элитаристским и приводил к злоупотреблениям. Моральный выбор должен быть беспристрастным, как решение простого уравнения. Взвесь положительные и отрицательные стороны, оцени последствия и действуй в зависимости от результата.
Предположим, что ваш отец умер. Быстрая эмоциональная реакция требует почтить его память долгим трауром и устроить роскошные похороны. Увеличит ли благосостояние, население и порядок в стране ваше уклонение от работы и затраты на гроб, участок земли и все прочее? Конечно нет: производительность вашего труда снизится, а материальные ресурсы будут потрачены без нужды. Следовательно, похороните отца в простой могиле без таблички и возвращайтесь к работе. Это будет противоречить вашим эмоциональным порывам, но лишь потому, что ваши эмоции беспорядочны и эгоистичны. Общественный порядок требует, чтобы они были подавлены.
Эта, пусть безжалостная, модель (сейчас называемая утилитаризмом или консеквенциализмом) сохранилась по сей день и, более того, стала одной из доминирующих в современной западной этике. Нынешние версии утилитаризма немного менее странные, потому что обычно ориентированы на максимизацию вещей (например удовлетворенности или избавления от страданий), которые интуитивно привлекательнее критериев Мо-цзы (благосостояние, население и порядок в стране). Тем не менее и современный утилитаризм временами требует такого, что, будучи безупречно оправдано рационально, противоречит тому, что мы считаем нормальными эмоциональными реакциями. Так, Питер Сингер (наверное, самый известный современный философ-утилитарист) заключил, среди прочего, что эвтаназия увечных младенцев в некоторых случаях оправдана и что, пока мировой уровень бедности остается в пределах современных значений, аморально не отказываться{129} в пользу бедных от своего дохода сверх необходимого для поддержания минимального уровня благосостояния.
Выводы Сингера поражают (особенно нефилософов) как выбивающиеся из нормальной человеческой психологии. Хотя мы можем рациональным путем убедить себя, что трудно оправдать покупку своему пятилетнему ребенку велосипеда, когда в мире миллионы пятилетних детей, которым не хватает пищи, население развитых стран продолжает покупать детские велосипеды. Более того, хотя мы, как правило, восхищаемся праведниками вроде матери Терезы, отдающими другим все, большинство уважает таких людей издалека. В доведенном до крайности альтруизме есть нечто нечеловеческое, и мы не требуем его ни от себя, ни от друзей.
На замечание, что полностью рациональный утилитаризм противоречит нормальной человеческой психологии, Сингер отвечает: тем хуже для психологии. Человеческую натуру необходимо преодолеть, а не искать ей оправдание. Мо-цзы примерно то же отвечал утверждавшим, будто его учение нереалистично. Контраргументом Мэн-цзы был следующий: психологический реализм совершенно необходим. Если ваша модель нравственного поведения требует от людей нечто, что они в реальности делать не могут, это серьезная проблема. Начнем с того, что существует проблема праведности. Если я скажу, что для того, чтобы быть нравственным, нужно отдавать большую часть своего жалованья или бросить работу и посвятить жизнь заботе о бедняках, то вы, скорее всего, откажетесь от нравственности. Если слишком рьяно подтягивать ростки, они засохнут. Мэн-цзы был уверен, что пытающимся добиться нравственного сдвига нужно указать понятный и доступный путь к нему.
Мэн-цзы назвал этот путь “четырьмя ростками” или “четырьмя началами”. Как эти начала ощущаются психологически, мы можем понять, обратившись к мысленному эксперименту:
Вот представим себе [теперь], что люди вдруг заметили маленького ребенка, который готов упасть в колодец. У всех сразу же замрет сердце от страха и сострадания, но не потому, что они собираются завязать дружбу с родителями маленького ребенка; не потому также, чтобы заслужить похвалу у своих сородичей и друзей, – с ними случится так не от того, что крик ребенка для них противен.
Если судить так, то выходит, что все, не испытывающие чувства сострадания, не являются людьми; все, не имеющие стыда за злодеяние, не являются людьми; все, не имеющие чувства правдивости, не являются людьми.
Это “чувство сострадания”, объясняет Мэн-цзы, есть росток, который, если о нем правильно заботиться, превратится в истинные человеколюбие и милосердие. Другой росток – “стыд за злодеяние” – служит началом справедливости: “Представь себе, что ты будешь жить, если получишь одну плетушку каши и один горшок мясного отвара, а если не получишь, то умрешь. Люди, идущие по пути истины, все же не примут еду, если им дадут ее с грубым окриком; люди, просящие милостыню, не обратят на еду никакого внимания, если ее дадут им с пинком ноги”. Мэн-цзы утверждал: не важно, насколько мы бедны. Есть вещи, которые мы просто не будем делать. Праведное негодование заставит нас отказаться от кажущегося недостойным предложения, даже если оно может спасти нам жизнь. Росткам сострадания и справедливости сопутствуют “чувство почтительности” (начало учтивости) и “чувство правдивости” (начало мудрости). Эти четыре добродетели при жизни Мэн-цзы являлись четырьмя основными конфуцианскими добродетелями и представляли все добродетели в целом. Согласно Мэн-цзы, все люди обладают ими наряду с “четырьмя членами”, которыми снабдило нас Небо. Развивать их – значит служить Небу, отрицать – значит забросить дар Неба.
Пробравшись сквозь теологические построения Мэн-цзы, мы можем с научной точки зрения найти{130} подтверждение его основным постулатам. Начнем с того, что эволюционная биология и когнитивные науки предоставили множество доказательств того, что есть врожденное нравственное чувство, причем не только у людей. Большая часть этих работ посвящена эмпатии: основном инстинкте млекопитающих, лежащем в основе общественного сотрудничества. У людей и других приматов она, судя по всему, задействует систему зеркальных нейронов{131}, которые порождают нечто вроде сенсомоторного резонанса, когда мы наблюдаем или просто думаем о чужом поведении. Когда вы вздрагиваете, видя, что кто-нибудь порезался, – это работа зеркальных нейронов. Признанная современная теория гласит, что именно эмпатия, работающая за счет зеркальных нейронов, отвечает за сострадание и сочувствие.
Мэн-цзы не знал о ФМРТ, но сцена “ребенок и колодец” прекрасно отражает этот процесс. Когда мы видим ребенка, который может упасть в колодец, наши зеркальные нейроны вспыхивают, позволяя ощутить тот же страх, что и ребенок, и это, в свою очередь, немедленно включает эмпатию. У нормального человека это прямо приводит к состраданию: мы без раздумий бросаемся спасать ребенка. Это исследование также объясняет сбои эмпатии. Существует множество доказательств, что психопатия связана{132} с недостатком зеркальных нейронов и недостаточным развитием отвечающих за эмоции участков мозга. Точно так же попытки правительств или политических лидеров уменьшить сочувствие к определенной группе – врагам племени или притесняемому меньшинству – обычно сосредотачиваются на подавлении эмпатии с помощью изображения жертв вредителями, микробами, не заслуживающими сочувствия.
“Стыд за злодеяние” и “праведное негодование” находят параллели в современной науке и служат еще одним доказательством того, что при общественном сотрудничестве рациональность не является ведущим фактором. Вспомните экономическую игру “Ультиматум”. Вам предлагают 100 долларов, которые вы должны разделить с другим человеком. Сколько именно денег предложить партнеру, вы решаете сами, но если он скажет “нет”, денег не получит никто. Есть лишь одна чисто рациональная стратегия: вы оставляете себе 99 долларов 99 центов и предлагаете партнеру 1 цент, а тот должен согласиться, поскольку в итоге вы оба поправите свое финансовое положение. В реальности же никто не предлагает так мало (а что вы бы сделали?), и партнер обычно с негодованием отвергает сделку, которая кажется ему несправедливой (обычно если предлагают менее 20-30% суммы{133}). Нейровизуализация мозга игроков{134} в “Ультиматум” показывает, что к отказу от несправедливых предложений приводит сильная эмоция. Другие исследования указывают, что такое поведение в игре может иметь генетическую основу{135} и праведное негодование может быть частью нашего психологического устройства, обусловленного эволюцией.
Как и сострадание, эта черта присуща не только людям. Обезьяны-капуцины отказываются{136} от пищи (хочется сказать – из-за ощущения несправедливости), если видят, что другая обезьяна получает больше огурцов, чем заслуживает. Мэн-цзы, возможно, преувеличивает силу этой эмоции, поскольку неясно, действительно ли большинство людей предпочтет голодную смерть бесчестью. Однако мысль, что у людей есть “росток” справедливости, кажется убедительной. То, как два других ростка (начало мудрости и учтивости) накладываются на аспекты психологии морали, менее понятно. При этом люди явно испытывают другие нравственные эмоции, например ощущение чистоты{137}, происходящее, вероятно, от реакций отвращения.
В общем, взгляд Мэн-цзы становится популярным у психологов. Выше мы говорили о том, что бессознательное, “чувственное” (эмоции, привычки и так далее) обычно сильнее влияет на наше поведение, чем “рассудочное”. В философии этому соответствует растущее признание (по крайней мере у философов, которые покидают иногда кабинет), что моральные суждения обусловлены эмоциями куда в большей степени, чем кажется. Неоюмисты{138} – группа молодых философов с интересом к психологии – обратились к наследию Давида Юма: мыслителя эпохи Просвещения, который, оставаясь в меньшинстве, призывал отдать должное эмоциям. Джонатан Хайдт и другие современные ученые показали, что моральные суждения – результат чувственных, быстрых, интуитивных реакций на социальные ситуации. Люди впоследствии предлагали рациональные обоснования своих решений, но правильные экспериментальные манипуляции показали, что обычно они приходят потом – рациональный “хвост” виляет эмоциональной “собакой”{139}.
И даже то, что мы можем четко отделить рациональное от эмоционального, сейчас вызывает сомнение. Особенно интересна в этом отношении революционная работа нейробиолога Антонью Дамазью, который изучал пациентов с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры{140} (ВМПК) головного мозга. Она является центром обработки эмоций, в особенности сложных выученных эмоций. Пациенты Дамазью пострадали при несчастных случаях или от инсульта. Они получили локальные повреждения ВМПК, сохранив при этом способность мыслить рационально, то есть утратили чувственное, но не рассудочное мышление. Несмотря на затруднения с обработкой эмоций, у них не было проблем, когда речь шла о запоминании, абстрактном мышлении, математике или тестах Айзенка (IQ). Тем не менее они были почти не способны к нормальной жизни. Когда доходило до принятия обыденных решений, они оказывались удивительно неумелыми, почти не способными сделать простой выбор или учесть последствия своих поступков.
Дамазью и его коллеги пришли к выводу, что пациенты утратили соматические маркеры: бессознательное присваивание эмоциональной ценности, которое обычно сопутствует нашим представлениям о мире. Согласно Дамазью, ментальные образы мира – людей, мест, предметов – пронизаны ощущением хорошего и плохого, срочности и несрочности, исходящим от чувственного эмоционального мышления, и эти чувства играют ключевую роль в обычном принятии решений. Это потому, что в любой ситуации число теоретически возможных вариантов образа действия почти бесконечно. Если совместить это с ограниченными возможностями сознательной психики, то мы получаем проблему. Оставаясь без помощи “горячего” восприятия, “холодное” оказывается парализованным обилием вариантов. Следовательно, “горячее” восприятие обычно ассистирует “холодному”, заранее направляя мышление, обычно бессознательно, с помощью соматических маркеров. Однако пациенты с повреждениями ВМПК лишены этих ориентиров и живут в мире, где любой вариант кажется ничуть не лучше и не хуже всех прочих.
Показательно, что такие пациенты – прекрасные философы-рационалисты. Если предложить им намеренно упрощенную моральную дилемму, они превосходно совершают подсчеты или следуют правилам. Однако в реальности все куда сложнее. Лишившись “фильтра” соматических маркеров, эти люди оказываются парализованными нерешительностью или выбирают вариант поведения наугад. В некотором отношении они – участники контролируемого эксперимента, показывающего, что рационалистская модель этики вызывающе неполноценна: у этих людей есть все, что нужно нравственному человеку с точки зрения Мо-цзы или Питера Сингера (прекрасно работающий рассудок), и все же они далеко не те, кого{141} мы сочтем морально ответственными людьми.
Сознательная психика, не подкрепленная мудростью тела, удивительно мало умеет. Дамазью называет “ошибкой Декарта” идею последнего, будто нравственность (или любой другой аспект человеческого поведения) может управляться одним лишь бесплотным разумом. Мо-цзы совершил ту же ошибку. Нравственность в реальном мире спонтанна, естественна и чувственна. Нельзя просто прийти к рациональному решению, что делать нечто – правильно, и потом заставить свое тело это сделать. Это неэффективно на уровне индивида и нежизнеспособно на уровне общества. Реалистичная модель нравственного поведения должна проистекать из телесного ума – из у-вэй.
Это не исключает необходимости обучения и наставления. Как мы уже обсуждали, бессознательное можно научить. Мы не рождаемся со знанием, как ездить на мотоцикле или водить машину. Точно так же (хотя мы, скорее всего, рождаемся с некоторым нравственным чувством) поведение обычного трехлетнего ребенка показывает, что необходимы обучение и практика, чтобы он стал взрослым человеком. В этом суть критики Мэн-цзы: нельзя навязать мораль, как делают моисты, “подтягивающие ростки”, но нельзя и просто сидеть, слушая соло Джерри Гарсии и надеясь, что социально желательное поведение волшебным образом возникнет само.
Против примитивистов: возделывание сада нравственности
В какой-то момент мы встречаем Мэн-цзы в небольшом государстве Тэн, правитель которого, Вэнь-гун, организовал свободный “экспертный центр” для мыслителей разных школ. Среди них оказывается группа примитивистов, поклонявшихся Божественному Пахарю. Они вдохновляются учениями в духе Лао-цзы, ведут сельский образ жизни, предпочитают несложные технологии, отстаивают рудиментарную экономическую систему и полное социальное равенство (утверждая, кроме прочего, что правители должны возделывать землю, как и их подданные).
Один из примитивистов подходит к Мэн-цзы, чтобы рассказать о своем учении, и натыкается на стену насмешек. Мэн-цзы расправляется с довольно поверхностными представлениями этих людей об экономике и утверждает, что лишь конфуцианская культура смогла избавить людей от грубой и несчастливой жизни. Он заключает: “Мне приходилось слышать, что птицы переселяются из темных ущелий на высокие деревья, но еще не доводилось слышать, чтоб они спускались с высоких деревьев и проникали в темные ущелья”. Было бы неправильно отказаться от преимуществ цивилизованного общества, чтобы вернуться к примитивной жизни, так глупо восхваляемому автором или авторами “Дао дэ цзин”.
У Лао-цзы доминирующая метафора естественности, безыскусности – необработанный кусок дерева. Мэн-цзы заменяет этот статичный образ динамичным: природа подобна ростку, который сам хочет расти в определенном направлении, ему просто нужно помочь. Примитивное бездействие, которое прославляет Лао-цзы, не является настоящей естественностью: оно подавляет наклонности человека. Мэн-цзы хотел возделанной естественности, а не первобытной природы. Для него, как и для Конфуция, любое годное состояние у-вэй требовало усилий и тренировки. Разница в том, что Мэн-цзы считал, что все мы в душе обладаем четырьмя ростками нравственного у-вэй. Хотя после рождения мы не безусловно добры, мы все же склонны к добру, как ростки пшеницы способны стать взрослыми растениями, если создать правильные условия и обеспечить им уход. Чтобы быть непринужденно добрым, нужно развить эти наклонности под руководством мудрого учителя, играющего роль знающего земледельца. Нужно в правильное время добавлять удобрения, по необходимости пропалывать и обеспечивать регулярный полив.
Вспомните историю про ребенка и колодец. Рассказывая об этом мысленном эксперименте, Мэн-цзы уже начинает возделывание. Он предлагает представить эту сцену и проанализировать нашу эмоциональную реакцию. Будет ли нас беспокоить наша репутация? Нет. Будем ли мы беспокоиться, что крик ребенка станет нас раздражать? Нет. Что мы почувствуем? Чистое сострадание, тревогу и эмпатию. Это первое задание земледельца у-вэй: выделить ростки добродетели и научиться отличать их от сорняков. Далее нужно помочь им расти. Иными словами, опознав стремление к у-вэй, которого мы хотим добиться, нужно сосредоточиться на нем, усиливать и углублять его.
То, как конкретно это происходит, показано в выдающемся диалоге Мэн-цзы и князя Сюань-вана. Сюань-ван из Ци был тираном. Его подданные жили в постоянном страхе, страдая от непосильных податей, несправедливого суда, произвольных трудовых повинностей и рекрутчины. Мэн-цзы прибыл к его двору, чтобы попытаться исправить поведение князя, и рассказывал ему об обязанностях истинного конфуцианского правителя. Оба понимали, что, несмотря на титул, Сюань очень далек от этого идеала. Мэн-цзы не преуспел. Последним аргументом Сюань-вана стало то, что он просто не способен быть добрым. Его вообще не заботит жизнь простых людей. Его склонности порочны, и он ничего не может сделать, чтобы это изменить. Ему нравится умножать свою славу в войнах с соседями, охотиться и пировать. Мэн-цзы ответил историей, которую услышал от одного из министров князя. Однажды, как говорил министр, быка вели на заклание, чтобы кровью освятить новый колокол. Князь якобы заявил, что не может вынести ужаса животного – его трепета, словно у невиновного, которого ведут на казнь, – и приказал заменить быка бараном.
Тогда Мэн-цзы сказал:
– Такого сердца вполне достаточно, чтоб быть ваном. В народе все считают, что вам приглянулся бык, но ваш покорный слуга твердо знает, чего вы, ван, не вынесли.
Ван ответил:
– Да, в народе наверняка есть такие, которые так считают. Мое владение Ци хоть маленькое и ничтожное, но чего мне зариться на какого-то быка? Я действительно заменил его на барана только потому, что не смог вынести его трепета, словно у невиновного, которого ведут на место казни!
Мэн-цзы указывает: простых людей нельзя винить за то, что они плохо думают о князе: если его беспокоили страдания животного, то какая разница между убийством быка и барана? Князь признает, что Мэн-цзы прав. “Скажи по правде, какое же у меня сердце? Я ведь не из любви к такому богатству, как бык, заменил его на барана. Подобает ли, чтобы народ называл меня любящим богатство?” – интересуется он. Мэн-цзы отвечает:
Это не повредит вам: таков должен быть у вас способ проявлять гуманность. Вы видели быка, но не представили себе барана. Добропорядочные мужи по отношению к зверям и птицам держат себя так: когда те живы, они любуются ими, но когда тех умерщвляют, они не выносят этого зрелища. Слыша их вопли, добропорядочные мужи не в силах вкушать их мясо. Потому-то эти мужи стараются быть подальше от боен и кухонь.
Ван обрадовался и сказал:
– Это о тебе, мудрец, сказано в Стихах: “Угадываю о том, что у другого на сердце”. Но если бы я занялся угадыванием, мне все равно не удалось бы разгадать даже свои веления сердца, как бы я ни выворачивался наизнанку. Когда ты заговорил о моем сердце, оно так и забилось во мне.
Здесь мы видим Мэн-цзы в роли психоаналитика. Он позволяет князю уяснить собственную мотивацию, которая прежде не была ясна не только подданным, но и князю. Так он заставляет князя признать, что у того есть “начало сострадания”, пусть он и не замечал его в себе.
Учтя этот факт, князь все же сопротивляется. Какое отношение мимолетное сочувствие к животному имеет к способности быть настоящим правителем? Мэн-цзы выдвигает последний аргумент:
Дозволите ли вы кому-либо доложить вам о себе так: “У меня достаточно сил, чтобы поднять груз весом в сто цзюнь, но не хватит сил на то, чтоб поднять перышко” или “у меня хватит зрения на то, чтоб разглядеть кончик осенней паутинки, но его недостаточно, чтобы разглядеть воз хвороста?” Ван ответил:
– Нет! Не дозволил бы. Тогда Мэн-цзы спросил:
– Почему же в данное время у вас, ван, достаточно милосердия, чтобы распространить его на птиц и зверей, между тем действие такого милосердия вы не доводите до вашего народа? В таком случае и перышко не поднимет тот, кто для этого не приложит никаких сил; воз хвороста не приметит тот, кто для этого не воспользуется зрением. Вот и народ не получит защиты, если для этого не будет использовано милосердие ваше. Следовательно, бесправие вана не в том, что он не может действовать, а в том, что он не действует.
Сочувствие к быку доказывает, что у князя есть эмоциональный потенциал для того, чтобы стать праведным правителем. Все, что ему нужно, – развивать этот потенциал, чтобы достигнуть правильного объекта сочувствия: простых людей. Это можно сделать, сочетая самоанализ, тренировки и воображение.
Князь должен обдумывать, что он чувствует, когда видит испуганного быка, размышлять об этом, чтобы оценить, что чувствует разумное существо при виде страдания. Потом, как замечает Мэн-цзы, князю стоит поработать над тем, чтобы это чувство (сострадание к быку) применить к другим (к народу). Мэн-цзы предлагает расширять круг сострадания, начиная с семейных чувств. Сосредоточьтесь на уважении к старшим членам семьи, говорит он князю, и желании заботиться о своих детях. Усиливайте эти чувства, размышляя о них и руководствуясь ими на практике. Сочувствие начинается дома. Потом, когда вы научитесь, попробуйте распространить этот подход на стариков и детей из другихсемей. Мы можем представить, что князь начнет с семей ближайших сподвижников, с которыми ему проще всего себя соотнести, а потом будет двигаться ко все более далеким людям, пока не обнаружит себя способным заботиться о простолюдинах. “Следовательно, чтобы охранять всю землю, омываемую четырьмя морями, достаточно распространить милосердие, – заключает Мэн-цзы, – без распространения милосердия нечем будет оберегать даже свою жену и детей. С древности повелось, что люди намного превосходят других ничем иным, как умелым распространением своей деятельности, вот и все”.
С точки зрения Мэн-цзы, взращивание у-вэй основано на чувстве и воображении, а не на абстрактном разуме и рациональных аргументах, и современная наука c этим во многом согласна. Тот факт, что воображение эффективнее абстрактного мышления, когда дело доходит до изменения поведения людей, является прямым следствием завязанной на действие природы нашего воплощенного разума. Так, многие исследователи соглашаются, что мысль порождается и определяется сенсомоторным ощущением мира. Иными словами, мы мыслим образами. Это не обязательно картинки. Образ может быть ощущением, которое испытываешь, поднимая тяжелый предмет или шлепая по глубокой грязи.
Основным качеством этого образа является то, что он аналоговый, а не цифровой. Чтобы уяснить разницу, обратимся к звукозаписи. Я познакомился с ней через грампластинки на сорок пять оборотов. Потом перешел к полноразмерным пластинкам и кассетам Stereo 8 (отлично помню свою первую – Goodbye Yellow Brick Road Элтона Джона, – которую слушал, пока она не сломалась). Это аналоговые технологии: Элтон Джон играл в студии, а записывающее устройство более или менее непосредственно заставляло звуковые волны отпечататься на физическом носителе. Аналоговая природа записи означала, что та связана со своим носителем, потому что единственным способом перенести музыку, например, с пластинки на кассету было позволить аналоговому сигналу с виниловой пластинки породить аналоговый сигнал на магнитной ленте. В некотором смысле аналоговые записи всегда прямо связаны с событием, их породившим: существовала прямая связь между играющим на рояле Элтоном Джоном и кассетой, которую я вставлял в свой модный проигрыватель.
В случае цифровых записей этой связи не существует. При цифровой записи звуковые волны переводятся на язык нулей и единиц, не имеющих прямого отношения к изначальному выступлению. Это просто информация, а не физический отпечаток. Бестелесная модель сознания предполагает, что большинство, если не все, понятия – цифровые. Изначально они появляются в связи с опытом, но потом переносятся в принципиально другую среду, и больше никак с ним не соотносятся.
Многие десятилетия ученые-когнитивисты и философы спорили, является наше сознание “аналоговым” или “цифровым”. Дебаты еще не закончены, но пока ведут сторонники “аналогового” подхода{142}. Одно из основных затруднений для “бестелесной” теории следующее: человеческая психика сформировалась до цифровой революции. Никто не отрицает, что наши чувства – “аналоговые”. Звуковые и световые волны “отпечатываются” в телесном разуме примерно так же, как осуществляется аналоговая звукозапись или делаются фотоснимки. Однако даже “высшие” участки мозга (вроде коры больших полушарий) напоминают скорее магнитную ленту, чем “айфон”. Нейронная структура коры устроена так, чтобы она имела дело с двухмерными образными системами, а не с цифровыми символами. Разумеется, кора может содержать цифровые системы управления. Но мы до сих пор не видели их в действии, и трудно себе представить, как и где “аналоговые” сигналы от органов чувств могут быть переведены в “цифровой” формат. Увеличивается также объем экспериментальных данных, указывающих на то, что люди мыслят скорее образами, чем абстракциями. Мы воспринимаем жизнь как путешествие{143}, рассуждаем о справедливости, прибегая к метафоре весов, и интуитивно воспринимаем зло как тьму и грязь, а добро – как свет и чистоту.
Мэн-цзы опережает свое время и в этом отношении. Моисты, как и их нынешние собратья-утилитаристы, считают хорошее поведение результатом цифрового мышления. Бестелесный разум сводит информацию к цифрам, проводит подсчеты и навязывает результаты телу, которое никак не участвует в процессе. Мэн-цзы, с другой стороны, утверждал, что изменение поведения – это аналоговый процесс: образование должно быть холистическим, опирающимся на телесный опыт, эмоции и восприятие, использующим как основные инструменты образное мышление и эмпатию. Вы не преуспеете, если просто заявите Сюань-вану из Ци, что он должен чувствовать сострадание к народу. Так же бесполезно будет попросить его обдумать, насколько нелогично заботиться о быке, наплевав на живых людей, которые страдают под его неправедной властью. Единственным способом изменить его поведение, подтолкнуть его к у-вэй было наставление с помощью определенных упражнений{144}. Мы аналоговые существа, живущие в аналоговом мире. Мы мыслим образами, а значит, обучение прямо зависит от силы воображения.
Джонатан Хайдт в своей работе о счастье прибегает к метафоре погонщика (сознательная психика), пытающегося приручить слона (телесное бессознательное). Проблема абсолютно рационалистических моделей нравственного воспитания, замечает Хайдт, в том, что те пытаются “снять погонщика со слона и научить решать проблемы самостоятельно”, через передачу абстрактных правил. Они соответствуют “цифровому” пути, и результат предсказуем: “Урок заканчивается{145}, погонщик залезает обратно на слона, и все остается как есть”. Нравственное воспитание должно быть “аналоговым”. Хайдт вспоминает, что в колледже был убежден рациональными аргументами Питера Сингера в моральном превосходстве вегетарианства. Однако эта убежденность никак не повлияла на его поведение. В результате Хайдт стал вегетарианцем (по крайней мере на время), посмотрев видеозапись происходящего на бойне. Лишь сильный образ смог сделать то, что оказалось не под силу логической аргументации.
Мэн-цзы сравнивает процесс самосовершенствования с военачальником, ведущим войска, где военачальником будет рассудок, а войсками – тело (чувственное мышление). Без направляющей силы рассудка тело не способно развиваться в правильном направлении, точно так же, как полки без командира будут просто бесцельно кружить на месте или беспорядочно бросаться в бой. В то же время у самого военачальника почти нет силы: чтобы действовать эффективно, нужны войска, и он должен направлять их, иначе они разбегутся или превратятся в толпу. Власть генерала имеет свои пределы. Как земледелец, заботящийся о посадках, или строитель каналов, пытающийся обуздать могучую Хуанхэ, обучение дает плоды лишь тогда, когда оно соответствует естественному порядку вещей.
Отдаваясь ритму: у-вэй в понимании Мэн-цзы
Концепция самосовершенствования Мэн-цзы может напоминать стратегию “отделки и полировки” Конфуция и Сюнь-цзы – в том отношении, что рассудочное мышление управляет чувственным. Однако мы можем увидеть разницу, сравнив то, как они использовали одну метафору – танца, – чтобы подчеркнуть совершенно разные мысли.
Сюнь-цзы использует танец в качестве метафоры конфуцианского образования и задает риторический вопрос: “Как познать смысл танцев?” И отвечает:
[Танцующий] сам себя не видит и не слышит, тем не менее его наклоны головы и корпуса, движения вперед или назад, темп танца – все это строго определенно, он добивается полного ритмического соответствия наклонов головы со звуками колокола и барабана и не допускает движений, которые не согласуются [с этим ритмом].
И для Сюнь-цзы, и для Конфуция состояния у-вэй, то есть полного отсутствия усилия, можно было достигнуть лишь через наращивание усилия. Наслаивая одно усилие на другое, вы учитесь быть настолько естественным, что стараться уже не нужно. Это требует тяжелой работы и полного изменения личности. Как и в случае обработки нефрита или дерева, изделие не похоже на заготовку. Опасность этой стратегии заключается, как мы уже писали, в том, что она может не сработать. В тридцать лет я брал уроки сальсы и научился довольно ловко танцевать, но так и не вышел за уровень “деревенского ханжи”, просто повторяющего заученное. Я так и не полюбил сальсу, и другие это чувствовали. Даже после того, как я перестал наступать партнершам на ноги, я продолжал оставаться непопулярным. Возможно, я недостаточно старался (так сказали бы Конфуций и Сюнь-цзы), но, может быть, у меня просто не лежит душа к сальсе, и заставлять себя полюбить ее было ошибкой.
Мэн-цзы, однако, верил, что душа к сальсе лежит у всех. Говоря о наслаждении, которое испытываешь, раздумывая над нравственностью древних или слушая поучительную музыку, Мэн-цзы также прибегает к метафоре танца: “Когда не представляешь, как она может кончиться, тогда и сам не знаешь, как ноги начинают притопывать, а руки помахивать в пляске”. Заметьте: здесь ни слова нет про обучение. С точки зрения Мэн-цзы, когда вы научитесь концентрироваться на своей истинной природе, руки и ноги сами начнут двигаться в конфуцианском ритме.
Разумеется, если бы моисты пришли к власти, они первым делом закрыли бы школы сальсы и любые другие заведения, связанные с искусством и досугом. С их точки зрения, тело ничего не давало этике, а значит, физическая сила должна применяться{146} лишь с пользой, например на полях или в мастерских. Мэн-цзы называл моистов людьми, “подтягивающими ростки”, невежественными крестьянами, пытающимися навязать рационалистическую мораль, игнорируя наклонности и, таким образом, лишь причиняя вред. Мэн-цзы также противостоит Конфуцию, призывавшему к радикальной перестройке личности. Хотя Мэн-цзы считал восхищение Лао-цзы “безыскусным” оправданием тунеядства, он критиковал и стратегию усилий для достижения у-вэй. Это видно в знаменитом диалоге с человеком по имени Гао-цзы. Ученые расходятся во мнениях, кто он. Недавно обнаруженные письменные источники показывают, что Гао-цзы, как и Мэн-цзы, был последователем Конфуция, а разница между ними состояла в том, что Гао-цзы призывал к более авторитарной перестройке личности через усилие – стратегию “отделки и полировки”. (Как историк религии, я склонен считать, что Гао-цзы, как позднее Сюнь-цзы, был, в отличие от Мэн-цзы, настоящим конфуцианцем.)
Гао-цзы предлагает метафоры самосовершенствования: “Задатки людей можно уподобить иве-красноталу, а чувства долга и справедливости – чашке и плошке. Создание из задатков, присущих людям, чувств нелицеприятия и справедливости можно уподобить изготовлению чашек и плошек из ивы-краснотала”. Конфуций бы одобрил. Мэн-цзы, однако, не соглашается: “Можешь ли ты изготовить чашки и плошки, следуя природным свойствам самой ивы-краснотала? Загубишь ли ты сперва иву-краснотал, а уж затем изготовишь из нее чашки и плошки? Если будешь изготовлять чашки и плошки из загубленной ивы-краснотала, то значит ли это, что ты собираешься сперва загубить людей, а уж потом создавать в них чувства гуманности и справедливости? Кто, ведя за собой Поднебесную, будет губить чувства гуманности и справедливости, тот, безусловно, воспользуется твоими высказываниями!” Справедливо. Гао-цзы переключается на метафору воды, подчеркивая, что у людей нет особых склонностей ни к нравственности, ни против нее: “Природные задатки людей можно уподобить стремительному потоку. Прорвавшись на востоке, он течет на восток, прорвавшись на западе, течет на запад. В задатках людей нет различия на добрые и недобрые, подобно тому, как для воды нет разницы, куда течь: на восток или на запад”. Поэтому конфуцианский наставник определяет с помощью рассудка, как стоит направить человеческое поведение, и тренирует чувственное мышление действовать соответственно. И этот фрагмент хорошо смотрелся бы в “Лунь юй”, однако Мэн-цзы возражает: “Для воды, верно, нет разницы, куда ей течь: на восток или на запад; но нет ли разницы, течь ей вверх или вниз? Так вот, добро, заложенное в задатках людей, можно уподобить стремлению воды стекать вниз. Нет людей, у которых было бы что-то недоброе, заложенное в них. Нет и воды, у которой не было бы заложенного в ней стремления стекать вниз”.
С помощью этого метафорического джиу-джитсу Мэн-цзы выворачивает образы Гао-цзы наизнанку, демонстрируя бесплодность стратегии{147} “отделки и полировки”. По Мэн-цзы, единственный способ достигнуть у-вэй – достучаться до своих наклонностей и развивать их, пока они не станут достаточно сильны, чтобы взять верх. Если вы достигли этой стадии, социально желаемое поведение будет проистекать из вашего чувственного мышления, как вода естественным образом течет вниз. Результат – те же гибкость и изящество, что и в “Беседах и суждениях”, но только проистекающие из нашей биологической сущности.
Таким образом, культурные формы, унаследованные от древних, становятся менее важными для достижения у-вэй. Хотя, будучи конфуцианцем, Мэн-цзы ценил древние ритуалы и тексты эпохи Чжоу, в “Мэн-цзы” мы видим намеки на либерализм, который Конфуцию не понравился бы. В одном отрывке Мэн-цзы утверждает, что лучше вовсе не иметь “Шу цзин” (“Книга истории”, “Книга документов”), чем верить всему написанному в ней: если возникает противоречие между тем, что говорит классика, и тем, что говорят ваши внутренние начала, следуйте за вторыми. Традиционная конфуцианская культура из основного инструмента формирования личности превращается в полезное добавление. Исследователь китайской философии Ф. Дж. Айвенго назвал это “шпалерами” для ростков нравственности. Они могут помочь росткам расти быстрее или давать больше плодов, но без них можно и обойтись.
Более того, в тексте есть несколько примеров, где Мэн-цзы небрежно обращается с традицией. Например, пытаясь наставить на путь Сюань-вана из Ци, Мэн-цзы проводит много времени, беседуя с министрами князя (именно так он узнал о случае с быком). В другом отрывке мы видим, что Мэн-цзы вдохновляется сведениями о том, что князь проявляет интерес к музыке. Мэн-цзы спрашивает Сюань-вана: “Когда-то вы завели речь с Бао о любви к музыке. Было ли это?” Князь, изменившись в лице, признает: “Я вовсе не способен обожать музыку прежних ванов, а люблю только современную простонародную музыку”. (Иными словами, он предпочитает “Бон Джови” Бетховену.) Более того, зная пристрастия князя (женщины, вино и веселье), я подозреваю, что он был фанатом известных своей порочностью напевов Чжэн, которые осуждал Конфуций.
Мы знаем, что ответил бы Конфуций: откажитесь от этой ужасной упадочной музыки и развивайте вкус к классике. Однако Мэн-цзы реагирует иначе. “Если у вас, ван, [вообще] любовь к музыке очень велика, то это ведь почти все, что требуется для приведения страны Ци в порядок! – утверждает Мэн-цзы. – Сама по себе музыка, будь то нынешняя или древняя, все равно есть музыка”. Что?! Князь явно ожидал порицания. Чувствуя облегчение, он с готовностью спрашивает: “Могу ли получить возможность услышать разъяснение?” Тогда Мэн-цзы начинает объяснять: не важно, какой музыкой наслаждается князь. Он сможет наслаждаться ею еще сильнее, если не будет испытывать угрызений совести из-за дурного обращения с подданными. Он просит князя провести еще один мысленный эксперимент. Князь должен представить, что он во дворце наслаждается музыкой, а за его стенами народ ропщет и недоумевает, как тот может в такое время слушать музыку. Испортит ли это ему удовольствие? Теперь князь должен представить, что он старается быть хорошим правителем: снижает высокие налоги и прекращает отвлекать крестьян в страду, чтобы вычистить свой пруд. Теперь, когда люди слышат звуки музыки, проникающие через стены дворца, они, улыбаясь, говорят друг другу: “Наш князь в добром здравии и веселом расположении духа. Как хорошо! Надеемся, он прекрасно проводит время”. Не лучше ли будет так? Не будет ли тогда князь получать больше удовольствия от вина, женщин и песен?
Этот фрагмент стоит после диалога о быке, и я поражаюсь тому, что Мэн-цзы в случае Сюань-вана забывает о ростках. Кажется, он готов на все, лишь бы облегчить участь народа. Однако важно заметить, что и в таком серьезном случае Мэн-цзы не готов навязывать ограничения или стыдить князя, чтобы тот счел свои привычки дурными и требующими исправления. Очевидно, Мэн-цзы считает, что принуждение недопустимо, идет ли речь о рационализме моистов или наставлении в духе Конфуция и Сюнь-цзы. Мы видим, что Мэн-цзы готов преодолеть разницу между Конфуцием и Лао-цзы, представив у-вэй как естественный плод возделывания собственной природы. Это многообещающая модель того, как взращивать спонтанность так, чтобы в процессе не растоптать ее.
Почему нужно трудиться, чтобы стать “естественным”?
Конфуций сталкивается с проблемой, когда речь заходит о мотивации. Наставление в ритуале и изучение классики принесут плоды, лишь если ученик обладает зачатками уважения к конфуцианскому Пути. Чтобы освоить Путь, нужно уже в некоторой степени любить его. Однако, по признанию Конфуция, очень немногие из его современников испытывали подобную любовь. Большинство любили деньги, комфорт и секс, а не заучивание текстов “Шицзин”, – такой подход, я думаю, многие из нас поймут. Как заставить кого-либо полюбить то, что он прежде не любил?
Мэн-цзы “решил” эту проблему, заявив, что мы все уже любим Путь. Человеческая натура блага, заявляет он: внутри нас ростки всех конфуцианских добродетелей, и они взойдут, если мы поможем. Мэн-цзы старается показать, что и в тяжелых случаях, вроде Сюань-вана, ростки добродетели можно обнаружить под маской безразличия и лени. Если князь сосредоточится на хрупком ростке, будет питать его и заботиться о нем, тот превратится в сострадательное у-вэй, достаточно сильное, чтобы сделать Сюань-вана подобным правителям древности.
Однако возникает вопрос: почему, чтобы напомнить о нашей истинной природе, нужен Мэн-цзы? Мы и без советов философа стремимся к удовольствию и комфорту. Люди вроде Сюань-вана совершенно естественно предпочитают есть, пить, охотиться и наслаждаться женским обществом, а не вести себя сострадательно. Князь, в сущности, прирожденный тусовщик. Мэн-цзы говорит ему: если зреть в корень, то вещи, которые князь якобы любит, не являются его настоящими желаниями. Наполняя свою жизнь чувственными удовольствиями, он ошибочно отдает “низкому” в себе (рту, желудку и другим частям тела) предпочтение перед “высоким” (сознанием и моральными началами). Но если так, почему мало кто спонтанно следует “высокому”?
Один ученик Мэн-цзы видит это противоречие и обращается к учителю, потому что сомневается в своем нравственном потенциале. Он слышал от Мэн-цзы, что у всех есть склонность стать нравственным человеком в состоянии у-вэй. Однако он обнаружил, что наедине с собой склонен лишь “есть пшено” (это древнекитайский эквивалент сидения с чипсами перед телевизором). Мэн-цзы это не беспокоит:
Что же в этом особенного? Поступай так, как они поступали, только и всего. Представь себе, что здесь окажется человек, который по своим силам не сможет справиться с парой цыплят. Значит, он человек, у которого нет сил. Если же он скажет: “Я поднял сто цзюнь”, значит, он человек, у которого есть силы. В таком случае подними тяжесть, которую поднимал когда-то силач У-Хо, это будет означать, что ты такой же силач, как У-Хо, только и всего. Разве людей печалит только то, с чем они не могут справиться? Они не делают [как надо]! Вот что должно печалить. Почтительным называют того, кто не спеша идет позади старших, а непочтительным – того, кто торопится идти впереди старших. Разве медленно идти является тем, чего непочтительные люди не могут сделать? Это как раз то, чего они не делают!.. Ведь путь мой подобен большой дороге. Разве трудно познать его? Беда людей в том, что они не ищут его!
Как и в случае с его беседами с Сюань-ваном, ответ Мэн-цзы тем, кто утверждает, что у них нет нравственной мотивации, – нет, она есть! Нравственность кажется тяжелой, говорят они. Не важно, просто пытайтесь! Путь внутри человека, и если он не чувствует склонности к нему, то это потому, что не пытается его обнаружить. Это неудовлетворительное объяснение. Когда я на тротуаре оказываюсь позади еле плетущегося старого хрыча, я могу замедлить шаг и уважительно позволить ему идти впереди, но я не хочу этого делать. Мне нужно успеть в тысячу мест и сделать тысячу вещей, поэтому я, как правило, обгоняю его. В Китае, где такое поведение (по крайней мере, раньше) порицалось, я пытался вести себя вежливо, но это не было в духе у-вэй. Мэн-цзы “решает” проблему мотивации в “Беседах и суждениях”, заявляя, что мы ужелюбим конфуцианский Путь, – просто нам нужно это понять. Однако странно, почему естественность и даже само существование нравственной “любви” так трудно заметить и почему для этого необходимы наставления и работа над собой. То, что “ростки” морали являются скорее трудноуловимыми намеками, наводит на мысль, что они не так уж сильны и естественны, как утверждает Мэн-цзы. Таким образом, основная проблема мотивации в “Лунь юй” остается нерешенной. Мэн-цзы просит нас любить нечто, что мы не настроены любить изначально.
Заметим, что в культивировании злаков вообще-то нет ничего естественного. Любой, кто пробовал это делать, знает, что это огромный труд. Злаки не естественны – естественны сорняки. Разумно предположить, что настоящий секрет у-вэй можно найти среди сорняков гуманности, которые процветают вне возделанных полей Мэн-цзы. Нужно не концентрироваться и пестовать, а позволить миру вести тебя.
Глава 6 Забудь об этом: плавание по течению
Даосский мыслитель Чжуан-цзы, предположительный автор трактата{148}, названного его именем, предпочитал странную компанию. “Чжуан-цзы” пестрит говорящими животными и насекомыми, чудовищами, превращающимися в огромных птиц, колдунами, горбунами, призраками, говорящими черепами и воскресшими правителями древности. Однако, наверное, самый странный сюжет – это дружба Чжуан-цзы с человеком по имени Хуэй-цзы. Тот был известным философом (увы, его труды до нашего времени не дошли). На основе его характеристик из “Чжуан-цзы” и некоторых приписываемых ему фрагментов можно предположить, что Хуэй-цзы был моистом и специализировался на логике. Хуэй-цзы считал, что с помощью правильного определения содержания понятий и оттачивания приемов аргументации можно продемонстрировать превосходство моистского утилитаризма. Разумеется, он думал, что достаточно аргументированно убедить людей в том, что они должны быть утилитаристами с беспристрастным взглядом на вещи. Хуэй-цзы мало подходил на роль друга Чжуан-цзы, верившего, что язык и логика – опасные ловушки.
Разумеется, Хуэй-цзы обычно выступает комическим партнером Чжуан-цзы, старательным занудой, который не может осознать недостатки чистого разума и увидеть силу у-вэй. Он всегда проигрывает в споре и иногда выглядит глуповато, но между двумя этими людьми существует искренняя привязанность{149}. Вот характерная беседа. Хуэй-цзы рассказывает Чжуан-цзы, что правитель подарил ему семена большой тыквы: “Я посадил их в землю, и у меня выросла тыква весом с пуд. Если налить в нее воду, она треснет под собственной тяжестью. А если разрубить ее и сделать из нее чан, то мне его даже поставить будет некуда. Выходит, тыква моя слишком велика и нет от нее никакого проку”.
В Китае того времени тыквы использовали для хранения или изготавливали из них черпаки. Поэтому Хуэй-цзы разочарован. Чжуан-цзы поражен: “Да ты, я вижу, не знаешь, как обращаться с великим!” Он рассказывает Хуэй-цзы несколько историй о людях, которые использовали к своей выгоде, казалось бы, обычные или бесполезные вещи. “Вот у тебя есть тыквы, – заключает он. – Почему тебе не пришло в голову, что из них можно сделать большой плот и плавать по рекам и озерам, вместо того чтобы печалиться, что они слишком велики, чтобы быть посудой! Как будто твой разум совсем засорился!”
Хуэй-цзы не видит возможности вне рамок, определенных его воспитанием. Тыкву можно использовать способами икс и игрек; эту тыкву нельзя использовать способами икси игрек; следовательно, тыква бесполезна. Психологи называют это когнитивной ригидностью{150}: когда усвоенные представления о вещах мешают думать о них творчески. Эта негибкость является симптомом проблемы, которую Чжуан-цзы считал основной преградой для у-вэй: склонности человека руководствоваться “разумом” – Чжуан-цзы называл так то, что мы считаем рассудочным мышлением. Позволяя разуму руководить собой, люди оказываются пленниками жестких категорий, искусственных ценностей и “инструментального” подхода, не позволяющих видеть мир ясно и плыть по течению.
Моисты вроде Хуэй-цзы являются частью проблемы. Из-за своей уверенности в том, что правильное поведение могут направлять лишь логика и расчет, они игнорируют мудрость тела. Конфуцианцы ничем не лучше. С их непоколебимой уверенностью в том, какой именно должна быть спонтанность, и строгими техниками ее развития они оказываются настолько же оторванными от мира и собственных изначальных ощущений, что и моисты. Чжуан-цзы изображает моистов и конфуцианцев в виде Труляля и Траляля от философии: каждая сторона считает свой Путь абсолютно верным и не замечает собственных ошибок.
Чжуан-цзы чувствовал, что это ведет к хаосу. Смягчающим обстоятельством в случае моистов и конфуцианцев было то, что, несмотря на свою бессмысленность, они хотя бы хотели помочь людям и улучшить мир. Проблема в том, что их “малое знание” (так Чжуан-цзы называет узкий взгляд на мир) задает тон в обществе, порождая заносчивых всезнаек, внешне благополучных и уверенных в себе, но глубоко несчастных, отчаянно пытающихся достичь счастья, которое из-за ложных представлений постоянно ускользает. Следующий фрагмент показывает, насколько “большое знание”, которого желал Чжуан-цзы, отличается от духовной нищеты и страданий, которые он видел вокруг:
Пробудившись от сна, мы открываемся миру.
Всякая привязанность – обуза и путы,
И сознание вечно бьется в тенетах.
Одни в мыслях раскованны,
другие проникновенны,
третьи тщательны.
Малый страх делает нас осторожными.
Большой страх делает нас раскованными.
Мысли устремляются вперед,
как стрела, пущенная из лука:
так стараются люди определить,
где истина и где ложь.
Словно связанные торжественной клятвой:
так судят неуступчивые спорщики.
Увядает, словно сад поздней осенью:
такова судьба истины, за которую держатся упрямо.
Остановилось движение, словно закупорен исток:
так дряхлеет все живое.
И в час неминуемой смерти
Ничто не может снова вернуть нас
к жизни.
Красноречиво, но мрачно. Это описание вполне можно счесть диагнозом проблем нашего общества, постоянно стремящегося к чему-то – и удивительно, что эти слова написаны две тысячи лет назад. Тот факт, что фрагмент направлен против жителей Китая периода Борющихся царств, подтверждает, что проблемы не слишком изменились за тысячи лет. Нельзя не подумать о карьеристах, жертвующих молодостью, здоровьем и семьей, пытаясь добраться до вершины, только чтобы обнаружить, что, наконец заняв угловой кабинет, они вымотаны и слишком удручены, чтобы наслаждаться этой победой. Также в голову приходят обитатели богатых пригородов, прямо из “Отчаянных домохозяек”, накапливающие имущество, покупающие все более вместительные дома, модные машины, занимающиеся на тренажерах, увлекающиеся пилатесом, сплетничающие в клубе – и постоянно преследуемые смутным ощущением бессмысленности всего происходящего. Согласно Чжуан-цзы, единственный способ выскочить из беличьего колеса – перестать стараться, перестать узнавать все больше, перестать культивировать “я”. Учитесь расслабляться и позволяйте идти всему своим чередом. Как только это удастся, мы откроемся миру и людям, и у-вэй само придет.
Забудь и отпусти
Тон, которым Чжуан-цзы критикует современное ему общество{151}, и его подозрительность по отношению к рассудочному мышлению и императивная мораль очень похожи на то, что мы видели в “Дао дэ цзин”. Навязанные обществом ценности сбивают нас с пути, многознание опасно, навязанная мораль безнравственна: слушай “чрево”, а не разум или “очи”. Поэтому позднее, когда библиотекари составляли каталог императорской библиотеки, они определили “Дао дэ цзин” и “Чжуан-цзы” как “даосские” тексты и пометили их вместе. Эта характеристика дожила до наших дней. Однако важно понимать, что “даосы”, в отличие от конфуцианцев, не были представителями формально существующей школы, и за сходством скрываются важные различия. Например, несмотря на тревогу по поводу фальшивого, суетного потребительского общества, Чжуан-цзы не считал, что можно просто сбежать из него. Он думал, что опрощение – это столь же неверно, как конфуцианство или моизм, потому что подразумевает конкретный “правильный” путь, противопоставленный “неправильному”. Чжуан-цзы посмеялся бы над хиппи 60-х годов точно так же, как над их родителями.
С точки зрения Чжуан-цзы, нужно было не убеждать других или хвалить себя за правоту, а выйти за пределы понятий правильного и неправильного: “Всякое «это» есть также «то», а всякое «то» есть также «это». Там говорят «так» и «не так», имея свою точку зрения, и здесь говорят «так» и «не так», имея свою точку зрения. Но существует ли в действительности «это» и «то», или такого различия вовсе не существует? Там, где «это» и «то» еще не противостоят друг другу, находится Ось Пути. Постигнув эту ось в центре мирового круговорота, обретаем способность бесконечных превращений: и наши «да», и наши «нет» неисчерпаемы. Вот почему сказано: нет ничего лучше, чем прийти к прозрению”. Герои “Чжуан-цзы” живут более или менее обычной, цивилизованной жизнью. Повар Дин и краснодеревщик Цин действуют в рамках конфуцианской культуры: Дин разделывает тушу для ритуального жертвоприношения, а Цин вырезает раму для колоколов для музыкального представления.
Однако персонажи Чжуан-цзы отличаются. Начнем с того, что они очень разные. Пока Конфуций и Мэн-цзы водили дружбу с князьями, Чжуан-цзы бродил по мастерским и кухням (от которых Мэн-цзы презрительно советовал благородному мужу “быть подальше”) и восхищался тем, что он видит. А видел он ремесленников, мясников, паромщиков, чья естественная легкость и открытость миру могли многому научить недовольных интеллектуалов. В беседе Чжуан-цзы часто старается выдернуть Хуэй-цзы из умственного кокона и отправить в мир, где он мог бы следовать за телом, а не рассудком. Мудрецы Чжуан-цзы оказываются горбунами, прокаженными, колдунами и преступниками с отрубленными ногами – то есть “сорняками”, которым не нашлось места в ухоженном нравственном саду Мэн-цзы, но зато лучше, с точки зрения Чжуан-цзы, представляющими подлинную естественность.
Мудрецы из “Чжуан-цзы” отличаются и тем, что не придерживаются определенных ценностей. Они живут своей жизнью и преследуют свои цели, но сохраняют открытость, позволяющую изменить курс, когда этого потребуют обстоятельства, или отказаться от чего-либо, из блага превратившегося в обузу, и сосредоточиться на другом. Они подавляют рассудочное мышление, чтобы их чувственное мышление стало управлять более или менее непосредственно, с минимальным участием сознательной психики. Секрет, разумеется, в том, как его отключить.
Что нужно сделать Хуэй-цзы, чтобы выпутаться из сети общественных норм, открыть мир таким, каков он на самом деле? Он должен забыть и отпустить. Как это сделать? Избавиться от власти рассудка. Наиболее очевидно это показано в знаменитом отрывке, где Чжуан-цзы вспоминает о беседе Конфуция с его любимым учеником Янь Хоем (и где Конфуций почему-то излагает идеи{152} в духе Чжуан-цзы). Янь Хой слышит о правителе соседнего государства, который угнетает свой народ, и решает навестить этого типа и наставить его на путь истинный. Конфуций сомневается, что Янь Хой сможет преуспеть и даже просто вернуться с головой на плечах. Проблема в том, что Янь Хой руководствуется неправильными принципами: заемным знанием, своей гордыней, предполагающей, что он мудрее и лучше правителя, и, как полагает Конфуций, нескрываемым желанием заслужить славу героя, перевоспитавшего злого князя. Янь Хой предлагает несколько вариантов поведения, и Конфуций отвергает их все. “Ты со своими планами слишком полагаешься на свой ум”, – сетует мудрец. Наконец Янь Хой сдается. “Мне больше нечего сказать, – вздыхает он. – Прошу вас, учитель, дать мне совет”.
– Постись, и я скажу тебе, – отвечал Конфуций. – Действовать по собственному разумению – не слишком ли это легко? А тот, кто предпочитает легкие пути, не узреет Небесного сияния.
– Я из бедной семьи и вот уже несколько месяцев не пил вина и не ел мяса. Можно ли считать, что я постился?
– Так постятся перед торжественным жертвоприношением, я же говорю о посте сердца.
– Осмелюсь спросить, что такое пост сердца?
– Сделай единой свою волю: не слушай ушами, а слушай сердцем, не слушай сердцем, а слушай духовными токами (ци). В слухе остановись на том, что слышишь, в сознании остановись на том, о чем думается. Пусть жизненный дух в тебе пребудет пуст и будет непроизвольно откликаться внешним вещам. Путь сходится в пустоте. Пустота и есть пост сердца.
Многие на Западе сейчас знакомы с концепцией ци, которую в древнем Китае считали энергией, текущей во всех живых существах. К IV веку до н. э., когда писал Чжуан-цзы, значение термина ци стало означать также силу, прямо связывающую людей с их истинной, Небесной природой. Это религиозный взгляд на ци, соединяющий его с сакральной внутренней силой личности: “духом” (вспомним “духовные желания”, направляющие нож повара Дина). Из-за связи с Небом ци также предоставляет уникальный прямой доступ к Небесному замыслу. Это мы видим в истории о краснодеревщике Цине: его способность освобождаться от власти рассудка позволяет “небесному соединяться с небесным”.
В этой истории можно понимать разницу между тремя уровнями “слушания”, восприятия мира, как обращение к разным участкам мозга. Слушание ушами подобно тому, как повар Дин смотрел на огромного быка только глазами: он просто получал сенсорную информацию, но не представлял, что с ней делать. Слушание сердцем задействует области вроде префронтальной коры, которые анализируют информацию и соотносят ее с уже имеющимися знаниями. Слушание духовными потоками (ци), похоже, относится к отключению отвечающих за когнитивный контроль участков (сознательная психика) и выходу на передний план адаптивного бессознательного. В контексте мировоззрения древнего Китая это бессознательное может привести нас к правильному решению, потому что является священным. Как и “духовное желание” в истории о поваре Дине, ци – это сила, связанная напрямую с Небом. Более того, для Чжуан-цзы “дух” и ци были почти синонимами: оба создавали канал для получения наставлений от Неба.
Как бы мы ни трактовали совет насчет пустоты, он немедленно оказывает на Янь Хоя мощный эффект, напоминающий внезапное просветление. “Пока я, Хой, еще не постиг своего истинного бытия, я и в самом деле буду Хоем, – говорит он. – Когда же я постигну свое истинное бытие, я еще не буду Хоем. Вот это и значит «сделать себя пустым»?”. “Именно так! – отвечал Конфуций. – Вот что я тебе скажу: войди в его ограду и гуляй в ней свободно, но не забивай себе голову мыслями о славе. Когда тебя слушают, пой свою песню, когда тебя не слушают, умолкни. Для тебя не должно быть внутренних покоев и простора вовне. Остановись на неизбежном и в этом обрети свой единый дом. Тогда ты будешь близок к правде”.
Потеря своего “я”, о которой рассказывает Янь Хой, подразумевает отказ от своекорыстного стратегического мышления и предубеждений. “Опустошая” себя, он создает воспринимающее пространство, пустоту, позволяющую услышать, что на самом деле скажет ему правитель и чего на самом деле требуют обстоятельства. Он отключает рассудок и позволяет своей жизненной энергии, ци, взять верх. Таким образом, он становится поглощен чем-то большим, нежели он сам: движением Пути, которое “невозможно остановить”, сакральной силой, которая ведет его к правильному исходу. Открытость миру заменяет планирование.
Чжуан-цзы лучше других мыслителей периода Борющихся царств видел ограниченность рассудка и восхищался особой силой телесного разума. В гл. 1 мы увидели, насколько важны чувственные реакции, управляющие большинством наших действий, и их влияние на нашу жизнь. Все очевиднее, что когнитивная гибкость, которой, по мнению Чжуан-цзы, не хватало его современникам, проще всего достигается, когда мы ослабляем хватку сознательной психики{153}.
Детям это дается лучше, чем взрослым. Рассмотрим дивергентное мышление – способность придумать несколько вариантов решения задачи или предложить новые способы использования предметов. Для этого служит тест на изучение творческого мышления. Испытуемым вручают какой-либо предмет и предлагают за ограниченное время придумать как можно больше способов его применить. Маленькие дети мыслят более гибко и творчески во время таких тестов не только потому, что у них было меньше времени, чтобы научиться, “для чего именно” нужны те или иные вещи, но и потому, что области когнитивного контроля в их мозге менее развиты, чем у взрослых. Дети сразу рассмотрели бы в огромных тыквах Хуэй-цзы прекрасный плот. Любопытно, что успешное выполнение взрослыми теста, который требует творческой рекатегоризации, сопровождается значительным снижением активности областей когнитивного контроля, и взрослые с повреждениями префронтальной коры{154} обычно справляются с подобными заданиями лучше, чем здоровые.
Алкоголь (это очень эффективный способ временно парализовать наши способности к когнитивному контролю) также иногда способствует творческому мышлению. Недавно ученые в рамках эксперимента попросили испытуемых пройти тест отдаленных ассоциаций{155} (ТОА). Испытуемым дают три не связанных друг с другом очевидным образом слова (например спортивный, едкий и зеленый) и просят найти третье слово, которое бы связывало их (в этом случае – лук). ТОА часто использовали, чтобы оценить “конвергентное” мышление (отличающееся от “дивергентного” и требующее большего когнитивного контроля), но когда изначальные догадки оказывались неверны или испытуемые просто не могли сразу “увидеть” решение, становилось очевидно, что дивергентное мышление в данном случае важнее. Ученые установили, что испытуемые в состоянии умеренного опьянения (уровень алкоголя в крови 0,75 промилле – как раз где-то на том уровне, когда у вас отобрали бы права) справляются с ТОА лучше трезвых участников. Более того, пьяные чаще приписывают свой успех внезапному “озарению”, а не старательному обдумыванию. Легкое опьянение ослабляет когнитивный контроль и усиливает внезапные вспышки творчества.
Похожие результаты показывают эксперименты с “инкубацией”: испытуемым дают одно задание, а во время отдыха отвлекают другим. Пока основное задание остается значимым, то есть пока оно находится на задворках сознания, легкое отвлечение усиливает{156} и способность решать задачи, и умелое выполнение заданий на физическую активность. Скорее всего, это происходит потому, что чувственное мышление хорошо справляется с когнитивными скачками. Если сознательная психика может на время отвлечься, неосознаваемая берет работу на себя.
Помните, мы говорили об “опьянении Небом”? Пьяный, упавший с повозки, остается невредимым, потому что “дух его целостен”. Не испытывая опасений, свойственных трезвым людям, он может расслабиться и не получить травму при падении. Тот же мотив мы видим еще в одном воображаемом диалоге Янь Хоя и Конфуция. Янь Хой сообщает, что только что, переправляясь через бурную реку, пережил ужас. При этом перевозчик не выказывал никаких признаков страха и правил своей лодчонкой с почти сверхъестественной сноровкой. Когда Янь Хой спросил у перевозчика, в чем его секрет, тот ответил: то же самое мог бы делать любой умеющий плавать. (Во многих традиционных обществах умение плавать встречалось редко, и пересечение водных пространств было опасным предприятием.) Конфуций (снова выступая рупором Чжуан-цзы) отвечает, что тот, кто хорошо плавает, “забывает про воду”: теперь ей нет места в сознательной психике. Поэтому ему легко править лодкой. Свобода от страха и тревог позволяет сделать это бессознательным навыком: “Для такого человека водная пучина – все равно что суша и перевернуться в лодке – все равно что упасть с повозки. Пусть перед ним опрокидывается и перевертывается все, что угодно, – это не поколеблет его спокойствия. Что бы с ним ни случилось, он будет безмятежен!” Потом Конфуций использует пример с состязанием в стрельбе, чтобы показать вред сознательного сосредоточения на внешнем: “В игре, где ставят на черепицу, ты будешь ловок. В игре, где ставят на поясную пряжку, ты будешь взволнован. А в игре, где ставят на золото, ты потеряешь голову. Искусство во всех случаях будет одно и то же, а вот внимание твое перейдет на внешние вещи. Тот, кто внимателен к внешнему, неискусен во внутреннем”.
Нельзя представить себе лучшее описание проблемы, с которой сталкиваются спортсмены и артисты. Когда такие люди выпадают из привычного состояния у-вэй, они отрываются от своих целей, ценностей и хода игры. Их навыки не изменяются, но беспокойство по поводу внешних факторов делает их “неискусными во внутреннем”.
Соображения Чжуан-цзы по этому поводу находят подтверждение в современной, довольно обширной психологической литературе{157} о мандраже. Исследователи сходятся в том, что в большинстве случаев внешнее давление (требование хорошей игры, беспокойство о репутации или награде) вынуждает людей концентрироваться на действиях, которые обычно совершаются бессознательно. В результате возникает замешательство, “парадоксальное исполнение”{158}: чем сильнее стараешься, тем получается хуже. Во время классического эксперимента{159} (время его проведения – 1984 год – можно приблизительно установить, исходя из использованных технологий) опытные игроки в “Пэкмен” и “Мисс Пэкмен” показали существенно более низкие результаты, когда им предложили денежную награду. Другой, позднейший эксперимент продемонстрировал{160}, что бейсболисты, подвергающиеся серьезному давлению, играют хуже обычного. Однако примечательно, что осознание того, что они делают, например как держат биту в конкретный момент, улучшилось. Как и Янь Хой (когда тот впервые решил давать советы неправедному правителю), бейсболисты в состоянии мандража позволяют себе находиться под властью рассудка, и это негативно сказывается на результате.
Согласно Чжуан-цзы, одной из главных внешних помех является эксплицитная мораль конфуцианцев и их жесткие методы достижения у-вэй. Это подчеркивает следующий диалог Конфуция и Янь Хоя. Последний, вероятно, снова рассказывает о тщеславном желании направить на истинный путь неправедного правителя, и Конфуций ставит его на место. Однако в этот раз Конфуций не дает Янь Хою особенного совета, а просто отправляет его нечто сделать (что именно, нам не сообщают). Дважды Янь Хой возвращается и сообщает, что “кое-чего достиг”. В первый раз он говорит, что позабыл о гуманности и справедливости (двух важнейших конфуцианских добродетелях), во второй раз – о конфуцианских ритуалах и музыке. “Это хорошо, но все еще недостаточно”, – комментирует Конфуций. Лучше получается в третий раз:
– Я опять кое-чего достиг, – сказал Янь Хой.
– А чего ты достиг на этот раз?
– Я просто сижу в забытьи.
Конфуций изумился и спросил: “Что ты хочешь сказать: «сижу в забытьи»?”
– Мое тело будто отпало от меня, а разум как бы угас. Я словно вышел из своей бренной оболочки, отринул знание и уподобился Всепроницающему{161}. Вот что значит “сидеть в забытьи”.
– Если ты един со всем сущим, значит, у тебя нет пристрастий. Если ты живешь превращениями, ты не стесняешь себя правилами. Видно, Ты и вправду мудрее меня! Я, Конфуций, прошу дозволения следовать за тобой!
Как и в случае повара Дина, мы наблюдаем здесь доведенное до предела “забывание” – не только конфуцианского учения и практик, но и самого тела и восприятия. Суть такова: чтобы достигнуть у-вэй, нужно сосредоточиться на мире, а не на себе. Нужно забыть обо всем: об эго, даже о теле, – чтобы вас поглотило движение Небесного Пути.
Звучит прекрасно. Вопрос, разумеется, в том, как забыть о себе? Как передать телу контроль над сознательной психической деятельностью? Чем конкретно занимался Янь Хой, когда уходил “сидеть в забытьи”?
Возможно, Чжуан-цзы пробовал заниматься медитацией и дыхательными упражнениями, которые, похоже, были частью стратегии Лао-цзы. В тексте также присутствуют провокационные намеки на использование психоактивных веществ. Например, одна из первых глав книги начинается с описания Цзы-Ци из Наньго, который сидит, странно склонившись, периодически поднимая голову к потолку и глубоко выдыхая, “словно и не помнил себя”. Что это значит? Можно лишь догадываться. Большинство комментаторов считает, что это относится к забвению тела. В любом случае, этот тип пребывает в глубокой медитации или под “веществами” – или то и другое одновременно. Дальше еще страннее: у него есть помощник, который, очевидно, находится рядом, наблюдая и помогая справиться с происходящим. (Снова неясно. Этот человек помогает регулировать дыхание? Или готовится вмешаться, если Цзы-Ци “поймает бэд-трип”?) Помощник явно впечатлен:
Как же такое может быть?
Тело – как высохшее дерево,
Сердце – как остывший пепел.
Ведь вы, сидящий ныне передо мной,
Не тот, кто сидел здесь прежде!
Цзы-Ци признает, что пережил полное перерождение: “Ты хорошо сказал, Янь! Ныне я похоронил себя. Понимаешь ли ты, что это такое?” Цзы-Ци, когда его просят объяснить, долго пытается описать то, что он пережил. Это бессвязная речь о том, как ветер поет, когда проносится над землей, флейтах Неба и Земли и вопросах о происхождении ветра. Но опыт, очевидно, пошел на пользу Цзы-Ци, и, так как мы сразу переходим к размышлениям о “большом знании” и “малом знании”, можно предположить, что пережитое превратило его в мудреца.
Личность Чжуан-цзы исторически связывают с южным царством Чу, территория которого примерно совпадает с современными провинциями Хубей и Хунань. В период Борющихся царств Чу было пограничным государством, которое изображали полуварварской землей со странными обычаями, полной диких животных. С Чу также ассоциировали шаманские практики, включая астральные путешествия и транс. Более того, поразительна перемена стиля, которую мы замечаем, закончив чтение увлекательных, но довольно уравновешенных первых глав “Чжуан-цзы”. Нам попадаются говорящие животные, летающие люди и случаи перерождения в крысиную печенку. Одним из сложных моментов текста является то, что Чжуан-цзы был вынужден придумывать наречия и прилагательные для описания своих переживаний, которые не мог передать классический китайский язык того времени. Переход от “Мэн-цзы” к “Чжуан-цзы” напоминает эволюцию “Битлз” от Can’t Buy Me Love (1964) к Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Появляется смутное ощущение, что кое-кто открыл для себя наркотики.
Однако Чжуан-цзы нигде не указывает, чем занимаются его мудрецы – возможно, не случайно. Если бы он прописал курс галлюциногенов, установил распорядок медитаций или перечислил дыхательные упражнения, то угодил бы в ловушку “правильного” и “неправильного”, то есть сделал бы хуже некуда. Так как Чжуан-цзы хочет избежать жесткого разграничения хорошего и плохого, ему приходится просто давать примеры для размышления. Он рассказывает о тех, кто не может вырваться за пределы “малого знания” и идет к немощи, мраку и смерти; о поваре Дине и краснодеревщике Цине, идущих по жизни в ритме танца; о Хуэй-цзы, отказывающемся от прекрасных тыкв и упускающем возможность счастливо плавать по рекам и озерам. Очевидно, что некоторые примеры указывают “хороший” подход к жизни, а другие “плохой”, но Чжуан-цзы никогда не скажет этого прямо. Он рассказывает истории и позволяет им произвести нужный эффект.
Такова, наверное, его стратегия, как помочь людям достичь у-вэй. Он пытается использовать юмор, парадоксы и просто странности, чтобы шокировать нас и вывести за рамки обыденного мышления. Текст “Чжуан-цзы” явно стремится сделать с вами что-то, и его эффективность в этом отношении трудно оценить – ее необходимо испытать. Отрывки не могут передать общее впечатление: “Положим, есть «начало» и есть «то, что еще не начало быть началом». Тогда есть «то, что еще не начало быть тем, что еще не начало быть началом». Положим, есть «бытие» и есть «небытие». Тогда есть «то, что еще не есть бытие» и есть «то, что еще не есть то, что еще не есть бытие»”. И так далее. Некоторые древнекитайские комментаторы и современные исследователи вывернулись наизнанку, пытаясь понять логику подобных заявлений, поскольку воспринимали этот фрагмент как философствование. Но это почти точно не так: выраженный здесь скепсис по отношению к возможности знания является духовной терапией{162}, а не религиозной доктриной. Читая этот текст, мы теряем уверенность в том, что логика и рацио могут привести нас туда, куда мы хотим прийти. Именно этого эффекта добивается Чжуан-цзы.
Технику использования языка для его же уничтожения с радостью переняли чань(дзэн) – буддисты: приверженцы ветви буддизма, на которую непосредственно и сильно повлиял Чжуан-цзы. Название появившейся отсюда практики гунъань (букв. “общественный акт”) на Западе более известно в японском произношении: коан. Коаны состоят из загадок, абсурдных утверждений или диалогов, у которых нет логического значения или которые подрывают понимание буддизма. Их следовало обдумывать, чтобы сбросить оковы рациональности – “поститься сердцем”. Как правило, подобные диалоги выстроены так. Ученик, который хочет быть хорошим буддистом, задает прямолинейный вопрос о сути учения. Наставник в ответ выдает парадоксальное высказывание, пытаясь вывести ученика из концептуальных рамок. Ученик приходит в замешательство, медлит, иногда пытается задать другой вопрос, и тогда наставник бьет его палкой (буквально или метафорически), чтобы спровоцировать духовный нервный срыв. Цель в том, чтобы постоянно атаковать обыденное мышление – вербальное, физическое, социальное – и освободить телесный разум от ограничений рассудочного мышления, дабы через шок привести ученика в состояние у-вэй.
Многие коаны демонстрируют крайне необычное поведение (ношение сандалий на голове, обнажение) или физическое насилие. Там много шлепков, подзатыльников и ударов палкой. Кошек режут пополам. Однако наиболее привлекательные техники несколько мягче. Они пытаются перенаправить внимание учеников с абстрактных учений или планов на будущее на действительность здесь и сейчас. Один известный коан начинается так: “Монах сказал Дзёсю: «Я только что пришел в ваш монастырь. Пожалуйста, учите меня»”. Этот монах во многом похож на торопыгу Янь Хоя: бойскаута с ясными представлениями о том, чему его будут учить, и, возможно, тайным желанием продемонстрировать свою готовность. Мы в Канаде называем таких людей keener.
– А ты уже поел рисовой каши? – спросил Дзёсю.
– Поел, – ответил тот.
– Так вымой лучше миску, – сказал Дзёсю.
В этот миг монах обрел просветление.
Ключом к просветленному у-вэй является не долгое обучение доктрине, а способность видеть и правильно реагировать на то, что перед тобой. Китайский наставник – автор сборника, из которого взят этот коан, – комментирует его так: “Только потому, что это очевидно, это так трудно заметить. Люди ищут огонь с зажженной лампой; если бы они поняли, что сама лампа содержит огонь, они могли бы сварить себе рис гораздо быстрее”.
Ступай легко и свободно
Как и просветленные монахи из коанов, герои “Чжуан-цзы” призваны показать нам, какими счастливыми и успешными мы станем, если возложим контроль на неосознаваемую психику вместо сознательной. Хотя Чжуан-цзы часто приводит в пример ремесленников и рабочих, люди вроде повара Дина и краснодеревщика Цина – это скорее метафоры, целью которых является обучение читателей “секрету жизни”. Лезвие ножа в руках повара Дина не имеет толщины, поэтому может проходить сквозь пустоту между сочленениями туши. Точно так же человек, который искренне отказывается от личности, может свободно чувствовать себя в обществе.
Чжуан-цзы разделяет с другими указанными мыслителями убеждение, что у-вэй ведет к дэ, хотя дэ в “Чжуан-цзы” не привлекает к вам других людей, а умиротворяет их. Чжуан-цзы замечает, что когда вы плывете по озеру на лодке и в вас врезается другой лодочник, вы злитесь, кричите и ругаетесь. Если же это будет пустая лодка, например принесенная ветром, вы просто оттолкнете ее в сторону. Цель мудреца из “Чжуан-цзы” – в том, чтобы опустошить свою лодку, и тогда, сталкиваясь с другими, он не будет вызывать враждебности.
Также предполагается, что если мудрец все-таки привлечет к себе внимание, сила его дэбудет очевидна для других и даст ему возможность продолжить путь беспрепятственно. Один эпизод описывает человека, который тренирует для князя боевых петухов. После десяти дней тренировки князь спрашивает, готова ли птица к бою.
– Еще нет. Ходит заносчиво, то и дело впадает в ярость, – ответил Цзи Син-цзы.
Прошло еще десять дней, и государь снова задал тот же вопрос.
– Пока нет, – ответил Цзи Син-цзы. – Он все еще бросается на каждую тень и на каждый звук.
Минуло еще десять дней, и царь вновь спросил о том же.
– Пока нет. Смотрит гневно и силу норовит показать.
Спустя десять дней государь опять спросил о том же.
– Почти готов, – ответил на этот раз Цзи Син-цзы. – Даже если рядом закричит другой петух, он не беспокоится. Посмотришь издали – словно из дерева вырезан. Жизненная сила (дэ) в нем достигла завершенности. Другие петухи не посмеют принять его вызов: едва завидят его, как тут же повернутся и убегут прочь.
И снова Чжуан-цзы стремится показать нам, как жить, а не как вести бизнес по разведению бойцовых петухов. Полное расслабление и свобода от посторонних забот кристаллизуют дэ и придают ощутимую издалека уверенность и легкость, так что другие дважды подумают, прежде чем связываться с вами.
Янь Хой в конце истории про “пост сердца” становится прекрасным примером того, как бескорыстное принятие другого человека связано с успехом в обществе. Не обманываясь больше строгим учением или предвзятыми суждениями, свободный от скрытых мотивов и самомнения, он может действительно выслушать князя и “петь” тогда, когда тот будет готов слушать. Так он сможет не только сохранить голову, но и, возможно, переубедить князя. Есть похожая история о дрессировщике: “Жил-был один человек, содержавший в доме обезьян, и вот этот человек как-то сказал своим обезьянам: «Утром дам вам три меры желудей, а вечером – четыре». Обезьяны рассердились. Тогда он сказал: «Ладно, я дам вам утром четыре меры, а вечером – три». И все обезьяны обрадовались. Вот так этот человек по поведению обезьян узнал, как нужно действовать, не поступаясь ни формой, ни существом дела. Посему мудрый приводит к согласию утверждение и отрицание и пребывает в центре Небесного Круга. Это называется «идти двумя путями сразу»”.
Разумеется, обезьянами, с которыми имеет дело мудрец, являемся мы. В древнем Китае обезьяны были символом самодовольного невежества и ограниченности. Переполненная лодка символизирует среднего человека, который точно знает, чего он хочет, а чего не хочет. Единственный способ управиться, например, с обезьянами-людьми – позволить им получать желаемое, если оно не причиняет вреда, а не настаивать на своих изначальных планах. Это значит – “идти двумя путями сразу”. Мы встречаем множество идеально приспособленных к обществу героев, в том числе сборщика налогов, который свободен от корысти и восприимчив к нуждам тех, с кем встречается. Это наделяет его могущественным дэ, благодаря чему он “собирал средства с утра до вечера{163}, никого не обижая ни на волосок”. Действительно волшебство!
История о дрессировщике обезьян напоминает мне другую историю, которую я однажды слышал о племени охотников на обезьян где-то в Африке. Возможно, она выдумана, зато прекрасно иллюстрирует опасность попасться в ловушку одного-единственного способа смотреть на мир. Так вот, чтобы поймать обезьяну, в центре поляны якобы привязывали тыкву-горлянку, наполненную пищей. Отверстие в тыкве было достаточно большим, чтобы обезьяна просунула лапу, но слишком маленьким, чтобы вынуть кулак с пищей. Позволяя обезьяне схватить пищу, охотники выбегали из кустов. Все, что нужно было обезьяне – это отпустить еду и бежать, но, увы, не способная изменить свои ценности в свете новых обстоятельств, она оставалась на месте, сжимая кулак, связывающий ее с тыквой. То же отсутствие гибкости заставляет юриста крупной компании, работающего восемьдесят часов в неделю, упрямо держаться за высокооплачиваемую престижную работу, несмотря на то, что физическая усталость, умственное истощение и первые признаки язвы уже начали отбирать ее.
И бедной обезьяне, и замученному юристу стоило бы подражать ласточке, “мудрейшей из птиц”. В “Чжуан-цзы” читаем: “Когда взгляд ее останавливается на месте, негодном для нее, она больше не смотрит на него. Выронив корм из клюва, она оставляет его и улетает прочь. Она боится людей, но селится рядом с человеческим жильем и вьет гнезда у алтаря духов плодородия”. Мудрец похож на ласточку, он живет среди людей, но не связывает себя вещами, которые могут оказаться ловушкой. Если быть честным, мудрец любит “корм” так же, как и любой другой человек. Он просто не хочет терять свою жизнь, пытаясь подобрать потерянное – то, что упало, мудрец оставляет лежать. “Настоящие люди древности спали без сновидений, просыпались без тревог, – говорит Чжуан-цзы, – всякую пищу находили одинаково вкусной, и дыхание в них исходило из их сокровеннейших глубин”. Это противоположность погрязшим в “малом знании” “обыкновенным людям”. Они “дышат горлом”, “скромные и уступчивые”, говорят “сбивчиво и с трудом, словно заикаются”. Чжуан-цзы жалуется:
Не знаю, является ли на самом деле счастьем то, что люди нынче почитают за счастье. Вижу я, что счастье в мире – это то, о чем все мечтают, чего все добиваются и без чего жить не могут. А я и не знаю, счастье ли это, но также не знаю, есть ли это несчастье. Так существует ли на свете счастье? Для меня настоящее счастье – недеяние (у-вэй)… Хотя в мире в конце концов нельзя установить, где истина, а где ложь, в недеянии можно определить истинное и ложное. Высшее счастье – это сама жизнь, и только недеяние позволяет достичь его.
У-вэй в “Чжуан-цзы” выступает состоянием абсолютного спокойствия, гибкости и открытости. В отличие от негибкого сознательного мышления, оно может “определить истинное и ложное”, потому что заранее не разделяет их. Пребывание в состоянии у-вэйможно сравнить с положением неподвижной точки в центре, откуда можно отвечать на любые изменения, любые события. “Там, где «это» и «то» еще не противостоят друг другу, находится Ось Пути, – сообщает текст. – Постигнув эту ось в центре мирового круговорота, обретаем способность бесконечных превращений: и наши «да», и наши «нет» неисчерпаемы”. Другой полезной метафорой является превращение ума в зеркало:
Соединись до конца с Беспредельным и обрети свой дом в бездонном покое. Исчерпай то, что даровано тебе Небом, и не желай приобретений: будь пуст – и не более того. У Высшего человека сердце что зеркало: оно не влечется за вещами, не стремится к ним навстречу, вмещает все в себя – и ничего не удерживает. Вот почему такой человек способен превзойти вещи и не понести от них урона.
Зеркало отражает то, что перед ним, и если изменяется предмет, изменяется и зеркало. Оно не “удерживает” прошлое и не предсказывает будущее. Оно просто ждет – пустое, пассивное и принимающее. Так выглядит мышление, открытое миру, управляемое непосредственно бессознательным и источающее мягкое, но могущественное дэ.
В конце концов, “Чжуан-цзы” – это текст о личном у-вэй, о том, как научиться жить свободно и легко. На первый взгляд, вы можете ничем не выделяться и работать поваром или собирать налоги, но внутри вы будете другим, потому что вас направляет телесное, чувственное мышление, а не рассудок. Этот идеал описывается так: “Небесное – внутри, человеческое – вовне”. Это отчасти похоже на идеал, выраженный в Евангелии от Иоанна: быть в мире, но не от мира. Как и первые христиане, Чжуан-цзы не предлагает политического учения. В отличие от Лао-цзы, он не хочет превратить Китай в россыпь изолированных друг от друга деревушек.
Скорее всего, дело в том, что Чжуан-цзы не верит в готовые рецепты того, как стоит жить. Однако некоторые считают это главным недостатком подхода Чжуан-цзы: он абсолютно эгоистичен, сосредоточен на индивидуальном духовном совершенствовании и личном счастье. Питер Сингер точно сказал бы пару едких слов о последователе Чжуан-цзы, который не планирует бороться с бедностью, страданием, угнетением и социальным неравенством. Чжуан-цзы, похоже, принимает политический и социальный статус-кво, просто давая нам способ успешно сосуществовать с ним.
Однако в тексте есть намеки на более широкую общественную гармонию и, возможно, даже перемены в обществе, которых можно достигнуть, если состояния у-вэй достигнет достаточное число индивидов. Хотя Чжуан-цзы стремился направить силу дэ на сглаживание социальных противоречий, в его понимании оно, очевидно, было способно притягивать людей. Во втором диалоге Конфуция и Янь Хоя успех последнего в “забывании всего” (достижении полного спокойствия и освобождении от самомнения) заставляет даже великого Конфуция заявить, что он готов стать учеником Янь Хоя.
(Похожий мотив звучит в истории об Уроде То, который “был так уродлив, что мог бы напугать кого угодно”. Несмотря на это, его дэ было так могущественно, что правители умоляли его быть советником, мужчины боролись за то, чтобы стать его другом, а женщины были готовы отказаться от надежд на брак, лишь бы получить шанс стать его наложницей. И все оттого, что этот персонаж “всегда лишь соглашался с другими – и не более того”.)
Текст также предполагает, что дэ может привести к переменам, прямо влияя на ценности других людей. Если вы искренне лишены своекорыстия, то можете помочь другим достичь того же. В “Чжуан-цзы” читаем о человеке, которому по случаю столкновения с законом отрубили ногу (в древнем Китае не мелочились с наказаниями), и о том, как его изменила встреча с неким наставником-даосом. До встречи с учителем бывший преступник искал неприятностей, ввязывался в драки, обозленный на весь мир. Проведя некоторое время в обществе учителя, он, однако, обрел душевный покой. “Учитель, – объяснил он, – очистил меня своей добротой”.
Мысль в том, что душевное спокойствие мудреца настолько могущественно, что может слиться с внутренним миром окружающих. Просто пребывая рядом с ним, вы почувствуете себя лучше и легче достигнете у-вэй. Хотя видение Чжуан-цзы не откровенно политическое, оно дает возможность изменить мир по одному человеку за один раз. Там, где дэ правителя из “Дао дэ цзин” привлекает всех разом к естественности, мудрец из “Чжуан-цзы” распространяет свое дэ путем личных встреч. Тот, кто контактирует с ним, изменяется и начинает менять других. Это похоже на социальное заражение{164}: знакомый психологам, социологам и врачам эффект, при котором поведение или качества – ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, депрессивные состояния – начинают передаваться по социальным сетям, достигая людей, отстоящих до трех рукопожатий. То есть депрессия у конкретного человека может вызывать депрессивные состояния у людей, которых он в глаза не видел, тех, кто просто общается с друзьями его друзей. Идеал Чжуан-цзы – это такой мир, где все спокойно достигают естественности, свободно взаимодействуют друг с другом, но всегда возвращаются к собственному пути, как рыбы, “забывающие друг о друге в просторах многоводных рек и озер”.
Какой привлекательный образ! Вообще “Чжуан-цзы”, по-моему, – самая глубокая и красивая из книг. В мировой литературе ей нет равных в изысканности, знании природы человека и чистом таланте. Близко стоит лишь Ницше, однако мрак и надвигающееся безумие затмевают его пьянящий гений. На этом фоне здоровый оптимизм Чжуан-цзы предстает в выгодном свете. Увы, и Чжуан-цзы не избегает парадокса у-вэй.
Зачем терять свое “я”?
Если у Чжуан-цзы есть логическое противоречие, следует ожидать, что его друг Хуэй-цзы обнаружит его. И он нас не подводит. В одном из диалогов Чжуан-цзы в сущности соглашается с Мэн-цзы в том, что стремление отделить плохое от хорошего и покориться сознанию, – это в человеческой натуре. Чжуан-цзы называет это, отличающее нас от других живых существ, свойство “человеческими наклонностями”, но воспринимает его, в отличие от Мэн-цзы, отрицательно. Для Чжуан-цзы это главный недостаток, от которого, чтобы достичь у-вэй, нужно избавиться. Он объясняет Хуэй-цзы: “Коль скоро мудрый не строит планов, зачем ему знание? Коль скоро он не делает заметок, зачем ему склеивать расписки? Коль скоро он ничего не лишается, зачем ему требовать уплаты долга? Коль скоро он ничего не продает, зачем ему доходы? Все, что ему нужно, он приобретает на Небесном торжище. Приобретать на Небесном торжище – значит кормиться от Неба. И если он кормится от Неба, для чего ему люди? Он обладает человеческим обликом, но в нем нет человеческой сущности. Обладая человеческим обликом, он живет среди людей. Не обладая человеческими наклонностями, он стоит в стороне от «истинного» и «ложного». Неразличимо мало то, что связывает его с людьми. Необозримо велико – таково небесное в нем, и он в одиночестве претворяет его!”
Чжуан-цзы употребляет слово “наклонности” как термин, заимствованный из моистской логики, одной из многих, которые он использует. У моистов “наклонности” выступают качеством игрек, которое присуще категории вещей икс и которое позволяет отделять икс от вещей иных категорий. Чжуан-цзы, несмотря на недоверие к логике, оказывается, неплохо в ней разбирается: дружба с Хуэй-цзы позволила этим двоим учиться друг у друга. Хуэй-цзы, моиста-логика, раздражает, что Чжуан-цзы вольно обращается с терминами:
Хуэй Ши [Хуэй-цзы] спросил у Чжуан-цзы: “Верно ли, что люди изначально не имеют человеческих наклонностей?”
– Да, это так, – ответил Чжуан-цзы.
– Но если человек лишен человеческих наклонностей, как можно назвать его человеком? – вновь спросил Хуэй Ши.
Вполне резонный вопрос. И мы оказываемся скорее на стороне Хуэй-цзы. Чжуан-цзы возражает: “Одобрение и порицание – вот что я называю человеческими наклонностями. Я называю человеком без человеческих наклонностей того, кто не позволяет утверждением и отрицанием ущемлять себя внутри, следует тому, что само по себе таково, и не пытается улучшить то, что дано жизнью”. Хуэй-цзы это не убеждает:
Но если он не улучшает того, что дано жизнью, как может он проявить себя в этом мире? Дао дало ему облик, Небо дало ему тело. Он не позволяет утверждением и отрицанием ущемлять себя внутри. Ты же вовне обращаешь свой ум на внешние вещи, а внутри насилуешь свою душу. Прислонись к дереву и пой! Облокотись о столик и спи! Тебе тело вверили небеса, а вся твоя песня – “твердость” да “белизна”!
Диалог заканчивается, и мы должны бы поверить, что Чжуан-цзы победил, показав, каким жалким книжным червем является Хуэй-цзы. Однако Чжуан-цзы так и не ответил на вопрос, возможно потому, что его занудный друг подошел опасно близко к основному недостатку мысли Чжуан-цзы.
Согласно “Чжуан-цзы”, лишь люди обременены сознанием, языком и открыто выраженными ценностями. Мы – единственный вид, “зараженный” рассудочным мышлением, не позволяющим воспользоваться чувственным мышлением, счастливо направляющим прочие существа. Чтобы присоединиться к ним в гармоничном следовании Пути, нужно отключить рассудочное сознание, избавиться от того, что отличает нас от животных. В то же время, согласно религиозному мировоззрению, разделяемому всеми мыслителями древнего Китая, мы созданы Небом, а Небо, по определению, – благо. Поэтому Чжуан-цзы ругает Хуэй-цзы за то, что тот пренебрегает прекрасным телом, данным Небом, а в других местах убеждает нас “исчерпать то, что было даровано Небом”. Но если Небо дало нам тело, разве не оно же снабдило нас и “наклонностями”? И если оно дало нам наклонности (а иначе откуда бы они взялись?), то как они могут быть плохи? Зачем Небо дало нам сознательную психику и способность к проявлению “неестественных” усилий, если не подразумевало, что мы будем к ним прибегать? С одной стороны, в “Чжуан-цзы” говорится, что Путь Неба всюду, даже в “кале и моче”. Если это так, то почему именно одно человеческое качество (способность пользоваться сознательной психикой) каким-то образом отделено от Неба?
Если отбросить теологию, то мысль о том, что для достижения у-вэй нам нужно окончательно уничтожить рассудочное мышление, также загадочна. Когнитивный контроль появился по конкретной причине (гл. 3) и позволил людям строить планы, оценивать варианты развития событий и соображать, как взаимодействовать с окружающим миром. Разве это не делает рассудочное мышление в некотором смысле “естественным” для нас? Я считаю, что в этом суть критики Хуэй-цзы образа мудреца по Чжуан-цзы. Люди – не рыбы. Чтобы жить, они мыслят, рассуждают и прилагают усилия. В этом же суть критики Чжуан-цзы в последней главе “Цюань сюэ”, написанной в конце периода Борющихся царств: “Чжуан-цзы был одержим «Небесным» и «естественным» и потому не понимал важность человеческого”. Природа человека не может быть неестественной.
Здесь мы видим, в сущности, то же противоречие, которое встречали в “Дао дэ цзин” и (до определенной степени) в “Мэн-цзы”. Нам предлагают быть естественными, но разве то, что мы уже делаем, по определению не “естественно” для нас? То, что мы не прислушиваемся к своему ци и не плывем пассивно туда, куда подсказывает душа, предполагает, что, возможно, мы не созданы для этого. Иными словами, если река Пути только и ждет, чтобы принять нас в свои воды, почему мы уже не плывем на тыквенном плоту, болтая ногами в воде, прикладываясь к жбану с пивом? Когда Чжуан-цзы просит Хуэй-цзы перестать беспокоиться о логических причинах, перестать умом отличать хорошее от плохого, разве он сам не направляет его ум прочь от того, что “плохо”, к тому, что, по его мнению, “хорошо”?
Чжуан-цзы видит эту ловушку и не хочет попасться на том, что призывает выбрать один из путей. Он прибегает к удивительным риторическим уловкам:
Речь – это не просто выдыхание воздуха. Говорящему есть что сказать, однако то, что говорит он, крайне неопределенно. Говорим ли мы что-нибудь? Или мы на самом деле ничего не говорим?
Предположим, я высказываю суждение о чем-то и не знаю, следует ли его определять как “истинное” или как “неистинное”. Но каким бы оно ни было, если мы объединим “истинное” и “неистинное” в одну категорию, то исчезнет всякое отличие от иного суждения.
Чжуан-цзы избегает описания конкретных практик, которые следует освоить и применять. Воображаемый диалог Конфуция и Лао-цзы это проясняет: “Свойствами своими, учитель, вы равны Небу и Земле, но вы прибегаете к возвышенным словам, дабы побудить других совершенствовать свое сердце. Кто из благородных мужей древности мог обойтись без этого?”
Здесь Конфуций для разнообразия выступает как Конфуций, а не как резонер Чжуан-цзы, и защищает первую из стратегий у-вэй, которую мы обсуждали: проект “отделки и полировки” личности. Если Лао-цзы просит нас вести себя не так, как мы ведем себя сейчас, считает Конфуций, то он, чтобы помочь, должен дать практики и наставления. Более того, их применение должно требовать усилия, по крайней мере сначала. Однако Лао-цзы отвергает этот подход: “Это не так. Когда вода течет вниз, она сама ничего не делает, ибо стекать вниз – ее природное свойство. Высший человек не совершенствует свои свойства, но люди не отворачиваются от него. Вот и небо само по себе высоко, земля сама по себе тверда, солнце и луна сами по себе светлы. Что же им надлежит совершенствовать?”
Мысль проста: мы, даосы, вообще никогда не стараемся. Но, разумеется, это не конец истории, иначе не было бы даосизма. Мы находим два диалога Конфуция и Янь Хоя, которые похожи на две версии одной истории: как зануда Янь Хой оставил конфуцианство и стал мудрецом по Чжуан-цзы. Сравнение двух версий помогает уловить противоречие. В первом варианте Янь Хой беседует с Конфуцием не дольше десяти минут, и – бац! – нет больше Хоя. Он внезапно постиг пустоту, через шок достиг состояния у-вэй и теперь может отправляться своей дорогой. Это имело бы смысл, если бы у-вэй составлял нашу истинную природу и мы должны были бы просто осознать ее. Во второй истории Янь Хой постоянно отлучается куда-то и делает нечто, требующее времени, так как между беседами с Конфуцием проходят по меньшей мере сутки. Способность Янь Хоя “просто сидеть в забытьи” достигается постепенно, через какую-то практику, и, несмотря на протесты Лао-цзы в вышеприведенном отрывке, это похоже на самосовершенствование.
По-моему, в книге две варианта истории потому, что последователи Чжуан-цзы разделились на сторонников внезапного и постепенного. Внезапный подход дает даосам лучшую теоретическую защиту: отвергая старание, они не заставляют вас ничего делать. Они просто говорят: пробудись! Проблема в том, что внезапный подход оставляет людей в институциональном вакууме. Учение, которое не требует от вас чего-либо конкретного, вряд ли можно назвать религией. С другой стороны, если школа Чжуан-цзы требует от вас делать нечто конкретное, она опровергает утверждение, что любое старание – это плохо. Противоречие, которое мы видим здесь, очень похоже на проблему Лао-цзы: “Тот, кто знает, не говорит”. Это вполне справедливо, но люди, которые заявляли, что приняли эту идею, все же почувствовали необходимость написать об этом целую книгу. Здесь можно услышать Мэн-цзы. Просто веди себя естественно, но нет, не так, как вы склонны вести себя, а вот так естественно (для чего требуется работа над собой).
Так что противоречие возвращается, как мигрень. Мы пьем обезболивающее, но оно дает лишь временное облегчение. Через час или два голова снова начинает пульсировать, и это все та же боль. С точки зрения медицины, боль, которая длится долгое время и не снимается лекарствами, может быть симптомом серьезного заболевания. Если у вас болит голова две недели подряд, возможно, стоит сделать МРТ. То же самое можно сказать, когда речь заходит о религиозном или философском противоречии. В следующей главе мы попробуем провести философский аналог МРТ, заглянуть за симптомы – неустранимый парадокс, – чтобы понять суть расстройства. Как мы увидим, есть причина, в силу которой парадокс у-вэй разрешить не получается, и она многое говорит о трудностях, которые присущи цивилизованной жизни.
Глава 7 Парадокс у-вэй: спонтанность и доверие
Рассмотрев четыре стратегии достижения у-вэй, мы пришли к неразрешимому противоречию. Все встреченные нами мыслители утверждают, что если мы сможем достичь состояния совершенной спонтанности и естественности, остальное само сложится наилучшим образом. Мы будем пребывать в гармонии с Небом. Мы будем обладать дэ – харизмой, обеспечивающей общественный и политический успех. Мы сможем идти по миру со сверхъестественной легкостью. Однако все мыслители сталкиваются с проблемой, как стараться действовать искренне или без усилий. Нас призывают перейти в состояние, которое по своей природе кажется недостижимым через сознательное желание. Это – парадокс у-вэй{165}: как стараться не стараться.
Этот парадокс, как и все парадоксы, неразрешим. Мы видели, что даже если древнекитайский мыслитель его “устраняет”, тот возникает снова – немного в другой форме. Он подобен Гидре и отращивает две головы вместо одной отрубленной. Более того, этот парадокс становится центральным во всех дальневосточных религиях. чань(дзэн) – буддисты прилагали огромные усилия, чтобы избавиться от него в VIII веке, когда школа, предлагавшая “постепенный” подход к просветлению (считавшая, что нужно упорно трудиться, чтобы стать просветленным; вспомните заветы конфуцианцев), была официально побеждена школой, отстаивавшей “внезапность” просветления (все мы будды, так что стараться не нужно; напоминает даосизм или радикальную трактовку Мэн-цзы). Парадокс разрешен постановлением! Любой, кто называет себя чань-буддистом, должен придерживаться догмы о внезапном просветлении. Однако почти сразу после победы наметился новый раскол: между “постепенным” внезапным подходом, утверждавшим, что нужны время и усилие, чтобы “пробудить” свою внутреннюю природу, и “внезапным” внезапным подходом: нет, нет, нет, мы не должны делать вообще ничего, иначе мы будем стараться, а ведь все мы знаем, что стараться – плохо{166}.
Японский дзэн унаследовал это противоречие, превратившееся в линию разграничения между традициями сото и риндзай. Обе школы настаивали на “внезапности”: для дзэн-буддистов это условие теперь было обязательным. Однако приверженцы сото тяготели к тому, что мы могли бы назвать конфуцианской частью спектра: да, мы уже будды, но чтобы осознать это, нужны ритуалы и практики, и мы должны совершать дзадзэн под руководством наставника, и все это занимает много времени. Но не потому, что мы стараемся, помилуйте! Мы совершаем все эти практики, потому что это делают просветленные. Это раздражало более даосски настроенных представителей школы риндзай, которые говорили: убей Будду, сожги храмы, позабудь про дзадзэн, ритуальные поклоны, славные колокольчики и просто познай природу Будды, прямо сейчас, даже если это значит бегать по горам голым и пьяным, воя на луну. Любые организации, любые практики, любое сосредоточенное усилие загрязняет истинную природу Будды, которую нужно осознать – то есть просто проснуться. “Ага!” – отвечали люди из сото. Вы в своей риндзай одержимы пробуждением и не замечаете, что мы уже пробуждены. Нет нужды осознавать природу Будды! Мы уже являемся буддами, когда сидим на подушке. Более того, мы действуем спонтаннее вас: вы хотите достичь просветления, а мы уже его достигли. Ха, съели?
Современные мастера дзэн продолжают ломать голову над этим парадоксом. Судзуки Сюнрю, представитель школы сото, много лет учивший в Сан-Франциско, пытался втолковать ученикам, что в практике дзэн нет “ничего особенного”. Поскольку все мы уже просветленные, то не должны слишком увлекаться практиками. Сото – это “просто сидение”, без ожиданий и без цели. “Если практика – только средство для достижения просветления, – предупреждал он, – то, воистину, нам его не достичь!” Хитрость в том, чтобы совершать практики дзэн, не задумываясь о том, чтобы совершать их: “Строго говоря, любое прилагаемое нами усилие не способствует практике, ибо оно порождает волны в сознании. Однако невозможно добиться спокойствия сознания, не прилагая усилий. Необходимо прилагать определенные усилия, но, делая это, мы должны забывать себя”[9]. Слово в слово похоже на “Чжуан-цзы”.
Это противоречие в более или менее одинаковом виде снова и снова появляется в трудах, хронологически далеко отстоящих друг от друга, и, следовательно, отражает фундаментальную особенность человеческой жизни. Мы находим этот парадокс по всему миру, а не только в дальневосточной мысли, которая в любом случае вся проистекает из периода Борющихся царств. Так, у Платона мы находим парадокс Менона: чтобы научиться чему-либо, ученик должен осознать, что это заслуживает изучения. Как внушить любовь к учебе, если изначально ее нет? (Проблема Конфуция в кратком изложении.) Аристотель был вынужден заключить: чтобы совершить действительно справедливый поступок, уже нужно в некоторой степени быть справедливым. Нужно нести в себе начало справедливости, и тогда роль учителя будет сведена к тому, чтобы помочь ученику сосредоточиться на этих ростках и взрастить их. (Похоже на Мэн-цзы, да?)
Это противоречие отмечает и средневековая христианская философия. Мыслители вроде Августина (рассуждавшего о порочности человека) боролись против того, что Алесдер Макинтайр назвал “христианской версией парадокса Менона{167}: кажется, что, только поняв, чему тексты могут научить, [читатель] может начать читать эти тексты; но лишь прочитав их, он поймет, чему они могут научить”. Это очень похоже на парадокс, который озадачивал Конфуция, Сюнь-цзы и Мэн-цзы. Мы находим его и у индийцев. “Бхагавадгита”{168} фокусируется на загадке карма-йоги, состояния, в котором человек может получить все желаемое, но только будучи искренне свободен от желаний и безразличен к их исполнению. (Кто заказывал Лао-цзы?)
Более того, забота о том, как достичь состояния спонтанности, тесно связана с прозаическими, глубоко современными проблемами: почему вы не можете познакомиться с девушкой, когда этого хотите, почему не можете усилием воли прервать череду спортивных поражений, почему нельзя выиграть в майндбол, если стараться выиграть? Более того, как только вы понимаете, на что обращать внимание, вы повсюду замечаете этот парадокс. Однажды я читал своей пятилетней дочери перед сном ее любимую книгу про Айви и Бин – из серии про двух девочек, попадающих во всякие неприятности. В рассказе “Обреченные быть злыми” Айви впечатляет легенда о Франциске Ассизском, мораль которой, безусловно, в том, что если ты “супердобрый и с чистым сердцем{169}, животные будут считать тебя одним из них, и любить тебя, и следовать за тобой”. Животное дэ! Неслабо для семилетней девочки. Потом Айви и Бин решают стать действительно хорошими, чтобы получить такое дэ и чтобы колибри начали летать за ними. Оказывается, это непросто: попытки быть искренне добрыми ни к чему не приводят, поэтому в конце концов подруги сдаются и решают остаться плохими – это хотя бы веселее. “ Дэ… парадокс у-вэй”, – оказывается, бормотал я, пока читал. (“Папа, о чем ты?”, – пожаловалась дочь, и время сна оказалось отложено из-за долгой беседы о том, чем папа зарабатывает на жизнь.)
Так что парадокс существует, и он повсюду. Но почему? Почему так трудно расслабиться, если мы прежде не расслаблены, и полюбить правило, которое мы прежде не любили, или забыться в деятельности, которой прежде не наслаждались? В общем, почему состояние у-вэй неуловимо?
Мы можем сделать шаг к решению этого вопроса, предприняв путешествие в прошлое. Большая доля китайских текстов, которые мы обсуждали выше, – “канонические”, дошедшие до нас потому, что тысячелетиями их копировали и редактировали безымянные переписчики. У нас может быть довольно старая рукопись, но трудно сказать, насколько сильно канонические манускрипты расходятся с написанным их авторами в IV веке до н. э. Более редким типом текстов являются ископаемые письменные источники: книги и их фрагменты, надписи на кости, бронзе, бамбуке или шелке, извлеченные из земли или из замурованных пещер. Этих текстов долго не касались редакторы и переписчики, и поэтому они дают более верное представление о концептуальном мире древнего Китая. Два важных комплекса ископаемых письменных источников описывают парадокс у-вэй необычно откровенно и, следовательно, невероятно полезны для нас.
Прямо из земли: что кости и бамбук рассказали об у-вэй
Древнейшие письменные свидетельства о Китае происходят из долины реки Хуанхэ и относятся ко II тысячелетию до н. э. В 90-х годах XIX века китайский исследователь заметил, что на бычьих лопатках и черепашьих панцирях, которые перемалывают знахари, попадается нечто, похожее на надписи. Нам неизвестно, сколько бесценных свидетельств о жизни и религии древнего Китая были перетерты в порошок. Теперь мы знаем, что на гадальных костях (их до сих пор находят в захоронениях) записаны предсказания для правителей из династии Шан (Инь), первой в истории китайской династии (1600–1046 годы до н. э.). Надписи большей частью представляют собой вопросы, которые правители задавали верховному божеству Шанди о неурожае и войнах, болезнях и наследниках: все, насчет чего мы обычно беспокоим сверхъестественных существ.
Я решил написать о парадоксе у-вэй, вдохновившись работами известного синолога и философа Дэвида Нивисона, который в 80-х годах XX века описал “парадокс добродетели (дэ)”{170}, проследив его путь вплоть до текстов на гадальных костях. “Парадокс добродетели” покажется знакомым читателям “Айви и Бин”, “Дао дэ цзин” и “Бхагавадгиты”: дэ, или нравственная харизма, может быть обретена лишь тем, кто не пытается ее обрести. То есть добрый поступок, совершенный в ожидании награды, делается бессмысленным. Если вы пытаетесь быть хорошим, чтобы достичь выгоды, например привлечь к себе славных колибри или привести мир к порядку, это не сработает.
Этот парадокс присутствует даже в указанных записях первой великой цивилизации Китая. На одной из гадальных костей речь идет о болезни, поразившей супругу правителя, и просьбе правителя к духам перенести эту кару на него. Он выражает желание заболеть самому, если духи отведут гнев от его возлюбленной. Нивисон объясняет, что “предложенное самопожертвование{171} в идеале должно привести к следующему: больная должна была выздороветь, сам царь не должен заболеть, а из-за его готовности пожертвовать собой его дэ увеличилось бы”. Дэ, которое Нивисон переводит как “добродетель”, – в шанских текстах понятие более узкое, чем в текстах периода Борющихся царств. Оно относится к психической энергии, которая заставляет других (и земных существ, и сверхъестественных) чувствовать долг перед ее обладателем, например шанским правителем, и, соответственно, желать подчиняться и помогать ему. Неплохой результат. Но это сработает, лишь если обладатель дэ не думает о результате. Царь Шан должен искренне желать пострадать, чтобы избежать страдания. Он может получить дэ, лишь если не желает его получить.
Гадальные кости относятся, похоже, к наследию первого в Восточной Азии крупного, сложно устроенного общества. Противоречие, которое, как определил Нивисон, таится в этих надписях, важно. Оно выступает симптомом радикальных перемен, породивших шанскую культуру и независимо произошедших примерно в то же время (около пяти тысяч лет назад) в разных регионах мира.
На протяжении большей части истории{172} нашего вида люди взаимодействовали в основном с родственниками и близкими знакомыми (в рамках доземледельческой общины). Эволюционные биологи предложили модели, хорошо объясняющие взаимодействие в таких условиях. Мы помогаем своим родным, потому что они несут те же гены, а также сотрудничаем с людьми, которых близко знаем. То есть: я почешу спину тебе, ты почешешь мне, а если нет – я это запомню и больше не буду чесать тебе спину. Такого рода взаимодействие очень похоже на то, которое мы видим у других социальных животных. Кроме того, людям свойственна врожденная психологическая адаптация{173} для жизни в малых группах, например способность распознавать и запоминать определенное число лиц, умение видеть обман, а также эмоции – позитивные (эмпатия) и негативные (праведное негодование из-за несправедливого отношения к себе). Все это чувственные познавательные процессы. Для нас совершенно естественно любить семью и друзей и злиться, когда кто-нибудь лезет вперед без очереди.
Наверное, наибольшей загадкой в эволюционной биологии является то, как конкретный вид приматов – люди – совершил переход от доземледельческой общины к обитанию в городах. Выработанные за миллионы лет спонтанные психологические механизмы, которые мы делим с другими приматами, приспособлены в первую очередь для взаимодействия с родственниками и знакомыми. Но как наши предки, располагая лишь этим арсеналом, смогли приспособиться к пестрой городской жизни, требующей взаимодействия с огромным числом незнакомцев и принятия новых общественных условий вроде безличного государства? Ведь обезьяны не платят налогов и не перерабатывают ресурсы. Как мы смогли перейти от охоты и собирательства к небоскребам и жюри присяжных? Само по себе чувственное мышление, скорее всего, не могло нам в этом помочь, поскольку прошедшего времени было недостаточно для того, чтобы эволюция породила сложные психологические механизмы. Помните: чувственное мышление – быстрое и эффективное, но очень негибкое.
Существует две основные теории, объясняющие, как в целом безволосые обезьяны смогли перейти от общинного уклада к государству. Почти общепринятым на Западе является следующее объяснение: переход свершился благодаря институтам. Наше чувственное мышление вообще не изменилось с тех пор, как мы бегали по африканской саванне, и в глубине души мы все еще стайные приматы. Перемена же образа жизни произошла за счет возникновения внешних институтов (законов, наказаний, денег, бюрократии), позволивших психике перенаправить и подавить древние инстинкты. Жить в сложном обществе – все равно, что выполнять тест Струпа: центры когнитивного контроля вынуждены постоянно подавлять чувственное сознание, чтобы удерживать нас от естественного поведения, которое в цивилизованном мире приведет к общественному порицанию или аресту. Цивилизация олицетворяет собой триумф рассудочного мышления над чувственным. Фрейд и Мо-цзы с этим согласились бы.
В последние десятилетия все больше западных философов и социологов ставят эту теорию под сомнение по причинам, которые, надеюсь, теперь ясны. Наше рассудочное мышление не имеет ни силы, ни выносливости, достаточных, чтобы круглосуточно держать в узде чувственное. Людей выматывают всего пятнадцать минут тестов Струпа или других испытаний когнитивного контроля. А представьте, что будет после целого дня испытаний!
Гораздо вероятнее, что переход к цивилизации (от лат. civitas – “город-государство”) подготовило не сознательное подавление животных эмоций, а эмоциональное обучение: перенаправление и “облагораживание” инстинктов посредством рассудочного мышления. Мы становимся агрессивными, если кто-либо причиняет травму нам или нашему родственнику. Культура или религия может научить нас реагировать таким же образом, если что-нибудь угрожает нашей нации, то есть не связанным кровным родством людям, которых я скорее всего никогда не встречу лично. Согласно этому взгляду, чтобы принудить множество незнакомцев кооперировать, нужен не бесконечный ряд новых законов и институтов, а выработка общих ценностей. Законам вы просто подчиняетесь, а ценности просто чувствуете. Будучи усвоенными, ценности функционируют так же, как другие формы чувственного мышления: быстро, автоматически, бессознательно. Похоже, парадокс у-вэй возник как естественное следствие превращения охотников и собирателей в земледельцев и горожан.
Роберт Фрэнк, экономист из Корнелльского университета, коротко и ясно объяснил, почему это может быть так. Он одним из первых отверг теории о доминировании рассудка, признав “стратегическую роль эмоций”{174}. Большинство коллег Фрэнка считали, что в основе общественного сотрудничества лежат в первую очередь рациональные мотивы личной выгоды, которыми можно управлять с помощью нужных внешних стимулов. Если вы не хотите, чтобы люди совершали поступки икс, то есть нечто, что им нравится и приносит удовлетворение, скажем, уровня 1, нужно издать закон, предусматривающий за поступки икс наказание со значением большим, нежели 1. Получаем кооперацию.
Проблема, по Фрэнку, в том, что множество вариантов взаимодействия (все проекты, требующие доверия, и экономический обмен, и преданность своим возлюбленным, супругам и друзьям) не могут направляться исключительно рассудком{175}. Фрэнк утверждал, что иррациональность в таких ситуациях есть единственный путь к кооперации и именно в эмоциях (любовь, благодарность, негодование, зависть, гнев, честь, преданность) берет начало этот тип иррациональности.
Рассмотрим простую сделку. Скажем, я пообещаю вам пять кур за то, что вы неделю будете работать на моей ферме, а неделю спустя отдаю лишь трех. Если вы действуете абсолютно рационально, то возьмете трех кур и уйдете восвояси. Почему? Риск погибнуть или получить увечье в драке не стоит двух кур. К сожалению, действуя абсолютно рационально, вы превратите себя в экономического мальчика для битья. Зачем мне давать вам столько, сколько я обещал, если я знаю, что вы возьмете то, что дадут? Теперь представьте, что вы вместо этого выражаете праведное негодование. Я понимаю, что если попытаюсь дать вам меньше обещанного, вы слетите с катушек и поведете себя иррационально агрессивно. И такой человек, скорее всего, будет получать столько кур, сколько ему обещано.
Та же логика применяется в игре “Ультиматум”, которую мы обсуждали выше. Если мне дадут 100 долларов с условием разделить эти деньги с вами и я предложу вам 1 доллар, чтобы оставить себе остальное, вы разозлитесь и зарубите сделку, несмотря на то, что разумно было бы взять 1 доллар. Куры или доллары, не важно: Фрэнк указывает на то, что общественное сотрудничество невозможно, если за ним не стоят мощные эмоции, которые заставляют быть честным.
В этом смысле эмоции в краткосрочной перспективе иррациональны (приносят больше убытков, чем прибыли), однако рациональны в долгосрочной (уменьшают в итоге затраты). Однако эмоции приносят пользу, лишь если они действительно иррациональны и искренни. Мое праведное негодование выступает эффективным фактором сдерживания только тогда, когда оно действительно может привести к иррациональному насилию. Иными словами, я могу рассчитывать на выгоду в долгосрочной перспективе, лишь если я не рассчитываю на выгоду. Ничего не напоминает?
Фрэнк интересовался этим противоречием и описал его как “простой парадокс”, сходный с “парадоксом добродетели” Нивисона. Наши долгосрочные интересы требуют доверия между людьми, но доверия к себе может добиться лишь тот{176}, кто сейчас отказывается от личной выгоды. В контексте цивилизации моральные чувства являются ключом к максимизации материального благополучия, но они эффективны, лишь если они искренни. Трудно представить себе более ясный анализ парадокса, лежащего в основе любого социального обязательства, будь то готовность шанского правителя принять на себя болезнь возлюбленной или искреннее (искреннее ли?) желание Иви ощущать любовь ко всем живым существам.
Дополнительным подтверждением{177} тесной связи парадокса у-вэй с рождением цивилизации служат древнекитайские тексты, найденные в 1993 году у деревни Годянь (пров. Хубей). Эти записанные чернилами на бамбуковых дощечках тексты радикально изменяют очертания древнекитайской философии. Меня впечатляет, что эти тексты толкуют парадокс у-вэй и эксплицитно помещают его в контекст общественного сотрудничества.
В годяньских текстах говорится о чем-то наподобие модели Фрэнка, при которой взаимодействие возможно лишь потому, что люди разделяют одни и те же ценности и глубоко доверяют друг другу. В указанных памятниках подчеркивается, что культурные институты, например ритуалы и законы, не были бы действенны, если бы их не вводили люди, искренне пекущиеся об общем благе. Так, годяньские тексты подчеркивают контраст между отношениями двух типов: органической связи отца с сыном и социально обусловленной связи правителя и его советника. Связь первого типа возможна потому, что она по сути у-вэй. Родители естественным образом любят своих детей, а дети так же естественно любят и уважают родителей. И те, и другие знают, что они вопреки всему будут стоять друг за друга (по крайней мере, в идеальном мире авторов годяньских текстов). Это означает, что доверие создается органично, как написано в тексте: “Отец окружен сыновней любовью{178}, а сын – отеческой заботой, и это не требует усилий”.
Политические отношения, с другой стороны, по своей сути не у-вэй, и чувственное мышление советника не требует от него доверять, подчиняться или любить старшего по положению, однако они должны стать у-вэй, чтобы управление государством шло своим чередом. Годяньские тексты пронизаны беспокойством о том, как обеспечить этот переход, если человек не может сознательно пытаться быть нравственным, но не может и непытаться, так как политический порядок зависит от чиновничьих добродетелей. После смелого заявления, будто такого рвения и справедливости нельзя достичь через стремление, следует замечание: “Если вы стараетесь проявлять сыновнюю почтительность, то это не настоящая сыновняя почтительность. Если вы пытаетесь быть послушным, это не настоящее послушание. Не стоит пытаться, но не пытаться не стоит”. Основной мотив годяньских текстов следующий: хотя стремление и усилия подозрительны в морально-нравственном отношении, человек не может не пытаться проявлять их, чтобы мир пребывал в порядке, а люди избегали хаоса естественного состояния. Таким образом, если кто-нибудь хочет привести общество к порядку, необходимо найти способ обойти парадокс: как стараться не стараться.
Одним из приятных моментов в этих недавно обнаруженных текстах является то, что они поясняют, как парадокс у-вэй связан ценностной моделью общественного сотрудничества. Если использовать только поощрение и наказание (то есть прибегнуть к эгоистичному рассудку), то не важно, что люди ощущают. Вы создаете стимулы, доносите их до людей, а потом судите их поступки. В ценностной модели то, что люди на самом деле ощущают, является основным фактором: если у меня нет уверенности в том, что вы следуете тем же самым идеалам, мы не сможем работать вместе.
Татуировки и шибболет: веруем в тело
Мои наиболее проницательные или коварные читатели, должно быть, сочли (и справедливо), что для того, чтобы преуспеть, нужно, чтобы тебя считали преданным всеобщему благу. Не проще ли тогда казаться преданным и пользоваться преимуществами такой преданности, на самом деле оставаясь эгоистичным подлецом, готовым отказаться от своих обязательств, как только они начнут обходиться слишком дорого?
Ну да! В любом обществе есть люди, следующие этой стратегии. Одним из наиболее правомерных выводов тех, кто предпочитает математически смоделированные стратегии взаимодействия, является следующий: стратегия преданности неизбежно ведет к появлению стабильного числа{179} искренне “сотрудничающих” и “обманщиков” (волков в шкуре альтруистов), между которыми окажутся более или менее готовые к сотрудничеству индивиды. Общество, состоящее лишь из “обманщиков”, никогда не преуспеет. А общество, состоящее лишь из альтруистов, очень скоро переполнится “обманщиками” и погибнет под весом этих нахлебников. В крупных сообществах по всему миру обычна ситуация, когда преобладают альтруисты, но выживают и некоторые “обманщики”, потому что затраты на безошибочное определение “обманщиков” слишком велики. Изначальное недоверие настолько же парализует общественную жизнь, насколько слепое доверие готовит почву для обмана.
Но чтобы добиться равновесия, “обманщиков” следует держать под контролем. А для распознавания себе подобных альтруисты должны иметь сигнальную систему, которую было бы трудно обойти “обманщикам”. Нужны надежные методы охраны границ группы, чтобы убедиться, что ее члены явно отличаются от посторонних, и определения того, кто в группе является альтруистом, а кто эгоистичным “безбилетником”.
Одно из возможных решений – сигналы честности, которые имитировать трудно, а может, и невозможно. Идея сигналов возникла, когда этологи пытались объяснить некоторые загадочные аспекты поведения животных. У павлинов, например, огромные цветные хвосты{180}. Эти хвосты требуют много энергии, выступают аналогом светящейся таблички “Съешь меня” и очень затрудняют избегания хищников, принявших это приглашение. Антилопы, в свою очередь, не сразу убегают, когда к ним в саванне приближается лев. Они сначала тратят кучу сил и времени на смотровые прыжки (стоттинг) – будто дразнят хищника и предлагают последовать за собой.
Сейчас наиболее вероятным объяснением этих явлений принято считать следующее: огромный хвост павлина или утомительные прыжки антилоп служат надежными сигналами. Павлин с огромным хвостом шлет самкам сообщение: “Эй, глядите! Я здоров и силен. Я смог выжить вопреки этому нелепому хвосту. Спаривайтесь со мной, и у вас будут здоровые дети”. А прыгающая антилопа передает сигнал, похожий на тот, который сообщает прыщавый подросток{181}, заставляя реветь двигатель своей машины на светофоре: “И не пытайся угнаться!”
Основной чертой этих биологических сигналов является то, что их в принципе нельзя подделать{182}. Больной павлин не сможет отрастить большой хвост и выжить с ним, а слабая антилопа не подпрыгнет достаточно высоко. Многие антропологи считают, что люди используют принципиально не поддающиеся имитации сигналы, чтобы сообщать о надежности и преданности группе. Но это сигналы культурные, а не биологические.
Хорошим примером такой сигнальной системы является модификация тела. Во многих обществах обычным способом обозначить принадлежность к группе и верность ее ценностям выступает намеренное изменение анатомии – безвозвратное и, желательно, болезненное. Обрезание крайней плоти, татуирование лица, сильное удлинение мочек ушей: такие “заявления” трудно отозвать. Примерно это я пытался внушить сыну своего коллеги, когда он взялся покрывать кожу довольно вызывающими татуировками на антикапиталистическую тему. “Тебе всего девятнадцать, – напомнил я. – А что если к тридцати пяти ты решишь, что больше не хочешь носить на предплечье татуировку с толстым капиталистом, высасывающим кровь из земного шара?” Ответ был очень показательным: “Я не хочу стать человеком, который не захотел бы такую татуировку”. Это суть затратной сигнальной системы. Она говорит о сильной и искренней преданности определенной системе ценностей именно потому, что это навсегда{183}.
Другим довольно очевидным и тяжело поддающимся подделке знаком принадлежности к группе является акцент. Примерно в двенадцатилетнем возрасте{184} люди теряют способность к идеальному освоению языков, и иностранный язык, выученный во взрослом возрасте, будет звучать с акцентом. Это, возможно, побочный продукт сокращения избыточных синапсов, потому что при нормальном развитии человек к двенадцати годам осваивает все необходимые в конкретном обществе языки, так что что такие ценные нейроны, участвующие в усвоении языков, могут быть вовлечены во что-нибудь еще. Однако культурная эволюция сосредоточилась на этой физиологической функции как на значимом сигнале. Если ты вырос не с нами{185}, то ты не говоришь, как мы, и мы с меньшей вероятностью будем с тобой сотрудничать. Как известно из библейской Книги Судей (12:4–6), галаадитяне, пожелав перебить побежденных ими ефремлян, стали требовать, чтобы всякий, переправляющийся через реку, произносил слово “шибболет”. Очевидно, в диалекте ефремлян не было заднеязычного ш, они могли произнести только сибболет – и в тот же момент погибали. Слово шибболет теперь обозначает условный знак принадлежности к группе, но это не имеет отношения к оригинальному значению: библейский шибболет работал только потому, что этот признак не был условным. Все группы используют шибболеты{186} в ситуациях, когда выделение своих становится важным.
Маркеры групповой принадлежности, например татуировки и акцент, стабилизируют социальные общности, выделяя “своих”, затрудняя переход на другую сторону в случае неприятностей и служа надежным сигналом того, что незнакомцу можно доверять. Само по себе это почти не имеет отношения к решению некоторых проблем человеческого взаимодействия, присущих модели приверженности ценностям. Вот почему успешные религии, например, требуют от своих адептов проводить огромное количество времени, приобретая тайные знания (изучая мертвые языки, священные тексты), или участвовать в деятельности, которая может показаться бессмысленной (слушать проповедь в церкви каждое воскресенье вместо того, чтобы работать в поле или торговать). Готовность человека тратить время{187} и силы – отчетливый сигнал преданности группе.
Однако даже внутри таких групп мы сталкиваемся с проблемой отделения искренних приверженцев от “попутчиков”. Нужно иметь возможность отделять искреннюю преданность от информированного эгоизма. Вполне возможно, например, что я принимаю причастие и хожу в церковь по воскресеньям, потому что знаю, что быть членом христианского клуба – значит иметь выгоду: пользоваться социальной поддержкой, преференциями при получении кредита и контрактов, лучшими школами для моих детей. В этом случае изучение Библии и регулярное участие в службах могут того стоить. Таким образом, хотя некоторые теоретики религии используют терминологию “сигнальной системы”, чтобы описать поведение, обозначающее принадлежность к группе, аналогия между посещением церкви и павлиньим хвостом неточна. Павлин с огромным хвостом физически здоров – и точка. А сигнал “проведение религиозных ритуалов” может быть подделан в том смысле, что он (“Я действительно думаю о Боге и разделяю ценности сообщества”) может не совпадать с реальной мотивацией (“Я здесь лишь для того, чтобы бесплатно получить кексы и кофе”).
Здесь становятся важны менее уловимые физиологические знаки. Сознательная психика, этот хитрый манипулятор, может лгать, но одной из основных черт актуального сознания является то, что оно большей частью не находится под сознательным контролем. Тело обычно говорит правду{188}. Все мы ощущали себя преданными собственным телом, которое не желало поддерживать идеальную ложь, приготовленную нашим разумом. Когда я лгу или просто думаю о том, чтобы солгать, я начинаю странно улыбаться. Я прекрасно знаю, как это выглядит: как только я начинаю лгать, я чувствую, как мышцы щек против воли начинают сокращаться, а если я пытаюсь сдерживаться, то становится только хуже. Я не видел этого со стороны, пока не заметил ту же черту у своей дочери. Когда я подозреваю ее во лжи, то заставляю все повторить, глядя мне в глаза. Если она говорит правду, ее лицо спокойно, но если она лжет, возникает неловкая улыбка. Эта глупая “лживая улыбка”, очевидно, является одной из тяжелых генетических пороков, которые дочь получила от меня. Скорее всего, с возрастом она научится лгать, но сейчас, когда ей пять, у меня есть почти стопроцентно точный детектор лжи{189}.
Психолог Пол Экман стал известен{190} своими работами по каталогизации и объяснению физиологических основ эмоций и микровыражений лица, а также своим умением распознавать их. Одной из наиболее важных находок Экмана стала следующая: искренние эмоции обычно передаются мускульными системами, которые почти невозможно контролировать сознательно. Мы все помним фальшивые улыбки на семейных фотографиях. Эти неловкие улыбки легко отличить от того, что Экман называет “улыбкой Дюшена”. Дюшен, французский врач, продемонстрировал в XIX веке, что искренняя улыбка, вызванная нашим актуальным сознанием, задействует принципиально иной набор мышц, нежели фальшивая. Причина, по которой просьба к фотографируемым “сказать: «сыр»” иногда работает, в том, что она настолько нелепа, что вызывает искреннюю радость, вызывающую неподдельную улыбку. Эмоциональные реакции выступают надежными сигналами именно потому, что, как правило, не находятся под сознательным контролем.
Разумеется, всегда будут существовать люди, лгущие исключительно хорошо. Роберт Фрэнк иллюстрирует это большой подборкой фотографий Вуди Аллена, который смотрит в камеру с выражением смиренной печали, полностью зависящей от способности напрягать лобную мышцу, мышцу гордецов и мышцу, сморщивающую брови. Это выражение появляется на лице спонтанно, когда мы испытываем печаль или горе, но большинство людей не способно, подобно Вуди Аллену, воспроизводить его по желанию. Если даже незначительное меньшинство населения умеет контролировать эти мышцы, их использование перестает быть полезным сигналом.
Лучше всего объясняет способность Вуди Аллена то, что он и люди вроде него составляют небольшую группу, получившую временное преимущество в эволюционной “гонке вооружений” между обманщиками и их разоблачителями. Чем лучше представители нашего вида имитируют эмоциональные сигналы, тем лучше мы учимся замечать подделку и находим новые способы противодействия. Скорее всего, профессиональные предсказатели будущего и астрологи являются противоположностью Вуди Аллена: они невероятно точно читают язык тела, что помогает им давать поразительно точную оценку незнакомцев. Они считывают эмоции, скрытые за едва уловимыми лицевыми выражениями, так же успешно, как Вуди Аллен подделывает эти эмоции. Моя способность узнавать, что моя пятилетняя дочь лжет, или способность моей жены определять, когда лгу я, показалась бы шимпанзе настолько же поразительной. Через тысячу лет эволюции мы все, возможно, будем уметь, как и Вуди Аллен, выглядеть умилительно печальными и одинокими. Когда это случится, нашему виду придется перейти на лучше защищенную сигнализацию, чтобы выделять искренних, но непонятых интеллектуалов с благими намерениями.
В поисках надежных сигналов искренней преданности мы также обращаемся к внешности, языку тела, походке, чтобы быстро сделать удивительно точный вывод о том, будет ли незнакомец с нами сотрудничать. Существует огромное количество литературы о “первом впечатлении” (thin-slicing): способности оценивать людей на основе очень недолгого (в пределах нескольких секунд) наблюдения или даже по фотографиям. Мы можем почти мгновенно определять{191} черты характера людей, их способность выполнять работу, половую ориентацию и вероятность, с которой они будут обманывать или применять насилие. Основой для этих выводов служит сочетание микрожестов (включая позу и походку) и более стабильные черты вроде ширины лица и размера подбородка.
Точность первого впечатления выше, чем у догадок в нормальных условиях, однако она не идеальна. Некоторые люди имеют лучшие способности к этому, чем другие, этот навык можно совершенствовать, а необходимость вычислять обманщиков постоянна. Чтобы повысить точность первого впечатления, люди вдобавок к нему выработали культурные практики, которые делают первичные выводы надежнее. Эти техники используют то, что обман является процессом исключительно рассудочного мышления и опирается на области когнитивного контроля. Это значит, что если мы сможем ослабить когнитивный контроль людей, которых пытаемся оценить, то сможем быстрее разоблачить их.
В рамках одного исследования{192}, оказавшегося невероятно полезным для правоохранительных органов, исследователи обнаружили, что полицейские могут значительно улучшить свою способность определять ложь, если попросят подозреваемых рассказать об их алиби в обратном хронологическом порядке, начиная с последних событий. Обычно мы рассказываем не так, и в необычных условиях когнитивная нагрузка увеличивается. Подозреваемые, как оказалось, лгут гораздо хуже, если “нейтрализовать” их сознательную психику.
Обратный порядок допроса неплох и для оценки потенциального партнера по бизнесу или выяснения, искренни ли люди, с которыми вы заключаете мирный договор. Есть и другие способы достичь того же эффекта. Полицейское исследование было направлено на снижение когнитивного контроля подозреваемых с помощью увеличения непосредственной нагрузки на него. Вместо этого можно оставить нагрузку, но снизить когнитивный контроль – ослабить умственные “мышцы”, – подавляя ответственные за него участки мозга. Одним из способов сделать это является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), которая позволяет применить мощное магнитное поле к нужному участку черепа. Однако ТМС является недавней разработкой, пока малодоступной. Кроме того, в большинстве культур считается дурным тоном воздействовать на головы новых знакомых огромными магнитами.
Добиться того же эффекта, не прибегая к технике, можно, хорошенько напоив человека. Одним из основных эффектов алкоголя и других опьяняющих веществ (гл. 6) является отключение или временное снижение активности областей префронтальной коры, отвечающих за когнитивный контроль. Пара рюмок текилы является эквивалентом заряда ТМС. Неудивительно, что разного рода опьяняющие вещества издревле применялись как социальная “смазка”. Алкоголь, кава-кава, каннабис, “волшебные грибы” и так далее: любое доступное опьяняющее вещество быстро начинало играть заметную роль в формальных и не очень социальных ситуациях. В древнем Китае, например, ни один важный договор не подписывали без предварительного долгого пира с обильными возлияниями. Более того, эта черта китайской культуры не изменилась за четыре тысячи лет. Бизнесмен, надеющийся заключить договор с китайскими партнерами, должен сначала привести в порядок печень.
На менее формальном уровне нет сомнений в том, что опьяняющие вещества являются универсальной чертой всех видов общественных сборищ, от коктейльной вечеринки до пьянок студенческого братства. Напиваться не только приятно. Это, как правило, позволяет людям общаться свободнее и с меньшими усилиями (во всяком случае, до момента, после которого начинаются драки). Опьянение усиливает взаимодействие по крайней мере двумя способами. Во-первых, оно снижает вероятность взаимного обмана, подавляя центры когнитивного контроля. Во-вторых, напиваясь вместе, мы создаем ситуацию взаимной уязвимости, что упрощает установление доверительных отношений. Рукопожатие позволяет убедиться, что вы не держите оружие, а несколько рюмок текилы означают, что ваша префронтальная кора осталась не у дел. Видите? Я пью. Никакого когнитивного контроля. Вы можете мне доверять.
Эмоции используют проводящие пути, лежащие более или менее вне когнитивного контроля, и это одна из причин, почему они являются важными социальными сигналами. Но мало какое человеческое поведение, однако, находится полностью вне его досягаемости: даже самые глубоко укорененные и сравнительно автоматические эмоции можно подчинить сознанию с помощью практики и тренировок. Как показывает случай Вуди Аллена, люди, кажущиеся печальными и искренними, иногда таковыми не являются. Эмоции – несовершенная сигнальная система, потому что некоторые люди невероятно хорошо контролируют их, и даже те, кто не обладает особенным талантом в этой области, могут иногда управлять обычно искренним сигналами, подаваемыми бессознательным.
Но важно заметить, что это сознательное усилие выдает себя. Не нужно включать аппарат ФМРТ, чтобы понять: он что-то задумал. Большинству знакомы признаки обмана: потливость, бегающие глаза, избегание зрительного контакта. Однако есть и менее заметные. Обширный экспериментальный материал показывает, что когда вы делаете сознательное усилие, зрачки расширяются{193}. Возможно, поэтому мы стараемся смотреть в глаза человеку, если не уверены, можно ли ему доверять, и поэтому нечестные люди прячут глаза. На некотором уровне их чувственное мышление говорит: “Не дай им увидеть, насколько увеличились твои зрачки!”
Связь когнитивного контроля с ложью{194} прекрасно проиллюстрирована недавним исследованием, в рамках которого ученые якобы проверяли способность испытуемых предсказывать будущее. Экспериментаторы просили людей, помещенных в аппарат ФМРТ, предугадывать серию смоделированных компьютером бросков монеты, которые они видели на экране. Их просили предположить, выпадет орел или решка. Потом на экране появлялась надпись “орел” или “решка”, и испытуемых спрашивали, этот ли результат они предсказали. Если результат совпадал, их вознаграждали деньгами. В одном варианте эксперимента испытуемые должны были записывать предсказания, что не оставляло возможности для мошенничества. В другом (более интересном) варианте они должны были просто запомнить итог: когда у них спрашивали, оказалось ли верно их предсказание, появлялся мотив солгать и получить деньги. Если испытуемые отвечали, что не угадали, то не получали денег. Изящество эксперимента в том, что после определенного числа попыток ученые смогли видеть, что человек оказывается прав куда чаще, чем позволяет статистика, и так определить, кто и как часто лжет (хотя и не выявить все случаи мошенничества, поскольку лишь испытуемые знали предсказание). Экспериментаторы обнаружили паттерн активности участков, отвечающих за когнитивный контроль, у нечестных испытуемых (и когда они должны были лгать, и когда они удерживали себя от лжи), которого не было у честных испытуемых.
Другие исследования показали, что люди (во всяком случае, жители промышленно развитых стран Запада) склонны к щедрости{195}, если сталкиваются с необходимостью решать сразу, однако тяготеют к более эгоистичному поведению, если получают время на раздумья. Отсюда следует, что честное поведение управляется автоматическими психическими процессами, а при обмане и имитации включается рассудок. Иными словами, естественное (в состоянии у-вэй) поведение открывает нашу истинную природу.
Настоящий парадокс: у-вэй и дэ
В древнем Китае считалось, что люди в состоянии у-вэй обладают дэ: харизмой, “добродетелью”. Для рассмотренных выше мыслителей дэ являлось ключом к пониманию того, почему людям в состоянии у-вэй сопутствует успех. У конфуцианцев дэ – это сила, с помощью которой заслуживающий доверия правитель привлекает верных министров или которую министры используют, чтобы показать свою преданность. У даосов дэ показывает, что человек действует спонтанно, и это и облегчает ему взаимодействие с людьми, и позволяет им самим расслабиться до состояния естественности. С точки зрения и конфуцианцев, и даосов, человек обретает дэ, лишь если он искренне предан Пути (сила дэслужит надежным, не поддающимся имитации сигналом приверженности групповым ценностям). Хотя физическая легкость и ловкость, приходящие в состоянии у-вэй, кажутся очень важными, выше всего ценится социальный эффект.
Сейчас мы можем описать дэ как язык тела, на котором “говорит” человек, когда его центры когнитивного контроля подавлены, то есть когда он действует спонтанно. Конфуций советовал, оценивая характер, уделять внимание глазам человека, оговоркам, незначительным жестам, особенно когда тот считает, что его никто не видит. Если поступать так, говорит Конфуций, то “как человек может спрятать свою истинную природу?”
Иными словами, тот, кто искренне предан ценностям своего сообщества, принял их в свой телесный разум. Доказательства того, что это погружение окончательно свершилось, можно заметить, читая язык его тела при первой встрече. Мудрецы у Лао-цзы имеют круглые и безмятежные лица младенцев, а у мудрецов Чжуан-цзы свобода и легкость в каждой черте:
Настоящие люди древности спали без сновидений, просыпались без тревог, всякую пищу находили одинаково вкусной, и дыхание в них исходило из их сокровеннейших глубин… Сердце у таких людей было забывчивое, лик покойный, чело возвышенное… Они были покойны и уверены в себе, но не упрямы. Они были открыты миру и всеобъятны, но красоваться не любили. Жили с легкой душой и как бы в свое удовольствие, делали лишь то, чего нельзя было не делать. Решительны были они и делали все по-своему…
Скрытные! Как будто рта раскрыть не желали.
Рассеянные! Вмиг забывали собственные слова.
Ну, и кто бы не хотел общаться с таким парнем? Кто бы не стал ему доверять?
Дэ могущественно, потому что демонстрирует, кто мы на самом деле. Не тот человек, которым ваш рассудок советует быть в этом месте в этот момент, а тот, какой вы, когда расслабляетесь и передаете контроль чувственному мышлению. В конфуцианском тексте “Да сюэ” [“Великое учение”] есть прекрасный фрагмент, в котором говорится, как “быть требовательным наедине с собой”. Эта практика продиктована убеждением, что благородный муж может получить точное представление о том, насколько он близок к у-вэй, анализируя свое поведение, когда он в одиночестве и наименее сосредоточен[10]:
“Сделать искренними свои помыслы” означает: не допускать самообмана – подобно тому, как избегаем дурных запахов, подобно тому, как стремимся иметь благообразный вид.
Это означает усмирять самого себя.
Потому благородному мужу надлежит быть требовательным к себе [даже] наедине с самим собой.
Низкий человек живет в праздности и творит неблагое, не заботясь о [собственном] несовершенстве.
Встретит благородного мужа и затем стремится соответствовать должному, скрывая свои недостатки и выпячивая свои добродетели.
Люди же сами оценивают его так, словно видят насквозь.
Так что пользы от этого?
Вот что означает “Внутренняя искренность видна и снаружи”… Богатство украшает жилище, Дэ украшает человека.
Щедрое сердце – здоровое тело.
Потому благородный муж сердечен и искренен в своих помыслах.
Большинство из нас чувствует себя некомфортно, ощущая, что другой видит нас насквозь. Когда мы пытаемся казаться не теми, кто мы, это, как правило, заметно. У-вэй показывает нашу настоящую природу – присутствие дэ или его отсутствие – не только потому, что оно действует автоматически и не подчиняется уловкам сознания. Одно то, что человек не использует когнитивный контроль, показывает, что ему не нужно этого делать. Как и честным испытуемым в эксперименте с бросками монеты, ему просто не приходит в голову обманывать, поэтому ему и не нужно мешать себе это делать. Уверенность в себе указывает не только на то, что вы счастливы, то есть участвуете в деятельности, которая вам искренне приятна, но и на то, что вы такой, каким стремитесь казаться. Расслабление и поглощенность чем-либо, представляющим ценность (истинное у-вэй), является, таким образом, знаком искренней увлеченности этой деятельностью и более широкой системой, аспектом которой та выступает. Если вам не нравится петь гимны, возможно, вы не настоящий христианин. Возможно, вы просто притворяетесь христианином, чтобы благодаря принадлежности к этой группе получить выгоду. Так что я буду наблюдать за вами, когда вы поете и думаете, что никто не смотрит.
Связь у-вэй и дэ, таким образом, абсолютно логична с эволюционной точки зрения. Дэ – это отличная энергетика (сочетание языка тела, микрожестов, интонаций, внешности), присущая людям честным, искренним, расслабленным и уверенным в себе. Дэ привлекательно потому, что это с трудом имитируемый признак альтруиста, и логика цивилизованной жизни заставляет нас быть очень внимательными, чтобы отличить альтруистов от “обманщиков”. Заметнее всего эти сигналы, когда все расслаблены: когда мы танцуем, поем, пьем или играем{196}. В гл. 2 мы отметили, что ключевым признаком у-вэй является ощущение поглощенности чем-то большим, и все равно, что это: радость от пребывания в конкретной компании у конкретного кухонного стола, или в конкретной религиозной общине, или в конкретном ландшафте. Отсутствие у-вэй, а следовательно, и отсутствие дэ, таким образом, выступает верным признаком того, что мне не интересно, что я не чувствую себя поглощенным этой беседой или религиозной церемонией.
Теперь мы видим, почему этот парадокс – как стараться не стараться – вовсе не аномалия, случайно возникшая в рамках дальневосточной религиозно-философской традиции, а характерная черта цивилизованной жизни. Главное – понять, что доверенный член группы не просто танцует наши танцы, пьет с нами вино и хорошо говорит на нашем языке (хотя и это неплохо). Такие с трудом имитируемые признаки полезны для быстрого ответа на вопрос, является ли этот человек одним из нас. Но, в конечном счете, нам нужно нечто большее. Из-за постоянной угрозы со стороны “безбилетников” (тратящих время на то, чтобы изучить нашу культуру, но готовящихся отказаться от наших ценностей, лишь представится возможность) открывается потенциальный разрыв между поведением и мотивацией. Мы хотим чувственного поведения, не предполагающего разрыва между поступками и мотивацией. Мы хотим быть уверены, что за поведением не стоит рассудок со своими, возможно, зловещими планами. Нас интересуют не просто физические навыки, а то, что философы называют добродетелями: устойчивая предрасположенность к социально желательному поведению{197}, обусловленная искренней приверженностью общим ценностям.
Чтобы указать разницу между этими двумя типами чувственного мышления, навыками и добродетелями, достаточно простого примера. Навык, вроде игры на фортепиано, опирается на чувственное мышление: вы никогда не продвинетесь дальше мучительного воспроизведения Mary Had a Little Lamb, не передав большую долю контроля автоматическим системам. Однако ценность вашей игры целиком зависит от того, как вы играете, когда сидите за инструментом. Внутренняя мотивация не имеет значения. “Загрузив” большую часть необходимых действий в связи с конкретным музыкальным произведением в базальные ганглии и сенсомоторную систему, с оставшимися ресурсами рассудочного мышления вы можете делать все, что угодно. Хотя мы можем предполагать, что исполнитель трогающей душу, красиво сыгранной сонаты поглощен музыкой и охвачен теми же глубокими эмоциями, которые внушает нам, мы вряд ли сможем винить его (или требовать деньги назад), если впоследствии обнаружим, что он, сидя за инструментом, думал в основном о том, что съест на ужин. Исполнение ценно само по себе. Но все совсем не так, когда речь идет о добродетелях. Они завязаны на социальное взаимодействие, которое крайне уязвимо для “безбилетников”. Добродетели должны быть искренними, чтобы чего-нибудь стоить: не должно быть промежутка между действиями и намерениями.
14 ноября 2012 года на Таймс-сквер туристка тайно сфотографировала полицейского, присевшего, чтобы помочь босому бездомному надеть ботинки. Фотографию опубликовали на странице нью-йоркской полиции в “Фейсбуке”, и она мгновенно разошлась по Сети. Полицейский Лоуренс Депримо был настолько растроган страданиями босого человека, что забежал в ближайший магазин и купил ему пару обуви. “Было очень холодно{198}, и ноги этого человека были в волдырях, – рассказывал он позднее. – На мне было две пары носков, а я все равно мерз”. История оказалась очень удачной для образа нью-йоркской полиции, но секрет ее привлекательности в спонтанности действий Депримо и случайности того, что кто-то случайно снял его. Представьте, что полицейский знал о фотографе и красовался перед камерой и его поступок был продиктован жаждой славы, а не состраданием. Это знание немедленно превратило бы трогательную историю в ужасный спектакль. Само действие волшебным образом изменилось бы, хотя все в мире осталось прежним: полицейский лишился бы 75 долларов, а бездомный приобрел новые ботинки. В нас живо неискоренимое убеждение, что акт “сострадания”, предпринятый без правильной мотивации, – просто имитация добродетельности. С другой стороны, доказательства искренности и спонтанности{199} в области морали вдохновляют и трогают нас.
Эта проблема занимала древнегреческого философа Аристотеля. Он сравнивал навыки и добродетель{200}. Когда речь идет о навыке вроде игры на фортепиано, мы без труда можем представить, как долгое обучение приводит к устойчивому навыку. Хотя многие дети, которых заставляли годами заниматься музыкой, могут ненавидеть фортепиано, немногих счастливчиков эта мука в конце концов приводит к высокому уровню мастерства и искреннему удовольствию. Однако если речь о добродетели, например сострадании, то совсем не очевидно, чем может помочь тренировка. У нас есть ощущение, что если я спонтанно не ощущаю сочувствия к бездомному с покрытыми волдырями ступнями, то покупка ему пары ботинок не превратит меня в милосердного человека. Даже если я сотнираз заставлю себя поступить так, как поступил бы милосердный человек (будто играя гаммы), нельзя понять, как и когда я стану искренне милосердным. В определенном смысле добродетели кажутся тем, что невозможно достичь усилием: они у вас либо есть, либо нет.
Именно разница между навыками и добродетелями определяет парадокс у-вэй. Хотя китайские мыслители иллюстрировали аспекты у-вэй рассказами о поваре Дине и краснодеревщике Цине, у-вэй, которого они хотели достичь, было нравственным по сути. Об успехах в разделке туш они думали в последнюю очередь. Так что парадокс существует из-за того, что ценности, которые нравятся людям и которые те ценят в других, основываются на том, кто ты, а не на том, что ты делаешь. Они отражают постоянное внутреннее состояние, а не только поведение. Они связаны с ценностями, потому что приверженность общим ценностям позволяет существовать большим сообществам. Так что недостаточно совершать благородные поступки: нужно быть благородным человеком. Это невероятно трудно, и поэтому у-вэй с таким трудом достигается и является столь эффективным сигналом надежности. Нас привлекают люди в состоянии у-вэй, они обладают дэ, потому что эволюция заставила нас ориентироваться на сигналы искренности (которые трудно подделать и еще труднее испытать по желанию) в человеческом взаимодействии.
К чему мы пришли? Если парадокс реален и возникает из основных структурных черт цивилизованной жизни, то не удивительно, что ни один китайский мыслитель не пришел к простому, надежному решению этой проблемы и что люди из разных регионов планеты сталкивались с тем же противоречием. Собственно, поэтому мы называем это парадоксом: если бы имелся ответ, мы говорили бы о “задаче” или “загадке”{201}. Парадоксы невозможно разрешить: с ними нужно научиться жить. Как? Мы обсудим это в последней главе.
Глава 8 Урок у-вэй: как жить с парадоксом
Так что делать тем, кто желает достичь состояния у-вэй, но еще не сделал этого? Дорога, кажется, привела нас туда, откуда мы начали. Цикличность вообще свойственна поздней дальневосточной религиозной мысли, где стратегии “стараться” и “перестать стараться” сменяли друг друга, но ни одна не взяла верх. Противоречие раздирает и другие религиозные и философские традиции. На первый взгляд это странно: неужели за пару тысяч лет нельзя было разрешить его? Но когда Судзуки Сюнрю говорит своим ученикам-американцам, что стараться – плохо, но необходимо, он почти повторяет надпись из Годяни: “Вы не можете пытаться, но вы не можете и не пытаться. Пытаться неправильно, но и не пытаться – неправильно”. Неужели мы ничем не лучше человека, написавшего это в IV веке до н. э.?
Да, ничем. Но мы по крайней мере представляем себе, почему. Парадокс у-вэй проистекает из проблем сотрудничества и доверия. Если бы его можно было устранить посредством доктринальных реформ или новой техники самосовершенствования, он не выполнял бы свою задачу. В то же время должен иметься способ обойти этот парадокс на практике – позволить человеку, не находящемуся в у-вэй, достичь этого состояния. Иначе у нас бы не было Конфуция, без усилий добродетельного, или искренне не имеющего желаний мудреца из текста Лао-цзы. Страдающие бессонницей не смогли бы уснуть, эгоистичные дети не смогли бы научиться заботиться о других, а отчаявшиеся одиночки никогда не добивались бы свидания. Более того, как мы видели в предыдущей главе, цивилизация просто погибла бы.
К счастью для нас, древние китайцы уже изучили все достойные стратегии движения человека к у-вэй. Так, можно “отделывать и полировать”: подвергать себя долгому обучению, призванному в итоге привить правильный подход к жизни. Можно опроститься: активно отрицать стремление к цели, надеясь, что тогда она будет достигнута без усилий. Можно попытаться найти врожденные начала желаемого поведения внутри себя, а потом взращивать их, пока они не станут достаточно сильны и не возьмут верх. Можно просто плыть по течению: забыть о старании и о не-старании и дать ценностям, которые вы хотите развить, подхватить и нести вас.
Какая стратегия лучше? И, что куда важнее для наших современников, что именно делать, если мы не можем познакомиться с девушкой? Как пытаться встретить кого-то, не вырабатывая анти- дэ, которое отпугивает всех вокруг? Какие у нас есть варианты, если мы – как Стив Бласс, видящий, как мечта его жизни исчезает на глазах, потому что он не может расслабиться и снова полюбить бросать мяч? Что, если мы не настолько милосердны, мудры, смелы или проницательны, как нам хотелось бы? Мы можем любить себя такими, какие мы есть, но обычно этого не делаем. Во всех религиях, которые я изучал, существует ощущение, что есть хоть что-нибудь, что нам стоит изменить в себе или своих отношениях. Вопрос в том, как добиваться этого, не отрезая себе путь к у-вэй.
Спустя почти две с половиной тысячи лет никто на планете не нашел абсолютно надежное решение задачи. Дело, во-первых, в том, что парадокс действительно существует, а во-вторых, рассмотренные выше стратегии различаются по своей целесообразности по меньшей мере в двух отношениях.
Начнем с того, что людям подходят разные стратегии. Те, у кого консервативный склад ума и кто часто, но не всегда, и в своих политических взглядах консервативен, обычно имеют мрачный взгляд на человека и подчеркивают важность традиций, авторитета и дисциплины. Либералы же, как правило, смотрят на человеческую натуру благосклоннее и предпочитают свободу личности, творчество и гибкость. Тогда различия между конфуцианской и даосской стратегиями достижения у-вэй можно воспринимать как спор консерваторов с либералами, причем Мэн-цзы пытается занять промежуточную позицию. То же самое можно сказать о дискуссии дзэн-буддистов касательно “постепенного” и “внезапного” просветления.
Существует значительное количество доказательств, что склонность к либерализму или консерватизму{202} – наследственная черта. Как и другие черты характера, например экстравертность или интровертность, она отчасти обусловлена генами. Точно так же, как люди приходят в мир относительно открытыми или закрытыми для нового опыта, очень совестливыми или довольно раскрепощенными, возможно, они уже рождаются со склонностью к либерализму или консерватизму. Так что за вашим предпочтением стратегии “отделки и полировки” расслаблению может стоять эта склонность. Догадка о том, что разные стратегии могут опираться на врожденные свойства личности, неплохо объясняет, почему ни один метод не стал доминирующим ни в один конкретный момент: как только одна стратегия становилась традиционной, противоположная немедленно становилась привлекательной для тех, у кого были другие наклонности. Это имеет смысл, если предположить, что общества состоят из либерально и консервативно настроенных людей и каждый хочет противостоять стратегиям, которые противоречат его мироощущению.
Выбор стратегии может зависеть и от этапа жизненного пути. “Отделка и полировка” лучше подходит для молодости или времени, когда человек учится новому. Существуют убедительные доказательства того, что когда речь заходит о приобретении навыков, сознательное внимание к технике и критике оказывается очень полезным. А когда вы достигаете совершенства, рассудочное мышление начинает мешать{203}. То же самое может оказаться верным в случае нравственности. Прочно усвоенная нравственная позиция по мере взросления может стать слишком жесткой, поэтому вам понадобится перейти к подходу с ростками или плаванием по течению. Говорят, в старом Китае человек был конфуцианцем, пока служил, но становился даосом, когда новый император или влиятельная группа при дворе изгоняла его и он уезжал в деревню. Стратегия, позволяющая поддерживать себя в состоянии у-вэй, может изменяться со временем, в зависимости от условий труда и семейных обстоятельств.
Помимо темперамента и возраста, очевидно, разные ситуации требуют разного подхода к проблеме у-вэй. Это верно и для индивидов, и для обществ. Например, некоторые считают, что нынешнее состояние культуры требует прививки конфуцианства. Проницательные мыслители в разные периоды истории видели в конфуцианской стратегии{204} формирования искусственной естественности основу цивилизованной жизни. Сейчас на Западе считается, что социальные ритуалы стесняют людей, отчуждают их друг от друга и поощряют лицемерие. Но, может быть, нам стоит в этом отношении довериться конфуцианству? Более того, продолжительная популярность на Западе дзэн-буддизма и даосизма, пик которой пришелся на 60-е годы, постепенно уходит, и звучат голоса, говорящие, что нам есть чему поучиться у чопорных конфуцианцев. Исследователи конфуцианства{205} Роджер Эймс и Генри Роузмонт-мл. утверждали, что основанная на распределении социальных ролей и традициях общинная модель личности, которую мы видим в конфуцианстве, может помочь скорректировать крайний индивидуализм, отчужденность и материализм, свойственные представителям западного общества. Хотя мы не желаем рисовать карикатуры на самих себя, этот аргумент, очевидно, отчасти справедлив, и потому мы наблюдаем широкое движение за переоценку традиционных ритуалов. Колумнист “Нью-Йорк таймс” Дэвид Брукс считал, что бесцеремонность и прямолинейность наших современников не позволяют нам оценить нравственную функцию старомодных манер и вежливости. Напоминая комментатора “Бесед и суждений”, Брукс замечает, что “умные люди обычно понимают… что привычки в конце концов изменяют нас”{206}.
Эти привычки меняют и людей вокруг нас. Философ Акоп Саркисян описывает конфуцианскую ритуальную стратегию как состоящую из множества “малозаметных корректировок поведения – мимических выражений, манеры держаться, интонаций и других кажущихся незначительными деталей, – которые могут в итоге существенно повлиять на нашу нравственность”. Это происходит из-за “этической самонастройки”{207}, когда воспитанность оказывает на других слабый положительный эффект, который может заставить их действовать все приличнее, что в итоге приносит пользу нам самим. Психологам становится все яснее, что якобы незначительные элементы среды{208} могут положительно влиять на поведение. Это значит, что уделять внимание тому, какую музыку слушают ваши дети, что они носят и с кем общаются, может быть полезно и для них, и для общества. Для консерваторов эта мысль не нова, но может открыть глаза либералам вроде меня{209}.
Элементарная вежливость также входит в категорию исключительно важных социальных явлений, которые мы недооцениваем. Когда я переехал из Калифорнии в Ванкувер, меня поразило, что местные жители, выходя из автобуса через заднюю дверь, громко и весело кричат водителю: “Спасибо!”. Сначала мне показалось, что это чересчур, но теперь я вижу в этом не только черту принципиально более приятных людей (канадцы действительно симпатичнее американцев, по крайней мере живущих в больших городах на побережье), но и как ритуал, который, может быть, помогает создавать более приятных людей. Водитель автобуса, понимает он это или нет, чувствует себя лучше от этой благодарности и становится более склонным вести аккуратно или оставаться на остановке лишнюю пару секунд, чтобы позволить опаздывающим добежать до автобуса. Это поведение расходится по моему дождливому городу мягкими волнами, напоминая описанную Конфуцием мистическую силу дэ, склоняя людей к добродетели, как ветер клонит траву.
Более того, исследования в области когнитивной психологии показывают, что погружение в конкретную культурную традицию также позволяет научиться любить нечто, что вы прежде не любили. Просто постоянно подвергая кого-либо воздействию новых стимулов (шрифты, песни, живопись), можно сделать так, что они начнут ему нравиться. Знакомое вызывает любовь, а не отталкивает. В него также, к худу или к добру, нам становится проще поверить. Утверждения, которые мы слышали много раз, воспринимаются как в большей степени “истинные”, чем только что услышанные, и тот же эффект проявляется в случае с текстом, напечатанным знакомым или легче читаемым шрифтом. Это позволяет предположить, например, что религиозные ритуалы, поначалу обременительные и странные, или на первый взгляд неприступные и сложные классические тексты могут со временем быть восприняты с радостью и сочтены ценными и истинными просто за счет интенсивного их изучения{210}. Когда это происходит в рамках группы, мы получаем именно ту сплоченность, которой добивался Конфуций.
Это имеет практическое значение для организации обыденной жизни. Древние конфуцианцы тратили много сил на то, чтобы изменить эстетику окружающей среды – одежду, цвета, планировку жилого пространства, музыку, – так, чтобы те отражали ценности Пути. Хотя большинство из нас не следует конфуцианскому учению, мы можем прибегнуть к той же технике{211}, чтобы укрепить собственную систему ценностей. Если вы можете устроить свой дом и рабочее место, насколько это возможно, так, чтобы они отражали ваши вкусы и ценности, то, из-за чего вы чувствуете себя хорошо и уютно, вы станете процветать. У вас будет больше у-вэй и дэ. Материальные напоминания о более широкой системе ценностей (цвета, ландшафт, плакаты “Лед зеппелин”, семейные фотографии, религиозные изображения, да что угодно) смогут укрепить вашу преданность ей, а также собранность, расслабленность и уверенность.
Можно представить себе и другие ситуации, в которых стратегия “отделки и полировки” отлично работает. Например, диета требует трансформации склонности к сосискам и булочкам в искреннюю любовь к зелени. Есть и другие области, в которых может пригодиться новый подход: быть более терпеливым супругом или родителем, более аккуратным водителем или более заботливым другом. Идея проста: вы избираете желаемую модель поведения и изменяете свое “горячее” восприятие, постоянно подвергая себя{212} напоминаниям из внешней среды. Как такое повторение приводит к внутренней готовности быть искренним и естественным, не вполне понятно (интеллектуально парадокс остается), но это работает.
Однако бывают времена, когда культуральное наследование превращается в пустые позы и когда усилия становятся непродуктивной рутиной. Тогда нам, возможно, нужно следовать стратегии недеяния Лао-цзы.
Растущий объем литературы по психологии восприятия показывает, что когда дело доходит до сложных задач на визуальное восприятие (когда испытуемых просят найти заданную фигуру среди множества других), результативнее просто расслабиться{213} и позволить ответу “найтись”{214} самому, чем искать его. Точно так же безделье позволяет нашей неосознаваемой психике взять верх, а мы видели, что нередко бессознательное с большим успехом решает трудные задачи. В психотерапии стратегии принятия (когда пациентам предлагают просто позволить нежданным мыслям захватить себя или пройти перед глазами) бывают действеннее активного подавления{215}. Ресурсы сознательной психики небезграничны, так что надежнее бывает довериться телу. Лао-цзы напоминает правителю: “Править великим государством – это как готовить кушанье из мелкой рыбы”. Иными словами, главное – не перестараться. Если вы оказываетесь перед трудным выбором или сталкиваетесь с неподатливой технической задачей, иногда лучше просто отойти в сторону. Поспать, прогуляться{216}, прополоть грядки.
Слишком сильные старания также часто приводят к неприятностям в социальной жизни. В гл. 4 мы обсуждали “инструментальные” фрагменты “Дао дэ цзин” с советами, довольно коварными, призванными помочь правителям и всем прочим преуспеть. Речь шла о том, как имитировать у-вэй, чтобы получить связанные с ним преимущества. Всякий раз, когда я читаю “Дао дэ цзин”, я вспоминаю противоречивую книгу “Правила: как выйти замуж за мужчину своей мечты”, вышедшую в середине 90-х годов. Советы были похожи на цитаты из “инструментальных” разделов “Дао дэ цзин” и “Искусства войны” Сунь-цзы. Отступай, чтобы получить преимущество. Привлекай внимание, притворяясь незаинтересованной. Иными словами, пытайся искусственно создать дэ. Неоднозначная реакция публики на “Правила” отчасти была вызвана лицемерным, манипулятивным аспектом поучений: имитация интереса и подделка эмоций раздражает. Книга принесла авторам огромный доход, а доморощенные эксперты взялись обучать женщин жить по “Правилам”. Но никто не гарантирует вам успех. Те же принципы для мужчин, например “Система” доктора Лава, оказались в той же степени неуспешными. Стремление стараться не стараться рано или поздно обнаруживает себя и, будучи замеченным, отталкивает.
К сожалению, доктор Лав обходит своим вниманием темы начала земледелия и происхождения крупных социальных групп, но они куда важнее для понимания романтического отказа, чем все, что описано в “Системе”. Невозможно подделать дэ. Безусловно, встречаются великолепные лгуны, но мы столь же успешно распознаем обман. На то есть эволюционные причины, объясняющие все – от “парадокса добродетели” на четырехтысячелетних гадальных костях до того, почему многие люди в современном обществе остаются прискорбно одинокими, несмотря на легкий доступ к “Правилам” и “Системе”. Все так, как предсказывал Лао-цзы: “Верх добродетели – ее не проявлять и потому быть добродетелью проникнутым”. Если вы рассуждаете о своей доброте, то вы не добры.
Если речь идет о свидании, собеседовании при приеме на работу или другой ситуации, в которой важно произвести выгодное впечатление, то, возможно, лучше принять безыскусное. Если вы сможете последовать совету Лао-цзы и удержаться от излишней старательности, то это почти наверняка пойдет на пользу. Огонь не будет обжигать вас, дикие звери обойдут стороной, а вы сами, может быть, получите шанс на второе свидание. Контрпродуктивность старания в таких ситуациях интуитивно понял мудрец и музыкант Джонатан Ричмен. В песне Pablo Picasso Ричмен (который обладает куда большим пониманием человеческого сердца, чем доктор Лав) обращается к “разгильдяям в клешах” – стильным, но пустым мужчинам, пытающимся подцепить женщину и получающим отказ. Он призывает этих модников вспомнить Пабло Пикассо. Когда художник гулял по городу или заходил в кафе, “девушки не могли устоять перед его взглядом”, и поэтому Пикассо “никогда не называли мудаком”.
С исторической точки зрения свидетельство сомнительно (Пикассо точно не был самым симпатичным человеком на планете, и, возможно, женщины титуловали его очень по-разному), однако это несравненное описание силы дэ. Подлинное дэ, истинная привлекательность, проистекает из искренней поглощенности более важными делами – художественным творчеством, выпечкой кексов, – а не из тщательно обдуманного наряда или пикаперских приемов. Чем именно вы поглощены, не важно, пока то, что вы делаете, вы делаете искренне, а не с далеко идущими целями. Нет ничего хуже курсов дегустаторов, где одинокие мужчины и женщины не интересуются тем, что они пробуют: запах отчаяния там настолько стоек, что становится трудно различить ванильные оттенки шардоне.
Кроме личной жизни, это связано с корпоративной культурой и даже с национальным самосознанием. Сейчас у корпораций принято нанимать “консультантов по репутационному менеджменту”, чья задача – формировать дэ компании-клиента. Однако почти нет доказательств{217} того, что это работает, поскольку очевидные мотивы этих людей и поведение корпораций сводят их усилия на нет. Например, одна крупная нефтехимическая компания проводила рекламную кампанию, чтобы убедить жителей Британской Колумбии в безвредности трубопровода, который планировалось построить из Альберты к побережью. Реклама на всю страницу в пастельных тонах, демонстрировавшая резвящихся косаток и суровых капитанов танкеров, оставляла ощущение вечно веселой потемкинской деревни. Лично мне было бы спокойнее, если бы компания опубликовала честные детальные оценки риска, проверенные независимыми экспертами, или если бы ее прошлые показатели безопасности выглядели получше. Параллельные усилия по убеждению американцев в безопасности строительства трубопровода от месторождения Атабаска через экологически уязвимые пески Небраски также ни к чему не привели. Когда нужно убедить людей в своих добрых намерениях, слова никогда не будут действеннее поступков. Практика показывает, что лучший способ заслужить положительную репутацию – быть неизменно положительной компанией.
Иногда целые народы испытывают трудности с дэ. Из недавнего доклада об “искусстве «мягкой силы»” я узнал, что правительство КНР, взбешенное тем, что Микки Маус, голливудское кино и другие порождения американской культуры даже в Китае затмевают его пятитысячелетнюю культуру, инициировало несколько кампаний, призванных подчеркнуть крутизну древнего наследия. Два уезда открыли или планируют открыть огромные, невероятно дорогие тематические парки, посвященные Сунь-цзы, автору “Искусства войны”. Предполагается, что таинственная притягательность древнего стратега превзойдет привлекательность шанхайского “Диснейленда”{218}. Я ставлю на Микки. Есть некоторая ирония в том, что именно та культура, которая подарила нам “Дао дэ цзин”, забыла главные уроки этого текста: стремясь быть популярным, обеспечиваешь свое поражение. Усилия китайцев по наращиванию “мягкой силы” (по сути, политического дэ) при помощи правительственных директив и финансируемых государством проектов абсолютно контрпродуктивны. Когда речь заходит о “мягкой силе” Дальнего Востока, на ум приходят вещи вроде японских аниме и манги или южнокорейских мыльных опер и кей-попа, которые возникли случайно и органично. Трудно себе представить, что бюрократы могли придумать нелепые движения{219} “Каннам стайл”.
Парадокс интроспекции
Психологи Джонатан Скулер, Дан Ариели и Джордж Левенштейн начали свою недавнюю статью с афоризма Натаниэля Готорна: “Счастье – это бабочка{220}. Если ее преследовать, она всегда будет ускользать, но если сесть и не двигаться, она может сама опуститься на тебя”. Это отсылка к известному феномену, при котором прямое преследование определенных целей, например удовлетворенности и удовольствий, может приводить к противоположному результату. Авторы представляют два новых исследования, указывающих на то, что и активные попытки оценить степень удовлетворения, и намерение наслаждаться каким-либо занятием приводят к меньшей удовлетворенности. На первый взгляд, это напоминает Лао-цзы: сиди себе, простой и незатейливый, и жди, пока не прилетит бабочка счастья.
Идея Скулера, Ариели и Левенштейна несколько сложнее. Они определяют парадокс интроспекции как противоречие между рефлексией и достижением удовлетворенности и счастья. Хотя очевидно, что и стремление, и чрезмерное обдумывание (например, вкуса вина или джема) могут отрицательно сказаться на чувственном удовольствии{221}, полное отсутствие интроспекции может привести к тому, что вы не сумеете выделить те ощущения, которые вам действительно приятны. Удивительно, но негативный эффект интроспекции исчезает, как только человек достигает определенного уровня познаний: рассудочный анализ и богатый дескриптивный словарь идет на пользу и знатокам джема, и дегустаторам вина{222}.
Здесь полезна стратегия Мэн-цзы: сочетание усилий и естественности. Точно так же, как умение разбираться в вине или пище опирается на прирожденный вкус, но оттачивает и расширяет его, нравственность и удовлетворенность могут быть достигнуты мягким возделыванием. Мы все временами испытываем озарение, беседуя с супругами, близкими друзьями и терапевтами. Как и Сюань-ван, нередко мы не до конца понимаем собственные мотивы. Задача Мэн-цзы отчасти состояла в том, чтобы помочь князю через интроспекцию увидеть настоящие причины, в силу которых он пощадил быка, познать истинную природу своих чувств, а потом развить их.
Этот процесс протекает проще и быстрее, если его направляет опытный наставник. Лучший способ улучшить свои навыки дегустатора – это пробовать много разного вина, размышлять о его вкусе, сверять догадки с мнением экспертов, а потом переоценивать свой опыт в свете их замечаний. В результате складывается схема обратной связи{223}, при которой советы экспертов помогают сосредоточить и перенаправить ваше восприятие (мне бы в голову не пришло, что в этом вине есть ноты графита, но он здесь определенно присутствует), давая более широкий и точный дескриптивный словарь, который, в свою очередь, помогает распознать ранее не замеченные аспекты собственных ощущений.
Когда речь идет о нравственном развитии, этот процесс может принять форму диалога. Так, в “Мэн-цзы” мы видели, как Сюань-ван получил конкретные советы насчет того, как распознать ростки сострадания. А для тех, кто не может воспользоваться услугами персонального тренера по нравственности, выходом может стать книга. Томас Джефферсон утверждал нравственное значение великой литературы, защищая присутствие романов, которые считались вульгарными и потенциально разрушительными для морали, в своей библиотеке в Монтичелло:
Когда некое… проявление милосердия или благодарности{224} предстает перед нашим мысленным взором, нас глубоко трогает его красота и мы испытываем сильное желание самим сделать нечто милосердное и полезное. Напротив, когда мы читаем о какой-либо гнусности, то ужасаемся ее уродству и приобретаем отвращение к пороку. Любое ощущение такого рода является упражнением для нашего нрава, а его, как и члены нашего тела, укрепляют упражнения.
Как четыре конечности приобретают силу через упражнения, так и четыре ростка правильного у-вэй взращиваются работой, которую литература задает воображению. Невольно задаешься вопросом, читал ли Джефферсон Мэн-цзы.
Разумеется, тот же эффект могут оказывать театр или кино, которые, как и конфуцианская музыка, похоже, непосредственно воздействуют на эмоции. Например, есть доказательства того, что просмотр видео, внушающего сострадание{225}, усиливает щедрость и заботливость. Все это должно заставить задуматься сторонников школьной реформы, которые хотят сократить или избавиться от литературы и гуманитарных наук в пользу “практических” занятий по математике, естественным наукам и экономике. Если мы не хотим воспитывать лишь гиперрациональных моистов-подтягивателей ростков, то гуманитарные науки являются неотъемлемым элементом формирования социально желаемых форм у-вэй.
Кроме терапии один на один и погружения в искусство, развить ростки у-вэй помогают разные формы медитации с инструктором. Философ Дэвид Вон упоминает о нейромагнитном исследовании шестнадцати человек, умеющих медитировать (по меньшей мере десять тысяч часов медитативной практики). Им предложили принять участие в медитации любви и сострадания, которая подразумевает сосредоточение на образе конкретного любимого человека, “наполнению ума” чувством сострадания и попыткой распространить эти чувства на все живые существа. После медитации испытуемым проиграли аудиозапись различных эмоциональных стимулов: положительных (смех ребенка), отрицательных (женский плач) и нейтральных (шум голосов в ресторане). По сравнению с новичками{226}, эксперты в медитации показали заметно более сильную реакцию на негативные звуки в тех областях мозга (в первую очередь в отростковой доле), которые связаны с обработкой эмоций и эмпатией. Это показывает, что сострадание вполне может быть чем-либо вроде ростка, нуждающегося в развитии, или мышцы, которую можно укрепить через тренировку воображения и медитацию.
Пытаясь применить эти открытия к людям, которые могут не иметь возможности медитировать десять тысяч часов, исследователи из Университета Эмори запустили программу когнитивной тренировки сострадания в начальной школе и приютах в Атланте. Эта тренировка, которая проходит дважды в неделю в течение 8–10 недель, представляет собой секулярный вариант тибетских практик и похожа на то, что пошло бы на пользу Сюань-вану. Первичное наблюдение показывает{227}, что она оказывает существенное влияние на способность детей испытывать и проявлять сострадание.
Мэн-цзы не делал акцента на конфуцианском ритуале, но, вполне возможно, формализованные практики, помимо медитации, могут помочь взрастить начала нравственности. Люди, которых ученые попросили совершать добрые поступки{228} один день в неделю, сообщали об общем росте удовлетворенности и о том, что простые поступки, вроде пожертвования пяти долларов, могут усилить субъективное ощущение счастья. Заставив себя совершить один сострадательный поступок, мы не станем немедленно милосердными, но вероятно, например, что регулярная работа на раздаче бесплатного супа может со временем усилить наше “начало сострадания”, особенно если это занятие сопровождается рефлексией. Психолог Роберт Эммонс и его коллеги предположили, что ведение “дневника благодарности”{229}, заставляющее человека раздумывать над позитивными аспектами своей жизни, улучшает физическое и ментальное здоровье и приводит к углублению сочувствия к другим людям.
Тем не менее встречаются ситуации, когда анализ и интроспекция контрпродуктивны. Сосредоточение на технике{230} выполнения полезно на ранних этапах приобретения навыка, но пагубно влияет на опытных спортсменов и артистов. Точно так же, невзирая на уровень навыка, сосредоточение на окружающей обстановке и влияние, которое мы хотим на нее оказать (внешний фокус) более эффективны, чем сосредоточение на своих движениях или внутреннем состоянии (внутренний фокус). Так, пловцы, которых просят сосредоточиться на отталкивании воды (внешний фокус), а не на движении рук назад (внутренний фокус), плывут быстрее. Тот же эффект проявляется во множестве других занятий. Существуют различные гипотезы, почему переключение внимания вовне{231} эффективно при обучении и использовании двигательных навыков, но, похоже, это имеет отношение к у-вэй. Когда вы сосредотачиваетесь на своих движениях, вы позволяете сознательной психике вторгнуться в область, обычно ей неподконтрольную – и нарушить автоматические двигательные программы, позволив другим раздражителям (социальному давлению, тревоге, обещанию награды) все испортить. Сосредоточение на среде{232} усиливает способность “раствориться” в занятии.
Для ситуаций, когда давление сильно, а ставки высоки, очень уместна стратегия расслабления Чжуан-цзы. Краснодеревщик Цин, прежде чем позабыть о теле и направить свой навык на окружающий мир, участвовал в ритуале продолжительностью в неделю. В других местах есть намеки на то, что применялись дыхательные практики и сидячая медитация. Герои Чжуан-цзы занимались скорее чем-то вроде беспредметной медитации дзэн-буддистов (прямых последователей Чжуан-цзы), а не практикой визуализации, как тибетские буддисты. Беспредметная медитация обычно предполагает принятие простой устойчивой позы и попытку очистить ум через сосредоточение на процессе дыхания или некоем объекте окружающей обстановки. Растущая эмпирическая литература{233} о медитации этого типа предполагает, что она положительно сказывается на сосредоточении, скорости реакции, двигательных навыках, а также обостряет чувства. Это происходит, возможно, потому, что медитация снижает активность отвечающих за рассудок участков мозга, освобождая место для чувственного мышления{234}.
Важно, что медитация также способствует{235} росту самооценки, углублению эмпатии, доверия и других качеств, особенно важных для межличностных отношений, и это, безусловно, является целью “поста сердца” по Чжуан-цзы: позволить себе пребывать в у-вэй и обладать дэ, взаимодействуя с людьми. В социальных ситуациях обладание “внешним фокусом” будет означать переключение внимания от себя к чертам характера, словам и языку тела окружающих. Крайне важно действительно быть поглощенным беседой{236} вместо того, чтобы думать, что вы можете сказать или оценивать, как люди реагируют на вас. Секрет в том, чтобы плыть по течению и позволить среде направлять себя, а не пытаться повлиять на нее. Медитация может помочь достичь этого состояния. Интенсивные физические упражнения или рюмка водки{237} могут сделать то же самое. Что лучше подходит для вас скорее всего придется определять путем проб и ошибок.
Принять тело всерьез
Выше я пытался доказать, что феномены у-вэй и дэ лежат в основе человеческого процветания и взаимодействия. Единственная причина, по которой нам нужно об этом напоминать, заключается в том, что современная западная философия так одержима бестелесной рациональностью, что телесная спонтанность вместе с ее особым противоречием выпала из ее поля зрения. Конечно, проще считать нравственное совершенствование вопросом следования нормам или оценки пользы или бесполезности. Хорошо обдумай ситуацию, приложи силу воли – и готово. Проблема в том, что эта модель в корне неверна. Исходя из того, что мы знаем о психосоматике, она не состоятельна. Более того, она нисколько не отражает то, как мы проживаем свою жизнь.
Происходят перемены. Ученые в последние десятилетия начали уходить от абстрактных моделей{238} когнитивных способностей к более телесным. Они начинают понимать, что восприятие, на которое мы чаще всего опираемся, – это чувственное эмоциональное “восприятие как”, а не рассудочное, бесстрастное “восприятие что”. Мы созданы для действий, а не для размышления. Это может существенно повлиять на все: от того, как мы обучаем, до того, как мы проводим общественное обсуждение, принимаем политические решения и воспринимаем личные отношения. Многое зависит от попытки довести бестелесный абстрактный подход до доступных человеку пределов: некоторые тенденции можно заметить{239}, лишь применяя статистические инструменты к большим объемам данных. Однако когда речь заходит о принятии политических решений, идея, будто выбор можно свести к математическим уравнениям, даже вредна. Мы мыслим эмоциональными, телесными образами{240}, и пока мы не понимаем эти “метафоры, которыми мы живем”, мы у них в плену.
Поскольку древнекитайские философы отстаивали практическую модель совершенствования, они уделяли большое внимание тренировке телесного разума (через физическую активность, практику визуализации, музыку, ритуал и медитацию) и куда меньшее – абстрактному теоретизированию и изучению первых принципов. Хотя запоминание играло свою роль, ученики должны были знать классику наизусть еще в юном возрасте; конечной целью было умение применять эту информацию к реальной жизни, гибко и творчески. Конфуций однажды заметил: “Если знаешь наизусть все триста Песен, но не разбираешься в порученном тебе государственном деле и не можешь, посланный в чужие земли, самостоятельно вести переговоры, то какая польза в Песнях, пусть ты даже помнишь их так много?!” Заучивание классических текстов еще не делает человека благородным мужем (дамой): нужно усвоить это знание, сделать его частью своего телесного сознания. На этом основывалось обучение в древнем Китае. Целью было создать своего рода гибкое ноу-хау, проиллюстрированное эффективным взаимодействием с миром. Образование должно быть “аналоговым”, целостным и ориентированным на деятельность.
Михай Чиксентмихайи и его коллеги оказали нам неоценимую услугу, сосредоточив свое внимание на роли “потока”. Но следует признать, что качества, которые были приписаны “потоку”, зависят в меньшей степени от сложностей и препятствий, чем от погруженности в Единое. Несомненно, кое-кому в силу нрава проще достичь у-вэй, покоряя все более крутые склоны или заключая все более изящные сделки. У-вэй, однако, можно обрести и ухаживая за своим садом, прогуливаясь в приятной местности или дурачась со своим ребенком. Более того, лишь такая основанная на ценностях спонтанность приводит к дэ. Признание роли дэ в доверии и взаимодействии между людьми не только помогает понять, почему парадокс у-вэй вообще существует, но и дает новое понимание динамики человеческих отношений. Она объясняет, почему попытки казаться привлекательным делают вас непривлекательным, а старание выглядеть крутым смотрится нелепо.
Интересно представить, какими были бы интеллектуальные траектории Европы и Азии, если бы в Китае моисты либо другие рационалисты одержали верх над конфуцианцами или если бы на Западе стала доминировать более приземленная аристотелевская модель. У абстрактной, рационалистической стратегии есть свои преимущества. Она легла в основу западной науки, а та привела к технической и экономической революции, и поэтому европейские колонизаторы явились к берегам Китая, а не наоборот. Пугающе много чернил ученые пролили, споря, почему современная наука возникла на Западе{241}, а не в Китае, который на протяжении большей части истории был куда лучше развит в техническом отношении, чье население было многочисленнее и лучше образованно. Наверное, нет одной-единственной причины, но убедительно выглядит мысль, что важным фактором стало глубокое подозрение по отношению к абстрактному мышлению как самоцели и вытекающая отсюда неспособность предложить бестелесный, “инструментальный” подход к миру.
Несмотря на споры интеллектуалов об опасностях отчуждения, я поклонник науки. Я нахожу совершенно непривлекательным мир без антибиотиков, электричества, авиасообщения, водопровода и хирургии. Однако ирония в том, что научная рациональность в последние годы стала видеть неизбежные пределы абстрактного мышления, когда речь заходит о непосредственном жизненном опыте. У нас есть научные причины считать, что чистая логика (особенно когда мы говорим об отношениях человеческих существ или о выработке социальных навыков) очень полезна опосредованно, но ей нельзя доверять контроль. Поэтому более целостная древнекитайская модель совершенствования заслуживает того, чтобы ее заново открыли и пустили в дело.
Господствующее ныне представление о совершенстве во многом убого, холодно и бескровно. Успех не всегда приходит от усердных раздумий и тяжких усилий. В мире, который захватывают курсы подготовки, беговые дорожки (в прямом и переносном смысле), круглосуточная связь и нечеловеческий стресс, взгляд на жизнь через призму спонтанности может помочь лучше понять собственную работу, цели и отношения. Парадокс у-вэй, к сожалению, ведет в никуда: неизбежно противоречие там, где нужно стараться не стараться. Но на практике есть способ обойти его. Неловкие первые минуты свидания вслепую могут превратиться в вечер с непринужденной беседой и настоящим взаимопониманием. Страх перед игрой уйдет, если погрузиться в удовольствие от нее. Даже танцевать сальсу может быть весело. Жизнь полна моментов непринужденного удовольствия. Если мы можем не слишком напирать, когда стараться вредно, и не думать слишком много тогда, когда рефлексия – враг, то поток жизни с готовностью подхватит нас.
Благодарности
Эта книга – плод почти двадцати лет размышлений о древнем Китае и синтезе китайской мысли с современной наукой. Поэтому невозможно перечислить всех, кто оказал на меня влияние, всех, перед кем я в интеллектуальном долгу.
Диссертацию о парадоксе у-вэй (Slingerland 1998), на подготовку которой меня вдохновила работа Дэвида Нивисона о “парадоксе добродетели”, я писал в Стэнфорде под руководством Филиппа Дж. Айвенго и Ли Иэрли. Здесь я изо всех сил старался избегать усложнения текста, поэтому за исчерпывающим перечнем научной литературы отсылаю читателя к своим академическим работам (Slingerland 1998, 2000, 2003 b, 2008). Благодарю Синтию Рид и “Оксфорд юниверсити пресс” (Нью-Йорк) за разрешение использовать здесь мои переводы из Slingerland 2003 b и Дебору Уилкс и “Хэкетт паблишинг компани” за разрешение использовать мои переводы из Slingerland 2003 a.
Что касается синтеза древнекитайской мысли с современными когнитивными науками, то мне очень повезло, когда Ален Бертоз, выдающийся французский нейрофизиолог, в 2009 году приехал в Университет провинции Британская Колумбия по программе Distinguished Visiting Professor. Ален немедленно заинтересовался феноменом у-вэй и его сходством с собственной работой о воплощенном действии. Наши неформальные встречи привели к организации двух семинаров, посвященных связи у-вэй с когнитивистикой, под эгидой Коллеж де Франс и Института им. Питера Уолла. Я в большом долгу перед Аленом, обоими институтами (особенно перед бывшим директором Института им. Питера Уолла Дайаной Ньюэлл) и участниками семинаров Джоном Элстером, Роменом Грациани, Анной Чэн, Жан-Люком Пети, Брайаном Бруя, Джимом Эннсом, Роном Ренсинком, Тоддом Хэнди, Пьером Закараускасом. Джим особенно помог мне, познакомив со своим исследованием состояния “автопилота”. Мне также повезло встретить приглашенного профессора когнитивных наук Рольфа Ребера, чей интерес к парадоксу у-вэй в книге “Лунь юй” привел меня к его очень важной работе, а также к написанию в соавторстве с ним статьи на эту тему (Reber and Slingerland 2011). Рольф также высказал ценные замечания о моей рукописи. Наконец, мое понимание связи китайской философии с современной наукой в последние пять-шесть лет улучшилось от семинаров и бесед с Дэвидом Ваном, Оуэном Фланаганом, Брайаном Бруя, Акопом Саркисяном и Бонгрэ Соком. Работы Дэвида и Акопа подарили мне новое понимание психологической сложности конфуцианской стратегии, а Мэтт Бедке помог ценным советом по философии.
Мое обращение к когнитивным наукам оказалось бы куда менее продуктивным, если бы не помощь коллег с психологического факультета Университета провинции Британская Колумбия, которые щедро тратили на меня время и знания. Особенно я хочу поблагодарить Джонатана Скулера (теперь отбывшего в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре), Лиз Данн, Тони Шмейдера, Джо Хенриха и Ару Норензаяна. Бесконечная благодарность Калине Кристофф за проверку правильности употребления терминов нейронауки. Другие специалисты в этой сфере, особенно Джонатан Хайдт, Даниель Вегнер и Шан Бейлок, щедро делились со мной советами и информацией. Я обязан Джонатану в том числе тем, что он показал мне (опубликовав “Гипотезу счастья”), как написать популярную книгу, не жертвуя смыслом, и при этом сделать вклад в научную литературу. Все ошибки относительно эмпирической базы – на моей совести: друзья не могли помочь мне во всем. За советы спасибо также Эрику Марголису, Марку Колларду и Харви Уайтхаузу.
Поскольку, послушавшись Ары Норензаяна, моего друга и коллеги из Университета провинции Британская Колумбия, я решил написать научно-популярную книгу, но при этом слабо представлял, как это сделать, я пришел к Катинке Мэтсон в агентство Брокмана. Эта книга не увидела бы свет без ее помощи.
Большую долю текста я написал, находясь в академическом отпуске в Риме, отчасти при поддержке программы Killam Research Fellowship Университета провинции Британская Колумбия. Спасибо фонду Killam Trust, а также программе Canada Research Chairs, благодаря которым я смог некоторое время не преподавать и получил поддержку, когда вернулся к работе. Спасибо также персоналу Enoteca Il Piccolo, где было написано и переписано немало страниц рукописи, а также спортивному залу Moves на виа деи Чиматори, который позволил мне не сойти с ума, справиться со всем этим вином и пастой и стал местом, где Эмма Ло Бьянко помогла мне взглянуть на парадокс у-вэй с точки зрения актера и указала некоторую литературу по теме. Моя подруга Андреа Асковиц, прекрасный теннисист и чудесный стилист-прозаик, дала ценный отзыв на вступление к книге.
Я благодарен тем друзьям, родственникам и коллегам, которые героически просмотрели рукопись. Джозеф Бульбулиа – ученый, джентльмен и верный друг – спас меня от нескольких серьезных концептуальных и научных промахов, а мой тесть Дональд Ламмерс дал немало полезных комментариев. Моя теща Джованна Колонелли-Ламмерс, преподаватель латинского, французского и итальянского языков, помогла мне одолеть запутанный итальянский синтаксис. Бесконечная благодарность Тодду Кейтли (старому другу, успешному нью-йоркскому юристу и бывшему гениальному литературному агенту), который нашел время, чтобы написать подробный отзыв на рукопись. Если вы вдруг наткнетесь здесь на необычайно ясную фразу, то это, скорее всего, заслуга Тодда. Все оставшиеся стилистические промахи – результат исключительно моей лени или упрямства.
Невозможно переоценить роль Аманды Кук, редактора из “Краун”. “Не очень-то это в духе у-вэй”, – разочарованно произнесла она, прочитав черновик, и была, к несчастью, права. Четыре главы, которые я написал в горячке в начале творческого отпуска и которые мне очень нравились, были безо всякой жалости переплавлены в одну, соединенную позднее со следующей главой, а после и еще с одной. Аманда превратила результат моей первой неловкой попытки написать научно-популярную книгу в нечто такое, что, как мы оба теперь уверены, людям будет приятно читать. Удивительное чувство ритма и стиля, присущее Аманде, вкупе с глубоким знанием научной литературы, умением находить актуальные примеры и безошибочным чутьем, подсказывающим, что нужно вычеркнуть, помогли создать книгу, безусловно превосходящую все, что я мог бы состряпать самостоятельно. Будь это научная публикация, я назвал бы Аманду соавтором, но правила издания массовой литературы заставляют меня ограничиться выражением глубокой благодарности. Спасибо за помощь и ассистенткам Аманды Эмме Берри и Доменике Алиото. Последние поправки Эммы оказались особенно ценными.
Я глубоко благодарен жене, Стефании Берк, и дочери Софии. Им во время моей работы над книгой пришлось иметь дело с измотанным и растерянным мужем и отцом. (Оказывается, писать о непринужденности очень трудно.) Обе они служили мне главным источником блаженной спонтанности в последние десять лет. И спасибо моему шурину Грегу Берку, с которым я вел под римским солнцем долгие беседы о спонтанности и джазе, приправленные прекрасной кухней и вином. (Я бы сказал – глубоко в состоянии у-вэй.)
Примечания
1
Здесь и далее фрагменты “Чжуан-цзы” приводятся в пер. В. Малявина. – Прим. пер.
(обратно)2
Здесь и далее фрагменты “Дао дэ цзин” приводятся в пер. И. Семененко. – Прим. пер.
(обратно)3
Здесь и далее фрагменты “Лунь юй” приводятся в пер. И. Семененко. – Прим. пер.
(обратно)4
Пер. Е. Перовой. – Прим. пер.
(обратно)5
Пер. Е. Перовой. – Прим. пер.
(обратно)6
Здесь и далее цитаты Сюнь-цзы приводятся в пер. В. Феоктистова. – Прим. пер.
(обратно)7
Здесь и далее фрагменты книги “Мэн-цзы” приводятся в пер. В. Колоколова. – Прим. пер.
(обратно)8
Пер. А. Бореева. – Прим. пер.
(обратно)9
Пер. Г. Богданова, Е. Кирко. – Прим. пер.
(обратно)10
Пер. А. Кобзева. – Прим. пер.
(обратно)Комментарии
1
См.: Safire and Safir 1989: 79.
(обратно)2
См.: Caine 1990: 28–29.
(обратно)3
См.: Sports Illustrated 2005.
(обратно)4
Одно из самых ярких попавшихся мне описаний этой проблемы было беллетристическим. Герой романа The Art of Fielding (Harbach 2011) Генри Скримшендер – звезда университетского бейсбола. Его преследуют агенты и вербовщики, однако он теряет удачу. Большая часть романа посвящена разбору противоречия, с которым герой сталкивается, пытаясь вернуться в игру. Например, Генри ночью сидит один на поле, между второй и третьей базой, и его голова пухнет от советов: расслабься, перестань думать, будь собой. “Можно до определенной степени стараться не слишком стараться, пока не начнешь стараться слишком сильно, – думает Генри. – А стараться слишком сильно… неправильно, совсем неправильно” (с. 305).
(обратно)5
См.: Hattenstone 2012. Недавно Бласс опубликовал мемуары (Blass and Sherman 2013). Еще одним примером служит провал Ральфа Гулдаля. В 1937 и 1938 годах он победил на Открытом чемпионате США по гольфу, а в 1939 году выиграл Мастерс. Но после того как Гулдаль опубликовал книгу о технике гольфа, он не выиграл ни одного важного чемпионата. Говорили, что Гулдаль стал слишком много думать об игре (Collins 2009). Коллинз цитирует Йоги Берра (“Как можно бить и думать одновременно?”), однако приходит к выводу, что у неудачи Гулдаля имелись более прозаические причины. В любом случае, очевидно, что размышления отрицательно сказываются на профессионализме. Обратите внимание и на другие книги о выступлениях и чокинге, например написанные бывшим спортсменом мирового класса (Syed 2010) и психологом (Beilock 2010).
(обратно)6
См.: Holden 1987. Возвращение Карли Саймон на сцену стало возможным, очевидно, благодаря приемам, помогающим певице справиться с нервозностью. Один из приемов – шлепки по заднице от членов группы непосредственно перед концертом. Ну, лишь бы работало. См.: Simon spanks away her stage fright 2006.
(обратно)7
Нужно быть внимательным, рассуждая о древнекитайских школах, особенно периода Борющихся царств. Часто можно слышать, что даосизм – это философская школа, основанная Лао-цзы и продолженная его последователем Чжуан-цзы. Это исторически неверно. Термин даосизм предложен позднее (людьми, которые организовывали библиотеку ханьских правителей) и не использовался ни авторами “Дао дэ цзин”, ни “Чжуан-цзы”. В период же Борющихся царств никто не называл себя даосом, к тому же соображения Чжуан-цзы во многом отличаются от изложенных в книге, приписываемой Лао-цзы. Тем не менее, говоря о Лао-цзы и Чжуан-цзы, я использую термин даосы: во-первых, он широко известен, а во-вторых, у этих двух мыслителей были важные общие черты (тот, кто поставил их книги на одной полке, знал свое дело). Также замечу, что мои придирчивые коллеги в последнее время избегают и термина конфуцианство применительно к ранним мыслителям вроде Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Этот термин, которым в период Борющихся царств пользовались мыслители вроде Сюнь-цзы для описания себя и который часто переводят как “конфуцианец” (жу,), вначале означал просто “эрудит”, “ученый”, а признание к Конфуцию пришло гораздо позднее периода Борющихся царств. Но меня в меньшей степени смущают “конфуцианцы”, нежели “даосы”, поскольку и Мэн-цзы, и Сюнь-цзы считали себя последователями Конфуция. Если хотите исторической точности, всякий раз, когда вам попадаются конфуцианцы, мысленно заменяйте их на жуистов.
(обратно)8
Человек может иногда сделать паузу, чтобы обдумать варианты действий или представить грядущие события, но и эти размышления даются ему почти без усилий. Так что у-вэй – это скорее поведение, прямо проистекающее из “телесного мышления”.
(обратно)9
Очевидно, что книга “Лунь юй” составлена не ранее смерти Конфуция в начале периода Борющихся царств (Чжаньго). Кроме того, я называю Лао-цзы и Чжуан-цзы авторов текстов, получивших эти имена, хотя вызывает сомнение, что эти люди действительно существовали и написали указанные книги.
(обратно)10
См.: Gigerenzer 2002. Также см.: Wegner and Bargh 1998; Wilson 2002; Kahneman 2011.
(обратно)11
Это схематическое изображение сильно опосредованного продукта сложных, иногда противоречивых статистических методов. О пределах наших способностей определять настоящие когнитивные процессы через ФМРТ см.: Poldrack (2006).
(обратно)12
См. гл. 6.
(обратно)13
Современная наука столкнулась с рядом проблем, очень похожих на древнекитайский парадокс спонтанности: если вы уже не ведете себя спонтанно и непринужденно, как можно пытаться быть таким? Чем сильнее исследователи когнитивных наук интересуются феноменом спонтанности и связи бессознательного с поведением, тем заметнее это противоречие и тем активнее (чего и следует ожидать от ученых) попытки преодолеть его своими методами. Социальные психологи, интересующиеся эффективностью бессознательных процессов (могущество “озарения”), также столкнулись с вредом слишком долгих раздумий. Психологи начали исследовать феномен, очень похожий на парадокс у-вэй: насколько сложно сознательно подавить мысль, заставить себя расслабиться или заснуть (Wegner 2011). Растет объем экспериментальной литературы о феномене мандража в стрессовой ситуации, из которой также можно почерпнуть догадки о том, какие конкретно факторы действуют в случаях, которых так боятся профессиональные спортсмены и исполнители (Beilock 2010). Специалисты по когнитивным нейронаукам также начали изучать мозг, чтобы понять, что именно происходит “за кулисами”, когда у спортсмена появляется “эйфория бегуна” (Dietrich 2003) или когда джазмены переключаются с гамм на импровизацию (Limb and Braun 2008). Эта работа предоставляет нам ценный современный взгляд на древний парадокс у-вэй.
(обратно)14
Есть и исключения: Аристотель, Фридрих Ницше, Морис Мерло-Понти, Уильям Джемс и Джон Дьюи и др.
(обратно)15
О “народном” психофизиологическом дуализме см.: Bloom 2004. Также см.: Slingerland 2013. (О том, что даже в древнем Китае существовал психофизиологический дуализм, хотя и не настолько ясно выраженный, как в западной мысли после эпохи Просвещения.)
(обратно)16
Ранние исследования по когнитивным наукам воспринимали мышление как нечто абстрактное (не имеющее ничего общего с конкретными образами и телесным восприятием) и проявлявшееся в “разуме”, как призрачная субстанция, таинственным образом связанная с телом. (Декарт считал, что связь осуществляется через шишковидное тело, но у этой теории нашлось мало сторонников.) Исследователи когнитивных наук долго не могли понять, насколько она неверна. Их существенным преимуществом перед философами, большинство которых не следят за новостями, оказалось то, что ученые проводили эксперименты и собирали эмпирические данные. То есть они проверяли, работает ли эта модель. Как с радостью расскажут вам философы науки, очень трудно получить прямой ответ через такие испытания, но кое-что мы все-таки можем узнать, и неспособность бестелесной модели описать, как человек на самом деле думает и действует, оказалась одной из них. В 80–90-х годах ученые начали искать альтернативу ложной философской модели.
(обратно)17
О “первом поколении” (против второго) когнитивных наук и теории воплощенного сознания см.: Gibbs 2006. О философских попытках “привести тело в чувство” см.: Johnson 1987.
(обратно)18
См.: Lakoff and Johnson 1980; Lakoff and Johnson 1999.
(обратно)19
Об образной природе мышления см.: Kosslyn, Thompson, and Ganis 2006. Об эмоциях и разуме см.: Damasio 1994; Berthoz 2006. О нацеленности мышления на действие см.: Gibson 1979; Noë 2004.
(обратно)20
См.: Varela, Thompson, and Rosch 1991; Thompson 2007; Flanagan 2011.
(обратно)21
См.: Munro 2005; Bruya 2010; Slingerland 2011 a; Seok 2012. Также см.: Rosemont and Ames 2009.
(обратно)22
См.: Ryle 1949; Polanyi 1967.
(обратно)23
У-вэй можно воспринимать как телесную альтернативу современному западному “бестелесному” идеалу. Почти без преувеличения можно сказать, что идеальный человек для большинства течений западной мысли оказался бы отрешенным летающим мозгом в колбе, свободным от всех телесных эмоций и раздражителей. Этот жуткий летающий мозг был бы способен получать информацию об окружающей среде через электронные сенсоры, обрабатывать ее, находить наилучшее рациональное решение и потом посылать сигналы таким же жутким роботам, которые исполняли бы его волю. Это кажется отвратительным, потому что неестественно, на каком-то уровне мы понимаем, что это не сработает. И здесь популярная культура дает ответ на вопрос, который наша научная традиция обычно упускает: в любом романе или фильме бесстрастный рациональный манипулятор с “инструментальным” подходом, идеал западной философии, всегда будет злодеем. Мы не доверяем такому человеку и находим его отталкивающим, потому что на каком-то уровне осознаем, что мы не бестелесные мозги и что части нашего тела не просто механические устройства. Мы – полноценные, хорошо настроенные системы из разума и плоти, способные на довольно бесстрастные рассуждения, но в основном направляемые осознанными эмоциями, привычками восприятия и импульсами. Поэтому герой, который в конце концов побеждает злодея, выглядит как человек в состоянии у-вэй: он храбр, но не безрассуден, страстен, но не ослеплен, умен, но не коварен.
(обратно)24
См.: Baier 1994: 114.
(обратно)25
Вступление к этому спору в свете недавно открытых текстов см.: Cook 2004; Slingerland 2008.
(обратно)26
В сонете, приписываемом Микеланджело, есть следующие строки (пер. А. Эфроса):
И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, – и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит.
(обратно)27
См.: Slingerland 1998; Slingerland 2003 b.
(обратно)28
На самом деле в большинстве источников термин у-вэйне употребляется. В них признаки у-вэй описываются рядом терминов или метафор: расслабление, следование, забвение и течение. Причина, по которой термин у-вэй в какой-то момент стал использоваться как общий для такого рода историй и опыта, заключается в том, что это наиболее абстрактное выражение, описывающее чувство непринужденности, легкости и безмятежности. См.: Slingerland 2003 b.
(обратно)29
Джордж Лакофф и Марк Джонсон задокументировали тенденцию языков проводить разницу между субъектом (“я”, локусом идентичности и сознания) и одной или несколькими строптивыми “я” – либо неясной сущностью (“я сам”), либо конкретной частью и функцией тела (“мои эмоции”, “мой язык”). Отношения между субъектом и “я” метафоричны в том смысле, что существует лишь один человек – я, несмотря на то, что я могу метафорически ощущать, будто раздваиваюсь (Lakoff and Johnson 1999: 268–270). Именно эта дихотомия помогает нам понять, почему у-вэй, “недеяние” или “не-старание”, может использоваться как общий термин для довольно активного поведения. У-вэй метафорически относится к состоянию, когда некоторые действия происходят, но субъект (сознательное “я”) не применяет силу и не концентрируется на них. Происходит то, что происходит, без активного вмешательства субъекта.
(обратно)30
См.: Sloman 1996. Термины система № 1 и № 2 предложены Становичем и Вестом (Stanovich and West 2000). Широкому читателю наиболее известен Даниель Канеман. См.: Kahneman 2011. Недавно Ап Дийкстерхуис и его коллеги предложили выделить систему № 3 (тип 3): когнитивные процессы, отвечающие за принятие важных и трудных жизненных решений, которые мы обычно принимаем после тщательного и долгого обдумывания (Dijksterhuis et al. 2013). Эти процессы имеют сознательно определенную цель (как система № 2), но работают в основном подсознательно (как система № 1) и обычно медленно (как система № 2, только еще медленнее). Дийкстерхуис предлагает обозначить эти три типа мышления как “озарение” (система № 1), “размышление” (система № 2) и “утро вечера мудренее” (система № 3). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, обладает ли система № 3 набором процессов, которые должны быть выделены в новую категорию, или просто представляет конкретный случай взаимодействия между системой № 1 и системой № 2.
(обратно)31
Эксперимент с булавкой изначально поставил Эдуард Клапаред. См.: LeDoux 1996: 181–182. Также см.: LeDoux 1996; Zajonc 1980; Pessoa 2005.
(обратно)32
См.: Ryle 1949; LeDoux 1996; Goodale and Milner 2004; Enns and Liu 2009.
(обратно)33
“Дзэн” – японское прочтение китайского иероглифа “медитация”, который в современном китайском читается “чань”.
(обратно)34
Дзэн повлиял на Лукаса в первую очередь посредством бусидо, а с этой концепцией Лукас познакомился благодаря фильмам Куросавы. См.: Baxter 1999: ch. 7.
(обратно)35
См.: Wegner 2002, ch. 1.
(обратно)36
См.: Kahneman 2011: 25.
(обратно)37
Хотя множество исследователей когнитивного контроля занимаются в основном латеральной префронтальной корой, которая играет ключевую роль в сознательном управлении поведением, очевидно, что другие части префронтальной коры (вентромедиальная префронтальная кора и т. д.) также важны для управления эмоциями и поведением. О когнитивном контроле см.: Miller and Cohen 2001; Banich 2009; Stout 2010; Braver 2012.
(обратно)38
Хотя, похоже, контроль возложен на латеральную префронтальную кору, передняя цингулярная кора оказывается источником ощущения сознательного “хм”, которое сопровождает умственное усилие. Лионель Накаш и его коллеги сообщили о случае, когда пациент с обширным повреждением левого полушария (в том числе передней цингулярной коры) мог выполнять задания вроде теста Струпа, требующих когнитивного контроля, но говорил, что не чувствует сознательного усилия. Он мог осуществлять когнитивный контроль, но не чувствовал “хм”. Другие исследования предполагают, что передняя цингулярная кора тесно связана с сознательным ощущением приложения усилий и сложности. См.: Naccache et al. 2005.
(обратно)39
См.:Limb and Braun 2008.
(обратно)40
Мы немногое знаем о функции той части медиальной префронтальной коры, которая активируется при этом исследовании, но она, похоже, в целом очень важна для сохранения и восприятия информации о “я”. Некоторые ранние исследования медиальной префронтальной коры при помощи ФМРТ показали, что она по-разному активируется, когда испытуемых просили задуматься о себе (“Свойственна ли вам эта черта характера?”) и о других людях (“Свойственна ли Джорджу Бушу эта черта характера?”). См.: Kelley et al. 2002. Другая работа с испытуемыми, практикующими “медитацию ясного ума”, показала снижение активности латеральной префронтальной коры, но увеличение активности передней цингулярной коры и медиальной префронтальной коры. Это может означать состояние гибкости, открытости, проистекающей из бессознательного, которое выходит за границы узкой перспективы сознательного мышления (Cahn and Polich 2006; Siegel 2007). Лимб и Браун предполагают, что снижение активности латеральной префронтальной коры в сочетании с продолжением активности передней цингулярной коры и медиальной префронтальной коры может привести к состоянию “несосредоточенного свободного внимания, которое приводит к внезапным ассоциациям и неожиданным мыслям и осознанию”, потому что центры когнитивного контроля больше не регулируют содержание сознания. См.: Limb and Braun 2008: 4
(обратно)41
Некоторые из недавних работ о когнитивном контроле описывали это состояние готовности как реактивный когнитивный контроль, в противовес проактивному, при котором мы испытываем заметное сознательное усилие, а префронтальная латеральная кора и передняя цингулярная кора активны. См.: Braver 2012.
(обратно)42
Важно понять, что тело, которое берет верх в рамках такой деятельности, как джазовая импровизация, – не просто некое тело, а тело, натренированное сознательным мышлением.
(обратно)43
Психолог Джон Барг заявил: 99,44% того, что мы делаем, – это результат работы бессознательного (Bargh 1997: 243). Это комически точно, но настоящие цифры однозначно высоки.
(обратно)44
См.: Wilson 2002; Gladwell 2005; Kahneman 2011; Duhigg 2012.
(обратно)45
См.: Gladwell 2005. Об “обдумывании без внимания” см.: Dijksterhuis et al. 2006. Также см.: Bargh et al. 2012.
(обратно)46
Надписи на обложке диска Грега Берка The Way In (482 Music, 2006). Вдобавок к тому, что Грег вдохновенный музыкант, он мой шурин и находит концепцию у-вэй идеальным выражением своего творческого процесса. Поищите диск, на котором есть запись Wu-wei Out.
(обратно)47
О разности взглядов Конфуция и Лао-цзы на политику и дэ см.: Ivanhoe 1999.
(обратно)48
О китайском взгляде на спонтанность см.: Graham 1983: 9–13.
(обратно)49
То, что у-вэй – это, по сути, религиозный идеал, я доказываю в диссертации (1998), которую проще найти в виде статьи (Slingerland 2000 a) и монографии (Slingerland 2003 b).
(обратно)50
Концепция получила широкую популярность после публикации книги “Поток: психология оптимального переживания” (Csikszentmihalyi 1990), но Чиксентмихайи с единомышленниками занимается исследованиями “потока” с 60-х годов и стал одним из основоположников позитивной психологии. Сторонники других подходов в научной психологии, как правило, уделяют внимание либо психическим заболеваниям, либо механике когнитивных процессов. Приверженцы же позитивной психологии попытались принять более целостный подход и при помощи психологических исследований улучшить жизнь человека. Работа Чиксентмихайи в особенности заставила психологов обратить внимание на “телесный разум”: не рациональные суждения и не слепые рефлексы, а действия, происходящие из непринужденной гармонии тела и разума. Сам Чиксентмихайи видит параллели между “потоком” и тем, что я называю у-вэй, и в своей работе 1990 года даже пересказывает историю повара Дина. К слову, его сын Марк был моим соучеником в Стэнфорде, где мы осваивали древнекитайскую философию и где я впервые познакомился c идеей “потока”. Марк теперь заслуженный профессор китайской философии Калифорнийского университета (Беркли).
(обратно)51
См.: Csikszentmihalyi 1988 a: 30.
(обратно)52
См.: Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi 1988 b.
(обратно)53
Интересно, что некоторые коллеги Чиксентмихайи, не живущие на Западе, в изучении “потока” нередко делают акцент на социальном опыте и общих ценностях. Например см. исследование японских мотоциклетных банд босодзуку (Sato 1988).
(обратно)54
Различие между есть и должно быть – давняя тема в западной философии. Основную информацию можно найти у Юма (Hume 1739/1888: bk. 3, pt. 1, sec. 1), в работе Дж. Э. Мура об “открытом вопросе” (Moore 1903) и в дискуссии между ними в кн.: Sayre-McCord 2012. Зависимость людей от приверженности ценностям, которые выходят за пределы фактов, является важным элементом психологии, на который не обратили внимания наиболее негибкие из представителей “нового атеизма”, считающие, что человек способен руководствоваться лишь эмпирическими доказательствами и холодным расчетом. (Еще большая ирония кроется в том, что эти “рыцари науки” не обращают внимания на когнитивные исследования религии и нравственной психологии.) Укажу работу Сэма Харриса как наиболее философски простодушный и эмпирически не подтвержденный пример этого жанра. См.: Harris 2004; Harris 2010.
(обратно)55
О “неизбежности” систем ценностей см.: Taylor 1989, esp. chs. 1–3. О “светском обществе” см.: Taylor 2007. Также см.: Slingerland 2008: ch. 6; Slingerland 2007.
(обратно)56
О разнице между “потоком” и у-вэй как фактически религиозным идеалом см.: Slingerland 2000 a; Slingerland 2003 b. О сходстве и различиях “потока” и у-вэй см.: De Prycker 2011; Barrett 2011.
(обратно)57
См. Taves 2009.
(обратно)58
Следовательно, американские консерваторы обладают более точным взглядом на вещи, чем их соотечественники-либералы, по крайней мере, в этом отношении: ценности вроде свободы и достоинства являются частью более широкой системы ценностей, которая несовместима с другими системами ценностей. Американские либералы, с другой стороны, считают, что принятие либеральных ценностей естественно предопределено и что все люди, если освободить их от предрассудков, приходят к ним. Канадский философ Чарльз Тейлор (Taylor 1989; Taylor 2007) заявлял, что современный гуманизм все еще устроен очень похоже на традиционную религию, поддерживающую ценностные суждения. Утверждение Тейлора подкрепляют его исторические работы, исследования социологов вроде Роберта Беллы и его коллег (Bellah et al. 1996) и текущее состояние дел в нравственной и социальной психологии (Haidt 2012). Существует ценная и забавная видеозапись конференции 2007 года, где ведущие философы и психологи выцарапывают друг другу глаза (в переносном смысле слова), а меня “топчет” банда новых атеистов. См.: http:// thesciencenetwork.org/ programs/ beyond-belief-enlightenment-2–0.
(обратно)59
Одной из не имеющих исторических аналогов черт западной жизни является фрагментация смысла, которая происходит из-за принятия множества довольно узких личных систем ценностей и обычно приводит к непониманию, когда человек пытается описать или оправдать свои ценности. Социолог из Беркли Роберт Белла и его коллеги отметили, что многие американцы затрудняются последовательно защищать свой подход к нравственности, потому что они черпают указания для повседневного поведения из большого числа источников и часто не обладают ясным пониманием более широкой системы гуманизма, которая включает их все. См.: Bellah et al. 1996.
(обратно)60
“Лунь юй” – явно неоднородный текст. Этот сборник начали составлять лишь после смерти философа, хотя ученые спорят насчет датировки фрагментов (Slingerland 2000 b). В основном текст кажется довольно древним (возможно, время его появления совпадает с появлением “Дао дэ цзин”), и мы будем обращаться с ним как с достаточно целостной книгой, отражающей мысли ранних конфуцианцев.
(обратно)61
Мэн-цзы, разумеется, считал себя последователем Конфуция, но, как мы увидим в гл. 5, его подход к достижению у-вэй принципиально отличен. Исторический Конфуций скорее одобрил бы подход Сюнь-цзы. Сам Сюнь-цзы (он писал в конце периода Борющихся царств) осуждал Мэн-цзы за “фальсификацию” конфуцианства. То, что сейчас чаще ставят рядом Конфуция и Мэн-цзы, а не Конфуция и Сюнь-цзы, – результат позднейших событий, имеющих мало отношения к подлинному положению в конфуцианской философии периода Борющихся царств. Хотя я объединяю для удобства Конфуция и Сюнь-цзы в этой главе, их взгляды на многие предметы, в том числе на природу Неба (тянь) и истоки конфуцианского Пути, не совпадали. Так, Конфуций думал, что Небо открыло Путь правителям Чжоу, а Сюнь-цзы считал, что тянь – не божество, а нейтральная сила (ближе всего к понятию “Природа”). Сюнь-цзы описывает Путь как культурное достижение, подготовленное за долгое время рядом гениев. (О взглядах Конфуция и Сюнь-цзы на природу Неба см.: Ivanhoe 2007 a.) Сюнь-цзы эмпирически достовернее описывает происхождение больших сообществ (как мы, совершенствуя культуру, перешли от естественного состояния к цивилизованному), особенно если воспринимать накопление культурных усовершенствований как нерегулируемый процесс. Поэтому в этой главе я буду работать в основном с концепцией Пути Сюнь-цзы.
(обратно)62
В последние десятилетия психология концентрировалась на силе бессознательного. Однако интеллектуальный маятник пошел в другую сторону, и в последние годы многие уважаемые ученые стали высказываться в пользу разума и опровергать утверждения, что сознание это только эпифеномен, побочный продукт работы бессознательного. Также см.: Baumeister, Masicampo, and Vohs 2010.
(обратно)63
См.: Dennett 1991.
(обратно)64
См., например: Grouios 1992.
(обратно)65
См.: Gazzaniga 1998.
(обратно)66
См.: Dennett 1995: 379–380.
(обратно)67
О том, как рассудочное мышление в определенных ситуациях превосходит чувственное мышление либо склонность к у-вэй, см.: Kahneman 2011: 239–241.
(обратно)68
См.: McCauley 2011.
(обратно)69
Понимаемая таким образом культура включает большой объем информации о социальной среде, в том числе о физической деятельности и физических объектах (совершенствовании навыков, измерительных инструментах, книгах, развивающейся культурной среде) и вербальной коммуникации (Sperber 1996). Недавно была проведена огромная работа по осознанию хода культурной эволюции, в которой человеческие культуры во всех их проявлениях со временем приобретали черты генетической эволюции, сохраняя и важные отличия (о культурной эволюции см.: Richerson and Boyd 2005). Возникшие культурные системы изменяют нас, обычно незаметно, изменяя внутренние ассоциации, основные мотивы, предпочтения и вкусы, даже наше восприятие пространства. Об определяющей роли культуры для сознания см.: Geertz 1973 (более традиционный антропологический подход); Henrich, Heine, and Norenzayan 2010 (более современный эволюционный взгляд).
(обратно)70
О табу у фиджийцев см.: Henrich and Henrich 2010; Henrich and McElreath 2003; Katz, Hediger, and Valleroy 1974.
(обратно)71
См.: Boyd, Richerson, and Henrich 2011.
(обратно)72
В сравнении с шимпанзе человеческие дети куда точнее в подражании: если показать им новый навык, они повторят все, что видели, даже несущественные действия, вроде почесывания носа. Шимпанзе повторяют лишь полезные шаги, игнорируя остальное. Это эффективнее, когда польза очевидна (Nagell, Olguin, and Tomasello 1993), однако менее эффективно, когда речь заходит о передаче сложной социальной информации, в которой сами ее составляющие делают почти невозможной задачу различения важных и несущественных шагов. “Обезьянничать” свойственно в первую очередь людям, что, возможно, является результатом давления отбора, оказываемого человеческой культурой.
(обратно)73
См.: Schmeichel and Baumeister 2010.
(обратно)74
См.: Baumeister et al. 1998; Muraven, Tice, and Baumeister 1998. Позднейшие работы, изучающие психологические причины этого феномена, предполагают, что количество доступной глюкозы в мозге оказывается ограничивающим фактором: осуществление когнитивного контроля расщепляет глюкозу, и получение дополнительной глюкозы может помочь быстрее вернуть самоконтроль (Gailliot et al. 2007). Как замечают авторы последнего исследования, когнитивный контроль дает интересные эффекты, когда речь заходит об определенных проявлениях воли. Так, при диете нужно одновременно применять силу воли и воздерживаться от потребления глюкозы. В результате возникает “иронический конфликт”, при котором диетические ограничения приводят к снижению глюкозы, которое, в свою очередь, подрывает силу воли, необходимую для отказа от еды.
(обратно)75
Акцент на обуздании куда больше подходит для “добродетельного” подхода к нравственному обучению и принятию решений, чем к моделям когнитивного контроля, доминирующим в западной мысли. См.: Haidt 2005; Slingerland 2011 a.
(обратно)76
См.: Dietrich 2004: 752–753. В этой работе прекрасно описаны неврологические механизмы, лежащие в основе у-вэйи “потока”.
(обратно)77
Базальные ганглии служат чем-то вроде ворот или пускового механизма в центре огромного числа обусловливающих поведение сетей. См.: Gazzaniga, Mangun, and Ivry 1998: 78–81, 300–307.
(обратно)78
См.: Berthoz 2006: 103–106.
(обратно)79
См.: Grafton, Hazeltine, and Ivry 1995. Также вероятно, что повреждение базальных ганглиев приводит к неспособности людей с болезнью Паркинсона или Хантингтона приобретать и сохранять моторные навыки даже при удержании воспоминаний. См.: Grahn, Parkinson, and Owen 2009.
(обратно)80
См.: Smith, McEvoy, and Gevins 1999; Poldrack et al. 2005.
(обратно)81
Изящество этого решения в том, что ограниченные когнитивные ресурсы, первоначально загруженные необходимостью управлять, тормозить и ускорять, теперь оказываются свободны. Что особенно важно, это дает определенную гибкость и обновление, недоступное любителям. В большей или меньшей степени освоив основы вождения автомобиля, я могу не только посвятить больше внимания тому, какой плакат “Лед зеппелин” я хочу купить в магазине, но и эффективнее и безопаснее двигаться в потоке машин и справляться с неожиданными ситуациями вроде глыбы льда на дороге или злобного водителя из Джерси, который хочет меня “подрезать”. Разумеется, существует предел погружения навыка в чувственное мышление: автоматические процессы требуют перенастройки, если условия изменяются. После того, как я в Италии водил взятую напрокат машину с ручным сцеплением несколько месяцев, мне обычно требовалась неделя или две, чтобы отучиться давить в пол левой ногой, пытаясь найти несуществующую педаль, когда я возвращался домой к своему автомату. Конечно, я в какой-то момент прекращал это делать, а неделя или две приспособления с лихвой окупаются преимуществами автоматизации. И я никогда не справился бы с вождением в Риме, если бы пришлось постоянно думать о сцеплении.
(обратно)82
Описанное Сюнь-цзы естественное состояние напоминает то, что Томас Гоббс назвал “войной всех против всех” (Hobbes 1651/1985: 189). В естественном состоянии каждый удовлетворял собственные нужды, нисколько не заботясь об общественном благе, и это приводило к общему страданию. Впрочем, люди – стайные животные, поэтому войну вели не индивиды, а скорее семьи или кланы.
(обратно)83
См.: Ames 2011. Также см.: Ihara and Nichols 2013.
(обратно)84
Приведенная цитата означает, что Конфуций не показался бы на людях в одной футболке. Это этикетное правило не так уж редко встречается, например, в Европе или Латинской Америке.
(обратно)85
См.: Goffman 1959; Sarkissian 2010; Wegner 2002: esp. 193–194.
(обратно)86
См.: Stern 1977; de Sousa 1987: 182–183.
(обратно)87
См.: de Sousa 1987.
(обратно)88
О значении среды для успеха Джобса см.: Isaacson 2011. Также см.: Yglesias 2011. Иглесиас замечает: “Из первых глав книги очевидно, что не было бы никакого “Эппла”, если бы Джобс не родился и не вырос в Кремниевой долине. Но не только потому, что Джобсу повезло оказаться в правильное время в правильном месте, но и потому, что само это место должно было появиться”.
(обратно)89
О роли “подпорок” в раннем конфуцианстве см.: Hutton 2006; Slingerland 2011 b.
(обратно)90
См.: Bargh, Chen and Burrows 1996.
(обратно)91
См.: Macrae and Johnston 1998. См.: Bargh and Chartrand 1999; Wilson 2002. Недавно (из-за ряда неудачных попыток повторить опубликованные результаты) началась дискуссия (Pashler, Coburn, and Harris 2012). Прозвучали призывы пересмотреть всю литературу по теме (Yong 2012). Некоторые из неудачных попыток воспроизведения эксперимента предполагают, что бессознательное фиксирование установки работает, однако не совсем так, как предполагалось. Например, в рамках очень интересного исследования (Doyen et al. 2012) не удалось повторить результаты Барга, Чэня и Берроуза (1996), за исключением условий, когда при эксперименте со “стариками” присутствовал экспериментатор, который хотел, чтобы участники ходили медленнее. Прайминг оказывает эффект на поведение, когда сопровождается мягкими намеками. Сочетание прайминга и намеков, безусловно, является характерной чертой конфуцианского обучения.
(обратно)92
См.: Dijksterhuis and Van Knippenberg 1998; Dijksterhuis and Bargh 2001.
(обратно)93
См.: Strack, Martin, and Stepper 1988.
(обратно)94
См.: Alcorta and Sosis 2007.
(обратно)95
Фрагмент одного из годяньских текстов (гл. 7). См.: Xing Zi Ming Chu, strip 22.
(обратно)96
Более того, дети трех-четырех лет, похоже, справляются с этим лучше, чем это было бы случайно, а секрет, судя по всему – в универсальных акустических паттернах (ритме, тональности), которые связаны с основными эмоциями. Об этом и о воздействии музыки на эмоции см.: Juslin and Västfjäll 2008.
(обратно)97
См.: Durkheim 1915/1965. Рой Раппапорт замечает (и звучит это так, будто мы читаем древнекитайский текст), что члены религиозной общины постигают учение “не только ушами и глазами, но и покидая свое тело в песне или возвращаясь в него через барабанный бой, заставляющий конечности двигаться в танце”. См.: Rappaport 1999: 388.
(обратно)98
См.: McNeill 1995; Wiltermuth and Heath 2009; Konvalinka et al. 2011.
(обратно)99
См.: Freud 1930/1969.
(обратно)100
Сюнь-цзы даже сравнивает идеальное поведение с такими глубоко чувственными процессами, как восприятие и основные моторные навыки: “Он следует примеру ванов-предков так же легко, как отличает черное от белого. Он действует безукоризненно, если обстоятельства меняются, так же без усилий, как считает от одного до двух. Он приводит в действие основные правила ритуала легко и безупречно, как будто двигает четыре части своего тела” (пер. В. Феоктистова).
(обратно)101
См.: Van Norden 2008: 195.
(обратно)102
Легенда гласит, что Учитель, питая отвращение к разврату и излишествам, решил покинуть Китай и искать землю получше, однако его остановила пограничная стража и отказалась пропустить, пока тот не оставит свою мудрость для потомков. Записанные им примерно пять тысяч иероглифов и составили “Дао дэ цзин”. Некоторые утверждают, что он добрался до Индии, где начал учить под именем Шакьямуни – иными словами, стал историческим Буддой. Эта версия приобрела популярность в начале нашей эры после прихода в Китай буддизма и использовалась, чтобы объяснить сходство буддизма и даосизма (они были схожи, потому что индийцев якобы учил Лао-цзы). Это вымысел от первого до последнего слова. Недавние археологические находки подтвердили подозрение, что “Дао дэ цзин” в период Борющихся царств не был сложившимся текстом и фрагменты сочетались причудливым образом (возможно, чтобы служить задачам разных составителей). Этого вполне можно ожидать от контркультурного, почти анархистского движения: никакого ясного текста, свободное заимствование, много различий. Мы, однако, в первую очередь полагаемся на каноническую версию.
(обратно)103
Термин предложен в кн.: Schooler and Engstler-Schooler 1990.
(обратно)104
См.: Wilson and Schooler 1991.
(обратно)105
Wilson et al. 1993. В случае экспертов отрицательные эффекты вербализации исчезали. Это может служить конфуцианским контраргументом. См.: Wilson, Kraft, and Dunn 1989; Melcher and Schooler 1996.
(обратно)106
См.: Thoreau 1854/1949: 23. Процитированная фраза продолжается так: “Я иногда и не надеюсь дождаться от людей чего-то простого и честного”. Думаю, Торо понравился бы Лао-цзы.
(обратно)107
См.: Frederick and Loewenstein 1999. Позднейшие работы подтвердили некоторые смелые предположения. Например, очевидно, что уровень удовлетворенности со временем изменяется, что люди существенно различаются по этому уровню и что удовлетворенность – это очень сложное явление. См.: Diener, Lucas, and Scollon 2006.
(обратно)108
Так называемый парадокс Истерлина заключается в том, что хотя относительный доход коррелирует с уровнем удовлетворенности в обществе, общее увеличение доходов не приводит к росту удовлетворенности (Easterlin 1974). О важности оценки дохода в противовес его объективному уровню см.: Boyce, Brown, and Moore 2010.
(обратно)109
См.: Wegner 2002: 311.
(обратно)110
Об иронии этого рода см.: Wegner 2002; Wegner 2009.
(обратно)111
См.: Wegner, Ansfield, and Pilloff 1998; Wegner 2009.
(обратно)112
Frankl 1965: 253.
(обратно)113
См.: Ascher and Turner 1980.
(обратно)114
См.: Dietrich 2004: 756.
(обратно)115
См.: Monin and Miller 2001.
(обратно)116
Интересно, что те, чья моральные устои подвергались “бомбардировке” негативными образами (“жадный”, “мелочный”, “самолюбивый” и т. д.), увеличивали сумму пожертвования в среднем до 5,3 доллара. См.: Sachdeva, Iliev, and Medin 2009.
(обратно)117
См.: Khan and Dhar 2007.
(обратно)118
См.: Dietrich 2003.
(обратно)119
См.: Dietrich 2003.
(обратно)120
В “Дао дэ цзин” читаем: “Я нахожусь в бездействии, и народ сам преобразуется; я предаюсь покою, и народ сам исправляется; я пребываю в недеянии, и народ сам богатеет; у меня не появляется желаний, и народ сам обретает первозданность”.
(обратно)121
См.: Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi 1988 a: 184.
(обратно)122
См.: Csikszentmihalyi and Csikszentmihalyi 1988 a: 184; Redfield 1953. Интересно, что авторы приписывают постоянное пребывание в “потоке” представителям древнеримской, древнеиндийской, древнекитайской и т. д. культур, когда по крайней мере элита могла “жить с замысловатой грацией балерины и получать, наверное, то же удовольствие от сложной гармонии своих действий, как и от долгого танца”.
(обратно)123
Так было, по крайней мере, пока они не накапливали достаточно имущества, чтобы расслоение имело хоть какой-нибудь смысл. Есть доказательства того, что общины охотников и собирателей были сравнительно эгалитарными и обладали механизмами, мешающими тому или иному их члену стать слишком могущественным (Boehm 1999). Но расслоение немедленно обнаруживалось, когда уровень благосостояния становился достаточно высоким (в регионах вроде Тихоокеанского побережья США, богатых природными ресурсами), или в результате перехода к земледелию.
(обратно)124
О “благородном дикаре” с точки зрения современной антропологии см.: Horton 1993: 88–97, 133–136. Об общинах, якобы живущих в гармонии с природой, см.: Smith 2001. О якобы мирной жизни таких общин см.: Keeley 1996; Le Blanc 2004; Pinker 2011.
(обратно)125
См.: Csikszentmihalyi 1988 b: 374.
(обратно)126
Сюнь-цзы был ведущим ученым-конфуцианцем в раннеимперский период, но философия Мэн-цзы возродилась в XII веке, когда неоконфуцианцы объявили его ортодоксальным последователем Конфуция. Поэтому для большинства современных китайцев именно Конфуций и Мэн-цзы стали ассоциироваться с ранним конфуцианством, а Сюнь-цзы им почти неизвестен.
(обратно)127
В современном перенаселенном мире рост населения уже не кажется желанным, но во времена Мо-цзы в Китае было много участков плодородной, но не обрабатываемой земли, так что рост населения подразумевал развитие сельского хозяйства и многочисленную армию.
(обратно)128
О противостоянии консеквенциализма (утилитаризма) (Мо-цзы) и ценностной этики (конфуцианцы) см.: Van Norden 2007.
(обратно)129
См.: Singer 2011: 175–217, 191–195.
(обратно)130
Это опровергает рационалистические этические модели – от моизма до современного утилитаризма. Неразрешенный спор между “ценностной этикой”, которой придерживается Мэн-цзы, и рациональным подходом, представляемым утилитаристами или деонтологами, шел с IV века до н. э., и то, что современная наука может встать (возможно, окончательно) на одну из сторон, является огромным шагом вперед. См.: Slingerland 2011 a.
(обратно)131
См.: Rizzolatti, Fogassi, and Gallese 2001; Umiltà et al. 2001.
(обратно)132
См.: Blair 2001.
(обратно)133
См.: Henrich et al. 2006.
(обратно)134
См.: de Quervain et al. 2004.
(обратно)135
См.: Wallace et al. 2007.
(обратно)136
См.: Brosnan and de Waal 2003.
(обратно)137
Об отвращении см.: Rozin, Haidt, and Fincher 2009. О “ростках” Мэн-цзы и эволюции человеческой психологии см.: Flanagan and Williams 2010.
(обратно)138
См.: Nichols 2004; Prinz 2007.
(обратно)139
См.: Haidt 2001; Haidt, Koller, and Dias 1993; Wheatley and Haidt 2005.
(обратно)140
См.: Damasio 1994; Damasio 1999.
(обратно)141
Некоторые исследователи сравнивали пациентов с поврежденной вентромедиальной префронтальной корой с алкоголиками или игроманами в том отношении, что простого знания о том, что нечто – вредно, не всегда достаточно, чтобы убедить человека не попадать в неприятности. Проблема в том, что патологически импульсивное поведение, таким образом, может быть не излишне, а недостаточноэмоциональным.
(обратно)142
См.: Barsalou 1999; Kosslyn, Thompson, and Ganis 2006. “Цифровая” точка зрения изложена в кн.: Pylyshyn 2003.
(обратно)143
См.: Lakoff and Johnson 1980; Lakoff and Johnson 1999; Johnson 1987; Kosslyn, Thompson, and Ganis 2006.
(обратно)144
См.: Ivanhoe 2002.
(обратно)145
См.: Haidt 2005: 165.
(обратно)146
Одна из глав трактата “Мо-цзы” называется: “Против музыки”.
(обратно)147
Судя по древним каталогам, некогда существовала книга “Гао-цзы”. Очень жаль, что она утеряна: мы не узнаем ответ Гао-цзы на то, как Мэн-цзы искажал его образы.
(обратно)148
Хотя авторство “Чжуан-цзы” приписывают человеку по имени Чжуан-цзы, очень мало исторических подтверждений этой версии. Первые семь глав дошедшего до нас текста (“Внутренний раздел”), однако, явно написаны одним (и гениальным!) человеком, которого мы вполне можем называть Чжуан-цзы. В остальном книга очень неоднородна и, возможно, состоит из материала разных периодов и даже разных философских школ. Рассуждая о “Чжуан-цзы”, я в первую очередь занимаюсь “Внутренним разделом” и другими главами, скорее всего написанными последователями одной школы.
(обратно)149
Смерть Хуэй-цзы – одно из немногих событий, выбивших Чжуан-цзы из колеи. Он жалуется, что с уходом Хуэй-цзы у него “не осталось друга, с кем мог бы я оттачивать искусство беседы”. Даже смерть жены не стала для Чжуан-цзы настолько сильным ударом.
(обратно)150
Врагом здесь выступает латеральная префронтальная кора, источник рассудочного мышления. Важно отметить, что дети куда менее подвержены этому состоянию. Им попросту не хватило времени, чтобы замусорить себе голову, и они еще способны оценить потенциал предмета целиком, а не относить его к конкретной категории. О латеральной префронтальной коре как источнике негибкости см.: Thompson-Schill, Ramscar, and Chrysikou 2009. О детях см.: German and Defeyter 2000. Также см.: German and Barrett 2005.
(обратно)151
Мартин Бубер ставит современной эпохе сходный диагноз. Основное внимание в книге “Я и ты” (1923) он уделил роли материализма, который, по его мнению, должен привести к поверхностности межличностных отношений и бездуховности. В развитии науки и капитализма Бубер видел угрозу того, что наша жизнь будет наполнена бесконечным стремлением вперед и чисто “инструментальными” рассуждениями, а ценности растворятся в вещественности и дешевых удовольствиях. Его описание современного “своевольного человека” очень похоже на “малое знание” у Чжуан-цзы: “Он беспрестанно вмешивается, причем с той целью, чтобы “дать этому случиться”… Но отвергающий веру мозг своевольного не может воспринять ничего иного, кроме неверия и произвола, установления целей и измышления средств. Без жертвы и без милости, без встречи и без настоящего, обусловленный целями и опосредствованный мир – вот его мир; и иным он быть не может; а это и зовется роком” (пер. В. Рынкевича). Интересно, что Бубер был не просто знаком с “Чжуан-цзы”, а даже написал книгу Talks and Parables of Zhuangzi (1910). Более того, влияние и Чжуан-цзы, и Лао-цзы обнаруживается повсюду в “Я и ты”, хотя на это редко обращают внимание: исследователи Бубера мало знают о китайских философах и даже о связи Бубера с ними. Исключение – см.: Herman 1996.
(обратно)152
Идет дискуссия о причинах привлечения Конфуция в качестве резонера. Некоторые считают, что это способ посмеяться над конфуцианцами, другие – что это выражает некоторую степень уважения к позиции Конфуция.
(обратно)153
Когнитивный контроль, разумеется, очень важен, когда речь заходит о поддержании внимания при деятельности, направленной на цель, или преодолении нежелательных склонностей в пользу более абстрактных приоритетов. Вспомните эффект Струпа (гл. 1). Это очень полезная способность. Но у нее есть обратная сторона. Когда сети, включающие, например, латеральную префронтальную кору, контролируют поведение, некоторые способности к определенного рода творчеству, особенно требующему гибкости мышления, сильно страдают.
(обратно)154
См.: Thompson-Schill, Ramscar, and Chrysikou 2009.
(обратно)155
См.: Jarosz, Colflesh, and Wiley 2012.
(обратно)156
О творчестве и бессознательном см.: Zhong, Dijksterhuis, and Galinsky 2008. Также см. работу Джонатана Скулера и его коллег о рассеянности и творчестве (Smallwood et al. 2008). Об отвлечении и физических навыках см.: Jefferies et al. 2008.
(обратно)157
См.: Beilock et al. 2002; DeCaro et al. 2011; Beilock 2010.
(обратно)158
См.: Lewis and Linder 1997.
(обратно)159
См.: Baumeister 1984.
(обратно)160
См.: Gray, Wiebusch, and Akol 2004.
(обратно)161
То есть – Дао.
(обратно)162
О “терапевтическом скепсисе” Чжуан-цзы см.: Ivanhoe 1996: 200–201.
(обратно)163
Можно провести любопытную параллель. Серен Кьеркегор, говоря о том, что любой, кого вы встретите на улице, может быть “рыцарем веры”, писал: “Господи! Да он ли это? Ни дать ни взять – сборщик податей” (Kierkegaard 1954: 49).
(обратно)164
См.: Christakis and Fowler 2012.
(обратно)165
Я впервые использовал этот термин в диссертации (1993), вдохновившись эссе Дэвида Нивисона о “парадоксе добродетели” (Nivison 1996: 31–43). Также см.: Slingerland 2000 a; Slingerland 2003 b; Slingerland 2008. Также см.: Meyer 2008; Graziani 2009; Bruya 2010; De Prycker 2011.
(обратно)166
См.: Gregory 1987.
(обратно)167
См.: MacIntyre 1990. Также см.: Slingerland 2003 b.
(обратно)168
См.: Embree 1988: 281–286.
(обратно)169
См.: Barrows and Blackall 2008: 29.
(обратно)170
Nivison 1996: 17–56. Нивисон был научным руководителем Ф. Дж. Айвенго, моего собственного научного руководителя, и, следовательно, моим интеллектуальным дедом. Оба ученых сильно повлияли на меня.
(обратно)171
См.: Nivison 1996: 23.
(обратно)172
См.: Klein 1989. Позднейшие работы о социальности (Hill et al. 2011; Chudek, Zhao, and Henrich, forthcoming) предполагают, что культурное изменение просоциальной психологии могло произойти до перехода к городской жизни. Так как группы охотников и собирателей могли включать большое число ничем не связанных людей, они часто взаимодействовали в более крупных племенных сетях, и единичные контакты с незнакомцами вряд ли были редкими для доземледельческих общин. В этом случае переход к цивилизованной жизни выглядит довольно радикальным шагом.
(обратно)173
См.: Barkow, Cosmides, and Tooby 1992; Buss 2005.
(обратно)174
См.: Frank 1988; Frank 2001.
(обратно)175
Frank 1988: 255.
(обратно)176
См.: Frank 1988: ix; Randolph Nesse 2001; Joyce, Sterelny, and Calcott 2013.
(обратно)177
См.: Slingerland 2008.
(обратно)178
Yucong 1.55–1.58, 3.8.
(обратно)179
См.: Pennisi 2009.
(обратно)180
См.: Zahavi and Zahavi 1997.
(обратно)181
Есть некоторые доказательства того, что стоттинг работает. Лев, наблюдая впечатляющие прыжки, предпочитает поискать более легкую добычу, что идет на пользу и льву, и газели. Уровень гормонов и неудержимое желание соревноваться говорят о том, что размер двигателя для подростков мужского пола служит скорее приглашением, нежели предупреждением, но, возможно, потому, что уличные гонки подразумевают только вжимание педали в пол и имеют минимальные последствия для выживания. Если бы подросткам пришлось догонять друг друга на своих двоих, а проигравший был бы обречен на голод или съедение хищниками, мы еще на старте увидели бы куда больше борьбы.
(обратно)182
См.: Maynard Smith and Harper 2003.
(обратно)183
Когда эти ценности принимаются изолированной группой городских подростков из текстов дэт-метал, результаты могут выглядеть как каприз или глупость. (Я подозреваю, что сын моего коллеги, который теперь, в тридцать лет, является состоявшимся профессионалом, сожалеет хотя бы об одной или двух своих татуировках.) Однако здесь важно то, что сильное желание во всеуслышание заявить о своей принадлежности к определенной группе и, таким образом, о принятии ее ценностей и отвержении других ценностей, является нормальным человеческим поведением. Существуют доказательства того, что преобладание практики вечных отметок (в противовес временным, вроде одежды) коррелирует с интенсивностью межгрупповой вражды. В областях, где племена постоянно воюют, желание отделить возможных предателей приводит к тому, что практика клеймения возникает и закрепляется с большей вероятностью. См.: Sosis, Kress, and Boster 2007.
(обратно)184
Есть разные мнения насчет того, когда наступает “критический период” (6–16 лет), после которого нельзя выучить язык без акцента, и в каждом случае это, похоже, зависит от конкретного человека. Правильнее воспринимать этот промежуток времени как “чувствительный” период, так как возникновение заметного акцента в силу возраста первого столкновения с языком скорее градиентное, а не связанное с определенным возрастом. См.: Piske, MacKay, and Flege 2001.
(обратно)185
Катерина Кинцлер и ее коллеги показали, что акцент является очень ярким групповым признаком для детей: дети избирательно доверяют и сотрудничают с людьми, которые говорят с акцентом своего региона, и, что интересно, этот эффект переходит границы физических признаков вроде расы. См.: Kinzler, Dupoux, and Spelke 2007; Kinzler, Corriveau, and Harris 2011.
(обратно)186
Американцы во время Второй мировой войны использовали познания о бейсболе, чтобы отличить американцев от иностранных агентов. Может быть, вы и говорите на идеальном американском английском, потому что вы немец, выросший в билингвальной среде, но – кто выиграл кубок мира в 1939 году? Этот шибболет нельзя подделать, как и акцент: если вы не выросли в моей культурной среде, вы не можете получить такие же знания о бейсболе. Проводя творческий отпуск в Риме, я столкнулся со структурно схожей проблемой, когда пытался смешаться с местными и улучшить свой итальянский: если вы не знаете расклад в серии А, на разговор с вами не стоит тратить время. Но если вы можете рассуждать о последнем матче “Лацио” против “Ромы”, то, несмотря на акцент, вы не так уж плохи. Пожалуй, я даже куплю вам пива.
(обратно)187
Norenzayan et al. (underreview).
(обратно)188
См.: Bulbulia 2008; Schloss 2008.
(обратно)189
Чарльз Дарвин так описал выражение лица своих детей, когда они явно лгали: “нездоровый блеск в глазах… странную взволнованную манеру держаться, которую невозможно описать” (Darwin 1872/1998: 261). Интерес Дарвина к “странной взволнованной манере держаться” стал частью желания изучить выражения эмоций среди животных. Книга Дарвина заслуживает внимания и сегодня, так как в ней отражено глубокое понимание сходства в выражении эмоций с их возможной эволюционной ролью в передаче психических состояний.
(обратно)190
См.: Ekman 1985.
(обратно)191
Существуют доказательства, что одним из считываемых в таком случае признаков является наличие гормонов, приводящих к желаемому или нежелательному социальному поведению. Например, предполагается, что уровень тестостерона (и, следовательно, склонность к насилию) может быть определен по мимическим выражениям и жестам (Stillman, Maner, and Baumeister 2010). С другой стороны, показано, что участники эксперимента были склонны отмечать людей с такими вариантами генотипа, у которых с большей вероятностью будет высокий уровень окситоцина (ключевого гормона в вопросах доверия, взаимодействия и эмпатии). См.: Kosfeld et al. 2005; Kogan et al. 2011.
(обратно)192
См.: Vrij et al. 2008.
(обратно)193
См.: Hess 1965. Цит. по: Kahneman 2011: 32–38.
(обратно)194
См.: Greene and Paxton 2009.
(обратно)195
См.: Rand, Greene, and Nowak 2012. Ср.: Tomasello 2012; Valdesolo and DeSteno 2008. Авторы последней работы предполагают, что лицемерие – сознательный процесс, который может быть подавлен нагрузкой на когнитивный контроль.
(обратно)196
Поэтому мыслители во все времена искали связь между спонтанностью, преданностью и доверием как основами общественной жизни. Одним из примеров является концепция игры (Spiel)Ганса Георга Гадамера. У его игры есть все черты у-вэй. Для Гадамера игра символизировала “экстатическое самозабвение”, когда человек полностью поглощен и увлечен структурой игры, что позволяет преодолеть корыстное эго (Gadamer 2004). О связи игры, религии и преданности группе рассуждал и Йохан Хейзинга. В книге “ Homo Ludens: cтатьи по истории культуры”(Huizinga 1939/1955) он утверждает, что инстинкт играет основную роль в нашей способности жить вместе. Как и Гадамер, Хейзинга считал ключевым элементом игры подчинение личности чему-то большему. “В форме и в функции игры, – пишет он, – являющейся особенным, самостоятельным качеством, чувство человеческой включенности в космос находит свое самое первое, самое высокое, самое священное выражение” (пер. Д. Сильвестрова). Чтобы группа людей стала чем-то большим, нежели коллективом индивидов, им нужно игратьвместе, раствориться в новой реальности.
(обратно)197
О ценностной этике и о том, чем она отличается от “рассудочной” этики, имеющей большее влияние на современную западную мысль, см.: MacIntyre 1985; Crisp and Slote 1997. Об этой проблеме в китайском контексте см.: Van Norden 2007; Angle 2009.
(обратно)198
См.: Goodman 2012.
(обратно)199
Дальнейший ход событий, поставивший под сомнение нужду и даже нравственность бездомного (Santora and Vadukul 2012; Jones 2012), служат дополнительным доказательством нашей “озабоченности искренностью”.
(обратно)200
Более того, важность внутренней мотивации, когда речь идет о добродетели, привела Аристотеля к мнению, что “если поступают правосудно и благоразумно, то уже и правосудны, и благоразумны” (пер. Н. Брагинской). То есть невозможно научить кого-либо добродетели, если этот человек уже ею не обладает – хотя бы в зачатке.
(обратно)201
Мои коллеги (включая моего бывшего научного руководителя) сказали бы, что именно это мы и должны сделать. Критику идеи парадокса у-вэй как настоящего парадокса см.: Fraser 2007; Ivanhoe 2007 b. Также см.: Slingerland 2008 (мой ответ); Knightly 2013.
(обратно)202
См.: Hatemi and McDermott 2012.
(обратно)203
См.: DeCaro and Beilock 2010.
(обратно)204
А. Н. Уайтхед осуждал слишком сильное влияние культуры на сознательные размышления и самоконтроль: “То, что мы должны вырабатывать привычку думать о том, что делаем, – в корне ложный трюизм, повторяемый во всех учебниках и речах известных людей. Необходимо как раз противоположное. Цивилизация развивается, увеличивая количество действий, которые мы можем делать, не думая об этом. Действия разума похожи на кавалерию, идущую в атаку. Они сильно ограничены числом, им нужны свежие лошади, и их следует использовать только в решающий момент” (Whitehead 1911, цит. по: Bargh and Chartrand 1999). Ограниченность рассудочного мышления означает, что почти любой навык должен быть отработан до автоматизма. Французский исследователь Ален Бертоз придумал слово simplexité, чтобы описать феномен, при котором мозг спрессовывает то, что изначально было множеством сложных моторных программ, в простое “однородное” действие (Berthoz 2009). Мы просто не можем функционировать, если наше чувственное мышление не было “отполировано” таким образом.
(обратно)205
См., например, введение в кн.: Rosemont and Ames 2009. Ср.: Ivanhoe 2008.
(обратно)206
См.: Brooks 2013 b. Также см.: Brooks 2013 a.
(обратно)207
См.: Sarkissian 2010; Hutton 2006.
(обратно)208
См.: Sommers 2012. Также см.: Slingerland 2011 b.
(обратно)209
Более того, возможно, что консерваторы вроде Уильяма Беннета, утверждающие, что многие проблемы современного общества возникают из-за отрицания традиции, не настолько безумны, как хотелось бы думать либералам из больших городов. Среди патриотизма и бравады скрываются прозрения в конфуцианском духе. “Книга добродетели” Беннета (Bennett 1993), например, похожа на конфуцианский трактат.
(обратно)210
См.: Reber and Slingerland 2011.
(обратно)211
Это может напоминать фэншуй, но, пожалуйста, не называйте это так. (Возможно, самая раздражающая часть жизни профессора китайской философии состоит в том, что все расспрашивают его про фэншуй.) Для тех, кто чудом избежал этого знания, поясню: основная идея фэншуй (букв. ветер и поток) состоит в том, что гармонизация ци жилища или бизнеса может принести процветание и счастье. Я не придаю большого значения фэншуй, и, так как он возник после того периода китайской философии, который я изучаю, мне не нужно из профессиональных соображений притворяться, что я им интересуюсь. Однако скажу, что в этой дурацкой практике есть зерно истины, и она восходит к раннему конфуцианству.
(обратно)212
О “силе привычки” см.: Duhigg 2012.
(обратно)213
См.: Dijksterhuis and Meurs 2006; Zhong, Dijksterhuis, and Galinsky 2008.
(обратно)214
См.: Smilek et al. 2006; Watson et al. 2010.
(обратно)215
Marcks and Woods 2005; Wegner 2011.
(обратно)216
О принципе “утро вечера мудренее” см.: Dijksterhuis et al. 2013.
(обратно)217
См.: Schumpeter 2012.
(обратно)218
Economist 2011.
(обратно)219
Более того, корейские чиновники, решившие воспользоваться успехом исполнителя “Каннам стайл”, не смогли предугадать всемирную одержимость. См.: Fackler 2013.
(обратно)220
См.: Schooler, Ariely, and Loewenstein 2003.
(обратно)221
См.: Wilson and Schooler 1991; Wilson et al. 1993.
(обратно)222
См.: Melcher and Schooler 1996.
(обратно)223
Популярный миф (популярный оттого, вероятно, что он направлен против элитарного знания) гласит: вслепую дегустаторы не способны отличить даже красное вино от белого, а их оценки и предпочтения обусловлены исключительно общественным давлением и маркетинговыми уловками. Эмпирические исследования показывают, что новички сильно расходятся друг с другом в оценках, в отличие от экспертов (особенно если речь идет о сортах, в которых те разбираются особенно хорошо). См.: Lehrer 2009; Ashton 2012.
(обратно)224
Цит. по: Haidt 2005: 195.
(обратно)225
Нейромедиатором, судя по всему, здесь выступает окситоцин, ключевой для доверия и сотрудничества гормон, причем связь работает в обе стороны. Вводя окситоцин, можно сделать людей щедрее и доверчивее (Kosfeld et al. 2005; Zak, Stanton, and Ahmadi 2007). С другой стороны, внушая эмпатию людям, показывая им эмоционально заряженное видео, можно поднять уровень окситоцина, что сделает их щедрее во время последующих экономических игр (Barraza and Zak 2009) и даже может стимулировать у кормящих матерей лактацию и заботливость (Silvers and Haidt 2008).
(обратно)226
См.: Lutz et al. 2008.
(обратно)227
См.: Ozawa-de Silva and Dodson-Lavelle 2011. Однако чтобы получить поддающийся количественной оценке результат, нужно дождаться завершения идущего сейчас масштабного рандомизированного эксперимента. См.: Emory – Tibet Partnership 2013.
(обратно)228
См.: Sheldon and Lyubomirsky 2004; Dunn and Norton 2013.
(обратно)229
Emmons and McCullough 2003; Emmons and McCullough 2004.
(обратно)230
См.: Beilock et al. 2002.
(обратно)231
См.: Wulf and Lewthwaite 2010. Также см. работу Робина Джексона и его коллег (Jackson, Ashford, and Norsworthy 2006), из которой ясно, что спортсмены показывают лучшие результаты, когда концентрируются на цели или общей телесной стратегии, а не на деталях вроде того, какую стороны стопы использовать при дриблинге или как именно сгибать колени.
(обратно)232
См.: Beilock 2010. (О “мандраже”, а также как “играть “без головы” или, по крайней мере, “без префронтальной коры””.)
(обратно)233
См.: Shapiro, Schwartz, and Santerre 2005; Siegel 2007.
(обратно)234
См.: Austin 2001.
(обратно)235
См.: Shapiro, Schwartz, and Santerre 2005.
(обратно)236
Михай Чиксентмихайи дает полезный совет тем, кто не хочет выглядеть на вечеринке слишком отчужденным или навязчивым. Он рассказывает о человеке в состоянии потока: “Войдя в комнату, такой человек сосредоточит свое внимание на происходящем вокруг – на “системе действий”, к которой он хочет присоединиться” (пер. Е. Перовой). Он отдастся созерцанию людей и позволит себе увлечься такой беседой, в которой ему есть что сказать. Столкнувшись с отпором, такой человек отступит, а будучи поощренным, будет наступать. Это очень похоже на манеру действий Конфуция или мудреца из “Чжуан-цзы”. Вывод Чиксентмихайи таков: “Можно считать, что субъект по-настоящему включен в происходящее только в том случае, если его действия соответствуют возможностям, предоставленным системой действий”. То есть речь идет о нужном уровне препятствий и сложности. Наше же понимание у-вэй скорее предполагает, что нужно забыть себя и погрузиться в нечто большее.
(обратно)237
В один из немногих моментов, когда питчер Стив Бласс вышел из ступора и смог бросать мяч как следует, он выпил перед игрой бутылку вина. Однако этот прием, решил он в итоге, не годится на роль долгосрочного решения проблемы (Hattenstone 2012). Мы показали, что опьяняющие вещества (алкоголь и т. д.), снижающие когнитивный контроль, могут химически коротким путем привести нас к у-вэй. Временное подавление сознательной психики может быть именно тем толчком, который требуется в некоторых ситуациях социального взаимодействия. Тревожность или неловкость (неспособность войти в у-вэй в присутствии других) обычно преодолевается смещением внимания от себя. Это позволяет увлечься беседой или выступлением. Этот первый шаг труднее всего, но если вы сумеете начать расслабляться, успокоение придет само. Бутылка вина или рюмка водки вряд ли принесут пользу тому, кому приходится девять иннингов бросать мяч или, напротив, брать сокрушительную подачу. Однако это может быть тем, что доктор прописал, в случае актрисы со страхом сцены, или чужака, намеревающегося присоединиться к беседе на коктейльной вечеринке, или (как я сам убедился) двадцатишестилетнего аспиранта, готовящегося прочитать свою первую лекцию (об у-вэй по Чжуан-цзы, не больше и не меньше!) перед большой аудиторией.
(обратно)238
См.: Neisser 1976; Gibson 1979; Clark 1997; Noë 2004.
(обратно)239
См.: Kahneman 2003; Kahneman 2011.
(обратно)240
См.: Lakoff and Johnson 1980.
(обратно)241
Рассмотрению вопроса, почему Китай не стал колыбелью науки, посвящен теперь уже почти 30-томный труд Science and Civilization in China (публикацию начал Джозеф Нидэм в 1954 году). О путях науки и рационализма в древнем Китае и древней Греции см.: Lloyd and Sivin 2002.
(обратно)
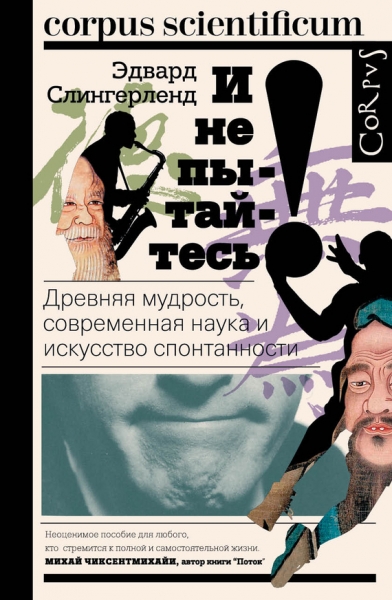

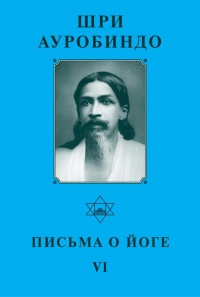


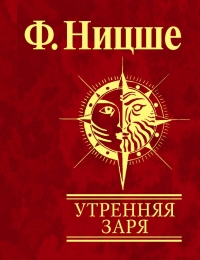

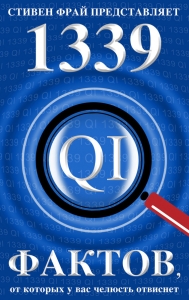
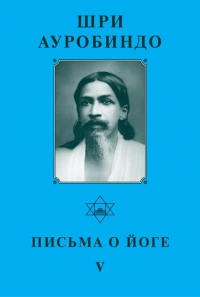
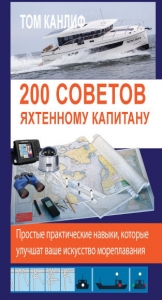
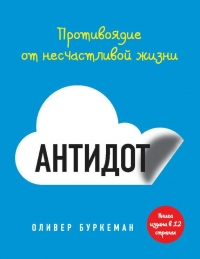

Комментарии к книге «И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности», Эдвард Слингерленд
Всего 0 комментариев