Карен Армстронг История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе
A history of God. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam
Karen Armstrong
Менеджер проекта И. Серёгина
Переводчик К. Семенов
Технический редактор Н. Лисицына
Корректоры В. Муратханов, О. Ильинская
Компьютерная верстка М. Поташкин
Художник обложки Ю. Гулитов
© Karen Armstrong, 1993
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2010
© Электронное издание. «ЛитРес», 2013
Армстронг К.
История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / Карен Армстронг; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
ISBN 978-5-9614-2695-3
Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Предисловие
Вдетстве у меня были стойкие религиозные верования и довольно слабая вера в Бога. Между верованиями (когда мы принимаем на веру некие утверждения) и настоящей верой (когда мы полностью полагаемся на них) есть различие. Конечно же, я верила, что Бог есть. Я верила в действительное присутствие Христа в причастии, в действенность таинств и в предстоящие грешникам вечные муки. Я верила, что чистилище – место совершенно реальное. Однако я не могу сказать, чтобы эти верования в религиозные догматы о природе высшей реальности давали мне подлинное ощущение благодати земного существования. Когда я была ребенком, католицизм представлял собой главным образом запугивающее вероучение. Джеймс Джойс точно описал это в «Портрете художника в юности»; я тоже выслушала свой курс проповедей о геенне огненной. Правду говоря, адские муки выглядели намного убедительнее, чем Бог. Преисподняя без труда постигалась воображением, Бог же оставался фигурой неясной и определялся не столько наглядными образами, сколько умозрительными рассуждениями. В восьмилетнем возрасте мне пришлось вызубрить ответ на вопрос «Кто такой Бог?» из катехизиса: «Бог – это Высший Дух, единый Самосущий и бесконечный во всех совершенствах». Смысла этих слов я, разумеется, не понимала. Должна признаться, что они до сих пор оставляют меня равнодушной: такое определение всегда казалось мне слишком сухим, помпезным и надменным. А работая над этой книгой, я пришла к выводу, что оно еще и неправильное.
Повзрослев, я поняла, что религия – это не только страх. Я читала жития святых, сочинения поэтов-метафизиков, стихи Томаса Элиота и некоторые труды мистиков – из тех, кто писал попроще. Литургия начинала пленять меня своей красотой. Бог по-прежнему оставался далеким, но я чувствовала, что до Него все-таки можно дотянуться и что прикосновение к Нему вмиг преобразит все мироздание. Ради этого я и вступила в один из духовных орденов. Став монахиней, я узнала о вере намного больше. Я погрузилась в апологетику, богословские изыскания и историю Церкви. Я изучала историю монашеской жизни и пускалась в подробнейшие рассуждения об уставе нашего ордена, который все мы обязаны были знать назубок. Как ни странно, во всем этом Бог занимал не такое большое место. Основное внимание уделялось второстепенным деталям, частностям веры. Во время молитвы я отчаянно заставляла себя сосредоточить все мысли на встрече с Богом, но Он либо оставался суровым надсмотрщиком, бдительно следящим за любым нарушением устава, либо – что было еще мучительнее, – вообще ускользал. Чем больше я читала о мистических восторгах праведников, тем сильнее огорчали меня собственные неудачи. Я с горечью признавалась себе, что даже те редкие религиозные переживания, которые у меня возникали, вполне могли быть плодом моей собственной фантазии, следствием жгучего желания их испытать. Религиозное чувство нередко является эстетическим откликом на очарование литургии и григорианского напева. Так или иначе, со мной не случалось ничего такого, что пришло бы извне. Я ни разу не ощущала тех проблесков Божьего присутствия, о каких рассказывали мистики и пророки. Иисус Христос, о Ком мы говорили намного чаще, чем собственно о Боге, казался фигурой чисто исторической, неотделимой от эпохи поздней античности. Хуже того, некоторые церковные доктрины вызывали у меня все больше сомнений. Как можно удостовериться, например, что Иисус был Вочеловечением Бога? Что вообще означает эта идея? А доктрина Троицы? Действительно ли эта сложная – и чрезвычайно противоречивая – концепция содержится в Новом Завете? Быть может, подобно многим другим богословским построениям, Троица просто выдумана духовенством спустя столетия после казни Иисуса в Иерусалиме?
В конце концов, хоть и не без сожаления, я отошла от религиозной жизни, и этот шаг сразу освободил меня от бремени неудач и чувства неполноценности. Я ощущала, как слабеет мое верование в Бога. По правде сказать, Он так и не оставил в моей жизни значительного следа, хотя я всеми силами к этому стремилась. И я не испытывала ни чувства вины, ни сожалений – Бог стал слишком далеким, чтобы казаться чем-то реальным. Интерес к самой религии у меня, впрочем, сохранился. Я подготовила целый ряд телепередач, посвященных ранней истории христианства и религиозным переживаниям. По мере изучения истории религии я все больше убеждалась, что мои прежние опасения были вполне обоснованными. Доктрины, которые в юности принимались без рассуждений, действительно были выдуманы людьми и оттачивались на протяжении долгих столетий. Наука явно избавилась от потребности в Творце, а исследователи Библии доказали, что Иисус никогда не утверждал свою божественность. Во время припадков эпилепсии у меня бывали видения, но я знала, что это лишь симптомы невропатологии; быть может, мистический восторг святых и пророков тоже следует отнести к причудам психики? Бог начал казаться мне каким-то умопомрачением, которое человеческий род давно перерос.
Несмотря на годы, прожитые в монастыре, я не считаю свои религиозные переживания чем-то необычным. Мои представления о Боге сложились еще в раннем детстве, но позднее не смогли ужиться со знаниями в других областях. Я пересмотрела наивные детские верования в Деда-Мороза; я выросла из пеленок и пришла к более зрелому пониманию сложности человеческой жизни. Но мои ранние путаные представления о Боге так и не изменились. Да, мое религиозное воспитание было довольно необычным, но и многие другие люди могут обнаружить, что их представления о Боге сложились еще в младенчестве. С тех пор утекло много воды, мы отказались от простодушных взглядов – а вместе с ними и от Бога нашего детства.
Тем не менее мои изыскания в сфере истории религии подтвердили, что человек – животное духовное. Есть все основания считать, что Homo sapiens – это и Homo religiosus. Люди верят в богов с тех пор, как обрели человеческие черты. Религии возникали вместе с первыми произведениями искусства. И это происходило не просто потому, что людям хотелось умиротворить могущественные высшие силы. Уже в самых древних верованиях проявляется то ощущение чуда и тайны, которое до сих пор остается неотъемлемой частью человеческого восприятия нашего прекрасного и страшного мира. Подобно искусству, религия представляет собой попытку найти смысл жизни, раскрыть ее ценности – вопреки страданиям, на которые обречена плоть. В религиозной сфере, как и в любой другой области человеческой деятельности, встречаются злоупотребления, но мы, похоже, просто не можем вести себя иначе. Злоупотреблять – естественная общечеловеческая черта, и она отнюдь не ограничивается извечной приземленностью властных царей и жрецов. Поистине, современное секуляризированное общество – небывалый эксперимент, не имеющий аналогов в истории человечества. И нам еще предстоит узнать, чем он обернется. Правда и то, что либеральный гуманизм Запада возникает не сам по себе – ему нужно учить, как учат разбираться в живописи или поэзии. Гуманизм – это тоже религия, только без Бога, ведь бог есть далеко не во всех религиях. Наш мирской этический идеал тоже основан на неких концепциях разума и души и, подобно более традиционным религиям, дает основания для все той же веры в высший смысл человеческой жизни.
Приступая к изучению истории идеальных и опытных представлений о Боге в трех тесно связанных религиях единобожия – иудаизме, христианстве и исламе, – я заведомо полагала, что Бог окажется просто проекцией человеческих нужд и желаний. Я считала «Его» отражением страхов и чаяний общества на разных стадиях роста. Нельзя сказать, что эти предположения были полностью опровергнуты, но некоторые открытия стали для меня полной неожиданностью, и я сожалела, что не знала всего этого лет тридцать назад, когда моя религиозная жизнь только начиналась. Я уберегла бы себя от долгих терзаний, если бы еще тогда услышала от выдающихся представителей каждой из трех религий, что не стоит дожидаться, пока Бог снизойдет к тебе, – следует, напротив, сознательно культивировать ощущение Его неизменного присутствия в своей душе. Будь я знакома тогда с мудрыми раввинами, монахами или суфиями, они строго отчитали бы меня за предположение о том, будто Бог – некая «внешняя» действительность. Они предупредили бы меня, что нельзя надеяться воспринять Бога как объективный факт, поддающийся обычному рациональному осмыслению. Они непременно сказали бы, что в определенном очень важном смысле Бог действительно является плодом творческого воображения, подобно музыке и поэзии, которые меня так вдохновляют. А кое-кто из самых почтенных монотеистов шепнул бы мне по секрету, что на самом деле Бога нет, но в то же время «Он» – самая важная реальность на свете.
Эта книга посвящена не истории неизреченного бытия Самого Бога, неподвластного ни времени, ни переменам; это история представлений рода людского о Боге – начиная от Авраама и вплоть до наших дней. У человеческой идеи Бога есть своя история, потому что в разные эпохи разные народы воспринимали Его по-разному. Представления о Боге, которых придерживается одно поколение, могут оказаться для другого совершенно бессмысленными. Слова «Я верю в Бога» лишены объективного содержания. Как и любое другое высказывание, они наполняются смыслом только в контексте, когда произносятся членом определенного общества. Таким образом, за понятием «Бог» вовсе не кроется некая неизменная идея. Оно, напротив, вмещает широчайший спектр значений, причем некоторые из них могут полностью отрицать друг друга и даже оказаться внутренне противоречивыми. Без такой гибкости идея Бога никогда не заняла бы одного из главных мест в истории человеческой мысли. И когда одни представления о Боге теряли смысл или устаревали, они просто незаметно забывались и сменялись новым богословием. Фундаменталисты, конечно, с этим не согласятся, ведь фундаментализм сам по себе антиисторичен и основан на уверенности в том, будто Авраам, Моисей и древние пророки воспринимали Бога именно так, как современные люди. Но если присмотреться к трем нашим религиям, станет ясно, что объективного мнения о «Боге» в них нет: каждое поколение создает такой Его образ, какой соответствует его историческим задачам. Между прочим, то же относится и к атеизму, поскольку фраза «Я не верю в Бога» в разные исторические эпохи тоже означала что-то свое. Так называемые «безбожники» всегда отрицают некие конкретные представления о божественном. Но кто он, тот «Бог», в которого не верят атеисты сегодня, – Бог патриархов, пророков, философов, мистиков или деистов восемнадцатого столетия? Иудаисты, христиане и мусульмане в разные исторические эпохи поклонялись всем этим богам, каждого называя именно Богом – Библии или Корана. Мы еще убедимся, что на самом деле эти боги были друг на друга совсем не похожи. Более того, атеизм нередко становился своеобразным переходным этапом. Было время, когда язычники называли «безбожниками» самих иудаистов, христиан и мусульман, которые приходили к совершенно революционным идеям Божества и Трансцендентного. Быть может, и современный атеизм является подобным отрицанием «Бога», переставшего соответствовать потребностям нашей эпохи?
Религия чрезвычайно прагматична, несмотря на то что имеет дело с потусторонним. Мы увидим далее, что та или иная конкретная идея Бога должна быть прежде всего действенной – это намного важнее ее логической обоснованности и достоверности. Взгляды меняются, как только перестают приносить пользу, – и меняются порой до неузнаваемости. Большую часть верующих людей прошлого это ничуть не беспокоило, так как они достаточно хорошо сознавали, что представления о Боге – временная условность, а не вечная святыня. Придуманные людьми символы – совсем не то же самое, что неописуемая Реальность, которая за ними кроется. Некоторые мыслители подчеркивали эту разницу довольно дерзкими высказываниями, а один средневековый мистик зашел так далеко, что утверждал даже, будто о Высшей Реальности, которую по ошибке называют «Богом», в Библии вообще нет ни слова. На протяжении всей своей истории люди ощущали за рамками обыденного мира некое духовное измерение. Способность мыслить о Запредельном действительно является одним из самых удивительных свойств ума. Как его ни толкуй, но этот человеческий опыт трансцендентности остается фактом. Далеко не все, кстати, видят в этом что-то божественное. Буддисты, например, верят, что духовные видения и озарения – обычные свойства человеческой природы и нет у них никакого сверхъестественного внешнего источника. Тем не менее все крупные религии сходятся в одном: Трансцендентное, или Запредельное, не поддается описанию привычными словами и понятиями. Сторонники единобожия называют эту высшую реальность «Богом» и налагают на обращение с ней определенные ограничения. Иудаистам, например, возбраняется произносить священное Имя Божье, а мусульманам – создавать материальные изображения божественного. Такие строгости призваны напоминать, что реальность, именуемая «Богом», превосходит любые попытки человека ее описать.
Содержание этой книги – не история в привычном смысле слова, поскольку идея Бога развивалась нелинейно. Не было ни точного начала, ни поступательного процесса роста, который привел бы к неким окончательно сложившимся взглядам. Так могут прогрессировать научные идеи, но не искусство и религия. Говорят, любовная лирика опирается на весьма скудный набор сюжетов; подобным образом в разное время народы снова и снова говорили о Боге одно и то же. В дальнейшем мы увидим поразительно много сходства в иудаистских, христианских и мусульманских представлениях о Божестве. В частности, доктрины Троицы и Вочеловечения выглядят в глазах иудеев и мусульман едва ли не богохульством, но и у них есть свои версии этих противоречивых богословских концепций. Тем не менее формы выражения такого рода всеобщих доктрин всегда несколько различны, что подчеркивает изобретательность и самобытность человеческого воображения, стремящегося выразить свое понятие «Бога».
Поскольку тема эта слишком обширна, я сознательно ограничилась Единым Богом, в которого веруют иудаисты, христиане и мусульмане, но время от времени все же обращаюсь к языческим, индуистским и буддийским концепциям Высшей Реальности, что помогает яснее описать позиции единобожия. Интересно, что идея Единого Бога на удивление сходна с представлениями других религий, развивавшихся практически независимо. И к каким бы выводам о «Боге» мы в конце концов ни пришли, сама история этой идеи поведает нам кое-что очень важное о свойствах человеческого разума и его высших устремлениях. Хотя образ жизни большей части западного общества мало связан с религией, идея Бога по-прежнему оказывает влияние на умы миллионов людей. Недавние опросы показали, что девяносто девять процентов американцев, по их собственному признанию, веруют в Бога. Остается лишь выяснить, какой он, тот «Бог», в которого верует каждый из них.
Богословие часто считают занятием скучным и отвлеченным, но история Бога пронизана напряжением и страстями. В отличие от некоторых концепций Высшего, она с самого начала сопровождалась мучительной и драматичной борьбой. В присутствии Господа израильские пророки испытывали невыносимую боль, которая выкручивала им члены, а душу наполняла неистовством и восторгом. Именуемая «Богом» Реальность нередко открывалась приверженцам единобожия в крайностях: в рассказах о ней то и дело встречаются «горные вершины» и «темные ночи», бездны отчаяния, пытки и кошмары. Особенно пугающими выглядят переживания жителей Запада. Откуда этот неизменный надрыв? В других случаях – Свет и Преображение. Те, кто испытал подобные откровения, прибегают в своих описаниях неизъяснимо сложной Реальности к довольно дерзким образным сравнениям, выходящим далеко за рамки ортодоксального богословия. Возродившийся в недавнее время интерес к мифологии может означать поиски новых, более эффективных средств наглядного выражения религиозных истин. Особую популярность приобрели труды американского ученого Джозефа Кэмпбелла, который изучил вечную общечеловеческую мифологию и связал древние мифы с современными. Многим кажется, что три религии Единого Бога лишены мифологичности и поэтической символики. Действительно, монотеисты первым делом изгнали из своей веры языческие мифы, которые, однако, сплошь и рядом прокрадываются назад. Например, мистики нередко видят Бога в женском облике; другие относятся к сексуальной природе Бога с благоговением и дополняют ее женским началом.
Это поставило меня перед определенными трудностями. Поскольку Бог, о котором идет речь, был в древности чисто мужской сущностью, верующие привыкли называть Его «Он»; разумеется, с недавнего времени это вызывает протесты у феминисток. Но я хочу рассказать о мыслях и прозрениях тех народов, которые считали Бога мужчиной, и потому буду придерживаться традиционных ссылок в мужском роде (за исключением случаев, когда более уместным оказывается средний). Следует, однако, отметить, что мужской род в лексиконе, связанном с Божеством, характерен далеко не для всех языков. Категория грамматического рода в древнееврейском, арабском и французском сообщает богословским рассуждениям ту диалектику контрапункта и равновесия разнополых начал, какой не хватает английскому. Так, например, арабское Аллах (высшее имя Бога) грамматически относится к мужскому роду, тогда как другое понятие, алдхат, которое обозначает божественную и непостижимую сущность Бога, имеет женский род.
Любые рассуждения о Боге то и дело приводят к непреодолимым трудностям. Приверженцы единобожия всегда отрицали возможность изъяснить Высшую Реальность словами, но в то же время именно с этой целью задействовали все богатство изобразительных средств языка. Бог иудеев, христиан и мусульман – Бог «говорящий», и Его Слово во всех трех религиях является главным. Слово Божье определило историю всей нашей культуры; теперь же пришло время выяснить, сохранило ли для нас смысл слово «Бог».
1. В начале…
Вначале сотворили люди Бога, который был Первопричиной всего и Владыкой небес и земли. В ту пору не существовало Его изображений, не было у Него ни храма, ни жрецов. Человек еще не умел поклоняться, для него этот Бог был слишком возвышен. Со временем Он стерся из памяти людей, стал таким далеким, что они перестали чувствовать в Нем потребность. А потом Он, говорят, вовсе исчез…
Такова, во всяком случае, теория отца Вильгельма Шмидта, изложенная им в книге «Происхождение идеи Бога» (1912 г.). Шмидт предполагал, что многобожию предшествует примитивный монотеизм: когда-то люди признавали единственное высшее божество, которое сотворило мир и издалека руководило делами человека. Вера в такого Верховного Бога (иногда его называли Богом Неба, так как ему полагалось быть выше всех) до сих пор остается характерной чертой религиозных воззрений множества африканских племен, которые молятся ему и не сомневаются, что он все видит и наказывает за проступки. С другой стороны, этот бог странным образом отсутствует в их повседневной жизни – у него нет ни культа, ни изображений. Африканцы считают, что он невыразим и вообще его не следует пятнать ничем земным. В некоторых племенах говорят, что он «ушел». Антропологи полагают, что этот бог стал таким далеким и возвышенным, что со временем его место заняли низшие духи и более доступные божества. Это согласуется с теорией Шмидта, по которой Высший Бог еще в древности был заменен более привлекательными божествами языческих пантеонов. Но в самом начале, выходит, существовал только Единый Бог, и тогда монотеизм нужно отнести к первым человеческим попыткам объяснить загадку и трагедию жизни. Все это, между прочим, указывает на определенные проблемы, с которыми должно было столкнуться подобное божество.
Обосновать такую теорию невозможно никаким способом. Теорий о происхождении религии множество, но один факт очевиден: человек создавал богов всегда. Если некая религиозная идея по каким-либо причинам не устраивала людей, они просто заменяли ее новой. Устаревшие представления уходили тихо и незаметно, как случилось с той же идеей Бога Неба. В наши дни многие люди считают, что Бог, которому веками поклонялись иудеи, христиане и мусульмане, стал таким же далеким, как и Бог Неба. Иногда объявляют даже, что Бог умер. Да, похоже на то, что Он действительно исчезает из жизни все большего числа людей, особенно на Западе. Говорят, что в человеческом сознании образовалась «дыра в форме бога» в том самом месте, где Он был раньше (все-таки, каким бы бесполезным ни казался Бог в некоторых кругах, Он сыграл решающую роль в нашей истории, да и вообще это была одна из величайших человеческих идей всех времен). И для того, чтобы понять, что именно мы теряем – если, конечно, Бог действительно исчезает, – нужно разобраться, как жили люди, когда начали в Него верить, что Он для них означал и каким Его мыслили. Для этого придется вернуться в древний мир и перенестись на Ближний Восток, где около четырнадцати тысяч лет назад зарождалась идея Единого Бога.
Одна из причин кажущейся ненужности религии в нашу эпоху заключается в том, что мы уже не чувствуем себя в окружении незримого. Научная культура приучила нас обращать внимание прежде всего на физический, материальный мир. Такое мироощущение принесло немало пользы, но одним из его последствий стало то, что исчезло чувство «духовного», или «святого», которое было важнейшей составляющей человеческого восприятия мира в старину и до сих пор пронизывает все сферы жизни в более традиционных культурах. На островах Южных морей эту загадочную силу называют мана; другие ощущают ее как присутствие чего-то, дух; иногда она воспринимается как безличная энергия вроде радиации или электричества. Люди верили, что она кроется в вождях племен, камнях, зверях и травах. В священных рощах римляне ощущали присутствие духов, numina; арабы знали, что окружающий мир населен джиннами. Разумеется, человеку хотелось соприкоснуться с этой реальностью и как-то ее использовать, но было и просто желание восхищаться ею. Люди наделили эти невидимые силы свойствами индивидуальности: они создали богов, соответствующих ветру, солнцу, морю и звездам и в то же время похожих на человека. Так люди выразили свое ощущение родства с миром незримым и миром окружающим.
Немецкий историк религии Рудольф Отто, опубликовавший в 1917 году обстоятельный труд «Идея святости», не сомневался, что источником религиозности является именно это ощущение непостижимого. Оно предшествует даже стремлению понять происхождение мира или определить основы морали. Непостижимое ощущалось людьми по-разному: то как восторженное, дикое, вакхическое возбуждение, то как полная безмятежность, то как ужас, благоговение и чувство собственного ничтожества в сравнении с таинственной силой, проницающей все сферы жизни. Слагая мифы и поклоняясь своим богам, люди не стремились к буквальному объяснению явлений природы. Символические предания, скульптуры и наскальные рисунки – это попытки выразить ощущение чуда и связать эту вездесущую загадку с обыденной жизнью; те же чувства и сегодня вдохновляют поэтов, художников и музыкантов. В эпоху палеолита, например, когда зарождалось земледелие, идея святости плодородия, преобразившая человеческую жизнь, воплотилась в культе Богини-Матери. Археологи находят ее изображения в облике обнаженной беременной женщины по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Индии. Великая Мать долгие века оставалась важным объектом творческого воображения. Подобно древнему Богу Неба, она вошла в более поздние пантеоны и заняла почетное место среди других древних божеств. Обычно ее относили к самым могущественным богам – по крайней мере, считалось, что она намного сильнее Бога Неба, который по-прежнему оставался фигурой заоблачной. Шумерская Инанна, вавилонская Иштар, ханаанская Анат, египетская Исида и греческая Афродита – под такими именами знали ее разные народы, а разительно схожие легенды о ней подчеркивают значимость этой богини в духовной жизни людей разнообразных культур. Эти мифы тоже были не буквальными разъяснениями, а попытками иносказательно выразить впечатление о невыразимой, слишком сложной реальности. Драматичные, волнующие рассказы о богах помогали людям словесно передавать свое ощущение близости могучих, но незримых сил.
Древние верили, по-видимому, что только деятельное участие в этой божественной жизни позволяет стать настоящим человеком. Земное бытие выглядело слишком коротким, над ним постоянно нависала тень смерти; подражая же деяниям богов, человек в определенной мере обретал их силу и значительность. Потому и считалось, что именно боги научили людей строить города и храмы, подобные обителям божеств в высшем царстве. Священный мир богов, каким он описывается в мифах, – не просто идеал, к которому следует стремиться людям, но и прообраз человеческого существования, изначальный архетип, высший образец, определяющий жизнь тут, внизу. Все земное представляет собой отражение мира божественного – эта идея пронизывала мифологию, обряды и общественный уклад большинства народов древности и до сих пор господствует во многих традиционных культурах наших дней[1]. Например, в Древнем Иране верили, что каждому человеку и предмету обычного мира (гетик) соответствует двойник в архетипическом мире божественного бытия (менок). Сейчас нам трудно принять эту концепцию, так как высшими идеалами жизни у нас стали свобода и самостоятельность личности. Тем не менее знаменитое изречение post coitum omne animal tristis esi[2] и теперь выражает всеобщий опыт: когда страстно предвкушаемый миг наконец наступает, нередко кажется, что ты опять упустил нечто большее, почти недосягаемое. Подражание Богу – субботний ли день отдохновения, омовение ли ног беднякам на Страстной неделе – до сих пор остается важной составляющей религии. Бессмысленные сами по себе, эти действия стали значительными и священными только потому, что некогда их, как считается, совершал Бог.
Такой была духовность и в Древней Месопотамии. В долине Тигра и Евфрата (современный Ирак) уже за четыре тысячи лет до н. э. жили шумеры – создатели одной из первых великих культур Ойкумены (цивилизованного мира). В городах Ур, Урук и Киш совершенствовали клинопись, воздвигали величественные зиккураты (башни-храмы), разрабатывали впечатляющие образцы законов, литературы и мифологии. Вскоре в этот район вторглись семиты-аккадцы и переняли язык и культуру Шумера. Позднее, примерно за два тысячелетия до н. э., шумеро-аккадскую цивилизацию покорили амореи, чьей столицей стал Вавилон. Наконец, спустя еще пятьсот лет ассирийцы заняли соседний Ашшур; в восьмом веке до н. э. они завоевали и сам Вавилон. Но вавилонская традиция успела повлиять на мифологию и религию Ханаана, который стал впоследствии «землей обетованной» для древних израильтян. Как и все прочие народы древнего мира, вавилоняне приписывали свои культурные свершения богам, якобы открывшим свой образ жизни мифическим первопредкам человека. По этой причине Вавилон считался образом божественного царства, а каждый его храм – копией небесного дворца. Неразрывная связь с высшим миром была увековечена в новогодних торжествах, которые к семнадцатому столетию до н. э. проводились ежегодно. Праздник отмечали в месяц нисан (апрель) в священном городе Вавилоне: царь торжественно восседал на престоле, а жрецы благословляли его правление еще на один год. Но политическое спокойствие могло сохраняться лишь постольку, поскольку было частью более долговечного и эффективного правления богов, которые, сотворяя мир, внесли порядок в изначальный хаос. Таким образом, на одиннадцать священных дней новогоднего праздника сила ритуальных действий переносила участников из обычного времени в священный и вечный мир богов. В знак окончания старого, умирающего года в жертву приносили козла (того самого «козла отпущения»). Первозданный хаос отражался в публичном унижении царя, на чей трон усаживали ряженого шута; затем проводилась театрализованная битва, изображавшая борьбу богов с разрушительными силами.
Эти символические действия имели обрядовый смысл: они помогали народу Вавилона прикоснуться к священной силе – мана, – основе их великой цивилизации. Культура ощущалась как достижение недолговечное, хрупкое, силы хаоса и смерти могли уничтожить его в любой миг. К вечеру четвертого дня праздника жрецы и певчие собирались в святая святых для чтения «Энума элиш», священного эпоса, воспевающего победу богов над хаосом. Легенда представляла собой не фактическое повествование о происхождении жизни на земле, а сознательную попытку символического объяснения великой тайны и высвобождения ее божественной силы. Буквально описать сотворение мира вообще нельзя, ведь этого невообразимого события никто не видел. Единственными подходящими средствами выражения являются мифы и символы. Краткое ознакомление с «Энума элиш» позволяет отчасти понять ту духовность, которая столетия спустя дала жизнь нашему Богу-Творцу. И хотя библейская и кораническая истории сотворения имеют иной вид, забытые вавилонские мифы не исчезли до конца и впоследствии вновь проникли в историю Бога, уже под маской монотеизма.
Легенда начинается с сотворения самих богов – как мы вскоре убедимся, сюжета очень важного в иудейском и исламском мистицизме. Согласно «Энума элиш», в начале боги появились попарно из бесформенной водянистой массы – субстанции самой по себе божественной. В вавилонском мифе (как позднее и в Библии) не было сотворения из ничего; древнему миру подобная идея была совершенно чужда. Прежде богов и людей предвечно существовал некий священный материал, изначальное сырье. Пытаясь вообразить первовещество, вавилоняне решили, вероятно, что оно должно было напоминать заболоченные пустоши Месопотамии, где утлым творениям рук человека постоянно угрожали потопы. По этой причине в «Энума элиш» хаос выглядит не раскаленной кипящей массой, а единообразной жижей, где ничто не имеет ни границ, ни очертаний, ни названий:
…воды свои воедино мешали. Тростниковых загонов тогда еще не было, Тростниковых зарослей видно не было. Когда из богов никого еще не было, Ничто не названо, судьбой не отмечено, Когда в недрах зародились боги…[3]Из этой первобытной жижи появились три бога: Абзу (отождествлялся со сладкими речными водами), его супруга Тиамат (соленое море) и Мумму, Чрево Хаоса. Но эти боги были, так сказать, первыми пробами и нуждались в улучшении. Имена Абзу и Тиамат можно перевести как «пропасть», «пустота», «бездонная пучина». Они еще не избавились от бесформенной инертности предвечного хаоса и не определились как явные сущности.
Затем от них изошла череда богов – такой процесс «эманации» станет впоследствии очень важным для истории нашего Бога. Новые боги появлялись друг из друга попарно, и в ходе божественной эволюции каждый приобретал все более четкую форму. Первыми родились Лахму и Лахаму (их имена означают «ил», то есть вода все еще смешана с землей). Затем возникли Аншар и Кишар, олицетворяющие горизонты неба и моря. Вслед за ними появились Ан («небо») и Эйя («земля»). Казалось бы, дело сделано: теперь у божественного мира есть строго разделенные небо, океан и суша. Но сотворение мира только начинается, ведь силу хаоса и разрушения можно сдержать лишь ценой мучительных и неустанных усилий. Младшие по возрасту и более деятельные боги восстали против родителей, но даже Эйя, победивший Абзу и Мумму, не мог совладать с Тиамат, которая прямо в ходе сражения порождала целые выводки мерзостных чудищ. К счастью, у Эйя был чудесный сын Мардук, бог солнца, самое совершенное создание во всем божественном царстве. На великом собрании богов Мардук вызвался умертвить Тиамат при условии, что станет потом верховным правителем. И ему удалось-таки убить первую богиню, хотя схватка была невероятно долгой, страшной и трудной. В этом мифе созидательная деятельность представляется как изнурительная борьба в неравных условиях.
Но вот наконец, встав над тучным телом мертвой Тиамат, Мардук решил сотворить новый мир. Он рассек ее труп надвое и создал небесный свод, человеческий мир, а потом и законы, призванные отвести всему свое место. Установилась гармония, но и на этом борьба не закончилась. Порядок нужно было постоянно, год от года воссоздавать особым обрядом. Боги собрались в Вавилоне, центре новой земли, и воздвигли там храм для проведения небесных ритуалов. Так возник большой зиккурат в честь Мардука – «храм земной, знак небес бесконечных». Когда строительство окончилось, Мардук занял свой престол на вершине, а боги воскликнули: «Вот – Вавилон, жилье ваше ныне!» После провели священный обряд: «Все уставы назначили, все предначертанья, всем богам закрепили места на земле и на небе!»[4] Такие законы и обряды вменяются всем – даже боги обязаны соблюдать их, чтобы сберечь сотворенный мир. Этот миф выражает глубинный смысл цивилизованности в понимании вавилонян. Они прекрасно знали, что зиккурат был выстроен их же предками, но история «Энума элиш» укрепляет убежденность в том, что плоды творчества долговечны лишь тогда, когда пронизаны божественной силой. Обряды, проводимые на Новый год, существовали еще до появления человека: они записаны в самой природе вещей, которой должны подчиняться даже боги. Миф выражает также убежденность в том, что Вавилон – место священное, центр мира и обитель богов. Такие представления характерны практически для всех религий древности. Идея священного города, где человек ощущает тесную близость к высшей силе, источнику бытия и созидания, была впоследствии использована во всех трех монотеистических религиях нашего Бога.
Людей Мардук, словно случайно вспомнив, создал в последнюю очередь. Он схватил Кингу (так звали глуповатого супруга Тиамат, которого она создала после гибели Абзу), убил его и слепил первого человека из праха, смешанного с божественной кровью Кингу. Боги следили за всем этим с изумлением и восторгом. В этом мифическом пояснении происхождения человека сквозит, однако, ирония: люди, оказывается, вовсе не верх совершенства, а потомки одного из самых тупых и ленивых богов. Но сюжет содержит и еще одну важную мысль: первый человек был создан из божественной субстанции и, следовательно, несет в себе, пусть и в малой мере, высшее начало. В те времена между людьми и богами еще не зияла пропасть. Мир природы, человек и сами боги имели общее естество и рождались из единой божественной субстанции. Языческое мировосприятие было целостным. Боги не удалились еще от людей в непроницаемую онтологическую сферу; божественное не отличалось по своей сущности от человеческого. По той же причине не было нужды в особых откровениях свыше или установленных богами земных законах. Боги и человек пребывали в одинаково сложном положении – с той лишь разницей, что боги были сильнее и жили дольше.
Целостное восприятие вселенной было свойственно не только Ближнему Востоку, но и всему древнему миру. В VI в. до н. э. Пиндар выразил греческую версию того же убеждения в оде, посвященной Олимпийским играм:
Есть племя людей, Есть племя богов, Дыхание в нас – от единой матери, Но сила отпущена разная: Человек – ничто, А медное небо – незыблемая обитель Во веки веков. Но нечто есть Возносящее нас до небожителей, Будь то мощный дух, Будь то сила естества, — Хоть и неведомо нам, до какой межи Начертан путь наш дневной и ночной Роком[5].Атлеты для Пиндара – не просто люди, каждый из которых мечтает о личной победе. Поэт сравнивает спортивные успехи с подвигами богов, высшими образцами всех человеческих свершений. Люди не просто раболепно подражают безнадежно далеким богам, а стремятся развить собственный, божественный по сущности потенциал.
Миф о Мардуке и Тиамат повлиял, судя по всему, на жителей Ханаана, у которых была весьма схожая легенда о Ваал-Хаддаде, боге гроз и плодородия (именно о нем, Ваале, крайне нелестно упоминается в Библии). История битвы Ваала с Йамму, богом морей и рек, дошла до нас на табличках, датируемых XIV в. до н. э. Ваал и Йамму жили рядом с Илу, верховным божеством ханаанеев. На совете богов Йамму потребовал, чтобы Ваал стал его рабом. Ваал одолел Йамму с помощью двух волшебных оружий и едва не убил его, но Асират, супруга Илу и мать обоих соперников, воскликнула, что убивать беспомощного позорно. Пристыженный Ваал помиловал Йамму – олицетворение враждебного человеку аспекта моря, непрестанно грозящего суше наводнениями; бог грозы Ваал был, напротив, благотворным, так как орошал землю дождями. В другом варианте этого мифа Ваал убил семиглавого дракона Латана, которого древние евреи называли Левиафаном. Дракон почти во всех культурах символизирует дремлющую бесформенную и хаотическую силу. Благодаря этому созидательному подвигу стал невозможен возврат к изначальному хаосу, за что Ваал и был вознагражден богами, которые выстроили в его честь прекрасный дворец. В самых ранних религиях любое творчество считалось деянием божественным. Впрочем, мы до сих пор нередко обращаемся к религиозному языку, когда речь идет о творческом вдохновении, придающем действительности свежие черты и обновленный смысл.
У Ваала между тем не все шло гладко: он погиб и попал в подземный мир Муту, бога смерти и бесплодия. Узнав о судьбе сына, верховный бог Илу сошел с престола, облачился в мешковину и исцарапал себе щеки, но спасти отпрыска так и не смог. На поиски Ваала отправилась Анат, его сестра и возлюбленная. Она покинула небесный мир и отчаянно искала брата-супруга, «желая к нему, как корова к теленку или овца к агнцу своему»[6]. Наконец она нашла его тело, устроила тризну, затем схватила Муту, рассекла его мечом, а останки обожгла, перемолола, провеяла, как зерно, – и посеяла в землю. Сходные истории о поисках умершего бога и обновлении почвы рассказывали и о других великих богинях – Инанне, Иштар и Исиде. Победу Анат, впрочем, приходилось воссоздавать ежегодно путем особых обрядов. Позднее (хотя неизвестно, когда именно, так как источники наши неполны) Анат воскресила Ваала. Эту кульминацию целостности и единства, олицетворяемую слиянием мужского и женского начал, в Древнем Ханаане отмечали ритуальными половыми актами. Подражая богам, люди сообща боролись с неурожаями, помогали природе сберечь плодовитость и способность к самообновлению. Гибель бога, скитания богини и триумфальное возвращение обоих в божественное царство – неизменный религиозный сюжет многих культур мира. Повторяется он и в совершенно иной по содержанию религии Единого Бога, которую исповедуют иудеи, христиане и мусульмане.
По Библии, основы этой религии заложил Авраам, который покинул родной Ур и со временем поселился в Ханаане. Случилось это около XX–XIX вв. до н. э. Исторических летописей у нас нет, но ученые предполагают, что Авраам был вождем одного из тех странствующих племен, что в конце третьего тысячелетия до н. э. шли из Месопотамии к берегам Средиземного моря. Эти скитальцы, именуемые в месопотамских и египетских текстах народом абиру, апиру, или хабиру, говорили на западносемитских языках, в том числе на древнееврейском. Эти люди не были, однако, обычными кочевниками вроде бедуинов, которые перегоняли свои стада с места на место в согласии со сменой времен года. Определить образ жизни хабиру намного труднее, и в свое время такое неопределенное положение приводило этот народ к частым стычкам с местными властями. Вообще говоря, их уровень развития был намного выше культуры обычных жителей пустынь. Одни хабиру становились наемниками, другие – государственными чиновниками, третьи – торговцами, прислугой или ремесленниками. Кое-кому удавалось разбогатеть, и тогда он мог купить участок земли и перейти к оседлой жизни. По «Книге Бытия», Авраам начинал с карьеры наемного солдата при дворе царя Содома; у него не раз бывали столкновения с ханаанскими властями и соседями. Позднее, когда умерла его жена Сарра, Авраам купил землю в Хевроне – там, где сейчас Западный Берег.
В библейском повествовании об Аврааме и его ближайших потомках можно найти указания на три главные ветви расселения евреев в Ханаане, современном Израиле. Сначала (около 1850 г. до н. э.) Авраам пришел в Хеврон; вторая волна иммиграции была связана с внуком Авраама, Иаковом, получившим затем новое имя – Израиль (букв.: «Да явит Господь его силу»). Он обосновался в Сихеме, нынешнем арабском городе Наблус на Западном Берегу. В Библии сказано, что сыновья Иакова, прародители двенадцати колен Израилевых, перебрались в Египет, так как в Ханаане царил страшный голод. Третья волна еврейских переселений началась примерно в 1220 г. до н. э., когда племена, считавшие себя потомками Авраама, вернулись из Египта в Ханаан. Они рассказывали, что были у египтян в плену, но спаслись благодаря Яхве, богу их вождя Моисея. Пробив себе путь в Ханаан, эти племена примкнули к местным евреям – так и возник народ Израилев. Библия ясно дает понять, что люди, которых называют древними израильтянами, представляли собой союз множества этнических групп, объединенных прежде всего верой в Яхве, Бога Моисеева. Библейские книги были, однако, написаны столетия спустя, около восьмого века до н. э., хотя, несомненно, опирались на более ранние письменные источники.
В XIX в. немецкие исследователи Библии разработали критический метод, позволивший выделить четыре источника первых пяти библейских книг – «Бытия», «Исхода», «Левита», «Чисел» и «Второзакония». В пятом столетии до н. э. эти тексты приобрели окончательный вид и образовали так называемое Пятикнижие. Рассуждения немецких ученых подвергались серьезной критике, но с тех пор никому не удалось предложить иной достоверной теории, которая разъяснила бы, почему Пятикнижие порой противоречит себе и содержит пары довольно несхожих рассказов о таких важнейших событиях, как, например, сотворение мира или всемирный потоп. Два самых первых автора Библии, чьи тексты составили «Бытие» и «Исход», писали их, вероятно, в VIII в. до н. э., хотя, возможно, и ранее. Одного принято обозначать J, так как он называл своего бога «Яхве», а другого – Е, поскольку он предпочитал более строгий титул «Элохим». К восьмому столетию до н. э. израильтяне разделили Ханаан на два царства. J жил на юге, в Иудее, а Е пришел из северного царства, Израиля. Два других источника Пятикнижия – хроники древней истории Израиля, авторов которых принято называть «Второзаконником» (D) и «Священником» (Р), – мы обсудим в следующей главе.
Легко убедиться, что J и Е во многом разделяли религиозные взгляды своих ближневосточных соседей, и все же их повествования показывают, что к VIII в. до н. э. израильтяне уже начали разрабатывать особое мировоззрение. J, например, начинает свою историю Бога с рассказа до странности легковесного по сравнению с вариантом «Энума элиш»:
…когда Господь [Яхве] Бог создал небо и землю, и всякий полевый кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла; ибо Господь [Яхве] Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли;
но пар поднимался с земли, и орошал все лице земли.
И создал Господь [Яхве] Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою[7].
Это уже совершенно новый подход. Сосредоточенность на сотворении мира и доисторическом периоде, характерная для язычников Месопотамии и Ханаана, сменяется у J обостренным вниманием к обычному историческому времени. Вообще говоря, в Израиле особого интереса к картине сотворения мира не проявляли вплоть до VI в. до н. э., когда автор, которого обозначают Р, написал удивительный рассказ, ставший первой главой «Книги Бытия». J, в частности, не утверждает, что Яхве – единственный творец небес и земли. Еще примечательнее, однако, явная граница между человеческим и божественным: человек (адам), как указывает само родство слов, сотворен из земли (адамах), а не того же вещества, что и его бог.
В отличие от соседей-язычников, J не считает человеческую историю чем-то приземленным, мелким и несущественным по сравнению со священной, предвечной эрой богов. Скомканно излагает он доисторические события и словно торопится рассказать о конце мифического периода (сюжеты о Потопе и вавилонской башне) – чтобы перейти наконец к истории народа Израилева. Она начинается неожиданно, в двенадцатой главе, где человек по имени Аврам, переименованный позже в Авраама («отец многих»), получает от Яхве приказ оставить родню в Харране (современная Восточная Турция) и пойти в Ханаан, к Средиземному морю. Прежде упоминалось, что отец Аврама, язычник Фарра, переселился со всей семьей на запад из Ура. Тогда же Яхве извещает Авраама о его особом предназначении: тому суждено стать отцом могучего народа, который в грядущем превзойдет числом звезды небесные и будет владеть землей Ханаанской как своей собственной. Рассказ J о судьбе Авраама задает тон всей последующей истории этого Бога. В древности божественную мана на Ближнем Востоке ощущали в обрядах и мифах. Никто не предполагал, что Мардук, Ваал или Анат начнут вмешиваться в повседневную земную жизнь верующих – эти божества осуществляли свои деяния только в особую, священную эпоху. Бог Израилев, напротив, стал влиятельной силой в текущих событиях обычного мира, определяющим фактором «здесь и сейчас». При первом же открытом Своем появлении Он сразу высказывает Свою волю: Авраам должен покинуть сородичей и отправиться в земли Ханаанские.
Но кто такой Яхве? Поклонялся ли Авраам тому же богу, что и Моисей, только под другим именем? Сегодня этот вопрос имеет первостепенное значение, но Библия на удивление туманна и дает на него противоречивые ответы. J утверждает, что люди поклонялись Яхве начиная еще с внуков Адама[8], но позднее, в VI в. до н. э., Р дает понять, что израильтяне даже не слышали о Яхве, пока тот не открылся Моисею в неопалимой купине. Устами Р Яхве объясняет, что Он – действительно тот же бог, что и бог Авраамов, хотя здесь тоже встречается противоречие: Он говорит Моисею, что Авраам называл Его «Бог всемогущий» (Эль-Шаддай), а божественного имени «Яхве» не знал[9]. Такие тонкости, впрочем, не особенно волновали тех, кто писал и правил Библию. J неизменно называл своего бога «Яхве», ведь к тому времени, когда он взялся за перо, Яхве уже навсегда стал Богом Израилевым – это и было по-настоящему важным. Религия израильтян была прагматичной, и мало кто тогда интересовался умозрительными мелочами, которые заботили бы нас. Не следует также считать, будто Авраам или Моисей верили в своего Бога точно так же, как верят теперь. Мы настолько свыклись с библейским повествованием и последующей историей Израиля, что склонны приписывать свои познания о более позднем иудаизме даже самым древним историческим персонажам. Принято, например, полагать, будто три израильских патриарха – Авраам, его сын Исаак и внук Иаков – верили только в одного бога, но на самом деле это сомнительно. Скорее, они были древнееврейскими язычниками и разделяли множество религиозных представлений с соседями из Ханаана, то есть верили в существование таких божеств, как Мардук, Ваал и Анат. Более того, они, возможно, вообще не поклонялись одному и тому же богу: не исключено, что Бог Авраамов, «страх»[10] Исаака и «мощный Бог»[11] Иакова были совершенно разными божествами.
Очень вероятно, например, что богом Авраама был Илу (Эль), верховный бог Ханаана, поскольку Он открылся Авраму под именем Эль-Шаддай, «Бог Горний»[12], как принято было величать Илу. В других местах Его именуют «Эль-Элион» (Бог Всевышний) или Эль Вефильский[13]. Имя Илу, главного ханаанского бога, в формах «эль – ил – иль» сохранилось в таких древнееврейских именах, как Израиль и Исмаил. И относились к нему евреи так, как было принято среди язычников Ближнего Востока. Лишь столетия спустя, как мы увидим, израильтяне выяснили, что мана Яхве, то есть Его «святость», может быть ужасающей. На горе Синай, например, Он явился Моисею среди страшного вулканического извержения и запретил израильтянам приближаться к Нему. В сравнении с Ним Эль, бог Авраама, выглядит весьма добродушным божеством: он приходит к нему как друг, подчас даже в человеческом облике. Предания о таких встречах, именуемых богоявлением, были очень распространены среди древних язычников. Несмотря на то что боги, как считалось, не вмешиваются в дела смертных, в мифические времена редкие избранные все же сталкивались с божествами лицом к лицу. Подобными эпизодами изобилует, в частности, «Илиада», где боги и богини являются как грекам, так и троянцам в сновидениях, когда граница между человеческим и божественным миром отчасти стирается. В самом конце поэмы царя Приама направляет к греческим судам молодой красавец – как выясняется позже, сам Гермес. Оглядываясь на минувший золотой век героев, греки ощущали тесное родство с богами, которые в конечном счете были очень близки людям по естеству. В легендах о богоявлениях отражается целостность языческого мировосприятия: поскольку божественное не отличается по сущности от природы и человека, соприкоснуться с ним можно и без особых церемоний. Мир полон богов, и встретиться с ними можно совершенно неожиданно – прямо за углом, откуда вывернет незнакомый прохожий. Судя по всему, простой люд верил, что такое и правда может случиться со всяким; это соображение объясняет странную историю из «Деяний» о том, как уже в I в. н. э. жители Листры (нынешняя Турция) приняли апостола Павла и его ученика Варнаву за Гермеса с Зевсом[14].
С израильтянами дело обстояло примерно так же: оглядываясь на собственный золотой век, они видели, что Авраам, Исаак и Иаков общались со своим Богом накоротке. Подобно шейху или старейшине, Эль дает дружеские советы, указывает путь в скитаниях, говорит, на ком жениться, и является в сновидениях. Время от времени патриархи, похоже, встречали Его в облике человека – позднее одна лишь мысль о чем-то подобном грозила израильтянину отлучением от общины. В восемнадцатой главе «Бытия» J рассказывает, как Бог явился Аврааму у дубравы Мамре, близ Хеврона. Авраам возвел очи и увидел трех мужей, идущих к его шатру «во время зноя дневного». С обычным для Ближнего Востока гостеприимством Авраам упрашивает их присесть и отдохнуть, а сам спешит подать угощение. В ходе беседы выясняется, естественно, что один из мужей – не кто иной, как его Бог, которого J неизменно называет «Яхве»; двое Его спутников, оказывается, ангелы. Это событие, похоже, никого особенно не удивило, но к VIII в. до н. э., когда писал J, ни один израильтянин уже не мог и надеяться «узреть» Бога воочию – напротив, для большинства сама мысль об этом была бы кощунством. Е, современник J, считает давние предания о такой близости патриархов к Богу плодами вымысла. Рассказывая о встречах Авраама или Иакова с Богом, он соблюдает почтительную дистанцию и представляет древние легенды менее антропоморфными. Позднее он скажет, что Бог говорил с Авраамом устами ангелов. J такая щепетильность, однако, не свойственна, и он сохраняет в своем повествовании привкус старины, присущий первым преданиям о богоявлении.
Иаков тоже несколько раз встречался с Богом. Однажды он решил вернуться в Харран, чтобы выбрать там жену среди родни. По пути он устроил ночлег в Лузе, неподалеку от Иордании, положив изголовьем камень. Той ночью ему приснилась лестница от земли до небес, и ангелы спускались и восходили по ней меж царствами Бога и человека. Поневоле вспоминается зиккурат Мардука: там, наверху, между небом и землей, человек мог встретиться с богами. На вершине своей лестницы спящий Иаков увидел Эля, который благословил его и повторил примерно то же, что прежде обещал Аврааму: потомки Иакова станут могучим народом и завладеют всеми землями Ханаанскими. Было и другое обещание, которое, как мы сейчас убедимся, произвело на Иакова большое впечатление. Языческие религии нередко были территориальными: бог имел власть только в ограниченном районе, и потому, путешествуя по чужим землям, умудренные опытом люди поклонялись местным божествам. Однако Эль пообещал Иакову, что будет оберегать его и когда тот перейдет из Ханаана в другую страну: «Я с тобою; и Я сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь»[15]. Эта давняя легенда о богоявлении показывает, что верховный бог Ханаана начал приобретать черты всеобщности.
Проснувшись, Иаков понял, что нечаянно заночевал в священном месте, где люди могут беседовать со своими богами. J вкладывает в его уста слова: «Истинно Господь [Яхве] присутствует на месте сем; а я не знал!» Иаков переполнен ощущением чудесности, которое нередко посещало язычников при столкновении со святой силой божественного: «как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий [веф-иль], это врата небесные»[16]. Не сознавая того, Иаков говорит на религиозном языке своего времени и своей культуры, ведь и сам Вавилон, обитель богов, назвали «вратами божьими», Баб-или. Затем Иаков решает освятить особый участок в традиционной для местных язычников манере: берет камень, что служил ему изголовьем, ставит стоймя и освящает елеем. Отныне Луз именуется уже Вефилем, «домом Божим». Камни-памятники – обычная черта ханаанских культов плодородия, которые процветали в Вефиле вплоть до VIII в. до н. э. Позднее израильтяне решительно боролись с подобными проявлениями религиозности, но языческое святилище в Вефиле по-прежнему связывали с давним преданием о встрече Иакова с его Богом.
Прежде чем покинуть Вефиль, Иаков принимает решение сделать увиденного Бога своим элохим – это понятие вмещает все, что значимо для людей в богах. Иаков рассудил, что если Эль (или Яхве, как называет его J) и правда способен присмотреть за ним в Харране, то это, судя по всему, очень сильный бог. Он предлагает сделку: в обмен на защиту со стороны Эля Иаков выберет Его своим элохим, то есть будет поклоняться только Ему. Израильская вера в бога была очень прагматичной. Авраам и Иаков верили в Эля, поскольку Он им помогал. Они не мудрствовали и не пытались доказать Его существование; для них Эль был вовсе не философским отвлеченным понятием. В древности мана была самоочевидным житейским фактом, а бог считался достойным поклонения, только если доказывал свою силу на деле. Такая практичность всегда оставалась важным фактором истории Бога. Многие люди до сих пор придерживаются тех или иных представлений о божественном не потому, что те научно или философски обоснованы, а из соображений практической выгоды.
Годы спустя Иаков вернулся из Харрана вместе с женами и всей своей семьей. Ступив на земли Ханаанские, он вновь пережил странное богоявление: у брода Иавок на Западном Берегу он встретил кого-то, кто всю ночь с ним боролся. На заре его соперник, как и полагается сверхъестественным существам, попросил Иакова отпустить его, но в ответ Иаков потребовал от незнакомца, чтобы тот назвал свое имя. В древнем мире знание чужого имени давало определенную власть над его хозяином, и незнакомец отказался назвать себя. Тогда Иаков понял, что его противником был не кто иной, как Сам Эль:
Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там.
И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл [лицо Эля]; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя[17].
По духу этот рассказ о богоявлении намного ближе к «Илиаде», чем к иудейскому единобожию, где столь приземленное общение с Горним следовало бы счесть богохульством.
Несмотря на то что в ранних преданиях патриархи общались со своим богом почти так же, как их современники-язычники, в этих сюжетах впервые проявляется новый тип религиозных переживаний. На протяжении всего повествования Библия именует Авраама человеком «веры». Сегодня под верой чаще всего понимают рассудочное согласие с неким вероучением, но для библейских авторов она, очевидно, была вовсе не умозрительной или метафизической. Восхваляя «веру» Авраама, они имеют в виду не его ортодоксальность (следование теологически правильным представлениям о Боге), а степень его доверия – примерно в том же смысле, в каком мы верим в другого человека или в идеал. Авраам – человек веры, поскольку не сомневается, что Бог исполнит Свои обещания, даже, казалось бы, самые невероятные. Как сможет Авраам стать отцом могучего народа, если жена его, Сарра, бесплодна? По правде говоря, сама мысль о том, что Сарра, давно пережившая менопаузу, еще способна родить, была настолько нелепой, что, услышав такое пророчество, супруги не удержались от смеха. И когда, вопреки природе, у них все-таки родился сын, его нарекли Исааком – это имя можно перевести как «смех». Шутка, однако, оказалась горькой, так как затем Бог потребовал страшной платы: Авраам должен принести единственного сына в жертву.
В языческом мире человеческие жертвоприношения были делом обычным – факт жестокий, но имеющий логическое объяснение. В семье первенец нередко считался отпрыском бога, оплодотворившего мать по праву первой ночи. При зачатии бог терял часть сил, и для восстановления полноценного круговорота мана первенца следовало вернуть божественному отцу. Но в случае с Исааком все обстояло иначе: он был даром Бога, но не Божьим сыном, так что никаких причин для жертвы не было – божественную энергию не требовалось восполнять. Поистине, такая жертва лишала всякого смысла саму жизнь Авраама, которому, согласно Божьему же обещанию, уготовано было стать отцом великого народа. Этот Бог, следовательно, уже отличается от прочих божеств древнего мира: Он вовсе не разделяет человеческие тяготы и не нуждается в поддержке со стороны людей. Он относится к иному, высшему разряду и может требовать чего захочет. Авраам решает довериться своему Богу. Они с Исааком пускаются в трехдневный путь к горе Мориа, где впоследствии будет заложен фундамент иерусалимского Храма. Исааку, не подозревающему о божественном приказе, даже приходится нести на плечах дрова для собственного всесожжения. И лишь в последний миг, когда Авраам уже заносит нож, Бог смягчается и поясняет, что это была просто проверка. Авраам доказал, что достоин стать отцом могучего народа, многочисленного, как звезды небесные или песок на берегу моря.
В наше время эта история звучит ужасно, ведь в ней Бог выглядит деспотичным, своенравным садистом. Ничуть не удивительно, что многие люди, знакомые с этим преданием с детства, отрекаются сегодня от такого божества. Не менее отвратителен для наших современников и миф об Исходе из Египта, в котором Бог подарил свободу Моисею и детям Израилевым. История, конечно, общеизвестная: фараон не желает отпускать израильтян из плена, и, чтобы вынудить его к этому, Бог насылает на народ египетский десять кошмарных бедствий: воды Нила превращаются в кровь, страна кишит жабами и саранчой, а затем погружается в непроглядную тьму. Самую страшную кару Бог припасает напоследок: посланный им Ангел Смерти убивает всех перворожденных сынов в Египте, минуя дома рабов-евреев. Фараон вынужден освободить израильтян, но тут же бросает по их следам войско. Евреев окружают у берегов Чермного моря, но Бог вновь спасает Свой народ: раздвигает воды и создает сухопутный проход. Когда же вслед за евреями на обнажившееся дно моря ступают египтяне, Бог смыкает водные стены, и фараон со всем своим войском гибнет.
Этот Бог – лютый, предвзятый и кровожадный бог войны, которого позже назовут Яхве Саваоф, «бог воинств». Он напоминает неистового партизана, питающего добрые чувства только к «своим»; это просто узкоплеменной божок. Если бы Яхве оставался таким и дальше, то чем скорее о нем позабыли бы, тем лучше было бы для всех. Миф о Чермном море – в том виде, в каком он описан в Библии, – не следует, очевидно, считать буквальной хроникой событий, однако древним жителям Ближнего Востока, привыкшим к тому, что боги могут разделять моря, его смысл был совершенно ясен. Тем не менее, в отличие от мифов о Мардуке или Ваале, повествование утверждает, что Яхве и правда разделил море – настоящее море в обычном мире и в конкретную историческую эпоху. И дело тут не в тяге к реалистичности. В истории Исхода израильтян, в отличие от нас, заботила вовсе не историческая достоверность. Им хотелось подчеркнуть значимость изначального события, каким бы оно ни было. Некоторые современные ученые полагают, что повесть об Исходе – мифическое иносказание о ряде восстаний ханаанских крестьян против власти Египта и его союзников[18]. В те времена бунты вспыхивали крайне редко и, без сомнений, оставляли неизгладимый след в памяти людей. Вполне возможно, что основой мифа действительно стало торжество угнетенных масс, поднявшихся против могущественных властей.
Мы еще увидим, что Яхве не остался суровым и жестоким богом «Исхода», несмотря на то что во всех трех монотеистических религиях этот миф сыграл важную роль. Как ни странно, со временем израильтяне изменили образ Бога до неузнаваемости, наполнив Его символическим смыслом трансцендентности и сострадания. Тем не менее кровавая история Исхода до сих пор внушает опасные концепции божественного и вдохновляет на мстительное богословие. В VII в. до н. э. автор «Второзакония» (D) обратился к этому давнему мифу, чтобы обосновать устрашающую теологию избранности, которая впоследствии не раз играла роковую роль в истории всех трех вероисповеданий. Представлениями о Боге, как и всякой человеческой идеей, можно пользоваться и злоупотреблять. Миф «Второзакония» о богоизбранном народе и особом благоволении Бога возрождал в иудаизме, христианстве и мусульманстве узконаправленную, замкнутую теологию во все эпохи – вплоть до наших дней, когда, к несчастью, так широко распространился исламский фундаментализм. Однако в толковании исхода из Египта автору «Второзакония» удалось также сберечь очень важную и полезную для единобожия черту – образ Бога, который принимает сторону слабых и угнетенных. В 26-й главе представлено, вероятно, самое древнее толкование мифа об Исходе, составленное раньше, чем были записаны повествования J и Е. Израильтянам предписывается относить первые плоды урожая священникам Яхве и произносить при этом такие слова:
…Отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный.
Но Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжелые работы;
И возопили мы к Господу [Яхве], Богу отцов наших, и услышал Господь [Яхве] вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше;
И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами.
И привел нас на место сие [в Ханаан], и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед.
Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи [Яхве], дал мне…[19]
Бог, который, возможно, поднял народ на первое в истории удачное крестьянское восстание, – Бог революций. Всем трем религиям он внушил идеалы общественной справедливости, пусть даже иудеи, христиане и мусульмане нередко их нарушали и превращали своего бога в хранителя status quo.
Израильтяне называли Яхве «Богом наших отцов», и все же возникает впечатление, что это совсем не Эль-Илу, ханаанский верховный бог, которому поклонялись патриархи. Не исключено, что, прежде чем стать Богом Израилевым, он был божеством какого-то другого народа. Во время одного из обращений к Моисею Яхве довольно пространно втолковывает, что действительно является Богом Авраама, хотя первоначально Его называли Эль-Шаддай. Такая настойчивость может указывать на отголоски давних споров о том, кем же был Бог Моисея. Высказывалось предположение, что изначально имя Яхве носил бог-воин, владыка вулканов, и поклонялись ему в земле Мадиамской (нынешняя Иордания)[20]. Мы уже вряд ли узнаем, где израильтяне познакомились с Яхве, если он действительно был совершенно новым богом. Сегодня этот вопрос может представляться важным, но библейских авторов он мало волновал. В языческой древности боги сплошь и рядом возникали ниоткуда и сливались друг с другом, а в божествах одной местности легко можно было узнать богов других народов. Несомненно одно: откуда бы ни пришел Яхве, события Исхода поставили его в исключительное положение Бога Израилева, а Моисею удалось убедить израильтян, что это все тот же Эль, бог Авраама, Исаака и Иакова.
Так называемую «мадианитянскую теорию» – гипотезу о том, что Яхве был изначально божеством земли Мадиамской, – сегодня почти не признают, но именно там Моисей впервые увидел Яхве. Вспомним, что Моисею пришлось бежать из Египта, так как он убил хозяина, скверно обращавшегося с рабом-израильтянином. Моисей укрылся среди мадианитян и там нашел себе жену. Однажды, когда он пас овец своего тестя, глазам его предстало невиданное зрелище: куст пылал огнем, но не сгорал. Удивленный Моисей подошел ближе, и тогда Яхве позвал его по имени, а Моисей воскликнул: «Вот я!» (Хинени!) – так отвечали все израильские пророки, когда Бог требовал их безраздельного внимания и верности.
И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога[21].
Несмотря на первое заверение – в том, что Яхве и есть Бог Авраама, – это божество, очевидно, совсем не похоже на того, кто некогда сидел в шатре Авраама и по-дружески разделил с ним трапезу. Теперь этот бог внушает трепет и неукоснительно держит дистанцию. Когда Моисей просит его назвать свое имя – так сказать, представиться, – Яхве отвечает игрой слов, загадочность которых уже долгие века терзает богословов. Вместо того, чтобы просто назваться, Он говорит: «Эхие ашер эхие» («Я есмь сущий»)[22].
Что имелось в виду? Очевидно, Бог не подразумевал, что являет собой Самосущее Бытие, как решили позже философы. В те времена евреи еще не копались в метафизических глубинах, куда погрузились две тысячи лет спустя. Эти слова должны были нести куда более простой смысл. Эхие ашер эхие – древнееврейская идиома, содержащая нарочитую расплывчатость. Когда в Библии встречаются выражения вроде «шли, куда шли», это означает просто: «кто его знает, куда они шли». Таким образом, Бог отвечает Моисею: «Не твое дело!» или «Тебя не касается!» Он пресекает любые попытки обсуждать естество Бога и уж тем более влиять на Него, к чему стремились порой язычники, когда произносили имена своих божеств. Яхве не подчиняется ничему и никому: «Я буду тем, чем Я буду». Он будет именно тем, кем Сам решит, – и ни за что не ручается. Обещает Он только одно – деятельно участвовать в истории Своего народа. Эти рассуждения решительно подтверждаются мифом об Исходе: Яхве удается внушать евреям надежды на будущее даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.
За новое ощущение силы пришлось заплатить соответствующую цену. Древнейший Бог Неба был слишком далек от земных забот; появившиеся позднее Ваал, Мардук и Богиня-Мать чуть приблизились к людям, но Яхве снова разделил человеческое и божественное непреодолимой пропастью. Это наглядно показывает история о встрече на Синае. Когда избранный народ пришел к горе, ему велено было вымыть одежды и держаться поодаль. Моисею пришлось предупредить израильтян: «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Люди толпились в стороне от горы, на вершину которой в огне и дыму сошел Яхве.
На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный;
и вострепетал весь народ, бывший в стане.
И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.
Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь [Яхве] сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась[23].
Моисей поднялся на вершину один и получил там скрижали Завета. Закон дали свыше – в противовес языческим представлениям о том, что закон можно разглядеть во всем, что существует и зиждется на принципах порядка, согласия и справедливости. Исторический бог может оказывать особое внимание повседневному миру – основной арене Его деятельности; оборотной же стороной является возможность Его глубокого отчуждения от этого мира.
В окончательном тексте «Исхода», сложившемся к V в. до н. э., сказано, что на горе Синайской Бог заключил с Моисеем союз, или завет (предполагается, что случилось это около 1200 г. до н. э.). Этот вопрос тоже вызывал немало споров среди ученых; кое-кто считал, что завет стал важен для Израиля лишь к VII в. до н. э. Так или иначе, идея союза в очередной раз подсказывает, что тогда израильтяне еще не исповедовали единобожие, ведь подобный договор имел бы смысл только в политеистической среде. Израильтяне не думали, что Яхве, Бог Синайский, – единственный на свете бог. Они просто дали обет, что не будут поклоняться никому, кроме Него, а других божеств отвергнут. В Пятикнижии вообще трудно отыскать хотя бы одно монотеистическое утверждение. Существование иных божеств открыто признается даже в Десяти Заповедях: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»[24]. Поклонение одному богу – шаг в ту пору беспримерный. Фараон Эхнатон попробовал было однажды поклоняться одному лишь богу солнца и забыть о прочих традиционных египетских божествах, но его преемник первым делом вернулся к прежней политике. Отказываться от потенциального источника мана – откровенное безрассудство, и последующая история израильтян показывает, что им не очень-то хотелось расставаться с другими культами. Яхве доказал свою влиятельность, когда дело касалось войны, но не был богом плодородия. Обосновавшись в Ханаане, израильтяне инстинктивно обратились к культу местного «землевладельца» Ваала, который с незапамятной поры властвовал над урожаем. Пророки время от времени призывали израильтян хранить верность завету, но большинство по старинке поклонялось Ваалу, Асират и Анат. Даже Библия рассказывает о том, что, вопреки обету, народ Моисеев вскоре обратился к давнему ханаанскому язычеству. Люди воздвигли золотого тельца, традиционный знак Илу, и отправляли перед идолом древние обряды. Рассказ об этом непосредственно примыкает к описанию устрашающего откровения на горе Синайской; возможно, такое соседство было выбрано последними редакторами Пятикнижия намеренно – чтобы ярче показать горечь раскола в Израиле. Моисей и пророки проповедовали возвышенную религию Яхве, но большая часть народа хранила верность давним обрядам с их целостным ощущением единства богов, природы и людей.
Тем не менее после Исхода израильтяне все же поклялись, что Яхве будет их единственным богом, и пророки неустанно напоминали о заключенном соглашении. Люди дали зарок поклоняться одному только Яхве, своему элохим, а Он взамен пообещал, что они станут Его избранным народом и получат беспримерную по мощи опеку. Яхве предупреждал также, что безжалостно уничтожит их, если они нарушат союз – но, несмотря на такую угрозу, израильтяне завет приняли. В «Книге Иисуса Навина» есть фрагмент, который, вполне возможно, заимствован из более раннего текста, посвященного союзу Израиля с его Богом. Завет означал тогда официальное соглашение, часто применявшееся в ближневосточной политике для скрепления обязательств обеих сторон. У него была четко установленная форма: текст договора начинался с представления более могущественного царя и истории отношений между сторонами вплоть до момента соглашения. Затем перечислялись условия, обязательства и наказания за нарушения договора. Важнейшее место в идее завета занимало требование неукоснительной верности. В договоре между хеттским царем Мурсилисом II и подвластным ему правителем Дуппи Ташет (XIV в. до н. э.) первый требует: «Не обращайся ни к кому другому. Отцы твои платили дань Египту, а ты того не делай. […] И будь другом моим друзьям и врагом моим врагам». Библия повествует, что когда израильтяне пришли в Ханаан и воссоединились там с сородичами, все потомки Авраамовы заключили завет с Яхве. Церемонию проводил преемник Моисея, Иисус Навин, от лица Самого Господа. Это соглашение подчиняется общепринятой схеме: сперва представляют Яхве, затем напоминают о Его встречах с Авраамом, Исааком и Иаковом и событиях Исхода. В заключение Иисус Навин перечисляет условия договора и требует от собравшегося народа Израилева официальной клятвы:
Итак, бойтесь Господа [Яхве] и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою [Иордан] и в Египте, а служите Господу [Яхве].
Если же не угодно вам служить Господу [Яхве], то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете…[25]
У народа был выбор между Яхве и традиционными ханаанскими богами. Израильтяне не колебались ни минуты. Других таких богов, как Яхве, просто не было. Ни одно божество не помогало своим верующим столь деятельно. Могущественные вмешательства в дела человеческие не оставляли и тени сомнения: Яхве – тот, кого следует выбрать элохим, и израильтяне будут поклоняться ему одному, а от остальных богов отрекутся. Иисус Навин предупредил, что Яхве чрезвычайно ревнив: вздумай израильтяне нарушить завет, Он неминуемо уничтожит их. Все же решение народа было твердым – их элохим будет только Яхве. «Итак отвергните чужих богов, которые у вас, – воскликнул Иисус, – и обратите сердце свое к Господу [Яхве], Богу Израилеву»[26].
Библия показывает, что верность своему слову народ хранил не особенно твердо. О завете вспоминали во время войн, когда требовалась надежная защита Яхве, но в мирные времена по-прежнему поклонялись Ваалу, Анат и Асират. Хотя культ Яхве принципиально отличался от остальных своим уклоном в историчность, он нередко проявлялся в категориях обычного язычества. Когда царь Соломон воздвиг Храм Яхве в Иерусалиме – городе, отобранном его отцом, Давидом, у иевусеев, – по своему устройству это святилище мало чем отличалось от храмов в честь ханаанских божеств. Состояло оно из трех квадратных помещений, а сердцем храма была небольшая кубическая комната под названием «святая святых», где хранился Ковчег Завета – переносной жертвенник, с которым израильтяне годами скитались по пустыне. В храме установили гигантскую бронзовую купель – символ Йам, первобытного моря из ханаанских мифов, – и две десятиметровые колонны в честь богини плодородия Асират. В Вефиле, Силоме, Хевроне, Вифлееме и Дане израильтяне поклонялись Яхве в капищах, где ханаанеи отправляли прежде языческие обряды. Иерусалимский храм, однако, занял вскоре особое положение, хотя в нем, как мы убедимся, проводились и на редкость неортодоксальные мероприятия. В Храме начали видеть подобие небесного дворца Яхве. У израильтян появился свой, осенний праздник Нового года: в День Очищения проходил обряд с козлом отпущения, а пять дней спустя, в День Труб, помечавший начало земледельческого года, славили урожай. Предполагается, что некоторые псалмы посвящены сошествию Яхве на храмовый престол в День Труб – это событие, как и вступление Мардука на трон зиккурата, воспроизводило изначальное обуздание хаоса[27]. Не отличался особой строгостью и сам царь Соломон: многие его жены-язычницы поклонялись своим божествам, и к верованиям соседей он относился вполне дружелюбно.
Угроза полного растворения культа Яхве в народном язычестве существовала всегда, но особенно обострилась во второй половине девятого века. В 869 г. до н. э. владыкой Северного Царства стал Ахав. Его жена Иезавель, дочь царя Тирского и Сидонского (ныне Ливан), была ревностной язычницей и решила обратить израильтян в религию Ваала и Асират. Под ее покровительством жрецы Ваала быстро достигли взаимопонимания с северянами, в чьих землях, покоренных некогда царем Давидом, к Яхве относились с прохладцей. Сам Ахав оставался верен Яхве, но прозелитизму Иезавели не препятствовал. Однако к концу его правления, когда страну терзала ужасная засуха, объявился пророк по имени Илия (букв.: «Яхве – Бог мой»). Он странствовал во власянице и кожаном опоясании на чреслах и грозил всем карой за то, что предали Яхве. Илия позвал народ и самого царя Ахава на гору Кармил, чтобы сопоставить силы Яхве и Ваала. Там, в присутствии 450 пророков Ваала, он обратился к людям со страстной речью: доколе будут они метаться меж двух богов? Затем, по его знаку, на два жертвенника уложили тельцов – одного для Илии, другого для пророков Ваала. Соперники должны были воззвать к своим богам, и все сами увидели бы, чей бог пошлет с небес огонь и поглотит жертву. «Хорошо!» – откликнулся народ. Пророки Ваала все утро выкрикивали имя своего бога, скакали вокруг жертвенника, вопили и кололи себя ножами и копьями, «но не было ни голоса, ни ответа». «Кричите громким голосом, – глумился над ними Илия, – это же бог: может быть, он задумался, или занят чем-нибудь, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». Но ничего не происходило: по-прежнему «не было ни голоса, ни ответа, ни слуха».
Настал черед Илии. Народ столпился у жертвенника Яхве, а пророк сделал вокруг ров и наполнил его водой, чтобы дрова мокли и им труднее было разгореться. Но стоило Илии вымолвить имя Яхве, как с небес, разумеется, низошел огонь и пожрал всесожжение, жертвенник и даже воду во рве. Народ пал ниц. «Господь [Яхве] есть Бог! – кричали люди. – Господь есть Бог!» Илия оказался отнюдь не великодушным победителем. «Схватите пророков Бааловых, – велел он, – чтобы ни один из них не укрылся», а после сам отвел жрецов в ближайшую долину и всех заколол[28]. Язычество обычно не стремится навязывать себя другим народам (в этом смысле Иезавель – любопытное исключение), так как в пантеоне всегда найдется место для нового божества. Древний мифический рассказ о деяниях Илии показывает, что иеговизм с самого начала жестоко подавлял и категорически отрицал чужую веру, и эту его черту мы подробнее обсудим в следующей главе. После резни Илия взошел на вершину горы Кармил и, опустив голову меж колен, сел молиться, время от времени посылая слугу обозреть горизонт. Наконец слуга сообщил, что заметил над морем крошечное облачко «величиною в ладонь человеческую», а Илия велел ему ступать к царю Ахаву и сказать, чтобы тот поспешил домой, пока не застал его ливень. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь» – а ликующий Илия подпоясал чресла и бежал впереди колесницы Ахава. Наслав дождь, Яхве посягнул на власть Ваала, бога бурь, и доказал тем самым, что в делах земледелия разбирается не меньше, чем в военных кампаниях.
Опасаясь мести за избиение жрецов, Илия бежал на Синайский полуостров и укрылся на горе, где Бог явил себя когда-то Моисею. Там произошло очередное богоявление, в котором выразилась новая духовность иеговизма. Илии велено было стать у скалистой расщелины, чтобы оградить себя от опасностей, сопутствующих откровению Бога:
И вот, Господь [Яхве] пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь.
После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра.
Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею…[29]
В отличие от языческих божеств, Яхве не отождествляется с какой-либо природной стихией и пребывает в совершенно иных сферах. Он таится в едва ощутимом трепете нежного дуновения, парадоксе наделенного голосом безмолвия.
История Илии – последнее мифическое повествование о прошлом в древнееврейских текстах. Тогда над всей ойкуменой витало предчувствие перемен. Период VIII–II вв. до н. э. принято называть «Осевым временем», так как в эти шесть столетий во всех главных регионах цивилизованного мира народы создавали новые, переломные и прогрессивные идеологии. Новые религиозные системы отражали перемены в экономическом и общественном укладе. Причины понятны нам не до конца, но все крупные цивилизации развивались параллельными путями, даже в тех случаях, когда между ними не было торговых связей (например, Китай и Европа). Подъем благосостояния вел к усилению купеческого сословия. Средоточием власти становились не царские дворцы и храмы, а рыночные площади. Обогащение способствовало интеллектуальному и культурному расцвету, а также росту индивидуального сознания. Неравенство и эксплуатация обострялись по мере того, как ускорялись перемены в городах, и люди постепенно начали сознавать, что их поступки оказывают серьезное влияние на судьбу грядущих поколений. В каждом регионе возникла своя идеология, призванная разрешать эти сложности: в Китае – даосизм и конфуцианство, в Индии – индуизм и буддизм, в Европе – философский рационализм. Ближний Восток не нашел единого решения, но зороастрийцы Ирана и израильские пророки разработали различные варианты единобожия. Как бы странно это ни звучало, идея «бога», как и все прочие религиозные прозрения той эпохи, развивалась по законам рыночной экономики в духе напористого капитализма.
Прежде чем перейти к теме следующей главы и обсудить обновленную религию Яхве, проведем краткий обзор двух новых направлений. Индийская религиозность развивалась сходными путями, но другие акценты в ее истории помогают лучше разобраться в характерных чертах и особых проблемах израильских представлений о Боге. Рационализм Платона и Аристотеля не менее важен, поскольку иудеи, христиане и мусульмане заимствовали у древних греков немало идей и приспособили их к собственным религиозным переживаниям – несмотря на то что греческий бог сильно отличался от их бога.
В XVII в. до н. э. из тех земель, где ныне расположен Иран, в долину Инда хлынули арии, быстро покорившие коренное население. Арии навязали местным жителям собственные религиозные представления, изложенные в сборнике гимнов под названием «Ригведа». В этих священных текстах перечислены сонмы божеств, которые определяют примерно те же ценности, что и ближневосточные боги, то есть наделяют силы природы властью, одушевленностью и личностью. Тем не менее в «Ригведе» уже заметны признаки понимания того, что за масками многочисленных богов может скрываться лицо одного-единственного высочайшего и божественного Абсолюта. Как и вавилоняне, арии хорошо сознавали, что их мифы – не достоверные рассказы о действительности, а иносказательные очертания загадки, которую сами боги не смогли бы точно описать словами. Пытаясь представить себе, как из первобытного хаоса появились боги и весь мир, арии пришли к выводу, что тайну бытия не в силах постичь никто, даже боги:
Откуда это творение появилось? То ли само себя создало, то ли – нет, Надзирающий над миром в высшем небе, — Только он знает это — Или не знает[30].Религия Вед не пыталась объяснить происхождение жизни и предложить точные ответы на философские вопросы. Она просто помогала людям мириться с чудесностью и кошмарностью бытия. Веды ставили вопросы чаще, чем давали ответы; их задача заключалась в том, чтобы поддерживать в душах людей состояние благоговейного изумления.
К VIII в. до н. э., когда на Ближнем Востоке уже составляли свои летописи J и Е, общественные и экономические условия жизни на Индийском полуострове настолько изменились, что давняя ведическая религия перестала им соответствовать. Идеи коренного населения, подавлявшиеся на протяжении многих веков после вторжения ариев, опять поднялись на поверхность и вызвали приступ религиозной жажды. Вновь возник интерес к идее кармы – представлению о том, что судьба человека целиком определяется его поступками, – и на богов перестали перекладывать вину за безответственное поведение людей. В многочисленных божествах постепенно начали видеть символы единой запредельной Реальности. Ведическая религия уделяла особое внимание жертвенным обрядам, но возродившаяся тяга к древнеиндийской практике йоги («единению» сил разума с помощью навыков сосредоточения) означала, что людей уже не устраивала религия, ориентированная на нечто внешнее, потустороннее. Жертвы и службы сами по себе теперь не удовлетворяли человека, он хотел разобраться в скрытом смысле этих обрядов (отметим, что сходную неудовлетворенность испытывали израильские пророки). Под богами перестали понимать сверхъестественных существ, обитающих где-то вдали от верующих. Люди задались целью найти истину в собственной душе.
В Индии боги утратили первостепенную значимость. Намного важнее стал религиозный учитель, которого теперь ценили превыше богов. Это великое духовное прозрение Индии раскрывало ценность самого человека и его желание распоряжаться своей судьбой. Новые религии – индуизм и буддизм, – не отрицали существования богов и не запрещали им поклоняться, так как любое принуждение и отрицание, согласно их доктринам, причиняло вред. Вместо того чтобы бороться с богами, индуисты и буддисты искали способ превзойти их, подняться еще выше. В VIII в. до н. э. мудрецы начали рассуждать на эти темы в трактатах под названиями араньяки и упанишады. Так были заложены основы философии веданты – «окончания Вед». Появлялись все новые упанишады, и к концу восьмого века их общее число приблизилось к двум сотням. Индуизму как религии невозможно дать общее определение, так как он избегает догматики и отрицает возможность единственно правильных толкований. Зато в упанишадах развито уникальное понимание Божественности, которая превосходит любых богов и сокрыта во всем сущем.
В ведической традиции верующие ощущали в ходе жертвенных обрядов священную силу, которую называли Брахманом. Считалось, что той же силой наделены члены касты жрецов (брахманов, или браминов). Поскольку в ритуальном жертвоприношении видели вселенную в миниатюре, понятие «Брахман» стало со временем означать вездесущую силу. Мир воспринимали как божественную деятельность, зарождающуюся в загадочном естестве Брахмана, сокровенного смысла всего сущего. Упанишады призывали воспитывать в душе постоянное ощущение присутствия Брахмана во всем вокруг. Это было проникновение за пределы буквального смысла слов, выявление скрытой природы всех вещей. Все, что ни случается, есть деятельность Брахмана, а подлинное прозрение – это способность видеть единство под поверхностью разнообразных явлений. В одних упанишадах Брахмана наделяли чертами характера, в других он оставался совершенно безличным. К Брахману нельзя обратиться на «Ты», его нельзя называть «Он»; Брахман – это нейтральное понятие, к которому неприменим ни мужской, ни женский род. Брахман не проявляет своей воли как властное божество, не обращается к людям, не открывается им. Он выше всего человеческого, он не откликается на мольбы и не карает за грехи. Нельзя говорить, что он нас «любит» или «ненавидит». Не нужно благодарить или восхвалять его за сотворение мира – это просто лишено смысла.
Подобная божественная сила оставалась бы совершенно чуждой человеку, если бы Брахман не пребывал в каждом, не был един с его душой. Философия йоги помогает людям постичь свой внутренний мир. Позднее мы увидим, что особые позы тела, принципы дыхания и питания и приемы умственного сосредоточения независимо развивались и в других культурах. Более того, они, судя по всему, вызывают состояния озарения и просветленности; эти состояния истолковывались по-разному, но считались вполне естественными. Упанишады утверждают, что это переживание нового измерения собственной души – проявление все той же священной силы, на которой держится мир. Вечному началу в душе человека дали название «Атман»; это и была новая разновидность целостного древнего мировоззрения язычников, очередное наименование Единой Божественной Жизни, которая в равной мере наполняет всех и каждого. «Чхандогья-упанишада» поясняет эту идею притчей о соли. Юноша по имени Шветакету двенадцать лет изучал Веды и был довольно высокого мнения о своем уме. Но его отец, Уддалака, поставил его в тупик вопросом, на который сын не смог ответить; после этого отец преподал ему прежде неведомую основополагающую истину. Уддалака попросил сына бросить в воду несколько крупинок соли и вернуться утром. На следующий день отец велел извлечь соль из сосуда, но Шветакету не смог этого сделать, так как крупинки растворились без следа. Уддалака задал ему еще несколько вопросов:
[Отец сказал: ] «Попробуй-ка эту [воду] сверху – какая она?»
«Соленая».
«Попробуй со дна – какая она?»
«Соленая».
«Попробуй с середины – какая она?»
«Соленая».
«Оставь ее и приблизься ко мне».
И тот так и сделал и сказал: «Она все время одинакова». [Отец] сказал ему: «Поистине, дорогой, ты не воспринимаешь здесь Сущего, [но] здесь оно и есть. И эта тонкая [сущность] – основа всего существующего, То – действительное, То – Атман. Ты – одно с Тем, Шветакету!»[31]
Так и Брахман наполняет весь мир, хотя и незрим. Он извечно пребывает во всех существах; Брахман в человеческой душе – это Атман в каждом из нас.
Атман помешал Богу превратиться в идола, во внешнюю («где-то там») Реальность, куда люди переносят свои страхи и желания. Поэтому в индуизме Бог – не еще одно Сущее, дополняющее картину известного нам мира, и, следовательно, Он не тождествен миру. Постичь эту тайну умом невозможно. Она «открывается» нам только в переживаниях (анубхара), которые не выразить словами и мыслями. Брахман – это то, «что невыразимо речью, чем выражается речь […] Что не мыслится разумом, чем, [как] говорят, мыслим разум…»[32] Как заговорить с Богом, который во всем? Как думать о Нем, если мысль тут же низводит Его до уровня вещи или идеи? Это – Реальность, которую можно узреть только в блаженстве подлинного восприятия, когда отброшено все личностное.
Кем [Брахман] не понят, тем понят, кем понят, тот не знает [его]. [Он] не распознан распознавшими, распознан нераспознавшими. Он понят, когда познан благодаря пробуждению, ибо [тем самым человек] достигает бессмертия[33].
Как и боги, разум не отрицается, а преодолевается: нужно подняться выше ума. Восприятие Брахмана-Атмана допускает не больше рационального объяснения, чем музыка или стихи. Для того чтобы создать произведение искусства или оценить его, разумность необходима, но возникающие чувства выходят далеко за грань чистой логики и рассудка. Эта непередаваемость опыта неизменно присутствует во всей истории Бога.
В Индии образцом возвышения над собственной личностью были йоги; ради просветления они уходили от семьи и отрекались от всех общественных обязанностей, словно переносились в иную сферу бытия. Предположительно в 538 г. до н. э. юноша по имени Сиддхартха Гаутама тоже оставил красавицу жену, сына и роскошный дом в Капилавашту (двести километров к северу от Варанаси) и стал нищенствующим аскетом. Сиддхартху потрясло зрелище человеческих страданий, и он решил постичь их тайну, чтобы положить конец мукам существования, окружающим нас со всех сторон. В течение шести лет он сидел у ног многих гуру и предавался суровому умерщвлению плоти, но ни на шаг не приблизился к разгадке. Мудрые доктрины ничего не давали, аскеза лишь доводила до отчаяния. Просветление пришло только после того, как он полностью отбросил подобные средства и однажды ночью погрузился в транс. В миг просветления весь космос возликовал, земля дрогнула, с неба посыпались цветы, подул ароматный ветер, исполнились радости боги многочисленных небес (в этом случае, как и всегда в языческом мировосприятии, боги, природа и люди по-прежнему связаны взаимным сочувствием). Родилась новая надежда на избавление от страданий и достижение нирваны, конца мучений. Гаутама стал Буддой, Просветленным. Тут же демон-искуситель Мара коварно предложил Будде вечно наслаждаться обретенным блаженством, ведь рассказывать о нем тщетно, все равно никто не поверит. Но два божества традиционного пантеона – Махабрахма и Шакра, владыка дэвов, – явились к Просветленному и попросили его поведать миру о найденном пути. Будда согласился и на протяжении последующих сорока пяти лет обошел всю Индию, проповедуя свою благую весть: в мире страданий есть единственное неизменное начало – Дхарма, истина о правильной жизни, и только она может принести освобождение от мук.
К богу все это не имело ни малейшего отношения. Будда вовсе не отрицал существования богов, ведь они были неотъемлемой частью его культуры; но он не верил, что они могут принести человечеству ощутимую пользу. Боги тоже пребывают в царстве мук и непостоянства. Они никак не помогли Будде достичь просветления; они, как и все живое, погружены в круговорот перерождений и рано или поздно должны исчезнуть. Однако в переломные моменты – например, когда Будда решал, стоит ли проповедовать свое учение, – он представлял, что боги влияют на него, и допускал их действенную роль. Поэтому Будда не отвергал богов, но полагал, что Высшая Реальность нирваны превосходит их. Буддисты не считают медитативное блаженство следствием соприкосновения с какими-то потусторонними сущностями. Такие состояния для человека естественны, и в них может погрузиться всякий, кто ведет правильный образ жизни и изучает приемы йоги. Будда призывал учеников искать спасение своими силами, не полагаясь на богов.
После просветления Будда пришел в Варанаси (Бенарес) и, найдя там первых последователей, изложил основы своего учения, опиравшегося на одну важнейшую истину: вся жизнь есть страдание, духкха. В ней нет ничего, кроме мук; жизнь совершенно ужасна. Всё рождается и гибнет в бессмысленном круговороте перемен; безусловных ценностей не бывает. Религиозность начинается с ощущения неправильности, несовершенства. В языческой древности это чувство привело к зарождению мифа о божественном мире архетипов – совершенных прообразов всего, что есть на земле; тот мир якобы может уделять часть своей силы людям. Будда учил, что освободиться от духкхи можно; для этого нужно вести жизнь, исполненную сострадания ко всему живущему, вести себя мягко, доброжелательно и чутко, воздерживаясь от всего, что отравляет, дурманит или затуманивает разум. Просветленный не утверждал, будто сам придумал это учение. Он настаивал на том, что открыл его: «Я увидел древний Путь, старинную Дорогу, проторенную буддами минувших эпох»[34]. Как и законы язычества, принципы буддизма тесно связаны с устройством мироздания, с основными свойствами самой жизни. Учение объективно не потому, что его можно логически обосновать, а потому, что всякий, кто перейдет к предлагаемому образу жизни, сам поймет его истинность. Главной приметой состоятельной религии всегда была действенность, а не философская или историческая достоверность. За многие столетия буддисты разных уголков мира на личном опыте убедились, что их подход к жизни действительно приносит ощущение высшего смысла.
Карма загнала людей в замкнутый круг перерождений, мучительное колесо повторяющихся жизней. Но если человеку удастся отбросить свои эгоистические привычки, изменится и его судьба. Будда сравнивал круговорот перерождений с огнем в лампе, от которого зажигают всё новые светильники – и так до тех пор, пока пламя не угаснет. Если в миг смерти в человеке еще тлеют ошибочные представления, гибель просто становится началом горения очередной лампы. Но если затушить огонь, круг страданий разомкнётся и человек достигнет нирваны. В буквальном переводе «нирвана» и означает «угасание». Но это не просто отсутствие мучений; в буддизме нирвана означает то же, что в других религиях – бог. Говоря об этой Высшей Реальности, буддисты часто пользуются такими же словами и символами, какие характерны для традиционной веры в бога:
Сказано, что нирвана неизменна, вечна, неуничтожима, недвижна, безвозрастна и бессмертна; она никогда не возникала и не исчезала. Это сила, блаженство и счастье, надежное прибежище и неприступное укрытие. Это подлинная Истина и высшая Реальность. Это благо, высочайшая цель, одно и единственное завершение нашей жизни – извечный, сокровенный и непостижимый Покой[35].
Некоторые буддисты поспорят с такими сравнениями: по их мнению, идея «бога» слишком тесна для выражения принципа запредельной Реальности. В обычных религиях «бог» чаще всего означает сущность, мало чем отличающуюся от человека, а Будда, как и мудрые авторы упанишад, настаивал на том, что нирвану невозможно определять или оценивать в мыслимых категориях, поскольку она не имеет ничего общего с условиями человеческой жизни. Достичь нирваны – отнюдь не «попасть в рай», как обычно представляется христианам. Будда неизменно отказывался отвечать на вопросы о нирване и прочих основополагающих понятиях, так как любые вопросы «неуместны» и «неправильны». Нирване нельзя дать определение, ибо наш язык и наше мышление предназначены для мира ощущений и постоянных перемен. Переживание на своем опыте – вот единственное надежное «доказательство». Ученики Будды не сомневались в существовании нирваны именно потому, что правильный образ жизни позволял им время от времени переживать ее.
О монахи, есть оно – нерожденное, негибнущее, несотворенное, несоставное. Если бы, о монахи, не было такого нерожденного, негибнущего, несотворенного, несоставного, не было бы и спасения от рожденного, гибнущего, сотворенного и составного. Но поскольку есть нерожденное, негибнущее, несотворенное и несоставное, есть и спасение от рожденного, гибнущего, сотворенного и составного[36].
Его монахам не следовало рассуждать о природе нирваны. Будда мог помочь им только одним: дать лодку для переправы на «тот берег». Когда Будду спросили, продолжает ли жить после смерти тот, кто достиг нирваны, он ответил, что это «неправильный» вопрос – все равно что спросить, в какую сторону ушло исчезнувшее пламя. Утверждать, что Будда существует в нирване, так же ошибочно, как и сказать, что он вообще не существовал: слово «существовать» не имеет отношения ни к одному из состояний, доступных нашему пониманию. Любопытно, что спустя много столетий иудеи, христиане и мусульмане дали такой же ответ на вопрос о «существовании» Бога. Будда стремился показать, что наш язык не в силах описать действительность, выходящую за грань умопостигаемого. Разум он, конечно, не отвергал и, напротив, настаивал на важности ясного, точного мышления и правильного выбора слов. Однако в конечном итоге Будда пришел к тому, что личное богоразумение, или верования, – вроде обрядов, которые он тоже соблюдал, – сами по себе ничего не значат. Они могут быть занятными, но в конечном счете важно не это, а только правильный образ жизни: стоит перейти к нему – и сам убедишься, что Дхарма верна, хотя эту истину не выразить логическими понятиями.
А вот древние греки страстно увлекались именно логикой и рассуждениями. Платон (ок. 428–348 гг. до н. э.) всю жизнь занимался проблемами эпистемологии и природы мудрости. Ранние его сочинения посвящены защите Сократа, чьи каверзные вопросы вынуждали людей яснее выражать свои мысли (в 399 г. до н. э. Сократ был приговорен к смерти по обвинению в нечестивости и развращении молодежи). Платон шел путем, во многом схожим с историей индийского народа: он разочаровался в древних празднествах и религиозных мифах, которые казались ему бессмысленными и унизительными. Кроме того, на взгляды Платона повлияли труды философа VI в. до н. э. Пифагора, который вполне мог быть знаком с индийскими идеями, принесенными в Грецию через Персию и Египет. Пифагор считал, что душа – это падшее, запятнанное божество, заточенное в теле, как в гробнице, и обреченное на непрестанный круговорот перерождений. Он первым отметил общечеловеческое ощущение чуждости этому миру, который далеко не всегда кажется нам родной стихией. Пифагор учил, что душу можно освободить ритуальным очищением, после чего она становится способной достичь гармонии с законами вселенной. Платон тоже верил, что за гранью видимого мира кроется неизменная божественная реальность, а душа – это ее частица, падший бог, покинувший свой дом и заключенный в темницу тела. Тем не менее душа может вернуть себе божественное положение, оттачивая рассудок. В знаменитой притче о пещере Платон описал тьму неведения прозябающего на земле человека, который видит лишь тени, отбрасываемые вечными реалиями на стену пещеры. Но, постепенно приучая ум к божественному свету, каждый способен выбраться из мрака пещеры и достичь просветления и свободы.
Не исключено, что к концу жизни Платон отказался от собственного учения о вечных идеях и формах; однако они стали ключевыми понятиями для многих монотеистов, стремившихся выразить свои представления о Боге. Платоновские идеи – это устойчивые, неизменные реалии, доступные умозрительному постижению. Идеальные формы намного целостнее, долговечнее и совершеннее любых изменчивых и подвижных материальных явлений, воспринимаемых органами чувств. Явления нашего мира – просто отголоски вечных форм божественного царства, их грубые копии. Высшие идеи соответствуют всем нашим отвлеченным понятиям – таким, например, как Любовь, Справедливость или Красота, – но главной среди совершенных форм является идея Блага. Платон придал древнему архетипическому мифу философский облик: его «вечные идеи» можно считать рациональной версией мифического божественного мира, чьей тенью является мир обычный. Платон не рассуждал о природе Бога и ограничился только божественной сферой форм, хотя порой возникает впечатление, что идеальная Красота или Благо означают у него Высшую Реальность. Платон был убежден, что идеальный мир устойчив и постоянен. Подвижность и переменчивость древние греки считали приметами низшей действительности, ведь истинные сущности всегда остаются одинаковыми – неизменность и есть их отличительная черта. Поэтому образцом совершенства является круговое движение: каждая точка, принимающая в нем участие, неизменно возвращается к исходному своему положению; так же обращаются и небесные сферы, подражая совершенству божественного мира. Предельно статичная платоновская картина Божественного оказала огромное влияние на воззрения иудеев, христиан и мусульман, несмотря на то что имела мало общего с библейским Богом – неутомимо деятельным новатором, который, как свидетельствует Библия, вполне способен менять Свои намерения (Он сожалеет, например, что создал человека, и насылает на род людской всемирный потоп).
В учении Платона была мистическая сторона, особенно привлекательная для монотеистов. Его божественные формы – не «потусторонние» реалии, их можно найти в собственной душе. В ярком диалоге «Пир» Платон показывает, как любовь к прекрасному телу можно возвысить и превратить в блаженное созерцание – теорию (theoria) идеальной Красоты. Устами Диотимы, наставницы Сократа, автор поясняет, что высшая Красота – в отличие от всего, что можно увидеть в нашем мире, – неповторима, вечна и абсолютна:
[Прекрасное – это]…нечто, во-первых, вечное, не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное[37].
Иными словами, такие идеи, как Прекрасное, имеют много общего с тем, что верующие называют «богом». Однако, несмотря на его возвышенность, идеальное следует искать в человеческом сознании. Сейчас мышление считают волевой деятельностью, но Платон видел в нем нечто такое, что с разумом просто случается: объектами мышления были для него реалии, самостоятельно действующие в рассудке созерцающего их человека. Как и Сократ, Платон воспринимал мышление как процесс воспоминания, воскрешения в памяти чего-то уже известного, но позабытого. Поскольку люди – падшие боги, в их душах по-прежнему сберегается память о формах божественного мира, и этих форм можно «коснуться» рассудком, который представляет собой не просто рациональную деятельность мозга, а способность интуитивно постигать таящуюся в нас вечную реальность. Эти представления существенно повлияли на мистиков всех трех религий исторического единобожия.
Платон считал, что вселенная устроена рационально, и тем самым создал очередной миф, воображаемую концепцию мироздания. Аристотель (384–322 гг. до н. э.) сделал еще один шаг в этом направлении. Он первым оценил значение логических рассуждений как основы любой науки и был убежден, что этим путем можно постичь всю вселенную. Помимо теоретического познания истины, которому Аристотель посвятил четырнадцать трактатов под общим заголовком «Метафизика» (название было придумано редактором, разместившим эти сочинения «после физики», meta ta physika), он изучал также теоретическую физику и эмпирическую биологию. При всем этом Аристотелю свойственна была удивительная скромность. Он утверждал, в частности, что никто не в состоянии познать истину самостоятельно, но каждый вносит свою лепту в общечеловеческий свод знаний. К работам Платона он относился неоднозначно – например, яростно противился платоновскому трансцендентному видению форм и отрицал тезис об их вечном и независимом существовании. Аристотель придерживался того мнения, что формы обладают реальностью лишь постольку, поскольку воплощены в конкретных материальных объектах обычного нашего мира.
Несмотря на пристрастие к научным фактам и «земное» мировоззрение, Аристотель тонко разбирался в природе и значимости религии и мифологии. Он подчеркивал, что людям, которые посвящены в те или иные религиозные таинства, нужно не изучать факты, а «испытывать определенные чувства и вводить себя в определенное расположение духа»[38]. Эта мысль легла в основу его знаменитой литературной теории о том, что трагическое вызывает очищение – катарсис (katharsis) – чувствами ужаса и жалости: человек испытывает подъем, завершающийся чувством возрождения. Древнегреческие трагедии, которые изначально были частью религиозных праздников, далеко не всегда представляли собой достоверный рассказ об исторических фактах; главным в них было откровение глубоких истин. Летописная история действительно более обыденна, чем поэзия и мифы: «…первый [историк] говорит о действительно случившемся, а второй [поэт] – о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном»[39]. Исторического Ахилла или Эдипа могло вовсе не быть, однако вопрос о подлинности их биографий не имеет никакого значения, так как Гомеровы и Софокловы персонажи выражают иные, более глубокие истины о человеке. Теория Аристотеля о катарсисе под влиянием трагичного была философским определением истины, которую Homo religiosus всегда ощущал интуитивно: символическая, мифологическая или обрядовая передача событий, невыносимых по обыденным меркам, смягчает их и превращает в нечто чистое, порой даже приятное.
Аристотелевы представления о Боге оказали огромное влияние на позднейших монотеистов, особенно на западных христиан. В «Физике» он рассуждал о природе действительности, об устройстве и составе вселенной. Аристотель разработал своеобразную философскую версию древних преданий о сотворении посредством эманации: он построил иерархию сущностей, каждая из которых определяет облик и движение соответствующих сущностей низшего уровня. Отличие аристотелевской теории эманации от давних мифов заключалось, однако, в том, что порождаемое становилось тем слабее, чем дальше пребывало от первоисточника. Вершину иерархии занимал «Недвижимый Двигатель», который Аристотель отождествлял с Богом. Этот Бог представлял собой чистое Бытие и, следовательно, был вечен, неизменен и исполнен духовности. Бог – это чистое мышление, одновременно мыслитель и сама мысль; Он пребывает в вечном миге созерцания высшего объекта познания – Самого Себя. Поскольку материя изменчива и бренна, высочайшие уровни бытия не содержат ничего материального. Недвижимый Двигатель – источник любой деятельности во вселенной, ведь у каждого движения есть причина, а у той – своя, и, значит, должна существовать самая первая. Бог приводит мир в движение силой влечения, так как все сущее испытывает тягу к Бытию.
Человек, впрочем, занимает особое положение. Его душа обладает божественным даром разумности, что роднит людей с Богом и наделяет божественной природой. Богоподобная способность мыслить ставит человека выше растений и животных. Как единство тела и души он представляет собой микрокосм, вселенную в миниатюре, поскольку вмещает и низшие материи, и высшее свойство разумности. Долг человека – стать бессмертным богом, оттачивая свой разум. Главное из человеческих достоинств – мудрость, софия (sophia), и проявляется она в созерцании (теории) философской истины, которое, как учил Платон, ведет к божественности, так как является подражанием деятельности Самого Бога. Теория – это не только логические рассуждения, но и развитая интуиция. Их сочетание приносит восторг самопреодоления. Такая мудрость присуща, однако, лишь редким людям, остальным же удается достичь в лучшем случае фронезиса (phronesis) – житейской дальновидности и опыта.
Несмотря на важное место, которое занимает в этой системе Недвижимый Двигатель, Аристотелев Бог практически лишен религиозной ценности. Он – не творец вселенной, поскольку созидание означало бы невозможные для такого бога перемены и деятельность. Хотя все испытывает к Нему влечение, этот Бог равнодушен к делам вселенной, ибо для Него невозможно созерцать что-либо, что ниже Его Самого. Миром Он, разумеется, тоже не правит и потому не оказывает никакого влияния на нашу жизнь. Остается лишь гадать, подозревает ли Бог вообще о существовании космоса, который излился из Него просто как неизбежное следствие Его бытия. Существует ли подобный бог – вопрос вообще второстепенный. Должно быть, позднее Аристотель и сам отказался от своей теологии. Он и Платон жили в «Осевое время», и их внимание было сосредоточено на индивидуальном сознании, на счастье человека в жизни и на проблемах общественной справедливости. Вместе с тем, их философия была слишком возвышенной. Чистый мир платоновских идей, как и недосягаемо далекий Бог Аристотеля, были практически бесполезны для простых смертных, и впоследствии это вынуждены были признать даже иудейские и исламские поклонники греческой мысли.
Таким образом, новые идеологии «Осевого времени» были едины в том, что в человеческой жизни есть нечто непостижимо высокое и в то же время очень важное. Мудрецы, о которых шла речь, толковали эту сторону жизни по-разному, но приходили к одному и тому же выводу: она играет решающую роль в развитии полноценного человека. С прежними мифологиями расставаться, однако, не торопились; их просто толковали по-новому, чтобы помочь людям подняться ступенькой выше. И в тот период, когда формировались эти влиятельные идеологии, израильские пророки совершенствовали собственную традицию, которая должна была соответствовать переменам в укладе жизни. В результате Яхве постепенно стал единственным Богом. Но как раздражительному Яхве удалось подняться до высот нового видения?
2. Единый Бог
В 743 г. до н. э. одному из потомков царского рода Иудеи привиделся Яхве. Случилось это в Храме, воздвигнутом некогда царем Соломоном в Иерусалиме. В Израиле было тогда неспокойно. В тот год скончался иудейский царь Озия, а его наследник Ахаз принуждал подданных поклоняться наряду с Яхве и языческим божкам. Северное царство вообще пребывало в состоянии, близком к анархии: после смерти царя Иеровоама II за период с 746 по 736 г. на троне сменилось с полдесятка правителей. Тем временем ассирийский царь Тиглатпаласар III уже зарился на израильские земли, которые давно мечтал присоединить к своей разраставшейся империи. В 722 г. до н. э. преемник Тиглатпаласара Саргон II захватил-таки северное царство, а жителей его переселил в другие страны. Десяти северным коленам Израилевым суждено было рассеяться по земле и исчезнуть из исторических хроник. Крошечная Иудея со страхом ждала своей очереди. Пророка Исайю, который проповедовал в Храме вскоре после кончины Озии, видимо, одолевали дурные предчувствия; кроме того, вряд ли он мог одобрять столь пышный и расточительный храмовый церемониал. Исайя происходил из высокородной семьи, но, если судить по его популистским и демократичным взглядам, он был очень чуток к положению бедноты. Когда помещение перед «святая святых» заполнял дым ладана вперемешку с испарениями жертвенной крови, Исайя, вероятно, с ужасом понимал, что религия Израиля утратила целостность и сокровенный смысл.
И вот однажды он узрел самого Яхве: тот восседал на престоле небесном прямо над Храмом, сооруженным как земное подражание божественному дворцу. Края риз Бога наполняли весь храм, а рядом с Яхве стояли два серафима, прикрывшие лица свои крылами, чтобы не глядеть на Него. И серафимы попеременно взывали друг к другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!»[40] От мощи их голосов Храм содрогнулся до основания и наполнился курениями, которые окутали Яхве непроглядным облаком – в точности как тучи и дым, скрывшие его от взора Моисея на горе Синайской.
Сегодня слово «свят» указывает обычно на моральное совершенство, но древнееврейское понятие каддош не имело никакого отношения к нравственности и означало «непохожесть», полную чуждость. С появлением Яхве на горе Синайской внезапно разверзлась неодолимая бездна, отгородившая человека от Божества. Теперь серафимы восклицали: «Яхве иной, иной, иной!» Исайей овладело то самое ощущение сверхъестественного, какое посещает порой людей и наполняет их восторгом и ужасом. В своей классической работе «Идея святости» Рудольф Отто определяет эти пугающие переживания при столкновении с трансцендентной реальностью как mysterium terribile et fascinans («тайна ужасная и захватывающая»): они ужасны, так как вызывают жестокое потрясение, вырывающее нас из утешительной привычности; а захватывающи по той причине, что парадоксальным образом излучают неотразимое очарование. В этих всепоглощающих переживаниях, которые Отто сравнивает с музыкальным или эротическим упоением, нет ничего рационального: возникающие чувства невозможно передать словами или охватить умом. Нельзя утверждать даже, что это Совершенно Чуждое «существует», так как Иное по умолчанию пребывает за пределами привычной схемы действительности[41]. Обновленный Яхве «Осевого времени» по-прежнему оставался «богом воинств» (саваофом), но не только. Перестал он быть и племенным божком, предвзято державшим сторону лишь одного, израильского народа. Слава его не ограничивалась отныне Землей Обетованной, а наполняла всю землю.
Исайя – не Будда, которому просветление принесло безмятежность и блаженство. Не стал древнееврейский пророк и совершенным учителем среди людей. Его переполнял не покой, а смертельный ужас, воплем рвущийся наружу:
И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа[42].
Пораженный непостижимой святостью Яхве, он сознавал лишь собственную малость, ритуальную нечистоту. В отличие от Будды или йога, Исайя не занимался духовными упражнениями. Эти переживания обрушились на него слишком внезапно, и он был совершенно раздавлен их опустошающей мощью. Один из серафимов подлетел к Исайе с горящим углем и очистил уста пророка, чтобы они смогли вымолвить слово Божье. Многие провидцы говорили от лица Бога с трудом превозмогая себя либо вообще не в состоянии были выдавить ни слова. Когда к Моисею, прообразу всех пророков, Бог воззвал из неопалимой купины и велел донести Свою весть до слуха фараона и детей Израилевых, Моисей заколебался: «Я тяжело говорю и косноязычен»[43]. Бога это препятствие не остановило, и Он разрешил, чтобы вместо Моисея говорил его брат Аарон. Этот постоянный мотив преданий о пророках символизирует трудность изречения слова Божьего. Пророки никогда не рвались разносить божественные благовестия и довольно неохотно брались исполнять столь трудную и мучительную миссию. Впрочем, превращение Бога Израилева в символ вышней власти и не могло пройти гладко, без борьбы и мучений.
Индийцы никогда не изображали Брахмана великим царем, поскольку их бога невозможно определить человеческими понятиями. Видение Исайи тоже не следует воспринимать слишком буквально: это лишь попытка описать неописуемое, и пророк инстинктивно обращается к мифологическим традициям своей культуры, чтобы хоть как-то поведать о пережитом. В псалмах Яхве часто по-царски восседает на престоле в своем храме, как Ваал, Мардук или Дагон[44] – боги сопредельных земель, занимавшие монаршие троны в своих очень схожих по устройству капищах. За этой мифологической символикой кроется, однако, совершенно иное представление о высшей реальности, возникшее тогда в Израиле: встречи с этим Богом подобны общению с человеком. Несмотря на устрашающую чужеродность, Яхве говорит, а Исайя в состоянии отвечать. Мудрецы упанишад и помыслить о таком не могли: ведь сама идея беседы и встречи с Брахманом-Атманом вопиюще антропоморфна.
Яхве спросил: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» и, эхом повторяя давние слова Моисея, Исайя тут же откликается: «Вот я! (хинени), пошли меня». Цель богоявления – не одарить пророка просветленностью, а поставить четкую практическую задачу. Перед Богом стоит прежде всего прозорливец, но результатом его возвышенного видения становится не обретение знаний (как в буддизме), а деятельность. Пророк – это сначала покорность и лишь потом – мистическое прозрение. Как и следовало ожидать, поставленная задача нелегка. Обычна для семитов и ее парадоксальность: Яхве сразу предупреждает Исайю, что народ не прислушается к Его вести, но пророк не должен впадать в отчаяние от того, что все отринут Божье слово: «Пойди, и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите»[45]. Семьсот лет спустя те же слова промолвит Иисус, когда люди откажутся прислушаться к его не менее трудному для понимания провозвестию[46]. Человечество не в силах вынести даже проблески истины. Во времена Исайи израильтяне были на грани войны и истребления, а Яхве между тем передавал весть отнюдь не утешительную: города их опустеют, земли останутся без жителей, и дома – без людей. Исайя, скорее всего, дожил до 722 года, когда Северное царство было завоевано, а десять колен – расселены. В 701 г. до н. э. огромное ассирийское войско во главе с Сеннахиримом вторгнется в Иудею и возьмет в осаду сорок шесть городов и крепостей; захваченных в плен военачальников посадят на кол, около двух тысяч израильтян будут изгнаны в другие земли, а иудейский царь будет заточен в иерусалимскую тюрьму, как «птица в клетку»[47]. Перед Исайей стояла неблагодарная задача поведать соплеменникам об этих неминуемых злоключениях:
…и великое запустение будет на этой земле.
И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена; но, как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее[48].
Подобные катастрофы без труда предвидел бы любой толковый политик. Пугающе новым в пророчествах Исайи было, однако, само отношение к грядущим испытаниям. Прежний партизанский Бог Моисея непременно отвел бы Ассирии роль заклятого врага, но Бог Исайи видит в захватчиках свое орудие. Вовсе не Саргон II и не Сеннахирим отправляют израильтян в изгнание и опустошают страну – это делает Сам Бог: «И удалит Господь людей»[49].
Эта особенность характерна для всех пророков «Осевого времени». Сначала Бог Израиля четко отделяет Себя от языческих божеств тем, что переходит из сферы мифологии и обрядов в область конкретного и вмешивается в исторические события. Теперь же новые пророки утверждают, будто политическая трагедия – как и победа – устроена Богом, который становится отныне окончательным творцом и хозяином истории. Ему подвластны все народы. Ассирии тоже придется несладко, ведь ее цари так и не поняли, что были лишь орудиями в руках высшего провидения[50]. Наконец, поскольку Яхве предсказал, что Ассирия рано или поздно будет уничтожена, остаются и какие-то надежды на далекое грядущее.
Ни одному израильтянину, однако, не хотелось бы слышать, что его народ сам навлек на себя погибель и что причинами ее были недальновидная политика и беззакония. Никого не порадовало бы сообщение, что победные ассирийские кампании 722 и 701 гг. спланировал Сам Яхве, направлявший прежде войска Иисуса Навина, Гедеона и царя Давида. Как мог Он так поступить с людьми, которых называл Своим «народом избранным»? В написанном Исайей образе Господа нет ни капли от прежнего волшебника, исполнявшего любые желания. Отныне Яхве чаще всего вынуждает людей взглянуть в лицо трагической действительности. Такие пророки, как Исайя, уже не искали прибежища в давних культовых обрядах, возвращавших к мифической эпохе, а, напротив, заставляли соплеменников отчетливо увидеть реальные исторические события и смириться с ними – равно как и с пугающими откровениями своего Бога.
Бог Моисея был победителем; Бог Исайи полон скорби. Само пророчество – в том виде, в каком оно дошло до нашего времени, – начинается жалобами, крайне нелестными для народа завета: вол и осел знают своих хозяев, «а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет»[51]. Яхве открыто протестует против жертвоприношений животных в Храме; Ему отвратительны и тук тельцов, и кровь козлов и овнов, и курения от всесожжений. Он ненавидит новомесячия, праздники и паломничества[52]. У слушателей Исайи эти слова, должно быть, вызывали потрясение, ведь подобные культовые обряды считались на Ближнем Востоке самой сутью религии. Языческим богам они были необходимы для восполнения утраченных сил, а от пышности святилищ во многом зависел их авторитет. Но Яхве говорит, что все это совершенно бессмысленно. Исайя, как и многие другие мудрецы и мыслители ойкумены, начал понимать, что одной лишь внешней видимости недостаточно. Израильтянам пора постичь сокровенный смысл своей религии, и потому Яхве желает сострадания, а не жертвы:
…и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову[53].
Пророки самостоятельно открыли первостепенную важность сострадания, которое станет отличительной чертой всех больших религий «Осевого времени». В этот период по всей ойкумене возникают новые идеологии, единодушно утверждающие, что главным испытанием веры является совмещение религиозных переживаний с повседневной жизнью. Вневременного царства мифов и простого соблюдения храмовых обрядов уже недостаточно. Пережив озарение, человек должен вернуться на свой шумный базар и проявлять там на деле сострадание ко всему живому.
Такой социальный идеал пророков в неявном виде присутствовал в культе Яхве уже со времен Синая: история Исхода убедительно показала, что Бог принимает сторону слабых и угнетенных. Особенность послания Исайи в том, что теперь угнетателями называют самих израильтян. В эпоху Исайи подобную весть разносили по смятенному Северному царству еще два проповедника. Одним был Амос – не знатного рода, в отличие от Исайи, а местный простолюдин, пастух из Фекои. Примерно в 752 г. до н. э. Амоса тоже настигло неожиданное видение, погнавшее его в путь по северной части Израиля. Ворвавшись в древнее святилище Вефиля, он прервал проводившийся там обряд ужасным предсказанием. Жрец Амасия пытался прогнать провидца, и в его высокопарных упреках угадывалось чувство превосходства над неотесанным пастухом. Жрец, разумеется, решил, что Амос относится к числу тех липовых прорицателей, какие околачивались тогда по стране целыми толпами и зарабатывали на жизнь гаданием. «Провидец! – заявил он Амосу. – Пойди и удались в землю Иудину; там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вефиле больше не пророчествуй; ибо он – святыня царя и дом царский». Но Амос не растерялся, выпрямился во весь рост и презрительно пояснил, что он – настоящий посланец Яхве: «Я – не пророк и не сын пророка; я был пастух, и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу Моему Израилю». Итак, жители Вефиля не желают слушать слова Яхве? Что ж, для них найдется и другая весть: жены их будут обесчещены, дети убиты, а сами они умрут в изгнании, вдали от земель Израилевых[54].
Одиночество – неизменный удел пророка. Такие, как Амос, всегда были одинокими, поскольку нарушали ритм и законы прошлого. Они не выбирали эту судьбу по своей воле, просто так получалось. Помимо прочего, Амос, похоже, пережил такое потрясение, что почти не владел собой. Приходилось пророчествовать, хотел он того или нет. Вот его собственное признание:
Лев начал рыкать, – кто не содрогнется? Господь Бог сказал, – кто не будет пророчествовать?[55]
В отличие от Будды, Амос не погружался в самоотрешенное угасание – нирвану. Яхве целиком завладел его личностью и перенес в другой мир. Амос был первым пророком, который подчеркивал важность общественной справедливости и сострадания. Подобно Будде, он остро переживал боль страдающего человечества. Устами Амоса Яхве выступает в защиту угнетенных, становится голосом бессловесных и беспомощных бедняков. В первых же строках пророчества Яхве громко и страшно возглашает из Иерусалимского храма: Он видит бедствия на всем Ближнем Востоке, включая Иудею и Израиль. Израильтяне ведут себя не лучше язычников (гойим), но Яхве, в отличие от них, не станет терпеть жестокого угнетения бедноты. Он не упускает из виду ни единого случая обмана, насилия и вопиющей бездушности: «Клялся Господь славою Иакова: по истине во веки не забуду ни одного из дел их!»[56] И после этого они еще осмеливаются ждать Дня Господнего, когда Яхве вознесет Израиль и принизит гойим? Но недостойных ждет большое потрясение: «Для чего вам этот день Господень? он – тьма, а не свет»[57]. Думали, вы народ Божий, избранный? Вы так и не постигли сущности завета: это ответственность, а не привилегии.
Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, – на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, – говоря:
Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши[58].
Завет означал, что все сыны Израилевы избраны Богом и, следовательно, с ними всеми Бог будет обращаться доброжелательно. Бог вмешивается в историю не только для того, чтобы прославить Израиль, но и ради поддержания справедливости в обществе. Это и есть Его главная цель, и, если потребуется, Он восстановит на Своей земле правду даже силой ассирийского войска.
Неудивительно, что большинство израильтян отказывались от предложения пророка вступить в диалог с Яхве и предпочитали не столь обязывающую религию с жертвенными обрядами в Иерусалимском храме или древнеханаанскими культами плодородия. Такое происходит и в наши дни: религиям сострадания следует лишь малая доля верующих, остальные же довольствуются видимостью поклонения в синагоге, соборе или мечети. Во времена Амоса в Израиле по-прежнему процветали верования Древнего Ханаана. В X в. до н. э. царь Иеровоам I установил в святилищах Дана и Вефиля двух культовых тельцов. Как свидетельствует современник Амоса, пророк Осия, два столетия спустя израильтяне все еще проводили в этих храмах обряды плодородия и ритуального совокупления[59]. Похоже, кое-кто из простолюдья верил даже, будто у Яхве, как у всех прочих божеств, есть супруга: совсем недавно при археологических раскопках была обнаружена надпись, посвященная «Яхве и его Асират». Осию особенно тревожило то, что, поклоняясь другим богам – тому же Ваалу, – израильтяне нарушают условия завета. Устами этого пророка Яхве говорит: «Ибо я милости (хесед – «любовь») хочу, а не жертвы, и Боговедения (даат элохим – «знание Бога») более, нежели всесожжений»[60]. Подразумеваются вовсе не теологические знания, так как слово даат происходит от древнееврейского глагола йяда – «познавать», которое имеет сексуальный оттенок (как, например, у J, когда он говорит, что “Адам познал Еву, жену свою”[61]). По древнеханаанским представлениям, Ваал был женат на плодородной почве, и люди устраивали в честь этого союза ритуальные оргии. Осия же настаивал на том, что со времен завета Яхве обручился с народом Израилевым, заняв место Ваала, и всем давно пора понять, что именно Яхве, а не Ваал ведает плодородием земли[62]. Бог Осии по-прежнему оплакивает Израиль как возлюбленную и исполнен решимости отнять ее у соблазнителя Ваала:
И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали».
И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их[63].
Если Амос замечал прежде всего пороки общества, то Осия рассуждает о том, что израильской религии не хватает глубины. «Знание Бога» связано у него с хесед, что предполагает полное предпочтение душевной, искренней привязанности к Яхве показному поклонению.
История Осии открывает удивительные подробности того, как пророки развивали образ Яхве. Уже в самом начале деятельности Осии Яхве дает ему странный приказ: пойти и взять в жены блудницу (эшет цеюним), «ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа»[64]. Выясняется, однако, что Господь вовсе не велит Осии искать уличную девку; выражение эшет цеюним (буквально: «распутная жена») означало либо неразборчивую женщину с пылким темпераментом, либо храмовую проститутку, участвовавшую в культах плодородия. Судя по озабоченности Осии размахом таких культов, его жена Гомерь была, скорее всего, священной проституткой в одном из храмов Ваала. Этот брак стал, следовательно, символом взаимоотношений Яхве с изменником-Израилем. У Осии и Гомерь было трое детей, и каждый получил многозначительное, роковое имя. Старшего сына нарекли в честь знаменитого поля боя: Изреель, дочери дали имя Лорухама («нелюбимая», или «непомилованная»), а младшему сыну – Лоамми («не мой народ»). Рождение третьего отпрыска ознаменовало расторжение завета с Израилем: «Вы – не Мой народ, и Я не буду вашим Богом»[65]. Мы еще не раз убедимся, что желание наглядно засвидетельствовать предназначение своего народа толкало пророков на самые странные поступки, но брак Осии, как выясняется, вовсе не был частью хладнокровного замысла. Пророчество ясно дает понять, что Гомерь стала эшет цеюним уже после того, как родила детей. Осия, похоже, лишь задним умом сообразил, что его брак был предопределен Богом. Потеря жены была для него горьким уроком и заставила понять, что должен чувствовать Яхве, которому изменил целый народ, ставший блудницей божеств вроде Ваала. Сначала Осия испытывает непреодолимое искушение отречься от Гомерь и навсегда забыть о ней; законы действительно гласили, что с неверной женой надлежит разойтись. Но Осия по-прежнему любил супругу и потому в конце концов отыскал ее и выкупил у нового хозяина. В собственном стремлении вернуть Гомерь он увидел подтверждение того, что Яхве тоже готов дать Израилю еще один шанс.
Приписывая Богу собственные, сугубо человеческие чувства и помыслы, пророки буквально творили Его по своему образу и подобию, и это сыграло очень важную роль. Исайя, член царского рода, видел в Яхве властелина; Амос наделил Господа своим состраданием к беднякам, а Осия увидел в Боге обманутого мужа, все еще изнывающего от нежной тоски по супруге. Все религии начинали с определенной доли антропоморфизма. Слишком далекое от человека божество – такое, например, как аристотелевский Недвижимый Двигатель, – никогда не подтолкнет к духовным исканиям. До тех пор, пока подобные проекции не становятся самоцелью, они вполне полезны и выгодны. Следует добавить, что воображаемый портрет Бога в человеческом облике пробуждал тревогу за судьбы общества, чего никогда не было, скажем, в индуизме. Всем трем религиям единобожия присуща склонность к общественному равенству и социалистическая мораль Исайи и Амоса. Древние евреи были, вероятно, первым на свете народом, который ввел систему социального обеспечения, что вызывало большое восхищение у соседей-язычников.
Как и всех других пророков, Осию преследовал страх перед идолопоклонством. Он выразительно живописует божественную кару, которую северные племена навлекут на себя за поклонение самодельным божкам:
И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего по понятию своему, – полная работа художников, – и говорят они приносящим жертву людям: «целуйте тельцов!»[66]
Это было, разумеется, совершенно предвзятое и несправедливое описание ханаанской веры. Жители Вавилона и Ханаана никогда не считали божественными сами изображения; склонялись они вовсе не перед идолами tout court[67]. Истуканы были лишь символами божественного. Как и мифы о невообразимых предначальных событиях, они создавались для того, чтобы привлечь мысли верующих к глубинному содержанию. Статую Мардука в храме Эсагилы и каменные обелиски в честь Асират в Ханаане никогда не отождествляли с богами; это были лишь средства, помогавшие людям сосредоточиться на возвышенной стороне жизни. Пророки, однако, очень часто издевались над божествами язычников и высказывали в их адрес несдержанные колкости. Самодельные истуканы, по их мнению, не содержали ничего, кроме золота и серебра; их мог изготовить за пару часов любой ремесленник; глаза у идолов были незрячие, уши глухие, и ходить они не могли, так что приходилось их возить в тележках, – одним словом, неотесанные и безмозглые недочеловеки вроде пугала на бахче. В противовес Яхве, Элохим Израиля, таких божков называли элилим, «ничтожествами». Топим, которые им поклонялись, были законченными глупцами, и Яхве их ненавидел[68].
Сегодня мы так привыкли к нетерпимости, давно ставшей, к несчастью, характерной чертой единобожия, что не в силах разглядеть в подобной враждебности к чужим богам зарю новой религиозности. Язычество всегда было верой толерантной: если новое божество ничем не угрожало давним культам, ему всегда находилось место в традиционном пантеоне. Желчной непримиримости к древним богам не было даже в ту пору, когда устаревшие представления сменялись новыми идеологиями «Осевого времени». Мы уже говорили о том, что индуизм и буддизм учат подниматься выше богов, но не относиться к ним с ненавистью. Израильские же пророки просто выходили из себя при виде божеств, соперничавших с Яхве. Судя по древнееврейским текстам, новый грех «идолопоклонства» и почитания «лжебогов» вызывал у пророков непритворное омерзение. Подобная реакция сходна, вероятно, с тем отвращением, какое отцы Церкви питали к сексуальности. Речь идет не о рациональном, взвешенном суждении, а об эмоциональных взрывах подавленного душевного смятения. Не исключено, что пророки втайне тревожились за собственное религиозное поведение. Быть может, они в глубине души сознавали, что их представления о Яхве во многом схожи с языческим идолопоклонством, так как Он тоже сотворен ими по человеческому образу и подобию?
Сравнение с отношением христианства к сексуальности проливает свет еще на одну проблему. В те времена большая часть израильтян откровенно признавала существование языческих божеств. В определенных кругах Яхве постепенно перенимал часть функций элохим земель Ханаанских (так, например, Осия старательно подчеркивает, что Господь ведает делами плодородия лучше, чем Ваал), но бесконечно мужественному Яхве по очевидным причинам было чрезвычайно трудно посягнуть на роль богинь – Асират, Иштар и Анат, которые по-прежнему были у израильтян (а особенно у их жен) в большом почете. Несмотря на заверения монотеистов в том, что их Бог пребывает выше разделения полов, Яхве оставался прежде всего мужским началом, хотя кое-кто, как мы убедимся позднее, пытался исправить такое положение дел. Во многом это объяснялось тем, что начинал Яхве как узкоплеменной бог войны. В Его соперничестве с богинями проявилась, однако, менее благоприятная сторона «Осевого времени», когда женщин существенно понизили в статусе. В первобытных сообществах женщины, судя по всему, нередко занимали положение выше мужчин. Авторитет великих богинь в давних религиях ясно показывает, какое уважение питали к женскому началу. Однако зарождение и рост городов повысили значение таких чисто мужских качеств, как воинская доблесть и физическая сила. Женщины отошли на задний план и в новых цивилизациях ойкумены стали гражданами второго сорта. Особенно незавидным было их положение в Греции – и об этом стоит помнить всем жителям Запада, привыкшим осуждать патриархальные нравы Востока. Греческие идеалы демократии ничуть не распространялись на афинских женщин, которых держали взаперти и презирали как неполноценных тварей. Израильское общество в ту пору тоже все больше склонялось в пользу мужчин. В старину женщины были влиятельнее и, очевидно, чувствовали себя с мужьями на равных. Иной раз женщина – например, Девора – даже водила войска в бой. Израильтяне, разумеется, с прежним усердием восхваляли героические подвиги Юдифи и Эсфири, но с тех пор, как Яхве одолел прочих божеств Ханаана и Ближнего Востока и стал единственным Богом, делами религии ведали только мужчины. Богини были вытеснены, и это – признак культурных перемен, ставших характерной чертой нового цивилизованного мира.
Победа далась Яхве непросто. Она потребовала немалых сил, жестокости и борьбы. Иными словами, новая религия Единого Бога прокладывала себе путь к израильтянам без той легкости, с какой воцарились в своем регионе индуизм и буддизм. Похоже, Яхве вообще не удалось бы справиться с древними божествами мирным путем. За верующих пришлось отчаянно сражаться. Об этом свидетельствует псалом 82, где Господь высится среди Божественного Собрания, игравшего такую важную роль в вавилонской и ханаанской мифологии:
Бог стал в сонме богов [Совете Илу[69] ]; среди богов произнес суд.
Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость.
Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых.
Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего [Эль-Элион] – все вы.
Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
Открыто взбунтовавшись против Собрания, во главе которого с незапамятных времен стоял Илу, Яхве обвиняет других богов в неспособности решить насущные общественные проблемы. Он олицетворяет новый, сострадательный дух пророков, тогда как Его «коллеги», очевидно, за все минувшие эпохи палец о палец не ударили ради утверждения справедливости и равенства. В прежние дни Яхве готов был признавать в них элохим, сынов Всевышнего, но теперь, когда боги окончательно доказали свою ненужность, они умрут, как простые смертные. Автор псалма не ограничивается угрозами смерти и заходит еще дальше: наделяет Яхве властью, принадлежавшей одному лишь Илу, у которого в Израиле, похоже, оставалось еще немало поборников.
Несмотря на презрительные отзывы в Библии, в самом по себе идолопоклонстве нет ничего ужасного. Глупым и предосудительным оно становится лишь в том случае, когда созданное с трепетной любовью изображение бога начинают путать с той непередаваемой реальностью, которую идол олицетворяет. Позднее иудеи, христиане и мусульмане существенно развили подобные символы абсолютной реальности и пришли к идеям, сходным с индуистскими и буддийскими воззрениями. Таких людей было, впрочем, немного; остальные даже не пытались сделать этот шаг, а просто наивно полагали, что их представления о Боге соответствуют Его высшей тайне. Опасность религии «истуканов» стала очевидной к 622 г. до н. э., во времена правления иудейского царя Иосии. Он страстно мечтал изменить синкретические порядки своих предшественников, Манассии (687–642 гг. до н. э.) и Аммона (642–640 гг. до н. э.), которые поощряли поклонение ханаанским богам наряду с Яхве. Манассия даже установил в Храме образ Асират, и при нем там процветал культ плодородия. Поскольку Асират чтило большинство израильтян и многие верили, что она – супруга Яхве, богохульство в этих обрядах видели разве лишь самые рьяные иеговисты. Но Иосия решил укрепить культ Яхве и затеял в Храме большую реконструкцию. Когда рабочие переделывали все от пола до потолка, первосвященник Хелкия нашел древнюю рукопись – повествование о последней проповеди, которую Моисей прочел детям Израилевым. Хелкия передал книгу царскому писцу Шафану, а тот зачитал ее вслух Иосии. Выслушав его, юный царь в ужасе разодрал на себе одежду: теперь было ясно, почему Яхве так гневался на его предков: они ведь полностью нарушили строгие указания Моисея![70]
Нет почти никаких сомнений в том, что найденная Хелкией «книга закона» была одним из важнейших библейских текстов; ныне этот текст именуется «Второзаконием». В отношении «находки», так кстати подвернувшейся религиозным преобразователям, выдвигались самые разнообразные предположения. Кое-кто считал даже, что книгу тайно написали сами Хелкия и Шафан, а помогала им пророчица Алдама (Олдана), с которой часто советовался Иосия. Точно нам ничего не известно, но эта книга, безусловно, отражает обновленную нетерпимость израильтян седьмого века. В своей последней проповеди Моисей дополняет завет новым центральным положением – идеей богоизбранности Израиля. Яхве выделил своих людей среди других народов не потому, что они чем-то лучше остальных, а просто из большой любви. Взамен Он потребовал безоглядной преданности и категорического отказа от прочих богов. Ядро «Второзакония» содержит высказывание, которое позднее стало для иудаистов символом веры:
Слушай (шема), Израиль: Господь, Бог наш [Яхве – наш элохим], Господь един (эхад) есть.
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими.
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем[71].
Богоизбранность отгораживала Израиль от гойим, и потому автор текста вложил в уста Моисея требование: придя в Землю Обетованную, Его народ обязан избегать каких-либо сношений с местными жителями – «не вступай с ними в союз и не щади их»[72]. Запрещались и смешанные браки, и простое общение. Но прежде всего израильтянам надлежало стереть с лица земли ханаанскую религию. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем, – призывал Моисей. – Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего [Яхве, нашего элохим]; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле»[73].
Повторяя Шема сегодня, иудаисты придают ему монотеистическое толкование: Господь, Бог наш, – один-единственный. Однако автор «Второзакония» до таких высот не добирался. «Яхве эхад» не означало у него: «Господь один»; просто Яхве был единственным богом, которого следовало почитать. Остальные божества по-прежнему представляли собой угрозу: их культы оставались привлекательными и могли отвратить израильтян от Яхве – а Он был богом ревнивым. Если Израиль будет подчиняться Его законам, Он их благословит и одарит благополучием; в противном случае евреев ждет ужасное наказание:
…И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею.
И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. […]
Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей.
От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «о, если бы пришел вечер!» а вечером скажешь: «о, если бы наступило утро!»[74]
В конце седьмого века, когда эти слова услышали царь Иосия и его подданные, израильтяне были на грани столкновения с очередной политической угрозой. Ранее им удалось остановить ассирийцев и избежать судьбы десяти северных колен, которых все же настигла предсказанная Моисеем кара. Однако в 606 г. до н. э. вавилонский царь Навупаласар разгромил ассирийцев и принялся создавать собственную империю.
В обстановке крайней неуверенности в завтрашнем дне идеология «Второзакония» оказывала огромное влияние на людей. Далекие от верности Завету два предыдущих правителя Израиля умышленно накликали на страну бедствия, и царь Иосия немедленно и со всем пылом взялся за преобразования. Из Храма были тут же вынесены и сожжены все изображения, идолы и символы плодородия. Кроме того, Иосия вышвырнул из святилища большую статую Асират и разрушил комнаты храмовых проституток, где ткали одеяния для богини. По всей стране шло уничтожение древних святынь, которые до сих пор оставались средоточиями язычества. Отныне в очищенном Иерусалимском храме священникам разрешалось приносить жертвы только Яхве. Летописец, рассказавший три века спустя о реформах Иосии, описывает этот прилив неистового благочестия весьма красноречиво:
И разрубили пред лицем его [Иосии] жертвенники Вааловы и статуи, возвышавшиеся над ними; и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы.
И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим.
И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Неффалимова, и в опустошенных окрестностях их.
Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской…[75]
Налицо полная противоположность той безмятежности, с какой относился к божествам переросший их Будда. Беспощадное разрушение диктовалось ненавистью, а та, в свою очередь, коренилась в подавленном беспокойстве и страхе.
Реформаторы наново переписали все прошлое Израиля. Исторические книги – Иисуса Навина, Судей и Царств – изменили так, чтобы они согласовывались с новой идеологией. Позднее редакторы Пятикнижия дополнили тексты фрагментами, сообщившими мифу об Исходе из давних повествований J и Е новое содержание в духе «Второзакония»: теперь сам Яхве вдохновлял израильтян на святую войну против Ханаана и истребление его жителей. Говорилось, в частности, что коренные ханааняне не должны жить в своей стране[76], – и Иисус Навин исполнил этот божественный приказ с далеким от святости рвением:
В то же время пришел Иисус, и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию.
Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых; остались только в Газе, в Гефе и в Азоте[77].
По правде говоря, нам почти ничего не известно о завоевании Ханаана Иисусом и Судьями. Несомненно одно: были пролиты реки крови. Теперь, однако, у этой дикой бойни появилось религиозное обоснование. Опасность идеи богоизбранности, не сдерживаемой возвышенными мотивами какого-нибудь Исайи, наглядно проявилась в священных войнах, которыми пестрит вся история единобожия. Бога можно сделать символом борьбы с человеческой предвзятостью, он может побуждать людей к размышлениям об их собственных недостатках. Не менее просто, однако, воспользоваться идеей бога, чтобы оправдать свою эгоистическую ненависть – и тем самым довести зверства до крайности. Получается, таким образом, что Бог нередко ведет себя в точности как мы, обычные люди. И такой бог, судя по всему, всегда привлекательнее и популярнее Бога Амоса или Исайи, требующего безжалостной самокритичности.
Евреев часто попрекают их верой в свою богоизбранность; но осуждающие нередко руководствуются той же непримиримостью, какую внушали в библейские времена обличительные выступления против идолопоклонства. Все три монотеистические религии в разные периоды своей истории создавали сходные богословия собственного превосходства, приводившие подчас к последствиям куда более разрушительным, чем кошмары из «Книги Иисуса Навина». Особой склонностью к напыщенной вере в свою исключительность отличались христиане Запада. В XI–XII вв. крестоносцы оправдывали священные войны против иудеев и мусульман, именуя себя новым «народом избранным», занявшим прежнее место евреев. Кальвинистские теологии избранности стали в свое время важнейшим фактором, пробудившим у американцев веру в то, что их нация у Господа на особом счету. Как и во времена царя иудейского Иосии, подобные убеждения возникают чаще всего в обстановке политической нестабильности, когда людей преследует навязчивый страх за свою жизнь. Вероятно, именно поэтому идея исключительности получила сейчас новый толчок и привела к появлению среди иудеев, христиан и мусульман многочисленных форм фундаментализма. Богом-личностью, подобным Яхве, легко манипулировать, когда необходимо как-то укрепить осажденный, загнанный в угол эгоизм, – чего нельзя сказать о безличном божестве вроде Брахмана.
Нужно отметить, что вплоть до 587 г. до н. э. – когда Навуходоносор разрушил Иерусалим и переселил евреев в Вавилон – «Второзаконие» признавали далеко не все израильтяне. Еще в 604 году, после восшествия Навуходоносора на престол, пророк Иеремия возродил иконоборческие идеи Исайи и перевернул триумфальную доктрину «избранного народа» с ног на голову: оказывается, теперь Бог выбрал в качестве орудия наказания израильтян Вавилон[78]. Пришло время «отлучить от веры» израильтян, и теперь их ждет семидесятилетнее изгнание. Услышав это пророчество, царь Иоаким выхватил свиток из рук писца, порвал в клочья и швырнул в огонь, а Иеремия в страхе за свою жизнь пустился в бега.
Судьба Иеремии показывает, сколько сил и страданий понадобилось для того, чтобы выковать образ нового, более требовательного Бога. Роль пророка тяготила Иеремию; особенно мучительной была обязанность попрекать свой народ, к которому он питал искреннюю любовь[79]. По характеру Иеремия был вовсе не смутьяном, но, напротив, человеком мягкосердечным. Когда Яхве призвал его, будущий пророк со слезами взмолился: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод», но Бог «простер руку Свою» и, коснувшись уст Иеремии, вложил в них Свои слова. Божье повеление оказалось неоднозначным и противоречивым: «искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать»[80]; это обрекало Иеремию на мучительные метания между несовместимыми крайностями. Болью отдает и сама встреча пророка с Богом: «сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я – как пьяный»[81]. Столкновение с «тайной ужасной и захватывающей» вызывало одновременно одержимость и соблазн:
Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог […]
И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и – не мог[82].
Бог раздирал Иеремию надвое: с одной стороны, пророк питал непреодолимое стремление к Яхве и переживал все сладостные муки соблазна; с другой – время от времени чувствовал, как неподвластная ему разрушительная сила увлекает его за собой.
Одиночество суждено было пророкам со времен Амоса. В отличие от других регионов ойкумены, Ближний Восток еще не выработал всеобщей и единой религиозной идеологии[83]. Бог пророков вынуждал израильтян избавляться от присущего жителям Ближнего Востока мифического сознания и идти в совершенно ином направлении. Плач Иеремии – прекрасная иллюстрация того, какие душевные муки это причиняло. Израиль был крошечным оплотом иеговизма посреди огромного языческого мира; к тому же Яхве противилось немало самих израильтян. Общение с Яхве было тяжелым испытанием даже для автора «Второзакония», создавшего наименее пугающий образ Господа; от лица Моисея D объясняет израильтянам, устрашенным перспективой встречи с Яхве, что Господь будет смягчать тяжесть богоявлений, посылая каждому поколению своих пророков.
В культе Яхве по-прежнему не было ничего хотя бы отчасти напоминающего идею Атмана, божественного начала в душе каждого человека. Яхве оставался потусторонней, недостижимо высшей сущностью, и, для того чтобы Он выглядел не таким чужеродным, приходилось придавать Ему человеческие черты. Политическое положение между тем осложнялось: вавилоняне вторглись в Иудею и увели оттуда царя и первую группу израильтян, а вскоре взяли в осаду Иерусалим. По мере ухудшения ситуации Иеремия неукоснительно следовал традиции приписывания Яхве человеческих чувств: Господь оплакивает собственную бесприютность, Свои бедствия и безысходность. Яхве, похоже, потрясен, оскорблен и растерян не меньше, чем Его народ. Как и евреи, Он не знает, что делать, чувствует Себя беспомощным и слабым. Гнев, вскипающий в душе Иеремии, пророк считает не собственным возмущением, а яростью Божьей[84]. Думая о людях, пророки тут же вспоминали о Боге, чье участие в делах мира было неразрывно связано с Его народом. Деятельность Бога на земле опирается непосредственно на человека – эта мысль станет основополагающей в иудейских представлениях о Божестве. Появлялись даже намеки на то, что люди могут различить Божий Промысел в собственных чувствах и переживаниях, то есть Яхве сопричастен человеческому.
Пока у ворот стоял враг, Иеремия яростно обрушивался на соплеменников от имени Бога (хотя перед Богом он же их защищал). В 587 г. до н. э., когда вавилоняне взяли Иерусалим, пророчества от лица Яхве становятся мягче и утешительнее: теперь, когда Его народ усвоил горький урок, Он обещает спасти израильтян и вернуть им утраченный дом. Вавилонские власти разрешают Иеремии остаться на родине, в Иудее, где он, чтобы подтвердить свою убежденность в светлом будущем, даже приобретает кое-какую недвижимость: «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей»[85]. Неудивительно, что многие возлагали всю вину за случившееся на Самого Яхве. Скитаясь по Египту, Иеремия встретился с евреями, спешившими к Дельте; времени говорить о Боге у них не было. Женщины заявили, что все было бы хорошо, если б, как прежде, отправляли обряды в честь Иштар, Царицы Небесной; но делать это перестали – из-за таких, между прочим, как Иеремия, – и на страну тут же обрушились беды, невзгоды и нужда[86]. Как бы то ни было, горе принесло Иеремии новые прозрения. После падения Иерусалима и разрушения Храма он начал сознавать, что внешние атрибуты религии суть символы внутреннего, душевного состояния. Будущий Завет с Израилем примет иной вид: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его»[87].
В 722 г. до н. э. десяти северным коленам волей-неволей пришлось смешаться с местным населением, но с израильтянами-изгнанниками дело обстояло иначе. Жили они двумя сообществами: одно – в самом Вавилоне, а второе – на берегах Ховара, притока Евфрата, неподалеку от Ура и Ниппура, в районе, получившем название Тель-Авив («весенний холм»). Среди первых переселенцев, изгнанных в 597 году, был священник по имени Иезекииль. Почти пять лет он просидел затворником в своем доме и ни с кем не разговаривал, а затем пережил ослепительное видение Яхве, от которого буквально рухнул без чувств. Первое озарение пророка следует описать подробнее, так как столетия спустя оно станет очень важным для иудейского мистицизма (о нем речь пойдет в седьмой главе). Иезекииль узрел сияющее облако, в котором блистали молнии. Сильный ветер подул с севера, и посреди этой бури он как бы увидел (отметим предусмотрительное указание на условность видения!) большую колесницу, влекомую четверкой могучих зверей. Животные напоминают карибу, высеченных на воротах вавилонского дворца, но Иезекииль прилагает старания, чтобы их нельзя было узнать. У каждого животного по четыре головы с ликами человека, льва, тельца и орла. Колеса же устройства вращаются каждое в своем направлении. Этот образный ряд призван обострить ощущение сверхъестественности видений, которые пророк тщится передать словами. Крылья животных хлопают оглушительно, «как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего [Шаддай], сильный шум, как бы шум в воинском стане». На колеснице было «подобие» престола, а на нем – «как бы подобие человека»: он сверкал медью, и от конечностей исходил огонь. Был также «как бы некий огонь, и сияние [кавод, «слава»] было вокруг него»[88]. Иезекииль пал ниц и услышал обращенный к нему голос.
Голос назвал его «сыном человеческим», словно подчеркивая огромное расстояние, отделяющее людей от божественных сфер. Тем не менее появление Яхве, как обычно, продиктовано чисто практическим замыслом: Иезекииль должен донести слово Божье до мятежных детей Израилевых. Нечеловеческий характер божественной вести передает жестокая символика: простертая рука развертывает перед пророком свиток, исписанный словами «плач, и стон, и горе». Иезекиилю велено съесть свиток, чтобы наполнить душу Словом Божьим, навсегда усвоить его, сделать частицей себя. Как водится, тайна эта не только ужасна, но и захватывающа: на вкус свиток сладок, будто мед. В завершение Иезекииль говорит: «И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, с встревоженным духом; и рука Господня была накрепко на мне»[89]. Придя в Тель-Авив, пророк провел «в изумлении» целую неделю.
Насколько чужим и далеким стал теперь для людей мир Божества, можно судить по странным злоключениям Иезекииля. Пророку поневоле пришлось самому олицетворять эту отчужденность: Яхве нередко приказывал ему совершать непонятные поступки, отличавшие Иезекииля от обычных людей. Эти поступки знаменовали кризисную обстановку в Израиле, а на ином, глубинном уровне означали, что израильтяне стали чужаками в мире язычников. Так, например, когда умирает жена Иезекииля, ему запрещается оплакивать ее. Бог велит пророку лежать триста девяносто дней на одном боку и еще сорок – на другом, а потом заставляет беднягу собрать пожитки и бродить вокруг Тель-Авива, будто он бездомный беженец. Приказы Яхве доводят Иезекииля до нервного срыва: он не переставая дрожит и ни минуты не стоит на месте. Однажды ему пришлось даже питаться экскрементами – это был символ голода, пережитого его народом во время осады Иерусалима. Пророк превращается в образ полной непредсказуемости, характерной для культа Яхве: ни в чем нельзя быть уверенным, естественное поведение запрещено.
Язычники, напротив, прославляли определенность в отношениях между богами и естественным миром, но Иезекииль не видит в древней религии ничего утешительного и по привычке именует ее «мерзостью». В одном из своих видений он попадает в Иерусалимский храм, где, к своему ужасу, видит, что даже под угрозой полного истребления народ Иудеи в святыне Яхве продолжает поклоняться языческим богам. В кошмар превращается сам внешний облик Храма: стены изукрашены кишащими змеями и отвратительными тварями, а священники, проводящие «мерзкие» обряды, представлены в совершенно неприглядном свете, вплоть до намеков, будто они занимаются блудом по закуткам: «видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате?»[90] Там сидят женщины, плачущие по Фаммузе (страдающему богу Таммузу); рядом, спиной к святилищу, какие-то мужи поклоняются солнцу. В заключение пророк наблюдает, как причудливая колесница, которой он дивился при первом богоявлении, возносится прочь – а с нею отдаляется и «слава» Божья. Тем не менее Яхве не был совершенно отстраненным Богом. В последние дни перед падением Иерусалима Иезекииль мечет громы и молнии в адрес народа Израилева, тщетно пытаясь привлечь его внимание и призывая вспомнить о Завете, ведь в неминуемой катастрофе Израиль может винить только себя. Каким бы чужим ни казался зачастую Яхве, благодаря Ему многие израильтяне, в том числе Иезекииль, уже начали понимать, что исторические напасти не случайны и в них есть своя логика и справедливость. Пророк отчаянно старается разобраться в жестоких законах того, что ныне называется международной политикой.
На реках Вавилонских многие изгнанники почувствовали – и это было неизбежно, – что не могут исповедовать прежнюю религию вдали от Земли Обетованной. Языческие боги всегда имеют свою территорию, и потому израильтянам казалось, что в чужой стране воздавать хвалу Яхве просто невозможно; приходилось довольствоваться сладостными мечтами о том, как младенцам Вавилонским вышибут мозги, разбив их головы о камень[91]. Однако один новоявленный пророк проповедовал безмятежность. Мы ничего о нем не знаем, и сам этот факт уже весьма примечателен: в прорицаниях и псалмах пророка нет личной окраски, столь характерной для его предшественников. Этого провидца принято называть «Вторым Исайей», так как позднее его тексты были добавлены к пророчествам истинного Исайи. В изгнании часть евреев обратилась к культам древних вавилонских богов, остальным же навязывалось новое религиозное сознание. Храм Яхве лежал в руинах; древние святилища Вефиля и Хеврона были разрушены. В Вавилоне израильтяне уже не могли участвовать в обрядах, занимавших прежде центральное место в их религиозной жизни. Яхве – вот все, что у них осталось. «Второй Исайя» сделал еще один шаг вперед и объявил, что Яхве – Бог единственный. Он в очередной раз переписал историю Израиля, и теперь миф об Исходе наполнился символикой, очень напоминающей предание о победе Мардука над Тиамат, первобытным морем:
И иссушит Господь [Яхве] залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку [Евфрат] в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее.
Тогда для остатка народа Его […] будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской[92].
Первый Исайя превратил историю в предупреждение Божье. В своей «Книге Утешения», написанной после катастрофы, «Второй Исайя» извлек из истории новые надежды на будущее. В прошлом Яхве уже спас Израиль и, стало быть, сделает это снова. Он Сам творит историю, и в Его глазах гойим значат не больше, чем капля воды на дне кувшина. Это и правда единственный Бог, с которым стоит считаться. «Второй Исайя» лелеял мечты о том, как древневавилонские истуканы будут погружены на повозки и укатят в забвение[93]. Их дни кончились, «ибо Я Господь, и нет иного», – неустанно повторяет пророк от лица Яхве[94].
Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет.
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня[95].
«Второй Исайя» не тратит времени на низвержение языческих богов, которых после катастрофы можно было считать победителями. Он невозмутимо утверждает, что именно Яхве, а не Мардук или Ваал совершил те великие мифические подвиги, благодаря которым возник мир. Израильтяне впервые серьезно задумались о роли Яхве в истории сотворения; причиной этого стало, вероятно, новое соприкосновение с космологическими мифами Вавилона. Никто, разумеется, не собирался разрабатывать научную теорию происхождения вселенной. Это была просто попытка найти хоть какое-то утешение в суровом мире настоящего. Раз Яхве сумел в первобытную эпоху одолеть чудовищ хаоса, то спасти изгнанных израильтян будет для Него сущим пустяком. Подметив определенные черты сходства между легендой об Исходе и языческими преданиями о победе над водным хаосом, «Второй Исайя» призывает свой народ глядеть в будущее с надеждой и дожидаться очередного проявления Божьего могущества. С этой целью он обращается, например, к истории победы Ваала над Лотаном (Левиафаном), морским чудищем из ханаанской мифологии; Лотана называли также Раав, Крокодил (таннин) и Бездна (тегом).
Восстань, восстань, облекись крепостию, мышца Господня!
Восстань, как в дни древние и роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила (таннин)?
Не ты ли иссушила море, воды великой бездны (тегом), превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?[96]
В религиозном воображении израильтян Яхве окончательно вытеснил всех соперников. В изгнании соблазнительное прежде язычество утратило свою привлекательность, и тогда родился иудаизм. В тот момент, когда культ Яхве, казалось бы, вот-вот должен был навсегда исчезнуть, этот Бог стал главным источником надежд бедствующего народа на близкий конец испытаний.
Итак, Яхве стал Богом единым и единственным. Обосновать это положение философски даже не старались. Новое богословие, как всегда, одержало верх не силой рациональных доводов, а своей практической действенностью: оно избавляло от отчаяния и внушало надежды. Лишенные родины и средств к существованию евреи уже не видели в непредсказуемости Яхве ничего чужеродного и тревожного. Сейчас нрав этого Бога очень точно соответствовал их собственному положению.
С другой стороны, Бог «Второго Исайи» оставался неприветливым и далеким от людей. Он, как и прежде, пребывал за гранью человеческого рассудка:
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь.
Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших[97].
Бытие Господа – вне досягаемости слов и мыслей. К тому же Яхве отнюдь не всегда поступает так, как хотелось бы людям. В очень смелом отрывке, который в наши дни звучит особенно едко, пророк заглядывает в грядущее, когда землями Яхве станут наряду с Израилем Египет и Ассирия. Бог якобы молвил: «Благословен народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и наследие Мое – Израиль»[98]. Яхве стал символом высшей реальности, превращающей любые потуги поверхностного толкования богоизбранности в нечто малозначащее и неуместное.
В 539 г. до н. э., когда персидский царь Кир покорил Вавилонскую империю, все пророчества, казалось, сбылись. Кир не навязывал новым подданным персидскую веру и, триумфально вступив в Вавилон, даже помолился в Храме Мардука. Более того, он вернул на родину все святыни народов, покоренных ранее Вавилоном. Теперь, когда мир постепенно привыкал к жизни в гигантских многонациональных империях, Киру, по-видимому, уже не требовался испытанный временем метод переселения. Бремя правления облегчается, если подданные живут на родных землях и чтят любимых божеств. Согласно желанию Кира, по всей империи восстанавливали древние храмы; царь неустанно повторял, что эту миссию возложили на него сами боги. Он был настоящим образцом терпимости и широты взглядов, свойственной некоторым формам язычества. В 538 г. до н. э. Кир издал указ, который позволял евреям вернуться в Иудею и восстановить свой храм. Большая их часть предпочла, однако, остаться на новом месте, так что на землю обетованную вернулись лишь немногие. В Библии сказано, что из Вавилона и Тель-Авива ушло 42 360 евреев; они вернулись на родину и навязали новый иудаизм заблудшим соплеменникам, не покидавшим своих земель.
Это оставило свой след в сочинениях некоего «Священника» (Р), написанных после изгнания и добавленных позднее к Пятикнижию. Р по-своему толковал события, которые прежде описывали J и Е; он дополнил Ветхий Завет двумя новыми книгами – «Числами» и «Левитом». Как и следовало ожидать, у Р сложились возвышенные и весьма развитые представления о Яхве. В отличие от J, он не верил, например, что кто-либо способен узреть Бога воочию. Во многом разделяя взгляды Иезекииля, Р не сомневался в существовании большой разницы между тем, как воспринимают Бога люди, и самой действительностью. В его версии событий на горе Синайской Моисей умоляет Яхве открыться, но в ответ слышит: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых»[99]. Моисею велено укрыться от божественного воздействия в расщелине, откуда ему удается краем глаза заметить удаляющегося Яхве. Р впервые выразил идею, которая станет чрезвычайно важной в истории Бога: людям доступны в лучшем случае лишь отблески Божественного, которые Р называет «славой (кавод) Яхве»[100]; это проявление сил Божьих, но их ни в коем случае нельзя принимать за Самого Бога. Когда Моисей спускается с горы, увиденная «слава» отражается на его собственном лице и блистает так ярко, что израильтяне не в силах на него глядеть[101].
«Слава Господня» – символ присутствия Яхве на земле; она подчеркивает разницу между образами Господа, которые придуманы людьми, и Его истинной святостью. Идея «славы» противостояла идолопоклоннической природе израильской веры. Повествуя о давней истории Исхода, Р не в силах представить, будто Яхве лично сопровождал израильтян в скитаниях – подобная мысль кажется ему недопустимым очеловечением, и он заменяет ее рассказом о «славе», наполняющей скинию при встрече Моисея с Господом. Подобным же образом, в Иерусалимском храме пребывает только «слава Яхве»[102].
Самым известным вкладом Р в Пятикнижие стал, разумеется, рассказ о сотворении мира в первой главе «Книги Бытия», во многом вдохновленный образами «Энума элиш». Начинается повествование с вод над первобытной бездною (тегом, искаженное имя Тиамат), из которых Яхве создает небо и землю. В этой истории нет уже, впрочем, битвы между богами и борьбы с Йамму или Лотаном-Раавом. Заслуга сотворения всего сущего принадлежит только Яхве. Нет и последовательных эманаций, так как Яхве творит мир без усилий, простым волеизъявлением. И, разумеется, Р не считает мир божественным, сотканным из того же вещества, что и Господь. В теологии «Священника» поистине решающую роль играет именно идея разделения: Бог вносит в космос порядок, отделяя день от ночи, воды от суши, свет от тьмы. После каждого деяния Яхве благословляет созданное, объявляя, что «это хорошо». В отличие от вавилонского мифа, сотворение человека становится вершиной божественной деятельности, а не забавным капризом, приходящим напоследок на ум. Люди не имеют божественного естества, но созданы по образу Божьему – и, следовательно, обязаны исполнять Его творческие задачи. Как и в «Энума элиш», шесть дней творения завершаются субботним отдыхом. По вавилонским преданиям, в этот день проходило Великое Собрание, где боги «исправили судьбы» и наделили высшими полномочиями Мардука. У Р суббота символически противоположна изначальному хаосу, царившему в день первый. Назидательный тон и многочисленные повторы указывают на то, что новая версия истории сотворения мира предназначалась, как и «Энума элиш», для песнопений во время обрядов, на которых воздавали хвалу трудам Яхве и поклонялись Ему как Творцу и Владыке Израиля[103]. Центральное место в иудаизме Р занял, естественно, обновленный Храм. На Ближнем Востоке святилища обычно сооружались как копия мироустройства. Строительство Храма было, таким образом, imitatio dei и позволяло людям быть соучастниками творческой деятельности самих богов. В эпоху изгнания многие евреи искали отрады в давних историях о Ковчеге Завета – переносном жертвеннике, где Господь «раскинул скинию (шакан) Свою», разделив тем самым бесприютность Своего народа. Описывая сооружение в пустыне священной Скинии Собрания, Р обращается к древней мифологии. Архитектурное устройство скинии не было оригинальным и подчинялось распоряжениям свыше. На Синае Яхве дает Моисею пространные и очень подробные указания: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте»[104]. Долгое повествование о строительстве святыни не следовало, конечно, воспринимать буквально. Никто и не предполагал, будто израильтянам по силам воздвигнуть пышный храм в голой пустыне, собрав для него «золото, и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим…» и многое-многое другое. Неутомимое перечисление весьма напоминает составленную Р историю о сотворении мира. На первом этапе строительства Моисей «увидел всю работу» и «благословил» народ – точь-в-точь как поступал Яхве в шесть дней творения; святилище было закончено в первый день первого месяца года, а зодчий Веселиил черпал воодушевление в том Духе Божьем (руах элохим), который наполнил некогда все сущее. Наконец, оба предания подчеркивают важность субботнего отдыха[105]. Воздвижение Храма было также символом первоначальной гармонии, царившей до тех пор, пока люди не погубили мир злом.
Во «Второзаконии» день отдохновения предписывается как выходной всем, включая рабов, чтобы израильтяне помнили об Исходе[106]. Р придает субботе новый смысл: она становится делом в подражание Господу, знаком памятования о сотворении мира. Отдыхая в субботу, евреи соучаствуют в обряде, который некогда отправлял один лишь Бог. Налицо, таким образом, символическая попытка причаститься божественному бытию. В древнем язычестве любой поступок был подражанием богам, но культ Яхве разделил миры Бога и человека гигантской пропастью. Теперь же, соблюдая Моисееву Тору, евреи могли хоть немного приблизиться к своему Богу. Во «Второзаконии» перечисляется ряд непреложных законов, в их числе Десять Заповедей. Во время изгнания они легли в основу довольно развитого законодательства, состоящего уже из 613 заповедей (мицвот) Пятикнижия. Эти подробнейшие указания обескураживают чужаков и в новозаветной полемике представлены в крайне отрицательном свете. Евреи, впрочем, вовсе не считали эти правила непосильным бременем, каким они кажутся христианам. Для израильтян мицвот были прежде всего формой символического сосуществования с Богом. Знаком особого положения Израиля были даже перечисленные во «Второзаконии» правила питания[107]. Р видел в многочисленных запретах ритуализированное стремление приобщиться к священной отличительности Господа, сгладить мучительный разрыв между людьми и Богом. Человеческое естество станет святым лишь в том случае, если израильтяне будут подражать творческим деяниям Господа, отделяя молоко от мяса, чистое от нечистого, день отдохновения от будней.
Труд «Священника» (Р) был включен в Пятикнижие наряду с повествованиями авторов J, Е и «Второзакония» (D). Это еще раз напоминает, что любая крупная религия складывается из целого ряда независимых прозрений и самостоятельных форм духовности. Одни иудаисты всегда тяготели к Богу «Второзакония», который сделал израильтян избранным народом и жестко противопоставил их язычникам; другие предпочитали мессианские мифы с их надеждой на грядущий в конце времен День Яхве, когда Бог возвысит Израиль и принизит прочие племена. В этих мифологических представлениях Господь чаще всего выглядит очень далеким; неявно подразумевается, что конец изгнания означает завершение эпохи пророчеств. Непосредственного общения с Богом больше нет, за исключением лишь символических видений, приписываемых таким великим личностям далекого прошлого, как Енох или Даниил.
Одним из таких древних героев был Иов, которого в Вавилоне чтили как образец мученического терпения. После изгнания кто-то из иеговистов обратился к этой старинной притче и задался фундаментальными вопросами о сущности Бога и Его ответственности за человеческие страдания. По древней легенде, Бог испытывал веру Иова. За то, что праведник принимал невыносимые муки с неисчерпаемым смирением, Бог вознаградил Иова и вернул ему былое благополучие. В обновленном варианте предания Иов возмущается поступками Бога. В беседе с тремя сочувствующими друзьями он осмеливается подвергать сомнениям божественную волю и вовлекается в горячий спор. Впервые в истории иеговизма религиозное воображение верующих обратилось к довольно абстрактным рассуждениям. Пророки твердили, что Господь покарал израильтян бедствиями за их грехи, но «Книга Иова» свидетельствует, что многих евреев это привычное объяснение уже не устраивало. Иов оспаривает прежние взгляды и разоблачает их логическую несостоятельность, но в его гневную речь внезапно вмешивается Сам Бог. Он открывается Иову в видении и являет многочисленные чудеса сотворенного Им мира. Как смеет ничтожное создание вроде Иова спорить с Высочайшим на свете? Иов покоряется, но современного читателя книги, которому нужно последовательное и философское решение проблемы страданий, такой ответ не удовлетворяет. Автор «Книги Иова» не отрицает, впрочем, нашего права задавать вопросы; он просто намекает, что, когда дело касается непостижимого, одного лишь рассудка недостаточно. Умозаключения должны уступить место прямым откровениям от Бога – таким, как видения пророков.
Не успев пристраститься к философствованию, уже в IV в. до н. э. евреи подпали под влияние древнегреческого рационализма. В 332 году Александр Македонский победил персидского царя Дария III, и греки принялись колонизировать Азию и Африку. Их города-государства появились в Тире, Сидоне, Газе, Филадельфии (Амман), Триполи и даже Сихеме. В Палестине и других землях евреи очутились в кольце эллинистической культуры: одних она обеспокоила, другие же восприняли чужеземный театр, спорт, поэзию и философию с восторгом. Они изучали греческий, ходили в гимназии, брали греческие имена и воевали наемниками в греческой армии. Израильтяне даже перевели свои священные тексты на древнегреческий язык, и в результате появилась известная «Септуагинта». Благодаря этому некоторые эллины познакомились с Богом Израилевым и почитали Яхве (они Его называли Иао) наряду с Зевсом и Дионисом. Греки даже ходили в синагоги и дома собраний, построенные евреями-изгнанниками взамен прежних храмов. Там читали священные писания, молились и слушали проповеди. В древнем религиозном мире синагоги представляли собой нечто совершенно уникальное. Поскольку там не проводили обрядов и не приносили жертв, еврейские молельни больше напоминали философские школы, и, когда в городе появлялся какой-нибудь известный проповедник, многие греки спешили в синагогу с той же охотой, с какой стекались послушать собственных мыслителей. Некоторые даже соблюдали отдельные предписания Торы и присоединялись к еврейским синкретическим сектам. В IV в. до н. э. бывали случаи, когда евреи и греки отождествляли Яхве с античными богами.
Большинство евреев держались, впрочем, особняком, и в эллинистических городах Ближнего Востока между ними и греками постепенно усиливались трения. В древности религия была делом далеко не личным. Боги играли очень важную роль в жизни города; считалось, что если хоть в чем-то пренебречь их культом, они откажут людям в покровительстве. Евреев, которые утверждали, что таких богов нет, объявляли «безбожниками» и врагами общества. К концу II в. до н. э. взаимная вражда обострилась. Селевкидский царь Антиох Епифан попытался было эллинизировать Иерусалим и отправлять в Храме культ Зевса, но в Палестине тут же вспыхнуло восстание. Евреи начали создавать новые тексты, где толковали «премудрость» вовсе не в греческом смысле; под этим словом понималась прежде всего богобоязненность. Тексты о Премудрости стали на Ближнем Востоке традиционным жанром литературы. В них смысл человеческого бытия объясняли не философскими рассуждениями, а описанием наиболее правильного образа жизни. Такие тексты чаще всего были крайне прагматичны. Автор «Притч» (III в. до н. э.) пошел еще дальше и предположил, что Премудрость – это генеральный план, разработанный Господом при создании мира; таким образом, она и есть первое Его творение. Как будет показано в четвертой главе, эта идея приобрела большое значение для ранних христиан. В «Притчах» Премудрость персонифицируется, то есть представлена как самостоятельная личность:
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. […]
Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время.
Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими[108].
Однако Премудрость по естеству не божественна; особо подчеркивается, что она тоже сотворена Богом. Это нечто вроде «славы» Божьей, какой она выглядела в передаче Р. Премудрость олицетворяет Божий Замысел, по которому люди могли бы на миг заглядывать в сущность вещей и дел человеческих. Автор «Притчей» рассказывает, как Премудрость (Хохма) скитается по улицам и призывает людей убояться Яхве. Во II в. до н. э. схожий портрет Премудрости нарисовал правоверный иерусалимский еврей Иисус, сын Сирахов. В его повествовании она предстает на Божьем Собрании и возносит хвалу самой себе: некогда она изошла из уст Всевышнего как Слово, которым Господь творил мир; ныне она присутствует повсюду в мире, но для постоянного пребывания избрала народ Израилев[109].
Как и «слава» Яхве, Премудрость была символом деятельности Господа на земле. Евреи постепенно развивали настолько возвышенную идею Яхве, что представить Его лично вмешивающимся в человеческую жизнь становилось все труднее. Как и Р, иеговисты предпочитали отличать Бога в обычном понимании от истинной божественной реальности. Читая о том, как Премудрость покинула Бога и странствовала по миру в поисках человеков, трудно не вспомнить давних языческих богинь – Иштар, Анат или Исиду, – которые тоже спустились из божественных сфер, чтобы исполнить свою спасительную миссию. Около 50 г. до н. э. В Александрии, где еврейская община была особенно велика, литература о Премудрости приобрела полемическую грань. В «Премудрости Соломона», сочиненной представителем этой общины, иудаистов призывают противиться соблазнам эллинистической культуры и хранить верность собственным традициям, ведь подлинную мудрость дает богобоязненность, а не античная философия. Автор тоже персонифицировал Премудрость, именовал ее на греческий лад – Софией – и доказывал, что она неотделима от иудейского Бога:
Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его[110].
Этот фрагмент тоже станет чрезвычайно важным для христиан, когда дело дойдет до толкования естества Иисуса. Еврейский автор, однако, видит в Софии лишь один из аспектов непостижимого Господа, отчасти доступный человеческому пониманию. Она – Бог в том виде, в каком Он открывается человеку, то есть наше восприятие Божественного, таинственно отличающееся от Его истинной сущности, которую человеку не разгадать никогда.
Автор «Премудрости Соломона» проницательно подметил нараставшие трения между греческой мыслью и еврейской верой. Мы уже говорили о решающем – и, возможно, непримиримом – противоречии между аристотелевским Богом, едва ли замечающим сотворенную им самим вселенную, и Богом библейским, страстно вовлеченным в человеческую жизнь. Греческого Бога можно постичь умом, тогда как библейский Господь дает познать Себя только в откровениях. Яхве отделен от нашего мира непреодолимой пропастью, а греки полагали, что дар разумности делает людей подобными Богу и потому до Него можно при старании дотянуться. Тем не менее даже влюбленные в греческую философию сторонники единобожия неизменно старались превратить идеального Бога в своего собственного. Эти попытки будут одной из главных тем нашего дальнейшего исследования. Первым, кто их предпринял, был, вероятно, выдающийся иудейский мыслитель Филон Александрийский (ок. 30 г. до н. э. – 45 г. н. э.). Филон был платоником и заслужил репутацию видного философа-рационалиста. Он писал на безупречном греческом и, судя по всему, даже не знал еврейского – но оставался правоверным иудеем и строго соблюдал мицвот. Не исключено, что Филон просто не замечал несовместимости своего Бога с греческим. А между тем его Бог был очень непохож на традиционного Яхве. Прежде всего, Филона, по-видимому, смущали исторические книги Библии, и он пытался переиначить позорные события, превратив их в утонченные аллегории (вспомним, что Аристотель вообще ставил историю ниже философии). Бог Филона лишен каких-либо человеческих качеств: говорить, например, что Бог «гневается», совершенно неуместно. О Боге мы знаем только одно: Он есть. С другой стороны, как иудей, Филон все-таки верил, что Господь являл Себя пророкам. Как же совместить одно с другим?
Филон решил эту проблему, отметив важное различие между совершенно непостижимым естеством усия (ousia) Бога и его деяниями на земле, которые философ именовал «силами» (dynameis), или «энергиями» (energeiai). В целом, это походило на решение Р и авторов «Премудростей»: истинного Господа, как Он есть, нам не познать никогда. По Филону, Бог говорит Моисею: «Сущность Моя больше, чем могут вместить естество человеческое и, поистине, даже небеса и вся вселенная»[111]. По причине ограниченности нашего разума Бог пользуется Своими «силами», которые, судя по всему, равнозначны платоновским божественным формам (правда, в этом вопросе Филон не всегда последователен). Это и есть высшие реалии, какие только доступны человеческому пониманию. У Филона они извечно исходят от Бога, подобно тому как у Платона и Аристотеля – от Первоначала. Особенно важны две такие силы: Филон именует их Царской (она раскрывает Бога в упорядоченности мира) и Творческой (через нее Бог являет Себя в благодеяниях, даруемых людям). Ни ту, ни другую не следует путать с божественным естеством (усией), извечно окутанным непроницаемой тайной. Силы Бога позволяют нам улавливать лишь проблески совершенно непостижимой реальности. Время от времени Филон говорит о сущности (усии) Бога в сочетании с Царской и Творческой силами, образующими нечто вроде троицы. В частности, предлагая свое толкование истории о пришествии Яхве и двух ангелов к Аврааму близ дубравы Мамре, Филон утверждает, что это аллегорическое олицетворение Божественной усии (Бог-как-Он-есть) и двух главных сил[112].
J был бы изумлен подобными идеями. Евреи вообще с недоверием относились к представлениям Филона о Боге. Христианам эти взгляды принесли, однако, огромную пользу, а греки, как мы увидим далее, глубоко прониклись мыслью о разнице между непостижимым «естеством» Бога и «энергиями», посредством которых Он нам открывается. Значительное влияние на них оказала и филоновская теория о божественном Логосе. Как и другие авторы книг о Премудрости, Филон полагал, что Бог составил некий генеральный план (логос) творения. Замысел-Логос соответствовал Платоновому миру идеальных форм, и формы эти воплотились затем в материальной вселенной. В этом вопросе Филон тоже не до конца последователен: он то считает Логос одной из сил, то, судя по всему, ставит его над ними и именует высочайшей из идей Бога, доступных человеческому пониманию. Тем не менее, размышляя о Логосе, мы ничуть не приближаемся к познанию Бога, хотя и вырываемся за пределы сбивчивого ума и обретаем интуитивное восприятие, которое «выше мышления и всего драгоценнее, так как прочее – просто мысль»[113]. Такая деятельность во многом сходна с платоновским созерцанием (теорией). Филон настойчиво утверждал, что нам никогда не постичь Бога-как-Он-есть и высшей из доступных человеку истин является лишь восторженное осознание того, что Бог совершенно запределен и умом Его не объять.
Впрочем, все не так безнадежно, как может показаться. Филон поведал нам про бурные чувства и счастье, которые он испытывал при погружении в непостижимое, наделявшее его свободой и творческими силами. Как и Платон, душу он считал изгнанницей, попавшей в ловушку материального мира. Изгнаннице надлежит подняться к Богу, вернуться на родину, оставив любые слова и чувства, так как тело приковывает ее к несовершенному миру. В конце концов освобожденная душа испытывает блаженство, которое уносит ее за унылые горизонты эго к иной, беспредельной действительности. Нам уже ясно, что рассуждения о Боге часто превращались в творческую игру воображения. Пророки, размышляя о своих переживаниях, инстинктивно соотносили их с некой сущностью, которую они именовали «Богом». Филон показал, что религиозное созерцание имеет много общего с другими видами творческой деятельности. По его признанию, временами, когда он с тоской корпел над своими книгами и не мог продвинуться ни на шаг, его вдруг окутывало Божественное:
Я внезапно переполнялся, мысли сыпались, словно снег, и такая Божественная одержимость вселяла в меня какое-то корибантическое безумие, и я не замечал более ничего – ни места, ни людей, ни настоящего, ни самого себя, ни что я говорю или пишу. Ибо мной овладевали впечатления, мысли, радость жизни, пронзительные видения и необычайная ясность зрения вещей, какая дается глазам лишь при чистейшем изображении[114].
Позднее столь тесное единство с греческим миром стало для евреев невозможным. В год смерти Филона в Александрии прошли еврейские погромы; повсюду стремительно распространялась боязнь мятежей со стороны евреев. В I в. до н. э. север Африки и Средний Восток захватила Римская империя. Римляне тоже поддались соблазну эллинской культуры; их давним богам нашлось место в греческом пантеоне, а сами они с восторгом переняли эллинскую философию. Чего они не унаследовали от греков, так это неприязни к евреям. Вообще говоря, последним римляне оказывали куда больше почтения, так как считали евреев достаточно надежными союзниками в тех греческих полисах, где к Риму относились враждебно. В религии евреям тоже предоставили полную свободу: все знали, что вера израильтян очень древняя, и одно это внушало уважение. Отношения между евреями и римлянами были неплохими даже в Палестине, где чужеземную власть всегда недолюбливали. К I веку н. э. иудаизм занял в Римской империи очень прочное положение: евреи составляли десятую часть ее населения, а в Александрии, где жил Филон, евреев было не менее сорока процентов от общего числа жителей. Римский мир искал в те времена новых религиозных решений; в воздухе витали идеи единобожия, а местные боги постепенно переходили в разряд скромных частных проявлений единой и вездесущей божественности. Римлян особенно привлекала высоконравственная сторона иудаизма. Многие из тех, кто по вполне понятным причинам не желал делать обрезание и соблюдать все законы Торы, часто становились почетными членами синагог; таких верующих называли “богобоязненными”. Их становилось все больше; есть даже предположения, что в иудейскую веру обратился один из императоров Флавиев (как позднее Константин принял христианство). В Палестине, однако, группа политических ревнителей яростно сопротивлялась римской власти. В 66 г. н. э. они подняли восстание против Рима и, как ни странно, целых четыре года сдерживали натиск римских войск. Власти опасались, что евреи начнут бунтовать и в других землях, поэтому мятеж был безжалостно подавлен. В 70 г. войска нового императора Веспасиана взяли Иерусалим, Храм сровняли с землей, а город переименовали на римский лад: Элия Капитолина. Евреи в очередной раз вынуждены были стать изгнанниками.
Утрата Храма, идейного символа обновленного иудаизма, стала для верующих страшным горем, но, судя по всему, палестинские евреи, которые всегда были консервативнее эллинизированных соплеменников в диаспорах, успели подготовиться к бедствиям. На Святой Земле одна за другой появились многочисленные секты, и каждая из них так или иначе отрекалась от Иерусалимского Храма. Ессеи и кумранская секта считали, что в Храме все равно царят продажность и разврат, потому-то правоверным и приходится теперь жить небольшими группами вроде монашеской по духу общины, обосновавшейся у Мертвого моря. В секте мечтали построить новую, уже не рукотворную святыню – Храм Духа. Вместо давних обрядов жертвоприношения животных вводились очистительные ритуалы, грехи смывали с себя крещением и совместными трапезами. Бог должен пребывать в товариществе тех, кто Его любит, а не в каменном здании, – так рассуждали общинники.
Самыми прогрессивными среди евреев Палестины были фарисеи; они считали мировоззрение ессеев слишком оторванным от жизни. В Новом Завете фарисеи именуются “гробами повапленными” и громогласными лицемерами, но эти риторические крайности обусловлены полемикой I века. Фарисеи были страстными ревнителями иудейской духовности. Они верили, что всему Израилю суждено стать народом священников, а Бог должен пребывать не только в Храме, но и в самой невзрачной лачуге. В соответствии со своими взглядами, фарисеи вели себя как официальная духовная каста, соблюдали особые правила чистоты, а обряды проводили только в домашних святилищах. Они считали, что принимать пищу следует только в состоянии духовной чистоты, так как обеденный стол каждого еврея подобен жертвеннику Яхве в Храме. Помимо прочего, фарисеи призывали ощущать присутствие Бога в самых незначительных повседневных мелочах. Отныне евреи могли сближаться с Богом без посредничества священников и сложных ритуалов, а грехи искупали любовью и добрыми делами во благо своих ближних. Важнейшей из мицвот Торы стало милосердие. Кроме того, считалось, что, когда несколько евреев читают Тору сообща, рядом с ними незримо пребывает Бог. Начало столетия ознаменовалось появлением в стране двух соперничавших школ: первая, более строгая, опиралась на учение Шаммая Старшего; вторую возглавлял великий раввин Гиллель Старший – она-то и стала кузницей популярнейшей партии фарисеев. Сохранилась легенда о том, как один язычник пришел к Гиллелю и сказал, что обратится в иудаизм, если учитель успеет выразить всю сущность Торы, стоя на одной ноге. Гиллель ответил ему: «Не делай другим того, чего не пожелал бы себе, – вот и вся Тора. А теперь иди и читай ее»[115].
К началу страшного 70 года фарисейство стало самым уважаемым и значительным направлением палестинского иудаизма. Оно уже доказало своему народу, что для поклонения Богу не нужны храмы; к этому сводится смысл известной притчи:
Однажды раввин Иоханан бен Заккай вышел за ворота Иерусалима, а раввин Иошуа пошел вслед за ним и увидел, что Храм лежит в руинах.
«Горе нам! – воскликнул Иошуа. – Погибла святыня, где искупали мы грехи Израилевы!»
«Не печалься, сын мой, – ответил Иоханан. – У нас по-прежнему есть иной, не менее верный путь искупления – любящая доброта; ибо сказал Господь, что милости хочет, а не жертвы»[116].
По преданию, после падения Иерусалима раввин Иоханан бен Зак-кай (ок. 1–80 гг. н. э.) был вывезен из горящего города в гробу. Он был против восстания евреев и считал, что его народу было бы выгоднее избежать конфликта. Римляне позволили ему создать в Иавнее, что к западу от Иерусалима, независимую фарисейскую общину. Такие группы возникали по всей Палестине и Вавилонии, и между ними сохранялась тесная связь. В этих общинах проходили подготовку книжники-таннаи, к числу которых относились многие герои-раввины: сам Иоханан, мистик Акиба бен Иосиф (ок. 50–135 гг.) и раввин Исмаил бен Элиша. Таннаи составили «Мишну» – кодифицированный свод Устного Закона, где заветам Моисея придавался более современный вид. Впоследствии другие ученые – амораи – написали комментарии к «Мишне» и ряд трактатов; совокупность этих трудов получила название «Талмуд». Вообще говоря, есть два Талмуда: Иерусалимский, составленный к концу IV в., и Вавилонский; последний был закончен лишь к началу VI в. и считается сейчас более авторитетным. На этом процесс не остановился: новые поколения ученых мужей добавляли свои комментарии к Талмуду и экзегезам предшественников. Талмудические рассуждения о законе Моисея вовсе не так сухи, как может показаться со стороны. В сущности, это были нескончаемые размышления на тему о Слове Божьем и о новой «святая святых». Каждый комментарий ложился кирпичиком в стены и своды нового Храма, освящающего присутствие Бога среди Его людей.
Яхве всегда был богом потусторонним и повелевал людьми извне, с невообразимо далеких высей. Раввины сделали Его, однако, непосредственно близким человеку и наполнили Богом обыденные мелочи. Вследствие утраты Храма и мучительного опыта очередного изгнания евреи нуждались в Боге, который был бы рядом, вместе с ними. Раввины не строили какого-то официального учения о Боге. Вместо этого они учились переживать Его почти осязаемое присутствие. Такую духовность называют «нормальным мистическим» состоянием[117]. В самых ранних фрагментах Талмуда опыт переживания Бога связан с таинственными физическими явлениями. Раввины говорят о Святом Духе, который объемлет все сущее и само здание святыни и дает ощутить Свое присутствие в дуновениях ветра или жаре пламени; другие слышат Бога в колокольном звоне и громких ударах. Например, раввин Иоханан размышлял однажды над увиденной Иезекиилем колесницей, как вдруг пламя низошло с высоты, ангелы возникли ниоткуда и глас небесный подтвердил, что Господь уготовил раввину особую миссию[118].
Ощущение близости Бога было настолько сильным, что какие-либо официальные, безличные доктрины в подобных случаях были бы совершенно неуместны. Раввины не раз высказывали предположение, что каждый израильтянин из числа стоявших некогда у подножия горы Синайской воспринял Господа по-своему. Бог, можно сказать, приспосабливал Себя «под стать разумению каждого человека»[119]. Как выразился один раввин, «Бог является не удручая, но сообразно со способностью человека Его узнать»[120]. Это исключительно важное прозрение означало, что Бога невозможно описать жесткой формулой, как если бы Он был для всех одинаков; Бог – переживание исключительно субъективное. Каждый человек воспринимает Божественную реальность по-своему – в том виде, который соответствует его потребностям и характеру. Раввины утверждали, что и каждый пророк видел Господа по-своему, соответственно особенностям его представлений о Божественном. Как мы убедимся впоследствии, сходные взгляды сложились и в других формах единобожия. Богословские мнения до сих пор остаются в иудаизме делом частным и никому не навязываются.
Любая официальная доктрина умаляла бы загадочность Господа. Раввины неустанно подчеркивали, что Бог совершенно непостижим. В тайну Божественного не смог проникнуть даже Моисей, а царь Давид признался, что его попытки постичь Господа оказались тщетными: Он слишком велик для человеческого ума[121]. Евреям запрещено было даже произносить Его имя, и это еще раз напоминает, что всякая попытка выразить сущность Бога заведомо обречена. Имя Господне записывали как «YHVH» и при чтении священных текстов не произносили. Восхищаться деяниями Бога в окружающем мире допустимо, но, как сказал раввин Хуна, это может приоткрыть лишь мимолетные проблески реальности: «Человек не в силах постичь смысл грома, урагана, бури, собственного естества и порядка во вселенной. Так не безумная ли Дерзость мнить, будто способен он познать пути Царя Царей?»[122] Значение идеи Бога сводилось не к поиску удобных ответов, а к пробуждению чувства таинственности и чудесности всего сущего. Раввины даже призывали израильтян не слишком часто восхвалять Господа в молитвах, ведь и лестные слова неминуемо искажают истину[123].
Но какими отношениями может быть связана с обычным миром эта запредельная, непостижимая сущность? Раввины отвечали на этот вопрос парадоксом: «Господь – обитель мира, но мир – не Его обитель»[124]. Бог, так сказать, окружает, окутывает вселенную, но не пребывает в ней, как сотворенное Им сущее. Было у раввинов и другое излюбленное сравнение: Господь проницает мир, как душа обитает в теле: в каждом случае первое выше второго. Говорили также, что Бог подобен всаднику: сидя верхом, тот отчасти зависит от животного, но все же разумнее коня и властен над ним. Это, конечно, лишь несовершенные уподобления, и они тоже далеки от истины, так как наше воображение способно только строить догадки о бытии необъятного и невыразимого «чего-то», где мы живем и действуем. Высказываясь о присутствии Господа на земле, раввины столь же тщательно, как и библейские авторы, отличали следы Бога, которые Он позволяет нам замечать, от Его непостижимого сокровенного естества. Предпочитали образы «славы» (кавод), тетраграмматона (YHVH) и Святого Духа, постоянно напоминавшие о том, что Бог в нашем восприятии не равнозначен Его сущности.
Одним из самых популярных синонимов понятия «Бог» стала Шехина (от древнееврейского шакан: «пребывать в [чьей] скинии»). Теперь, когда храмы канули в забвение, символом близости к Божеству стал Господь, сопровождавший израильтян во время скитаний по пустыне. Многие полагали, что Шехина, оставшаяся с народом Божьим на земле, по-прежнему обитает на Храмовой горе, пусть даже сам Храм давно разрушен. Другие раввины возражали: гибель Храма, по их мнению, высвободила Шехину из окрестностей Иерусалима и позволила ей распространиться по всему миру[125]. Подобно «славе» Божьей или Святому Духу, Шехина считалась не самостоятельной божественной сущностью, а присутствием Господа на земле. Окидывая взглядом историю своего народа, раввины пришли к заключению, что Шехина была с евреями всегда:
Приди и узри, сколь любимы израильтяне Господом, ибо куда ни шли, следовала за ними Шехина, ибо сказано: «не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте?»[126]
И в Вавилоне Шехина была с ними, ибо сказано: «ради вас Я послал в Вавилон»[127]. И когда Израиль спасется в грядущем, Шехина по-прежнему пребудет с ними, ибо сказано:
«Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих»[128] – другими словами, Бог возвратится с твоими пленными[129].
Связь Израиля с Богом была такой тесной, что, вспоминая, как Он помогал им в прошлом, израильтяне часто говорили: «Себя Ты спасал, Господи!»[130] Так раввины, на свой иудейский лад, нащупали наконец идею Бога, тождественного человеку, – аналог индуистского Атмана.
Образ Шехины помогал изгнанникам воспитывать в себе ощущение Божьего присутствия повсюду, куда ни заносила их судьба. Одни раввины говорили, что в чужих землях Шехина переносится из синагоги в синагогу, другие утверждали, что она всегда пребывает у входа молельни и освящает собой каждый шаг еврея, идущего в Дом Знаний; кроме того, Шехина стоит в дверях синагоги, когда находящиеся там евреи хором произносят Шема[131]. Подобно первым христианам, раввины призывали израильтян жить сплоченной общиной – как «одно тело и одна душа»[132]. Сама община стала новым Храмом, восславляющим вездесущего Бога; когда иудаисты собирались в синагоге и повторяли Шема в унисон, «ревностно, единогласно, единомышленно и единозвучно», Господь был среди них. Но разлада в общине Он не выносил, а если подобное случалось, немедленно возвращался на небеса, где ангелы извечно поют Ему хвалу «одногласно и всесозвучно»[133]. На высшую связь Бога с Израилем можно было надеяться лишь при условии полного единства израильтян на земле. Раввины неустанно повторяли, что всюду, где несколько евреев дружно изучают Тору, появляется и Шехина[134].
В изгнании евреи с особой остротой ощущали жестокость окружающего мира, но благодаря Шехине могли чувствовать близость милосердного Господа. Иудаисты крепили к рукам и лбам филактерии (тфиллин), носили ритуальную бахрому (цицит) и, как предписывало «Второзаконие», гвоздями приколачивали над дверью домов текст Шема. Никто не должен был даже пытаться осмыслить такие странные обряды, ведь толкования лишь профанировали бы их сокровенный смысл. Вместо этого надлежало исполнять мицвот так, чтобы сам ритуал выливался в чувство всеохватной любви Господа: «Израиль любим! Библия окутывает его множеством мицвот: тфиллин на голове и руке, мезузах на двери, цицит на одеждах»[135]. Эти знаки были сродни дорогим подаркам, какие цари вручают своим супругам, чтобы те выглядели еще прекраснее.
Но все было не так просто. Судя по тому же Талмуду, кое-кто сомневался, что в нашем унылом мире вера в Бога что-то меняет[136]. Духовность раввинов стала нормой иудаизма – и не только для беженцев из Иерусалима, но и для евреев, проживших на чужбине всю жизнь. Сыграли роль вовсе не убедительные теоретические доводы – ведь многие практические предписания Моисеева Закона не имели логического смысла. Религию раввинов приняли потому, что она была действенной, помогала не впадать в отчаяние.
Эта форма духовности считалась, однако, привилегией мужчин. Женщинам не предлагали – иными словами, не разрешали – становиться раввинами, изучать Тору и молиться в синагогах. Вера в Бога, как и большинство других идеологий той эпохи, приобретала патриархальные черты. Религиозные обязанности женщин сводились к поддержанию ритуальной чистоты в доме. У евреев идея освящения сущего давно означала отделение одних его частей от других, и теперь они в привычном духе разъединили женщин и мужчин – как молоко на кухне держат в стороне от мяса. На деле это означало, что женщинам отвели место низших существ. Пусть раввины и твердили, что Господь особо благословил жен, на утренних молитвах мужчинам все равно вменялось благодарить Творца за то, что Он не сделал их язычниками, рабами или женщинами. Брак и семейный очаг, тем не менее, считались священными. Святость брака раввины подчеркивали предписаниями, которые нередко понимаются превратно. Например, запрет половой близости во время менструации объясняется вовсе не тем, что женщина в эти дни якобы грязна и неприятна. Кратковременное воздержание призвано было укрепить мужнюю любовь: «Супруг может чрезмерно привыкнуть к жене и отстраниться от нее, и потому в Торе сказано, что семь дней [в период менструации] она должна быть нидда [недоступна для половых сношений], чтобы [после] муж желал ее, как в день свадьбы»[137]. В праздничные дни перед посещением синагоги мужчине предписывалось ритуальное омовение – но не потому, что он нечист телесно, а для особой чистоты перед священным богослужением. По тем же соображениям женщине вменялось купание после месячных: так она готовила себя к последующему священнодействию встречи с мужем. Подобная идея святости сексуальных отношений стала совершенно чужда христианству, где секс и Бог нередко считались несовместимыми.
Позднее иудеи действительно очень часто толковали свои законы как запреты, но в ту эпоху раввины отнюдь не проповедовали мрачную, аскетичную, жизнеотрицающую духовность. Они, напротив, утверждали, что иудей обязан быть счастливым и радостным. Например, в их описаниях Святой Дух «покидает» или «оставляет» таких известных библейских персонажей, как Иаков, Давид или Эсфирь, когда те больны или погружены в уныние[138]. Утратив присутствие Духа, раввины нередко повторяли начальные строки двадцать первого псалма: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?» (возникает, кстати, интересный вопрос о загадочном смысле предсмертного восклицания Иисуса, промолвившего те же слова). Так или иначе, раввины учили, что Господь вовсе не желает, чтобы люди страдали. К своему телу человек должен относиться с почтением и заботой, так как оно сотворено по образу Божьему. Что касается плотских удовольствий, то избегать их даже грешно, ведь Господь создал их именно для утехи. Раввины не считали, будто мучения и аскетизм приближают к Богу. Призывая свой народ к практическим способам «стяжания» Святого Духа, они в определенном смысле предлагали каждому создать свои, личные представления о Божественном. По их словам, трудно судить, где кончаются дела человеческие и начинается Промысел Божий. Даже пророки неизменно представляли Господа видимым на земле, приписывая Ему собственные прозрения. Тем самым раввины отводили себе решение задачи одновременно человеческой и божественной. Считалось, что новые предписания создаются людьми и Богом сообща. Приумножая Тору, раввины расширяли и укрепляли Его присутствие на земле. Вскоре их самих начали почитать как живое воплощение Торы; они были более прочих «подобны Господу», так как хорошо знали Закон[139].
Ощущение вездесущности Бога привело иудаистов к представлению о святости всего человечества. Раввин Акиба учил, что мицва «Люби ближнего своего, как самого себя» является «величайшим законом Торы»[140]. Оскорбление сородича расценивалось как хула на Бога, который создал людей по Своему подобию; в сущности, дурной поступок по отношению к ближнему означал безбожие, еретическое пренебрежение к Господу. Самым страшным преступлением было, разумеется, убийство – настоящее святотатство, ибо «сказано в Писаниях: кто проливает кровь, тот унижает Божественное»[141]. Помощь ближнему считалась актом imitatio dei, подражанием Его милосердию и состраданию. Более того, все люди равны, потому что каждый создан по образу Божьему. Даже Первосвященник должен быть наказан, если причинит вред соплеменнику, ведь такой поступок равнозначен отрицанию существования Господа[142]. Бог сотворил адам, единое человечество, чтобы показать нам, что всякий, кто погубит живую душу, будет покаран так, словно разрушил целый мир. С другой стороны, спасти от смерти одного человека – все равно что целую вселенную[143]. И это были отнюдь не возвышенные рассуждения, а основы законодательства, которое запрещало жертвовать одним человеком ради многих (например, при погромах). Одним из самых серьезных проступков было унижение ближнего, даже инородца или раба – это приравнивалось к убийству, то есть кощунственному отрицанию Господа[144]. Решающее значение приобрело право на свободу: во всем своде раввинских трудов почти не встретишь упоминаний о тюремном заключении, ведь только Господь вправе лишать человека свободы. Пренебрежением к Богу считалось также распространение о ком-то дурных слухов[145]. Евреи, однако, не склонны были считать Господа своеобразным «Большим Братом», неусыпно надзирающим свыше за каждым нашим шагом. Главной задачей было, напротив, воспитание в человеке внутреннего ощущения Божественности, благодаря которому любое общение с окружающими приобретает оттенок священнодействия.
Животным очень легко жить в ладу со своим естеством, но людям, похоже, всегда было сложно оставаться по-настоящему человечными. Прежде Бог Израилев, казалось, пробуждал в своем народе самую страшную и бесчеловечную жестокость, но за долгие столетия совершенно изменился. Образ Яхве начал внушать людям сопереживание и почтительность к своим собратьям – характерные приметы всех религий «Осевого времени». Идеалы раввинов очень схожи с принципами второй религии Единого Бога, и это не удивительно, ведь корни христианства уходят именно в иудаизм.
3. Свет язычникам
В ту пору, когда Филон развивал в Александрии свой платонизированный иудаизм, а в Иерусалиме изощрялись в нескончаемых спорах Гиллель и Шаммай, на севере Палестины начинался путь нового харизматичного чудотворца. Об Иисусе нам известно очень мало. Первый связный рассказ о его жизни, Евангелие от Марка, был написан не ранее 70 г., спустя целых сорок лет после смерти Христа. К тому времени исторические факты уже переплелись с мифическими сюжетами, которые показывают, какое глубокое значение приобрел Иисус в глазах его последователей. Марк передает именно это значение, а не реалистичный портрет Христа. Ранние христиане видели в нем нового Моисея или Иисуса Навина, основателя Нового Иерусалима. Как и в Будде, в Иисусе воплотились чаяния его современников: он стал живым олицетворением вековечных мечтаний народа Израилева. Еще при жизни Иисуса многие палестинские евреи уверовали в него как в Мессию. У ворот Иерусалима его встречали и славили как Сына Давидова, но уже несколько дней спустя предали мучительной римской казни – распятию. Несмотря на скандальную историю Мессии, который умер как обычный преступник, его ученики не могли смириться с тем, что вера в него была ошибкой. Пошли слухи, что Иисус воскрес из мертвых. Одни поговаривали, что через три дня после казни его гроб оказался пустым, другие клялись, будто он являлся им в видениях, а однажды Христа якобы встретили сразу полтысячи человек. Ученики верили, что он скоро вернется, чтобы утвердить мессианское Царство Божье, – и, поскольку в таких представлениях не было ничего противного иудаизму, секту христиан признавали многие правоверные иудеи, в том числе и такие авторитеты, как раввин Гамлиил, внук Гиллеля и один из самых прославленных таннаим. Последователи Иисуса, как все богобоязненные евреи, ежедневно бывали в Храме. Позже, однако, идея Нового Израиля, внушенная жизнью, смертью и воскресением Иисуса, стала новой языческой верой, которая в конце концов пришла к совершенно новым представлениям о Боге.
Во времена казни Иисуса (ок. 30 г. н. э.) евреи уже были рьяными монотеистами, поэтому никто не предполагал, что Мессией окажется божественная сущность: это должен был быть простой смертный, пусть даже из высших сословий. Кое-кто из раввинов считал, что имя Мессии ведомо Богу предвечно, и в этом смысле можно, конечно, говорить, что Мессия пребывает «в Боге» от сотворения мира. Такую же символику вкладывали «Притчи» и «Екклесиаст» в образ божественной Премудрости. Евреи ожидали, что Мессией, «Помазанником», будет потомок Давида, царя и духовного пастыря, основавшего первое еврейское государство со столицей в Иерусалиме. В «Псалмах» Давида и Мессию время от времени именуют «Сынами Божьими», но это лишь образное выражение, подчеркивающее их особые отношения с Яхве. С тех пор как евреи вернулись из вавилонского плена, никто и помыслить не мог, что у Яхве, будто у какого-то гнусного языческого божка, может появиться отпрыск.
В «Евангелии от Марка» (самом раннем и, как принято считать, наиболее достоверном) Иисус выглядит вполне обычным человеком: семья, братья и сестры – и никаких ангелов, возвещающих его рождество и поющих над колыбелью. Младенчество и отрочество Иисуса вообще не отмечены ничем выдающимся. Более того, когда он начал проповедовать, горожане Назарета удивлялись, что сын местного плотника оказался таким необыкновенным. Марк повествует только о зрелых годах Иисуса. Вполне возможно, что Иисус был вначале учеником некоего Иоанна Крестителя, бродячего аскета – и, вероятно, ессея, поскольку Иоанн считал иерусалимскую власть безнадежно развращенной и выступал против нее с гневными проповедями. Он призывал простой люд покаяться и совершить очистительный обряд крещения в Иордане, как заведено у ессеев. Лука полагает, что Иисус и Иоанн состояли в родстве. Так или иначе, но именно для того, чтобы принять у Иоанна крещение, Иисус прошел долгий путь из Назарета в Иудею. И, как сообщает Марк, «когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение»[146]. Иоанн сразу понял, что перед ним Мессия. Вслед за этим эпизодом Марк тут же переходит к рассказу о том, как Иисус проповедует по городам и весям Галилеи, провозглашая: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие»[147]
Об истинном характере миссии Иисуса спорят давно. Судя по всему, в Евангелиях приводится лишь весьма незначительная часть его собственных высказываний; к тому же многие тексты были впоследствии сильно переработаны в церквах, основанных после смерти Иисуса апостолом Павлом. И все же некоторые места в текстах свидетельствуют о существенно иудаистском характере жизни и учения Иисуса. Известно, что чудотворцы в Галилее были фигурами вполне привычными. Подобно Иисусу, все они нищенствовали, проповедовали, исцеляли недужных и изгоняли бесов. Как и у Христа, у этих святых галилеян обычно бывало много учеников. Кое-кто полагает, что Иисус был фарисеем школы Гиллеля, как и Павел, который утверждал, что перед обращением в христианство был фарисеем – есть даже сведения, что он сидел у ног раввина Гамлиила[148]. Воззрения Иисуса действительно соответствовали основным убеждениям фарисеев, ведь он тоже считал, что милосердие, любовь и доброта являются важнейшими из мицвот. Как и фарисеи, он хранил верность Торе; известно также, что он соблюдал правила набожности строже, чем многие его современники.[149] Кроме того, он фактически проповедовал «золотое правило» Гиллеля, утверждая, что весь Закон можно выразить одной идеей: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки».[150] В том же Евангелии от Матфея Иисус выступает с резкой обличительной речью против «книжников и фарисеев», в которой именует их лицемерами; но столь клеветническое искажение реальных фактов со стороны человека, чья доброжелательность, по всеобщему мнению, была отличительной чертой всей его миссии, выглядит в высшей степени недостоверным. Лука, например, отзывается о фарисеях довольно положительно – и в Евангелии, и в «Деяниях Апостолов». Добавим, что если бы фарисеи действительно были заклятыми врагами Иисуса и обрекли его на казнь, Павел вряд ли решился бы упомянуть о своем фарисейском прошлом. Антисемитский тон «Евангелия от Матфея» отражает, вероятнее всего, напряженность в отношениях иудаистов и христиан, которая возникла намного позднее, уже в 80-е годы. В Евангелиях Иисус часто спорит с фарисеями, но эти диспуты либо вполне дружелюбны, либо отражают несогласие с более суровой школой Шаммая.
После смерти Иисуса его ученики решили, что он – Бог. Случилось это, впрочем, далеко не сразу; скоро мы убедимся, что доктрина об Иисусе как Боге в облике человека сформировалась лишь к четвертому столетию. Развитие христианской веры в Вочеловечение было процессом медленным и сложным. Сам Иисус явно не притязал на Божественность. При крещении глас небесный называет его «Сыном Божьим», но это, скорее всего, просто подтверждение того, что Иисус и есть возлюбленный Мессия. В подобном свидетельстве свыше нет ничего необычного: многие раввины испытывали так называемый бат кол (буквально: «Дочь Гласа») – особый душевный взлет сродни более прямым пророческим видениям[151]. Однажды такой бат кол услышал Иоханан бен Заккай, когда на него и его учеников низошел в виде огня Святой Дух, подтвердивший его, раввина, миссию. Иисус называл себя «Сыном Человеческим». Об этом именовании тоже немало спорили, но исходное выражение на арамейском (бар наша), судя по всему, просто подчеркивает людскую слабость и бренность. Если так, то Иисус скромно пояснял, что по-человечески смертен и рано или поздно тоже уйдет.
В Евангелиях говорится, что Господь наделил Иисуса определенными божественными «силами» (dynamis), которые позволяли этому простому смертному творить божественные чудеса исцеления и отпускать грехи. Таким образом, глядя на деяния Иисуса, люди видели живое и наглядное подобие Бога, в чем трое его учеников убедились однажды без всяких сомнений. Этот сюжет сохранился во всех синоптических Евангелиях и стал очень важным для христиан грядущих поколений. Иисус взошел с Петром, Иаковом и Иоанном на высокую гору (по устоявшейся версии, это была гора Фавор в Галилее) и там «преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет»[152]. Затем Иисус беседовал с представшими рядом Илией и Моисеем – они олицетворяют соответственно пророков и Завет. Петр чуть не лишился рассудка и, словно сам не понимая, о чем говорит, пролепетал, что в память о таком событии неплохо бы поставить на горе три кущи. В этот миг вершину окутало светлым облаком (вроде того, что опустилось некогда на гору Синайскую), и бат кол провозгласил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»[153]. Столетия спустя греческие христиане, размышляя над сокровенным смыслом этого видения, пришли к выводу, что тогда посредством преображенной человечности Иисуса воссияли «силы» Господни.
Те же греки подметили, впрочем, что Иисус никогда не утверждал, будто такие божественные «силы» могут проявляться только через него. Напротив, он неустанно напоминал ученикам, что если у них будет «вера», то появятся и «силы». Под «верой» он понимал, конечно, не разработку всех теологических тонкостей, а воспитание внутреннего состояния – открытости, полной самоотверженности перед Господом. Любому, кто полностью, без остатка вверит себя Богу, по силам делать то же, что делал Иисус. Подобно раввинам, Иисус считал, что Дух благосклонен не к редким избранным, а ко всем доброжелательным людям. В некоторых фрагментах даже предполагается, что Иисус – опять же, как многие раввины, – не отрицал того, что Дух может низойти и на гойим. Главное – «иметь веру», и тогда всякий сможет творить еще большие чудеса: не только изгонять бесов и отпускать грехи, но даже поднять гору и ввергнуть ее в море[154]. Истинно верующий сам ощутит, как его человеческая слабость и бренность преображается деятельными «силами» Господа, которыми полнится мир Царства Мессии.
После смерти Иисуса его ученики не могли расстаться с верой в то, что он был так или иначе богоподобен. Молиться ему начали практически сразу. Святой Павел ничуть не сомневался, что силы Господни доступны даже язычникам, и проповедовал Евангелие в землях Македонии, Греции и нынешней Турции. Он был убежден, что в Новый Израиль могут войти не только евреи, соблюдающие Завет Моисеев во всей его полноте. Это возмутило ближайших учеников Иисуса, которые хотели создать более узкую, чисто иудейскую секту, и они после горячих споров порвали с Павлом. Впрочем, большую часть учеников Павла составляли евреи диаспоры и «богобоязненные», так что Новый Израиль все равно оставался глубоко иудейским. Павел никогда не называл Иисуса «богом» – только «Сыном Человеческим» в чисто иудаистском смысле; очевидно, что Иисус не был для апостола воплощением самого Господа: по мнению Павла, он просто обладал Божьими «силами» и «Духом», которыми вершились деяния Господа на земле и которые не следовало приравнивать к недоступной Божественной Сущности. Новоявленные христиане языческого мира, разумеется, далеко не всегда улавливали подобные тонкости; прошло время, и чудотворца, который всеми силами подчеркивал свою слабость и бренность, все равно обожествили. Доктрина Вочеловечения Господа во Христе всегда возмущала иудаистов, а позднее была признана богохульством и в исламе. Замысловатая идея Вочеловечения таила в себе целый ряд опасностей; к тому же христиане часто понимали ее слишком буквально. Впрочем, в истории религии почитание «божьих воплощений» – дело обычное; мы еще увидим, что поразительно сходные по смыслу теологические построения разрабатывали даже иудаисты и мусульмане.
Религиозный порыв, предопределивший удивительное обожествление Иисуса, станет более понятным после краткого освещения событий, происходивших в ту же пору на другом конце света. В индуизме и буддизме стало общепринятым поклонение таким возвышенным существам, как сам Будда или воплощения традиционных индуистских божеств. Эта форма почитания личностей, именуемая бхакти, была обусловлена извечной тягой людей к религиям «с человеческим лицом». Тем не менее столь явная смена отправных точек в обеих индийских религиях без особых трудностей совместилась с исходной верой, поскольку не отменяла ее важнейших приоритетов.
Будда умер в конце VI в. до н. э., и люди, естественно, хотели сберечь о нем память, но скульптуры и картины выглядели неуместными, ведь, погрузившись в нирвану, Просветленный уже не «существовал» в обычном смысле слова. Между тем крепла любовь к Будде-человеку, и желание размышлять об этой просветленной человечности стало таким острым, что в I в. до н. э. статуи все-таки появились. Первые из них поставили в Гандхаре (северо-восток Индии) и Матхуре на реке Джамна. Духовная сила, исходившая от подобных изображений, обеспечила им центральное место в буддийской духовности – несмотря на то что почитание человека, который полностью отбросил все личное, заметно противоречило самой сути учения Гаутамы. Впрочем, все религии меняются и развиваются, иначе рискуют просто устареть. Большинство буддистов ценят бхакти исключительно высоко, поскольку понимают, что эта дисциплина сберегла многие глубокие истины, которым грозило забвение. Вспомним, что, достигнув просветления, Будда пережил искушение остаться в нирване, но сочувствие к страдающему человечеству заставило его еще сорок лет провести в нашем мире, проповедуя Путь. Однако к I веку до н. э. буддийские монахи, похоже, все-таки позабыли об этом: они отгородились от мира стенами своих обителей и стремились достичь нирваны. К тому же монашеская жизнь отпугивала своими тяготами, и многие чувствовали, что она им не по силам. В I столетии н. э. появился новый тип буддийского героя – бодхисаттва, человек, который по примеру Будды отказался от нирваны, пожертвовав собственным освобождением ради спасения других. Бодхисаттва обрекает себя на новые рождения, лишь бы помочь людям избавиться от страданий. Как поясняют «Праджня-парамита-сутры» («Проповеди о совершенной мудрости»), составленные в конце I в. до н. э., бодхисаттвы
…не стремятся к личной нирване. Напротив, они видели множество страданий в мире бытия и, по-прежнему желая обрести высшее просветление, не пугаются более рождений и смертей. Они остаются во благо мира, для облегчения бремени мира, из сострадания к миру. Они исполнились решимости: «Мы станем защитой миру, местом успокоения в мире, окончательным утешением для мира, островами в этом мире, светом миру, наставниками для мира, указующими путь к спасению»[155].
Кроме того, бодхисаттва обладает неисчерпаемым источником добродетели и помогает менее одухотворенным людям. Тот, кто поклоняется бодхисаттве, получает возможность попасть в следующей жизни на одно из райских небес буддийской мифологии – в мир более благоприятный для достижения просветления.
Священные тексты неустанно напоминают, что подобные идеи не следует воспринимать буквально. Они не имеют ничего общего с привычной логикой и земными явлениями; это лишь символы, таящие неуловимую истину. В начале II в. н. э. философ Нагарджуна, основатель школы «пустоты», воспользовался парадоксами и диалектическим подходом, чтобы показать бессилие обычного понятийного языка. Окончательные истины, по его мнению, можно постигать только интуитивно, посредством медитации. Даже само буддийское учение условно: оно выражено исключительно обыденными, человеческими словами и потому не может во всей полноте изъяснить реальность, о которой пытался сообщить Будда. Буддисты, перенявшие эту философию, вскоре начали верить, что все вокруг нас – иллюзия (у нас, на Западе, их назвали бы идеалистами). Абсолют, сокровенная основа всего сущего, есть не что иное, как пустота, ничто, небытие, так как не существует в обычном смысле слова. Вполне естественно, что эту «пустоту» отождествили с нирваной. Каждый будда, включая Гаутаму, достигает нирваны, и из этого следует, что он в результате некоего несказанного преображения становится нирваной и безраздельно сливается с Абсолютом. Таким образом, всякий, кто стремится к нирване, тем самым жаждет отождествиться с буддами.
Легко заметить, что бхакти – поклонение буддам и бодхисаттвам – очень похоже на христианскую веру в Иисуса. Помимо прочего, такой подход сделал буддийскую веру более приемлемой для широких масс (вспомним, как мечтал Павел сделать иудаизм доступным для язычников). Сходным образом развивалась идея бхакти и в индуизме; там начали поклоняться прежде всего Шиве и Вишну, двум старшим ведическим божествам. Популярное идолопоклонство вновь оказалось сильнее философской строгости упанишад. Со временем индуисты создали и свою Троицу: Брахма, Шива и Вишну считались тремя символами, или аспектами, единой и невыразимой реальности.
Быть может, Божественную тайну лучше созерцать в образе Шивы, парадоксального бога добра и зла, плодовитости и воздержанности, созидания и разрушения. По известной легенде, Шива – великий йог; он помогает верующим преодолеть личностное разумение Божества посредством медитации. Вишну обычно добр и весел. Он часто является людям в виде многочисленных воплощений, или аватар, самой прославленной из которых был Кришна – отпрыск знатной семьи, воспитанный пастухами. Популярные предания с восторгом повествуют о том, как он резвился с девицами; в этом случае Бог предстает перед нами в облике Возлюбленного Души. В другом случае, однако, Вишну-Кришна открывает царевичу Арджуне свою устрашающую сторону:
Вижу богов в твоем теле, о Боже, и множество разных существ – владыку Брахму, космического творца, сидящего на лотосе-престоле, всех мудрецов и божественных змиев[156].
Кришна каким-то чудом вмещает в своем теле все; у него нет ни начала, ни конца, он заполняет собой все пространство и содержит всех божеств: «Боги ревущих бурь, боги солнца, яркие боги и боги обрядов»[157]. Кроме того, он – «человека дух неустанный», то есть суть человечности[158]. К нему все стремится, словно реки к морю или мотыльки к палящему огню. Глядя на это ужасающее зрелище, Арджуне остается только дрожать и трепетать; он едва не лишается чувств.
Развитие бхакти отвечало глубокой потребности человека в личных взаимоотношениях с Божеством. Поскольку Брахман совершенно недоступен, существовала опасность, что он, подобно древнему Богу Неба, полностью изгладится из человеческой памяти. Эволюция идеала бодхисаттвы в буддизме и аватары Вишну в индуизме свидетельствует о новой ступени развития религиозности, когда верующие настаивают на том, что Абсолют не может быть чем-то меньшим, нежели человек. С другой стороны, эти символические учения и мифы исключают мысль о том, будто Абсолют можно выразить одним-единственным богоявлением: и будд, и бодхисаттв, и аватар было и будет очень много. Наконец, в этих мифах выразился идеал человечества: каждый должен стать просветленным, превратиться в бога – это и есть наше предназначение.
В I в. н. э. в иудаизме тоже росла жажда божественной имманентности. Личность Иисуса вполне соответствовала чаяниям людей. Апостол Павел, первый христианский автор и основоположник христианства как религии, считал, что Иисус сменил Тору и отныне является главным самооткровением Господа перед миром[159]. Остается лишь гадать, что под этим понималось. Послания Павла были скорее ответами на конкретные вопросы, а не последовательным и строгим изложением богословия. Очевидно, что он считал Иисуса Мессией: само слово «христос» является переводом древнееврейского Massiach, «помазанник». Кроме того, об Иисусе апостол говорил как о человеке необычном, хотя, как правоверный иудей, никогда не утверждал, будто Иисус – воплощенный Бог. Для описания своих чувств Павел постоянно пользуется выражением «во Христе»: христиане живут «во Христе», его смертью они крещены, а Церковь каким-то загадочным образом составляет Тело Христово[160]. Доказывать подобные истины логически Павел даже не пытался. Как и у многих других иудеев, у него были самые смутные представления о греческом рационализме, который он именует попросту «безумием»[161]. Все основано на чисто субъективных, мистических впечатлениях, и потому апостол описывает Иисуса как атмосферу, где «мы Им живем и движемся и существуем»[162]. Иисус стал для Павла источником религиозных переживаний, и апостол рассказывает о нем с таким благоговением, с каким его современники говорили, должно быть, только о Боге.
Разъясняя переданную ему веру, Павел утверждает, что Иисус страдал и умер «за грехи наши»[163]. Похоже, ученики Иисуса были настолько потрясены позорной казнью, что всеми силами старались оправдать ее некой пользой. В девятой главе мы еще поговорим о том, как на протяжении XVII столетия другие иудеи искали подобное объяснение не менее позорной смерти другого Мессии. Первые христиане верили, что Иисус каким-то чудом выжил, но «силы», которыми прежде обладал только он, отныне, как и было обещано, перешли к его ученикам. Из посланий Павла нам известно, что первые христиане испытывали самые разнообразные необычные переживания, наводящие на мысль о появлении нового идеала человека: одни творили чудеса, другие говорили на небесных языках, третьи оглашали провозвестия, внушенные, по их мнению, Самим Богом. Церковные службы были мероприятиями шумными и зрелищными, что выгодно отличало их от нынешних пресных речитативов в приходских церквах. Судя по всему, смерть Иисуса действительно была в каком-то смысле благотворной – она родила «обновленную жизнь» и «новую тварь», о которых многократно говорит в своих посланиях Павел[164].
Но в то время не было еще хорошо разработанной теории распятия как искупления «первородного греха» Адама; этот раздел богословия появился не ранее четвертого века и стал важным только для Запада. Павел и другие новозаветные авторы никогда не пытались точно разъяснить, в чем заключается спасительность смерти Иисуса. Несмотря на это, образ жертвенной казни Христа во многом сходен с идеалом бодхисаттвы, набиравшим в те времена силу в Индии. Иисус, как и бодхисаттва, стал посредником между человеком и Абсолютом – с той лишь разницей, что Христос был единственным таким посредником и его содействие спасению людей было fait accompli[165], а не делом неопределенного будущего. Павел настаивает на том, что самопожертвование Иисуса было событием уникальным. Хотя апостол и выражает надежду, что его собственные терзания тоже принесут пользу другим, не остается никаких сомнений в том, что мучения и смерть Иисуса куда выше «рангом»[166]. В такой идее, впрочем, таится своя опасность. Бесчисленные будды и непостижимые, парадоксальные аватары напоминали верующим, что Высшую реальность совершенно невозможно изъяснить до конца. Уникальность Вочеловечения в христианстве неявно предполагает, что неисчерпаемое бытие Бога уже проявилось однажды во всей полноте в одном-единственном человеке, а это может привести к примитивному идолопоклонству.
Сам Иисус повторял, что «силы» Господни доступны не только ему. Павел развивал эту идею, доказывая, что Иисус был лишь первым образцом нового человека: он не просто сделал то, что не удавалось прежнему Израилю, но и стал новым Адамом, символом обновления человечества – всех людей, в том числе и гойим[167]. Такая мысль тоже имеет много общего с буддийской: поскольку все будды слились воедино с Абсолютом, к этому сводится и предназначение каждого человека.
В послании к филиппийской церкви Павел произносит слова, которые принято считать первым христианским гимном. Помимо прочего, в нем поднимается ряд важных проблем. Прежде всего, апостол разъясняет новообращенным, что они, как сам Иисус, должны быть готовы к самопожертвованию:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти яростной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя свыше всякого имени,
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
И всякий язык исповедал, что Господь [Кириос] Иисус Христос в славу Бога Отца[168].
В этом гимне, очевидно, отражено распространенное среди первых христиан мнение о том, что Иисус изначально обладал неким предсуществованием «в Боге» и лишь затем стал человеком посредством «самоуничижения» (кенозис) – то есть, подобно бодхисаттвам, решил разделить страдания с простыми смертными. Склад ума Павла был слишком иудейским, чтобы счесть Христа вторым Лицом Божества, извечно сущим наряду с YHVH. Гимн ясно показывает, что даже после вознесения Иисус остается отличным от Бога и занимает относительно Него низшее положение, хотя Господь возвеличил его и наградил званием Кириос. Не сам Христос принял это имя; оно дано ему лишь «в славу Бога Отца».
Примерно сорок лет спустя, около 100 г., подобное предположение высказал автор Евангелия от Иоанна. Во введении он рассказывает о Слове (логос), которое было «в начале у Бога» и стало орудием творения: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»[169]. Под греческим понятием логос евангелист подразумевает вовсе не то, что когда-то имел в виду Филон; судя по духу текста, его автору куда ближе был палестинский, а не эллинизированный иудаизм. В арамейских переводах древнееврейских текстов, так называемых таргумах, термин Метга («слово») означает деятельность Господа на земле. По существу, он передает тот же смысл, что и более ранние категории «славы», «Святого Духа» или Шехины, то есть подчеркивает разницу между проявлениями Божественного в нашем мире и непостижимым бытием Самого Бога. Как и божественная Премудрость, «Слово» олицетворяет исходный созидательный замысел Господа. Говоря о том, что Иисус имел некое предвечное существование, Павел и Иоанн вовсе не подразумевают, будто он был вторым божественным «Лицом», как в более позднем учении о Троице. Апостолы просто утверждают, что Христос возвысился над преходящим и личностным уровнем бытия. И поскольку воплотившиеся в Иисусе «сила» и «премудрость» означают деятельность Самого Господа, Христос действительно в определенном смысле выразил то, «что было от начала»[170].
Подобные идеи имели смысл в контексте строгого иудаизма, но поздние христиане, воспитанные на греческой мысли, истолковали их совсем иначе. «Деяния апостолов», написанные не ранее 100 г., со всей очевидностью показывают, что у первых христиан сохранялись сугубо иудейские представления о Боге. На Пятидесятницу[171], когда сотни евреев всех диаспор сошлись в Иерусалим, чтобы отпраздновать годовщину появления Торы, на учеников Иисуса низошел Святой Дух. Они услышали, как «внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, […] и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные»[172]. Святой Дух явился первым евреям-христианам так же, как он открывался их современникам, таннаим. Ученики Христа тут же поспешили на улицы и начали проповедовать перед толпами евреев и «богобоязненных» из «Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее»[173]. Ко всеобщему изумлению, каждому слушателю казалось, будто апостолы говорят на его родном языке. Обратившийся затем к толпе Петр представил это чудо как торжество иудейской веры: пророки предсказывали, что однажды Господь изольет свой Дух на всех людей, так что даже женщины и рабы будут видеть видения и «сновидениями вразумляться»[174]. Этот день должен был ознаменовать становление Царства Мессии, когда Господь начнет жить на земле рядом со Своим народом. Петр отнюдь не утверждает, что Иисус Назорей был Богом, и лишь повторяет слова «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди нас, как и сами знаете». После мученической смерти Иисуса Господь воскресил его и вознес на особое, высочайшее место одесную Себя. Эти события были предвидены пророками и сочинителями псалмов, так что теперь «весь дом Израилев» может не сомневаться, что Иисус и был долгожданным Мессией[175]. Речь Петра является, судя по всему, главным провозвестием (керигмой) ранних христиан.
К концу IV в. христианство существенно окрепло именно в тех землях, которые перечислил автор «Деяний». Оно пустило корни в синагогах еврейской диаспоры, куда приходило немало «богобоязненных», то есть прозелитов. Казалось, реформированный иудаизм Павла решил множество давних проблем, ведь те люди в своем роде тоже «говорили на иных языках»: им не хватало единодушия и последовательности во взглядах. Многие евреи диаспоры считали Иерусалимский храм, насквозь пропитанный кровью животных, учреждением примитивным и варварским. «Деяния апостолов» донесли до нас это мнение в истории Стефана, еврея-эллиниста, который перешел в секту Иисуса и за богохульство был насмерть забит камнями по приговору Синедриона, еврейского совета старейшин. В своей предсмертной, полной страсти речи Стефан заявил, что Храм – оскорбление самой природы Бога: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет»[176].
Многие члены еврейской диаспоры по-прежнему признавали талмудический иудаизм, разработанный раввинами после разрушения Храма; другие же считали, что христианство дает ответ на давние вопросы о статусе Торы и универсальности иудаизма. Особенно привлекательной новая вера была, разумеется, для «богобоязненных», у которых появлялась надежда стать полноправными гражданами Нового Израиля без изнурительного бремени шестисот тринадцати мицвот.
В первом веке христиане продолжали размышлять о Боге и молились ему как правоверные иудеи; они дискутировали наравне с раввинами, а церкви их мало чем отличались от синагог. Однако в 80-е годы, когда христиан официально изгнали из синагог за отказ соблюдать Тору, начались их язвительные диспуты с иудаистами. В первые десятилетия н. э. иудаизм, как мы уже знаем, привлек немало новообращенных, но после 70 года, когда у евреев начались трения с римлянами, позиции их веры серьезно ослабели. Частые переходы «богобоязненных» в лагерь христиан отбили у иудаистов охоту к прозелитизму и заставили относиться к потенциальным кандидатам с подозрительностью. Язычники, которых прежде мог привлечь иудаизм, обращались теперь к христианству; правда, в большинстве своем то были рабы и представители беднейших сословий. Образованные иноверцы начали принимать христианство лишь к концу II столетия; именно они и сумели разъяснить идеи новой религии недоверчивому языческому миру.
В Римской империи христианство сочли сперва одним из ответвлений иудаизма, но после того, как христиане перестали показываться в синагогах, к ним начали относиться с презрением: отречение от веры отцов римляне восприняли как страшный грех, а саму секту – как религиозных фанатиков. Римским моральным идеалом была консервативность; высшая ценность придавалась обычаям предков и авторитету главы семейства. Под «прогрессом» понимались вовсе не дерзновенные прорывы в грядущее, а возвращение к былому золотому веку. В нашем обществе, основой которого стали перемены, в сознательном отказе от прошлого принято видеть большой творческий потенциал, но римляне считали любые новшества опасными и даже губительными. С особой же подозрительностью они относились к любым массовым движениям, рвавшим оковы традиций. По этой причине Рим строго следил за религиозным «шарлатанством» и ревностно ограждал от него своих подданных. И все же в Империи витал дух беспокойства и неудовлетворенности. Условия жизни в гигантском межнациональном государстве лишили древних богов величия и силы; теперь люди слишком остро сознавали существование чужих, непонятных культур. Требовались новые духовные решения. В Европу тем временем проникали восточные культы; Исиде и Семеле поклонялись наряду с традиционными римскими божествами, символами устоев государства. На протяжении I в. н. э. то и дело возникали новые секты, обещавшие обращенным спасение и доподлинные знания о потустороннем мире. Однако ни одна из новоявленных религий пока не угрожала старым порядкам. Восточные божества не требовали безраздельного к себе внимания и не противоречили прежним обрядам; они были чем-то вроде святых, помогали по-новому увидеть мир, освежали ощущение его просторности. Присоединяйся к любым культам, чти любых божеств! До тех пор, пока та или иная иноземная религия не представляла угрозы для привычных богов и не слишком выставляла себя напоказ, власть относилась к ней с терпимостью и без труда совмещала с привычным укладом жизни.
От религии в ту пору не ждали мучительных размышлений и объяснения смысла жизни. С подобными нуждами обращались к философии. В эпоху поздней античности жители Римской империи поклонялись богам, чтобы заручиться их помощью в трудную минуту, добиться божественного благоволения к своей стране и ощутить целительную связь с минувшим. Религия заключалась не столько в богословии, сколько в культах и обрядах; она опиралась на чувства, а не на идеологию или принятую рассудком теорию. Подобное отношение нередко встречается и в наши дни: многих из тех, кто ходит сейчас на богослужения, теологические тонкости занимают в последнюю очередь.
Большинству людей не нужно никакой экзотики, им не по нраву сама идея новшеств. Они чувствуют, что сложившиеся обряды приносят ощущение связи с традиционным, а неизменность всегда успокаивает. Прихожане не ждут от проповедника блистательных свежих мыслей, и любое нарушение привычного порядка службы их только настораживает. Примерно такими же были и язычники поздней античности: им нравилось чтить богов, которым до них поклонялись многие поколения предков. Древние ритуалы вызывали чувство самобытности, укрепляли местные традиции и, казалось, были залогом того, что жизнь и дальше будет не хуже, чем теперь. Достижения цивилизации выглядели хрупкими, а безрассудное пренебрежение к богам-покровителям, которые помогали человеку сберечь плоды его творчества, могло поставить любые свершения под угрозу. Всякий культ, так или иначе противоречивший вере отцов и дедов, воспринимался со смутной опаской. Таким образом, христианство было неудобным вдвойне: у него не было ни вызывающего почтительность тысячелетнего стажа иудаизма, ни привлекательных обрядов язычества, которые всякий мог увидеть и оценить своими глазами. Кроме того, новая вера несла в себе серьезную угрозу: христиане настаивали, что их Бог – единственный, а прочие божества – лишь выдумки. Римскому биографу Гаю Светонию (70–160 гг.) христианство казалось сектой иррациональной и эксцентричной: superstitio nova et prava[177] – «порочное», разумеется, именно в силу своей «новизны»[178].
Образованные язычники обращались за знаниями к философии, а не к религии. Их святыми и пророками были такие античные философы, как Платон, Пифагор и Эпиктет, которых называли иногда «богорожденными». Считалось, например, что Платон действительно был сыном Аполлона. К религии философы относились с прохладной почтительностью, так как она, по их мнению, занималась совершенно иными материями. В те времена философы были не сухарями-книгочеями в башнях из слоновой кости, а людьми деятельными и общительными; они стремились спасать души современников и привлекали в свои школы как можно больше учеников. И Сократ, и Платон были в своей философии весьма «религиозными»: благодаря научным и метафизическим рассуждениям перед ними раскрывалось величие вселенной. Таким образом, в I в. н. э. грамотные и пытливые умы искали ответы на загадки жизни именно у античных философов, чьи сочинения содержали и вдохновляющую идеологию, и высоконравственные принципы. Христианство казалось большинству варварским предрассудком, а христианский бог – свирепым первобытным идолом, который то и Дело беспричинно вмешивается в суету смертных. Он, разумеется, не шел ни в какое сравнение с далеким и неизменным Богом таких философов, как Аристотель. Одно дело – допускать, что сынами божеств были личности масштаба Платона или Александра Македонского, и совсем другое – боготворить какого-то еврея, позорно казненного где-то на задворках Римской империи.
Одной из самых популярных философий поздней античности был платонизм. Неоплатоников I и II вв. Платон привлекал не как этический и политический мыслитель, но как мистик. Его труды помогали философам познавать себя, освобождали душу из темницы тела и переносили в мир Божества. Это была возвышенная и благородная система взглядов, где космология отражала прежде всего устойчивость и согласованность вселенной. Бытие Бога заключалось в безмятежном созерцании Себя; неподвластный губительному влиянию времени и перемен, Он пребывал на самой вершине необъятной иерархии сущего. Вселенная зародилась в Боге и была естественным следствием Его чистого бытия; от Него исходили вечные формы, которые, в свою очередь, наполняли жизнью солнце, звезды и луну – светила, прикрепленные к отведенным им сферам. Были, наконец, и божества, но в них теперь видели ангелов-помощников Верховного Бога, которые несли божественное в подлунный мир. Платоник не нуждался в варварских сказках о боге, который ни с того ни с сего решил сотворить мир или, пренебрегая иерархией бытия, вступал в непосредственное общение с жалкой горсткой смертных. Последователям Платона не требовалось гротескное спасение благодаря распятому Помазаннику. Философ сам был подобен Богу, подарившему жизнь всему сущему, и потому мог вознестись в высшие сферы самостоятельно – разумно и в полной гармонии со вселенной.
Как же христианам удалось обратить в свою веру языческий мир?
Христианство словно сидело меж двух стульев: оно не было, по мнению римлян, ни религией, ни философией. Более того, христианам было довольно трудно даже толком перечислить свои «убеждения». Они вряд ли вообще сознавали, что создают совершенно особую систему взглядов, и в этом были очень похожи на своих сограждан-язычников. В их вере еще не было последовательного «богословия». Точнее всего христианство того времени можно определить как старательно воспитываемое состояние преданности. Слова «символа веры» произносились христианами не для того, чтобы выразить свое согласие с неким набором утверждений. Само слово credere, «верить», произошло, скорее всего, от cor dare: «вверять свое сердце». Восклицание «Credo!» («верую!», или, по-гречески, pisteno) подразумевало прежде всего эмоциональное, а не интеллектуальное отношение. Так, например, Феодор, который с 392 по 428 год был епископом Мопсуэстии, что в Киликии, втолковывал своей пастве:
Когда клянешься Господу: «Верую» (pisteno), тем самым показываешь, что остаешься верен Ему, никогда от Него не отвратишься, всегда будешь чтить Его выше всего иного, жить в Нем и поступать по заветам Его[179].
Позже христианам потребуется более четкое теоретическое обоснование своей веры, и они воспылают беспримерной в истории мировых религий страстью к богословским спорам. Нам уже известно, что в иудаизме официальной доктрины не было, а представления о Боге оставались, в общем, личным делом каждого. Такой же подход к вере был и у первых христиан.
Во втором столетии некоторые язычники, обратившиеся в христианство, попытались вразумить заблудших сограждан и доказать, что новая вера вовсе не является губительным разрывом с общепризнанной традицией. Одним из первых таких апологетов стал Иустин Кесарийский (100–165 гг.), мученически погибший за веру. В его неутомимом стремлении докопаться до сути отражается общая духовная тревога, характерная для той эпохи. Иустин не был ни глубоким, ни блистательным мыслителем. До обращения в христианство он бывал то у стоиков, то у перипатетиков, то у пифагорейцев, но, по-видимому, так и не смог разобраться в их сложных теориях. Характер и умственные способности Иустина не совсем подходили для занятий философией, но вера на уровне культов и обрядов его тоже не устраивала, и потому христианство оказалось вполне удачным выбором. В двух своих апологиях (ок. 150 и 155 гг.) он доказывал, что по сути христиане просто следуют Платону, который считал, что на свете есть один-единственный Бог. Главным же доводом Иустина было то, что Рождение Христа предсказывали и греческие философы, и еврейские пророки, – и эта мысль, должно быть, производила в ту пору сильное впечатление на язычников, ведь прорицания все еще были в большом почете. Кроме того, апологет утверждал, что Иисус – воплощение логоса, или божественной мысли, которую стоики считали основой космического порядка; логос активно действовал на земле на протяжении всей истории и в равной мере вдохновлял как греков, так и евреев. Развить эту свежую мысль Иустин, однако, не пытался, хотя вопросов она вызывала немало: как логос смог воплотиться в человеческом облике? Равнозначен ли логос таким библейским понятиям, как Слово и Премудрость? Какие отношения связывают его с Единым Богом?
Другие христиане разрабатывали куда более радикальные богословские системы, и не из любви к рассуждениям во имя истины, а ради укрощения душевной тревоги. В частности, в поисках причин своего острого чувства оторванности от божественного мира гностики («знающие») перешли от философии к мифологии. Их мифы отражали недостаток знаний о Боге и божественном; это невежество они, естественно, переживали как источник горя и стыда. И у Василида, который преподавал в Александрии в период между 130 и 160 годами, и у его современника Валентина, явившегося в Рим из Египта, появилось огромное число приверженцев – это по-своему подтверждает, что многие из новообращенных христиан чувствовали себя растерянными и лишенными ориентиров.
Все гностики начинали с непостижимой реальности, именуемой «Божество»: от Божества произошла та меньшая сущность, которую мы называем «Богом». О Божестве нет смысла говорить, поскольку оно совершенно недоступно ограниченному человеческому уму. Как поясняет Валентин, Божество – это
…Глубина или Первообраз, необъятный и невидимый, вечный и безначальный, существовавший бесчисленные века в величайшей тишине и спокойствии. Это мужской эон; ему соприсущ был женский эон «мысль», или «благодать», или «молчание»[180].
Люди всегда строили догадки об этом Абсолюте, но ни одно из объяснений никогда не станет достоверным. Описать Божество невозможно; оно – не «добро» и не «зло». Нельзя даже сказать, что оно «существует». Василид утверждал, что в начале не было Бога, было лишь Божество, и Оно, строго говоря, было «Ничто», потому что не существовало в привычном смысле слова[181].
Однако Ничто пожелало стать познанным, чтобы не оставаться далее в полном одиночестве в Глубине и Безмолвии. В недрах его бездонной сущности произошли радикальные перемены, следствием которых стал ряд эманаций, сходных с теми, о каких рассказывали древние языческие мифы. Первой эманацией был «Бог», которому сейчас поклоняются. Но и «Бог» был недоступен человеку, а само понятие нуждалось в дальнейшем прояснении. По этой причине от него попарно исходили все новые эманации (именуемые эонами), и каждая выражала одно из божественных свойств. «Бог» не имел пола, но каждая пара эманаций, как в «Энума элиш», состояла из мужского и женского – так создатели этой системы пытались избавиться от преобладания мужского элемента, присущего традиционному монотеизму. Очередные пары эманаций становились все слабее и разреженнее, так как все больше отдалялись от божественного Источника. Когда же появилась тридцатая такая пара эманации, процесс завершился и божественный мир – Плерома – принял свой окончательный вид. Ничего возмутительного в космологии гностиков не было: в ту эпоху все верили, что космос изобилует эонами, демонами и прочими духовными силами. Апостол Павел говорил о Престолах, Господствах, Властях и Силах, а для философов было самоочевидным, что такие незримые силы суть древние божества и посредники между людьми и Единым.
Затем произошла катастрофа – первобытное падение, которое гностики описывали по-разному. Одни утверждали, например, что София (Премудрость), последняя эманация, впала в немилость, поскольку пожелала обрести запретные знания о недоступной Божественности. Самонадеянность этих притязаний стала причиной изгнания ее из Плеромы; горе и страдания Софии воплотились в виде материального мира. С тех пор заблудшая изгнанница скитается по космосу, мечтая о возвращении к божественному Первоначалу. В этой смеси восточных и языческих идей выразилась убежденность гностиков в том, что наш мир есть в некотором смысле извращение мира небесного, вызванное неведением и путаницей. Другие гностики считали, что «Бог» не создавал наш мир, так как просто не имеет ничего общего с грубой материей. Вселенная сотворена одним из эонов, которого называли Демиургом, «Творцом». Он воспылал завистью к «Богу», захотел стать центром Плеромы – и, разумеется, был изгнан, после чего из духа противоречия сотворил вселенную. Но, как поясняет Валентин, Демиург «небо сотворил без знания, человека создал, не ведая человека, и землю произвел на свет без разумения земли»[182].
Однако другой эон, Логос, явился на помощь несовершенному творению и низошел на землю во плоти Иисуса для того, чтобы указать людям обратный путь к Богу. Со временем это направление христианства было полностью подавлено, но и столетия спустя иудаисты, христиане и мусульмане будут вновь и вновь возвращаться к этой мифологеме, чувствуя, что она выражает их религиозные переживания точнее, чем ортодоксальное богословие.
Такие мифы не задумывались как буквальные и достоверные рассказы о сотворении и спасении; они были лишь символическим отражением некой сокровенной истины. «Бог» и Плерома – отнюдь не внешние, пусть и очень далекие реалии; искать их следовало прежде всего в собственной душе:
Оставь поиски Бога и сущего, и прочие подобные искания.
Ищи Его, взяв началом себя. Познай, кто в тебе делает все Его собственным и говорит: «Мой Бог, мой ум, моя мысль, моя душа, мое тело». Познай источник радостей и печалей, любви и ненависти. Познай, что значит созерцать не желая и любить непроизвольно. И если тщательно изучишь это, то найдешь Его в себе[183].
Плерома означала карту души. Если знаешь, куда глядеть, то различишь божественный свет даже в том мраке, в который погружен мир, ведь при Изначальном Грехопадении – Софии ли, Демиурга ли – из Плеромы брызнуло немало божественных искр, увязших после в материи. Гностик может найти такую искру в собственной душе, осознать в самом себе частицу Божественности, которая поможет нащупать путь домой.
Пример гностиков показывает, что многие новообращенные христиане не удовлетворялись традиционными представлениями о Боге, унаследованными от иудаизма. Мир вовсе не казался им «благом», творением доброжелательного божества. Сходная раздвоенность и неопределенность характерна для доктрины Маркиона (100–165 гг.), который основал в Риме свою конкурирующую Церковь и привлек множество последователей. Иисус говорил, что доброе дерево не приносит худых плодов[184], так разве этот мир, где неприкрыто царят зло и страдания, мог быть создан благим Богом? Маркиона тоже ужасали древнееврейские писания, где речь идет о лютом и кровожадном боге, истреблявшем в праведном гневе целые народы. Маркион решил, что наш мир сотворен именно еврейским богом, который «ищет войны, непостоянен в своем намерении и даже противоречит себе»[185]. Однако Иисус поведал людям, что есть и другой Бог, о котором в древнееврейских книгах не упоминалось. Этот, второй Бог «кроток, ласков и весьма добр, даже чрезвычайно»[186], – иными словами, совсем не похож на свирепого «Судию», создавшего нашу вселенную. Люди должны, таким образом, отвернуться от земного мира, который ничего не расскажет о милосердном Боге, ибо не Им сотворен. Следует также полностью отказаться от «ветхого» завета и сосредоточиться исключительно на новозаветных текстах, сохраняющих дух Иисуса. Популярность учения Маркиона подтверждает, что своей философией он открыто выразил общее беспокойство. Было время, когда он, казалось, вот-вот учредит независимую Церковь. Маркион нащупал больное место в христианском мироощущении. Целым поколениям христиан было невероятно трудно воспринимать материальный мир положительно, а многие из них до сих пор не знают, как относиться к древнееврейскому Богу.
Богослов Тертуллиан (160–220 гг.) из Северной Африки показал, впрочем, что Маркионов «благой» Бог похож скорее на греческого, чем на библейского. Действительно, столь безмятежная сущность, никак не соприкасающаяся с нашим порочным миром, больше напоминает аристотелевский Недвижимый Двигатель, нежели еврейского Господа. В греко-римском мире библейский Бог действительно воспринимался многими как божество дикое, то и дело допускающее промахи и, в целом, не заслуживающее почтения. Около 178 г. языческий философ Цельс обвинил христиан в узкопровинциальном подходе к идее Бога. Его возмущал тот факт, что христиане притязают на особое и исключительное положение; Богу угодны все люди, а эта жалкая горстка христиан твердит: «Господь оставил весь мир и движения небесные, позабыл о просторах земных, сосредоточив внимание только на нас»[187].
Когда римская власть преследовала ранних христиан, их чаще всего обвиняли в «безбожии», так как новая концепция божественного была прямым оскорблением римской морали. Народ боялся, что христиане, не воздающие должного традиционным богам, поставят под угрозу все государство, и общественный порядок, и без того неустойчивый, рухнет. Христианство считали варварской верой, пренебрегающей всеми достижениями цивилизации.
И все же к концу II столетия в христианство начали обращаться по-настоящему образованные язычники. Им удалось примирить библейского бога семитов с греко-римскими идеалами. Первым из таких ученых стал Климент Александрийский (ок. 150–215 гг.), который, похоже, изучал прежде в Афинах философию. Климент не сомневался, что Яхве и Бог греческих мыслителей – один и тот же, а Платона называл «аттическим Моисеем». Однако богословие Климента изрядно удивило бы и апостола Павла, и самого Иисуса. Как у Платона и Аристотеля, главной характеристикой Бога у Климента оставалась apatheia: Он совершенно бесстрастен, неизменен и безучастен. Христиане могут причаститься божественному бытию, подражая спокойствию и невозмутимости Господа. Разработанный Климентом подход к жизни удивительно напоминает подробнейшие правила поведения, составленные когда-то раввинами, – с той лишь разницей, что постулаты Климента имели много общего с идеалами стоиков. Божественная безмятежность должна быть для христианина образцом в каждой мелочи жизни: нужно сидеть ровно, говорить тихо, смеяться сдержанно и даже отрыгивать неприметно. Благодаря прилежному воспитанию в себе бесстрастия христианин почувствует беспредельный внутренний Покой – подобие Бога, запечатленное в глубине человеческой души. Между Богом и людьми нет пропасти – и, соприкоснувшись с божественным идеалом, христианин ощутит присутствие Божественного Спутника, который «разделяет с нами кров, и стол, и всякие нравственные тщания нашей жизни»[188].
Тем не менее Климент тоже верил, что Иисус был «Богом живым, Который страдал и Которого ныне почитают»[189]. Тот, кто «их ноги […] омыл, перепоясавшись льняным полотенцем», был, без сомнений, смиренный «Бог и Господь вселенной»[190]. Подражая Иисусу, христианин тоже станет богоподобным: божественным, незапятнанным и бесстрастным. Действительно, Христос был божественным логосом, который облекся плотью, «чтобы могли научаться люди у человека, как стать Богом»[191]. Сходные идеи проповедовал на Западе Ириней, епископ Лионский (130–200 гг.): Иисус был воплощенным Логосом, божественным Замыслом. Воплотившись, он освятил все ступени человеческого развития и стал образцом для христиан, которые должны подражать ему во всем, как актеры, целиком перенимающие характер своего персонажа. Так христианин воплощает в жизнь свой потенциал[192]. И Климент, и Ириней пытались приспособить иудейского Господа к характерным для их эпохи и культуры взглядам. И хотя Бог этот имел мало общего с чутким и ранимым Богом пророков, Климентова доктрина apatheia стала впоследствии основополагающей концепцией Бога в христианстве. В греческом мире людям хотелось подняться выше изменчивости и суетных чувств, обрести сверхчеловеческий покой. Несмотря на свою внутреннюю парадоксальность, именно этот идеал и одержал в конце концов победу.
Климент тоже обошел стороной важнейшие вопросы богословия. Как простой смертный мог быть одновременно Логосом, божественным Замыслом? Что именно означают утверждения о божественности Иисуса? Совпадают ли понятия «Логос» и «Сын Божий» и какой смысл приобретает это древнееврейское звание в эллинистическом мире? Как безучастный Господь мог страдать в Иисусе? Почему вообще христиане считают Иисуса божественным, хотя сами настаивают, что на свете только один Бог? В III в. христиане начали сознавать эти проблемы особенно остро. Сначала некий римлянин по имени Сабеллий, о котором почти ничего не известно, предположил, что библейские понятия «Отец», «Сын» и «Дух» можно сравнить с масками (personae) вроде тех, какие носили тогда в театрах лицедеи, чтобы голоса звучали громче. Единый Господь открывается миру под тем или иным «лицом». У Сабеллия нашлись ученики, но большую часть христиан его теория встревожила. Из нее следовало, в частности, что, играя роль Сына, неуязвимый Бог в некотором смысле страдал, а подобная мысль казалась многим совершенно неприемлемой. Не меньшее возмущение вызвал в ту эпоху и Павел Самосатский (с 260 по 272 г. – епископ Антиохийский), который утверждал, что Иисус был простым смертным, в котором, как в храме, пребывали Слово и Премудрость Господа. В 264 г. синод в Антиохии осудил богословие Павла, и тому удалось сохранить епископский сан только благодаря поддержке Зенобии, царицы Пальмирской. Как мы видим, для христиан было очень непросто примирить уверенность в божественной сущности Иисуса со столь же непоколебимой убежденностью в том, что Бог един.
В 202 г. Климент покинул Александрию ради поста священника при епископе Иерусалимском, а его место в школе для новообращенных занял блистательный ученик Ориген, которому тогда едва исполнилось двадцать лет. В отрочестве Ориген страстно верил, что самый надежный путь на небеса – мученичество. Четырьмя годами раньше погиб на арене его отец Леонид, и Ориген попытался было последовать его примеру. Матери, однако, удалось удержать сына, спрятав его одежды. Ориген начинал с веры в то, что христианская жизнь означает противоборство со всем миром, но позднее отказался от этих взглядов и разработал свою версию христианского платонизма. Былая вера в существование бездонной пропасти между Богом и земным миром, преодолеть которую можно лишь ценой невыносимых мук, сменилась новым богословием, подчеркивающим неразрывную связь мироздания с Господом. Это была светлая, оптимистичная, исполненная радости духовная доктрина: христианин шаг за шагом восходит по лестнице бытия, пока не достигнет самого Бога, который есть наша родина и подлинная сущность.
Как платоник, Ориген верил в родство Господа и человеческой души; по его мнению, люди обладают врожденным знанием божественного, которое можно «вспомнить» и пробудить специальными упражнениями. Чтобы согласовать платоновскую философию с семитскими преданиями, Ориген разработал особый символический подход к толкованию Библии. Так, например, непорочное зачатие Христа в лоне Девы Марии следовало понимать прежде всего как зарождение божественной Премудрости в человеческой душе. Кроме того, Ориген внес поправки в некоторые идеи гностиков. По его теории, все обитатели духовного мира изначально созерцали несказанного Бога, который являл Себя в облике Логоса, божественного Слова и Премудрости. Но постепенно они устали от этого совершенного созерцания, выделились из божественного мира и, низвергнутые, застряли в телесных оболочках – это и был предел их падения. Тем не менее не все еще потеряно: душа может вернуться к Богу, пройдя долгую и трудную дорогу, причем путь этот продолжается и после смерти. Рано или поздно каждый выйдет из темницы тела, лишится половых признаков и вновь станет чистым духом. Созерцание (теория) приносит душе все больше знания (гнозис) о Боге, и знание это преображает ее до тех пор, пока, как учил еще Платон, она сама не станет божественной. Бог – полная загадка, и описать Его словами или идеями просто невозможно; тем не менее душа обладает способностью познавать Бога, так как отчасти разделяет Его божественную сущность. Созерцание Логоса – совершенно естественное занятие человека, поскольку все наделенные духом существа (logikoi) предначально равны друг другу. Когда души пали и были изгнаны из высшего мира, там остался лишь один дух, по-прежнему поглощенный созерцанием Божьего Слова. Это был дух будущего человека Иисуса Христа, а наши души – такие же, как и его. Вера в божественную природу Иисуса-человека была лишь переходным этапом; она помогает нам на нашем пути, но узреть Господа воочию можно только отказавшись от нее.
В IX веке Церковь осудит многие идеи Оригена как еретические. Ни Ориген, ни Климент не верили, в частности, что Бог сотворил мир из ничего (ex nihilo), хотя эта концепция позднее войдет в ортодоксальную христианскую доктрину. Что касается представлений Оригена о божественности Христа и пути спасения человечества, то они и вовсе противоречат более позднему официальному мнению. Ориген не верил во всеобщее «спасение» смертью Христа и утверждал, что каждый восходит к Господу самостоятельно. Однако в те времена, когда Ориген и Климент высказывали подобные соображения и разрабатывали свою, христианскую версию платонизма, никакой официальной доктрины еще не было. Никто не знал, сотворен ли наш мир Богом и в какой мере божествен каждый человек. Ортодоксальное вероучение сложилось лишь после мучительной борьбы в бурную эпоху IV–V вв.
Более всего Ориген прославился, пожалуй, своим самооскоплением. В Евангелиях Иисус говорит, что «есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного»[193], и Ориген воспринял это замечание слишком серьезно. В поздней античности оскопление было довольно обычной операцией. Ориген не кромсал себя ножом в приступе ярости и не руководствовался в своем решении патологическим отвращением к сексуальности, которое было присуще кое-кому из западных богословов – например, блаженному Иерониму (342–420 гг.). Британский ученый Питер Браун предполагает, что оскоплением Ориген хотел наглядно подтвердить свою доктрину маловажности всего человеческого, которое душа вскоре превзойдет. Очевидно, такие, казалось бы, неизменные свойства, как половая принадлежность, в процессе боґжения исчезают, ведь Бог не имеет пола. Так или иначе, но в эпоху, когда обязательной приметой философа была солидная борода, символ мудрости, гладкощекий и тонкоголосый Ориген выглядел, должно быть, довольно странно.
У Аммония Саккаса, бывшего наставника Оригена, учился в Александрии Плотин (205–270 гг.). После учебы Плотин вступил в римское войско, втайне надеясь, что это поможет ему добраться до Индии, куда он страстно мечтал попасть. Поход кончился плачевно, и Плотин бежал в Антиохию. Позднее он основал в Риме престижную школу философии. О Плотине известно очень мало – он был человеком чрезвычайно скрытным, о себе никогда не говорил, даже не отмечал свои дни рождения. Как и Цельс, Плотин считал христианство верой весьма сомнительной, но, тем не менее, оказал огромное влияние на целые поколения будущих последователей всех трех монотеистических религий. По этой причине его представления о Боге стоит обсудить подробно. Идеи Плотина стали своеобразным водоразделом в истории философии: он изучил все главные течения греческой мысли за предыдущие 800 лет и привел их к той совершенной форме, которая вдохновляла даже наших видных современников – например, Томаса Элиота и Анри Бергсона. Опираясь на платоновские идеи, Плотин разработал систему взглядов, нацеленную на самопознание. Как и его предшественники, он вовсе не стремился дать научное объяснение устройству мироздания или отыскать материальные причины зарождения жизни. Не занимаясь поисками объективных объяснений в окружающем мире он, напротив, призывал учеников уходить в себя и изучать бездны собственной души.
Человек отчетливо сознает, что в его жизни что-то не так. Он не умеет ладить ни с другими, ни с самим собой. Он оторван от своей сокровенной природы и лишен ориентиров. Главными приметами нашего существования являются, похоже, внутренние противоречия и склонность все усложнять. Тем не менее мы неустанно стараемся свести окружающее нас многообразие явлений к некоему упорядоченному целому. Глядя на ближнего своего, мы не рассматриваем по отдельности его руки, ноги и голову, а машинально организуем разобщенные на вид конечности в целостный образ человека. Эта тяга к единству – основополагающее свойство человеческого мышления и, по мнению Плотина, оно, видимо, вообще отражает сущность всех вещей. Для того чтобы постичь сокровенную истину действительности, душа, по совету Платона, должна себя переделать, пройти очистительный процесс, катарсис, и погрузиться в созерцание (теорию). Душе нужно попытаться вырваться за пределы космоса и мира чувств и даже превзойти естественные возможности рассудка – только так удастся заглянуть в самую сердцевину реального. Это не взлет к некой внешней действительности, но, напротив, погружение в глубочайшие тайники собственного ума – если угодно, «восхождение наизнанку».
Высшей реальностью является предвечное целое, которое Плотин называл «Первоединым». Все сущее обязано своим появлением на свет только этой всемогущей реальности. Поскольку Первоединый – сама простота, сказать о нем нечего: у него нет таких свойств, отличимых от его сущности, какие можно было бы определить обычным языком. Первоединый просто есть. По той же причине он безымянен: «Если примемся мыслить о Первоедином в утвердительных категориях, – пояснял Плотин, – то Безмолвие расскажет о нем много больше правды»[194]. Нельзя даже говорить, что Первоединый существует, так как он и есть Бытие – это «не вещь, а то, что отлично от всех вещей»[195]. Затем Плотин добавляет, что Первоединый – это «Всё и Ничто; ни одна из существующих вещей, но, в то же время, каждая из них»[196]. Как мы убедимся в дальнейшем, подобные рассуждения станут лейтмотивом истории Бога.
Но и Безмолвие не есть истина во всей полноте, уточняет Плотин, поскольку люди способны отчасти познать Божественное. Это было бы невозможно, если бы Первоединый оставался окруженным непроницаемой тайной. Он должен был превзойти себя, вырваться за пределы своей Простоты, чтобы сделать себя доступным таким несовершенным созданиям, как мы. Такое самопреодоление Божественного можно назвать «экстазом» в буквальном смысле слова, ведь это и есть «выход из себя» как акт чистой щедрости: «Так как Первоединый есть всесовершенный, так как он никого не ищет, не имея никакой потребности, никакого желания, то сам Он как бы через край всем переполнен; это-то переполнение и произвело нечто иное»[197]. Здесь нет ничего личностного: Плотин считал, что Первоединый пребывает вне каких-либо человеческих категорий, в том числе индивидуальности. Чтобы пояснить, почему безупречно простой Источник произвел все сущее, философ вернулся к древнему мифу и описал эманации целым рядом аналогий: свет, исходящий от солнца, или жар от огня, который тем горячее, чем ближе к его слепящему сердцу. Излюбленной метафорой Плотина было сравнение Первоединого с центром круга, потенциально вмещающим все окружности, какие только можно от него начертать. Эманации сходны с кругами от брошенного в воду камня. Однако, в отличие от таких мифов, как «Энума элиш», где очередная пара богов возникала из предыдущей и была совершеннее и могущественнее своих родителей, в системе Плотина все наоборот: как и у гностиков, чем дальше сущность от своего источника в Первоедином, тем она слабее.
Первые две эманации Первоединого Плотин считал божественными, так как именно они позволяют людям познавать бытие Бога и участвовать в нем. Вместе с Первоединым эти эманации образуют Божественную Триаду; эта идея во многом близка к нашему современному представлению о Троице. Первая эманация, Ум (нус), соответствовала в системе Плотина царству платоновских идей. Благодаря Уму простота Первоединого становилась доступной, хотя и на уровне интуитивного, непосредственного знания. Это вовсе не те сведения, какие получают в мучительных раздумьях, путем долгих размышлений, а знание прямое, похожее скорее на впечатления органов чувств, воспринимающих некий предмет. Душа (псюхе), исходящая из Ума точно так же, как Ум исходит из Единого, чуть менее совершенна; на этом уровне знания добывают путем рассуждений, и потому им недостает простоты и последовательности. Душа соответствует той реальности, которую мы знаем: все прочие элементы материального и духовного бытия эманируют из Души – она и сообщает нашему миру единство и связность, которыми сама обладает. Вновь следует подчеркнуть, что у Плотина троица Первоединый – Ум – Душа – вовсе не какой-то бог «где-то там». Божество, на его взгляд, пронизывает весь космос, а Бог – это всё во всем; низшие творения существуют лишь в той мере, в какой причастны абсолютному бытию Первоединого[198].
Исходящий поток эманации сдерживается возвратным движением к Первоединому. По собственной мыслительной деятельности и человеческой неудовлетворенности противоречиями и многообразием мы знаем, что все сущее тоскует по единству, то есть стремится к Первоединому. Опять-таки, это не подъем к внешней реальности, а внутреннее нисхождение в глубины ума. Душа должна вновь обрести позабытую простоту и вернуться к своему подлинному естеству. Поскольку все души были некогда порождены одной и той же Реальностью, человечество можно сравнить с огромным хором, в центре которого находится дирижер. Стоит хотя бы одному певцу отвлечься, и музыку нарушит дисгармония. Если же все обращены к дирижеру и внимают ему, единая песнь человечества звучит чудесно, ибо «каждый поет, как должно и в ладу с Ним»[199].
Первоединый совершенно безличен, у него нет пола, и на нас он не обращает ни малейшего внимания. Вместе с тем, Ум (нус) – понятие уже грамматически мужское, а Душа (псюхе) – женское, откуда следует, что Плотин стремился сохранить древнее языческое представление о равновесии и согласии двух начал. В отличие от библейского Бога, Первоединый не выходит нам навстречу и не ведет домой. Он к нам не тяготеет, не любит нас и себя нам не раскрывает. Первоединый вообще не знает ничего, кроме себя[200]. Тем не менее время от времени человеческая душа испытывает восторг в минуты экстатического восприятия Первоединого. Философия Плотина – не логический процесс, а духовный поиск:
Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы поскорее удалиться отсюда, освободиться от связывающих (душу) телесных уз и все силы употреблять на то, чтобы существом своим соединиться с Богом, чтобы в нас не оставалось ничего, что препятствовало бы полному соединению с ним.
Кто удостаивается такого единения, то видит Бога, видит в нем самого себя, насколько это возможно (для нашей природы), видит себя просветленным в сиянии духовного света; даже более: видит себя как чистый, тонкий свет. Ему кажется, что он как бы обратился в божество и есть божество…[201]
Этот бог был не чужеродной сущностью, а лучшей частью нас самих. «Познание единого не достигается ни в науке, ни в размышлении, но единственно от (его) присутствия [парусия], которое выше всякой науки»[202].
Христианство неуклонно приближалось к сферам, где господствовали платоновские идеи. Впоследствии, когда христианские мыслители попытались толковать собственные религиозные переживания, их обращение к неоплатоническому видению Плотина и его последователей-язычников стало вполне естественным. Понятие просветленности – безличное, выходящее за рамки человеческих категорий и все же естественное для человека – перекликалось с представлениями индуистских и буддийских школ в Индии, где когда-то мечтал учиться Плотин. Таким образом, несмотря на поверхностные различия, монотеистические представления о Реальности состояли в глубоком родстве с другими философиями. Судя по всему, когда бы люди ни рассуждали об Абсолюте, они неизменно приходили к одинаковым выводам и переживаниям. Ощущение присутствия, экстаз и благоговение перед лицом подлинной Реальности – будь то нирвана, Первоединый, Брахман или Господь – это, по-видимому, и есть то естественное состояние ума и восприятия, к которому люди стремились извечно.
Одни христиане хотели поладить с греческим миром, другие, наоборот, не желали иметь с ним ничего общего. После 170 года, ознаменовавшего начало эпохи гонений, во Фригии (на территории нынешней Турции) объявился новый пророк, по имени Монтан, – якобы воплощение Бога. «Я Господь Бог Всемогущий, нисшедший во человека, – утверждал он сам. – Я – Отец, и Сын, и заступник (параклет)». Его спутницы Присцилла и Максимилла тоже притязали на высочайшее положение[203]. Монтанизм был неистовой, апокалиптической верой и рисовал ужасающий портрет Господа. Его последователям не только вменялось отрекаться от мира и жить в строжайшем воздержании, но и внушалось, что единственный верный путь к Богу – тяжкие страдания. Мученическая смерть за веру должна была приблизить второе пришествие Христа: мученики были воинством Господним, сражающимся с силами зла. Это свирепое учение пробудило в христианах прежде дремавший дух экстремизма: монтанизм стремительно, как пожар, распространялся по Фригии, Фракии, Сирии и Галлии. Особенно силен он был в Северной Африке, где издавна привыкли к богам, требовавшим человеческих жертв. Тут культ Ваала, не обходившийся без Жертвоприношения первенцев, был подавлен императором лишь во втором столетии. Вскоре ересь монтанизма привлекла даже таких видных мыслителей, как Тертуллиан, который был ведущим богословом Римской Церкви. На Востоке Климент и Ориген проповедовали миролюбивое, радостное возвращение к Богу, но для устрашающего Господа западной Церкви спасение покупалось лишь ценой мучительной смерти. В ту эпоху христианство все еще боролось за господство в Западной Европе и Северной Африке, и в нем с самого начала проявилась склонность к суровости и крайностям.
Тем временем на Востоке христианство шло вперед семимильными шагами, и к 235 г. стало господствующей религией Римской империи. Христиане все чаще заговаривали о Вселенской Церкви с единым законом веры – без крайностей и чудачеств. Ортодоксальные богословы искоренили мрачное мировоззрение гностиков, маркионитов и монтанитов и предпочли иной, срединный путь. Христианство становилось городской верой и сторонилось как мудреных культов-мистерий, так и прямолинейного аскетизма. Оно все сильнее привлекало высокообразованных людей, способных разработать понятные греко-римскому миру принципы веры. Новая религия обращалась и к женщинам: тексты гласили, что Христос не был ни мужчиной, ни женщиной, а мужей призывали беречь жен так же, как Христос заботился о своей Церкви. Иными словами, христианство приобретало все те преимущества, которые некогда сделали заманчивым иудаизм, – тем более что не требовало обрезания или соблюдения чужого Закона. Особое впечатление на язычников производили учрежденная Церковью система благотворительности и сострадательная, братская близость между христианами. За долгие годы борьбы с гонениями извне и расколами изнутри Церковь превратилась в действенный институт, повторявший в миниатюре устройство самой империи: она тоже была межрасовой, соборной, международной и экуменической, а руководили ею опытные чиновники.
Такая Церковь была мощной стабилизирующей силой и в конце концов привлекла в свои ряды императора Константина, который принял новую веру в 312 г., после сражения у Милвийского моста, а на следующий год ее узаконил. Отныне христианам разрешалось владеть имуществом, открыто молиться и на равных правах участвовать в общественной жизни. И хотя язычество процветало еще добрых пару веков, христианство стало государственной религией империи и быстро набирало новообращенных, которым новая религия сулила материальную выгоду. Вскоре та самая Церковь, которая начинала свой путь как презренная секта, взывавшая к терпимости, потребовала от всех единодушного признания собственных законов и взглядов. Причины триумфа христианства остаются неясными. Разумеется, оно ни за что не преуспело бы без поддержки Римской империи, однако и это обстоятельство не позволяет ответить на все вопросы. Христианскую веру постоянно преследовали злоключения – благополучной ее не назовешь. И первой же проблемой, которую надлежало незамедлительно решать, была доктрина Бога. Стоило Константину избавить Церковь от внешних врагов, как внутри нее тотчас зародилась новая опасность, разделившая христиан на несколько непримиримых лагерей.
4. Троица: Бог христиан
Около 320 г. церкви Египта, Сирии и Малой Азии были охвачены страстными богословскими спорами. Моряки и путешественники пели популярные песенки, в которых утверждалось, что лишь Отец является истинным, непостижимым и единственным Богом, а Сын вовсе не предвечен и не предсущен, так как жизнь и бытие дарованы ему Отцом. До нас дошли рассказы о банщике, надоедавшем посетителям неустанными разглагольствованиями о том, что Сын явился из ничего; о меняле, который непременно предварял обмен монет долгими рассуждениями о разнице между сотворенной вселенной и присносущим Господом, или о пекаре, который в разговорах с покупателями не забывал напомнить, что Отец-де куда возвышеннее Сына[204]. Простой люд обсуждал эти высокие материи с тем же пылом, с каким сегодня обсуждают футбол. Причиной разгоревшихся споров был Арий – обаятельный и статный александрийский пресвитер с ласковым, проникновенным голосом и поразительно грустным лицом. Местному епископу Александру трудно было не обращать внимания на поднятую Арием проблему, но решить ее было еще труднее – действительно, как мог Иисус Христос быть Богом в той же мере, что и Отец? Арий вовсе не отрицал божественности Христа – напротив, он называл его «Богом крепким» и «настоящим»[205], но одновременно утверждал, что считать Христа божественным по естеству было бы святотатством, ибо сам Иисус подчеркнул: Отец много выше него. Александр и его многообещающий юный помощник Афанасий сразу поняли, что речь идет отнюдь не о второстепенных тонкостях богословия. Вопрос был принципиальным, поскольку касался естества Бога. Тем временем сам Арий, искушенный в пропагандистских приемах, положил свои идеи на музыку, и вскоре миряне обсуждали их не менее горячо, чем епископы.
Споры достигли такой остроты, что заниматься ими пришлось самому императору. Константин созвал в Никее (на территории современной Турции) специальный собор, который должен был решить возникшую проблему. Сегодня имя Ария стало синонимом ереси, но в те времена, когда разгорелся конфликт, ортодоксальной догмы еще не существовало, и мало кто мог разобраться, ошибается ли Арий и в чем. В его идеях не было, впрочем, ничего нового; подобную доктрину предлагал Ориген, к авторитету которого обе конфликтующие стороны относились с большим почтением. Однако по сравнению с эпохой Оригена интеллектуальная атмосфера Александрии существенно изменилась, и многие уже сомневались, что платоновского Бога удастся полностью примирить с библейским. Например, любого платоника привела бы в изумление идея, которой придерживались те же Арий, Александр и Афанасий: опираясь на Писание, они утверждали, что Бог сотворил мир из ничего (ex nihilo). В «Книге Бытия», впрочем, этого нет: «Священник» (Р) полагает, что Господь сотворил мир из первобытного хаоса. Таким образом, представление о том, будто Бог вызвал вселенную к бытию из абсолютной пустоты, стало новшеством богословия. Грекам такая мысль была совершенно чужда. Она не приходила в голову ни Клименту, ни Оригену, которые твердо придерживались платоновской схемы эманации. Но к IV веку христиане уже разделяли гностическое видение мира как построения весьма шаткого и несовершенного, отделенного от Бога непреодолимой пропастью. Новая доктрина сотворения ex nihilo подчеркивала принципиальную бренность космоса, чье существование целиком зависит от воли Бога. В отличие от греческих представлений, Бога и человека уже не соединяли родственные узы. Бог вызывал каждую сущность по отдельности из бездонной пустоты и в любое мгновение мог отказать частичке сотворенного в своей поддержке. Исчезла великая иерархическая цепь бытия, вечно исходящая от Бога; с нею исчез и промежуточный мир духовных существ, переносящих божественную ману в наш мир. Отныне люди не могли самостоятельно восходить к Богу по лестнице сущего – вечное спасение мог подарить только сам Бог, который сначала извлекал человека из пустоты, а затем поддерживал в нем жизнь.
Христиане знали, что Иисус Христос спас всех смертью и воскресением. Благодаря ему люди избежали гибели и получили надежду приобщиться в один прекрасный день к бытию Бога, который есть сама Жизнь и Бытие. Христу каким-то чудом удалось пересечь пропасть, разделяющую Бога и человека. Но как именно Иисус это сделал? По какую сторону Великой Бездны находился? Не было больше Плеромы, пространства Полноты, где пребывали многочисленные посредники и эоны. Оставались лишь два варианта: Христос, Слово, принадлежал либо божественной сфере (а там ныне был только Бог), либо бренному миру. Арий и Афанасий помещали его по разные стороны пучины: первый относил к сфере сотворенного, а второй – к царству Божества. Арий стремился подчеркнуть принципиальное различие между неповторимым Богом и его творениями. В письме к епископу Александру он говорил, что Бог «единый нерожденный, вечный и безначальный, единый истинный, бессмертный, мудрый, благой и всемогущий»[206]. Арий прекрасно знал Писание и запасся целым арсеналом текстов, доказывавших, что по естеству Христос-Слово мог быть только таким же, как мы. Ключевое положение занимал фрагмент из «Книги Притч», где прямо сказано, что Господь создал Премудрость в самом начале[207]. Там же говорится, что Премудрость – орудие творения; эта мысль повторяется и в первых стихах Евангелия от Иоанна. В начале Слово было у Бога:
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть[208].
Логос был инструментом, посредством которого Бог вызывал к существованию прочие свои создания. Таким образом, Слово радикально отличалось от остальных творений и занимало исключительно высокое положение. С другой стороны, Слово тоже было создано, что делало его принципиально отличным по сущности от самого Бога. Иоанн Богослов ясно дал понять, что Иисус и есть Логос и, более того, Логос есть Бог[209]. Однако, настаивал Арий, он Бог не по естеству, но возвышен Господом до божественного положения. От нас Логос отличен тем, что его Господь создал Сам, а все прочее – опосредованно, через Слово. Бог предвидел, что, воплотившись в человека, Логос безупречно исполнит Божью волю; по этой причине Иисус был вознагражден божественностью, так сказать, заблаговременно. Тем не менее Иисусова божественность не изначальна, это просто дар, награда. Свои взгляды Арий обосновывал множеством письменных доказательств. Тот факт, что сам Иисус называл Бога «Отцом», уже подразумевает различие: отцовский статус включает предсуществование и определенное превосходство над сыном. Арий опирался также на те отрывки из Библии, где отмечались смирение и уязвимость Христа. Что бы ни говорили противники Ария, в этом не было, конечно, намерения очернить Иисуса – Арий с благоговением относился к добродетельности Христа и его смирению перед казнью, принесшей спасение людям. У Ария Бог очень близок к богу греческих философов: Он далек и пребывает за границами нашего мира. По той же причине Арий склонялся и к греческой идее спасения. Стоики, например, всегда говорили, что праведники могут заслужить боґжение; та же мысль занимала важное место и во взглядах Платона. Арий страстно верил, что христиане приобщились естеству Бога, обрели искорку божественности, и это стало возможным лишь потому, что дорога была проторена Иисусом. Христос прожил безупречную человеческую жизнь, был покорен Богу даже на Кресте, и, как сказал апостол Павел, именно за это смирение Бог и вознес Иисуса к высочайшему положению, наградив его божественным званием Господа (Кириос)[210]. Не будь Иисус человеком, у нас не осталось бы никаких надежд. Будь он Богом по естеству, в жизни его не было бы ничего удивительного, но и людям не было бы смысла ей подражать. Однако христиане могут сподобиться божественности, видя в жизни Иисуса образец безупречной сыновней покорности. Подражая Христу, созданию совершенному, каждый человек тоже способен стать «неизменным и непоколебимым, совершенным созданием Божьим»[211].
Взгляды Афанасия на шансы человека сблизиться с Богом были куда менее оптимистичными. В человеке он видел врожденную недолговечность: мы появились из ничего, и в ту же пустоту низвергнемся за содеянные грехи. По этой причине, взирая на созданный мир, Господь
…увидел, что все сотворенное, буде предоставлено собственным наклонностям, в одночасье меняется и обрекает себя на гибель.
И чтобы предотвратить это и удержать вселенную от возвращения в небытие, Он создал все сущее посредством Своего вечного Логоса, так одарив сотворенное бытием[212].
Итак, человек мог избежать уничтожения лишь причащаясь Богу посредством Его Логоса, ведь совершенно только Божественное Бытие. И если бы сам Логос был творением уязвимым, то никак не смог бы спасти человечество от гибели. Слово облеклось плотию, чтобы даровать нам жизнь. Оно низошло в бренный мир греховности и смерти ради того, чтобы поделиться с нами неизменностью и бессмертием Бога. Но такое спасение стало бы невозможным, будь сам Логос творением преходящим и точно так же рискующим соскользнуть в небытие. Спасти этот мир мог лишь тот, кто его сотворил, а это значит, что Христос – Слово, ставшее плотью, – должен быть по естеству тем же, что Отец. Как сказал Афанасий, Слово стало человеком для того, чтобы человек стал божественным[213].
Мало кто из епископов, собравшихся 20 мая 325 г. В Никее для решения этого критического вопроса, разделял представления Афанасия о Христе. Большинство придерживалось некой середины между противостоящими взглядами. Тем не менее Афанасию удалось навязать собору свое богословие. За спиной епископов незримо маячила тень императора, и подписать афанасьевский Символ Веры отказались только Арий и двое его смелых соратников. Так или иначе, сотворение мира ex nihilo впервые стало официальной христианской доктриной, из чего следовало, что Христос не был ни обычным созданием, ни эоном. Отныне Творец и Спаситель стали одним:
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца Небу и Земли, видимым же всем и невидимым.
И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от существа [усия] Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна [омоусион] Отцу, Им же вся быша, яко на небеси, такоже и на земле…
Нас ради и нашего ради спасения сшедшаго с небес и вочеловечшася, Страдавша, и воскресшаго в третий день,
И восшедшаго на небеса,
И паки грядущаго судити живым и мертвым,
И веруем в Духа Святаго[214].
Такое проявление согласия весьма порадовало мало что смыслившего в богословии Константина, хотя на самом деле никакого единодушия в Никее не было. После собора каждый епископ как ни в чем не бывало продолжал учить по своему разумению, и арианский кризис тянулся еще добрых шестьдесят лет. Арий с приверженцами отвечали ударами на удары и умудрились вернуть себе благосклонность императора. Афанасия не менее пяти раз отправляли в изгнание. Свыкнуться с его символом веры действительно было трудновато. Спорным оставалось, в частности, понятие единосущия – омоусион (буквально: «сделанный из того же вещества») – оно не встречалось в Писании и вообще попахивало материализмом. Такое можно было сказать, например, о двух медных монетах, поскольку они сделаны из одного металла.
Вскоре афанасьевский символ веры вызвал к жизни и другие важные вопросы. В нем утверждалась божественность Иисуса, но не объяснялось, как Логос может быть «из того же вещества», что и Отец, не являясь при этом вторым Богом. В 339 г. Марцелл, епископ Анкирский – единомышленник и верный друг Афанасия, даже отправившийся однажды вместе с ним в изгнание, – принялся доказывать, что Логос не может быть извечно божественным. Это лишь качество Бога, присущее Ему свойство, и потому Никейский символ веры, где перечислялись сразу три высших силы (Отец, Сын и Дух Святой), можно обвинить в трехбожии. Вместо противоречивой омоусии Марцелл предложил примиряющее понятие омойусия – «подобосущие», то есть сходства, а не единства по естеству.
Запутанность этих споров нередко вызывала насмешки; в частности, Гиббон считал совершенно нелепым, что христианское единство было поставлено под угрозу каким-то гласным звуком (точнее, дифтонгом). Примечательно, впрочем, другое – то упорство, с каким христиане цеплялись за свое ощущение изначальной божественности Христа, хотя эту идею было так трудно обосновать на понятийном уровне. Опасность нарушения божественного единства сильно беспокоила не только Марцелла, но и многих других христиан. Марцелл, судя по всему, полагал, что Логос – в своем роде переходный этап: он возник из Бога в акте творения, воплотился в Иисусе, а после Искупления вновь растворился в божественном естестве, так что Единый Бог остался «всем во всём».
Со временем Афанасию удалось уговорить Марцелла и его приверженцев объединить силы. С Афанасием у них действительно было больше общего, чем с арианами. Одни верили в единосущие Логоса и Отца, другие – в их подобосущие, но на деле они были «братьями, которые думают, как мы, и спорят только о словах»[215]. Главной же задачей было противостояние Арию, который утверждал, будто Сын совершенно отличен от Отца и имеет принципиально иное естество. Постороннему такие богословские диспуты показались бы пустой тратой времени: так или иначе, ни одна сторона не в силах доказать свое мнение, и споры не принесут ничего, кроме распрей. Но для участников полемики это были вовсе не бесплодные дебаты, ведь дело касалось природы переживаний христианина. И Арий, и Афанасий, и Марцелл свято верили, что вместе с Иисусом в мир пришло нечто совершенно новое. Все трое пытались выразить свои переживания словесно, объяснить их себе и другим с помощью умозрительной символики. Но слова могли быть только символами, указующими на невыразимые реалии. К сожалению, в христианство уже прокралась догматичная нетерпимость, которая со временем приписала решающее значение и обязательный характер «истинно верным», ортодоксальным символам. Одержимость доктриной, ставшая отличительной чертой христианства, часто приводила к путанице между изобретенной человеком символикой и подлинной божественной реальностью. Христианство всегда было верой парадоксальной: мощные религиозные переживания ранних христиан оказались сильнее всех идеологических возражений, касающихся позорного распятия Мессии; и теперь, приняв Никейский символ веры, Церковь предпочла парадокс Вочеловечения, хотя он явно не совмещался с единобожием.
В «Житии Антония», известного отшельника, Афанасий показал, как повлияла его новая доктрина на христианскую духовность. Антоний, которого считают первопроходцем монашеской стези, провел свою суровую жизнь в Египетской пустыне. Из простых и прямолинейных советов отшельника в «Изречениях египетских отцов» (анонимный сборник афоризмов первых монахов-отшельников) складывается портрет человека мягкого и ранимого, истерзанного тоской и мучительными думами о человеческих проблемах. Однако в своей биографии Афанасий представляет Антония в совершенно ином свете – например, превращает в яростного противника арианства. Антоний, по словам Афанасия, уже начал предвкушать свое грядущее обоґжение, поскольку в немалой степени разделял божественную apatheia. Афанасий рассказывает, что когда Антоний вышел наконец из гробов, где двадцать лет кряду сражался с демонами, телесно он ничуть не постарел. Это был безупречный христианин; именно безмятежность и бесстрастие решительно отличали его от всех людей: «душа его была невозмутима, потому и внешне он был спокоен»[216]. Антоний во всем подражал Христу и спустился в обиталище демонов – подобно Логосу, который, облекшись плотью, низошел в порочный мир и боролся тут с силами зла. Любопытно, что Афанасий даже не упоминает о созерцании, которое, по мнению таких христиан-платоников, как Климент или Ориген, является основным средством боґжения и спасения. К тому времени уже считалось, что простым смертным не дано сблизиться с Богом своими силами. Отныне им вменялось подражать нисхождению ставшего плотью Слова в несовершенный материальный мир.
Тем временем христиане по-прежнему не могли взять в толк: если Бог один, то как понимать божественность Логоса? Вскоре трое выдающихся богословов из Каппадокии (восточная часть Малой Азии) нашли решение, которое вполне удовлетворяло восточную, православную Церковь. «Каппадокийцами», как их принято называть, были Василий, епископ Кесарийский (ок. 329–379 гг.), его младший брат Григорий, епископ Нисский (335–395 гг.), и близкий друг Григорий Назианзин (329–391 гг.). Люди глубоко верующие, они получали огромное удовлетворение от размышлений и философии, но в то же время были убеждены, что ключ к божественным тайнам кроется только в религиозных переживаниях. Воспитанные в греческой философской школе, члены «каппадокийского кружка» прекрасно сознавали принципиальную разницу между фактическим содержанием истины и ее неуловимыми аспектами. На это обращали внимание уже греческие рационалисты: Платон, например, дополнял философию, которая опирается на умозрительные понятия и потому может пользоваться логическими доказательствами, не менее важным учением, которое передается посредством мифологии и лишено научной наглядности. Вспомним, что подобное различие проводил Аристотель, заметивший, что люди участвуют в религиозных мистериях не для того, чтобы познавать (mathein), а чтобы переживать (pathein). Василий Великий выразил ту же мысль в христианском духе, подчеркнув разницу между понятиями dogma и kerygma, в равной мере важных для христианской веры. Под керигмой понималось открытое церковное учение, основанное на Священном Писании, а догма означала глубинный смысл библейских истин, который выражается символически и открывается только благодаря религиозным переживаниям. Помимо общеизвестных евангельских откровений существовала и сокровенная, эзотерическая традиция, передававшаяся со времен апостолов[217]. Это было «учение тайное для немногих»,
которое святые отцы наши сохранили в безмолвии, избавляющем от тревог и любопытства […], дабы уберечь таким молчанием сокровенную природу таинства. Непосвященным зреть подобное возбраняется, и смысл его не разглашается на письме[218].
За литургическими символами и вполне прозрачными словами Иисуса крылась тайная догма, подразумевающая более глубокое понимание веры.
Разница между эзо– и экзотерическими истинами занимает в истории Бога чрезвычайно важное место. Она не ограничивается греческим христианством; иудаисты и мусульмане тоже разработали свои эзотерические традиции. Появление «тайной доктрины» объясняется, впрочем, отнюдь не желанием оградить большинство верующих от истины. Василий Великий не имел в виду какую-то зачаточную форму вольного масонства. Он просто привлекал внимание к тому факту, что далеко не каждую истину веры можно выразить словами, изъяснить понятным и строгим языком. Некоторые религиозные прозрения вызывают душевный резонанс, добиться которого можно лишь самостоятельно и в свой срок благодаря созерцанию – тому, которое Платон именовал теорией. Все религии нацелены на невыразимую реальность за пределами привычных концепций и категорий; применительно к ней человеческий язык оказывается слишком ограниченным и невнятным. Люди малоопытные, неспособные «узреть» такие истины глазами души, могут истолковать любые описания совершенно превратно. Таким образом, помимо буквального содержания, у священных писаний есть и духовное наполнение, которое не всегда возможно выразить словами. Будда тоже отмечал «неправильность», неуместность вопросов, затрагивающих неизъяснимые реалии. С высшим можно соприкоснуться только посредством интроспективных приемов размышления: в определенном смысле, высшее нужно воссоздавать в самом себе. Попытки же описать его обычным языком столь же нелепы, как и словесный пересказ одного из бетховенских квартетов. По словам Василия Великого, неуловимые религиозные факты можно передавать разве что намеками – скажем, символическими обрядами литургии, а еще лучше просто безмолвием[219].
Западное христианство станет впоследствии религией более словоохотливой и сосредоточится прежде всего на керигме, что станет одной из главных его проблем в понимании Бога. В греческой православной Церкви, напротив, любое заслуживающее доверия богословие должно было быть «безмолвным», апофатическим. Как говорил Григорий Нисский, всякое суждение о Боге – только видимость, лживое подобие, идол; правды о Самом Боге оно не открывает[220]. Христианин должен брать пример с Авраама, который, по биографической версии того же Григория, бросил гадать о Боге и отдался вере «неомраченной и свободной от суждений»[221]. В другом своем труде Григорий настаивает на том, что «истинное видение и понимание искомого заключается как раз в незрячести, когда сознаешь, что цель твоя выше любых познаний и со всех сторон отделена от тебя тьмой неразумения»[222]. Умом Бога не «разглядеть», но ощутить Его присутствие возможно – для этого нужно лишь дать окутать себя облаку, нисходившему некогда на гору Синайскую. Василий вернулся к платоновскому различию между сущностью (усия) Бога и проявлениями Его деятельности (energeiai) на земле: «Ведаем Бога нашего только по Его деяниям (энергиям), к естеству же Его приближаться не смеем»[223]. Эта мысль станет лейтмотивом всего последующего богословия Восточной Церкви.
«Каппадокийцы» стремились также развить идею Святого Духа, с которой, по их мнению, в Никее обошлись слишком небрежно. Заключительное «И веруем в Духа Святаго» звучит так, будто слова эти были добавлены в афанасьевский символ веры впопыхах, по запоздалому рассуждению. Концепция Святого Духа вообще оставалась для многих непонятной. Что это, просто синоним слова «Бог» или нечто большее? «Одни мыслят Его [Святого Духа] как деятельность, – отмечал Григорий Назианзин, – другие – как созданье живое, третьи – как Бога, прочие же вовсе не уверены, кто Он и каков»[224]. Апостол Павел называл Святого Духа обновляющим, творящим и освящающим, а такие деяния под стать одному лишь Богу. Из этого следовало, что Дух Святой, чье присутствие в каждом, как сказано, станет нам спасением, должен быть не простым творением, а существом божественным. Каппадокийцы воспользовались доводом, к которому прежде прибегал в спорах с Арием Афанасий: у Бога единственное, совершенно непостижимое для нас естество (усия) – но три выражения (ипостаси), под которыми Он нам открывается.
Вместо того чтобы начинать свои рассуждения о Боге с Его непостижимой усия, каппадокийцы заговорили о человеческом восприятии Его ипостасей (hypostases). Поскольку естество Бога – несказанная тайна, люди способны познавать Его лишь через те проявления, которые открываются нам как Отец, Сын и Дух Святой. Это вовсе не означало, что каппадокийцы верили в существование сразу трех божественных сущностей, как представлялось кое-кому из западных богословов. Тех, кто плохо знал греческий, сбивало с толку понятие ипостаси, имеющее множество смысловых оттенков. Некоторые католические богословы (в частности, Иероним) полагали, будто ипостась означает то же самое, что и усия, и винили греков в поклонении трем божественным сущностям. Однако каппадокийцы всегда подчеркивали, насколько важно помнить о разнице между двумя этими понятиями. Усия объекта делает его тем, что он есть, и относится обычно к тому, каков объект внутренне, в самом себе. С другой стороны, понятие ипостась принято употреблять для обозначения того, каков объект внешне, извне. Время от времени каппадокийцы заменяли слово ипостась термином прозопон (prosopon), который некогда означал просто «силу», но позднее приобрел целый ряд вторичных смыслов. Так могли определить, например, выражение лица, отражающее то или иное настроение; в других случаях этим словом называли умышленно выбранную роль либо характер человека, каким его видят со стороны. Следовательно, когда говорилось, что Бог – одна усия в трех ипостасях, имелось в виду следующее: Бог Сам в Себе Един, существует одно-единственное божественное Самосознание, но, открывая Себя перед своими тварями в мимолетных откровениях, Он является нам в трех prosopon.
Итак, ипостаси Отца, Сына и Святого Духа не следует отождествлять с Самим Богом, ведь, как пояснял Григорий Нисский, «божественное естество (усия) безымянно и неизъяснимо»; «Отец», «Сын» и «Дух» – только «понятия, нами употребляемые» для рассуждения об энергиях, посредством которых Бог дозволяет Себя постигать[225]. С другой стороны, термины эти обладают большой символической ценностью, поскольку переводят невыразимую реальность на язык понятных нам образов. Люди воспринимают Бога как Высочайшее (Отец, сокрытый в недосягаемом ослепительном сиянии), Творящее (Логос) и Присущее (Святой Дух), но и эти три ипостаси – всего лишь частичные, неполные проявления Божественного Естества, которое несравненно выше любых образов и понятий[226]. Таким образом, Троичность следует понимать не буквально, но как определенную парадигму, соответствующую подлинным фактам сокровенного бытия Бога.
В «Послании к Алабию о том, что нет трех богов» Григорий Нисский излагает важнейшую доктрину о нераздельности и взаимоприсущести трех божественных лиц, или ипостасей. Не следует полагать, будто Бог расщепил Себя натрое – подобная мысль нелепа и поистине кощунственна. Желая открыть Себя миру, Бог безраздельно, во всей полноте проявляется в любой из трех ипостасей. Итак, Троица лишь подсказывает образец «каждого деяния, простирающегося от Бога к Его творению». Священное Писание дает понять, что начало деяния в Отце, осуществляется оно при посредстве Сына, а действительным в мире становится благодаря имманентному (присущему) Святому Духу. Тем не менее во всех этапах такого деяния в равной степени представлено Божественное Естество. Взаимозависимость трех ипостасей люди могут наблюдать на своем опыте: мы никогда бы не услышали об Отце, не будь откровения Сына, а Сына не узнали бы без посредства вездесущего Святого Духа. Дух сопутствует божественному Слову Отца подобно тому, как дыхание (греч. pneuma, лат. spiritus) неизменно сопровождает речь человека. Эти три Лица не сосуществуют бок о бок в своем высшем мире. Их можно уподобить присутствию в уме одного человека множества разнородных сведений: философия, конечно, не то же самое, что медицина, но нельзя сказать, будто каждая наука пребывает в обособленной сфере сознания. Все науки друг друга проницают и одновременно заполняют весь разум, не теряя притом своеобразия[227].
В конечном итоге, Троица обретает смысл только как мистическое, духовное переживание: ее нужно ощущать, а не осмыслять, ведь Бог выше человеческого разумения. Это не логическое, рассудочное построение, а образная парадигма, смущающая ум. Григорий Назианзин недвусмысленно дал это понять, когда объяснял, что созерцание Троих в Одном вызывает глубочайшие и ошеломляющие чувства, которые полностью вытесняют ясное рациональное мышление:
Едва только помыслю об Одном, как озаряюсь величием Троих, а стоит мне различить Троих, как тут же переношусь назад к Одному. И когда размышляю о любом из Троих, мыслю Его как Единое, и глаза мои затуманиваются, и почти всё, о чем мыслю, ускользает[228].
В греческой и русской православной Церкви до сих пор считается, что созерцание Троицы приносит вдохновляющие религиозные переживания, но многим христианам Запада идея Троичности по-прежнему почти непонятна. Можно предположить, что они обращают внимание лишь на ту сторону веры, которую каппадокийцы называли керигмой, тогда как для греков важна прежде всего догматическая истина, постигаемая только интуитивно и благодаря религиозным переживаниям. Конечно, никакого логического смысла в этом не найти. В другой своей проповеди Григорий Назианзин пояснял, что именно непостижимость догмы Троицы воочию являет непроницаемую загадочность Бога и в очередной раз напоминает, что мы не должны и надеяться Его познать[229]. Догма не позволяет выносить поспешные суждения о Боге, который, даже раскрывая Себя, выражает Свое естество только неисповедимыми путями. Василий Великий тоже предостерегал: нелепо даже пробовать выяснять, так сказать, принцип действия Троицы. Нет, например, ничего достойного в попытках разгадать, как именно три ипостаси Божественного могут быть одновременно Одним и как тождественное совмещается в Троице с различиями, – это просто выше любых слов, концепций и человеческого понимания вообще[230].
Итак, Троичность нельзя толковать буквально: это не какая-либо мудреная рассудочная «теория», а результат теории в платоновском смысле, то есть созерцания. В XVIII веке, когда христиане Запада начали несколько стыдиться этой догмы и решили от нее отделаться, они, в духе Века Разума, просто попытались сделать Бога рациональным и понятным. Это стало одной из причин так называемой «смерти Бога» в XIX и XX веках. Что касается «каппадокийцев», то они разработали свою образную парадигму именно для того, чтобы Бог не был таким рациональным, каким видели его греческие философы и еретики вроде Ария. Богословие Ария было слишком уж ясным, точным и логичным, но Троица напоминала христианам, что реальность, именуемую «Богом», умом не объять. Принятая в Никее доктрина Вочеловечения тоже была важна, но сама по себе могла привести к идолопоклонническому упрощению. Многие начали бы думать о Боге в чрезмерно приземленных категориях, очеловечивать Его. Не исключено даже, что кто-то мог бы решить, будто Он мыслит, действует и строит планы, как обычный человек, а это прямой дорогой привело бы к появлению и пагубному распространению самых разнообразных суеверных представлений о Боге. Идея Троицы была попыткой избежать такого развития событий. В ней следовало видеть не фактическое суждение о Боге, но, скорее, поэтическое творчество, богословский танец между тем, что мыслят и предполагают о «Боге» простые смертные, и безмолвным пониманием того, насколько условны любые суждения такого рода и вся керигма в целом.
Весьма поучительно, между прочим, само изменение смысла греческого понятия theoria. В восточном христианстве «теория» всегда означало «созерцание, раздумье», а на Западе это слово стало со временем обозначать рациональную гипотезу, требующую логического обоснования. При разработке «теорий» о Боге предполагалось, что «Его» можно втиснуть в сферу человеческого мышления. В Никейском соборе участвовали всего три богослова от Запада, где большая часть христиан просто не готова была к диспутам такого уровня. Непонимание смысла отдельных греческих терминов привело к тому, что на Западе доктрина Троицы многих просто возмутила. Не исключено, что ее вообще невозможно было точно перевести на другие языки. Каждому народу приходится разрабатывать свои представления о Боге самостоятельно; поскольку греческое толкование Троичности оказалось для жителей Запада невразумительным, они вынуждены были создавать свою трактовку.
Богословом, давшим определение Троицы для католической церкви, стал блаженный Августин. Он был пылким сторонником учений Платона и Плотина, так что отказаться от греческой доктрины ему было труднее, чем многим его западным коллегам. Как он сам объясняет, причиной неверного понимания нередко бывала путаница в терминах:
Во имя изъяснения несказанного и чтобы хоть как-то выразить то, что человек выразить не способен, наши греческие собратья говорят об одной сущности и трех субстанциях, а латинские – об одной сущности, или субстанции, и трех Лицах (personae)[231].
Подход греков к Богу сводился к осмыслению трех ипостасей; рассуждать о Его единой и сокровенной сущности они отказывались. Августин, а вслед за ним и все христиане Запада начинали с Божественного Единства и лишь потом переходили к размышлениям о трех Его проявлениях. Греческие христиане относились к Августину с большим почтением и видели в нем одного из величайших отцов Церкви, но его тринитарианизм воспринимали, между тем, с подозрительностью – по их мнению, эта доктрина делала Бога чрезмерно рациональным и очеловеченным. Подход Августина был не метафизическим, как у греков, а психологическим и глубоко личным.
Блаженного Августина можно считать первым представителем западного духа. Ни один богослов, за исключением самого апостола Павла, не оказал большего влияния на Запад. Благодаря его знаменитой «Исповеди» – красноречивому и страстному повествованию о личных поисках Бога, – мы знаем про Августина намного больше, чем про любого другого мыслителя поздней античности. К единобожию его тянуло с юности, и в Боге он видел самое главное для человека: «Ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»[232]. Преподавая риторику в Карфагене, Августин увлекся манихейством, месопотамской разновидностью гностицизма, но со временем отрекся от него, найдя предложенную манихеями космологию неудовлетворительной. Концепция Вочеловечения казалась ему кощунственным осквернением идеи Бога, но позднее, когда он перебрался в Италию, Амвросий, епископ Медиоланский, убедил его в том, что христианство не так уж несовместимо с Платоном и Плотином. Все же Августин долго не решался сделать последний шаг и принять крещение. Колебания объяснялись сознанием того, что в его случае обращение непременно повлечет за собой обет безбрачия. «Дай мне целомудрие и воздержание, – молился он, – только не сейчас»[233].
Окончательное обращение Августина происходило в духе «бури и натиска» – это был яростный разрыв с прошлым и мучительное рождение заново, что вообще стало отличительной чертой религиозных переживаний на Западе. Однажды, когда он сидел со своим другом Алипием в саду, в сознании Августина началась отчаянная внутренняя борьба:
Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало «перед очами сердца моего» [Пс. 18:14] всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Чтобы целиком излиться и выговориться, я встал – одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы предаться такому плачу, – и отошел подальше от Алипия. […]
Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам: они потоками лились из глаз моих – угодная жертва Тебе [Пс. 50:19–21]. Не этими словами говорил я Тебе, но такова была мысль моя: «Господи, доколе? Доколе, Господи, гнев Твой?
Не поминай старых грехов наших!» [Пс. 6:4][234].
Наш, западный путь к Богу далеко не всегда был прост. Переживания Августина выглядят похожими на психическую абреакцию[235]: после страстного всплеска чувств новообращенный без сил падает в объятия Бога. Лежа на земле в сердечном сокрушении, Августин услышал вдруг, как из соседнего дома доносится детский голос, повторяющий нараспев: «Tolle, lege!» – «Возьми, читай!» Восприняв это как веление свыше, Августин вскочил на ноги, вернулся к изумленному многострадальному Алипию и выхватил у того из рук апостольские Послания. Книга раскрылась на послании Павла к римлянам: «…не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти»[236]. Долгая борьба кончилась. «Я не захотел читать дальше, – вспоминает Августин, – да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений»[237].
Бог, впрочем, бывает и источником радости: однажды вечером, вскоре после обращения, Августин переживает вместе со своей матерью Моникой мистическое блаженство (об этом событии, случившемся в Остии, на берегах Тибра, мы подробнее поговорим в седьмой главе). Как последователь платонизма, блаженный Августин был убежден, что Бога следует искать в собственном разуме. В десятой книге «Исповеди» он рассуждает об особом свойстве, которое сам именует memoria, память. Это понятие куда сложнее обычной способности вспоминать и ближе к тому, что психологи назвали бы подсознанием. Для Августина в памяти воплощен весь разум, как сознающий, так и бессознательный. Сложность и многообразие этого качества вызывали у блаженного Августина искреннее восхищение. Это «внушающий ужас» немыслимый мир образов, живое присутствие прошлого с бесчисленными равнинами, логовищами и пещерами[238]. Именно в этот несметно богатый внутренний мир спускается Августин в поисках Бога, который пребывает одновременно и в глубине души, и в далеких высях. Нет смысла искать свидетельства присутствия Бога в окружающем мире; Бог открывается только в мире настоящем – мире ума:
Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе[239].
Иными словами, Бог – не объективная действительность, а духовное присутствие в запутанных глубинах души. Это прозрение роднит Августина не только с Платоном и Плотином, но также с буддистами, индуистами и шаманами, то есть последователями религий без бога. С другой стороны, у Августина это вовсе не безличное божество, а обладающий всеми чертами личности Бог иудео-христианской традиции. Этот Бог нисходит до слабого человека и Сам отправляется его искать:
Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание Свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем[240].
Греческие теологи обычно не привносили в ученые труды собственных переживаний, но богословие Августина определялось именно глубоко личными подробностями его жизни.
Увлечение возможностями разума привело Августина к разработке своеобразного психологического тринитаризма, описанного им в трактате «О Троице» в самом начале V века. Поскольку Бог сотворил людей по своему образу и подобию, в глубине ум а каждого человека таится врожденная способность различать вокруг троичное. Если греки тешились метафизическим умозрением и понятийными тонкостями, то блаженный Августин начал свои изыскания с того момента истины, с которым почти все мы сталкивались. Слыша такие выражения, как «Бог – это Свет» или «Бог есть Истина», мы инстинктивно ощущаем проблески духовного интереса; мы чувствуем, что «Бог» способен придать нашей жизни определенный смысл и содержательность. Однако после такого мимолетного прозрения мы тут же возвращаемся к прежнему умонастроению, где господствует одержимость «вещами привычными и земными»[241]. Пережитого неизъяснимого порыва, как ни старайся, уже не вернуть. Обычное мышление тут не поможет; прислушиваться нужно к тому, «что сердце чувствует» в словах «Он – Истина»[242]. Но как любить реальность, которой не знаешь? Августин доказывает, что в наших умах есть своя троичность, отражающая Божью; как и любая другая платоновская идея, этот Архетип – изначальный образец, на основе которого мы созданы, – неизменно манит нас к себе.
Если начать рассуждения с ума, влюбленного в себя, найдешь не троичность, а двойственность: любовь и разум. Но ум не может себя любить, пока не сознаёт себя, не обладает тем, что можно назвать самосознанием. Предвосхищая Декарта, Августин утверждал, что постижение себя – основа всякой иной уверенности. Даже опыт сомнения повышает наше осознание себя[243].
У души есть, таким образом, три свойства: память, понимание и воля, которые соответствуют познанию, самопознанию и любви. Как и три Божьих Лица, эти душевные качества по существу едины: о них никак нельзя сказать, что это три самостоятельных ума, – каждое из них, напротив, наполняет разум в целом и пронизывает остальные два свойства. «Помню, что есть у меня память, и понимание, и воля; понимаю, что понимаю, помню и проявляю волю; волей вызываю свое волеизъявление, и память, и понимание»[244]. Подобно Божественной Троице в описании каппадокийцев, все три свойства души, следовательно, «составляют одну жизнь, один ум, одну сущность»[245].
Такие взгляды на устройство ума представляют собой, впрочем, лишь первый шаг: троичность внутри нас – не Сам Бог, но след, отражение нашего Творца. К символике отражения в зеркале – для описания преображающего Божьего присутствия в человеческой душе – прибегали и Афанасий, и Григорий Нисский. Чтобы правильно понять это сравнение, следует вспомнить, что греки верили в реальность зеркального отражения, которое возникает, когда свет из глаз зрящего смешивается со светом от видимого предмета, отраженным от поверхности зеркала[246]. Августин был убежден, что троичность человеческого ума также является отражением, свидетельствующим о присутствии Бога и к Нему же устремленным[247]. Но как вырваться за рамки этого образа, который, как в любом зеркале, отражается слишком тускло, и достичь Самого Бога? Безмерное расстояние между Богом и человеком невозможно преодолеть самостоятельно. Возродить в себе образ Бога, искаженный и изуродованный нашей греховностью, можно лишь благодаря тому, что Бог Сам пошел навстречу нам, облекшись плотью вочеловеченного Слова. Преображающий божественный Промысел открывается нам посредством тройственных усилий, которые Августин именует троицей веры: retineo (памятование об истинах Вочеловечения), contemplatio (размышление об этих истинах) и dilectio (наслаждение ими). Благодаря такому воспитанию непрестанного ощущения Божьего присутствия в человеческом разуме постепенно приходит и постижение Троицы[248]. Такое познание предполагает, однако, не просто получение рассудком тех или иных сведений, но творческие усилия, преображающие человека изнутри путем выявления в собственной душе божественного измерения.
То была эпоха мрака и ужаса на Западе. Вторгавшиеся в Европу варвары неутомимо расшатывали Римскую империю. Угроза заката цивилизации отразилась, конечно же, и на христианской духовности. Амвросий, великий наставник Августина, проповедовал сугубо оборонительную веру, где важнейшее место среди добродетелей занимала integritas – целостность. Церкви приходилось с особой бдительностью следить за неприкосновенностью своих доктрин: подобно непорочной Деве Марии, Церковь не могла пятнать себя ложными идеями варваров, массами обращавшихся в арианство. Глубокая печаль пронизывает и поздние работы Августина: падение Рима приводит богослова к доктрине Первородного Греха, которая позднее займет центральное место в западном мировоззрении. Блаженный Августин верил, что Бог обрек людей на вечное проклятие за единственный проступок Адама. Врожденная греховность передавалась потомкам первого человека через соитие, оскверненное, по словам Августина, «вожделением» – необъяснимым желанием искать удовольствие не в Самом Боге, а в его тварях. Острее всего это удовольствие ощущается при совокуплении, когда рассудок тонет в буре чувственных страстей и твари бесстыдно наслаждаются друг другом, напрочь забывая о Боге. Августинов образ разума, одурманенного хаосом безудержных чувств и дикой страсти, удивительно точно передает положение Рима – западного оплота здравомыслия, закона и порядка, – павшего под натиском варварских племен. В довершение в своей суровой доктрине Августин рисует ужасающий портрет неумолимого Бога:
Изгнанный после греха из рая, человек и род свой, зараженный грехом в нем, как в корне, связал наказанием смерти и осуждения; так что все потомство его и осужденной вместе с ним жены рождалось от плотской похоти (в каковой похоти воздано было соответствующее неповиновению наказание) и получило первородный грех, ведущий через заблуждения и различные скорби к тому последнему, бесконечному наказанию вместе с отпавшими ангелами…
Следовательно, дело представляется так: осужденная масса всего рода человеческого лежала во зле или катилась и низвергалась из одного зла в другое, и, присоединившись к части согрешивших ангелов, подверглась достойному наказанию за нечестивое отпадение[249].
В таком катастрофическом свете грехопадение Адама не рассматривали ни иудеи, ни грекоправославные; мусульмане тоже не примут позднее столь мрачного богословия Первородного Греха. Эта чисто западная доктрина усугубила предложенный ранее Тертуллианом образ жестокого Бога.
Блаженный Августин оставил нам весьма сложное наследие. Религия, которая внушает верующим идею неизбывной порочности человеческой природы, непременно отдаляет людей от самих себя – и наиболее явно такая отчужденность проявлялась в очернении сексуального начала в целом и женщин в частности. Несмотря на то что первоначально христианство относилось к женщинам довольно мягко, к эпохе Августина на Западе уже царили женоненавистнические настроения. Письма Иеронима дышат таким отвращением к женщинам, что временами злоба эта наводит на мысли о расстроенной психике. Тертуллиан тоже обрушивался на женщин, видя в них злокозненных искусительниц и вечную угрозу роду людскому:
И ты еще не знаешь, что Ева – это ты? Приговор Божий над женским полом остается в силе, пока стоит этот мир, а значит, остается в силе и вина. Ведь именно ты по наущению дьявола первой нарушила Божью заповедь, сорвав с запретного древа плод. Именно ты соблазнила того, кого не сумел соблазнить дьявол. Ты с легкостью осквернила человека, это подобие Бога; наконец, исправление вины твоей стоило жизни Сыну Божьему[250].
И Августин был с этим полностью согласен. В письме к другу он говорил: «Нет разницы, жена она или мать, – это все та же Ева-искусительница, которой следует остерегаться в любой женщине»[251]. Более того, Августин никак не мог взять в толк, зачем Богу вообще понадобилось создавать женский пол, ведь, в конце концов, «если Адаму и требовалось общество приятного собеседника, куда лучше было бы свести двух друзей-мужчин, чем мужчину и женщину»[252]. Единственной задачей женщины было деторождение; но и оно, словно венерическую болезнь, передавало следующему поколению заразу Грехопадения. Религия, которая с подозрением смотрит на целую половину рода человеческого и видит в любом непроизвольном движении ума, души или тела симптом гибельного вожделения, может только посеять в людях отвращение к их собственному существованию. Западное христианство так и не оправилось до конца от этого невропатического отвращения, которое до сих пор прорывается неуравновешенной реакцией на саму лишь идею посвящения женщин в духовный сан. Восточные женщины несли на себе бремя комплекса неполноценности, характерного в ту эпоху для всей ойкумены, но их сестры на Западе были помечены еще и клеймом презренной и греховной похоти, из-за чего от них надлежало с ужасом и омерзением отшатываться.
Подобное отношение нелепо вдвойне, ведь сама доктрина о том, что Бог облекся плотью и разделил с нами человеческое, должна была, по идее, вызывать у христиан почтение к телесному. Об этом сложном вопросе веры, кстати, еще долго спорили. В IV и V вв. такие ересиархи, как Аполлинарий, Несторий и Евтихий, подняли немало каверзных вопросов. Как божественность Христа могла соотноситься с человеческим началом в Нем? Действительно ли Мария была матерью Иисуса-человека, а не Бога? Как мог быть Бог беспомощным хнычущим младенцем? Не правильнее ли будет сказать, что Его соединяла с Иисусом особая близость и Он обитал в человеческом теле, как в храме? Ортодоксы своих позиций не сдавали, несмотря на очевидные противоречия, которыми их загоняли в угол ересиархи. Кирилл, епископ Александрийский, держался афанасьевских убеждений: Бог действительно так глубоко проник в наш несовершенный и порочный мир, что даже испытал предательство и смерть. Казалось, эту идею просто невозможно примирить с не менее стойкой верой в полную бесстрастность Бога, не способного ни страдать, ни меняться. Недосягаемый Бог греков, главной чертой которого была apatheia, выглядел божеством чуждым, совсем непохожим на Бога, вочеловечившегося, как считалось, в Иисусе Христе. Ересиархов глубоко оскорбляла идея страдающего и беспомощного Бога, но ортодоксы полагали, будто те стремятся лишить Божественное таинственности и чудесности. Парадокс Вочеловечения казался противоядием от эллинистического бога, предельно рассудительного и никак не нарушавшего наше самодовольство.
В 529 г. император Юстиниан закрыл старинную школу философии в Афинах. Пал последний оплот интеллектуального язычества. Последним великим учителем в этой школе был Прокл (412–485 гг.), ревностный последователь Плотина. Языческая философия ушла в подполье и, на первый взгляд, потерпела от новой религии сокрушительное поражение. Однако уже четыре года спустя неведомо откуда появились четыре мистических трактата; считалось, что написаны они были Дионисием Ареопагитом, первым афинским последователем апостола Павла. На самом же деле их написал в том же VI в. греко-христианин, который предпочел не разглашать свое имя. Псевдоним обладал, однако, символической силой, которая оказалась куда важнее подлинной личности автора. Псевдо-Дионисию удалось окрестить неоплатонизм и примирить бога греков с семитским богом Библии.
Помимо прочего, Дионисий унаследовал взгляды святых отцов-каппадокийцев. Как и Василий Великий, он очень серьезно относился к различию между керигмой и догмой. В одном из писем Дионисий утверждал, что существуют две богословские традиции, идущие от самих апостолов. Керигматическое благовестие понятно и доступно осмыслению, догматическое – безмолвно и загадочно. Они, однако, опираются друг на друга и в равной мере важны для христианской веры. Одно учение «символическое и ведущее к таинствам», другое – «философское и аподиктическое, так что в слове соплетено с выразимым невыразимое»[253]. Керигма привлекает и назидает своей явной, очевидной истиной, а молчаливая, сокровенная традиция догмы является загадкой, требующей посвящения. Она «действует и утверждается в Боге ненаучимыми тайноводствами», – настаивал Дионисий, и в этих словах угадывалось что-то аристотелевское[254]. Речь шла о религиозной истине, которую невозможно точно охватить словами и логическими, рациональными рассуждениями. Она выражается только символически, посредством языка и жестов литургии, либо передается доктринами, представляющими собой «священные покровы», которые скрывают от взоpa неизъяснимое содержание, но одновременно приспосабливают совершенно непостижимого Бога к ограниченным человеческим возможностям, выражая Реальность теми средствами, что открывают путь к постижению если не умом, то хотя бы воображением[255].
Потаенный, эзотерический смысл веры был доступен не какой-либо избранной верхушке, а всем без исключения христианам. Дионисий не утверждал какого-то сверхмудрого учения, пригодного только для монахов и отшельников. Главным путем к Богу оставалась литургия, которую посещали все верные и которая занимала в богословии Дионисия главное место. Многие истины скрыты за надежными покровами вовсе не для того, чтобы воспрепятствовать благим порывам христиан, – напротив, всем верующим следует подняться над чувственным восприятием и привычными категориями мышления, чтобы соприкоснуться затем с несказанной реальностью Самого Бога. Смирение, которое прежде укрепляло каппадокийцев в убеждении, что всякое богословие должно быть апофатическим, стало у Дионисия прямым средством восхождения к невыразимому Богу.
Вообще Дионисий всячески избегал слова «Бог» – по всей видимости, потому, что к тому времени оно уже приобрело слишком много неточных и очеловеченных оттенков, – предпочитая прокловское понятие theurgy, изначально имевшее литургический смысл: в языческом мире теургия означала добычу, обретение божественной маны посредством жертвоприношений и прорицаний. Дионисий относил этот термин к рассуждениям о Боге – ведь при правильном понимании они тоже могут высвобождать божественные энергии, кроющиеся в явленных символах. Дионисий был согласен с каппадокийцами в том, что любые слова и концепции, относящиеся к Богу, заведомо неполноценны и не должны считаться точным описанием действительности, лежащей за границей человеческого кругозора. Несовершенно даже само слово «Бог», поскольку Сам Бог «выше Бога» – это «тайна за гранью бытия»[256]. Христианам надлежит понимать, что Бог – не Высшее Существо, не высочайшая сущность, стоящая во главе иерархии низших сущностей. Предметы и люди вовсе не противостоят Богу как отдельной, иной действительности, которую можно сделать объектом познания. Бог – это не один из объектов, существующих на свете; Он не похож ни на что из сферы нашего опыта. Фактически, точнее было бы именовать Его «Ничто»; во всяком случае, нам не следует называть Его даже Троицей, ибо Он – «не Единство и не Троица в том смысле, в каком мы эти понятия разумеем»[257]. Он выше всех имен – так же как выше всякого бытия[258]. Тем не менее даже свою неспособность говорить о Боге мы можем использовать как путь к единению с Ним, означающему не что иное, как «боґжение» (theosis) нашего собственного естества. В Священном Писании Бог открыл нам часть своих Имен – «Отец», «Сын» и «Дух Святой», – но сделал это не для того, чтобы передать какие-то знания о Себе, а чтобы пробудить в людях тягу к Нему и помочь им причаститься к Его божественной природе.
Каждую главу трактата «О божественных именах» Дионисий начинает с одной из богооткровенных керигматических истин – Его благости, мудрости, отцовства и так далее. Затем автор показывает, что, хотя в этих чертах Бог, разумеется, раскрывает какую-то грань Себя, открываемое Им – не Он Сам. Если мы поистине хотим познать Бога, то и от таких атрибутов и имен должны отказаться. В итоге приходится признать, что Он – одновременно и «Бог», и «не-Бог»; рассуждения о Его «благости» неизменно ведут к постижению, что Он «не благ». Потрясение, вызываемое такими парадоксами, где познание неразрывно с неведением, возносит нас над миром обыденных представлений к невыразимой Реальности. И тогда мы говорим:
…Ему свойственны и разумение, и смысл, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не называем. И Он не есть что-то из сущих, и ни в чем из сущих не познается[259].
Таким образом, чтение Писания – не поиск фактов о Боге, а парадоксальное обучение, в ходе которого керигма обращается в догму. Этот подход и есть теургия – прикосновение к божественной силе, позволяющей нам подняться к Богу и, как прежде учили платоники, самим обожествиться. Иными словами, подход этот учит не думать! «Следует оставить позади любые помыслы о Божественном, положить конец работе нашего ума»[260]. Необходимо отказаться даже от отрицания Божьих атрибутов – тогда и только тогда удостоишься блаженного слияния с Богом.
Говоря о блаженстве, Дионисий не имеет в виду необычные душевные состояния или измененные формы сознания, каких достигают малопонятными йогическими техниками; блаженства способен достичь любой христианин, пользуясь парадоксальным методом молитвы и созерцания (theoria). Этот метод заставляет человека умолкнуть, погружает его в безмолвие: «Так что и ныне, входя в сущий выше ума сумрак, Мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и неразумение»[261]. Как и Григорий Нисский, Дионисий усматривал глубокий и поучительный смысл в восхождении Моисея на гору Синайскую. Когда Моисей поднялся на вершину, он не узрел там Самого Бога, но просто попал туда, где пребывал Господь. Патриарха окутало густое облако, в котором он ничего не мог разглядеть; иными словами, всё, что мы способны увидеть и понять, является лишь символом (Дионисий использует тут слово «парадигма»), раскрывающим присутствие той Реальности, что за пределами мышления. Моисей погрузился во мрак неведения и так достиг слияния с тем, что выше понимания; мы тоже добьемся подобного экстаза, который «извлечет нас из себя самих» и соединит с Богом.
Но возможно это лишь потому, что Бог, так сказать, Сам желает встретиться с нами на горе Синайской. В этих рассуждениях Дионисий отступает от неоплатонизма, где недвижный и далекий Бог никак не откликался на человеческие порывы. Бог греческих философов не замечал мистиков, которым время от времени все же удавалось достичь восторженного единения с Ним; библейский Бог, напротив, чутко прислушивается к людям. Более того, Бог тоже испытывает своеобразный «восторг», экстаз, который извлекает Его из Себя и переносит в бренный тварный мир:
И осмелимся утверждать – ибо это правда! – что Сам Творец вселенной, в Его прекрасном и благом стремлении ко вселенной […] исходит за границы Себя в Своем чудесном Промысле и тянется ко всему, что есть […] И так Он покидает Свой запредельный Престол, что выше всего сущего, и поселяется в сердцевине всего сущего посредством экстатической силы, которая выше бытия, но с которой Он по-прежнему пребывает в Себе[262].
Эманации перестали быть автоматическим процессом и превратились в страстное, волевое излияние любви. Дионисиевы отрицания и парадоксы – это не что-то такое, что мы делаем, а нечто с нами случающееся.
У Плотина экстаз был чрезвычайно редким событием; сам он испытывал его всего лишь два или три раза за всю жизнь. Дионисий же считает восторженное состояние обычным для каждого христианина. Эта сокровенная, эзотерическая весть Писания отражена в тончайших деталях литургического действа: когда отправляющий службу священник покидает алтарь и шествует среди прихожан, окропляя их святой водой, происходит не только обряд очищения – хотя, конечно, и он тоже; имитируется божественный экстаз, когда Бог нарушает Свое обычное уединение и сливается со Своими тварями. Быть может, лучшим наименованием Дионисиева богословия будет духовный танец, в котором все, что мы вправе утверждать о Боге, неразрывно переплетается с ясным сознанием того, что любые суждения о Нем имеют исключительно переносный смысл. Как и в иудаизме, Бог Дионисия обладает двумя аспектами: первый обращен к нам – это Бог, проявляющий Себя в нашем мире; второй же скрыт от нас – это совершенно непостижимый Бог-как-Он-есть. В Своей вечной загадочности Он «пребывает в Себе», но в то же время целиком растворен в сотворенной Им вселенной; это вовсе не еще одна сущность, дополняющая наш мир.
Представления Дионисия стали для греческой теологии нормой, а на Западе богословы продолжали тем временем спорить и искать объяснений. Одни воображали, будто при произнесении слова «Бог» божественная Реальность на самом деле совпадает с идеей в голове, другие приписывали Богу собственные мысли и, вступая на путь, чреватый идолопоклонством, утверждали, что именно Он захотел того-то, воспрепятствовал тому-то и задумал то-то. Бог греческого православия оставался между тем таинственным, а идея Троицы по-прежнему напоминала восточным христианам об условном характере любых доктрин. Со временем греки утвердились в мысли, что настоящее богословие непременно должно удовлетворять двум Дионисиевым критериям, то есть быть бессловесным и парадоксальным.
В греческой и римской теологии сложились очень несхожие взгляды на божественность Христа. Греческая концепция Вочеловечения была предложена Максимом Исповедником (ок. 580–662 гг.), которого принято считать отцом византийского богословия. Его соображения намного ближе к буддийскому идеалу, чем западные. Максим считал, что человек может состояться только слившись с Богом – и эта идея роднит его с буддистами, которые утверждали, что просветленность является естественным человеческим предназначением. С этой точки зрения «Бог» вовсе не является чуждой и посторонней реальностью, необязательным дополнением к человеческому существованию. Нет, в мужчинах и женщинах заложено божественное начало, и только развив его до конца, они становятся настоящими людьми. Логос стал Иисусом не для того, чтобы искупить Адамов грех: Вочеловечение случилось бы, даже если бы Адам не согрешил. Люди были созданы по образу Логоса и достигают полного расцвета, только когда подобие Ему становится безупречным. Восславивший человеческое Иисус явил нам на горе Фавор человека обожествленного, и к этому образу обязан стремиться каждый. Слово облеклось плотью ради того, чтобы «весь человек стал Богом, обожествленный милостью Бога, ставшего человеком – человеком цельным, душой и телом, по естеству, и Богом живым, душой и телом, по благодати»[263]. В буддизме просветление не требует вмешательства со стороны сверхъестественной реальности и представляет собой развитие сил, присущих человеку с самого рождения. Сходным образом, обожествленный Христос явил нам статус, которого достигают по Божьей милости. Христиане могли бы почитать Богочеловека Иисуса так же, как буддисты преклоняют голову перед изображениями просветленного Гаутамы: он был первым, кто своим примером восславил и исполнил человеческое предназначение.
Если греческие представления о Вочеловечении сближали христианство с восточными традициями, то западное понимание Иисуса развивалось довольно странным образом. Классические для Запада идеи были выражены Ансельмом (1033–1109 гг.), епископом Кентерберийским, в трактате «Почему Бог стал человеком». Грехопадение, как утверждал Ансельм, было проступком таким страшным, что только Искупление могло предотвратить полный крах замыслов Божьих в отношении человеческого рода. Слово облеклось плотью, чтобы искупить нашу вину перед Богом. Божья справедливость требовала, чтобы долг этот возместил тот, кто есть одновременно Бог и Человек. Сам размах нанесенного оскорбления означал, что только сын Бога способен принести нам избавление, но, поскольку виновен все-таки человек, то и спаситель должен быть из нашего рода. Упорядоченная, юридически выверенная схема Ансельма изображала Бога мыслящим, рассуждающим и взвешивающим различные варианты так, будто Он тоже человек. Помимо прочего, такая картина укрепляла сложившийся на Западе образ неумолимого Бога, которого может удовлетворить только страшная смерть собственного Сына – через добровольное человеческое жертвоприношение.
Доктрину Троицы на Западе часто понимали превратно. В народе либо воображали сразу три божественных существа, либо вообще пренебрегали троичностью и «Богом» считали только Отца, Иисусу же отводили место Его божественного товарища – рангом, правда, пониже. Иудеев и мусульман идея Троицы тоже озадачивала; им она казалась богохульством. Тем не менее, как мы вскоре убедимся, в иудаизме и исламе мистики разработали почти такие же представления о Божественном. Например, в каббале и суфизме очень важное место заняла идея кенозиса [kenosis], самоопустошающего экстаза Бога. В Троице Отец передает всё, чем является, Сыну, отказываясь даже от возможности выразить Себя в другом Слове. С тех пор, как Слово это изречено, Отец хранит молчание, и мы тоже не в силах ничего о Нем сказать, поскольку единственный известный нам Бог – это Логос, или Сын. Таким образом, Отец лишен индивидуальности, у него нет «я» в привычном смысле, Он не вмещается в наши представления о личности. У истоков этого Бытия – Ничто, проблески которого ощутили Дионисий, Плотин, Филон и даже Будда. Поскольку Отец обычно олицетворяет завершение поисков, путь христианина ведет его ни к кому и в никуда. Идея обладающего личностью Бога или Абсолюта всегда была важна для человека. Индуистам и буддистам пришлось пойти на уступки и допустить существование персонализированного поклонения бхакти. Однако парадигма, или символика, Троицы предполагает, что всё личностное нужно превзойти, что верующему не достаточно воображать Бога как сверхчеловека, который ведет себя примерно так же, как мы сами.
В доктрине Вочеловечения можно разглядеть еще одну попытку избежать угрозы идолопоклонства. Если видеть в «Боге» лишь совершенно чуждую, «потустороннюю» действительность, Он может быстро превратиться просто в истукана, позволяющего человеку переносить свои мечты вовне и поклоняться собственной предвзятости и собственным желаниям. Другие религиозные традиции пытались предотвратить это, утверждая, что Абсолют так или иначе связан с человеческим бытием (как, например, в парадигме Брахман – Атман). Арий, а позднее Несторий и Евтихий, мечтали сделать Иисуса либо Богом, либо человеком; эти идеи встречали сопротивление отчасти потому, что разносили человеческое и божественное по независимым сферам бытия. Да, рассуждения ересиархов были подчас логичнее, но догма, в отличие от керигмы, не должна ограничиваться только объяснимым, что роднит ее с поэзией и музыкой. Доктрина Вочеловечения – даже в неуклюжих пояснениях Афанасия и Максима Исповедника – была попыткой выразить словами интуитивную уверенность в нераздельности «Бога» и человека. На Западе, где идея Вочеловечения толковалась иначе, Бог оставался достаточно далеким от людей, а Его бытие отличалось от известного нам мира. В результате оказалось намного проще сделать из такого «Бога» проекцию, которая утратила свою значительность лишь относительно недавно.
Так или иначе, провозгласив Иисуса единственным аватаром, христиане приняли довольно ограниченную религиозную истину: Иисус был первым и последним Словом Божьим, обращенным к человеку, что сделало любые дальнейшие откровения излишними. И христиане – как прежде иудеи – были сильно возмущены, когда в VII веке в Аравии появился пророк, утверждавший, что он получил прямое откровение от Бога и принес своему народу новое священное писание. Тем не менее еще одна разновидность единобожия, получившая впоследствии название «ислам», с поразительной скоростью распространилась по Ближнему Востоку и Северной Африке. Многие новообращенные-мусульмане из тех мест (а эллинизму так и не удалось там прижиться) с огромным облегчением отказались от греческой триипостасности, где Божественная тайна выражалась слишком чужим языком, и приняли более понятные семитские представления о Божественной реальности.
5. Единство: Бог мусульман
Около 610 г. один арабский купец, который никогда не читал Библию и даже не слышал, по-видимому, про Исайю, Иеремию и Иезекииля, испытал переживания, поразительно схожие с видениями древнееврейских пророков. Мухаммад ибн Абдаллах из племени курайш, житель процветающей Мекки, что в Хиджазе, каждый год, в месяц рамадан, удалялся с семьей на гору Хира для духовного уединения, как было заведено у многих арабов полуострова. На горе Мухаммад молился верховному богу и раздавал хлеб и милостыню нищим, навещавшим его в эту священную пору. Немало времени, вероятно, проводил Мухаммад в тревожных раздумьях. Последующие события его жизни показывают, что он очень остро переживал общее беспокойство, царившее в Мекке несмотря на ее удивительные успехи. Всего за полсотни лет до того курайшиты, подобно многим другим бедуинам, кочевали по аравийским просторам. Новый день не сулил ничего, кроме все той же тяжкой борьбы за выживание. Однако в последние годы VI в. племя чрезвычайно преуспело в торговле, и Мекка превратилась в один из важнейших центров Аравии. Курайшиты разбогатели невообразимо, но столь крутые перемены в образе жизни племени привели к тому, что прежние ценности сменила безудержная страсть к наживе. В душах царило смятение. Мухаммад понимал, что курайшиты ступили на опасный путь и нуждаются в новой идеологии, которая помогла бы приспособиться к изменившимся условиям существования.
В то время политические решения чаще всего принимали религиозный характер. Мухаммад сознавал, что новая религия племени строится на деньгах. Этому едва ли стоило удивляться, ведь люди не сомневались, что именно богатство избавило их от опасностей кочевой жизни, постоянного голода и жестоких нравов обитателей Аравийских степей, когда каждое племя ежедневно сталкивалось с угрозой истребления. Теперь же еды у курайшитов было вдоволь, а Мекка постепенно становилась международным центром торговли и крупных денежных операций. Члены племени чувствовали себя хозяевами собственной судьбы, а кое-кто готов был поверить, что богатство способно принести бессмертие. Но Мухаммад опасался, что новый культ самодовольства (истака) приведет к распаду племени. В прежней кочевой жизни на первом месте были общественные заботы, а личные оставались делом второстепенным: каждый понимал, что его жизнь зависит от благополучия всего племени. Этим объяснялся неукоснительный обычай помогать бедным и неимущим своей этнической группы. Однако теперь общинные ценности сменились индивидуализмом, нормой стало соперничество. Люди заботились только о личном достатке и не обращали никакого внимания на тех, кто попадал в беду. Каждый род племени боролся с остальными за свою долю богатств Мекки, и некоторые менее удачливые семьи (в том числе и род хашим, к которому относился сам Мухаммад) чувствовали, что стоят на грани гибели. Мухаммад не сомневался, что если курайшиты не сумеют сделать центром своей жизни что-то возвышенное и не преодолеют алчное самолюбие, то очень скоро племя уничтожит себя морально и политически в междоусобных стычках.
Не лучшим образом обстояли дела и в других районах Аравии. Бедуинские племена Хиджаза и Наджда столетиями вели между собой яростную борьбу за самое необходимое. Чтобы поддерживать у членов племени общинный дух, который только и мог обеспечить им выживание, арабы выработали идеологию мурувва, во многом заменявшую религию. На религию как таковую у арабов просто не хватало времени. У них был языческий пантеон и свои храмы, но они так и не создали сколько-нибудь развитой мифологии, которая отводила бы божествам и святыням место в духовном бытии. У арабов не было представлений о загробной жизни: они просто верили в высшую силу дарб, что можно перевести как «время» или «судьба», – в условиях высочайшего уровня смертности такие взгляды были, пожалуй, вполне оправданны. Западные ученые часто переводят понятие мурувва как «мужество», но спектр его значений намного шире: оно обозначает и отвагу в битве, и терпение, и стойкость в страданиях, и непоколебимую преданность своему племени. Нравственные каноны мурувва требовали от бедуина безоговорочного подчинения саййиду, главе племени, и мгновенного исполнения его воли без раздумий о собственной безопасности. Араб обязан был целиком отдавать себя благородному делу мести за любую обиду, нанесенную племени, и не щадя своей жизни защищать слабых сородичей. Саййид поровну распределял пищу и пожитки между членами племени, а за убийство любого из них отбирал жизнь у кого-то из рода обидчика. Именно в этом яснее всего проявлялась общинная этика: не было нужды наказывать самого убийцу, поскольку в таком обществе, каким оно было в доисламской Аравии, личность и без того могла бесследно исчезнуть в каждый миг. Для мести вполне годился любой член вражеского племени. На территории, где каждое племя само устанавливало себе законы, где не существовало ни центральной власти, ни полиции, кровная месть была единственным средством поддержания социального порядка. Если племени не удавалось отомстить обидчикам, оно сразу теряло уважение соседей и те получали право безнаказанно его истреблять. Кровная месть была, таким образом, грубой формой правосудия, но благодаря ей ни одно племя не могло добиться превосходства над остальными. С другой стороны, этот обычай не раз приводил к тому, что многочисленные племена быстро втягивались в замкнутый круг насилия: когда людям казалось, что отмщение не соразмерно с первоначальным проступком, одно убийство следовало за другим.
При всей своей жестокости мурувва, несомненно, обладала многими достоинствами. Она воспитывала глубокое чувство равенства и безразличия к материальному достатку – что тоже было весьма немаловажно в условиях, когда не хватало самого насущного. Возведение в культ щедрости и великодушия призвано было избавить арабов от тревог о завтрашнем дне. Как мы вскоре убедимся, те же добродетели займут важное место в исламе. Кодекс чести мурувва веками служил арабам верой и правдой, но к концу VI в. уже не мог дать ответ на запросы эпохи. На последнем этапе доисламского периода, который мусульмане называют ал-джахилийа («эра неведения»), во всем арабском мире царила обеспокоенность и духовная тоска. Со всех сторон полуостров окружали две могучие империи – Персия Сасанидов и Византия. С обжитых земель в Аравию начали проникать современные идеи, а караванщики, побывавшие в Ираке и Сирии, рассказывали местным жителям о чудесах цивилизации.
Тем не менее арабы были, казалось, обречены на вечное варварство. Непрестанные войны между племенами просто не позволяли им объединить свои скудные ресурсы и стать единым арабским народом, хотя общность смутно сознавалась всеми. Им никак не удавалось завладеть нитями судьбы и создать собственную цивилизацию, поскольку то и дело приходилось покоряться внешним силам: например, самый плодородный и развитый район Южной Аравии, где ныне находится Йемен – его преимуществом были муссонные дожди, – стал заурядной провинцией Персии. В то же время новые идеи, проникавшие в этот регион, несли на себе отпечаток индивидуализма и подрывали прежний общинный дух. В частности, христианская доктрина загробной жизни придавала неизбежной судьбе личности священную значимость – но как можно было примирить это с племенными воззрениями, где личность уступала место роду, а бессмертие человеческой души зависело от выживания общины?
Тут и проявился исключительный гений Мухаммада. К концу жизни (он умер в 632 г.) ему удалось сплотить все аравийские племена в единое сообщество – умму. Он дал арабам духовность, прекрасно сочетавшуюся с давними традициями. В ней таилась такая сила, что не прошло и сотни лет, как у арабов уже была совершенно своеобразная цивилизация и собственная великая империя, протянувшаяся от Гималайских гор до Пиренеев. Конечно, сам Мухаммад не мог предвидеть всего этого в месяц рамадан 610 года, когда молился в крошечной пещере на вершине горы Хира. Как и многие его соотечественники, Мухаммад верил, что Аллах, высшее божество арабов, чье имя означает просто «Бог», – тот же Господь, которого почитают иудеи и христиане. Кроме того, Мухаммад не сомневался, что трудности его народа разрешит только пророк, посланный этим богом, хотя, конечно, и помыслить не мог, что сам окажется этим пророком. Арабы с горечью сознавали, что Аллах никогда не посылал им ни провидцев, ни священных писаний, хотя в самом сердце Аравии с незапамятных времен существовало святилище в его честь. Большинство арабов свято верили, что Кааба (ал-Каба) – древнее сооружение кубической формы в центре Мекки – изначально была святилищем Аллаха, хотя к VII веку перешла к набатейскому божеству Хубалу. Мекканцы очень гордились Каабой, главной святыней Аравии. Ежегодно арабы со всего полуострова совершали паломничество (хаджж) в Мекку и на протяжении нескольких дней проводили там традиционные обряды. В окрестностях Каабы запрещалось всякое насилие, и потому в Мекке, где привычные междоусобицы приостанавливались, арабы могли торговать в полной безопасности. Курайшиты понимали, что едва ли достигли бы преуспеяния без этой святыни; почтительность, какую питали к мекканцам другие племена, во многом объяснялась тем, что курайшиты были хранителями Каабы, стражами ее давней неприкосновенности. Тем не менее Аллах, проявивший к курайшитам особое расположение, ни разу не посылал к ним таких вестников, как Авраам, Моисей или Иисус. У арабов даже не было священных текстов на родном языке.
Это неизбежно порождало массовый комплекс духовной неполноценности. Иудеи и христиане, с которыми жители Аравии тесно соприкасались, часто насмехались над арабами, считая их варварским племенем, не ведавшим божественного откровения. У самих же арабов к чувству обиды примешивалось невольное уважение к тем народам, которые обладали недоступными знаниями. Иудаизм и христианство в этот регион почти не проникали, хотя арабы признавали, что эти прогрессивные религии превосходят традиционное язычество Аравийского полуострова. В селении Йасриб (позднее Медина) и в оазисе Фадак, что к северу от Мекки, существовали иудейские общины сомнительного происхождения, а некоторые северные племена, чьи земли примыкали к владениям Персидской и Византийской империй, обращались в монофизитское и несторианское христианство. Однако бедуины превыше всего ценили свободу, решительно противились влиянию крупных сообществ (например, государства их собратьев в Йемене) и остро сознавали, что как персы, так и византийцы непременно воспользуются иудаизмом и христианством для того, чтобы распространить имперскую власть и на Аравию. Вероятно, подспудно арабы ощущали, что их культура и так сильно пострадала, ведь местные обычаи неумолимо отмирали. Иноземная идеология, выраженная чужим языком и незнакомыми традициями, подписала бы коренной культуре окончательный смертный приговор.
Кое-кто из арабов пытался, похоже, найти нейтральную форму единобожия, которая не была бы окрашена имперскими притязаниями. Еще в V в. Созомен, христианский историк из Палестины, писал, что сирийские арабы возродили исконную веру Авраама, который не был ни иудаистом, ни христианином, поскольку жил в те времена, когда Бог еще не дал людям Тору и Новый Завет. Первый биограф исламского Пророка Мухаммад ибн Исхак (ум. в 767 г.) свидетельствует, что незадолго до того, как Мухаммад обрел свой пророческий дар, четверо мекканских курайшитов пытались возродить ханифийа, истинную веру Авраамову. Некоторые западные учение доказывали, что крошечная секта ханифийа – вымысел, символизирующий духовные метания эпохи джахилийа, «языческого неведения», но даже у вымысла должна быть какая-то фактическая подоплека. Ранние мусульмане хорошо помнили имена троих из четырех ханифов: Абдаллах ибн Джахш был двоюродным братом Мухаммада, Барака ибн Науфал – одним из первых его духовных советников, а Зайд ибн Амр – дядей Умара ибн Хаттаба, близкого друга Мухаммада и второго халифа Исламской империи. По легенде, прежде чем отправиться в Сирию и Ирак на поиски Авраамовой веры, Зайд некоторое время стоял, прислонившись к стене Каабы, и обращался к курайшитам, совершавшим в это время освященный традицией ритуальный обход вокруг святыни: «О Курайш, по воле Того, в Чьих руках душа Зайда, ни один из вас не следует вере Авраамовой, кроме меня». Затем он с грустью добавил: «О Боже, если бы только знал я, какого поклонения Ты желаешь, так бы Тебе и поклонялся – но я не знаю…»[264]
Мечты Зайда о божественном откровении сбылись: в семнадцатую ночь месяца рамадан 610 г., на горе Хира, Мухаммад внезапно пробудился и понял, что окружен ошеломляющим божественным присутствием. Позднее он описал этот непередаваемый опыт в истинно арабском духе. По его рассказу, ангел предстал перед ним и повелел: «Читай!» Подобно еврейским пророкам, которые обычно произносили Слово Божье с большой неохотой, Мухаммад пытался возражать: «Я не прорицатель!» Он действительно не был кахином, одним из тех исступленных предсказателей, что бродили по Аравии и возвещали якобы ниспосланные свыше пророчества. В ответ ангел просто стиснул его в объятиях, да так сильно, что у Мухаммада перехватило дух. В тот самый миг, когда боль стала невыносимой, ангел отпустил его и повторил: «Читай!» Будущий Пророк снова отказался, и ангел опять крепко сдавил его и держал, пока Мухаммад мог терпеть. После третьего ужасного объятия Мухаммад почувствовал вдруг, как из его уст рвутся слова нового священного писания:
Читай (и возгласи!) Во имя Бога твоего, кто сотворил — Кто создал человека Из сгустка. Читай! Господь твой самый щедрый, — Он – Тот, кто (человеку дал) перо И научил письму, А также обучил тому, что он не знал[265].Слово Божье впервые прозвучало на арабском языке и стало той вестью, которую со временем запишут и назовут ал-куран, «чтение вслух».
Мухаммад очнулся в ужасе и отвращении к себе. Он боялся и думать, что стал одним из презренных гадателей-кахинов, к которым обращались, когда пропадали верблюды. Люд и верили, что кахины одержимы джиннами: эти своенравные мифические существа населяли всякую местность и любили подшучивать над людьми. Считалось, в частности, что свой джинн есть и у каждого поэта. Так, например, Хасан ибн Табит, поэт из Йасриба, обратившийся позднее в ислам, утверждал, будто обрел поэтический дар после того, как появившийся перед ним джинн повалил его на землю и силой вырвал из его уст вдохновенные слова. Это была единственная известная Мухаммаду форма воодушевления извне, и мысль о том, что, вероятно, и он превратился в маджнуна, «одержимого», вызвала у него такое отчаяние, что ему расхотелось жить. Он всегда искренне презирал кахинов, чьи предсказания обычно сводились к невразумительной болтовне, и решительно отличал стихи Корана от традиционной арабской поэзии. И в тот день, выбежав из пещеры, он был полон решимости броситься вниз с вершины. Однако на склоне горы ему явилась еще одна сущность, которую он впоследствии отождествил с архангелом Гавриилом (Джибрилом):
Потом я вышел, и когда дошел до середины горы, услышал голос неба, говоривший: «О Мухаммад, ты – посланник Аллаха, а я – Джибрил!» Я поднял голову, глядя в небо, и увидел Джибрила в облике человека, стоявшего ногами на горизонте и говорившего: «О Мухаммад, ты – посланник Аллаха, а я – Джибрил!» Я стоял, глядя на него и не двигаясь ни вперед, ни назад, потом стал отворачиваться от него в разные стороны, но куда бы ни посмотрел, везде видел его таким же[266].
В исламе Джибрила часто приравнивают к Святому Духу, посредством которого Бог вступает в общение с человеком. Это не привычный нам образ миловидного ангела, а всенаполняющее, вездесущее присутствие, от которого невозможно скрыться. Мухаммад пережил встречу со всемогущей сверхъестественной реальностью, которую еврейские пророки называли каддаш – святость, вселяющая ужас непохожесть Бога на все известное. Сталкиваясь с ней, древние евреи тоже испытывали предельное физическое и душевное напряжение, подобное чувству близости смерти. Однако, в отличие от Исайи или Иеремии, у Мухаммада не было уравновешивающих метания одиночки познаний о давней традиции. Тяжкие переживания обрушились ни с того ни с сего и вызвали глубочайшее потрясение. Нестерпимо страдая, Мухаммад вне себя бросился к жене Хадидже.
Содрогаясь от страха, он приполз к ней на четвереньках и уткнулся ей в колени. «Укрой меня, укрой!» – рыдал он, умоляя жену оградить его от божественного присутствия. Когда первое волнение несколько улеглось, Мухаммад рассказал Хадидже о случившемся и спросил, похож ли он на маджнуна, но супруга поспешно заверила его: «Ты добр и внимателен к своим сородичам. Ты помогаешь бедным и неимущим и берешь на себя их тяготы. Ты мечтаешь возродить добродетели, утраченные нашим народом. Ты гостеприимен и оказываешь помощь всем, кто попал в беду. Нет, дорогой мой, этого не может быть!»[267] Бог не может действовать с таким безразличием. И Хадиджа предложила пойти за советом к ее двоюродному брату Бараке ибн Науфалу, который был христианином и изучал Библию. У Бараки не возникло никаких сомнений: Мухаммад получил откровение от того же Бога, который являлся Моисею и пророкам; Мухаммад стал посланником Бога к арабам. Сам Пророк поверил в это лишь несколько лет спустя, после чего и начал проповедовать среди курайшитов благую весть на их родном языке.
В отличие от Торы, которая, по библейскому преданию, была открыта Моисею на горе Синайской вся целиком, Мухаммад получал Коран по частям – слово за словом, строка за строкой – на протяжении двадцати трех лет. Откровения по-прежнему причиняли немало мучений. «Не бывало еще, чтобы получал я откровение без такого чувства, будто из меня вырывают душу», – признавался Мухаммад в преклонные годы[268]. К божественным словам необходимо было прислушиваться с безраздельным вниманием; это были изнурительные попытки постичь смысл видений и многозначных идей, далеко не всегда поддающихся словесному выражению. По словам Мухаммада, порой содержание божественной вести было ясным: он просто видел Джибрила и слышал его речь. В остальных же случаях откровения были мучительно неразборчивы. «Подчас они доносятся до меня, словно отзвуки колокольного звона, и это для меня самое трудное: к тому мигу, как я постигаю весть, эхо уже едва слышно»[269]. Ранние биографы Пророка часто рисуют его внимательно прислушивающимся к себе – к тому, что следовало бы, вероятно, назвать подсознательным. Это напоминает прилив вдохновения, когда поэт «слышит» стихи, которые постепенно пробиваются на поверхность из потаенных уголков сознания. Сила и ясность, с которой они вырываются наружу, вызывают впечатление загадочной независимости от самого человека. В Коране Бог велит Мухаммаду внимать разрозненным по смыслу словам со всей тщательностью и, как сказал бы Вордсворт, мудрой пассивностью[270]. Не нужно подбирать слова и частные толкования слишком поспешно – в свой срок истинный смысл откровений проявится сам собой:
(О Мухаммад!) Ты не спеши переложить (ниспосланные откровения Корана) на язык, (Боясь, что ускользнут они). На Нас лежит соединение (частей) И чтение (Корана). Когда же Мы его тебе читаем, (Внимательно его) словам ты следуй! На Нас лежит и разъяснение его[271].Этот процесс был труден, как любое творчество. Обычно Мухаммад погружался в своеобразный транс, а бывало, что и терял сознание. Даже в прохладные дни с него градом катился пот; иногда в его теле, как при глубокой скорби, возникала тяжесть и он опускал голову к самым коленям (хотя Мухаммаду едва ли было известно, что такую же позу принимали при переходе в иные состояния сознания некоторые иудейские мистики той эпохи).
Неудивительно, что откровения свыше вызывали у Мухаммада такое страшное напряжение – он ведь не только разрабатывал принципиально новую политическую идеологию для своего народа, но и творил один из величайших духовных и художественных документов человеческой истории. Он и сам понимал, что выражает на арабском языке несказанное Слово Божье, поскольку Коран занимает в исламской духовности то же место, что и Логос, Иисус, – в христианстве. О Мухаммаде мы знаем намного больше, чем об основателях любой другой крупной религии. Коран, каждую суру (главу) которого можно датировать с приемлемой точностью, явственно показывает, как развивалось и разрасталось в масштабах видение Пророка. Вначале он не знал еще, что ему предстоит свершить, – все открывалось постепенно, по мере того как он следовал внутренней логике событий. Коран содержит уникальные для истории религии комментарии к процессу зарождения ислама. В этой священной книге Бог словно откликается на текущее положение дел: отвечает на вопросы Мухаммада, разъясняет смысл раздоров и противоречий в раннеисламском обществе и раскрывает божественное измерение в человеческой жизни. Суры Мухаммад получал не в том порядке, в каком они размещены в Коране сегодня, – слова приходили разрозненно, как бы соответствуя развитию событий и степени понимания Пророком глубинного смысла. Получая очередной фрагмент, Мухаммад, не умевший ни читать, ни писать, произносил его вслух. Большая часть мусульман заучивала стихи наизусть, а немногие грамотные записывали. Официальный сборник этих откровений появился спустя два десятилетия после смерти Мухаммада. Составители упорядочили суры по размеру: в начале – самые большие, в конце – те, что покороче. Такое размещение может показаться произвольным, но на самом деле оно вполне оправданно, ведь Коран не имеет единой сюжетной линии и не требует последовательной расстановки фрагментов. Он, напротив, затрагивает самые разнообразные темы: присутствие Бога в природе, жизнь предшествующих пророков и Страшный Суд. Тем, кто не владеет арабским языком и не в силах оценить его удивительное изящество, изобилующий повторами Коран кажется слишком скучным. Кое-кого удивляет, что там многократно встречаются одни и те же фразы. Дело в том, что эта книга предназначена прежде всего для публичного чтения вслух, а не для методичного изучения. Почти каждая сура, читаемая нараспев в мечети, напоминает мусульманам практически все важнейшие догматы их веры.
Начиная проповедовать в Мекке, Мухаммад был далек от каких-либо политических соображений и вряд ли предполагал, что станет основателем новой мировой религии. Сам он мечтал вернуть курайшитам древнюю веру в единого бога. Первоначально Мухаммад даже не собирался проповедовать среди других арабских племен – он обращался только к жителям Мекки и ближайших окрестностей[272]. Он и не думал закладывать основы теократии – вероятно, Мухаммад даже не знал, что это такое, так как был просто надхиром, «предупреждающим»[273], и не участвовал в политической жизни. Аллах послал его напомнить курайшитам, в каком угрожающем положении они пребывают. Впрочем, первые провозвестия Мухаммада вовсе не несут на себе печати злого рока – в них сквозит скорее радостная надежда. Мухаммаду не нужно было доказывать сородичам, что Бог существует. Они и так верили в творца небес и земли Аллаха, а многие не сомневались, что Его же почитают иудеи и христиане. То, что Бог есть, считалось само собой разумеющимся. В одной из ранних сур Он говорит Мухаммаду:
И если ты их спросишь: «Кто небеса и землю сотворил, А солнце и луну (отдал им) во служенье?», «Аллах!» – они ответят несомненно… А если ты их спросишь: «Кто низвел с небес (Благословенный) дождь, что землю воскресил, Когда она уже поникла в смерти?» — «Аллах!» – они ответят несомненно.Сложность была лишь в том, что курайшиты не задумывались о глубинных следствиях своих убеждений. Как засвидетельствовало уже самое первое откровение Пророка, Бог создал каждого из них из капли семени. От Него зависело пропитание и вся жизнь племени, и однако курайшиты считали центром мироздания самих себя – и это высокомерие (йатка) и самодовольство (истака)[274] выдавали пренебрежение своим долгом, неподобающее членам достойного арабского общества.
Поэтому первые главы Корана настойчиво призывают курайшитов осознать милость Божью, которая проявляется повсюду, приглядеться ко всему, что их окружает, – и они поймут, скольким обязаны Ему и как незначительны их недавние успехи, поймут, что целиком зависят от Творца мирового порядка:
Пусть сгинет человек! Что же заставило его отречься? И из чего Господь создал его? Из капли спермы Он его создал, И вид придал, и соразмерил. И облегчил его пути земные. Затем Он в смерть его поверг и уложил в могилу. Потом, будь Его воля, Он воскресит его опять. Так нет же! Не блюдет заветы Бога человек! Пусть взглянет человек на свою пищу. (Чтоб мог ее он получить), Обильно воды Мы излили, И расщепили землю Для прорастанья злаков, И виноградных лоз, и трав съедобных, Оливковых и финиковых пальм. И возвели Сады густые, И фрукты, и луга Для пользы вам и вашему скоту[275].Таким образом, вопрос не в том, существует ли Бог. В Коране кафирами, то есть «неверными» (кафир би намат ал-Лах) называют не атеистов в привычном нам смысле слова, не тех, кто вообще не верит в Бога, а тех, кто не испытывает к Нему признательности, кто не может не понимать, чем обязан Господу, но не желает Его чтить, проявляя тем самым упрямство и неблагодарность.
Коран не учил курайшитов чему-то новому. В нем, напротив, неустанно подчеркивается, что это лишь «напоминание» о давно известном, только теперь эти истины выражены более понятно. Строфы Корана очень часто начинаются выражениями: «Разве не видели…?» или «Разве не знаете…?» Слово Божье не несет своевольных приказов свыше, а вступает с курайшитами в диалог. Оно напоминает, например, что Кааба, Обитель Аллаха, сыграла огромную роль в преуспеянии племени – а своими успехами мекканцы действительно были в каком-то смысле обязаны счастливому провидению. Курайшиты любили совершать ритуальные обходы вокруг святыни, однако считали главной причиной своего материального достатка собственные заслуги, то есть напрочь забывали об изначальном смысле древних обрядов поклонения. Настало время заметить в окружающем мире «знаки» (айат) Божьего милосердия и могущества. Если же курайшитам не удастся воссоздать Божью милость в своей общине, они рискуют утратить связь с истинной природой вещей. По этой причине Мухаммад велел своим последователям дважды в день склоняться в ритуальной молитве (салят). Это действие призвано было воспитать в мусульманах душевное смирение и изменить общую направленность их жизни. Со временем вера Мухаммада получит название ислам – искренняя покорность Аллаху, ожидаемая от каждого обращенного. Настоящий муслим (мусульманин) – тот, кто целиком вверил свою жизнь Творцу. Увидев, как первые мусульмане совершают салят, мекканцы пришли в ужас: по их мнению, раболепное припадание к земле было постыдным для представителей надменного рода курайш, за плечами которого тянулась многовековая история гордых бедуинов. В связи с этим первым мусульманам приходилось молиться втайне, прячась в горных ущельях неподалеку от города. Реакция курайшитов показала, что Мухаммад безошибочно определил главные изъяны их мироощущения.
С практической точки зрения ислам означал, что мусульмане обязаны создать справедливое общество равных, где с должным почтением относились бы даже к бедным и увечным. Первое этическое провозвестие Корана звучало очень просто: копить богатство и заботиться только о личном достатке – плохо; делиться с ближними и регулярно отдавать часть своего имущества нищим – хорошо[276]. Раздача милостыни (закят) и молитва (салят) представляют собой два из пяти «столпов» (рукн), или практических принципов ислама. Почитание единственного Бога привело Мухаммада (как и древнееврейских пророков) к этической системе, которую сегодня можно было бы назвать социалистической. Жестких доктрин о Самом Боге в Коране нет; книга, напротив, относится к богословским спекуляциям с большой подозрительностью и отвергает их как занна – безответственные и бездоказательные догадки о тех вещах, о которых никто ничего не может знать. Образцами занна могут служить, например, христианские доктрины Вочеловечения и Троицы – ничуть не удивительно, что мусульмане сочли эти идеи кощунственными. В исламе, как и в иудаизме, Бог воспринимался прежде всего как нравственный императив. Не имея практически никаких контактов ни с иудеями, ни с христианами, ни с их священными писаниями, Мухаммад интуитивно схватил самую суть исторического единобожия.
В Коране, впрочем, Аллах имеет меньше личностных черт, чем YHVH. Он лишен пафоса и страстности библейского бога. Проблески коранического Бога угадываются разве что в «знамениях» природы; Он так высок, что говорить о нем можно лишь «притчами»[277]. Таким образом, Коран постоянно призывает мусульман воспринимать окружающий мир как богооткровение: верующие должны развивать свое воображение и научиться смотреть сквозь обрывочные явления, за которыми открывается всемогущество изначального бытия, вездесущей высшей реальности. Мусульмане обязаны воспитывать в себе сакральное, основанное на символах умонастроение:
Поистине, в создании земли и неба, И в смене мрака ночи светом дня, И в кораблях, пересекающих моря для нужд людей, В воде, что Бог с небес изводит И ею возвращает жизнь земле, Когда она поникла в смерти, Во всякой живности, что Он рассеял по земле, В движении и смене ветров, Что облака меж небом и землей Как слуг своих перегоняют — Поистине здесь кроются знамения для тех, Кто разумеет[278].Коран все время подчеркивает роль разума в толковании божественных «знамений» и «посланий». Мусульманам надлежит не пренебрегать силами рассудка, а, напротив, взирать на мир с вниманием и любознательностью. Именно этот подход позднее позволил арабам развить замечательную традицию естествознания, в котором ислам, в отличие от христианства, не видел большой угрозы для веры. Исследование природы подтверждало, что в мире есть высшее измерение, запредельный источник, о котором можно говорить только знаками и символами. Даже жизнеописания пророков, откровения о Страшном Суде и райских наслаждениях не следует воспринимать буквально – это лишь притчи, повествующие о высшей, неописуемой реальности.
Но величайшим знамением был, конечно, сам Коран – стихи, из которых складываются его главы, так и называют: айат – «знаки». Жители Запада считают Коран сложной для понимания книгой, и объясняется это прежде всего проблемами перевода. Арабский язык вообще труднопереводим; даже светская литература и обыденная речь политиков в переводе часто звучат неестественно и чужеродно. И это вдвойне справедливо в случае Корана, написанного очень емким языком, полным иносказаний и недомолвок. Ранние суры вообще вызывают такое ощущение, будто человеческая речь изломана, раскрошена ударом божественного откровения. Мусульмане нередко отмечают, что в переводе Коран кажется им какой-то другой книгой, так как напрочь лишен изначального очарования арабского языка. Как указывает само название священной книги, Коран предназначен для чтения вслух, и потому звучание речи является очень важной гранью его воздействия. Когда в мечети читают нараспев строки Корана, божественное измерение звука окутывает мусульман со всех сторон – вспомним, как Джибрил сжимал в объятиях Мухаммада на горе Хира, а после был виден на горизонте, куда бы ни оборачивался будущий Пророк. Коран – не просто источник сведений. Он внушает ощущение божественного и потому не терпит суеты во время чтения:
Так ниспослали Мы его – Коран арабский — И поместили в нем угрозы (Для тех, кто глух к знаменьям Нашим), — Быть может, побоятся они Бога, Иль он пробудит в них воспоминание (о Нем). Превыше всех Аллах, — Царь (всех миров) и Истина (творенья)! (И ты, о Мухаммед) не торопись с Кораном, Пока тебе не завершится откровение его, А говори: «Господь мой, Увеличь во мне познанье!»[279]Мусульмане утверждают, что при правильном чтении Корана верующий переходит в возвышенное состояние, соприкасается с высочайшей реальностью и властью, что таятся за границами преходящих и мимолетных явлений повседневности. Поэтому само чтение Корана уже представляет духовную дисциплину. Христианам, пожалуй, трудно понять, о чем идет речь, ведь у них, в отличие от иудаистов, мусульман или индуистов, нет особого священного языка. Для христианина Слово Божье – сам Иисус, а не греческий язык, на котором написан Новый Завет. У евреев, однако, совершенно иное отношение к Торе. Изучая первые пять книг Библии, они не просто скользят взглядом по страницам, но часто проговаривают текст вслух, наслаждаясь словами, изреченными, как предполагается, самим Богом, когда Он явился Моисею на Синае. Нередко евреи даже раскачиваются вперед и назад, словно трепетное пламя свечи, покорной дуновениям Духа. Естественно, что благодаря такому чтению иудаисты воспринимают Библию совсем иначе, чем христиане, которым большая часть Пятикнижия кажется откровенно скучной и невразумительной.
Ранние биографы Мухаммада неизменно рассказывают о том, какой восторг и потрясение охватывали арабов, когда они впервые слышали Коран. Многие тут же, без колебаний, обращались в новую веру, ведь такие прекрасные слова мог произнести только Бог. Новообращенные часто говорили, что эта божественная речь пробуждала в них потаенные стремления и вызывала целую бурю чувств. Так случилось, например, с молодым курайшитом Умаром ибн ал-Хаттабом, который был первоначально рьяным противником Мухаммада. Умар был всей душой предан язычеству и даже собирался убить Пророка. Новозаветный Савл Тарсянин обратился в новую веру, когда узрел Иисуса-Слово, а Умар – когда услышал слова Корана. Существуют два предания о его обращении, и оба заслуживают внимания.
По первой легенде, Умар однажды застал свою сестру, тайно принявшую ислам, когда она внимала чтению новой суры. «Что это за вздор?» – проревел он, войдя в дом, и в ярости сбил бедную Фатиму с ног. От удара у нее пошла кровь, и Умару, видимо, стало стыдно, он даже в лице переменился. Сбежавший в страхе чтец забыл рукопись с текстом суры. Между тем Умар знал грамоту, что среди курайшитов было редкостью; мало того, он был признанным знатоком арабской устной поэзии и часто давал сочинителям советы в отношении точного значения тех или иных слов. Однако ничего похожего на Коран он никогда прежде не встречал. «Как изящна и благородна эта речь!» – произнес он в восхищении и тут же обратился в новую религию Аллаха[280]. Красота языка пробилась сквозь его ненависть и предвзятость к самым чувствительным тайникам сердца, о существовании которых он и не подозревал. Такое случается с каждым, когда стихи затрагивают вдруг те слои души, что расположены глубже рассудка.
Согласно второй версии легенды, однажды вечером Умар увидел рядом с Каабой самого Мухаммада, который вполголоса читал Коран перед святыней. Решив подслушать его, Умар пробрался под дамастное полотно, прикрывавшее гигантский гранитный куб, и, обойдя сооружение кругом, неожиданно появился прямо перед Пророком. «Ничто не разделяло нас, кроме покрова Каабы», – сказал тот, и Умар почувствовал, что вот-вот сдастся. Ему вдруг открылась магия арабского языка: «Когда я впервые услышал Коран, сердце мое смягчилось, и я зарыдал, и Ислам проник в меня»[281].
Переживания Умара и других мусульман, обратившихся в веру под впечатлением от Корана, можно, пожалуй, сравнить с восприятием искусства, о котором рассуждал Георг Штайнер в работе «Истинные присутствия: кроется ли что-то в наших словах?». Штайнер говорит о «неблагоразумности серьезного искусства, литературы и музыки», которые «проникают в сокровенные тайники нашего бытия». Это настоящее вторжение, своеобразное «благовещение», которое врывается в «крошечные дома нашего осмотрительного существования» и велит нам «изменить свою жизнь». После такого призыва дом «уже не так уютен, как прежде»[282]. Такие мусульмане, как Умар, по всей видимости, переживали подобное потрясение, тревожное ощущение чего-то значительного, что побуждало их, пусть не без мучений, порвать с отжившими традициями. Коран смущал умы даже тех курайшитов, кто отказывался принять ислам: они чувствовали, что он выходит за рамки привычного и не имеет ничего общего ни с вдохновением кахинов и поэтов, ни с колдовскими заклинаниями. Многочисленные предания повествуют о том, что даже самые влиятельные курайшиты, упорно противостоявшие исламу, явно испытывали глубокое потрясение, когда впервые слышали ту или иную суру. Складывается впечатление, что Мухаммад создал принципиально новую литературу: одни к ней были просто не готовы, а других она пронимала до глубины души. Не обладай Коран таким воздействием, ислам едва ли пустил бы корни в Аравии. Нам уже известно, что древние израильтяне добрых семьсот лет не могли избавиться от прежних религиозных убеждений; арабам, благодаря Мухаммаду, удалось совершить этот труднейший переход всего за двадцать три года. Мухаммад как поэт и пророк, Коран как литературный шедевр и богооткровение – это, безусловно, самое яркое и необычайное свидетельство глубинного созвучия искусства и религии.
В первые годы своей миссии Мухаммад привлек немало новообращенных из числа молодежи, разочаровавшейся в торгашеских традициях Мекки. Среди последователей Пророка было много неимущих и угнетенных, включая женщин, рабов и членов захудалых родов. По сведениям ранних источников, было время, когда казалось, что в обновленную религию Аллаха вот-вот обратится вся Мекка. Разумеется, богачи и представители власти, которых вполне устраивало текущее положение дел, относились к исламу враждебно, но явный раскол среди знатных курайшитов возник лишь после того, как Мухаммад запретил мусульманам поклоняться языческим богам. В первые три года деятельности Пророк не настаивал на монотеистической стороне своего провозвестия, и многие полагали, что имеют полное право, как и прежде, почитать наряду с Верховным Богом, Аллахом, и других традиционных аравийских божеств. Однако когда Мухаммад объявил древние культы идолопоклонством, он в одночасье утратил большинство своих последователей, а ислам превратился в презренную и гонимую секту. Мы уже убедились, что вера в единственного бога требует болезненных перемен в сознании. Мусульман, как и первых христиан, считали «безбожниками», что подразумевало серьезную угрозу обществу. Городская культура Мекки была совсем юной и потому даже горделивым и самодовольным курайшитам казалась очень шатким достижением. Многие из них ощущали, похоже, смутные страхи и тревоги, подобные внутреннему смятению жителей Рима, яростно требовавших христианской крови. Судя по всему, разрыв с богами предков курайшиты сочли угрожающим – и вскоре под угрозой оказалась жизнь самого Мухаммада. Западные ученые обычно считают началом раскола среди курайшитов апокрифический (т. е. недостоверный) случай с «сатанинскими стихами», который приобрел широкую известность после трагического дела Салмана Рушди. Арабы Хиджаза питали особую любовь к трем аравийским божествам: ал-Лат (чье имя переводится просто «богиня»), ал-Узза («могущественная») и Манат («судьбоносная»). Святилища этих богинь находились соответственно в Таифе, Наклахе (к юго-востоку от Мекки) и Кудайде (побережье Красного моря). Божества не были однозначно персонифицированы подобно Юноне или Афине Палладе. Очень часто их называли просто банат ал-Лах, «дочери Бога», что, впрочем, не говорило о существовании развитого пантеона. Арабы употребляют такие языковые конструкции для указания абстрактной взаимосвязи; так, например, оборот банат ал-дахр (буквально: «дочери судьбы») означает просто несчастья или злоключения. Понятию банат ал-Лах вполне могли соответствовать «божественные существа» вообще. В капищах этих богинь не было сколько-нибудь реалистических скульптурных изображений – только установленные вертикально большие камни (сходные истуканы имелись у древних ханаанеев). Арабы, впрочем, видели в камнях лишь средоточие божественных сил, так что поклонение этим камням не было примитивным упрощением. Подобно мекканской Каабе, святыни в Таифе, Наклахе и Кудайде представляли собой выдающиеся духовные вершины среди эмоционального ландшафта Аравии. Арабы поклонялись в этих святилищах своим богам с незапамятных времен, что вызывало у потомков целительное чувство преемственности.
О «сатанинских стихах» не сказано ни в Коране, ни в каком-либо из ранних устных и письменных свидетельств. Не говорится о них и в самой авторитетной биографии Пророка – «Сире» Ибн Исхака. Впервые об этом случае упоминает в своих трудах историк Абу Джафар ат-Табари (ум. в 923 г.), по словам которого Мухаммад был сильно встревожен разрывом с сородичами из-за запрета культа богинь. По наущению «сатаны» Пророк произнес несколько лживых строк, допускавших почитание банат ал-Лах как посредников, своеобразных ангелов. Так называемые «шайтанские айаты» вовсе не приравнивали трех богинь к Аллаху; им отводилось место низших духовных сил, которые могут обращаться к Богу от имени людей. Однако позднее Джибрил известил Пророка, что стихи эти «от лукавого», и велел заменить их в Коране другими строками, где банат ал-Лах объявлялись измышлением, плодом воображения:
Так кто ж для вас ал-Лат и ал-Узза, И вот еще одна, третья (богиня) – ал-Манат? […] Ведь это только имена, Которые измыслили и вы, и ваши предки; И никакого разрешения на то Господь вам не послал. А здесь вы строите свои догадки И следуете похотям души! Хотя от своего Владыки Уже вы Руководство получили[283].Эти слова – самое категорическое осуждение древних богов в Коране. После них примирение язычников с курайшитами стало совершенно невозможным. С того времени Мухаммад становится ревностным сторонником единобожия, а ширк (идолопоклонство, уподобление Аллаху иных существ) – страшнейшим грехом для мусульман.
Случай с «сатанинскими стихами» – если это, конечно, не выдумка – показал, что Мухаммад не шел ни на какие уступки многобожию. Неверно также полагать, будто вследствие вмешательства «сатаны» Коран хотя бы мимолетно был затронут злом. В исламе сатана намного безобиднее, чем в христианстве. Коран даже утверждает, что в Судный День сатана будет прощен, а сами арабы под «Шайтаном» обычно подразумевают чисто человеческие или естественные искушения[284]. Казус со стихами может отражать те трудности, с какими, несомненно, сталкивался Мухаммад при попытках выразить неизъяснимую божественную весть скудными средствами обычного языка. Описанный эпизод перекликается с каноническими стихами Корана, позволяющими предположить, что сходные «сатанинские» промахи случались почти со всеми пророками, но Бог неизменно исправлял подобные ошибки и посылал своим избранным новые, теперь уже истинные откровения. Другое, более приземленное объяснение этого случая сводится к тому, что Мухаммад, как свойственно творческим натурам, порой пересматривал свой труд и вносил в него новые прозрения. Ранние источники дают понять, что в вопросе идолопоклонства Мухаммад никогда не шел на компромиссы с курайшитами. Он был человеком прагматичным и мог уступить в спорах, которые казались ему малозначительными, но всякий раз, когда курайшиты предлагали ему найти компромисс, допускающий почитание наряду с Аллахом и других божеств, Мухаммад давал им резкий отпор. В самом Коране сказано:
Молюсь я не тому, Кому несете вы свои молитвы. […] Несите же ответ за вашу веру, А за мою отвечу я пред Ним[285].Мусульмане должны покоряться только Единому Богу и не поддаваться соблазнам лживых объектов поклонения, будь то божества или богатства, к которым так привязаны были курайшиты.
В основу нравственности в Коране легло ощущение непохожести Бога на все остальное. Привязанность к материальным благам и упование на низших существ есть ширк – идолопоклонство, самый тяжкий грех в исламе. Презрение к языческим божествам в Коране обосновано практически так же, как и в древнееврейских писаниях: другие боги просто бесполезны. Они не могут обеспечить людям пропитание, и такое бессилие означает, что нет никакого смысла посвящать им свою жизнь. Мусульманин должен понять, что одна-единственная реальность – это Аллах.
Скажи: «Он – Аллах – един; Извечен Аллах один; Не рождал Он и не был рожден, И с Ним никто не сравним»[286].Христиане – например, Афанасий – тоже говорили, что даровать избавление способен только Творец, Источник Бытия. Это прозрение и было выражено в доктринах Троицы и Вочеловечения. Однако Коран возвращает верных к общесемитской идее божественного единства и не допускает даже предположения, будто Бог может «родить» отпрысков. Нет на земле и в небесах иного бога, кроме Творца-Аллаха; лишь Он один может спасать людей и удовлетворять их духовные и физические надобности. И только признав в Нем ас-самад, «беспричинную Причину всего сущего», мусульмане смогут прикоснуться к вневременному и внеисторическому измерению действительности, которое поднимет их выше раздирающей арабское общество междоусобицы. Мухаммад понимал, что узкоплеменная разобщенность – злейший враг единобожия. Единое божество, которому поклоняются все, дарует целостность и каждому человеку, и всему обществу.
Этот подход не следует, впрочем, считать признаком упрощенных представлений о Боге. Единый Бог – не просто существо, похожее на нас и доступное понятию и познанию. Фраза Аллах-у-Акбар, «Господь выше!», призывающая мусульман к молитве, закрепляет границу между Богом и прочей действительностью, а также заставляет отличать все, что мы ни сказали о Нем, от того, какой Он есть на самом деле (алдхат). Тем не менее непостижимый и недосягаемый Бог пожелал, чтобы Его познали. Согласно одному из ранних источников (хадис), Бог сказал Мухаммаду: «Я был сокровищем скрытым. Я пожелал, чтобы Меня узнали. И вот, сотворил Я мир, чтобы узнали Меня»[287]. Созерцая знамения (айат) в природе и стихах Корана, мусульмане могут увидеть на мгновение ту грань божественности, что обращена к нашему миру – в Коране она именуется «ликом Господа» (вадж-ал-лах). Как и две другие религии единобожия, ислам утверждает, что мы способны замечать Бога только по Его деяниям, в которых непостижимое божественное естество проявляется на уровне нашего понимания. Коран призывает верных воспитывать в себе непрестанное сознание (таква) Лика – или Личности – Бога, окружающего нас со всех сторон: «Куда б ни повернулись вы, лик Господа везде…»[288] Как и отцы христианства, Коран видит в Боге Абсолют – единственное, что истинно существует:
Исчезнет все, что суще на земле. Навек останется лишь Божий лик — Благочестив, и щедр, и величен![289]Коран приписывает Богу девяносто девять имен, или атрибутов, подчеркивающих, что Он «превыше», Он – источник всех благих качеств, какие только есть во вселенной. Мир существует лишь по той причине, что Бог – бесконечно богатый (ал-Гани), дающий жизнь (ял-Мухйи), всеведущий (ал-Алим), творящий речь (ал-Калимах); без Него же не было бы ни жизни, ни знаний, ни речи. Из этого следует, что только Бог обладает истинным бытием и благими качествами. Однако порой божественные имена словно взаимоисключаемы: Бог – ал-Каххар (тот, кто господствует и ломает спины своим врагам), но в то же время и ал-Халим (всетерпимый, кроткий); Он – ал-Кабид (отнимающий), но и ал-Басит (щедро дающий), ал-Хафид (унижающий) и ар-Рафи (возвышающий). Имена Бога играют важную роль в исламском поклонении: их просто повторяют вслух, отсчитывают на четках и напевают как заклинания. Все имена еще раз напоминают мусульманам, что их Бог не вмещается в привычные категории и не допускает упрощенных определений.
Первым «столпом» ислама станет со временем аш-шахада, мусульманский символ веры: «Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – Пророк Его». Это не просто утверждение существования Бога, но и признание того, что Аллах – единственная истинносущая Реальность. Ничто, кроме Него, не обладает подлинным бытием, красотой и совершенством, и все на свете, что, казалось бы, существует, владеет благими качествами лишь в той мере, в какой соприкасается с высочайшим бытием. Шахада требует, чтобы Бог был средоточием и основой жизни мусульман. Слова о единственности Бога – не просто запрет поклоняться таким божествам, как банат ал-Лах, и не формально количественное определение, а призыв сделать это единство главной движущей силой в жизни человека и общества. Единство Бога можно разглядеть в любой по-настоящему целостной личности. Однако идея единственности требовала, чтобы мусульмане уважали религиозные стремления других народов. Бог только один, и вера в это – главный признак любой истинной религии. Внешние приметы веры в единственную высшую Реальность могут определяться культурными традициями и выражаться в разных землях по-своему, но в основе подлинной религии должен быть Тот, кого арабы издавна называли Аллахом. Одно из «прекрасных имен» Бога – ан-Нур, «Свет». В приведенных ниже знаменитых строках Корана Бог – источник всех знаний, а также тех средств, благодаря которым человек может уловить проблеск Запредельного:
Аллах есть Свет земли и неба, И Свет Его подобен (ка) нише, А в ней – светильник, что в стекле, Стекло же – точно яркая звезда, (Роняющая) свет жемчужный. (Светильник) зажигается от древа Смоковницы благословенной Ни на востоке, ни на западе (земли), Чье масло может вспыхнуть (светом), Хотя огонь его и не коснулся. (Кладется) Свет на Свет…[290]Частица ка напоминает о чисто символическом характере коранического рассказа о Боге. Ан-Нур – не Сам Бог, а тот Свет, каким Он наполняет Свое откровение (светильник), сияющее затем в сердце человека (ниша). Сам свет нельзя полностью приписать ни светильнику, ни стеклу, ни маслу – он общий для всех носителей. Как с первых дней существования ислама отмечали его толкователи, Свет – один из самых удачных символов божественной Реальности, пребывающей вне пространства и времени. Образ смоковницы в этих стихах следует понимать как намек на неразрывную связь откровений, которые исходят от одного «корня» и лишь затем разветвляются многообразием религиозных переживаний. Итак, истинные откровения не ограничиваются определенной культурой или местностью – они «ни на востоке, ни на западе земли».
Христианин Варака ибн Науфал признал в Мухаммаде истинного Пророка, но сам и не подумал переходить в ислам; не рассчитывал на это и Мухаммад. Пророк никогда не призывал иудеев или христиан обращаться в религию Аллаха (хотя это, конечно, не запрещалось), поскольку они уже получили свои подлинные откровения. Коран не отвергает провозвестий и прозрений пророков минувшего – в нем, напротив, постоянно напоминается о преемственности религиозных переживаний всего человечества. Это очень важно подчеркнуть, ведь большинство представителей Запада вряд ли относит терпимость к числу добродетелей ислама. Тем не менее, в отличие от иудаистов и христиан, мусульмане никогда не считали свое откровение исключительным. Нетерпимость, которой сегодня попрекают ислам, далеко не всегда вызвана борьбой за первенство Аллаха и чаще объясняется совершенно иной причиной[291]: мусульмане не выносят несправедливости, независимо от того, кто ее допускает – могущественные западные страны или сами арабские правители (такие, например, как иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви). Коран вовсе не называет иные религиозные воззрения лживыми или несовершенными; каждый новый пророк, напротив, подтверждает и развивает озарения своих предшественников. В Коране сказано, что Бог направлял посланцев ко всем народам земли. Согласно исламской традиции, таких пророков было уже 124 тысячи – это символическое число подразумевает бессчетность. Таким образом, Коран неустанно повторяет, что его провозвестие не является принципиально новым и что мусульмане должны нелицемерно признавать родство своей веры с более древними религиями:
Не препирайтесь с обладателями Книги, Иначе как с достоинством и честью Используя наилучший довод, Помимо тех, кто к вам несправедливо Чинит (намеренное) зло, — И говорите: «Мы верим в то, Что нам ниспослано и вам. Наш Бог и ваш, поистине, един, И лишь Единому Ему мы предаемся»[292].Вполне естественно, что Коран отводит особое место посланникам, Которые к тому времени уже были хорошо известны арабам – Аврааму, Ною, Моисею и Иисусу, то есть иудейским и христианским пророкам. Кроме них, в Коране упоминаются Худ и Салих – пророки, посланные древнеарабским народам (адитам и самудянам). Современные мусульмане заверяют, что если бы Мухаммад слышал о буддистах или индуистах, то непременно включил бы в Коран и упоминания об их мудрецах. После смерти Пророка представители этих вероисповеданий в Исламской империи пользовались такой же полной свободой, как и христиане или иудеи. По тем же соображениям мусульмане не сомневаются, что Коран уважительно отозвался бы о шаманизме американских индейцев и австралийских аборигенов.
Убежденность Мухаммада в преемственной связи религиозных откровений была вскоре подвергнута тяжелому испытанию. После раскола среди курайшитов мусульмане просто не могли оставаться в Мекке. Рабов и вольноотпущенных, лишенных племенной поддержки, преследовали с такой яростью, что многие из них погибли от жестокого обращения. Род хашим, к которому принадлежал Мухаммад, подвергся обструкции – курайшиты пытались взять семью Пророка измором. По всей видимости, именно от голода и нужды скончалась тогда его любимая жена Хадиджа. Серьезная опасность угрожала жизни самого Мухаммада. Арабы-язычники из северного оазиса Йасриб предложили мусульманам переселиться к ним. Для араба смена места жительства – событие исключительное. В Аравии верность своему племени всегда была священна, и разрыв с сородичами нарушал главные принципы жизненного уклада. В те годы Йасриб раздирали давние междоусобицы, больших надежд на примирение враждующих племен не было, и многие язычники готовы были принять ислам как духовно-политическое решение проблемы. В Йасрибе жили три крупных иудейских рода, которые к тому времени уже морально подготовили арабов к единобожию. На деле это означало, что жители Йасриба должны были воспринять выпады в сторону арабских божеств куда спокойнее, чем курайшиты. Так или иначе, летом 622 года около семидесяти мусульман со всеми домашними отправились из Мекки в Йасриб.
За год до хиджры, «переселения» (в Йасриб; позднее мусульмане назвали его Медина, что означает просто «город»), Мухаммад начал реформировать ислам, приближая его к своему пониманию иудаизма. После долгих лет жизни в полной изоляции он, должно быть, с нетерпением ждал встречи с представителями более древней и давно утвердившейся традиции. По этой причине Пророк потребовал, чтобы мусульмане постились в еврейский день отдохновения и молились уже не дважды на дню, а трижды, как иудеи. Мусульманину разрешалось брать в жены евреек и вменялось соблюдать определенные правила питания. Но самым главным было то, что отныне мусульмане – как иудеи и христиане – должны были молиться, обратившись лицом к Иерусалиму. Первоначально иудаисты Медины дали Мухаммаду шанс: жизнь в оазисе становилась совершенно нестерпимой, и евреи, вслед за многочисленными убежденными язычниками Йасриба, готовы были предоставить Пророку изрядный кредит доверия – тем более что он с такой явной симпатией относился к иудаизму. Однако со временем евреи выступили против Мухаммада и объединились с теми язычниками, которые отнеслись к переселенцам из Мекки враждебно. Неприязнь иудаистов к исламу имела довольно веское религиозное обоснование: евреи свято верили, что эпоха пророчеств давно закончилась, и теперь ждали Мессию. Ни иудеи, ни христиане ни за что не признали бы новых пророков. Свою роль сыграли и политические соображения: прежде евреи добивались влияния в оазисе, заключая союзы с тем или иным из враждующих между собой арабских племен, но теперь Мухаммад объединил местные семьи с курайшитами и создал новую мусульманскую умму – нечто вроде гигантского племени, куда входили и евреи. Враждебность иудеев усиливалась, потому что ослабевало их положение в Медине. Они часто приходили в мечети «послушать рассказы мусульман и смеялись и глумились над их верой»[293]. Пользуясь своим превосходством в знании священных текстов, иудаисты без труда находили неувязки в Коране, где многие библейские сюжеты значительно отличаются от исходных версий. Немало насмешек вызывали у них и притязания Мухаммада; иудаисты язвительно подчеркивали, что человек, мнящий себя пророком, вряд ли сможет даже отыскать пропавшего верблюда.
Отрицательная реакция иудеев была для Мухаммада, возможно, самым горьким в его жизни разочарованием; она поставила под сомнение все его религиозные воззрения. Тем не менее часть евреев относилась к нему вполне дружелюбно и, судя по всему, сочла объединение с мусульманами делом чести. Они обсуждали с Пророком Библию и объясняли, как отражать богословские нападки других иудеев. Более близкое изучение священных текстов подтолкнуло Пророка к новым озарениям. Прежде у Мухаммада не было четких представлений о хронологии прихода пророков прошлого, но теперь все стало на свои места. Он начал понимать, насколько важен тот факт, что Авраам жил намного раньше Моисея и Иисуса. Вполне вероятно, что до изучения Библии Мухаммад вообще считал иудаизм и христианство одной верой, но теперь все более отчетливо видел, насколько серьезны противоречия между ними. Арабам, занимавшим позицию сторонних наблюдателей, разница между двумя религиями казалась совсем незначительной. Напрашивался логичный вывод: приверженцы Торы и Евангелий дополнили ханифийа, истинную веру Авраамову, рядом ошибочных положений – таких, например, как разработанный раввинами Устный Закон или кощунственная доктрина Троицы. Помимо прочего, Мухаммад узнал, что даже в Ветхом Завете евреи названы неверным народом (за то, что вернулись к идолопоклонству и чтили золотого тельца). Обширная критика евреев в Коране показывает, насколько задела мусульман враждебность иудаистов – несмотря даже на оговорки, что далеко не все представители «народа первых откровений»[294] впали в заблуждение, да и вообще все религии в основе своей едины.
От дружелюбно настроенных евреев Медины Мухаммад услышал и историю Измаила, старшего сына Авраама. По Библии, первенец Авраама родился у его наложницы Агарь. Зачав Исаака, Сарра потребовала в приливе ревности, чтобы муж прогнал наложницу. Господь утешил Авраама и пообещал, что Измаил тоже станет прародителем большого народа. Аравийские евреи дополнили библейское предание местными легендами и сообщили, что Авраам отвел Агарь с Измаилом в Мекканскую долину, где о них позаботился Господь: когда новорожденное дитя умирало от жажды, Он открыл скитальцам священный источник Зам-зам. Позже Авраам не раз навещал сына, и они вместе восстановили Каабу, первое святилище Единого Бога. Измаил стал отцом арабского народа – и это значит, что они, как и евреи, потомки Авраама. Должно быть, эта история звучала для Мухаммада как музыка: он нес арабам писание на родном языке и теперь мог связать их веру с благочестием предков. В январе 634 г., когда стало ясно, что с мединскими иудеями мусульманам никогда не примириться, новая религия Аллаха объявила о своей полной независимости. Мухаммад велел мусульманам молиться лицом к Мекке, а не к Иерусалиму. Позже эта смена киблы, географического направления, была названа самым созидательным религиозным шагом Мухаммада. Обращаясь во время молитвы в сторону Каабы, которая никак не связана с двумя более древними откровениями, мусульмане безмолвно утверждали, что не относятся ни к одной из традиционных религий и покорны одному лишь Богу. Они – не какая-то секта нечестивцев, расколовших веру в единого Бога на враждующие группировки. Ислам, напротив, возвращает верующего к изначальной вере Авраама, который и есть первый муслим – он доверился Богу без остатка и воздвиг в Его честь святыню:
И говорят они: «Вы будьте иудеи или христиане, Тогда пойдете праведной стезей». Скажи им: «Нет! (Последуем) мы вере Ибрахима – верного (ханифа), Кто к Господу других богов не призывал». Скажите вы: «Мы верим в Господа и откровение Его, Что было нам ниспослано и Ибрахиму, И Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, И всем двенадцати израильским коленам; И то, что Мусе Бог послал, И то, что даровал Он Исе, И что другим пророкам снизошло — Меж ними мы не делаем различий, И лишь единому Ему мы предаемся»[295].И действительно: выбирать чисто человеческое толкование истины, забывая о Самом Боге, – настоящее идолопоклонство.
Исламское летоисчисление начинается не с рождения Мухаммада и даже не со дня первого откровения (ведь в нем, в конечном счете, не было ничего нового), а с года хиджры, переселения в Медину, когда мусульмане начали воплощать в жизнь божественный замысел и превратили свою веру в мощную политическую силу. Мы уже убедились, что, согласно Корану, все верующие обязаны созидать общество справедливости и равенства – и мусульмане относились к своим политическим обязанностям со всей серьезностью. Изначально Мухаммад не собирался становиться политическим вождем, но дальнейшие события, которых он не мог тогда предвидеть, подтолкнули Пророка к совершенно новому решению политической проблемы арабов. На протяжении всего десятилетия между хиджрой и смертью Мухаммада (632 г.) первые мусульмане отчаянно боролись за выживание, сражаясь со своими мединскими недругами и курайшитами Мекки, мечтавшими стереть умму с лица земли. На Западе Мухаммада нередко представляют в образе полководца, который силой оружия вынудил сопротивлявшиеся народы принять ислам. На самом же деле все было иначе: Пророк бился за свою жизнь, развивал в Коране вполне приемлемую даже по христианским меркам теологию справедливой войны и никогда не навязывал свою веру силой. Коран выражает эту мысль четко и внятно: «Не разрешил в религии Он принужденья»[296]. Более того, Слово Божье внушает отвращение к распрям и справедливой войной называет только самозащиту. Порой людям действительно приходится сражаться за правое дело – христиане, например, единодушно оказывали сопротивление Гитлеру. Так или иначе, Мухаммад обладал выдающимися политическими талантами. К концу его жизни большая часть арабских племен уже присоединилась к умме, хотя, как прекрасно понимал и сам Пророк, их «покорность» (ислам) чаще всего была либо напускной, либо неглубокой. В 630 г. Мухаммаду открыла свои ворота и Мекка – Пророку удалось взять родной город, не пролив ни капли крови. В 632 г., незадолго до смерти, Мухаммад совершил так называемое «прощальное паломничество», которое превратило милый сердцу арабов языческий хаджж в один из пяти «столпов» ислама.
С тех пор каждый мусульманин должен хотя бы один раз в жизни совершить хаджж, если, конечно, этому не мешают непреодолимые обстоятельства. Разумеется, паломники воздают почести главным образом Мухаммаду, но на самом деле хаджж учрежден в память не столько о Пророке, сколько об Аврааме, Измаиле и Агари. Стороннему наблюдателю хаджж представляется довольно странным обрядом – как всегда кажутся странными социальные и религиозные традиции чужеземцев. Тем не менее хаджж нередко вызывает мощные всплески религиозных переживаний и прекрасно выражает общественные и индивидуальные грани исламской духовности. Сегодня среди многотысячных толп паломников, собирающихся к назначенному сроку в Мекке, встречаются не только арабы; сродниться с древнеаравийскими церемониями удалось и уроженцам других земель. Все паломники облачаются в традиционный наряд, избавляющий от расовых и классовых различий; приближаясь к Каабе, каждый мусульманин на время освобождается от эгоистической озабоченности повседневной жизнью и становится частицей сообщества с единым для всех центром и направлением. «Я здесь и готов служить Тебе, о Аллах!» – хором провозглашают собравшиеся, прежде чем начать обход святыни. Глубинный смысл этого обряда хорошо разъяснил ныне покойный иранский философ Али Шариати:
Когда приближаешься к Каабе и начинаешь обходить ее, чувствуешь себя ручейком, вливающимся в безбрежную реку. Ноги словно отрываются от земли, и тебя несет волна. Ты паришь, влекомый мощным потоком. Чем ближе к святыне, тем крепче охватывает тебя толпа, и ты рождаешься заново. Теперь ты – частица Народа, ты – Человек, живой и вечный. […] Кааба – светоч мира, и этот блистающий лик втягивает тебя на свою орбиту. Ты становишься частью этого всеобщего круговращения и, позабыв о себе, кружишь вокруг Самого Аллаха. […] Ты превращаешься в тающую крупинку, которая вскоре растворяется окончательно. Это – вершина абсолютной любви[297].
Иудеи и христиане тоже не раз отмечали важность общинной духовности. Хаджж дает каждому мусульманину возможность ощутить слияние личности с окружающей уммой, когда всеобщим центром является Бог. Как и в других религиях, лейтмотивом паломничества становится покой и гармония. Стоит путникам ступить на территорию святыни, как любое насилие превращается в тяжкий грех: паломникам запрещено произносить грубые слова и нельзя убивать даже насекомых. Этим и объясняется волна возмущения, охватившая исламский мир после хаджжа 1987 г., когда по вине иранских паломников вспыхнули беспорядки, во время которых 402 человека погибли, а еще 649 получили ранения.
Мухаммад скоропостижно скончался в июне 632 г. После его смерти некоторые бедуины попытались отколоться от уммы, но к тому времени политическое единство арабов уже было непоколебимым. Вскоре к религии Единого Бога примкнули и самые непокорные племена: небывалый успех Мухаммада убедил арабов в том, что язычество, верой и правдой служившее им на протяжении долгих веков, в современных условиях уже не приносит былой пользы. Вера в Аллаха положила начало духу сострадания, свойственному всем развитым религиям. Важнейшими общественными добродетелями стали братство и социальная справедливость. Твердый эгалитаризм остается характерной чертой исламского идеала и в наши дни.
При жизни Пророка этот идеал включал в себя равноправие мужчин и женщин. Сегодня на Западе принято считать, будто исламу всегда было присуще женоненавистничество, однако религия Аллаха, как и христианство, первоначально относилась к женщинам благосклонно. В доисламскую эпоху неведения (джахилийа) положение женщин в Аравии мало чем отличалось от общей ситуации «осевого времени». Например, распространено было многоженство, и замужние женщины часто продолжали жить в отцовском доме. Знатные дамы обладали немалой властью и авторитетом – скажем, Хадиджа, любимая жена Мухаммада, была преуспевающим купцом. Однако жизнь подавляющего большинства женщин походила на положение рабов: у них не было ни политических, не общечеловеческих прав, да и умерщвление новорожденных девочек было в те времена делом обычным. Женщины были уже среди самых первых последователей Мухаммада, и Пророк искренне мечтал о реальном равноправии обоих полов. Коран строго запретил убивать младенцев и попрекал арабов за их недовольство и разочарование при рождении девочки. Кроме того, Коран предоставил женщинам законные права на развод и наследство – чего, между прочим, у западных женщин не было вплоть до девятнадцатого столетия. Мухаммад призывал женщин к деятельному участию в делах уммы, и они действительно имели возможность открыто выражать свое мнение, не сомневаясь, что их выслушают. Был, например, такой случай: жительницы Медины пожаловались Пророку, что мужья превосходят их в знании Корана, и попросили Мухаммада провести специальные «уроки» для женщин, что он и сделал. Кроме того, мусульманок удивляло, что Коран обращается только к мужчинам – ведь женщины тоже покорны Богу. Следствием этого упрека стало обращенное к представителям обоих полов откровение, утвердившее полное нравственное и духовное равноправие мужчин и женщин[298]. С тех пор Коран – в отличие от древнееврейских и христианских священных писаний – довольно часто обращался непосредственно к женщинам.
К сожалению, позднее ислам, как и христианство, стал безраздельной вотчиной мужчин, в чьих толкованиях мусульманских текстов нередко сквозило пренебрежение к женщинам. В частности, Коран велит прикрывать лицо не всем женщинам без исключения, а только женам Мухаммада – это должно отмечать их особое положение. Однако после того как ислам занял свое место в цивилизованном мире, мусульмане распространили этот обычай по всей ойкумене, и в результате женщины сразу превратились в людей второго сорта. Прикрытое лицо и заточение в гаремах – традиции, которые арабы переняли у Персии и христианской Византии, где женщины издавна были бесправными. Так или иначе, уже в период династии Аббасидов (750–1258 гг.) положение мусульманок стало таким же тяжелым, как и жизнь их сестер в иудейских и христианских сообществах. Современные исламские феминистки отчаянно призывают мужскую половину правоверных вернуться к изначальным заветам Корана.
Это в очередной раз напоминает, что ислам, как и любую другую религию, можно толковать по-разному. Со временем в нем появились свои секты и направления. Предвестием первого раскола (на шиитов и суннитов) стала борьба за власть, развязавшаяся после нежданной кончины Мухаммада. Большинством голосов мусульмане избрали своим новым главой (халифом) Абу Бакра, близкого друга Мухаммада, но кое-кто считал, что сам Пророк пожелал бы видеть своим преемником Али ибн Аби Талиба, двоюродного брата и зятя. Али признал власть Абу Бакра, но инакомыслящие продолжали хранить верность Аби Талибу, так как были разочарованы политикой трех первых халифов – Абу Бакра, Умара ибн ал-Хаттаба и Усмана ибн Аффана. В 656 г. четвертым халифом стал, наконец, Али – шииты впоследствии назовут его первым имамом, главой уммы. Раскол шиитов и суннитов был политическим, а не доктринальным, и это еще раз подтвердило ведущую роль политики во всей мусульманской религии, включая представления о Боге. Шиа-и-Али, «партия Али», осталась в меньшинстве и в порядке протеста принялась разрабатывать свои представления о религиозном долге; трагическим символом этого движения стал внук Мухаммада – ал-Хусайн ибн Али, отказавшийся признать власть Омейядов, которые возглавили халифат после смерти Али, отца Хусайна. В 680 г. халиф Йазид из династии Омейядов разбил горстку приверженцев Хусайна на равнине Кербела близ Куфу (современный Ирак) и убил внука Пророка. Кровавое деяние Йазида привело в ужас всех мусульман, но для шиитов Хусайн стал настоящим героем и вечным напоминанием о том, что бороться с тиранией нужно не щадя жизни. В тот период мусульмане уже начали создавать свою империю. Первых халифов волновало только распространение ислама среди арабского населения Византийской и Персидской империй, которые тогда уже пришли в упадок. Однако династия Омейядов активно расширяла халифат на территории Азии и Северной Африки, и это разрастание объяснялось скорее уже не религиозными идеалами, а имперскими притязаниями арабов.
В новой империи исламскую веру тоже никто не навязывал: вообще говоря, после смерти Мухаммада обращения не поощрялись, а около 700 г. даже были одно время запрещены законом. Мусульмане полагали, что ислам предназначен только для арабов, как иудаизм – для потомков Иакова. Как «люди Писания» (ахл ал-китаб), иудеи и христиане получили полную свободу вероисповедания и статус дхимми – социально защищенного меньшинства. Когда халифы династии Аббасидов начали поощрять обращение, к новой религии с нетерпением примкнули многие семитские и арийские народы. Политические успехи ислама сыграли в его истории такую же определяющую роль, как позорная казнь Иисуса в христианстве. В отличие от христианства, где к земным достижениям относятся с подозрительностью, политика занимает в личной и религиозной жизни мусульманина очень важное место. Правоверные убеждены, что их судьба – созидание угодного Богу справедливого общества. Священный смысл придается и умме: она представляет собой «знамение» того, что Бог благословляет усилия, направленные на освобождение людей от гнета и несправедливости. Политическое здоровье уммы значит для духовной жизни мусульманина ничуть не меньше, чем для христианина – выбор той или иной конфессии (католичества, протестантства, методизма или баптизма). Конечно, христианам интерес мусульман к политике кажется довольно странным, но не следует забывать, что иудаизм и ислам с не меньшим недоумением воспринимают страсть христиан к маловразумительным богословским диспутам.
Так или иначе, в первые годы истории ислама к размышлениям о сущности Бога мусульман нередко приводила обеспокоенность политическим положением халифата и власть предержащих. Мудреные споры о том, кто и как должен руководить уммой, сыграли в доктрине ислама примерно ту же роль, какая выпала в христианстве на долю дебатов о личности и естестве Иисуса. По окончании периода рашидун (четырех первых, «праведных» халифов) мусульмане осознали, что теперь живут в новом мире, который разительно отличается от крошечного военизированного общества Медины. Арабы стали хозяевами стремительно разраставшейся империи, а их вождями, похоже, целиком овладели мирские заботы и алчность. Знать купалась в роскоши и погрязала в пороках: жизнь во дворцах была совсем не похожа на скромный быт Пророка и его сподвижников. Наиболее ревностные мусульмане дерзко напоминали властям о социалистическом провозвестии Корана или пытались приспособить ислам к изменившимся условиям жизни. Возникали разнообразнейшие секты и новые религиозные течения.
Самое популярное решение было найдено правоведами и традиционалистами, которые вознамерились вернуть мусульманам идеалы Мухаммада и эпохи рашидун. Так появился закон шариата – подобный Торе свод предписаний, основанных на Коране, жизни Пророка и его высказываниях. Народ сохранил огромное множество устных свидетельств об изречениях (хадис) и образе жизни (сунна) Мухаммада и его первых сторонников. В VIII–IX вв. возникли обширные сборники таких преданий; самыми заметными их составителями были Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари и Муслим ибн ал-Хаджжадж ал-Кушайри. Поскольку не подлежало сомнению, что самоотречение Мухаммада перед Богом было совершенным, мусульманам предлагалось следовать примеру Пророка в повседневной жизни. Священный закон ислама помог мусульманам перейти к подлинно набожному образу жизни путем подражания тому, как говорил, любил, ел, умывался и молился Мухаммад. Правоверные надеялись, что буквальное следование Пророку во всех его деяниях повлечет за собой и непосредственное душевное сближение с Богом. Таким образом, мусульмане вспоминают о Боге всякий раз, когда соблюдают сунну, приветствуют друг друга, по примеру Мухаммада, словами «Салом алейкум» («Мир тебе»), проявляют надежность в деловых отношениях, щедрость и доброту к сиротам, беднякам и животным. Внешнюю сторону поступков не следует, однако, считать самоцелью; это лишь средства, с помощью которых достигается таква – предписанное Кораном и личным примером Пророка «осознавание Бога», суть которого – постоянное памятование о Господе (зикр). О правдивости различных преданий сунны и хадисов велось много споров; одни свидетельства считаются более достоверными, другие менее. В любом случае вопрос исторической подлинности отдельных составляющих этой традиции не так уж существен – намного важнее то, что они действенны. За долгие столетия сунна неоднократно доказывала свою способность наполнять жизнь миллионов мусульман сакральным ощущением Божественного.
В сборниках хадисов, изречений Пророка, речь идет главным образом о бытовых вопросах, но иногда затрагивается и метафизическая, космологическая, богословская тематика. Считается, что некоторые из этих высказываний – так называемые хадис кудси – принадлежат самому Богу, а Мухаммад их просто повторил. Эти священные изречения особо подчеркивают имманентность и присутствие Бога в каждом правоверном. В частности, один из самых известных хадисов перечисляет этапы, в соответствии с которыми мусульманин постигает божественное присутствие – складывается впечатление, что оно едва ли не воплощено в самом верующем. Мусульманин начинает с соблюдения предписаний Корана и шариата, а приходит к добровольному исполнению религиозного долга:
Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его, когда же полюблю Я его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить…[299]
Подобно Богу иудеев и Богу христиан, Аллах трансцендентен, но в то же время незримо присутствует всюду, в том числе и здесь, на земле; мусульмане могут воспитывать в себе сознание этого присутствия с помощью приемов, очень схожих с методиками двух более древних религий единобожия.
Страстных приверженцев идеала благочестия, опирающегося на подражание Пророку, начали называть ахл ал-хадис – «традиционалистами». Их подход особенно привлекал простых верующих по той причине, что был основан на ревностном сохранении духа всеобщего равенства. Традиционалисты были против пышной роскоши дворов Омейядов и Аббасидов, но в то же время не разделяли и мятежных настроений шиитов. По мнению ахл ал-хадис, халифу не обязательно отличаться выдающимися духовными качествами и достаточно быть хорошим руководителем. С другой стороны, они особо подчеркивали божественную природу Корана и сунны и тем самым предлагали каждому мусульманину средства прямого общения с Богом. Этот подход таил в себе зерно подрывной деятельности и чрезмерно критического отношения к абсолютной власти, ведь традиционалисты неявно утверждали, что верующим не требуется посредничество духовного сословия и мусульманин отвечает за свои дела перед Самим Богом.
Но прежде всего традиционалисты верили, что Коран – вечная реальность, которая, подобно Торе или Логосу, имеет некое сродство с Богом. Коран существовал в замыслах Бога прежде начала времен. Из этой доктрины несотворенности Корана следовало, что при чтении Священной Книги вслух мусульманин слышит голос Самого Бога. Коран и есть живое свидетельство постоянного присутствия Аллаха среди людей: Его речь исходит из человеческих уст при повторении святых слов, с Его сущностью соприкасаются верующие, когда берут Коран в руки. Примерно так же рассуждали о Христе-Человеке первые христиане:
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни […] свидетельствуем, и возвещаем…[300]
Христиан чрезвычайно волновало точное определение статуса Иисуса-Слова. Подобные споры разгорелись среди мусульман и в отношении Корана: действительно, в каком именно смысле эта книга на арабском языке является Словом Божьим? Многим правоверным это превозношение Корана казалось кощунством – вспомним, как возмутила сперва христиан мысль о том, что Иисус – воплощение Логоса.
Однако со временем шииты развили идеи, которые были по содержанию еще более близки христианской доктрине Вочеловечения. После трагической гибели Хусайна шииты окончательно решили, что руководить уммой имеет право только потомок Али ибн Аби Талиба. С тех пор Шиа-и-Али стали обособленной сектой ислама. Али приходился Мухаммаду двоюродным братом и зятем, то есть был связан с ним двойным кровным родством. Поскольку все сыновья Пророка умирали еще во младенчестве, Али был его главным наследником. В Коране пророки часто просят Аллаха благословить их потомков; шииты расширили эту идею божественной милости и пришли к убеждению, что истинным знанием (илм) Божественного обладают только наследники Мухаммада, то есть потомки рода Али. Они и только они способны обеспечить умме Божье покровительство. Если к власти придут потомки Али, мусульман ожидает золотой век справедливости, ведь тогда руководство уммой будет осуществляться в согласии с Божьей волей.
Благоговение перед фигурой Али приобрело со временем довольно неожиданные черты: крайне радикальные шиитские группировки поставили Али и его потомков выше самого Мухаммада и едва ли не обожествили Аби Талиба. Такие идеи развивались на основе древнеперсидского обычая считать некоторые семейства богоизбранными (предполагалось, что божественная благодать передается в них из поколения в поколение). К концу правления Омейядов кое-кто из шиитов уже свято верил, что авторитетный илм сберегла лишь одна ветвь рода Али и только в этой семье можно найти настоящего Божьего избранника и законного имама (вождя) уммы. Независимо от того, возглавляет он страну или нет, участие этого человека в управлении государством совершенно необходимо, и потому каждый мусульманин обязан сделать все, чтобы найти избранного и покориться его власти. Поскольку главной причиной недовольства шиитов был статус имамов, халифы считали потомков Али врагами государства. По шиитским преданиям, несколько имамов были отравлены и многим пришлось скрываться от гонений. Перед смертью имам должен выбрать среди родни того, кто унаследует илм. С годами имамов начали чтить как воплощение Божественного: считалось, что каждый из них являет собой «свидетельство» (худжжа) присутствия на земле Бога, Который неким загадочным образом предстает перед людьми в человеческом облике. Слова, решения и повеления имама исходят на самом деле от Самого Бога. Подобно христианам, для которых Иисус есть Путь, Истина и Свет, ведущий людей к Господу, шииты поклонялись имамам как живым вратам (баб) и тропам (сабил), приближающим сменяющиеся поколения мусульман к Богу.
Многочисленные шиитские течения отслеживали преемственность имамов по-разному. Например, секта имамитов признавала двенадцать наследников Али по линии Хусайна, которая оборвалась в 939 г., когда последний имам скрылся от людей, не оставив преемника. Исмаилиты, которых называют иначе «семеричниками», считали, что последним был седьмой имам. Позже в рядах «двунадесятников» («дюжинников») возникло мессианическое направление, представители которых верили, что двенадцатый, «скрытый» имам появится снова и его возвращение ознаменует начало золотого века. Очевидно, что подобные идеи были очень опасны, и не только угрожающей политической окраской: они легко могли привести к чрезмерно упрощенному пониманию. По этой причине «крайние» шииты разработали свою эзотерическую традицию, основанную на символическом толковании Корана (подробнее о ней речь пойдет в следующей главе). Большинство мусульман считало такие инкарнационные идеи богохульством, да и вообще с трудом в них разбиралось, так что шиитами становились обычно представители знати и люди образованные. На Западе со времен революции в Иране шиитов принято считать изначально фундаменталистской сектой ислама, но это совершенно неправильная оценка. Ранний шиизм представлял собой весьма утонченную традицию и имел гораздо больше общего с теми мусульманами, которые опирались на последовательный, логический подход к Корану. Рационалисты – так называемые мутазилиты – образовали особое направление в исламе и имели стойкие политические убеждения; как и шииты, они возмущались придворной роскошью и нередко выступали против официальной власти.
Политические неурядицы стали причиной богословских споров о степени влияния Бога на дела смертных. Приверженцы Омейядов прибегали к довольно изворотливым оправданиям: в том, что они отклоняются от духа ислама, нет их вины, ведь такую судьбу уготовил им Сам Бог. Доктрине предопределения нашли поддержку в многочисленных богословских текстах и даже в самом Коране, где недвусмысленно утверждается безоговорочное всеведение и всемогущество Аллаха. Впрочем, в Коране не менее выразительно говорится и о личной ответственности человека за свои поступки:
И никогда Аллах не поменяет Такого [положения] с людьми, Пока они не переменят его сами[301].Вследствие этого противники власти отводили особое место свободной воле и моральной ответственности. Что касается мутазилитов, то они выбирали золотую середину и избегали (итазаху, «держаться в стороне») крайностей. Свободную волю они отстаивали ради того, чтобы уберечь этические идеалы человеческой жизни. Те же мусульмане, которые полагали, что Бог выше человеческих представлений о правильном и ошибочном, косвенно умаляли Его справедливость. Бог, который нарушает все благородные принципы и которому это сходит с рук лишь потому, что он Бог, – это какое-то чудовище, мало чем отличающееся от тирана-халифа. Подобно шиитам, мутазилиты настаивали на том, что справедливость – неотъемлемая черта Бога: Он никогда не обижает людей и никогда не требует ничего, что противоречило бы здравому смыслу.
С этим не могли согласиться традиционалисты. По их мнению, считая хозяином и творцом своей судьбы самого человека, мутазилиты оскорбляют Бога в Его всемогуществе и вообще делают Его слишком уж рациональным и похожим на человека. Традиционалисты приняли доктрину предопределения, поскольку она подчеркивала непостижимость сущности Бога: будь Он доступен нашему пониманию, то был бы не Богом, а просто плодом воображения. Господь выше человеческих представлений о добре и зле; Его замыслы нельзя оценивать нашими мерками и ожиданиями. Люди в своих поступках бывают злыми или несправедливыми лишь по той причине, что так пожелал Аллах, – а вовсе не потому, что наши моральные нормы распространяются на высшие сферы и Самого Бога. Мутазилиты сильно ошибаются, когда говорят, будто справедливость – идеал сугубо человеческий – является неотъемлемым свойством Бога.
Вопрос предопределения и свободной воли, занимавший в свое время и христиан, представляет собой главную проблему, связанную с идеей персонифицированного бога. Божеству безличному – например, Брахману – намного проще приписать бытие вне категорий добра и зла: нравственные идеалы остаются в этом случае лишь масками непостижимой Божественности. Однако бог, обладающий некой таинственной «личностью» и деятельно участвующий в делах человеческих, неизменно навлекает на себя упреки. Такого «Бога» очень легко превратить в исполинского тирана либо своевольного судью; не менее просто и поверить, будто «Он» обязан соответствовать всем нашим ожиданиям. Еще один шаг – и «Его», в зависимости от личных предпочтений человека, можно сделать республиканцем или социалистом, расистом или революционером. Подобная угроза привела к тому, что некоторые вообще стали считать идею персонифицированного божества нерелигиозной, ведь во многих случаях она просто оправдывает и укрепляет нашу собственную предвзятость.
Чтобы избежать этой опасности, традиционалисты прибегли к освященному веками решению: вслед за иудеями и христианами они ввели различие между сущностью Бога и Его деятельностью. Традиционалисты заявили, что трансцендентному Аллаху предвечно присущи атрибуты, определяющие Его отношения с нашим миром, – например, власть, знания, воля, слух, зрение и речь. Свойства эти всегда были с Ним, точно так же как и несотворенный Коран. Такие атрибуты следует, однако, отличать от непостижимой сущности Бога, людскому разумению недоступной. Древние евреи полагали, что Премудрость, она же Тора, была у Бога до начала времен. Теперь такая же идея, обосновывающая личностность Бога, появилась в исламе. Как и в иудаизме, она призвана была напоминать мусульманам, что Аллаха человеческим умом не объять. И если бы халиф ал-Мамун (813–832 гг.) не принял сторону мутазилитов и не объявил их воззрения официальной исламской доктриной, сложные для понимания аргументы традиционалистов были бы приняты, вероятно, лишь горсткой мусульман. Однако ради того, чтобы утвердить воззрения мутазилитов, халиф устроил гонения на традиционалистов. Столь недостойное поведение правителя вызвало настоящий ужас у простого люда. Глава притесняемого направления Ахмад ибн Ханбал (780–855 гг.) чудом избежал смерти от рук приспешников ал-Мамуна и стал настоящим народным героем. Личное обаяние и безгрешность Ахмада – он молился даже за своих мучителей! – бросали серьезный вызов халифату, а идея несотворенности Корана стала главным лозунгом народного восстания против рационализма мутазилитов.
Ибн Ханбал не одобрял никаких логических рассуждений о Боге. Когда «умеренный» мутазилит ал-Хуайан ал-Карабиси (ум. в 859 г.) предложил компромиссное решение – считать, что Коран как Божья речь действительно не был создан, но стал сотворенной вещью, когда его вложили в уста Пророка, – Ахмад категорически осудил эту доктрину. Ал-Карабиси с готовностью пошел на дальнейшие уступки и объявил несотворенным письменный и устный арабский язык Корана, назвав его частью предвечной речи Аллаха. Однако ибн Ханбал счел неправомерным и такой вывод – по его мнению, строить логические догадки о происхождении Корана бессмысленно и опасно. Рассудок вообще непригоден для постижения несказанного Бога! Ахмад обвинял мутазилитов в том, что они стремятся лишить Аллаха загадочности и свести Его к умозрительной формуле, не имеющей никакой религиозной ценности. Коран изобилует антропоморфными описаниями деятельности Бога в нашем мире (Аллах «говорит», «видит», «восседает на троне» и так далее), и традиционалист Ахмад настаивал на том, что подобные высказывания нужно понимать буквально, следуя принципу била кайфа, то есть не задаваясь вопросом «как?». Ибн Ханбала можно сравнить с такими радикальными христианами, как Афанасий, который в борьбе с еретиками-рационалистами за толкование доктрины Вочеловечения занимал самые жесткие позиции. Главным тезисом Ахмада ибн Ханбала была неизъяснимость сущности Божества, не поддающейся ни логике, ни концептуализации.
Тем не менее в Коране мудрость и понимание постоянно восхваляются как добродетель, потому ибн Ханбал со своей идеей выглядел несколько примитивно (многие мусульмане считали его просто упрямым мракобесом). Выход из положения нашел богослов Абул-Хасан ибн Исмаил ал-Ашари (878–941 гг.) – мутазилит, перешедший на сторону традиционалистов после сновидения, в котором сам Пророк явился ему и призвал к изучению хадиса. После этого события ал-Ашари впал в другую крайность, стал ревностным традиционалистом и в своих проповедях называл мутазилитов «бичом ислама». Вскоре ему приснился новый сон, в котором Мухаммад с огорченным видом попрекнул богослова: «Я ведь велел тебе утверждать правду хадисов, а не отбрасывать разумные доводы!»[302] С тех пор ал-Ашари направил рационалистическое мастерство мутазилитов на укрепление агностических воззрений ибн Ханбала. Пока мутазилиты утверждали, что Божье откровение не может расходиться со здравым смыслом, ал-Ашари силой логических рассуждений доказывал, что Бог выше нашего понимания. Мутазилиты рисковали свести Бога к последовательной, но бесплодной концепции; ал-Ашари мечтал вернуться к полнокровному Богу Корана, несмотря на всю Его противоречивость. Подобно Дионисию Ареопагиту, он верил, что парадоксальность лишь укрепит благоговение людей перед Богом. Ал-Ашари отказывался низводить Бога до уровня абстрактного построения, которое можно обсуждать и анализировать, как любую другую человеческую идею. Божественные атрибуты – знание, власть, жизнь и так далее – были совершенно реальны; они действительно присущи Богу испокон веков. Однако эти свойства не имеют ничего общего с естеством Бога, чья сущность едина, проста и единственна в своем роде. Бога нельзя считать чем-то сложным, ведь Он – сама простота. Бога невозможно анализировать, давая определения отдельным Его качествам либо дробя Единое на части. Ал-Ашари отрицал любые попытки разрешить этот парадокс: раз в Коране сказано, что Аллах восседает на Своем троне, это следует принять как непреложный факт – пусть мы и не в силах вообразить, как чистый дух может на чем-то «сидеть».
Ал-Ашари стремился нащупать золотую середину между нарочитым обскурантизмом и неуемным рационализмом. Кое-кто из буквалистов утверждал даже, будто Аллах обладает материальным обликом, ведь в Коране говорится, что праведные «узрят» Бога на небесах. Хишам ибн Хаким зашел так далеко, что заявил:
У Аллаха есть тело – очерченное, высокое, широкое и протяженное, равновеликое во всех направлениях, лучащееся светом, огромное во всех трех измерениях, пребывающее в запредельности, подобное слитку чистого металла, сверкающее всеми сторонами, словно округлая жемчужина, наделенное цветом, вкусом, ароматом и осязаемостью[303].
Некоторые шииты приняли такие взгляды, поскольку свято верили, что имамы – воплощения Божества. Мутазилиты настаивали на том, что коранические упоминания, скажем, о «руке Божьей» следует толковать в переносном смысле – как утверждения Его беспредельной щедрости или вездесущести. Ал-Ашари отвергал домыслы буквалистов, ссылаясь на то, что, согласно Корану, люди могут говорить о Боге только на языке символов. С другой стороны, ал-Ашари не соглашался и с традиционалистами, которые категорически отвергали рационалистический подход. Главный его довод сводился к тому, что Мухаммад едва ли сталкивался с подобными проблемами, иначе оставил бы мусульманам соответствующие рекомендации, а раз их нет, то для сбережения истинных представлений о Боге все правоверные обязаны опираться на такие средства толкования, как суждение по аналогии (кийас).
Ал-Ашари неотступно искал компромиссную позицию. Он доказывал, например, что Коран – вечное и несотворенное Слово Божье, но бумага, чернила и арабская вязь священной книги – вещи сотворенные. Ал-Ашари осуждал мутазилитскую доктрину свободной воли – по его мнению, только Бог мог быть «творцом» всех человеческих поступков. С другой стороны, он отрицал и мнение традиционалистов, полагавших, будто люди вообще не вносят никакого вклада в свое спасение. Решение ал-Ашари выглядело весьма путаным: Бог определяет все человеческие поступки, но позволяет людям приписывать себе соответствующие заслуги или провинности. Так или иначе, в отличие от ибн Ханбала, ал-Ашари был готов задаваться вопросами и изучать многочисленные метафизические проблемы – даже заведомо считая, что таинственную и неизъяснимую Реальность, именуемую «Богом», невозможно втиснуть в рамки скудной рационалистической модели. Ал-Ашари стал основателем исламской традиции калама (буквально: «слово» или «беседа»); обычно это понятие переводят как «богословие». В X–XI вв. последователи ал-Ашари развили его идеи и отточили методологию калама. Первые ашариты стремились разработать метафизическую схему, которая позволила бы правомерно рассуждать о верховной власти Аллаха. Первым крупным богословом ашаритской школы стал Абу Бакр ал-Бакиллани (ум. в 1013 г.). В своем трактате «Ат-Тау-хид» («Единство») он соглашался с мутазилитами в том, что люди способны доказать существование Бога логически, путем рациональных рассуждений, ведь и в Коране сказано, что Авраам постигал вечного Творца, неустанно размышляя об устройстве природы. Однако ал-Бакиллани отрицал, что человек способен отличить доброе от дурного без помощи откровения, поскольку в окружающем мире этих категорий нет и они установлены для людей Самим Богом, хотя Аллах и не подчиняется человеческим представлениям о правильном и ошибочном.
В попытках найти метафизическое обоснование исламской веры в то, что в мире нет иных богов, иной действительности и вообще ничего несомненного, кроме Аллаха, Ал-Бакиллани разработал теорию, известную как «атомизм», или «окказионализм». Он утверждал, что все на свете целиком и полностью зависит от прямого внимания Бога. Вселенную ал-Бакиллани сводил к неисчислимой совокупности независимых атомов; время и пространство были у него дискретны и ни один объект не обладал особыми самостоятельными свойствами. Феноменальная вселенная превращалась у ал-Бакиллани в ничто столь же радикально, как и у Афанасия. Реален только Бог – и только Он спасает нас от всеобщей пустоты. Он является опорой вселенной и каждый миг дарует сотворенному миру бытие. Нет никаких законов природы, которые поясняли бы устойчивость мироздания. Хотя многие мусульмане достигли больших успехов в науках, ашаризм, по существу, противостоял естествознанию, но сыграл значительную роль в религии. Он представлял собой попытку дать метафизическое объяснение присутствия Бога во всех обыденных мелочах и напомнить мусульманам, что вера не подчиняется привычной логике. Воспринимаемый как отвлеченная дисциплина, а не достоверное описание реальности, ашаризм помогал правоверным воспитывать в себе одобренное Кораном «осознавание Бога». Слабой стороной ашаризма был отказ (из духа противоречия) от научных данных и чрезмерно буквальное толкование религиозности, которая неуловима по самой своей природе. Такой подход мог привести к расколу между отношением мусульман к Богу и восприятием всего остального. И мутазилизм и ашаризм, каждый по-своему, стремился связать религиозные переживания Божественного с обычным рассудочным мышлением. Это было чрезвычайно важно: мусульмане отчаянно пытались разобраться, можно ли говорить о Боге так, как обсуждают прочие вопросы. Как нам уже известно, греки в конечном итоге решили, что это невозможно и единственно верным богословием является бессловесность. Со временем к такому же выводу придет и ислам.
Общество, в котором жили Пророк и его соратники, было намного примитивнее, чем во времена ал-Бакиллани. К началу XI в. Исламская империя превратилась в высокоцивилизованный мир, и мусульмане вынуждены были разрабатывать более изощренные в интеллектуальном отношении представления о Боге и вселенной. Мухаммад инстинктивно вернул к жизни немалую долю древнееврейского опыта соприкосновений с Божественным. Последующим поколениям мусульман довелось столкнуться с многочисленными проблемами, над которыми раньше бились христиане. Кое-кто из мусульман приходил даже к идее воплощения Бога в человеке, хотя Коран строго осуждал обожествление Иисуса в христианстве. История ислама подтвердила, что идея запредельного, но персонифицированного бога неизменно порождала одни и те же проблемы и приводила к однотипным решениям.
Опыт калама показал: несмотря на то что логический подход вполне годился для доказательства непознаваемости «Бога» путем рациональных рассуждений, у многих мусульман эти приемы вызывали тревогу. В исламе калам так и не занял того места, какое занимает богословие в западном христианстве. Халифы династии Аббасидов, первоначально поддержавшие мутазилитов, быстро убедились, что не в силах навязать их доктрины правоверным – народ их просто «не принимал». Рационализм оказывал свое влияние на исламскую мысль на протяжении всего средневековья, но большая часть мусульман относилась к этому подходу с недоверием, так что его приверженцы неизменно пребывали в меньшинстве. Подобно иудаизму и христианству, ислам возник на основе общесемитского мировосприятия, однако в эллинизированных центрах Ближнего Востока вступил в острое противоречие с греческим рационализмом. Некоторые мусульмане, тем не менее, попытались провести коренную эллинизацию исламского Бога и привнесли во все три религии единобожия новые философские идеи. В результате в иудаизме, исламе и христианстве сложились различные, но чрезвычайно интересные представления о значимости и пригодности философии для постижения загадки Божества.
6. Бог философов
В IX в. арабы соприкоснулись с греческой наукой и философией. Результатом стал культурный расцвет, сравнимый, по европейским меркам, с переходом от Возрождения к эпохе Просвещения. Благодаря блистательной работе группы переводчиков (главным образом несториан) на свет появились арабоязычные копии трудов греческих мыслителей. Мусульмане столь успешно осваивали астрономию, алхимию, медицину и математику, что на протяжении IX–X вв. в империи Аббасидов было сделано больше научных открытий, чем за всю предшествующую арабскую историю. Возник новый тип мусульман – приверженцы идеала, именуемого фалсафа. Обычно это понятие переводят как «философия», однако содержание его шире и богаче. Подобно французским philosophes XVIII века, файласуфы (правильная арабская форма мн. ч.: фаласифа) стремились жить рационально, в согласии со всеобщими законами мироздания, которые, по их мнению, можно выявить на любом уровне действительности. Первоначально файласуфы были сосредоточены прежде всего на естественных науках, но позднее обратились, разумеется, к греческой метафизике и решили перенести ее идеи в ислам. Файласуфы не сомневались, что бог греческих философов тождествен кораническому Аллаху. Греческие христиане тоже ощущали родство с эллинизмом, но затем сочли, что Бога античных философов следует приблизить к более парадоксальному библейскому Богу. Как известно, со временем они отказались от собственной философской традиции, так как решили, что рассудок и логика не принесут большой пользы при постижении Бога. Файласуфы пришли к совершенно противоположному выводу: по их мнению, рационализм представлял собой самую передовую форму религии и разработал более возвышенную идею Бога, чем та, что открыта в Священной Книге.
В наши дни принято считать, что наука и философия противостоят Религии, но файласуфы были набожны и считали себя верными сынами Пророка. Правоверные мусульмане, они были людьми политически сознательными, с презрением относились к дворцовой роскоши и мечтали преобразовать общество в соответствии с велениями здравого смысла. Столь смелые идеи были чрезвычайно важны: поскольку научные и философские изыскания файласуфов опирались на греческую мысль, ученым необходимо было найти связь между верой и рациональным, объективным взглядом на мир. Отводить Богу место оторванной от жизни интеллектуальной категории и рассматривать религию независимо от прочих сфер человеческого бытия – в этом виделось что-то нездоровое. Файласуфы вовсе не намеревались упразднить религию, они лишь хотели очистить ее от того, что считали примитивным и частным. Приверженцы фалсафы не сомневались, что Бог есть, – вообще говоря, для них Его существование было самоочевидным. С другой стороны, им очень хотелось доказать это логически и подтвердить тем самым, что Аллах вполне совместим с рационалистическими идеалами.
Но все было не так просто. Нам уже известно, что Бог греческих философов сильно отличался от Бога откровений. Верховное божество Аристотеля и Плотина было безучастно и пребывало вне времени. Повседневных событий бренного мира оно вовсе не замечало и никак не проявляло себя в человеческой истории. Этот бог не создавал вселенную и не собирался никого судить в конце времен. Аристотель вообще считал, что история – величайшее богооткровение во всех монотеистических религиях – занимает по сравнению с философией низшее положение. У мира нет ни начала, ни середины, ни конца, поскольку космос проистекает из Бога испокон веков. Файласуфы хотели вырваться за рамки истории, в которой видели просто иллюзию, и уловить проблески неизменного, идеального мира Божества. Несмотря на подчеркнутый интерес к рациональному, фалсафа тоже нуждалась в вере. Вера в то, что космос действительно подчиняется законам здравого смысла, требовала большой смелости, ведь хаос и страдания бросаются в глаза чаще, чем целенаправленный порядок. Арабским философам приходилось воспитывать в себе ощущение высшего смысла бытия, невзирая на царящие вокруг них нелепые и бедственные события. В фалсафе крылось особое благородство, вызванное тягой к объективной, вневременной точке зрения. Файласуфы мечтали о всеобщей религии, которая бы не ограничивалась частными проявлениями Божества и не привязывалась к определенному времени и месту. Мыслители верили, что их долг – перевести откровение Корана на более совершенный язык, которым издавна изъяснялись лучшие, гениальнейшие умы всех культур. Файласуфы не видели в Боге тайны – они, напротив, считали Его самой Рассудительностью.
Такая вера в чисто рациональную вселенную кажется сегодня наивной: наши научные открытия давно показали несостоятельность аристотелевских доказательств существования Бога. В IX–X вв. до этого было еще далеко, но проблемы фалсафы во многом соотносятся и с нынешним сложным положением религии. Научная революция эпохи Аббасидов требовала от мыслителей не только накопления новых знаний. Как и в наши дни, важнейшие открытия того времени неизбежно влекли за собой развитие совершенно иного умонастроения, которое преобразило мировосприятие файласуфов. Основополагающим условием науки является вера в то, что все на свете имеет рациональное объяснение. Помимо того, наука требует отваги и силы воображения, которые во многом подобны религиозному творчеству. Ученый, подобно пророку или мистику, тоже вторгается в непроглядное и непредсказуемое царство несотворенной реальности. Разумеется, это существенно повлияло на представления файласуфов о Боге, вследствие чего им пришлось пересматривать и даже отбрасывать устаревшие верования своих современников (уместно сравнение с тем, как научные достижения нашей эпохи вынудили многих отказаться от классического теизма). Упорное следование ветхому богословию – признак не только отсутствия мужества, но, порой, и губительной утраты целостности. Файласуфы предприняли попытку соединить новые прозрения с господствующей линией исламской веры и, воодушевившись греческими идеями, разработали совершенно революционные представления о Боге. Тем не менее порожденное ими «рациональное божество» в конце концов погибло, и этот факт сообщает нам нечто важное о самой природе религиозной истины.
Файласуфы согласовывали греческую философию с религией намного тщательнее, чем кто-либо из предшествующих приверженцев единобожия. Мутазилиты и ашариты тоже стремились перекинуть мост между Откровением и естественным разумом, но пальму первенства все-таки отдавали богу Откровения. Основой калама было традиционное для монотеизма восприятие истории как богооткровения; решающее значение тут имели частные, конкретные события, поскольку только их можно было считать непреложными фактами. Ашариты, например, вообще сомневались в существовании всеобщих законов и вечных принципов. Хотя такой атомизм имел определенную религиозную и творческую ценность, он, конечно же, был совершенно чужд научному подходу и не устроил бы ни одного файласуфа. С историчностью, конкретикой и частностями фалсафа почти не считалась и куда большее почтение питала к общим закономерностям, которых не признавали ашариты. Бога, по мнению файласуфов, следовало искать в логических рассуждениях, а не в разрозненных откровениях, получаемых время от времени редкими избранными.
Этот поиск объективной, всеобщей истины в значительной мере обусловил характер научных изысканий файласуфов и их представлений о Высшей Реальности. Идея бога, который не для всех одинаков и всюду приобретает ту или иную культурную окраску, не могла дать удовлетворительный ответ на главный для любой религии вопрос: «В чем высший смысл жизни?» Научные факты универсального значения нельзя найти в лаборатории; столь же трудно было молиться Богу, которого правоверные все более упорно считали исключительной собственностью мусульман. С другой стороны, изучение Корана показывало: сам Мухаммад опирался на идею всеобщности и утверждал, что все истинные религии – от Бога. Файласуфы не испытывали никакой нужды спорить с Кораном. Они, напротив, стремились доказать тесную взаимосвязь двух подходов: оба пути вели к Богу, оба соответствовали человеческим потребностям. Файласуфы не видели принципиальных противоречий между Откровением и наукой, верой и рациональностью. Наоборот, они разрабатывали так называемую пророческую философию, стремясь найти ядро истины, таящееся в самом сердце всех исторических религий, которые испокон веков пытались объяснить реальность одного и того же Бога.
То, что фалсафа возникла в результате контактов с греческой наукой и метафизикой, никак не означало ее рабской зависимости от эллинизма. В своих ближневосточных колониях греки обычно следовали стандартному курсу обучения: хотя в эллинистической философии было немало разных направлений, учащиеся знакомились с определенным набором сочинений в строгом порядке, что обеспечивало известную общность и последовательность познаний. Однако файласуфы этого порядка не соблюдали и изучали греческие тексты по мере появления переводов. Такая методика, разумеется, открывала перед ними совсем иную картину. Помимо собственных прозрений, характерных только для ислама и арабского мира, существенное влияние на файласуфов оказала персидская, индийская и гностическая мысль.
Первым мусульманином, применившим рациональный подход к Корану, стал Йакуб ибн Исхак ал-Кинди (ум. ок. 870 г.). Он был связан с мутазилитами и в ряде серьезных вопросов расходился с Аристотелем. Ал-Кинди получил образование в Басре, а затем перебрался в Багдад, где заручился покровительством халифа ал-Мамуна. Широчайшая сфера интересов и достижений ал-Кинди включала математику, естествознание и философию, но главной областью изысканий для него оставалась религия. В силу мутазилитского воспитания Йакуб видел в философии лишь «служанку» Откровения: для него вдохновенные свидетельства пророков всегда были выше «чисто человеческих» философских прозрений (большинству последующих приверженцев фалсафы такой подход был несвойствен). Тем не менее ал-Кинди страстно мечтал отыскать истину и в других религиозных традициях. Истина одна, и задача философа – разглядеть ее под любыми культурными или лингвистическими наслоениями, накопившимися за долгие века.
Нам не следует стыдиться одобрения и обретения истины, откуда бы она ни исходила – пусть даже от далеких от нас племен и от народов несопредельных с нами стран.
Для искателя истины нет ничего лучше самой истины, и не следует пренебрегать истиной и свысока смотреть на тех, кто ее высказал или передал: истиной никого нельзя унизить – наоборот, истина облагораживает всякого[304].
В этом ал-Кинди неукоснительно следовал Корану, но пошел еще дальше: не ограничиваясь пророками, он обратился к греческим философам и воспользовался Аристотелевым обоснованием необходимости существования Перводвигателя. Ал-Кинди доказывал, что в рациональном мире у всего есть своя причина и, следовательно, должен быть некий Недвижимый Двигатель, который и привел всё в движение. Этой Первопричиной является само Бытие – неизменное, совершенное и неуничтожимое. После этих рассуждений ал-Кинди отходил, однако, от Аристотеля и возвращался к коранической доктрине творения ex nihilo. Действие можно определить как извлечение «чего-то» из «ничего», а на это, по убеждению ал-Кинди, способен только Аллах. Бог и есть единственное деятельное (в указанном смысле) Бытие; именно Он – подлинная причина любой активности в окружающем мире.
Позднее фалсафа отвергла концепцию сотворения ex nihilo, и потому ал-Кинди нельзя назвать «настоящим» файласуфом. Тем не менее в исламе он первым попытался примирить религиозную истину с систематической метафизикой. Его преемники были, однако, настроены еще решительнее. Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази (ум. ок. 930 г.), которого часто называют величайшим нонконформистом в исламской истории, отказался от метафизики Аристотеля и, подобно гностикам, считал сотворенный мир итогом труда некоего демиурга – по мнению ученого, материя не могла произойти от чисто духовного Бога. Ар-Рази отвергал и аристотелевский Перводвигатель, и кораническую доктрину откровения и пророчества. Спасти нас могут только разум и философия! Таким образом, ар-Рази даже не был последователем единобожия и стал, вероятно, первым вольнодумцем, который выявил несовместимость концепции «бога» с научным мировоззрением. Ар-Рази был человеком очень отзывчивым и щедрым; выдающийся врач, он долгие годы возглавлял лечебницу в родном городе Рее (Иран). Большинство файласуфов не доводили, впрочем, свой рационализм до таких крайностей. В одном споре с более «умеренным» мусульманином ар-Рази доказывал, что настоящий файласуф не может безоговорочно доверять общепринятой традиции и обязан доходить до всего своим умом, так как истина открывается только рассудку. Полагаться на богооткровенные доктрины бесполезно, ведь каждая религия твердит свое – и кто возьмет на себя смелость сказать, какая из них права? Однако тут оппонент вольнодумца[305] задал очень важный вопрос: как быть с простыми людьми? Многие ничего не смыслят в философии, так неужели из этого следует, что они обречены на неведение, ошибки и путаницу? Элитарность фалсафы как раз и стала одной из причин того, что она всегда оставалась малочисленной ветвью ислама. По самой своей природе фалсафа привлекала лишь тех, кто обладал достаточно высоким уровнем умственного развития, – и, следовательно, противоречила духу всеобщего равенства, который становился характерной особенностью мусульманского общества.
Проблему необразованных масс, не способных к философским рассуждениям, пытался решить турецкий файласуф Абу Наср ал-Фараби (ум. в 980 г.), которого можно считать основоположником подлинной фалсафы: именно он во всей полноте показал привлекательную универсальность этого исламского идеала. В Европе ал-Фараби прослыл бы образцом человека эпохи Возрождения: он был не только врачом, но и музыкантом и мистиком. Трактатом «О нравах жителей добродетельного города» он подтвердил, что центральное место в исламской духовности занимают общественно-политические проблемы. Платон в «Государстве» доказывал, что идеальным обществом должен руководить философ, который не только правил бы страной, опираясь на рациональные принципы, но и сумел бы донести их до обычных людей. Именно таким безупречным вождем был, по мнению ал-Фараби, пророк Мухаммад, который выразил вечную истину художественным языком, понятным простому народу. Из этого следовало, что ислам идеально подходит для воплощения в жизнь платоновской схемы идеального общества. Наиболее пригодным для осуществления этой идеи был, по-видимому, шиизм с его культом непогрешимого имама. Ал-Фараби занимался суфийской практикой, но тем не менее расценивал Откровение как нечто совершенно естественное. Бог греческих философов, в противоположность традиционной доктрине Откровения, был равнодушен к делам смертных, никогда не «заговорил» бы с людьми и не вмешался бы в их повседневную жизнь. Это, однако, не означало, что Бог был далек и от основных проблем, увлекавших ал-Фараби. В его философии Аллах занимал центральное место; с рассуждений о Боге начинался и упомянутый трактат. Тем не менее это был все тот же Бог Аристотеля и Плотина – Первосущий. Греческие христиане, воспитанные на мистической философии Дионисия Ареопагита, отбросили бы любую теорию, приписывающую Богу бытие в привычном смысле, пусть и некоего высшего характера. Однако ал-Фараби не отступал от идей Аристотеля и просто не верил, что Бог «ни с того ни с сего» решил сотворить мир – это вовлекало бы вечного и статичного Бога в неподобающие Ему перемены.
Как и греки, ал-Фараби полагал, что цепочка бытия извечно исходит от Единого в виде десяти последовательных эманаций («умов»), каждая из которых порождает одну из птолемеевских сфер: внешние небеса, сферу неподвижных звезд, затем сферы Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. В нашем, подлунном мире проявляется еще одна иерархия бытия, развивающаяся в противоположном направлении: неодушевленная материя восходит к растениям и животным, и вершиной этой эволюции становится человек, чья плоть – от земли, а душа и сознание сопричастны Божественному Разуму. Посредством очищения, как оно описано у Платона и Плотина, человек может сбросить земные оковы и вернуться в родной дом – к Богу.
Эта картина мироздания явно расходилась с кораническим описанием действительности, но ал-Фараби видел в философии высший путь к постижению истины, которую пророки для доступности выражали поэтическим, метафорическим языком. Фалсафа, однако, предназначена не для всех. К середине десятого столетия в ислам уже начали проникать эзотерические элементы – одним из них и была фалсафа. Суфизм и шиизм тоже толковали ислам не так, как это делали улемы – богословы, признававшие только Священный Закон и Коран. Эзотерические течения ислама держали свои доктрины в тайне вовсе не из презрения к «черни». Файласуфы, суфии и шииты прекрасно сознавали, что их довольно дерзкие и изобретательные версии ислама могут быть поняты совершенно превратно. Буквальное или упрощенное толкование доктрин фалсафы, суфийских мифов или шиитской имамологии ввело бы в заблуждение тех, чьи умственные способности, уровень образованности или черты характера не соответствовали символическому, рационалистическому или творческому подходу к высшей истине. В эзотерических сектах посвященных тщательно готовили к восприятию сложных доктрин, для чего разрабатывались особые приемы развития ума и духа. Мы уже знаем, что сходным путем шли греческие христиане, строго различавшие догму и керигму, тогда как западная ветвь христианства не создавала эзотерических традиций и держалась исключительно керигматического – единого для всех – толкования веры. Западное христианство не позволяло инакомыслящим держаться особняком – оно просто преследовало их, стремясь стереть «несогласных» с лица земли. Что касается исламского мира, то там мыслители-эзотерики обычно умирали естественной смертью.
Разработанную ал-Фараби доктрину эманации признали практически все файласуфы. Как мы убедимся в дальнейшем, мистиков идея эманации тоже привлекала намного больше, чем доктрина сотворения ex nihilo. Прозрения файласуфов нередко становились источниками вдохновения для последователей более интуитивной религиозности – например, для суфиев в исламе или еврейских каббалистов, очень далеких от мысли, будто философия и рассудок – враги веры. С особой очевидностью влияние фалсафы сказалось на шиитах. Хотя последние оставались среди мусульман в меньшинстве, десятое столетие нередко именуют «веком шиитов», поскольку в ту пору им удалось занять ключевые политические посты по всей империи. Крупнейшим достижением шиизма стал самостоятельный халифат, учрежденный в 909 году в Тунисе в противовес суннитскому халифату с центром в Багдаде. Создание шиитского государства Фатимидов было заслугой секты исмаилитов, которых называют также «семиричниками» – чтобы отличить от более крупной шиитской ветви «двунадесятников», признававшей авторитет двенадцати имамов. Исмаилиты откололись от основной группы имамитов после смерти Джафара ас-Садика, шестого Великого Имама (ум. в 765 г.). Джафар назначил своим преемником старшего сына Исмаила, но тот скончался в юном возрасте, после чего «двунадесятники» признали законным имамом другого сына Джафара – Мусу. Исмаилиты, однако, хранили верность Исмаилу; по их убеждению, с его смертью преемственность имамов оборвалась. Халифат Фатимидов в Северной Африке набрал невероятную силу: в 973 году его столицу перенесли в ал-Кахиру (ныне Каир), где тогда же была выстроена огромная мечеть ал-Азхар.
Возвеличение имамов означало, впрочем, не только политический выбор. Шииты, как уже упоминалось, верили, что имамы неким таинственным образом воплощают собой присутствие Бога на земле. У шиитов развилась совершенно особая эзотерическая набожность, основанная на символическом прочтении Корана. Считалось, что Мухаммад доверил тайные знания своему двоюродному брату и зятю Али ибн Аби Талибу, после чего этот илм (знания) передавался по линии прямых наследников Али, будущих имамов. Каждый имам воплощал собой «свет Мухаммада» (ал-нур ал-Мухаммад) – пророческий дух, некогда позволивший Мухаммаду без остатка вверить себя Богу. Ни Пророка, ни имамов, разумеется, нельзя считать Божественными, однако они были настолько открыты Богу, что Он, можно сказать, пребывал в них намного полнее, чем в простых смертных. Схожими были и представления несториан. Несториане в Иисусе, а шииты в каждом имаме видели божественный «храм», или «сокровищницу», до краев наполненную высшим знанием. Илм означал не только тайные сведения, но и средства душевного преображения. Под руководством да'и (назначенного имамом духовного наставника) к ученику приходили отчетливые, как яркий сон, видения, благодаря которым он избавлялся от лености и нечувствительности. Эта практика преображала ученика, и ему становилось доступным эзотерическое толкование Корана. Подобные переживания своеобразного пробуждения запечатлены в стихах философа-исмаилита Насира Хосрова (X в.), где он описал видение Имама, преобразившее его жизнь:
Слышали вы о море, льющемся из огня? Видели лисицу, обернувшуюся львом? Солнце может превратить в самоцвет даже камень, неподвластный руке природы. Я – этот камень, а Солнце мое – тот, чьи лучи озаряют этот сумеречный мир. Из ревности не в силах я назвать здесь имя [Имама], скажу лишь, что ради него сам Платон согласился бы отдать себя в рабство. Он – учитель, целитель душ, благоволение на нем Аллаха. Он – образец мудрости, источник знаний и истины. О Воплощение Знания, Образец Добродетели, Мудрости Средоточие, Цель Человеческая! О Достойнейший среди достойных, стою пред тобою, бледен и изможден, в накидке из шерсти, и длань твою лобзаю, словно могилу Самого Пророка или Черный Камень Каабы[306].Для греко-православных христиан Иисус на Фаворской горе олицетворял собой обожествленное человечество; Будда символизировал для буддистов просветленность, доступную каждому. Подобным же образом имамиты верили, что человеческое естество имама преображается благодаря его полной открытости перед Богом.
Исмаилитов пугало, что файласуфы чрезмерно сосредоточены на внешних, рациональных элементах религии и пренебрегают ее духовным содержанием. По этой причине исмаилиты боролись с такими вольнодумцами, как, например, ар-Рази. С другой стороны, у этого течения шиизма была своя философия и наука, хотя они считались не самоцелью, а духовными дисциплинами, позволявшими постигать потаенный смысл (батин) Корана. Созерцание научных и математических абстракций очищало разум от чувственных образов, помогало вырваться за рамки обыденного сознания. Наука нужна была исмаилитам не для того, чтобы добиться точного и буквального понимания окружающей действительности, – она использовалась прежде всего для развития воображения. Исмаилиты обратились к зороастрийским мифам Древнего Ирана, дополнили их некоторыми неоплатоническими идеями и разработали совершенно новый взгляд на историю Спасения. Вспомним, что в более традиционных сообществах люди верили, что происходящее здесь, на земле, повторяет события в небесном мире. Идеальные формы и неизменные архетипы Платона выражают эту извечную убежденность философским языком. В доисламском Иране действительность имела два аспекта: зримое небо (гетик) и высшие небеса (менок), которых обычным зрением не увидеть. Так же разделялись и более абстрактные, духовные реалии: любая молитва или добродетельный поступок в нашем мире, гетик, повторяется и в небесных сферах, которые придают человеческим деяниям истинную реальность и вечную значимость.
Небесные архетипы вызывали ощущение высшей подлинности – подобно тому как события и картины нашего воображения кажутся порой более достоверными и осмысленными, чем повседневная жизнь. В иранской мифологии заметно стремление обосновать извечную убежденность человека в том, что его жизнь и воспринимаемый мир имеют потаенный смысл и значимость – вопреки обилию удручающих свидетельств обратного. В десятом столетии исмаилиты возродили эту мифологию: после обращения в ислам персидские мусульмане о ней позабыли, но она по-прежнему оставалась частью их культурного наследия. Подхватив идеи персов, исмаилиты творчески сочетали их с платоновской доктриной эманации. Ал-Фараби рассматривал десять эманаций между Богом и материальным миром; этим эманациям подчинены Птолемеевы сферы. Исмаилиты сделали «духами» этой небесной иерархии Пророка и имамов. Высочайшую, «пророческую» сферу Первого Неба занимал Мухаммад, управителем Вторых Небес был Али, а далее в соответствующем порядке шли семь имамов. Последнюю сферу, расположенную в непосредственной близости от материального мира, исмаилиты отводили Фатиме, дочери Пророка и жене Али, – без ее участия священная преемственность была бы невозможна. Таким образом, Фатима стала Матерью Ислама; в христианстве подобную роль исполняла София, Божественная Премудрость. Символизм обожествленных имамов отражал исмаилитское толкование истинного смысла истории шиитов – и это была уже не просто чреда земных, нередко трагических событий. Для исмаилитов жизнь выдающихся людей на земле точно согласовывалась с событиями в мире менок, архетипической иерархии[307].
Эти построения не так наивны и смешны, как может показаться. Сегодня жители Запада гордятся своей склонностью к объективной точности, но у исмаилитских батини была совсем иная цель – их манили «потаенные» (батин) измерения религии. Подобно живописцам и поэтам, они опирались на символику, которая имела мало общего с логикой, но открывала, по мнению исмаилитов, действительность более глубокую, чем та, что воспринимается органами чувств или выражается рациональными категориями. В соответствии с этим они разработали особый способ толкования Корана – тавил (буквально: «возвращение к истоку»). Исмаилиты верили, что этот подход вернет их к изначальному, архетипическому Корану, изрекавшемуся в сфере менок одновременно с тем, как Мухаммад произносил его в мире гетик. Исследователь истории иранского шиизма Анри Корбен сравнил тавил с принципом гармонии в музыке: исмаилит внимал «звучанию» стихов Корана или хадиса сразу на нескольких уровнях и стремился услышать не только арабские слова, но и их небесные соответствия. Такие усилия утихомиривали болтливый критический ум и позволяли осознавать тишину, окружающую каждое слово, – подобно тому как индуист вслушивается в невыразимое безмолвие вокруг священного слога АУМ. Погружаясь в эту тишину, он сознает, какая бездонная пропасть отделяет наши слова и представления о Боге от подлинной высшей Реальности во всей ее полноте[308]. Видный мыслитель-исмаилит Абу Йакуб ал-Сиджистани (ум. в 971 г.) утверждал, что тавил как дисциплина помогает мусульманам постигать Бога как должно. Одни мусульмане часто говорили о Боге в антропоморфных категориях и превращали в своеобразного «исполинского» человека, другие лишали Его всякого религиозного значения и низводили до уровня умозрительной концепции. По этой причине ал-Сиджистани настаивал на необходимости двойных отрицаний. Говоря о Боге, следует начинать с отрицательных суждений: например, лучше говорить, что Бог – «небытие», а не «бытие», что Он «не малознающий», а не «всеведущий» и т. д. Однако сразу после этого необходимо опровергнуть столь безжизненные и отвлеченные отрицания, то есть сказать, что Бог – «не небытие» или «не не малознающий» в том смысле, в каком принято понимать эти слова. Бог вообще не соответствует никаким человеческим словесным определениям, и многократное применение этого языкового приема позволяет батини осознать, насколько непригодна наша речь для изъяснения загадки Аллаха.
Исмаилитский мыслитель позднего периода Хамид ал-Кирмани (ум. в 1021 г.) в работе «Рахаф ал-Акл» («Бальзам для разума») описывал величайший покой и счастье, которые приносит практика двойного отрицания. Не следует видеть в ней бесплодное упражнение ума или головоломку для педантов: благодаря этой практике исмаилит чувствует, что каждый шаг, каждый уголок его жизни наполнен чем-то значительным. Исмаилиты нередко связывали батин с просветлением и преображением. Тавил не дает научных сведений о Боге; его задача – пробуждать ощущение чудесности, которое озаряет батини на уровне куда более глубоком, чем рациональный ум. С другой стороны, тавил не является и бегством от действительности. Исмаилиты всегда были политически активными; Джафар ибн Садик, Шестой Имам, даже определял веру как действие. По примеру Пророка и имамов, правоверный обязан был активно применять свои представления о Боге в повседневной жизни.
Эти идеалы разделяло и эзотерическое общество Ихван ас-Сафа («Братья Чистоты»), возникшее в Басре в «век шиитов». По всей вероятности, эта секта отделилась от исмаилитов. Члены общества посвящали себя прежде всего научным изысканиям (в частности, математике и астрологии) и политической деятельности. Как и исмаилиты, «Братья» искали батин, сокровенный смысл жизни. Их «Послания» («Расаил»), представлявшие собой по существу энциклопедию философских наук, стали чрезвычайно популярными и распространились даже в Испании. «Братья» тоже совмещали науку с мистицизмом: математика была для них введением в философию и психологию. Числа символизировали различные врожденные свойства души и превращались в средства сосредоточения, которые помогали посвященным сознавать принципы работы собственного ума. Глубокое понимание себя стало ключевым элементом исламского мистицизма и породнило его с идеями некоторых христианских богословов – например, блаж. Августина, который считал, что без самопознания немыслимо постижение Бога. У суфиев – суннитских мистиков, к которым исмаилиты питали большую симпатию, – была аксиома: «Кто знает себя, знает и своего Господа». Это утверждение приводилось уже в самом первом послании «Братства Чистоты»[309]. Созерцая «числа души», мистики возвращались к предначальному Единству – первооснове человеческого «я», таящейся в самой глубине психики. Взгляды «Братьев» были очень близки к воззрениям файласуфов. Подобно исламским рационалистам, члены Ихван ас-Сафы уделяли особое внимание единству истины, которую следует находить повсюду: «Не отвергай никаких наук, не отбрасывай ни одной книги, не цепляйся слепо за одну-единственную веру»[310]. «Братья» разработали неоплатоническую концепцию Бога, в котором видели, в духе Плотина, неизъяснимое и непостижимое Единое. Как и файласуфы, они предпочитали не традиционную кораническую картину сотворения мира ex nihilo, а платоновскую доктрину эманаций: мироздание выражает Божественную Причину, и человек соучаствует в небесных делах и может вернуться к Единому, очистив свой разум.
Своих вершин фалсафа достигла в трудах Абу Али ибн Сины (980–1037 гг.), именуемого на Западе Авиценной. Ибн Сина родился неподалеку от Бухары (Центральная Азия) в семье чиновника-шиита и с детства попал под влияние исмаилитов, которые нередко гостили у его отца и устраивали в доме философские споры. Ибн Сина был чрезвычайно одаренным ребенком: в шестнадцатилетнем возрасте он уже давал советы именитым врачам, а к восемнадцати годам блестяще знал математику, логику и физику. Определенные трудности представил для него Аристотель, но разобраться в идеях этого философа ему помог труд ал-Фараби «Основные понятия аристотелевской метафизики». Ибн Сина вел типичный образ жизни лекаря-перипатетика: скитался по всей Исламской империи и целиком покорялся прихотям своих покровителей. Однажды он даже стал визирем при дворе шиитской династии Бундов, чье государство охватывало нынешние территории Западного Ирана и юга Ирака. Обладавший блестящим умом ибн Сина не был сухим педантом и вовсю предавался чувственным наслаждениям; есть даже предположения, что его смерть в сравнительно раннем возрасте (сорок восемь лет) была вызвана именно неумеренной страстью к вину и плотским утехам.
Ибн Сина сознавал, что фалсафу нужно приспособить к меняющимся условиям Исламской империи. Халифат Аббасидов к тому времени пришел в упадок, и страна давно лишилась какого-либо сходства с идеальным философским обществом, описанным Платоном в «Государстве». Ибн Сина, разумеется, сочувствовал духовным и политическим устремлениям шиитов, но по-настоящему его все же привлекал неоплатонизм фалсафы, которую он исламизировал более успешно, чем все его предшественники. По мнению ибн Сины, для того чтобы соответствовать своим притязаниям на завершенную картину мироздания, фалсафа должна внести больше смысла в религиозные убеждения простого люда, который, как бы то ни было, остается важнейшим фактором политической, социальной и личной жизни мусульман. В отличие от многих других, ибн Сина не ставил религию ниже фалсафы и придерживался той точки зрения, что пророки уровня Мухаммада превосходят любого философа, ибо опираются не на рассудок, а на прямое, интуитивное восприятие Бога. Последнее схоже с мистическими переживаниями суфиев, и сам Плотин в свое время назвал такой дар высшей формой мудрости. Это не означает, однако, будто ибн Сина считал разум неспособным постичь Божественное. Ученый искал рациональные свидетельства существования Бога, опираясь на Аристотелевы доказательства, ставшие классическими для всех средневековых философов ислама и иудаизма. Ни сам ибн Сина, ни остальные файласуфы ничуть не сомневались в бытии Бога. Не сомневались они и в том, что человеческий рассудок способен без помощи со стороны удостовериться в существовании этого Высшего Бытия. Рассудок был для файласуфов вершиной человеческой деятельности и частицей Божественного Разума – а такое свойство, разумеется, должно было играть важную роль в религиозных исканиях. Ибн Сина полагал, что каждый, кто способен самостоятельно найти Бога благодаря своим интеллектуальным способностям, просто обязан заниматься такими поисками – это религиозный долг человека, ибо разум помогает очистить наши представления о Боге, избавить их от суеверий и антропоморфизма. Ибн Сина и те его последователи, которые посвятили себя рациональному доказательству существования Бога, делали это не ради борьбы с атеистами (в нашем понимании этого слова). Главным для них было другое: использовать силу рассудка, чтобы как можно больше узнать о природе Бога.
«Доказательство» ибн Сины начинается с рассуждений о принципах работы ума. Глядя на мир, мы видим в нем сложные явления, состоящие из целого ряда разных частей (дерево, например, состоит из древесины, коры, сердцевины, сока и листьев). Пытаясь понять какое-либо явление, мы анализируем его, то есть дробим на части, пока такое деление возможно. Именно простые элементы кажутся нам самым главным, тогда как сложные явления, из этих частей состоящие, остаются чем-то второстепенным. Таким образом, человек непрестанно ищет простое – вещи, на части не делимые. Одна из аксиом фалсафы заключалась в том, что действительность образует логически связное целое, а из этого следовало, что наш бесконечный поиск простого должен учитывать место каждой вещи на большой картине мира. Как и все платоники, ибн Сина предполагал, что окружающее нас многообразие опирается на первичное единство. Поскольку человеческий ум считает сложные явления и вещи вторичными, производными, причиной этой склонности мышления должна быть некая простая, внешняя и высшая реальность. Многообразное условно, а условное ниже того, чем обусловлено и от чего зависит (например, дети в семье занимают положение ниже отца, благодаря которому появились на свет). Следовательно, то, что являет собой саму Простоту, и есть то, что философы называют «Необходимо Сущим», то есть независимым в своем существовании ни от чего иного. Но есть ли на свете такое Сущее? Как файласуф, ибн Сина считал само собой разумеющимся, что космос устроен рационально, а вершину иерархии рационального мироздания должна занимать Беспричинная Причина, Неподвижный Двигатель: с чего-то же должна была начаться цепочка причин и следствий. Отсутствие такого высшего существа означало бы, что наш разум не в ладу со всей действительностью в целом – а из этого, в свою очередь, следовало бы, что не всё в мироздании рационально и упорядочено. Это предельно простое существо, на которое опирается многообразная и составная действительность, и есть то, что в религиях называют «Богом». Поскольку это высочайшая на свете сущность, она должна быть абсолютно совершенна и потому достойна почтения и почитания. Но ее бытие настолько отличается от существования всего прочего, что она – не просто одно из звеньев цепочки бытия.
В том, что Бог – сама Простота, философы полностью соглашались с Кораном: Бог Един, из чего следует, что Его невозможно анализировать, делить на составные части или свойства. Поскольку это бытие – абсолютная простота, у него нет ни причины, ни качеств, ни изменчивых признаков. О нем вообще нельзя ничего сказать. Бог не может стать объектом дискурсивной мысли, поскольку ум не вправе подступаться к Нему так же, как ко всему прочему. Бог настолько уникален, что Его нельзя сравнивать ни с чем, что существует в привычном, относительном смысле. Следовательно, говоря о Боге, лучше пользоваться отрицательными суждениями – чтобы отличать Его от всего остального, о чем мы говорим. Но поскольку Бог – источник всего сущего, кое-что о Нем утверждать все-таки можно. Нам известно, например, что на свете существует добро, и потому Бог должен быть по сущности – или необходимости – Добром. Поскольку существуют жизнь, сила и знания, Бог должен быть живым, могущественным и разумным в самом полном и совершенном смысле. Аристотель в свое время рассуждал: поскольку Бог – чистый Разум (одновременно и сам акт мышления, и объект мышления, и его субъект), то созерцать Он может только Себя, а низшей, составной действительности к сведению не принимает. Это не вязалось, однако, с портретом Бога откровения – по определению всеведущим, вездесущим и деятельным в сотворенном мироздании. Ибн Сина попытался найти компромиссное решение: Бог, по его мнению, слишком возвышен, чтобы нисходить до уровня столь непримечательных и мелких сущностей, как человек и его дела. Как сказал Аристотель: «Иные вещи лучше не видеть, нежели видеть»[311]. Бог не станет мараться низменными, обыденными подробностями земной жизни. Однако в своем извечном акте самопознания Бог постигает всё, что от Него изошло и что Он вызвал к бытию. Ему известно, что Он является причиной всех сущих тварей. Мышление Бога столь совершенно, что мысли и дела Его составляют единый акт: Своим вечным самосозерцанием Он и поддерживает описанный файласуфами процесс эманации. При всем при том Бог знает нас и наш мир только в целом, обобщенном смысле, но не в частностях.
Столь отвлеченное пояснение природы Бога не вполне устраивало и самого ибн Сину: он хотел связать эту философию с религиозными переживаниями простых верующих, суфиев и батини. Увлекшись психологией религии, он обратился к плотиновской схеме эманации и попытался с ее помощью объяснить опыт пророчеств. Согласно рассуждениям ибн Сины, на десяти этапах нисхождения сущего от Единого пребывают десять чистых Разумов, а также духи, или ангелы, которые приводят в движение каждую из птолемеевских сфер. Так между людьми и Богом образуется промежуточное царство, соответствующее миру архетипической реальности, который открывается в воображении батини. Разумы тоже обладают воображением – более того, они и есть само Воображение в его чистейшем виде. Люди обретают наиболее совершенные прозрения в отношении Божества именно благодаря этому промежуточному царству воображения, а не рассудочному мышлению. Последний Разум, пребывающий в нашей, десятой сфере, является Святым Духом Откровения – это Джибрил (Гавриил), источник света и знания. Человеческая душа состоит из ума практического, связанного с материальным миром, и разумности созерцательной, позволяющей пребывать в тесной близости с Джибрилом. Таким образом, пророки способны получать интуитивные, основанные на воображении познания о Боге – подобные тем, какими наслаждаются Разумы, пребывающие выше практического причинно-следственного рассуждения. Опыт суфиев показал, что человек может добиться непогрешимых – с философской точки зрения – представлений о Боге даже без помощи логики и рациональности. Взамен силлогизмов у суфиев есть орудия воображения – символика и образность. Пророк Мухаммад довел это прямое слияние с миром Божества до совершенства. Построенное ибн Синой психологическое толкование видений и откровений дало возможность склонным к философии суфиям обсуждать свои религиозные переживания, о чем мы подробнее поговорим в следующей главе.
Судя по всему, к концу жизни мистиком стал и сам ибн Сина. В трактате «Китаб ал-Ашерат» («Книга наставлений») он, не скрывая разочарования, недвусмысленно критикует рациональный подход к постижению Бога. Ибн Сина неуклонно приближался к тому, что назвал впоследствии «восточным озарением» (ал-хикмат ал-машрикиййе). Понятие это было, однако, не географическим и означало источник Света. Ибн Сина намеревался написать эзотерический трактат, опирающийся как на логические рассуждения, так и на учение о наитии (ишрак). Остается неизвестным, удалось ли ему осуществить свой замысел: если этот трактат и появился на свет, до нас он не дошел. Тем не менее, как мы увидим в следующей главе, выдающийся иранский философ Йахйа ас-Сухраварди создал целую школу ал-ишрак, где философия, как и мечтал ибн Сина, неразрывно слилась с духовностью.
Учение калама и учение фалсафы подтолкнули к интеллектуальным изысканиям иудеев, живших в Исламской империи. Евреи писали трактаты на арабском языке и постепенно приходили к своей, особой философии: в иудаизм впервые проникли метафизические, умозрительные элементы. В отличие от исламских файласуфов, иудейские мыслители не пытались охватить весь спектр философских проблем и сосредоточились исключительно на вопросах религиозных. Иудаисты чувствовали, что должны ответить на вызов ислама и, в частности, урегулировать отношения между персонифицированным библейским Богом и Богом фалсафы. Как и мусульман, евреев беспокоил чрезмерно очеловеченный облик Бога в Писании и Талмуде; поневоле напрашивался вопрос о том, что общего у такого бога с Богом философов. Кроме того, евреи не могли оставаться равнодушными к проблеме сотворения мира и соотнесения Откровений с рассудочными построениями. Разумеется, иудеи решали эти вопросы по-своему, но связь с исламскими мыслителями была очень тесной. Первым, кто взялся за философское толкование иудаизма, стал Саадиа ибн Иосиф (882–942 гг.) – талмудист и в то же время мутазилит. Он был убежден, что человек способен обрести знания о Боге, опираясь только на свои силы. Подобно файласуфам, ибн Иосиф видел в поисках рациональных представлений о Боге религиозную обязанность (мицва). С другой стороны, Саадиа, как и исламские рационалисты, не испытывал никаких сомнений в существовании Бога-Творца – этот факт казался ибн Иосифу столь самоочевидным, что в трактате «О верованиях и мнениях» он даже не счел нужным обосновывать саму веру и вполне допускал возможность религиозных сомнений.
Саадиа полагал, что иудею не следует силой принуждать свой ум к принятию истины Откровения; это, впрочем, не означало, что Бог совершенно доступен человеческому рассудку. Ибн Иосиф признавал, что идея сотворения ex nihilo изобилует философскими натяжками и вообще не допускает толкования в рациональных категориях, поскольку Бог фалсафы просто не способен на внезапные решения и какие-либо перемены. Мог ли чисто духовный Бог положить начало материальному миру? Здесь мы подходим вплотную к границам возможностей рассудка и вынуждены просто признать, что мироздание не вечно, как считали платоники, но имело некое начало во времени. Это единственное объяснение, согласующееся и с Писанием, и со здравым смыслом. Однако, приняв его, мы вправе логически вывести и другие факты о Боге: порядок сотворенного мира разумно спланирован, в нем есть жизнь и энергия – следовательно, Творец его тоже должен обладать Мудростью, Жизнью и Силой. Эти атрибуты – просто аспекты Бога, а не отдельные ипостаси, как в христианской доктрине о Троице. Нам приходится рассуждать о Нем в этих категориях и поневоле «разрушать» Его абсолютную простоту лишь по той причине, что язык не в силах изъяснить Божественную реальность. И если мы стремимся к максимальной точности, то вправе сказать о Боге только одно: Он есть. Саадиа, впрочем, не отвергал и утвердительные высказывания о Боге и отнюдь не ставил далекого и безличного Бога философов выше наделенного личностью, очеловеченного библейского Бога. Например, в попытках объяснить, почему в нашем мире столько страданий, Саадиа возвращается к решению, найденному авторами Талмуда и сочинений о Премудрости. Страдания, по мнению ибн Иосифа, – это наказания за грехи. Муки закаляют и очищают, воспитывают в людях смирение. Настоящего файласуфа такой ответ ничуть бы не удовлетворил: Бог делается слишком похожим на человека, Ему приписываются некие замыслы и намерения. Однако Саадиа не считал, будто Бог Писания ниже Бога фалсафы. Пророк превосходит любого философа, а рассудок в конечном счете может разве что попытаться связно представить сказанное в Библии.
Некоторые иудеи пошли еще дальше. В сочинении «Источник жизни» неоплатоник Соломон ибн Гебироль (ок. 1022–1070 гг.) отверг доктрину сотворения ex nihilo, но попытался видоизменить теорию эманаций, чтобы хоть в какой-то степени наделить Бога стихийностью и свободой воли. Утверждение Гебироля, что Бог пожелал – или вознамерился – произвести эманации, было попыткой сделать этот процесс менее механистичным и показать, что Бог Сам управляет законами мироустройства, а не подчиняется общей динамике. Гебироль не сумел, однако, вразумительно пояснить, как от Бога могла произойти материя.
Другие иудейские философы были менее склонны к новшествам. Бахйа ибн Пакуда (ум. ок. 1080 г.) не был платоником в строгом смысле слова, а при необходимости пользовался и приемами калама. Как и Саадиа, Бахйа отстаивал ту точку зрения, что Бог сотворил мир в совершенно определенный миг прошлого. Мироздание, очевидно, не могло возникнуть по чистой случайности; отрицать это столь же нелепо, как предполагать, будто аккуратные строки на странице могли появиться оттого, что на бумагу нечаянно пролили чернила. Порядок и целесообразность мира говорят о том, что у него есть Творец; это же сказано и в Писании. Выразив такую в высшую степени нефилософскую доктрину, Бахйа переключался с калама на фалсафу, приводя разработанное ибн Синой доказательство бытия Необходимой и Простой Сущности.
Бахйа считал, что правильно Богу поклоняются лишь пророки и философы. У пророка есть прямое интуитивное знание о Боге, у философа – рациональные познания о Нем, тогда как все остальные верующие почитают лишь собственные измышления – «бога», созданного по человеческому образу и подобию. Всякий, кто не стремится на собственном опыте удостовериться в существовании и единстве Бога, – просто слепец, бредущий на поводу у других. Бахйа, как и все файласуфы, отличался интеллектуальным высокомерием, но при этом питал явную симпатию к суфиям: да, рассудок способен доказать, что Бог существует, но не в силах что-либо о Нем поведать. В трактате «О долге сердца» Бахйа, как видно уже из названия работы, отвел рассудку роль помощника, воспитывающего в человеке надлежащее отношение к Богу. В тех случаях, когда неоплатонизм расходился с его версией иудаизма, Бахйа без колебаний выбирал веру: религиозные переживания были для него много весомей рациональных методов.
Но если рассудок не в силах ничего сообщить о Боге, то какой смысл вести логические споры на богословские темы? Этот вопрос постоянно занимал исламского мыслителя Абу Хамида ал-Газали (1058–1111 гг.) – эпохальную фигуру, сыгравшую решающую роль в истории религиозной философии. Уроженец Хорасана, ал-Газали изучал калам под руководством известного ашарита ал-Джувайни. Ал-Газали оказался столь блистательным учеником, что уже в тридцатитрехлетнем возрасте был назначен главой престижного багдадского медресе Низамийа. Его задачей была защита суннитских доктрин от вызова, брошенного исмаилитами. Однако ал-Газали был по характеру слишком неугомонным: он бился над истиной с невиданным упорством, по-настоящему терзался богословскими проблемами и никогда не довольствовался простыми и удобными ответами. Сам он признавался:
…я без конца бросался в пучину этого глубокого моря, бороздил, как храбрец (а не как опасливый трус), по дну его, залезал в трясину темных вопросов, бросался навстречу любой проблеме, шел напролом сквозь любые трудности, изучал догматы каждой партии и раскрывал тайные учения каждой секты, дабы отличить правое от лживого и тех, кто придерживается сунны, от тех, кто вводит еретические новшества[312].
Ал-Газали надеялся обрести ту непоколебимую уверенность, к какой стремились философы (например, Саадиа), но чем дальше, тем острее было его разочарование. Сколько усилий ни тратил он на изыскания, полной уверенности в чем-либо по-прежнему не было. Его современники шли к Богу разными путями: в зависимости от личных склонностей и воспитания одни выбирали калам, другие – посредничество имамов, третьи – фалсафу, четвертые – суфийский мистицизм. Судя по всему, в своих попытках постичь, «каковы вещи на самом деле, сами по себе»[313], ал-Газали изучил все четыре направления ислама. Приверженцы каждой из ведущих школ притязали на безоговорочную правоту, но ал-Газали задавался вопросом, можно ли объективно обосновать такую убежденность.
Как и всякий современный скептик, ал-Газали сознавал, что уверенность в чем-либо – состояние психологическое и потому далеко не всегда объективное. Файласуфы заверяли, что извлекают те или иные познания из логических рассуждений; мистики настаивали на том, что обретают прозрения благодаря суфийской практике; исмаилиты не сомневались, что истина открывается только при посредничестве имама. Однако реальность, именуемая «Богом», не допускает эмпирической проверки. Как же проверить, не ошибочны ли наши убеждения? Традиционные доказательства не соответствовали строгим критериям ал-Газали. Богословы калама начинали с высказываний из Писания, но никакой проверке, выходящей за рамки рассудочных сомнений, эти высказывания не подвергались. Исмаилиты целиком полагались на учение о «скрытом» и недосягаемом имаме – но как, собственно, удостовериться в боговдохновенности имама? К тому же в чем смысл этой веры, если имам «скрыт»? Однако самые большие разочарования приносила мыслителю фалсафа. Изрядная доля полемической энергии Ал-Газали была направлена против ал-Фараби и ибн Сины. Исходя из того, что опровергать их взгляды вправе только хороший знаток философии, ал-Газали изучал фалсафу три года, пока не овладел ею в совершенстве (ознакомившись с трудами ал-Газали, ученые мужи Запада решили, что он сам был файласуф). В трактате «Опровержение философов» он укорял файласуфов за нередкое уклонение от главного. Фалсафа чрезвычайно полезна, пока ограничивается явлениями будничными, доступными прямому наблюдению (как, например, в медицине, астрономии или математике), но о Боге это течение ислама не сообщит ничего. Кто и как сможет неопровержимо доказать правильность доктрины эманаций? Что позволяет файласуфам с такой уверенностью утверждать, будто Бог знает только общее, универсальное, но не частное? Тот довод, что Бог якобы слишком возвышен, чтобы заниматься приземленными мелочами, едва ли можно счесть веским аргументом: с каких это пор одной из примет Совершенства стало неведение? Как бы то ни было, подобные заявления не допускают надежной проверки, и это значит, что файласуфы ведут себя иррационально, не по-философски, когда ищут знаний, пребывающих за пределами возможностей рассудка и не поддающихся проверке с помощью органов чувств.
Что же остается делать тому, кто всей душой стремится к истине? Неужели обоснованная, непоколебимая вера в Бога вообще невозможна? Мучительные размышления над этой проблемой повергли ал-Газали в уныние и вызвали душевный срыв. Отчаяние и бремя рокового вопроса были так тягостны, что мыслитель не мог ни пить, ни есть. Примерно в 1004 году он понял, что не в силах даже говорить, и тем более преподавать:
Аллах замкнул язык мой, и скованность его помешала мне даже вести занятия: в один прекрасный день, когда я старался сделать свой урок возможно более приятным для сердец тех, кто посещал мои лекции, язык мой не произнес ни единого слова, и я так и не смог выдавить его из себя[314].
Ал-Газали впал в смертную тоску. Врачи справедливо расценили ее как следствие глубокого нервного расстройства и велели избавиться от затаившейся в душе тревоги, иначе от недуга не оправиться. Сам же ал-Газали очень опасался, что не минует ада, если не воскресит в себе былую веру. С этой целью он оставил почетную должность в медресе и ушел к суфиям.
Там он действительно обрел, что искал. Не забывая до конца о важности рассудка – а мыслитель никогда не доверял сумасбродным разновидностям суфизма, – ал-Газали на личном опыте убедился, что мистические учения приносят прямое, пусть и интуитивное, ощущение того, что можно назвать «Богом». Английский исследователь Джон Боукер отмечает, что арабское слово вуджуд, «существование», происходит от корня ваджада – «нашел»[315] и, следовательно, означает буквально «то, что можно найти». Это слово было намного конкретнее понятий греческой метафизики, но в то же время давало мусульманину больше простора для толкований. Для доказательства того, что Бог существует, арабоязычному философу нет нужды производить Бога как еще один объект среди многих; достаточно просто доказать, что Его можно найти. Единственным неопровержимым свидетельством вуджуд Бога может быть (а может и не быть) только личная встреча правоверного с Ним лицом к лицу после смерти; любые рассказы пророков и мистиков, которые заверяют, что соприкасались с Богом еще здесь, на земле, требуют самого осторожного отношения. Суфии, конечно, утверждали, что на собственном опыте убедились в вуджуд Бога. У них было даже особое название (вадж) для экстатического восприятия Бога, в процессе которого они обретали полную уверенность (йакин) в том, что имеют дело с реальностью, а не с плодами воображения. Разумеется, это еще не придавало подобным рассказам объективной достоверности, но, прожив десяток лет среди суфиев, ал-Газали пришел к выводу, что религиозные переживания – единственный способ удостовериться в существовании реальности, недоступной человеческому пониманию. Суфийское знание Бога принципиально отличалось от рациональных и метафизических познаний и, несомненно, имело много общего с интуитивными прозрениями пророков минувшего. Таким образом, суфиям удалось самостоятельно найти важнейшие истины ислама, на личном опыте пережить его центральные положения.
Со временем ал-Газали разработал мистическое вероучение, вполне приемлемое для официального ислама, который, как покажет следующая глава, в ту пору относился к единоверцам-мистикам с крайней подозрительностью. Вслед за ибн Синой ал-Газали обратился к давней идее существования царства первообразов, которое таится за пределами обыденного мира, доступного органам чувств. Зримый мир (алам аш-шахада) – ухудшенная копия того, что ал-Газали называл «миром платонического разума» (алам ал-малакут). Его существование признавали все файласуфы. Об этом духовном мире говорилось в Коране и еврейско-христианской Библии. Человек пребывает в обеих сферах бытия – и в материальном мире, и в высшем мире духа, поскольку Бог запечатлел в душе человека Свой образ. В мистическом трактате «Мишкат ал-анвар» ал-Газали предлагает толкование коранической суры «Свет»[316]. В этой суре Свет соответствует и Богу, и другим сияющим объектам (светильник, звезда). Свечение присуще и человеческому рассудку: он не только позволяет нам воспринимать другие объекты, но, подобно Самому Богу, может возвышаться над пространством и временем. Таким образом, разум сопричастен той же реальности, что и духовный мир. Чтобы еще яснее показать, что под «разумом» тут понимаются не просто рассудочные, аналитические способности, ал-Газали напоминает читателям, что его пояснения не следует воспринимать слишком буквально – рассуждать на подобные темы можно лишь образным языком, орудием творческого воображения.
Некоторые люди обладают, помимо разума, еще более возвышенной способностью, которую ал-Газали назвал «пророческим духом». Тем, кто лишен такого дара, не следует отрицать его существование лишь на том основании, что он им неведом. Столь же нелепо выглядел бы человек без музыкального слуха, утверждающий, будто музыка – просто вымысел. Каждый человек способен узнать что-то о Боге силами рассудка и воображения, но высшие знания доступны лишь пророкам и мистикам, которым Бог даровал особый талант. Это звучит несколько высокомерно, но и в других традициях мистики утверждали, что интуиция и восприимчивость, которых требует, например, дзэн-буддийская медитация, – особый дар сродни поэтическому; такая мистическая одаренность есть далеко не у каждого. Ал-Газали определил мистические переживания как сознание того, что на самом деле существует, обладает бытием только Творец. Это повлекло за собой идею исчезновения «я», его растворения в Боге. Мистики способны возноситься над миром-копией, который простых смертных вполне устраивает. Мистики
…видят, что нет на свете иного Бытия, кроме Бога, и что «все гибнет, кроме Его лика»[317] […] Поистине, всё, кроме Него, – просто небытие, и бытие, которое всё получает от Перворазума [по платоновской схеме], есть бытие не само по себе, но лишь в соотнесении с ликом его Создателя, и потому Лик Божий – единственное, что истинно существует[318].
Бог – не внешнее, объективированное Бытие, необходимость которого можно обосновать рационально. Он – всеохватная реальность и высшее бытие, которое нельзя воспринять так, как мы воспринимаем все прочее, что от этой реальности зависит и сопричастно ее необходимому наличию. Для этого нам следует культивировать в себе особое зрение.
Впоследствии ал-Газали вернулся к преподавательской деятельности в Багдаде, но до конца жизни так и остался убежденным, что существование Бога невозможно обосновать рационально, путем логических построений. В автобиографическом трактате «ал-Мункиз мин ад-далал» («Избавляющий от заблуждения») он страстно доказывал, что ни фалсафа, ни калам не могут удовлетворить того, кому угрожает утрата веры.
Ал-Газали сам побывал на грани такой утраты (сафсафа), когда понял, что построить доказательство существования Бога, не вызывающее сомнений, просто невозможно. Реальность, которую мы именуем «Богом», пребывает за рамками чувственного восприятия и логического мышления, а это означает, что как наука, так и метафизика не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть вуджуд Аллаха. Для простых мусульман, не наделенных особым – мистическим или пророческим – даром, ал-Газали разработал методику, направленную на воспитание в себе сознания реальности Бога в мелочах повседневной жизни. Этот мыслитель оставил в исламском мире неизгладимый след. После него мусульмане уже никогда не высказывали поверхностного суждения, будто в Своем бытии Бог подобен всему прочему и, значит, Его существование можно доказать научно либо философски. С тех пор исламская философия стала неотделимой от духовного и мистического восприятия Бога.
Это наложило свой отпечаток и на иудаизм. Живший в Испании философ Иосиф ибн Саддик (ум. в 1143 г.) опирался на разработанное ибн Синой доказательство существования Бога, но предусмотрительно отмечал, что Бог – не просто «сущее», то есть не одно из явлений, которые «существуют» в привычном смысле слова. Любые наши притязания на понимание Бога предполагали бы, что Он конечен и несовершенен. Самое точное суждение о Боге, какое мы только способны составить, заключается в том, что Он непостижим, поскольку превосходит естественные интеллектуальные способности человека. Утвердительными высказываниями можно описывать лишь деятельность Бога в окружающем мире, но не Его извечно ускользающую сущность (алдхат).
Толедский врач Иегуда Галеви (1085–1141 гг.) точно следовал идеям ал-Газали: существование Бога нельзя доказать рациональным путем, но это не означает, что вера в Него неразумна, – просто логическое доказательство Его бытия не имеет никакого значения для религии. Оно бесполезно, поскольку нет способа окончательно постичь, как далекий и безличный Бог смог создать столь несовершенный материальный мир и связывают ли Его с этим миром какие-либо отношения. Философы просто обманывают себя, когда заявляют, будто упражнение рассудка помогло им слиться с проницающей весь космос Божественной Разумностью. Непосредственное знание Бога даровано только пророкам и не имеет никакого отношения к фалсафе.
Галеви был не столь силен в философии, как ал-Газали, но тоже не сомневался, что единственным надежным источником знаний о Боге являются религиозные переживания. Как и ал-Газали, он постулировал существование особого духовного таланта, хотя считал его исключительной привилегией иудеев. Пытаясь смягчить это резкое суждение, Галеви полагал, что гойим тоже могут прийти к знанию Бога – через знание законов природы. Тем не менее главной задачей его объемистого философского сочинения «Кузари» стало обоснование уникального положения Израиля среди остальных народов. Как и раввины-талмудисты, Галеви верил, что любой иудей может обрести пророческий дар, если будет тщательно соблюдать мицвот. Однако Бог, которого он найдет, – не объективный факт, поддающийся научному обоснованию, а исключительно субъективное переживание. Бога можно даже считать неким продолжением «естественного я» иудея:
Божественное действие избирает тех, кто, как пророки и праведники, достоин его; так же как разум избирает тех, в ком естественные свойства развились, а душа и нравственность достигли совершенства и гармонии, как у философов. Так же и душа поселяется в том, в ком естественные силы достигли совершенства, необходимого для более высокой ступени, – только тогда она вступает в тело и оживляет его, а природа ожидает нужного сочетания свойств, чтобы образовалось, к примеру, растение[319].
Бог – вовсе не чуждая реальность, вторгающаяся извне, а иудей – не самостоятельное существо, отгороженное от Божественного. В Боге можно видеть совершенство человеческого, полное осуществление нашего потенциала. Более того, «Бог», с которым человек соприкасается, уникален, то есть для каждого свой (эту идею мы подробнее обсудим в следующей главе). Галеви тщательнейшим образом разграничивает «Бога», доступного восприятию иудеев, и сущность Самого Бога. Когда пророки и праведники заявляют, что видели «Бога», они познают не Его Самого, какой Он пребывает в Себе, но лишь следы Божественной деятельности – иными словами, некий отблеск, который оставляет после себя высшая и недосягаемая реальность.
Фалсафа, впрочем, уцелела даже после полемических ударов ал-Газали: философ ибн Рушд, живший в Кордове, предпринял попытку возродить ее и доказать, что это все-таки высочайшая форма религиозности. Абул-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд (1126–1198 гг.), которого в Европе называли Аверроэсом, стал на Западе видным авторитетом среди иудаистов и христиан. В XIII в. его труды перевели на латинский и еврейский языки, а комментарии ибн Рушда к работам Аристотеля оказали огромное влияние на таких выдающихся богословов, как Маймонид, Фома Аквинский и Альберт Великий. В XIX столетии Эрнест Ренан назовет Аверроэса вольным духом и великим воином рационализма против слепой веры. В исламском мире ибн Рушд остался, однако, фигурой не самой заметной. Его жизнь и посмертная слава отражает неуклонное расхождение Востока и Запада в вопросах постижения Божества и в самих понятиях о Боге. Ибн Рушд страстно осуждал пренебрежительное отношение ал-Газали к фалсафе и чрезмерную откровенность, с какой тот обсуждал эзотерические вопросы. В отличие от своих предшественников ал-Фараби и ибн Сины, ибн Рушд был не только философом, но и кади (судья, выносящий решения по закону шариата). Улемы всегда относились к фалсафе и ее совершенно особому «Богу» с подозрительностью, но ибн Рушду удалось соединить воззрения Аристотеля с традиционным исламским благочестием.
Мыслитель был убежден, что между верой и рационализмом нет никаких разногласий: они по-своему выражают одну и ту же истину, стремятся найти одного Бога. Однако далеко не каждый имеет способности к философии, и потому фалсафа предназначена только для интеллектуальной элиты. Простых людей она лишь собьет с толку, посеет многочисленные заблуждения, грозящие утратой вечного спасения. Поэтому очень важно, чтобы традиция фалсафы оставалась эзотерической: глубокие истины нельзя доверять тем, кто еще не готов их постичь. То же относится к суфизму и изысканиям исмаилитов-батини: если этими духовными практиками займется человек неподготовленный, они могут повлечь недуги и разнообразные психические расстройства. Не менее опасен и калам, ибо он пренебрегает настоящей фалсафой и потому может внушить людям ложную уверенность в логической силе их рассуждений, до которой на самом деле далеко. Иными словами, калам лишь разжигает бесплодные доктринальные споры, которые вселяют тревогу в души невежественного люда и подрывают его веру.
Ибн Рушд считал, что первостепенную важность для вечного спасения имеет приятие определенных истин. Эта идея для исламского мира была совершенно новой. Правильно толковать Священное Писание способны только файласуфы; они и должны быть главными авторитетами в вопросах доктрины, так как именно философов Коран называет «теми, чьи знания глубоки»[320]. Лишь файласуфы вправе вдаваться в символические толкования, всем остальным надлежит читать и понимать Писание буквально. Впрочем, даже файласуфы обязаны принимать без рассуждений обязательные доктрины «вероучения», к которым ибн Рушд относил:
1. Существование Бога – Творца и Опоры мироздания.
2. Единственность Бога.
3. Божественные атрибуты – знание, силу, волю, слух, зрение и речь, неоднократно упоминаемые в Коране.
4. Особенность и несравненность Бога, явно утверждаемые в Коране: «И ничего, подобного Ему, не существует»[321].
5. Сотворение мира Богом.
6. Правдивость пророчеств.
7. Справедливость Бога.
8. Телесное воскрешение мертвых в Судный день[322].
Эти доктрины о Боге должны приниматься полностью и безоговорочно, поскольку Коран утверждает их совершенно однозначно. Фалсафа, например, далеко не всегда принимает на веру сотворение мира и потому не дает четкого ответа на вопрос о том, как следует понимать подобные коранические положения. Коран ясно говорит, что мир был создан Богом, но не объясняет, как именно это происходило; ничего не сказано и о том, была ли вселенная сотворена в определенный момент времени, что дает файласуфам право становиться в этих вопросах на точку зрения рационалистов. Еще один пример: в Коране утверждается, что Бог обладает таким атрибутом, как Знание, но у нас нет единодушия в понимании этого свойства, поскольку привычная нам концепция знания остается сугубо человеческой и, следовательно, неадекватной. Другими словами, когда Коран утверждает, что Бог знает все наши дела, это еще не значит, что философы заблуждаются.
Мистицизм занимал в исламском мире настолько важное место, что представления ибн Рушда, опиравшегося исключительно на рациональное богословие, почти не повлияли на мусульман. В исламе ибн Рушд остался фигурой уважаемой, но второстепенной, чего не скажешь о Западе, где его работы имели поистине эпохальные последствия. Благодаря ибн Рушду европейские теологи открыли для себя Аристотеля и разработали более рационалистические представления о Боге. Христиане Запада практически ничего не знали об исламской культуре и развитии философской мысли мусульман после ибн Рушда. По этой причине в Европе нередко полагают, будто смерть ибн Рушда ознаменовала собой конец исламской философии. На самом же деле еще при его жизни в Ираке и Иране начали трудиться два выдающихся мыслителя, оставивших неизгладимый след в исламском мире, – Йахйа Сухраварди и Мухйи ад-дин ибн ал-Араби, которые были, впрочем, последователями ибн Сины, а не ибн Рушда и пытались соединить философию с мистической духовностью. Мы еще будем обсуждать их труды в следующей главе.
В иудаизме крупнейшим учеником ибн Рушда стал видный талмудист и философ раввин Моисей бен Маймон (1135–1204 гг.), более известный как Маймонид. Он родился в Кордове, столице исламской Испании, где в то время крепло убеждение, что для более глубокого понимания Бога необходима соответствующая философия. Впоследствии Маймониду пришлось покинуть Испанию, чтобы не пасть жертвой берберской секты фанатиков из Северной Африки, где в эпоху династии Алморавидов евреи подвергались гонениям. Однако болезненное столкновение со средневековым фундаментализмом не пробудило у Маймонида враждебности к исламу. Его родители обосновались в Египте, где бен Маймон получил высокий пост в правительстве и даже стал личным врачом султана. Там же, в Египте, он написал свой знаменитый трактат «Наставник колеблющихся», в котором доказывал, что иудейская вера представляет собой вовсе не разрозненный набор доктрин и опирается на вполне рациональные принципы. Маймонид, как и ибн Рушд, считал фалсафу самой развитой формой религиозного знания и «царским» путем к Богу, который нельзя открывать широким массам и следует хранить в элитном круге философов. Однако, в отличие от ибн Рушда, бен Маймон не верил, что простой люд можно научить толковать Писание символически – иными словами, избавить «простецов» от антропоморфных представлений о Боге. Наконец, Маймонид тоже полагал, что для спасения необходимо признавать определенные доктрины. Примечательно, что составленный им перечень, содержащий тринадцать бесспорных положений, очень похож на список ибн Рушда:
1. Существование Бога.
2. Единственность Бога.
3. Нематериальность Бога.
4. Вечность Бога.
5. Недопустимость идолопоклонства.
6. Правдивость пророчеств.
7. Выдающееся место Моисея среди пророков.
8. Божественное происхождение истины.
9. Вечная правота Торы.
10. Всеведение Бога в отношении дел человеческих.
11. Справедливость Божьего суда над людьми.
12. Грядущее пришествие Мессии.
13. Воскрешение мертвых[323].
Для иудаизма это были новаторские идеи, и полного признания они так и не получили. Концепция ортодоксии (как противоположности ортопраксии) была не менее чужда иудейскому религиозному опыту, чем мусульманскому. Принципы веры ибн Рушда и Маймонида подтвердили, что рационалистский и интеллектуалистский подход к религии ведет к догматизму и отождествлению «веры» с «правильными воззрениями».
Тем не менее Маймонид был достаточно осторожен и отмечал, что сущность Бога непостижима, человеческому уму недоступна. Существование Бога он доказывал аргументами Аристотеля и ибн Сины, но в то же время неоднократно повторял, что Бог неизъясним и неописуем, ибо являет собой абсолютную простоту. Не случайно пророки прибегали к притчам и постоянно напоминали нам, что образный, иносказательный язык представляет собой единственный способ осмысленно говорить о Боге. Известно, что Бога невозможно сравнить ни с чем на свете, и потому, пытаясь описать Его, лучше пользоваться отрицательными высказываниями: вместо «Он существует» правильнее опровергать Его небытие и так далее. Как и в случае исмаилитов, применение отрицающих суждений усиливает ощущение возвышенности Бога и в очередной раз напоминает, что эта Реальность совсем не такая, какой мыслит ее жалкий человеческий ум. Мы не вправе сказать даже, будто Бог «благ», так как Он неизмеримо выше всего, что люди понимают под «благом». Мы не должны приписывать Богу наше несовершенство и переносить на Него чисто человеческие желания и чаяния. Однако с помощью via negativa мы можем строить некоторые утвердительные высказывания о Боге. Так, из суждения о том, что Бог «не бессилен» (а не просто всемогущ), логически следует, что Он способен действовать. Отрицание «несовершенства» Бога неизбежно влечет умозаключение о том, что все Его деяния совершенны. Слова о том, что Бог «не несведущ» (то есть мудр), подразумевают, что Его познания совершенны и всеобъемлющи. Подобные выводы могут, впрочем, касаться лишь деятельности Бога, но не Его сущности, которая остается за пределами нашего ума.
Когда приходилось делать выбор между библейским Богом и Богом философов, Маймонид неизменно отдавал предпочтение первому. Даже при том, что учение о сотворении мира ex nihilo не было общепринятым в философии, бен Маймон твердо держался традиционной библейской версии и высмеивал философскую теорию эманаций. Он отмечал, что ни та, ни другая доктрина не может быть окончательно доказана чистым рассуждением. Пророчества для него тоже были выше философии: и провидцы, и мыслители говорят об одном Боге, однако пророк, помимо интеллектуальной одаренности, должен обладать еще и развитым воображением. У него есть прямое интуитивное знание Бога, которое превосходит любые сведения, полученные умозрительным путем. Очевидно, что Маймонид и сам отчасти был мистиком. Он повествует, например, о трепетном восторге, сопровождающем интуитивное восприятие Божественного, – о чувстве, «возникающем из совершенства сил богатого воображения»[324]. Невзирая на подчеркнутое внимание к рационализму, бен Маймон придерживался того мнения, что высшие прозрения дарует не столько чистый разум, сколько воображение.
Идеи Маймонида широко распространились среди евреев Испании и Южной Франции, и к началу XIV века в этом регионе в самом разгаре была своеобразная «эпоха Просвещения» иудаистской философии. Кое-кто из иудейских файласуфов высказывал более рационалистические взгляды, чем бен Маймон. Так, например, Леви бен Гершом (1288–1344 гг.) из Баньоля на юге Франции не соглашался с тем, что Богу ведомы дела мирские; его Бог был философским, а не библейским. Реакция не заставила себя ждать. Как мы вскоре узнаем, одни евреи обратились к мистицизму и разработали эзотерическое учение каббалы, Другие, когда грянули невзгоды, вообще отстранились от философии – далекий бог фалсафы не приносил им утешения. В XIII–XIV вв. Реконкиста начала вытеснять ислам из Испании и принесла на полуостров общеевропейскую неприязнь к евреям; со временем антисемитизм привел к разрушению их испанской общины. В XVI столетии иудеи окончательно отвернулись от фалсафы и пришли к совершенно новым представлениям о Боге, образовавшимся под влиянием скорее мифологии, чем научной логики.
Религиозные войны западного христианства отделили его от других традиций единобожия. Первый крестовый поход (1096–1099 гг.) стал в то же время и первой общей кампанией обновленного Запада – приметой того, что Европа начала приходить в себя после долгого периода варварства, «темных веков». Опираясь на поддержку христианских народов Северной Европы, новый Рим решительно прокладывал себе путь к былому могуществу. Однако христианство англов, саксов и франков все еще пребывало в зачаточном состоянии: этим жестоким и воинственным народам нужна была агрессивная религия. В XI в. монахи Клюнийского аббатства и других монастырей бенедиктинского ордена попытались усмирить воинственные настроения Церкви и привить ей подлинно христианские ценности посредством испытанной формы поклонения – паломничества. Первые крестоносцы имели довольно путаные представления о Боге и религии, но тем не менее считали свой поход на Ближний Восток паломничеством на Святую Землю. Святые воители – Георгий, Меркурий и Димитрий – значили для их веры куда больше, чем сам Бог, и на деле мало отличались от языческих божеств. Иисус для крестоносцев был скорее феодальным властителем, нежели Вочеловечившимся Логосом: Он словно призывал воителей своих отобрать у неверных Его вотчину – Святую Землю. Уже в самом начале похода кое-кто из рыцарей решил отомстить за казнь Христа и сровнять с землей еврейские общины в долине Рейна. Это не входило в первоначальные замыслы папы Урбана II, созвавшего крестовый поход, но многим крестоносцам казалось совершенно нелепым тащиться за тридевять земель, чтобы биться там невесть с кем (о мусульманах тогда практически ничего не знали), когда прямо тут, едва ли не у родного порога, жили не тужили именно те, кто – так, во всяком случае, считали рыцари – погубил Христа. За время долгого и мучительного похода к Иерусалиму крестоносцам не раз удавалось каким-то чудом избежать полного истребления, и этому нашлось единственное объяснение: они решили, что действительно стали «народом избранным», которому покровительствует Сам Бог. Сам Бог теперь вел их к Святой Земле, как некогда древних израильтян. В сущности, этот Бог все еще оставался примитивным узкоплеменным божком, во многом похожим на бога первых книг Библии. Летом 1099 года, взяв наконец Иерусалим, крестоносцы набросились на жителей города с жестокостью, достойной Иисуса Навина; беспощадность этого зверского избиения смутила и потрясла даже соплеменников рыцарей.
С той поры европейские христиане стали считать иудеев и мусульман врагами Бога. Долгое время в Европе питали глубокую неприязнь и к греко-православной Византии, по сравнению с которой Запад не мог не чувствовать себя диким и ущербным[325]. Враждебное отношение к Востоку разделяли, впрочем, далеко не все. В IX в. многие образованные христиане Запада черпали вдохновение именно в греческом богословии. Так, кельтский философ Иоанн Скотт Эриугена (810–877 гг.), покинувший родную Ирландию ради места при дворе короля западных франков Карла Лысого, на благо христиан перевел на латынь целый ряд сочинений греческих отцов Церкви, в том числе Дионисия Ареопагита. Эриугена страстно верил, что религия и рассудок не исключают друг друга. Для него, как и для исламских и иудейских файласуфов, философия была царским путем к Богу. Учителями тех, кто жаждал рационального объяснения христианской веры, стали Платон и Аристотель. Священное Писание и Предание вполне можно постигать путем логики и рациональных построений, хотя это не означает, что буквальное толкование пригодно всюду. В Библии есть эпизоды, которые следует воспринимать образно, поскольку, как говорил Эриугена в своем «Изъяснении «Небесной иерархии» св. Дионисия», богословие «сродни поэзии»[326].
Эриугена опирался на диалектический метод Ареопагита и в собственных рассуждениях о Боге, поскольку считал, что о Нем можно говорить только парадоксами, напоминающими об ограниченности человеческого ума. И утвердительные, и отрицательные высказывания о Нем по-своему правильны. Бог непостижим – даже ангелам не дано знать Его сущность и природу. Тем не менее вполне допустимо строить о Нем такие утвердительные суждения, как, например, «Бог мудр»: соотнося эти слова с тем, каким Он нам известен, мы используем само понятие «мудрость» не в привычном значении. Об этом, однако, следует напоминать себе с помощью последующего отрицающего высказывания: «Бог не мудр». Этот парадокс вынуждает нас перейти к третьей форме суждений о Боге, предложенной Дионисием: «Бог более чем мудр». Именно такую формулировку греки называли апофатической, поскольку человек вообще не в силах представить, что могло бы означать выражение «более чем мудр». И это не просто игра словами, а последовательная методика: совмещение двух взаимоисключающих высказываний воспитывает в душе ощущение тайны, которая и кроется в понятии «Бог». В рамки чисто человеческих понятий Его не втиснуть никогда.
Применяя этот подход к утверждению «Бог существует», Эриугена, как и следовало ожидать, пришел к выводу: «Бог более чем бытие». Бог существует не так, как сотворенные Им вещи; Он – не просто еще одно сущее среди многих других (о том же говорил и Ареопагит). И, опять-таки, это утверждение остается непостижимым, потому что, как отмечает сам Эриугена, «того, что более чем «бытие», оно не раскрывает, ибо гласит, что Бог – не одна из тех вещей, которые есть, но более тех вещей, которые есть, однако оно никак не определяет, что значит это «есть»;[327]. Фактически Бог – «Ничто».
Эриугена понимал, как шокирующе это звучит, и просил своих читателей не ужасаться. Его метод был призван напоминать, что Бог – вообще «не что-то» и не обладает «бытием» в каком-либо смысле, доступном нашему пониманию. Бог – «Тот, Кто более чем бытие»[328] (aliquo modo superesse). Его бытие столь же отличается от нашего, как наша жизнь – от звериной, а звериная – от жизни камня. Но если Бог – «Ничто», то Он также и «Всё»: так как это «сверхсуществование» означает, что только Бог обладает истинным Бытием, Он есть сущность всего, что этому Бытию сопричастно. Таким образом, любое Его творение – богооткровение, знак Божьего присутствия. Особое внимание Эриугены к имманентности Бога объясняется кельтским благочестием, которое исчерпывающе запечатлено в знаменитой молитве святого Патрика: «Да пребудет Господь в мыслях моих и разумении моем». Самым же совершенным из богоявлений является у Эриугены человек, который в неоплатонической схеме был вершиной всего сотворенного. Подобно блаженному Августину, Эриугена утверждал, что Троицу можно разглядеть и в собственной душе, пусть как бы сквозь мутное стекло.
В «парадоксальном богословии» Эриугены Бог – одновременно Всё и Ничто: уравновешивая друг друга, эти категории пребывают в созидательном противодействии, указующем на ту загадку, которую наше понятие «Бог» отражает лишь символически. Когда ученик спросил, что имеет в виду Дионисий, называя Бога «Ничем», Эриугена ответил, что Божественная Благость непостижима в силу своей «сверхсущности» (иными словами, это более чем Благость) и «сверхъестественности».
…Когда созерцается Оно само в себе, Оно ни есть, ни было, ни будет, ибо не допускает разумения как одна из сущих вещей, поскольку всего превыше; но когда Оно видимо оку разума после Его неизъяснимого нисхождения в те вещи, которые существуют, то открывается, что во всех вещах есть только Оно одно – и тогда Оно и есть, и было, и будет[329].
Итак, если рассматривать Божественную Реальность в Себе, «нет ничего неразумного в том, чтобы именовать ее Ничем», но когда эта божественная Пустота решает перейти «из Ничто в Нечто», любая тварь, которую Она наполняет, «может именоваться теофанией, то есть зримым откровением Божества»[330]. Таким, какой Он в Себе, нам Бога не увидеть, ибо Бог этот ни в каком привычном смысле не существует. Мы способны видеть лишь того Бога, который наполняет жизнью весь сотворенный мир, открывая Себя в цветах, птицах, деревьях и людях. Но при таком подходе возникают свои проблемы. Что можно сказать, например, про зло? Считать ли его, подобно индуистам, еще одним проявлением Бога в нашем мире? Этот вопрос оказался почти полностью вне внимания Эриугены, но попытку найти злу место в Боге предприняла позднее еврейская каббала: в ее теологии Бог тоже переходил из Ничего в Нечто – налицо разительное сходство с построениями Эриугены, хотя едва ли кто-то из каббалистов был знаком с его трудами.
Эриугена показал своим примером, что Европе есть чему поучиться у Византии; но в 1054 г. Западная и Восточная Церкви порвали отношения, и несогласие между ними длится по сей день – хотя в те времена никто не мог предположить таких последствий. У противостояния были свои политические предпосылки, но углубляться в них сейчас неуместно; главным же «яблоком раздора» в богословии стал диспут о Троице. В 796 г. собравшийся во Фрежюсе (юг Франции) синод западных епископов дополнил Никейский символ веры одной оговоркой, где утверждалось, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына (filioque). Епископам хотелось подчеркнуть равенство Отца и Сына, поскольку многие прихожане переходили к арианским воззрениям. Как тогда казалось, добавленная поправка просто уравнивала Отца и Сына по статусу. Карл Великий, которому предстояло вскоре стать императором всей Западной Европы, одобрил уточнение, хотя в богословии не смыслил ровным счетом ничего. Греки поправку не приняли, но Западная Церковь держалась твердо и настаивала на том, что так учили ее святые отцы. Блаженный Августин видел в Святом Духе принцип единства Троицы и говорил, что Дух – это связующая Отца и Сына любовь. Таким образом, у Церкви есть полное право утверждать, что Дух Святой изошел от Них Обоих, а новое уточнение просто призвано подчеркнуть полное единство всех трех Лиц.
Однако греки всегда относились к августиновской тринитарной теологии с недоверием: она слишком очеловечивала Бога. На Западе начинали обычно с концепции единства Бога и лишь потом переходили к выделению в этом единстве трех Лиц. Греки, напротив, начинали именно с трех ипостасей, а затем утверждали, что Божественное единство – естество Бога – выше нашего понимания. По их мнению, Западная Церковь сделала идею Троицы слишком понятной. Кроме того, греки подозревали, что в латинском языке просто нет средств, позволяющих выразить восточную идею триипостасности с надлежащей точностью. Поправка о статусе Сына (filioque) излишне акцентировала единство трех Лиц. Как утверждали греки, новая формулировка чрезмерно рационализирует Троицу – вместо того чтобы указывать на непостижимость естества Бога. В обновленном варианте Символа веры Бог становился единым в трех аспектах, или модусах бытия. Вообще говоря, в уточнении западных епископов не было ничего еретического, пусть оно и не устраивало греческую апофатическую духовность. Будь политическая ситуация иной, конфликт, вероятно, удалось бы мирно уладить, но в эпоху крестоносцев напряженность между Востоком и Западом заметно усилилась – особенно после Четвертого похода (1204 г.), когда рыцари нанесли империи греков смертельный удар, разграбив Константинополь, столицу Византии. Разногласие в вопросе о filioque со всей очевидностью показало, что Восточная и Западная Церкви разрабатывают весьма несхожие представления о Боге. В западной духовности Троица никогда не занимала того центрального места, какое отводили ей греки. Восточные христиане полагали, что, подчеркивая единство Бога именно таким образом, Запад отождествляет Самого Бога с «простой сущностью», которой, как и Богу философов, можно давать определения и о которой можно рассуждать[331]. В последующих главах речь пойдет о том, почему доктрина Троицы нередко смущала западных христиан, а к XVIII веку, в эпоху Просвещения, многие от нее вовсе отказались. Во многих отношениях христиане Запада вообще не исповедуют Триипостасность. Они сетуют на полную невразумительность доктрины Трех Лиц в Едином Боге, даже не подозревая, что для греков именно в ней и заключался главный смысл христианской веры!
После раскола пути Церквей окончательно разошлись. В греко-православии theologia осталась именно тем, что предполагает буквальное значение понятия «богословие», и ограничилась созерцанием Бога в мистических по сути своей доктринах Троицы и Вочеловечения. «Теологию благодати» или «теологию святого семейства» восточные христиане воспринимали как противоречие уже на понятийном уровне; их вообще мало занимали богословские споры и точные определения второстепенных деталей. На Западе, однако, все больше интересовались именно этими проблемами и стремились составить обязательное для всех «правильное» мнение. Эпоха Реформации, в частности, расколола западный христианский мир на новые противоборствующие лагеря: католики и протестанты никак не могли добиться согласия в толкованиях того, как именно происходит спасение и что, собственно, представляет собой евхаристия. Западные христиане то и дело предлагали восточным высказать свое мнение по этим спорным вопросам, но греки обычно отмалчивались, а если и откликались, то их ответы нередко казались Западу нелепыми. Восточные христиане издавна не доверяли рационализму, считая его совершенно неподходящим средством для рассуждений о Боге, который ускользает от любых концепций и логических выводов. В ученых изысканиях метафизика была еще приемлема, но греки все чаще видели в ней угрозу для веры. Метафизика привлекала суетную, говорливую сторону ума, тогда как теория представляла собой не рассудочные мнения, а истинное безмолвие перед лицом Бога, открывающегося только в религиозных и мистических переживаниях. В 1082 г. философа и гуманиста Иоанна Итала судили за ересь, обвинив в чрезмерной склонности к философии, которую выдавали его неоплатонические представления о сотворении мира. Этот знаменательный разрыв с философией произошел незадолго до того, как ал-Газали перенес в Багдаде душевный срыв, отрекся от калама и стал суфием.
Горькая ирония судьбы, таким образом, заключается в том, что западные христиане обратились к фалсафе лишь тогда, когда греки и мусульмане начали терять к ней интерес. Отставание Европы было неизбежным, поскольку в эпоху «темных веков» работ Платона и Аристотеля в латинских переводах не существовало. Ознакомление с философией вызвало у Западной Церкви прилив восторга и новых идей. Богослов Ансельм Кентерберийский (XI в.), чье мнение о Вочеловечении мы обсуждали в четвертой главе, вообще полагал, судя по всему, что логикой можно доказать все на свете. Его Бог был не Пустотой, а высшим Бытием среди сущего. Теоретически даже у неверующего вполне может сложиться мнение о Высшей Сущности, представляющей собой «одну природу, высшую (в отношении) всего существующего, единственную, достаточную для себя самой в своем вечном блаженстве»[332]. В то же время Ансельм утверждал, что Бог постигается только верой – и это не так парадоксально, как может показаться на первый взгляд. Размышляя над словами Исайи «Не постигнете, пока не уверуете», Ансельм писал:
…Желаю сколько-то уразуметь истину Твою, в которую верует и которую любит сердце мое. Ибо я не разуметь ищу, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь [credo ut intellegam].
Верую ведь и в то, что «если не уверую, не уразумею»![333]
Это ставшее знаменитым credo ut intellegam – вовсе не отречение от разума. Ансельм не призывал принимать веру слепо и надеяться на то, что когда-нибудь она обретет смысл. Скорее, его слова следует понимать так: «Вверяю себя Господу, чтобы постичь Его». В ту эпоху слово credo еще не воспринималось как нынешняя «вера» с уклоном в интеллектуальный аспект и означало просто доверие, преданность кому-то. Важно отметить, что даже во время первого всплеска рационализма на Западе религиозное переживание было важнее, чем любые рассуждения или логическое восприятие.
Тем не менее, подобно исламским и иудейским файласуфам, Ансельм был убежден, что существование Бога можно обосновать рационально. Он построил собственное доказательство, которое часто называют «онтологическим». Ансельм определил Бога как «нечто, выше чего невозможно ничего помыслить» (aliquid quo nihil maius cogitari possit)[334]. Из этого следовало, что Бог может стать объектом мышления, то есть человеческий ум способен Его воспринимать и понимать. Ансельм доказывал, что такое «Нечто» непременно должно существовать. Поскольку бытие «совершеннее», полнее небытия, то воображаемое нами Совершенное Бытие не может не существовать – иначе оно оказывается несовершенным. В той части мира, где господствовали платоновские воззрения, а идеи, как считалось, представляли собой вечные архетипы, доказательство Ансельма восприняли как остроумное и неопровержимое, но современного скептика оно едва ли убедит. Как заметил английский богослов Джон Мак-Карри, мы имеем полное право воображать, будто у нас есть сто долларов, но от этого деньги в кармане, к сожалению, не появятся[335].
Итак, бог Ансельма был Бытием – в отличие от «Ничто» Ареопагита и Эриугены. Ансельм хотел говорить о Боге, опираясь на больший набор утвердительных высказываний, чем предшествовавшие ему файласуфы. Ансельм не выдвигал идеи via negativa и, судя по всему, полагал, что к достаточно адекватной концепции Бога можно прийти силой одного лишь естественного разума – между прочим, именно эти притязания западного богословия всегда тревожили греков. Построив удовлетворившее его доказательство существования Бога, Ансельм решил обосновать доктрины Вочеловечения и Троицы, которые, по упорному убеждению греков, ни осмыслению, ни концептуальному определению не подлежат. В сочинении «Почему Бог стал Человеком» (о нем уже шла речь в главе 4) он полагается на логику и рациональные суждения больше, чем на авторитет Писания. Цитаты из Библии и святоотеческой литературы Ансельм использует фрагментарно, лишь для усиления своих аргументов, которые, как мы убедились ранее, приписывают Богу главным образом чисто человеческие побуждения. Впрочем, Ансельм Кентерберийский был далеко не единственным западным богословом, пытавшимся выразить загадку Божества рациональными категориями. Его современник Пьер Абеляр (1079–1147 гг.), харизматичный парижский философ, тоже разработал объяснение Троицы, в котором подчеркивалось Божественное Единство – разумеется, за счет различий между тремя Лицами. Кроме того, Абеляр построил изощренное и трогательное рациональное толкование тайны искупления грехов: по его мнению, Христос пошел на казнь ради того, чтобы пробудить в нас сострадание, – и таким образом стал нашим Спасителем.
Однако Абеляр оставался прежде всего философом, а богословие его было, в общем, вполне традиционным. Он стал одной из ведущих фигур в период интеллектуального возрождения Европы (XII в.), у него появилось множество последователей. Это привело к его столкновению с Бернаром – не менее харизматичным настоятелем монастыря цистерцианцев в Клерво (Бургундия). Бернар Клервоский был в то время едва ли не самым влиятельным человеком во всей Европе: он «держал в кулаке» и папу Евгения II, и французского короля Людовика VII. Силой своего красноречия Бернар поднял в Европе целую монашескую революцию: молодые люди толпами уходили из отчих домов и вступали в Цистерцианский орден, поставивший целью реформу устаревшего клюнийского уклада религиозной жизни бенедиктинцев. В 1146 г., когда Бернар призвал в своих проповедях ко Второму крестовому походу, простой люд Франции и Германии, который прежде относился к намечаемому паломничеству с прохладцей, от избытка чувств едва не растерзал аббата, а затем хлынул в отряды воинства Христова в таких невообразимых количествах, что, как сетовал в своем письме к Папе Римскому сам Бернар, крестьянские селения почти опустели. Бернар был человеком выдающегося ума и дополнил довольно поверхностную западноевропейскую набожность новым внутренним измерением. Судя по всему, цистерцианское благочестие оказало значительное влияние на легенду о Святом Граале, повествующую о духовном путешествии в символический город «не от мира сего» – воплощение Града Божьего. Однако Бернар совершенно не доверял интеллектуализму таких ученых, как Абеляр, и дал обет заставить последнего замолчать. Как гласило выдвинутое Бернаром обвинение, «Петр Абеляр, пытаясь уничтожить заслугу христианской веры, полагает возможным при помощи человеческого разума постигнуть все то, что есть Бог»[336]. Ссылаясь на воспетую святым Павлом любовь к ближнему, Бернар заявлял, что философ не умеет любить по-христиански: «Он ничего не рассматривает как бы в зерцале и как загадочное; но взирает на все лицом к лицу»[337]. Любовь и упражнение рассудка Бернар считал несовместимыми. В 1141 году он выставил Абеляра перед собором епископов, где собрались главным образом приверженцы Бернара. Кое-кто из них поджидал философа снаружи, чтобы запугать еще у входа в здание (сделать это, впрочем, было нетрудно, поскольку к тому времени у Абеляра уже развивалась, по-видимому, болезнь Паркинсона). Бернар обрушил на своего противника такой поток красноречия, что бедный Абеляр просто рухнул без чувств; после этого потрясения он не прожил и года.
Это событие символически ознаменовало разрыв между сердцем и разумом, которые в тринитаризме Августина были нераздельны. Мусульманские файласуфы – в частности, ибн Сина и ал-Газали – тоже пришли к выводу, что одним лишь рассудком Бога не найти, и все же не оставляли мечту о философии, которая была бы пронизана идеалами любви и совместима с мистическими учениями. Мы еще убедимся, что на протяжении XII–XIII вв. крупнейшие мыслители исламского мира пытались слить сердце и разум воедино, а философию видели неотделимой от духовной любви и творческого воображения, столь ценимых суфиями. Что касается Бернара, то он, похоже, просто побаивался рассудка и хотел изолировать его от эмоциональных, интуитивных составляющих сознания. Это было довольно опасно, так как способствовало нездоровому расщеплению восприятия, что ничуть не лучше сухого рационализма. Крестовые походы, к которым призывал Бернар, оборачивались народными бедствиями отчасти по той причине, что полагались на идеал, не укрощенный здравым смыслом; помимо того, они вопиюще противоречили христианскому духу сострадания[338]. Очевидно, что отношение Бернара к Абеляру тоже было весьма далеким от идеала любви к ближнему – как, впрочем, и призывы Бернара к крестоносцам, которым вменялось доказывать свою любовь к Христу умерщвлением неверных и изгнанием нехристей из Святой Земли. Опасаясь рационализма, который пытался дать объяснение загадке Бога и развеять религиозное благоговение перед чудесным, Бернар был в чем-то прав, однако необузданное своеволие, не способное критически распознать собственную предвзятость, в истории религии нередко приводило к самым ужасным крайностям. Бернару нужно было, вероятно, иное: разумная субъективность образованного человека, а не чрезмерная эмоциональность «любви», которая яростно подавляет рассудок и лишается при этом сострадания, издавна считающегося главной приметой веры в Бога.
Редкие мыслители внесли в историю западного христианства такой весомый вклад, какой сделал Фома Аквинский (1225–1274 гг.): он предпринял попытку соединить учение блаженного Августина с греческой философией. Западное христианство открыло для себя классическую философию лишь в XII в., когда ученые мужи Европы наводнили Испанию и познакомились с мусульманской наукой. С помощью исламских и иудейских ученых европейцы деятельно занялись переводами и принесли все это интеллектуальное богатство в культуру Запада. Арабские версии работ Платона, Аристотеля и других философов древности были теперь переведены на латинский язык и впервые стали доступны народам Северной Европы. Переводчики не упустили из виду и последние достижения исламской науки, включая труды ибн Рушда и многочисленные открытия арабских медиков и естествоиспытателей. В те самые годы, когда европейские христиане исполнились решимости очистить Ближний Восток от ислама, мусульмане Испании помогали европейцам закладывать фундамент будущей западной цивилизации.
«Сумма теологии» Фомы Аквинского представляет собой попытку совместить новую философию с западнохристианской традицией. Особое впечатление произвели на Фому составленные ибн Рушдом пояснения к Аристотелю. Однако, в отличие от Ансельма и Абеляра, Аквинат не верил, что такие непостижимые истины, как Троица, могут быть доказаны рассудком. Этот философ тщательно разграничивал невыразимую Божественную реальность и человеческие предположения о ней. Фома соглашался с Ареопагитом в том, что истинная природа Бога выше человеческого понимания: «Итак, в конечном счете все, что знает человек о Боге, сводится к тому, что он Его не знает, ибо понимает, что сущность Бога превосходит всё постигаемое человеком»[339]. По легенде, продиктовав последние строки «Суммы теологии», Аквинат горестно склонил голову и обхватил ее руками. На встревоженный вопрос писца богослов ответил, что написанное им – сущий пустяк по сравнению с тем, что он видел.
Предпринятая Фомой Аквинским попытка перенести свой религиозный опыт в рамки новой философии необходима была для того, чтобы согласовать веру с иной реальностью, не ограничивая последнюю некой отдельной, изолированной сферой. Чрезмерный интеллектуализм для веры губителен, но для того, чтобы Бог не превратился в снисходительное одобрение нашей самовлюбленности, религиозные переживания должны сопровождаться глубоким осмыслением их содержания. В своем определении Бога Аквинат вернулся к Его словам, сказанным Моисею: «Я есмь Сущий». Аристотель говорил, что Бог – Необходимо Сущее, и Аквинат связал бога философов с библейским Богом, назвав Его «Тем, Кто Есть» (Qui est) – «Сущим». Фома при этом совершенно недвусмысленно утверждал, что Бог – не просто некое существо, чем-то похожее на нас. Определение Бога как «Сущего» вполне допустимо, ибо «обозначает бытие как таковое [esse seipsum],…ведь любое другое имя привносит модус определенности»[340].
Обвинять Аквината в рационалистичных представлениях о Боге, которые позднее утвердились на Западе, было бы слишком несправедливо. К несчастью, Фома предварил свои размышления о Боге подтверждениями Его существования, почерпнутыми из натуральной философии, и тем самым действительно дал многим повод думать, будто о Боге можно рассуждать как о прочих философских категориях или явлениях природы. Этот подход предполагает, что Бога можно познавать так же, как и повседневную действительность. Аквинат привел пять «доказательств» существования Бога, которые приобрели огромнейший авторитет в католическом мире, а затем были заимствованы и протестантами.
1. Аристотелево обоснование Перводвигателя.
2. Сходное с аристотелевским «рассуждение» о Первоначале, основанное на невозможности существования бесконечной цепочки причин и следствий.
3. Предложенное ибн Синой доказательство от случайности, требующее существования «Необходимо Сущее».
4. Доказательство, содержащееся в Аристотелевой «Философии», где из всемирной иерархии совершенства вытекает необходимость существования Совершенства высшего.
5. Доказательство от порядка мира, основанное на том, что наблюдаемая нами упорядоченность и целенаправленность вселенной не может быть результатом слепой случайности.
Сегодня эти доказательства не выдерживают критики. Они довольно сомнительны даже с религиозной точки зрения, поскольку каждое (за исключением разве доказательства от порядка мира) неявно подразумевает, что «Бог» – просто некая сущность, одно из звеньев цепочки бытия. Он – Высшее Бытие, Необходимо Сущее, Совершеннейшее Существо. Очевидно, что использование таких понятий, как «Первопричина» или «Необходимо Сущее», неявно предполагает, что Бог ничуть не похож ни на одно из знакомых нам явлений и представляет собой скорее их основу, необходимое условие их существования. Нет сомнений, что Фома Аквинский намеревался сказать именно это. Тем не менее читатели «Суммы» далеко не всегда проводили столь важное различие и принимались рассуждать о Боге так, словно Он – просто Высочайшая Сущность среди всех прочих. Тем самым Высшее Бытие низводилось до уровня идола, созданного человеком по своему образу и подобию и с легкостью превращенного в небесное «суперэго». Есть все основания утверждать, что подавляющее большинство жителей Запада и сейчас воспринимает Бога как Сущность именно в этом смысле.
Так или иначе, попытка согласовать идею Бога с модным тогда в Европе учением Аристотеля была очень важной. Файласуфы тоже ревностно следили за тем, чтобы идея Бога шла в ногу со временем и не была загнана в заповедник архаики. Каждому поколению приходилось заново творить свои представления о Боге. Однако большая часть мусульман проголосовала, так сказать, ногами и дружно решила, что в науке о Боге от Аристотеля большого проку не будет, хотя идеи греческого философа чрезвычайно полезны во многих других сферах – прежде всего в естествознании. Вспомним, что еще редактор трудов Аристотеля назвал его рассуждение о природе Бога «Метафизикой» (meta ta physica, “после «Физики”»): у Аристотеля Бог был лишь расширением материальной действительности, а не самостоятельной реальностью совершенно иного порядка. Вполне естественно, что с той поры в исламском мире практически все рассуждения о Боге представляли собой смешение философии и мистицизма. Силами одного лишь рассудка невозможно добиться религиозного постижения реальности, именуемой «Богом», хотя религиозные переживания непременно должны подвергаться критическому и философскому осмыслению, иначе рискуют остаться просто путаными, самолюбивыми – а порой и опасными – эмоциями.
Такие взгляды во многом разделял современник Фомы Аквинского, францисканец Бонавентура (1217–1274 гг.). Он тоже предпринял попытку соединить философию с религиозными переживаниями во имя их взаимного обогащения. В сочинении «Троичный путь» он, по примеру Августина, видел во всем сущем «троичность». Этот «естественный тринитаризм» стал отправной точкой и другого труда Бонавентуры, под названием «Путеводитель души к Богу». Мыслитель искренне верил, что существование Троицы можно доказать силой обычного рассудка, но в то же время избегал рационалистического «шовинизма», неустанно подчеркивая важность духовных переживаний как неотъемлемой грани идеи Бога. Величайшим образцом настоящего христианина он считал Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев. По мнению Бонавентуры, любой богослов без труда найдет подтверждения церковных доктрин в эпизодах жизни святого Франциска. Тосканский поэт Данте Алигьери (1265–1321 гг.) тоже свято верил, что проявление Божества можно разглядеть в своих ближних – для Данте этим идеалом стала Беатриче Портинари из Флоренции. Столь персонализированные представления о Боге восходили к идеям блаженного Августина.
Рассуждая о святом Франциске как о «богоявлении», Бонавентура обращался также к Ансельмову онтологическому доказательству существования Бога. По словам Бонавентуры, Франциск достиг в своей жизни сверхчеловеческого, казалось бы, совершенства, и, следовательно, каждый из нас еще в этом мире способен «воочию убедиться и понять, что «лучшее» есть […] то, лучше чего нельзя и вообразить»[341]. Сам тот факт, что у людей есть представление о «лучшем», несомненно доказывает, что оно должно существовать в Высочайшем Совершенстве Бога. И если мы, по совету Платона и Августина, проникнем в себя, то сразу убедимся, что образ Божий «отсвечивает» в нашей собственной душе[342]. Такое самоуглубление весьма существенно. Не менее важно, разумеется, принимать участие в церковной литургии, однако сперва христианам следует низойти в глубины собственной души, где они «были бы восхищены в превыше разума экстаз» и обрели бы видение Бога, выходящее за рамки обыденных, ограниченных человеческих представлений[343].
Бонавентура и Аквинат отводили главную роль религиозным переживаниям, то есть хранили верность традиции фалсафы, поскольку и в иудаизме и в исламе философы нередко были одновременно мистиками и остро сознавали ограниченные возможности разума применительно к богословским материям. Рациональные доказательства существования Бога разрабатывались ими для того, чтобы подкрепить религиозную веру силой научных изысканий и сблизить ее с обыденными переживаниями. Сами философы ничуть не сомневались в том, что Бог существует, а многие к тому же хорошо сознавали ограниченность своих достижений. Эти доказательства нужны были не для того, чтобы обращать неверующих, тем более что в те времена атеистов (в нашем понимании этого слова) еще не было. Поэтому такое естественное богословие не предваряло религиозный опыт, но лишь дополняло его: файласуфы, например, не считали, что человек должен рационально убеждать себя в существовании Бога, пока сам не испытает мистических переживаний. В иудейском, исламском и греко-православном мире Бог мистиков стремительно вытеснял Бога философов.
7. Бог мистиков
Иудаизм, христианство и, в меньшей степени, ислам пришли к идее Бога-личности [a personal God]; поэтому мы склонны к мысли, что такой идеал представляет религию в наилучшем виде. Персонифицированный Бог помог монотеистам оценить священные и неотъемлемые права личности, воспитал уважение к индивидуальным особенностям человека. Именно иудео-христианская традиция привела Запад к столь ценимому ныне либеральному гуманизму. Все эти ценности воплощались прежде в образе Бога-личности, который делает все то же, что и человек: любит, судит, карает, видит, слышит, творит и разрушает. Яхве начинал как чрезвычайно личностное божество, проявляющее сильные человеческие симпатии и антипатии. Впоследствии он стал символом Трансцендентности: его мысли были не наши мысли, а его пути возвышались над человеческими, как недосягаемый купол неба – над землей. Персонифицированный Бог отражает важное религиозное прозрение: никакая высшая ценность не может быть ниже ценностей человеческих. Таким образом, персонализм является существенным, а для многих – необходимым этапом религиозного и нравственного развития. Израильские пророки приписывали Богу собственные чувства и страсти, а индуистам и буддистам поневоле пришлось ввести в практику персональное поклонение аватарам из высшей реальности. Что до христианства, то оно сделало человеческую личность центром религиозной жизни, и сделало это уникальным в истории религии способом – довело до крайности присущий иудаизму персонализм. Вполне возможно, что ни одна религия вообще не способна выжить без подобного отождествления с Богом и сопереживания Ему.
С другой стороны, персонифицированный Бог может обернуться большой помехой – превратиться в простого идола, вытесанного по нашему образу и подобию, стать олицетворением суетных нужд, страхов и желаний. Мы можем вообразить, что он любит и ненавидит именно то, что любим или ненавидим мы. Вместо того чтобы вынуждать нас бороться с предрассудками, такой бог будет лишь потакать им. Если он не предотвращает трагедии, а подчас, кажется, и сам их желает, то в его образе явственно проступают бессердечность и жестокость. Легкомысленная вера в то, что беды происходят по воле Божьей, нередко заставляет мириться с тем, что совершенно недопустимо. Серьезные последствия влечет и такой личностный аспект Бога, как Его пол – вполне достаточное основание, чтобы возвысить половину рода человеческого за счет унижения женщин и внести в сексуальные нравы людей чрезмерную, невротическую неуравновешенность. Персонифицированный Бог чреват многими опасностями. Вместо того чтобы побуждать нас к преодолению нашей ограниченности, «Он» часто вынуждает людей покорно держаться в привычных рамках. «Он» может сделать нас такими же жесткими, черствыми, самодовольными и пристрастными, каким нередко выглядит Сам. Приметой любой развитой религии следует считать внушаемое ею чувство сострадания к ближним, однако «Он» нередко заставляет нас осуждать и обвинять других, доходя в этом до крайностей. Таким образом, идея персонифицированного Бога – по-видимому, лишь одна из стадий религиозного развития человека. Все мировые религии замечали эту опасность и пытались подняться над антропоморфными представлениями о Высшей Реальности.
В древнееврейских священных текстах можно разглядеть историю становления узкоплеменного персонифицированного Бога и последующего отказа от этого образа (когда Яхве стал YHVH). Христианство – самая, вероятно, персонализированная из религий единобожия – попыталось узаконить культ Вочеловеченного Бога с помощью доктрины сверхличностной Троицы. Мусульмане очень рано столкнулись с проблемой толкования тех стихов Корана, где Бог «видит», «слышит» и «судит» поступки людей. Во всех трех монотеистических религиях возникли свои мистические течения, в которых Бог пребывает за пределами человеческого и приближается к обезличенным категориям нирваны и Брахмана-Атмана. Подлинный мистицизм доступен лишь редким людям, но во всех трех вероисповеданиях (за исключением западной ветви христианства) именно мистическое восприятие Бога надолго стало нормой для большинства верующих.
Историческое единобожие изначально не было мистическим. Мы уже отмечали разницу между переживаниями таких созерцателей, как Будда и древнееврейские пророки. Иудаизм, христианство и ислам – религии по существу весьма деятельные; они сосредоточены на том, чтобы воля Божья исполнялась не только на небесах, но и на земле. Главный сюжет пророческих религий – встреча, личное общение Бога с человечеством. Такой бог воспринимается как руководство к действию: он зовет к себе и предоставляет свободу выбора – мы вправе принять его любовь и заботу или отказаться от них. Он связан с людьми через диалог, а не бессловесное созерцание. Бог изрекает Слово, которое и становится средоточием религиозного поклонения. Больше того, Слово вынуждено воплотиться на земле и перенести все муки порочных и трагических обстоятельств человеческой жизни. В христианстве, самой персонализированной форме единобожия, основой взаимоотношений с Богом является любовь. Однако весь смысл любви сводится, в определенном значении, к уничтожению эго. И в любви, и в диалоге эгоизм остается постоянной угрозой. Помехой может стать сам язык, навязывающий нам понятия из сферы повседневного опыта.
В свое время пророки объявили войну мифологии: их бог активно вмешивался в историю и в текущие политические события, не ограничиваясь предначальной мифической эпохой. Когда же монотеисты обратились к мистицизму, главным носителем религиозных переживаний вновь стала мифология. Слова «миф», «мистицизм» и «мистика» имеют общую этимологию – все они произошли от греческого глагола musteiоп, означающего «закрывать глаза или рот». Таким образом, все три понятия роднит ощущение непроглядности и безмолвия[344]. Впрочем, на Западе слова «миф» и «мистика» сейчас не в почете. В обиходной речи этими словами часто называют небылицы, неправду; политики и кинозвезды отвергают газетные утки как «мифы», а ученые именуют «мифическими» ошибочные и устаревшие представления. Начиная с эпохи Просвещения «мистика» стала означать нечто непонятное, требующее прояснения; кроме того, «мистичность» нередко приравнивается к «каше в голове». Содержание мистического романа как литературного жанра свелось к распутыванию загадочных событий с целью дать им удовлетворительное объяснение. В эпоху Просвещения даже верующие люди стали считать слово «мистичность» нелестным. «Мистицизм» до сих пор часто ассоциируется с чудачеством, шарлатанством и движением хиппи. Поскольку на Западе мистицизм не вызывал восторгов даже в ту пору, когда переживал расцвет в других частях света, мы довольно смутно представляем себе присущий этой форме духовности уровень знаний и дисциплины.
Некоторые признаки показывают, тем не менее, что обстоятельства меняются. В 60-х годах Запад открыл для себя благотворное влияние отдельных направлений йоги и таких религий, как буддизм, чьим преимуществом является свобода от неуемного теизма. В Европе и Соединенных Штатах вошел в моду Восток. Совсем недавно настоящий бум на Западе произвели труды покойного американского мифолога Джозефа Кэмпбелла. Нынешний повальный интерес к психотерапии тоже в определенной мере отражает тягу к мистицизму, и мы еще будем обсуждать поразительное сходство между этими двумя направлениями. Что до мифологии, то в ней часто видели попытку описать внутренний мир души; создавая новейшую психологию, Фрейд и Юнг инстинктивно обращались к древним мифам (например, истории Эдипа). Судя по всему, жители Запада ощущают потребность в том, что смогло бы дополнить их чисто научное мировоззрение.
Мистическая религия более непосредственна и в трудные времена обычно приносит больше облегчения, чем вера по преимуществу интеллектуальная. Мистические учения помогают посвященным вернуться к Единому, предвечному Началу и воспитывать в себе постоянное ощущение присутствия. Однако ранний иудейский мистицизм, сложившийся во II–III вв., был слишком сложным для понимания евреев, которым казалось, что он углубляет пропасть между Богом и человеком. В ту пору евреям, напротив, хотелось перенестись из обыденного мира, где их презирали и подвергали гонениям, и укрыться в царстве Божества. Бог представал в их воображении могущественным владыкой, приблизиться к которому можно лишь после опасного путешествия по семи небесам. Кроме того, в отличие от раввинов, говоривших просто и ясно, мистики изъяснялись высокопарным, многословным языком. Раввины эту форму духовности откровенно ненавидели, и мистики держались достаточно осторожно, стараясь не вступать с ними с стычки. Тем не менее этот «престольный мистицизм» удовлетворял, очевидно, некую важную потребность, поскольку продолжал существовать бок о бок с авторитетными раввинскими академиями вплоть до тех пор, пока не слился, наконец, с каббалой – новым еврейским мистицизмом, возникшим в XII–XIII вв. Классические тексты «престольного мистицизма», известные нам по вавилонским редакциям V–VI вв., позволяют предположить, что мистики, которые описывали свои переживания весьма скупо, ощущали тесное родство с раввинской традицией; героями их духовного мира были, в частности, известнейшие таннаим – раввины Акива, Исмаил и Йоханан. В этих личностях, проторивших для своего народа новую тропу к Богу, во всей полноте проявились новые вершины еврейского духа.
Нам уже известно, что перечисленным выше раввинам довелось испытать необычные религиозные переживания. Вспомним, как на раввина Йоханана и его учеников низошел с небес Святой Дух в виде огня; в ту минуту они обсуждали странное видение Иезекииля, узревшего Божью колесницу. Сама колесница и загадочная фигура на троне, которую мельком увидел Иезекииль, были, судя по всему, одной из главных тем ранних эзотерических рассуждений. «Умозрение о Колеснице» (Ma'aseh Merkavah) часто сопровождалось толкованием смысла истории сотворения мира (Ma'aseh Bereshit). В самом древнем из известных нам повествований о мистическом восхождении на высочайшее небо, к Божьему престолу, особо подчеркиваются невообразимые опасности этого духовного путешествия:
Наши раввины учили: четверо вошли в Сад, и вот кто они были: бен Аззай, бен Зома, Агер и раввин Акива. Раввин Акива сказал им: «Когда достигнете камней чистого мрамора, не говорите «Вода! Вода!». Ибо сказано: «Кто говорит ложь, не утвердится пред очами Моими». Бен Аззай узрел и умер. О нем Писание говорит: «Драгоценна в очах Господа гибель святых Его». Бен Зома узрел и был потрясен. О нем Писание говорит: «Нашел ли ты мед? Вкуси в меру, иначе переполнишься и извергнешь его». Агер срезал побеги [то есть стал еретиком]. Раввин Акива ушел с миром[345].
Только раввин Акива оказался достаточно зрелым, чтобы завершить мистический путь целым и невредимым. Путешествие в глубины ума сопряжено с огромным риском, поскольку таящееся там способен вынести далеко не каждый. Именно поэтому все религии настойчиво утверждали, что в мистическую дорогу можно пускаться только под руководством опытного человека, способного оценивать переживания новичка, подсказывать ему путь на опасных участках и следить, чтобы тот не брался за непосильное – как несчастный бен Аззай, который умер на месте, или бен Зома, который сошел с ума. Все мистики единодушно отмечают важность здравомыслия и душевного равновесия. Учителя дзэн говорят, что человеку нервному нет смысла ждать от медитации исцеления, ибо она лишь обострит его расстройства. В странном, чудаковатом поведении некоторых католических святых, которых чтили как мистиков, необходимо видеть отклонение от нормы. Приведенная выше загадочная легенда о мудрецах-талмудистах показывает, что иудеи уже с самого начала прекрасно сознавали опасности мистицизма; позже у евреев не принято было посвящать молодых людей в учение каббалы, пока те не достигнут зрелости. Кроме того, мистик обязан был вступать в брак – это в определенной мере предотвращало сексуальные расстройства.
Путь мистика к престолу Божьему проходил через семь небес. Разумеется, этот полет был лишь воображаемым. Его никогда не воспринимали буквально; речь шла о чисто символическом прохождении по неведомым уголкам психики. Таинственное упоминание раввина Акивы о «камнях чистого мрамора» может означать своеобразный пароль, который мистику следовало произносить в многочисленные переломные мгновения своего воображаемого путешествия. Подобные зрительные образы помечали важные стороны сложного учения. Сегодня нам уже известно, что бессознательное представляет собой массу переплетающихся символов, которые всплывают на поверхность в сновидениях, галлюцинациях и таких болезненных психоневрологических состояниях, как приступы эпилепсии или шизофрении. Еврейские мистики вовсе не считали, будто «на самом деле» парят в небе или входят в чертоги Господа; они просто выстраивали цепочку религиозных символов, заполнявших их ум в заданном порядке и под жестким контролем. Такое занятие требовало огромного мастерства, определенной предрасположенности и длительной подготовки. Степень сосредоточенности при этом была сопоставима с той, какая требуется в дзэн или йоге, иначе посвященный просто не смог бы проложить себе путь по запутанному лабиринту собственной психики. Вавилонский ученый Гаигаон (938–1038 гг.) разъяснял легенду о четырех мудрецах языком современной мистической практики: «сад» означает мистическое восхождение души к «небесным дворцам» (хехалот) во владениях Господа. Тот, кто желает предпринять это воображаемое внутреннее путешествие, должен быть «достоин» и «одарен определенными качествами», необходимыми, чтобы «узреть небесную колесницу и залы ангелов горних». Все происходит не само собой, и для этого нужно пройти соответствующую подготовку, сходную с упражнениями йогов и других созерцателей во всем мире:
Ему надлежит поститься предписанное число дней, затем опустить голову меж колен и тихо нашептывать про себя предписанные хвалы Господу, обратив лице свое долу. И тогда он узрит потаенные уголки своего сердца, и предстанут они пред очами его семью залами, как бы зримыми, и будет он как бы переноситься из зала в зал и увидит всё, что в них[346].
Хотя первые тексты «престольного мистицизма» датируются лишь II–III вв., сама эта форма созерцания, вероятно, намного старше. Так, святой Павел упоминает о знакомом ему «человеке во Христе», который четырнадцатью годами ранее был вознесен на третье небо. Павел сам не очень понимал, как истолковать это видение, но заверял, что тот человек «был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать»[347].
Сами по себе эти видения – не конечная цель, но лишь средство, позволяющее испытать невыразимые религиозные переживания, которые превосходят любые привычные понятия. Характер видений обусловлен особенностями религиозной традиции мистика. Еврейские визионеры видели семь небес, поскольку их религиозное воображение опиралось на эти конкретные символы. Буддист созерцает будд и бодхисаттв, а христианин – Деву Марию. Визионер, воспринимающий подобные духовные образы как нечто объективное, допускает большую ошибку, ведь это не более чем символы Запредельности. Поскольку галлюцинации нередко бывают вызваны патологическим состоянием, то, чтобы справиться с увиденным и верно истолковать символы, всплывающие в воображении в ходе сосредоточенного размышления или медитации, требуется большой опыт и душевное равновесие.
Одно из самых странных и наиболее противоречивых раннеиудейских видений описано на страницах «Shiur Qomah» («Измерение высот») – текста V в., где описывается фигура, увиденная Иезекиилем на престоле Божьем. «Shiur Qomah» именует это существо Йоцрену, «Наш Творец». Причудливое описание этого образа Бога основано, скорее всего, на отрывке из «Песни песней», которую, кстати, раввин Акива любил больше прочих библейских книг. Вот что говорит Невеста о своем Женихе:
Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; Глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений; Губы его – лилии, источают текучую мирру; Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами; Живот его – как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами; Голени его – мраморные столбы…[348]Некто увидел в этом рассказе описание Бога; к ужасу целых поколений евреев, автор «Shiur Qomah» дерзает еще и измерить каждый из перечисленных здесь членов Божьего тела. Размеры Господа, приведенные в этом странном произведении, просто поражают, не умещаются в голове: основная единица измерения, «парасанг», равна 180 триллионам «перстов», а каждый «перст» равен протяженности Земли от края до края. Гигантские числа настолько обескураживают, что рассудок просто прекращает реагировать на них и даже не пытается вообразить себе фигуру такого масштаба. В этом-то и смысл! «Shiur» стремится показать нам, что Бога невозможно ни измерить, ни вместить в рамки человеческих представлений. Сама попытка сделать это немедленно убеждает человека в полной бессмысленности такой затеи и приносит новый опыт запредельности Бога. Неудивительно, что многим евреям странная причуда вычислить телесные размеры чисто духовного Бога показалась настоящим богохульством. По этой причине эзотерические тексты в духе «Shiur» сберегались в тайне от людей неподготовленных. Однако при надлежащих условиях «Shiur Qomah» понимался посвященными правильно; они изучали его под руководством духовного наставника и добивались новых прозрений в трансцендентность Бога, пребывающего выше всех человеческих понятий. Разумеется, подобные вычисления не следовало воспринимать буквально; нет сомнений и в том, что они не содержат никаких тайных сведений. Текст предназначен лишь для того, чтобы настраивать душу на определенный лад, вызывать ощущение чудесности и благоговения.
«Shiur» знакомит нас с двумя важнейшими и общими для всех трех религий составляющими мистического портрета Бога: Он, во-первых, доступен только воображению и, во-вторых, неизъясним. Описанная в «Shiur» фигура – тот Бог, которого в конце своего пути мистики видели восседающим на престоле. В этом Боге нет ни нежности, ни любви, да и вообще никаких личностных качеств; откровенно говоря, Его святость бесконечно чужеродна. Узрев Его, герои-мистики разражались песнями, которые производят грандиозное впечатление, хотя и не несут почти никаких сведений о Боге:
Святость, сила, устрашение, благоговение, ужас, отчаяние, смертный страх — Таковы приметы облачения Творца, Адоная, Бога Израилева, восходящего в венце на престол Свой в Своей Славе. Одеяния Его запечатлены изнутри и снаружи, и повсюду на них начертано YHVH, YHVH. Ни одни очи не стерпят зрелища их – ни очи из плоти и крови, ни очи слуг Его[349]. Но если мы не в силах представить себе, как выглядят облачения Яхве, то как можно мечтать вообразить Самого Бога?Наиболее известным из ранних иудейских мистических текстов является, вероятно, сочинение «Сефер Йецира», «Книга Творения». В ней не предпринимается никаких попыток дать реалистичный отчет о процессе сотворения мира; все повествование заведомо аллегорично, а Бог в нем творит мир посредством речи, словно пишет книгу. Однако с тех времен язык целиком преобразился, и весть творения давно перестала быть ясной. Каждой букве еврейского алфавита соответствует числовое значение; комбинируя буквы со священными числами, занимаясь бесконечными перестановками и заменами, мистик отвлекал свой ум от привычного значения слов. Главная цель книги заключалась в том, чтобы обойти рассудок и напомнить евреям, что ни слова, ни концепции не могут определять ту Реальность, на которую указывает Тайное Имя. Явственное чувство выхода за границы возможностей языка, когда слова начинают приобретать совершенно неязыковое содержание, снова и снова напоминало о непохожести Бога на все известное. Мистикам не нужна была прямолинейная беседа с Богом, которого они воспринимали как ошеломляющую Святость, а не как сострадательного друга и отца.
«Престольный мистицизм» был далеко не уникальным явлением. Судя по преданиям, подобные переживания испытал пророк Мухаммад во время своего «Ночного Полета» из Аравии к Храмовой горе в Иерусалиме, куда Джабраил перенес его во сне на летающем скакуне. В Иерусалиме его встретили Авраам, Моисей, Иисус и множество других пророков, что засвидетельствовало пророческую миссию самого Мухаммада. Затем Джабраил и Мухаммад начали мирадж – опасное восхождение по лестнице, пронизывающей семь небес, каждым из которых правил один из пророков. В конце пути Мухаммад оказался в божественном царстве. Ранние источники обходят завершающее видение почтительным молчанием, но, по общему мнению, именно к нему относятся следующие строки Корана:
Ведь при втором явлении Его (Пророк), поистине, его уж видел. Близ лотоса, За коим недоступно никому пройти, И за которым Райская обитель. И был тот лотос огражден (неведомым) покровом, (Свой) взгляд (пророк) ни на мгновенье не отвел, И (взгляд) ему не изменил, — Ведь, истинно, он величайшее знамение Аллаха зрил![350]Мухаммад не видел Самого Бога; ему открылись лишь символы, указующие на божественную реальность. В индуизме цветок лотоса обозначает границы рационального мышления. Видение Бога вообще не сообразуется с привычными категориями мышления или языка. Восхождение на небеса – символ высшего достижения человеческого духа, веха, отмечающая последний порог постижимого.
Образный ряд восхождения оказывается универсальным. В Остии блаженный Августин и его мать пережили вознесение к Богу, о котором богослов поведал языком Плотина:
…возносясь к Нему Самому сердцем, все более разгоравшимся, мы перебрали одно за другим все создания Его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды.
И, войдя в себя, думая и говоря о творениях Твоих и удивляясь им, пришли мы к душе нашей и вышли из нее…[351]
Ум Августина заполнился не семитскими образами семи небес, а греческой символикой великой цепочки бытия. Это было не буквальное путешествие в открытом космосе к некоему «запредельному» богу, а мысленное восхождение к внутренней реальности. Полный восторга полет был воспринят как дар со стороны, будто Августин с Моникой просто воспользовались чьей-то милостью, хотя в упорном стремлении к «Нему Самому» ощущается и твердое волевое намерение. Как отмечает Джозеф Кэмпбелл, подобные символы подъема, восхождения видят в своих трансах шаманы «от Сибири до Тьерра-дель-Фуэго»[352].
Символ восхождения указывает на то, что обыденное восприятие осталось далеко позади. Встреча с Богом совершенно неописуема, ибо обычный язык тут попросту неприменим. Иудейские мистики рассказывают обо всем, кроме Самого Бога! Речь заходит то о Его облачении, то о чертогах, небесных слугах или таком извечном архетипе, как покров, ограждающий Бога от человеческого взора. Строя догадки о ночном полете Мухаммада, мусульмане обращали особое внимание на парадоксальный характер завершающего видения Бога: пророк одновременно и видел Его, и не видел[353]. Пробравшись сквозь царство символов, впитанных его душой, мистик достигает того предела, когда ни концепции, ни воображение не в силах подтолкнуть его еще дальше. Августин и Моника рассказывают о высшей точке своего взлета с уже знакомой нам сдержанностью и подчеркивают лишь то, что эти сферы пребывают вне пространства, времени и обычных знаний. Они «говорили о ней и жаждали ее», и даже «чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца»[354]. Затем им пришлось вернуться к обычной речи, где любое высказывание имеет начало, середину и конец:
Мы говорили: «Если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и всё, что проходит и возникает, если наступит полное молчание (если слушать, то они все говорят: «Не сами мы себя создали; нас создал Тот, Кто пребывает вечно»)… да услышим Его Самого – без них, – как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной Мудрости, над всем пребывающей…[355]
Это не натуралистичное видение персонифицированного Бога; они не «услышали глас Его», как бывает при достоверном, доступном воображению общении, будь то обычная речь, голос ангела, природы или символика сновидений. Им просто показалось, что они «мыслью прикоснулись» к Реальности, лежащей за пределами всего вообразимого.
Несмотря на очевидную культурную обусловленность подобных «восхождений», они являются неоспоримым фактом жизни. Как их ни толкуй, ясно одно: такие созерцательные переживания случались во всех уголках земли и во все исторические эпохи. Монотеисты называют эти высшие прозрения «богооткровениями», Плотин считал их соприкосновением с Единым, а буддисты говорят о проблесках нирваны. Главное в другом: именно об этом всегда мечтают люди, наделенные определенными духовными талантами. Мистическим переживаниям Божественного присущи общие для всех религий черты: прежде всего, это субъективные переживания, внутреннее путешествие, а не восприятие объективных явлений окружающего мира. Путь пролегает по той области разума, где создаются образы, – воображению, – а не по рассудочным, логическим участкам интеллекта. Наконец, мистик вызывает у себя эти переживания намеренно, специальными телесными и душевными упражнениями добивается предельно отчетливого видения – так что мистический взлет далеко не всегда застает его врасплох. Блаженный Августин, похоже, считал, что отдельные счастливцы могут узреть Господа еще в этой жизни; к числу таких избранных он относил Моисея и святого Павла. Папа Григорий Великий (540–604 гг.), признанный образец духовной жизни и влиятельный первосвященник, придерживался противоположного мнения. Он не слишком полагался на рассудок и, как типичный католик, относился к духовности более прагматично. Высказываясь о размытости всех человеческих представлений о Боге, папа Григорий прибегал к таким метафорам, как «тучи», «туман» и «мрак». Его Бог скрывался от людей за непроницаемой завесой тьмы – еще более мучительной, чем облако неведения, которым терзались греческие христиане Григорий Нисский и Дионисий. Для Григория Великого Бог был переживанием тревожным. Папа настаивал на том, что приблизиться к Господу трудно и мы совершенно не вправе рассуждать о Нем как о хорошем знакомом, словно имеем с Ним нечто общее. На самом же деле о Боге нам не известно ровным счетом ничего, и мы не в силах предвидеть Его поступки, опираясь на знание людских нравов: «И потому истина в наших познаниях о Боге есть лишь тогда, когда мы ясно сознаем, что не можем в точности узнать о Нем хоть что-либо»[356]. Григорий нередко пускался в рассуждения о том, каких мук и усилий требует сближение с Богом. Радость и безмятежность созерцания приходят лишь на краткие мгновения, да и то после отчаянной борьбы. Чтобы вкусить сладости Божьей, душе приходится прокладывать дорогу сквозь тьму – свое естественное окружение. Душа
не может удержать мысленный взор на том, что мельком заметила в самой себе, и уступает своей привычке опускаться на дно. Душа трепещет, борется и тщится подняться, но, утомленная, вновь погружается в собственный давно знакомый мрак[357].
До Бога можно дотянуться только после «огромных усилий ума», вступающего с Ним в «схватку», как Иаков боролся с ангелом. Путь к Богу пролегает через чувство вины, плач и изнурительные тяготы; приближаясь к Нему, «душа способна лишь рыдать». «Истерзанная» своей тоской по Богу, она, «намаявшись, находит покой лишь в слезах»[358]. Григорий Великий оставался видным образцом духовности вплоть до двенадцатого столетия: разумеется, все это время Бог воспринимался на Западе как непосильное бремя.
На Востоке же христианское переживание Бога связывалось скорее со светом, а не с тьмой. Греки пришли к иного рода мистицизму, который тоже распространен во всем мире. Этот мистицизм не зависит от зрительных образов и видений; он основан на апофатических, безмолвных переживаниях, описанных еще Дионисием Ареопагитом. Восточные христиане, естественно, воздерживались от каких-либо рационалистических представлений о Боге. Как пояснял в своих «Комментариях к Песни Песней» Григорий Нисский, «каждая постигаемая умом идея становится для ищущего помехой на пути к искомому». Цель созерцания – вырваться за рамки концепций и каких-либо образов, поскольку те лишь отвлекают. Только так обретается «некое ощущение присутствия» – неопределимое и, несомненно, превосходящее любые человеческие чувства, какие могут возникать в общении с другими[359]. Этот подход получил название «исихия» (hesychia), «бесстрастность», «внутреннее безмолвие». Поскольку слова, мысли и образы приковывают нас к миру обыденного и событиям, происходящим здесь и сейчас, разум следует сознательно успокоить, применяя технику сосредоточения, и воспитать в нем выжидательное молчание. Лишь тогда можно надеяться услышать Реальность, которая выше всего мыслимого.
Как можно постичь непостижимого Бога? Греки любили подобные парадоксы, и исихасты обратились к давнему различию между сущностью, усией Бога и Его энергиями, то есть деяниями во вселенной, благодаря которым мы способны временами замечать признаки Божественного. Поскольку людям не познать Господа таким, какой Он в Себе, молитва открывает человеку доступ не к сущности, а именно к энергиям. Эти проявления можно определить как озаряющие мир лучи Божественности, исходящие от Него, но столь же отличающиеся от Самого Бога, как солнечное сияние – от небесного светила. Лучи раскрывают присутствие совершенно безмолвного и непостигаемого Бога. Как выразился Василий Великий, «знаем Бога нашего по энергиям Его; не утверждаем, будто приблизились к самой Его сущности, ибо нас достигают лишь энергии Его, сущность же недостижима»[360]. В Ветхом Завете божественные энергии именовались Божьей «славой» (кавод), а в Новом сказано, что Слава эта исходила от Христа на горе Фавор, когда Сын Человеческий преобразился в божественных лучах. Лучи Славы проницают весь тварный мир и даруют божественность спасенным. Как предполагает само слово энергии, это деятельная, динамичная концепция Бога. Пока на Западе рассуждали о том, что Бог раскрывается в Своих извечных атрибутах – блага, справедливости, любви и всемогущества, – греки пришли к выводу, что Бог становится досягаем в неустанной деятельности, где неким таинственным образом присутствует.
Поэтому, соприкасаясь с энергиями в молитве, мы в определенном смысле вступаем с Богом в прямое общение, хотя сама Его непостижимая реальность неизменно остается скрытой. Видный исихаст Евагрий Понтийский (ум. в 399 г.) заверял, что знание о Боге, обретаемое в молитве, не имеет ничего общего с концепциями и образами, но представляет собой превосходящее их непосредственное переживание Божественного. По этой причине исихасты считали необходимым обнажение души. «Когда молишься, – внушал Евагрий собратьям-монахам, – не твори в мыслях никакого образа Божества и не позволяй уму подчиняться влиянию видимого». Вместо этого он советовал монахам «подступать к Невещественному безвещественно»[361]. По существу, предлагалось нечто вроде христианской йоги. Молитва – не размышление; «молиться означает отбросить мысли»[362]. Иными словами, это скорее интуитивное восприятие Бога. Его итогом становится ощущение единства всего сущего, свобода от гипноза многообразия, утрата эго – результаты несомненно сходные с идеалами созерцателей в буддизме и других религиях без бога. Методично отучая разум от таких «страстей», как гордыня, алчность, скорбь или гнев, которые лишь приковывают человека к своему эго, исихасты возносились над собой и достигали обожествления – подобно Иисусу на горе Фавор, преобразившемуся в лучах божественных «энергий».
Диадох (V в.), епископ Фотики, твердо верил, что такое обожествление не обязательно происходит после ухода человека в мир иной; оно может быть испытано уже в этом мире. Он предлагал свой метод сосредоточения, включавший дыхательные упражнения: исихасту вменялось мысленно произносить на вдохе: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», а на выдохе – «помилуй нас». Впоследствии исихасты усовершенствовали этот прием и сидели, склонив голову и плечи, обратив взор на область сердца или пупок: такая поза способствовала замедлению дыхания и внутреннему сосредоточению с четко локализованным психическим центром (например, сердцем). Упражнение требовало большой тщательности, и выполнять его следовало с осторожностью, под надзором опытного наставника. В результате такого сосредоточения исихасты, подобно буддийским монахам, научались постепенно отстраняться от рационального мышления, избавляться от наводняющих ум образов и сливаться с молитвой. Греческие христиане самостоятельно открыли приемы, которыми уже долгие столетия пользовались в восточных религиях. Для исихастов практика молитвы представляла собой психосоматическую деятельность – в отличие от Августина и Григория, которые считали, что молитва, напротив, должна освобождать душу от оков тела. Максим Исповедник утверждал: «Человеку целиком надлежит сделаться Богом, обоґжиться по милости Бога Вочеловечившегося, став истинным человеком, душой и телом, по естеству, и истинным Богом, душой и телом, – по благодати»[363]. Исихаст ощущал это как прилив сил и особой ясности ума – прилив настолько мощный и необоримый, что не могло быть сомнений в его божественном происхождении. Мы уже знаем, что греки воспринимали такое «обожествление» как естественное для человека просветление. Преображенный на горе Фавор Христос внушал им такое же вдохновение, какое буддисты черпали в изображениях Будды – того, кто во всей полноте осуществил потенциальные возможности человека. Праздник Преображения вообще занимает чрезвычайно важное место в православной Церкви, где его называют «епифанией», Богоявлением. В отличие от своих западных братьев во Христе, греки вовсе не считали, будто неизбежным преддверием сближения с Богом должны являться тяготы, муки и отчужденность; подобные переживания, напротив, расценивались на Востоке как недуги, которые надлежит исцелять. У греков не возникло культа «темной ночи души»; главным евангельским сюжетом для них были события на горе Фавор, а не в Гефсиманском саду или на Голгофе. Достичь столь возвышенных состояний может далеко не каждый, однако даже обычному христианину дано уловить проблески мистических переживаний через икону. На Западе религиозное искусство постепенно становилось предметно-изобразительным: в нем преобладали исторические сюжеты из жизни Иисуса и святых. В противоположность этому, византийские иконы не предназначались для изображения событий «от мира сего». Иконы были прежде всего попыткой хотя бы частично, но все-таки наглядно донести до людей невыразимые мистические переживания исихастов. Как поясняет британский историк Питер Браун, «Во всем восточно-христианском мире иконы и видения подкрепляли друг друга. Своеобразное сведение в единую фокальную точку коллективного воображения […] привело к тому, что уже к VI веку сверхъестественное приобрело вполне отчетливые формы в снах и воображении каждого человека, и это нашло свое отображение в искусстве. Икона стала не менее достоверной, чем сбывшийся сон»[364]. Иконы предназначались не для поучения верующих и не для передачи сведений, идей или доктрин; они представляли собой объект созерцания (теории), благодаря которому перед верующими словно распахивалось окно в мир Божественного.
Иконы занимали настолько важное место в византийских представлениях о Боге, что уже в восьмом столетии стали причиной ожесточенного доктринального спора, который всполошил всю греческую Церковь. Многие начали задаваться вопросом: что именно изображает живописец, рисуя Христа? Выразить Его Божественность на картине невозможно, но если художник заверяет, что показывает только Человечность Христа, налицо несторианская ересь – опаснейшая вера в принципиальное различие между человеческим и божественным естествами Иисуса. Иконоборцы требовали вообще запретить иконопись, но им противостояли два известных монаха того времени – Иоанн Дамаскин (656–747 гг.) из обители св. Саввы близ Вифлеема и Феодор Студит (759–826 гг.) из Студийского монастыря неподалеку от Константинополя. Оба доказывали, что запрещать изображения Христа нельзя: после Вочеловечения и материальный мир в целом, и человеческое тело в частности приобрели божественное измерение, а потому иконописцы имеют полное право изображать новую, обожествленную человечность. Более того, при этом художник показывает образ Божий, ибо Христос-Логос Сам являет Собой икону Господа par excellence. Бога нельзя изъяснить ни словами, ни привычными понятиями, но можно «описать» кистью или символическим действом литургии.
Набожность греков настолько зависела от иконописи, что к 820 г. воля народа одержала полную победу над иконоборцами. Убежденность в том, что Бога в определенном смысле можно «описать», не означала, однако, отказа от апофатического богословия Дионисия Ареопагита. В своем трактате монах Никифор утверждал, что иконы служат «выражениями безмолвия Господа, в коих явлена несказанность той тайны, что выше бытия. Сей почтительною и трижды озаренною мелодией богословия иконы неустанно и бессловесно восхваляют благость Господа»[365]. Иконы передают верующим не догматы Церкви и не рассудочное понимание основ веры, но ощущение таинства. Доказывая важность религиозных изображений, Никифор позволял сравнивать их разве что с влиянием музыки – самого невыразимого и, пожалуй, наиболее прямого по воздействию вида искусства. Музыка навевает чувства и переживания, обходясь без слов и мыслей. В XIX веке Уолтер Пейтер убежденно заявит, что все прочие виды искусства стремятся достичь идеала музыки; подобным же образом для христиан Византии в IX в. любое богословие могло лишь стремиться достичь уровня иконографии. На их взгляд, в произведениях искусства намного больше знаний о Боге, чем в рациональных построениях. После многословных христологических диспутов IV–V вв. восточная Церковь перешла к созданию образа Божьего, основанного на воображении и переживаниях христиан.
Ярким представителем этого направления стал Симеон (949–1022 гг.), настоятель небольшого константинопольского монастыря святого Мамаса. Этот теолог (его принято называть «Новым Богословом») не предпринимал никаких попыток дать определения Богу, поскольку это, по его убеждению, было бы проявлением самонадеянности. Действительно, любые рассуждения о Боге подразумевали бы, что «непостижимое все же постигаемо»[366]. Не высказывая рациональных суждений о сущности Бога, «новое» богословие опиралось прежде всего на непосредственные, личные религиозные переживания. Познать Бога на уровне рассудочных понятий, как если бы Он был одной из тех сущностей, которые доступны нашему суждению, просто невозможно. Бог – это вечная тайна, а истинным христианином может считаться лишь тот, кто осознанно воспринимает Господа, раскрывшего Себя в преображенной Человечности Христа. Симеон и сам перешел от светской жизни к созерцательной благодаря подобным переживаниям, нахлынувшим на него словно ниоткуда. Сначала он вообще не мог разобраться в происходящем, но постепенно понял, что очень изменился и отныне, так сказать, поглощен сиянием Самого Бога. Это был, разумеется, не обычный свет, а лучезарность вне «форм, образов и видимости, какая ощущается лишь интуитивно, в молитве»[367]. Такие переживания доступны не только избранным или монахам, ведь Царство, провозглашенное Христом в Евангелиях, означает единение с Господом, которое всякий способен ощутить здесь и сейчас, не дожидаясь перехода в иной мир.
Таким образом, для Симеона Бог был одновременно познаваемым и непознаваемым, близким и далеким. Не подступаясь к неразрешимой задаче изъяснения «несказанного силой одних лишь слов»[368], Симеон призывал монахов сосредоточиться на том, что ощущается человеком как преображающая реальность в собственной душе. В одном из видений самого Симеона Бог сказал ему: «Да, Я – Господь, Кто стал ради тебя Человеком. Се, Я тебя создал, и Я сделаю тебя Богом»[369]. Его Бог был не внешним, объективным фактом, а чисто субъективным, индивидуальным просветлением. Однако, несмотря на отказ рассуждать о Боге, Симеон не порвал с теологическими прозрениями минувшего. «Новое» богословие четко соответствовало учениям святых отцов Церкви. В «Гимнах Божественной Любви» Симеон выразил древнегреческую доктрину обожествления человечества, сформулированную еще Афанасием и Максимом:
О Свет, Кому никто названия не дал, ибо Он безымянен. О Свет со множеством имен, ибо Он трудится во всех вещах. […] Как смешиваешься Ты с травой? Как, оставаясь неизменным и совершенно недоступным, Хранишь, не растворяя, естество травы?[370]Бессмысленно было давать определения тому Богу, который вызвал подобное преображение, поскольку Он пребывал за рамками речи и словесных описаний. Тем не менее Он был реальностью непротиворечивой, так как оставался переживанием, которое пронизывало и преображало человека, не нарушая его целостности. Разработанные греками представления о Боге – такие, например, как Троица и Вочеловечение – отделили христианство от прочих религий единобожия, однако переживания христианских мистиков имели много общего с переживаниями иудаистов и мусульман.
Несмотря на то что пророка Мухаммада волновало прежде всего создание справедливого общества, сам он и многие из его близких имели явную склонность к мистицизму, вследствие чего в исламе быстро возникла весьма своеобразная мистическая традиция. В VIII–IX вв. наряду с прочими сектами развивались и аскетические направления ислама. Царившая в дворцах роскошь и явное забвение скромного образа жизни ранней уммы тревожили не только шиитов и мутазилитов, но и аскетов, мечтавших вернуться к незатейливой жизни первых мединских мусульман и потому носивших одежду из грубой шерсти, в какую, по преданию, облачался сам Пророк. Со временем таких аскетов начали называть суфиями (от арабского корня SWF – «шерсть»). По словам французского ученого Луи Массиньона, чрезвычайно важное место в благочестии суфиев по-прежнему занимала социальная справедливость:
Мистическое призвание становится, как правило, следствием сознательного протеста души – и не столько против социальной несправедливости и чужих пороков, сколько против собственных изъянов и ошибок, с обостренным желанием очиститься внутренне и любой ценой найти Бога[371].
Первоначально суфии почти не отличались от прочих сект. Так, выдающийся рационалист-мутазилит Васил ибн Ата (ум. в 748 г.) был учеником Хасана ал-Басри (ум. в 728 г.), аскета из Медины, которого позже стали чтить как одного из отцов суфизма.
К тому времени улемы уже решительно отличали ислам от остальных религий и видели в нем единственную истинную веру, но большинство суфиев хранили верность кораническому представлению о единстве всех пророческих религий. В частности, многие суфии поклонялись Иисусу как пророку духовной жизни, а кое-кто даже вносил самовольную правку в шахада, исповедание веры, и говорил: «Нет иного бога, кроме Аллаха, а Иисус – Пророк Его» (формально это было совершенно точно, но звучало, как и задумывалось, провокационно). Коран повествовал о Боге справедливом, внушающем страх и благоговение; тем временем одна из первых женщин-аскетов по имени Рабиа (ум. в 801 г.) говорила о любви, причем слова ее показались бы очень знакомыми христианам:
Люблю Тебя я двойственной любовью: и корыстно, И так, как должно нам Тебя любить. Корыстно – это так любить Тебя, Чтоб думать о Тебе лишь каждый миг! А чистая любовь – когда приподымаешь Перед моим влюбленным взором Свой покров. И уж не я тогда хвалю Тебя за всё — Твои это хвалы, я это знаю[372].Эти стихи очень близки к знаменитой молитве, которую произнесла та же Рабиа: «Господи! Если я служу Тебе из страха адских мук, то спали меня в аду! Если я служу Тебе в надежде на рай, то изгони меня из рая! Но если я служу Тебе ради Тебя Самого, то не скрой от меня Своей вечной красы!»[373] Такая любовь к Богу стала «визитной карточкой» суфизма. Вполне возможно, что большое влияние на суфиев оказали ближневосточные аскеты-христиане, и все же главным источником вдохновения оставался пророк Мухаммад. Суфии стремились сблизиться с Богом так же тесно, как соприкасался с Ним Пророк, когда получал откровения свыше. Естественно, суфиев манило и мистическое путешествие Мухаммада на Небеса – эта легенда вообще легла в основу их специфического восприятия Бога.
Кроме того, суфии выработали систему упражнений, благодаря которой многие мистики во всем мире научились входить в измененные состояния сознания. К основным требованиям исламского закона суфии добавили пост, ночные бдения и повторение Прекрасных Имен Бога (подобно мантрам). Эти практики нередко приводили к столь странным и необузданным поступкам, что таких суфиев стали называть «опьяненными». Первым из этих мистиков стал Абу Йазид ал-Бистами (ум. в 874 г.). Как и Рабиа, он видел в Боге Возлюбленного. Ал-Бистами верил, что обязан радовать Аллаха, как ублажают женщину при ухаживании, то есть приносить в жертву собственные желания и потребности и стремиться к полному единению с Возлюбленным. Однако освоенные мистиком приемы самопостижения вскоре подняли его выше этих персонифицированных представлений. Погрузившись в самую сердцевину своей души, ал-Бистами ощутил, что между ним и Богом нет никаких преград – всё, что прежде воспринималось как «я», полностью исчезло:
Взирал я на Аллаха оком истины и молвил Ему: «Кто Ты?»
И ответил Он: «Не Я и не кто иной, как Я. Нет бога, кроме Меня».
И тогда Он словно подменил меня Самим Собой. […]
И я обратился к Нему Его собственным языком, от Его Лица, говоря: «Как сталось, что я стал Тобой?» И Он ответил: «Я насквозь в Тебе; нет иного Бога, кроме Тебя»[374].
Это не было какое-то «потустороннее» и чуждое человеку божество; Бог, которого нашел ал-Бистами, пребывал в таинственном тождестве с сокровенным «Я». Методичное уничтожение эго вело к чувству растворения в необъятной и неизъяснимой реальности. Это состояние уничтоженности (фана) стало главным в системе идеалов суфизма. Ал-Бистами предложил совершенно новое толкование шахады, которое вполне могли счесть богохульством, если бы оно не было воспринято многими мусульманами как подлинное ощущение той покорности (ислам), какую предписывал Коран.
Другие мистики, которых называли «трезвыми», отдавали предпочтение менее экзальтированной духовности. Для багдадского суфия ал-Джунайда (ум. в 910 г.), составившего «генеральный план» дальнейшего исламского мистицизма, не было сомнений в том, что экстремизм в духе ал-Бистами таит в себе угрозу. По его мнению, фана (уничтожение) должно смениться состоянием бака (возрождения), то есть обретением нового, лучшего «я». Единение с Богом должно не уничтожать естественные свойства человека, а совершенствовать их; суфий, который избавился от замутняющего ум эгоизма и открыл присутствие Божественного в глубине собственной души, переходит затем к обостренному самосознанию и самоконтролю. Иными словами, он становится настоящим человеком. Таким образом, состояния фана и бака сходны с тем, что греческие христиане называли «обожествлением». Конечную цель исканий суфия ал-Джунайд видел в возвращении к изначальному человеку, каким тот был в первый день творения, то есть к задуманному Богом идеалу. Одновременно суфий возвращался к Источнику своего естества. Ощущение разделенности, отчужденности занимало в учении суфиев такое же важное место, как и в мировоззрении платоников или гностиков; вполне возможно, что эти идеи сходны с «расщепленностью», о которой говорят сегодня фрейдисты и кляйнианцы, хотя причины ее психоаналитики видят отнюдь не в сверхъестественном. Ал-Джунайд утверждал, что благодаря тщательной и напряженной работе под руководством такого опытного учителя-суфия (пира), каким был он сам, любой мусульманин может воссоединиться с Творцом и обрести изначальное ощущение присутствия Бога – то чувство, которое, как сказано в Коране, испытывал человек, когда был извлечен из чресел Адамовых. Это положит конец разделенности и скорби; наступит слияние с глубинным «я» – тем «я», какое и должно быть присуще человеку по Божьему замыслу. Бог – не отдельная внешняя реальность и не равнодушный судья; Он неким чудесным образом неразрывно связан с основой естества каждого человека:
Теперь знаю, Господь мой, Что в сердце моем; В тайне, вдали от мира Говорил я с Возлюбленным своим. Каким-то чудом Едины мы и слиты, Хотя разъединенность — Наш удел извечный. И пусть от взора моего проникновенного Благоговение глубокое Твой Лик скрывает, В чудесной и блаженной Благодати я чувствую: Ты прикасаешься к моим глубинам сокровенным[375].Особое подчеркивание единства вновь возвращало суфиев к кораническому идеалу ат-таухид: воссоединяя свое разрозненное «я», мистик в собственной цельности испытывал божественное присутствие.
Ал-Джунайд особенно остро сознавал опасные стороны мистицизма. Люди неподготовленные, лишенные благотворного влияния пира и суровой суфийской дисциплины, рискуют понять мистическое блаженство совершенно превратно и прийти к крайне упрощенным представлениям о том, что означает слияние с Богом. Экстравагантные заявления в духе ал-Бистами, конечно, не вызовут у властей ничего, кроме приступов ярости. На том раннем этапе суфизм был движением малочисленным, и улемы часто воспринимали его как неудачное новшество. Знаменитый ученик ал-Джунайда по имени Хусайн ибн Мансур (более известный под прозвищем ал-Халладж, «Чесальщик Хлопка») отбросил всякую осторожность и мученически погиб, отдав жизнь за свою мистическую веру. Он скитался по Ираку и призывал в своих проповедях свергнуть халифат, чтобы установить новый социальный порядок; власти заключили его в тюрьму, а затем распяли – как Иисуса, которого ал-Халладж боготворил. Однажды в приливе блаженства ал-Халладж воскликнул: «Я есмь Истина!» Согласно Евангелиям, те же слова произнес Иисус: «Я есмь путь и истина и жизнь»[376]. Коран неоднократно осуждает как богохульство веру христиан в то, будто Бог вочеловечился во Христе; неудивительно, что экстатический возглас ал-Халладжа просто ужаснул мусульман. Ал-Хакк, «Истина» – одно из имен Бога; присваивать подобное звание себе, простому смертному, – настоящее кощунство. Конечно, ал-Халладж лишь пытался выразить ощущение столь тесного слияния с Богом, когда ты словно отождествился с Ним. В одном из своих стихотворений мистик выразил это так:
Я – Он, Кого люблю, а Он, Кого люблю, Он – Я. Мы – духа два, что населяют одно тело. И, глядя на меня, Его ты видишь, А глядя на Него, ты видишь нас обоих[377].Эти дерзкие слова призваны были передать гибель «я» и слияние с Богом, которое наставник ал-Халладжа, ал-Джунайд называл фана. Обвиненный в богохульстве ал-Халладж не отрекся от своих слов и умер мученической смертью.
Когда привели его к распятию и увидел он крест и гвозди, ал-Халладж обернулся к людям и прочел молитву, а закончил ее такими словами: «И эти слуги Твои, что сошлись казнить меня во имя искренней веры Твоей и из желания снискать Твое расположение, – прости их, Господи, и смилуйся над ними. Ибо, поистине, если бы Ты открыл им то, что открыл мне, не делали бы они того, что делают, и если бы Ты скрыл от меня то, что скрыл от них, не страдал бы я такими муками. Слава Тебе во всех деяниях Твоих, хвала Тебе во всех замыслах Твоих!»[378]
Восклицание ана-л-Хакк, «Я есмь Истина», подразумевает, что для мистиков Бог – не объективная, но, напротив, совершенно субъективная реальность. Позже ал-Газали доказывал, что ал-Халладж вовсе не богохульствовал, а просто необдуманно высказал эзотерическую истину, трудную для понимания непосвященных. Поскольку нет иной реальности, кроме Аллаха – а именно в этом главный смысл шахады, – все люди по сути своей божественны. В Коране сказано, что Бог создал Адама по образу Своему, чтобы созерцать Себя как в зеркале. По этой причине Он велел ангелам поклониться первому человеку[379]. Суфии добавили бы, что христиане ошиблись в одном: они решили, будто только один человек воплотил в себе Божественное. Возвращаясь к изначальному восприятию Бога, мистик находит образ Божественного в собственной душе и становится таким, каким был человек в первый день творения. В Священном Предании (хадис кудси), к которому суфии питали особую любовь, Бог настолько приближает к себе мусульман, что, можно сказать, готов воплотиться в каждом из Своих слуг: «Когда Я люблю его, становлюсь Ухом, которым он слышит, Оком, которым он видит, Рукой, которой он берет, и Ногой, которой он ходит». История с ал-Халладжем показывает, насколько серьезными могут стать противоречия между мистиками и официальной религией; это объясняется совершенно разными представлениями о Боге и Его откровениях. Для мистика откровение – явление, происходящее в глубинах его собственной души, а для остальных людей, в том числе и улемов, – событие историческое, жестко привязанное к прошлому. Тем не менее мы уже знаем, что в XI в. такие исламские философы, как ибн Сина и ал-Газали, сами убедились в противоречивости объективных сведений о Боге и обратились в мистицизм. Благодаря ал-Газали суфизм был принят властями и, более того, признан самой достойной формой исламской духовности. В XII столетии иранский философ Иахйа Сухраварди и уроженец Испании Мухйи ад-дин ибн ал-Араби неразрывно связали мусульманскую фалсафу с мистицизмом: суфийские представления о Боге стали нормой в большинстве регионов Исламской империи. Однако Сухраварди, как и ал-Халладж, был в 1191 г. по неясным причинам приговорен к смерти улемами города Халеба. Делом жизни Сухраварди стала разработка того, что сам он назвал исходным «восточным озарением» ислама; тем самым он осуществил замысел ибн Сины. Сухраварди утверждал, что все мудрецы древности проповедовали одну и ту же доктрину. Первоначально она была открыта Гермесу (его Сухраварди отождествлял с кораническим пророком Идрисом и библейским Енохом); в греческом мире преемниками этого учения были Платон и Пифагор, а на Ближнем Востоке – зороастрийские маги. Однако после Аристотеля эта доктрина была искажена узкоинтеллектуальной, рассудочной философией, хотя по-прежнему тайно переходила от мудреца к мудрецу, пока не дошла до самого Сухраварди через ал-Бистами и ал-Халладжа. Эта вечная философия была мистичной и опиралась на силу воображения, но вовсе не пренебрегала рассудком. В логичности Сухраварди ничуть не уступал ал-Фараби, но в то же время настаивал на важности интуиции как одного из средств постижении истины. Коран утверждал, что вся истина – от Бога, и ее следует искать повсюду, где можно найти. А найти ее можно и в язычестве, и в зороастризме, и в религиях единобожия. В отличие от догматической веры, сводящейся к спорам между конфессиями, мистицизм часто провозглашал, что сколько людей, столько и путей к Богу. Наибольшей терпимостью к чужой вере выделялся суфизм.
Сухраварди нередко называли «царем озарения» (Шайх ал-ишрак). Подобно грекам, Бога он воспринимал в категориях света. В арабском языке «ишрак» означает не только просветление, но и первый луч рассвета, приходящий с Востока. Под Востоком здесь понимается не географическое направление, а источник света и энергии. По учению Сухраварди, человек смутно помнит о своем Происхождении: испытывая подавленность в этом мире теней, он тоскует по извечной родине. Сухраварди заверял, что его философия поможет мусульманам найти верный путь и, благодаря творческому воображению, возродить в душе чистоту вечной философии.
Невероятно сложное учение Сухраварди представляло собой попытку объединить религиозные прозрения всех народов мира в одну одухотворенную веру. Истину можно найти повсюду, нужно лишь искать. По этой причине в его философии доисламская иранская космология сочеталась с планетарной системой Птолемея и неоплатонической схемой эманаций. С другой стороны, ни один файласуф не ссылался так часто на Коран. В рассуждениях Сухраварди на космологические темы пояснению происхождения материальной вселенной уделено не так уж много внимания. Главный свой труд – «Книгу восходящей мудрости» («Китаб хикмат ал-ишрак») – Сухраварди начинает с проблем физики и других естественных наук, но это лишь вступление к основной, мистической части книги. Подобно ибн Сине, Сухраварди все больше разочаровывался в сугубо рациональном, прагматическом направлении развития фалсафы, хотя искренне верил, что логические и метафизические рассуждения должны занимать свое место в общем восприятии действительности. Настоящий мудрец, по мнению Сухраварди, обязан быть образцовым философом и мистиком одновременно – и такие люди на свете есть всегда. В теории это очень напоминало шиитскую имамологию: Сухраварди полагал, что подобные духовные вожди являются истинными «полюсами» (кутб), в отсутствие которых мир просто прекратит свое существование. Учение Сухраварди о «восточном озарении», до сих пор распространенное в Иране, остается эзотерическим – и вовсе не потому, что предназначено лишь для избранных. Просто оно требует напряженной духовной и творческой подготовки, сходной с той, какую проходят исмаилиты и суфии.
Греки, вероятно, сочли бы систему Сухраварди скорее догматичной, чем керигматичной: он пытался найти творческое ядро, лежащее в основе всякой религии и философии. Сухраварди настаивал на том, что разум не способен познать самые сокровенные тайны, но тем не менее никогда не отрицал его права стремиться к ним. Истину следует искать не только в эзотерическом мистицизме, но и в научном рационализме; остроту восприятия нужно воспитывать и поверять здравыми критическими суждениями.
Как подсказывает само название, ядром философии «озарения» был символ Света, идеально передающий сущность Бога. Тогда, в XII в., свет считали нематериальным и неопределимым явлением, которое, тем не менее, остается достовернейшим фактом на свете; свет совершенно самоочевиден, не требует никаких определений и единодушно воспринимается всеми как та стихия, благодаря которой возможна жизнь. Свет вездесущ; он – непосредственная причина свечения любых материальных тел, внешний по отношению к ним источник. В космологии Сухраварди «Свет Света» соответствовал Необходимо Сущему файласуфов, которое являло собой саму Простоту. От этого Света эманировал ряд малых светов, образующих нисходящую иерархию; каждое малое свечение, сознающее свою зависимость от Света, порождало также свою тень, которая становилась источником материального мира и соответствовала одной из птолемеевских сфер. Эта картина иносказательно объясняет и положение человечества: в каждом из нас точно так же сопряжены свет и тень, и светлая сторона, душа, дарована нам зародышем Святого Духа (в схеме ибн Сины ему соответствовал ангел Джабраил, свет нашего мира). Душа жаждет воссоединиться с высшим миром Света и даже способна на мгновение увидеть его еще здесь, в дольнем мире, если, конечно, пройдет надлежащее обучение у святого-кутба или у кого-то из его преемников.
В трактате «Хикмат ал-ишрак» Сухраварди рассказал и про свое собственное озарение. В ту пору он был одержим проблемой познания, но никак не мог найти решения; книжная образованность тоже ничем не помогала. Затем Сухраварди открылось видение Имама, кутба, целителя душ:
Вдруг меня окутало благостью: сначала слепящая вспышка, после свет прозрачный в облике как бы человеческом. Я пристально вгляделся – и вот, он. […] Он приблизился ко мне и приветствовал так ласково, что замешательство мое тут же прошло и испуг сменился чувством давнего знакомства. И тогда я принялся жаловаться ему, что не могу разрешить проблему познания.
«Пробудись и вспомни себя, – сказал он мне, – тогда и найдешь решение»[380].
Такое пробуждение, или озарение, заметно отличается от мучительного, жестокого вдохновения пророка и куда ближе к безмятежному просветлению Будды. Мистицизм вносил в религии Единого Бога более спокойную духовность. Озарение, приходящее из глубины души самого мистика, не требует столкновения с внешней Реальностью. Не связано оно и с передачей знаний. Развитие творческого воображения позволяло людям вернуться к Богу, соприкоснувшись с миром чистых образов, алам ал-митхал.
Сухраварди обратился к древнеиранской вере в существование мира архетипов: у каждого человека и предмета из гетик (обыденного, материального мира) есть точный двойник в менок (небесном царстве). Мистицизм возрождал давнюю мифологию, явно отвергнутую религиями единобожия. Менок, который в схеме Сухраварди получил название алам ал-митхал, стал некой промежуточной сферой между нашим и Божественным мирами. Эта сфера недоступна ни рассудку, ни органам чувств. Мир скрытых архетипов открывается только творческому воображению – подобно тому, как истинный духовный смысл Корана можно раскрыть лишь посредством символического толкования. Алам ал-митхал был близок к исмаилитским представлениям о духовной истории ислама как истинной подоплеке земных событий, а также к ангеловедению ибн Сины, о чем речь шла в предыдущей главе. Идеи Сухраварди стали решающими для всех грядущих мистиков ислама и указали путь толкования мистических переживаний и видений. Переживания, о которых повествует Сухраварди, разительно напоминают видения шаманов, мистиков и юродивых во всех культурах мира. Это явление совсем недавно вызвало большой интерес ученых.
Юнгианская концепция коллективного бессознательного представляет собой научную попытку исследовать общий для всего человечества опыт творческого воображения. Другие ученые, в частности американский философ религии, румын по происхождению, Мирча Элиаде, пытались показать, что древние эпосы и некоторые разновидности сказок основаны на экстатических путешествиях и мистических полетах[381].
Сухраварди утверждал, что видения мистиков и символы Писания – в частности, Небеса, Ад и Страшный Суд – столь же реальны, как привычные нам явления материального мира, хотя и имеют иную природу. Доказать эмпирически их существование невозможно – их реальность очевидна лишь для развитого воображения, которое позволяет визионерам разглядеть духовные измерения обыденных явлений. Всем, кто не прошел необходимой подготовки, бессмысленно искать таких переживаний – точно так же как и буддийского просветления, требующего обязательных нравственных и медитативных упражнений. Все наши мысли, представления, желания, мечты и видения соответствуют извечным реалиям в сфере алам ал-митхал. Пророк Мухаммад, например, узрел этот промежуточный мир во время своего Ночного Полета, когда перенесся на порог мира Божественного. Сухраварди непременно пришел бы к выводу, что видения случались у иудейских «престольных мистиков» именно потому, что те научились благодаря своим духовным практикам сосредоточения проникать в алам ал-митхал. Таким образом, путь к Богу пролегает не только через сферу рассудка, которую так чтили файласуфы, но и через пространство творческого воображения – царство мистики.
Многие современные жители Запада просто оскорбились бы, заяви кто-нибудь из видных богословов, будто Бог – пусть даже в некоем глубоком смысле – является плодом воображения. С другой стороны, очевидно, что воображение представляет собой важнейшее религиозное качество. Жан-Поль Сартр назвал это способностью мыслить о том, чего нет[382]. Люди – единственные животные, умеющие предвидеть то, что еще не случилось или не возникло, но может возникнуть. Воображение – вот основная причина всех наших достижений в науке и технологии, искусстве и религии. Идея «Бога», что бы под этим словом ни понимали, является, пожалуй, главным символом той реальности, которая, несмотря на недоказанность ее существования и все сопутствующие сложности, уже много тысячелетий воодушевляет человечество. Существование Бога не проверяется органами чувств и не допускает логического обоснования; мыслить о Нем можно лишь одним способом – посредством символов, а их толкование и является главной функцией воображения. Сухраварди творчески переосмыслил те символы, что оказывают решающее влияние на человеческую жизнь, пусть даже сами реалии, которые кроются за этими символами, остаются неуловимыми. Символ можно определить как предмет или понятие, которое воспринимается органами чувств или умом и посредством которого постигается нечто иное. Силой одного лишь рассудка невозможно проникнуть в особое, всеобщее или вечное, таящееся в частных и преходящих вещах. Эта задача решается только творческим воображением, которому и приписывают свои прозрения мистики и художники. Как и в искусстве, в религии большая часть символов пронизана обширными знаниями и глубоким пониманием условий человеческого бытия. Сухраварди, который был знатоком метафизики и с удивительным изяществом писал на арабском, прославился не только в мистицизме, но и в искусстве. Соединив несовместные на первый взгляд направления – науку и мистицизм, языческую философию и религию единобожия, – он помог мусульманам создать собственный, особый символизм и по-новому осмыслить действительность.
Однако еще большее влияние на ислам оказал Мухйи ад-дин ибн ал-Араби (1165–1240 гг.), чью жизнь можно, пожалуй, счесть символом разделения Востока и Запада. Его отец был дружен с ибн Рушдом, на которого во время одной из их встреч набожность юного ал-Араби произвела огромное впечатление. В период тяжелой болезни ибн Араби обратился, однако, в суфизм, а в тридцатилетнем возрасте перебрался из Европы на Ближний Восток. Он совершил хаджж и провел два года у Каабы в молитвах и размышлениях, после чего поселился в Малатье на Евфрате. Его нередко называли Аш-Шайх ал-Акбар, «Величайшим Учителем». Идеи ибн Араби очень серьезно затронули исламские представления о Боге, но не произвели никакого впечатления на европейцев, которые считали, что мусульманская философия закончилась на ибн Рушде. Мир западного христианства принял аристотелевского Бога ибн Рушда, тогда как большая часть мусульман вплоть до сравнительно недавнего времени отдавала предпочтение «воображаемому» Богу мистиков.
В 1201 г., обходя Каабу, ибн ал-Араби пережил видение, которое оказало глубочайшее и продолжительное влияние на его веру: он узрел юную деву по имени Низам, окруженную небесным ореолом, и сразу понял, что видит воплощение Софии, Божественной Премудрости. Это богооткровение заставило ибн Араби осознать, что любить Бога, полагаясь лишь на рациональные философские суждения, просто невозможно. Фалсафа подчеркивала недостижимую возвышенность Аллаха и напоминала, что с Ним не сравнимо ничто. Возможно ли любить столь чуждое? Тем не менее мы можем любить Бога в Его творениях: «Когда любишь кого-то за его красоту, любишь не кого иного, как Самого Бога, ибо Он и есть Прекраснейшее, – разъяснял ибн Араби в своем сочинении «Футухат ал-маккийа» («Мекканское Откровение»), – и потому предмет любви, во всех его гранях, – только Сам Бог»[383]. Шахада напоминает, что нет иного бога, иной высшей реальности, кроме Аллаха. Следовательно, нет и иной Красоты, кроме Него. Мы не в силах увидеть Самого Бога, но все же способны замечать Его присутствие, ибо Он по Своей воле подчас открывается нам в таких своих творениях, как Низам, – и те пробуждают в наших сердцах любовь. Для того чтобы разглядеть в деве Низам то, что она есть на самом деле, мистик обязан сам пробуждать в себе богоявленные видения. Любовь, по сущности своей, – это стремление к чему-то отсутствующему, вот почему она так часто приносит людям разочарования. Низам стала для ибн Араби «предметом Исканий и надеждой, Девой Пречистой». В предисловии к сборнику любовной лирики «Диван» ал-Араби говорит:
В стихах, собранных для этой книги, я непрестанно упоминаю о богодухновениях, духовных посещениях и соответствиях [нашего мира] миру Ангельских Разумов. В этом я верен своей привычке мыслить символами, ибо явления мира незримого влекут меня больше, чем жизнь реальная, и та юная дева прекрасно знала, о чем я говорю[384].
Творческое воображение превратило Низам в аватара, воплощение Бога.
Примерно восемьдесят лет спустя сходные переживания испытал, увидев Беатриче Портинари, молодой Данте Алигьери. Когда их взгляды встретились, юноша ощутил пылкий трепет души, которая, как ему показалось, воскликнула: «Вот пришел Бог сильнее меня, дабы повелевать мною»[385]. С того мгновения Данте жил под властью любви к Беатриче, которая стала его госпожой «благодаря силе моего воображения»[386]. Беатриче всегда была для Данте символом божественной любви; в «Божественной комедии» именно эта любовь привела его, после воображаемого путешествия через Ад, Чистилище и Рай, к видению Самого Бога. Идею поэмы внушили Данте мусульманские предания о восхождении Мухаммада на Небеса; можно не сомневаться, что вера в творческое вдохновение роднила итальянца с ибн ал-Араби. Данте не соглашался с тем, будто imaginativa лишь по-новому сочетает образы, почерпнутые из обыденного мира, как утверждал Аристотель. Для Данте взлеты воображения во многом объяснялись Божественным вдохновением:
Воображенье [imaginativa], чей порыв могучий Подчас таков, что, кто им увлечен, Не слышит рядом сотни труб гремучей, В чем твой источник, раз не в чувстве он? Тебя рождает некий свет небесный, Сам или высшей волей источен[387].На протяжении всей поэмы Данте последовательно очищает повествование от чувственных и зрительных образов: яркое, почти телесно ощущаемое описание Ада сменяется трудным, волнующим восхождением по горе Чистилища к земному Раю, где Беатриче попрекает поэта за то, что он видит в ней одну лишь внешнюю красоту; на самом же деле ему следует видеть в ней символ, олицетворение, уводящее от обыденного к Божественному. В рассказе о Рае словесные описания чего-то конкретного уже почти не встречаются; даже души праведников очерчены неясно – и это напоминает о том, что личное не может быть окончательной целью человеческих устремлений. Венчает поэму трезвый и рассудительный символический ряд, выражающий непостижимую возвышенность Бога, который пребывает вне всего, что только можно себе вообразить. Данте обвиняли в том, что «Рай» рисует чрезмерно холодный портрет Бога, однако именно эта абстрактность напоминает, что о Боге нам не известно в конечном счете ровно ничего.
Ибн ал-Араби был убежден, что воображение – свойство, даруемое свыше. Вызывая у себя богооткровение, мистик порождает здесь, внизу, ту действительность, которая в более совершенной форме существует в мире архетипов. Пытаясь разглядеть божественное в других людях, мы предпринимаем попытку разоблачить подлинную действительность силой воображения. «Тварей Своих Бог создал как завесу, – поясняет ибн Араби. – Кто знает это, тот приближается к Богу, а кто видит тварей Его как реальное, тот отгорожен от Его присутствия»[388]. Таким образом – и это вполне суфийский путь, – духовность, вначале ярко личностная, сосредоточенная на человеческом, в итоге привела ибн ал-Араби к сверхличностным представлениям о Боге. Образ девы оставался, однако, для него очень важным; он верил, что женщины – самое великое воплощение Софии, Божественной Премудрости, так как обладают даром вселять в мужчин любовь, которая в конечном счете означает любовь к Самому Богу. Это, нужно признать, типично мужской взгляд, но он, тем не менее, представляет собой попытку внести женское начало в религию Единого Бога, которого чаще всего мыслили как чисто мужскую сущность.
Ибн ал-Араби не считал, что Бог обладает «объективным существованием». Несмотря на большой опыт в метафизике, он не верил также, что существование Бога можно доказать логическим путем. Самого себя ибн Араби любил называть учеником Хедра – так принято называть загадочного незнакомца, духовного проводника Мусы (Моисея), который принес израильтянам Закон свыше. Бог даровал Хедру «милосердие от Себя» и научил Своему знанию. Моисей просил у Хедра наставлений, но тот ответил, что не сможет их передать, ибо они выше религиозных переживаний Моисея[389]. Нехороши уже сами попытки понять умом религиозные «знания», не пережитые как личный опыт. Имя Хедр (Хидр), означающее, по-видимому, «Зеленый», подсказывает, что мудрость его вечно свежа и непрестанно обновляется. Даже пророк уровня Моисея не всегда в состоянии постичь эзотерические грани веры; так, согласно Корану, Муса быстро убеждается, что действительно не в силах «утерпеть» с Хедром, то есть понять его наставления. Смысл этого странного эпизода заключается, по всей видимости, в том, что внешние признаки религии далеко не всегда соответствуют ее духовным и мистическим составляющим. Многие люди, в том числе улемы, могут и не разобраться в суфийском исламе в духе ибн Араби. По мусульманскому преданию, Хедр – учитель всех, кого манит мистическая истина, а она всегда выше буквально понимаемых, поверхностных проявлений и существенно от них отличается. Хедр ведет своих последователей не к общепризнанным представлениям о Боге, а к иному Богу – субъективному в самом глубоком смысле этого слова.
Фигура Хедра была не менее важна и для исмаилитов. Несмотря на то что ибн Араби относил себя к суннитам, учение его было очень близко исмаилитам и впоследствии вошло в их богословие – вот еще один пример того, что мистическая вера способна преодолевать рамки сектантских течений. Как и исмаилиты, ибн ал-Араби подчеркивал страстность (пафос) Бога, что резко расходилось с безучастностью (апатия) бога философов. Бог мистиков стремился к тому, чтобы Его познало всё сущее. Исмаилиты полагали, что существительное илах (бог) произошло от арабского корня WLH: «печалиться, тосковать»[390]. Священный хадис вкладывает в уста Бога слова: «Я был сокровищем скрытым. Я пожелал, чтобы Меня узнали. И вот, сотворил Я мир, чтобы узнали Меня». Рационально обосновать тоску Бога невозможно; мы догадываемся о ней лишь потому, что знаем собственную тягу к исполнению заветных желаний и объяснению трагичности и мучительности жизни. Поскольку мы созданы по образу Божию, то и в этом должны походить на Него, наш высший архетип. Наше стремление к реальности, именуемой «Богом», свидетельствует, таким образом, о нашем сопереживании Его страстности. Ибн ал-Араби воображал, как одинокий Бог вздыхает от тоски, но этот печальный вздох (нафас рахмани) выражает не слезливую жалость к Себе. Вздохи Его – деятельная, созидательная сила, вызывающая к бытию весь космос; то же дыхание вдунуто в людей, ставших logoi – словами, изъясняющими Богу Его Самого. Из этого следует, что каждый человек – уникальная епифания Сокровенного Бога, являющая Его в особом, неповторимом выражении.
Божественные logoi – это имена, которыми Бог Сам назвал Себя, полностью выразившись в каждой своей епифании. Бога невозможно свести к единичному человеческому выражению, так как божественная реальность неисчерпаема. Из этого следует, помимо прочего, что откровение Бога в каждом из нас уникально – и отличается от того, как Бог выразил Себя в бесчисленных людях, которые тоже суть Его logoi. Нам же дано познать лишь «собственного» Бога, поскольку выразить Его объективно мы не в силах; поэтому человек не способен постичь Бога таким, каким видят Его другие. Как утверждал ибн Араби, «для каждой твари Бог – лишь ее частный Бог, а цельного Бога она не вмещает». Он любил повторять известный хадис: «Размышляй о милостях Божих, но не о Его сущности (ал-Дхат)»[391]. Вся реальность Бога непостигаема, и нам следует сосредоточиться на частном Слове, вложенном в наше собственное естество. Подчеркивая недостижимость Бога, ибн Араби часто называл Его ал-Ама, «Облако» или «Ослепление»[392]. С другой стороны, посредством людей – logoi – Сокровенный Бог открывается и Самому Себе. Это двусторонний обмен: Бог желает, чтобы Его познали, и избавляется от чувства одиночества с помощью людей, в которых раскрывает Себя. Скорбь Непознанного Бога утоляется через Его Откровение в каждом из нас; посредством человечества Он познает Сам Себя. Справедливо и обратное: раскрываемый в каждой личности Бог тяготеет к Своему источнику и страдает от божественной ностальгии, которая проявляется в наших стремлениях.
Божественное и человеческое – вот две грани Высшего Бытия, наполняющего жизнью весь космос. Такое прозрение довольно схоже с греческим представлением о Вочеловечении Бога в Иисусе, однако ибн ал-Араби не мог смириться с мыслью, будто беспредельная реальность Бога способна целиком воплотиться в одном-единственном, пусть и совершенном, человеке. По мнению ибн Араби, каждый человек является уникальным воплощением Божественного. Тем не менее, мыслитель ввел в свои построения и символ Совершенного Человека (инсан ал-камил), который во благо своих современников олицетворяет в каждом поколении тайну Откровенного Бога, хотя даже этот святой, разумеется, не вмещает в себе цельную реальность Бога и Его потаенную сущность. Пророк Мухаммад был, в частности, Совершенным Человеком своего времени и самым действенным символом Божественного.
Такой самосозерцательный мистицизм призывал искать основу бытия в глубинах собственной души. Он лишал мистика той несомненной уверенности, которая характерна для более догматичной веры. Поскольку каждый человек воспринимает Бога по-своему, ни одна религия не в силах выразить божественную тайну во всей ее полноте. Объективной истины о Боге, с которой обязаны соглашаться все без исключения, тоже не существует: Бог выше любых личностных категорий, и потому высказывать предположения о Его действиях и склонностях просто недопустимо. Столь же неприемлем и всякий шовинизм, то есть убежденность в преимуществе родной веры над религиями других народов, ведь полной правды о Боге не знает ни одна вера. Ибн ал-Араби уважал другие религии, о которых упоминает Коран, и явил собой высший образец веротерпимости:
Душа моя вмещает всё — Скит для монаха, капище для истукана, Луга с газелями, Каабу верных, И свитки Торы, и Коран. Любовь – вот моя истинная вера: Куда б ни повернул мой караван, Она всегда со мной пребудет[393].Для того, кто истинно верует в Бога, и синагога, и языческий храм, и церковь, и мечеть – места в равной мере родные, поскольку все они предназначены для искреннего восхваления Бога. Ибн Араби часто употреблял выражение «Бог, творимый верой» (халй ал-хакк фи'л-итикад); оно звучало бы оскорбительно лишь в случае, если бы речь шла о том «боге», которого люди «творят» в частных религиях и почитают как Самого Бога, однако подобный подход не приносит ничего, кроме нетерпимости и фанатизма. Не признавая такого идолопоклонства, ибн Араби советовал:
Не прилепляйся к одной-единственной вере, иначе усомнишься в прочих и утратишь многие блага – и не познаешь тогда истины. Бог вездесущий и всемогущий; Он не ограничивает Себя одной верой, ибо сказано: «Куда б ни повернулись вы, лик Господа везде»[394]. Всяк хвалит то, во что верует; его бог – его собственное творение, и, восхваляя его, он хвалит лишь себя. И потому хулит веру чужую, чего бы не делал, будь он справедлив, а причина неприятия его – в неведении[395].
Нам никогда не открывается иной Бог, кроме единичного Имени, которое проявилось и обрело овеществленное бытие в нас самих. По этой причине наше восприятие «личного Бога» неизбежно окрашено внушенным религиозным воспитанием. Однако мистик (ариф) знает, что этот «личный Бог» – просто «ангел», частный символ Божественного, и его ни в коем случае нельзя принимать за Саму Сокровенную Реальность. Мистик видит достоверное богооткровение в самых разных религиях. В отличие от Бога догматичных религий, который делил людей на противоборствующие лагеря, Бог мистиков стал для человечества объединяющей силой.
Хотя учение ибн ал-Араби было слишком сложным для большинства мусульман, оно все же получило известность и среди простого народа. В XII–XIII вв. суфизм превратился из малочисленного течения в господствующее и преобладал почти на всей территории Исламской империи. Именно в этот период были основаны разнообразные суфийские братства (тарики), каждое из которых предлагало собственное толкование мистической веры. Суфийские шейхи пользовались огромным авторитетом в народе; их часто чтили как святых и превозносили, как шииты – имамов. То была эпоха политических переворотов: Багдадский халифат распадался, а исламские города один за другим опустошались ордами монголов. Людям нужен был новый Бог – близкий и сострадательный, в отличие от безучастного Бога файласуфов или Бога-законодателя улемов. Суфийская практика дхикр – произнесения Божественных Имен как мантры вплоть до наступления экстаза – распространилась далеко за пределами тарик. Дисциплина сосредоточенности, в сочетании с тщательно продуманными дыхательными упражнениями и позами, помогала людям обнаруживать Божественное присутствие в собственной душе. Высшие мистические состояния достигались далеко не каждым, но подобные духовные упражнения все же помогали людям избавиться от упрощенных, очеловеченных представлений о Боге и ощущать Его как сокровенную основу души. В некоторых братствах сосредоточение усиливали с помощью музыки и танцев, а их руководители-пиры становились в глазах людей настоящими героями.
Больше других прославилось братство маулаввийа, чьих членов на Западе принято называть «кружащимися дервишами». Их методом сосредоточения был величавый и изящный танец. Кружась в танце, суфий сливался с происходящим и чувствовал, как разрушаются границы его личности, что позволяло получить представление об окончательном исчезновении (фана). Основателем этого братства был Джалал ад-дин Руми (ок. 1207–1273 гг.), которого ученики называли Маулана, «наш господин». Руми родился в Балхе (Центральная Азия), но позднее бежал от надвигавшихся монгольских войск в Конью (современная Турция). В его мистицизме можно видеть реакцию ислама на бедствия войны, вынудившие многих мусульман разочароваться в Аллахе. Идеи Руми перекликались с учением его современника ибн Араби, однако его прославленная поэма «Маснави», которую порой называют «Библией суфизма», была куда понятнее для простых людей и способствовала росту популярности Бога мистиков среди рядовых мусульман. В 1244 г. Руми подпал под чары странствующего дервиша Шамс ад-дина, в котором видел Совершенного Человека своего поколения. Сам Шамс ад-дин считал себя новым воплощением Пророка и требовал, чтобы его называли Мухаммадом. Дервиш пользовался весьма сомнительной репутацией; известно, в частности, что он не соблюдал шариат, Священный Закон ислама, поскольку считал себя выше подобных мелочей. Вполне понятно, что учеников Руми тревожила столь безрассудная любовь наставника к Шамсу. После гибели дервиша от рук заговорщиков Руми долгое время оставался безутешен и еще больше времени отдавал музыке и танцам. В его воображении горечь утраты превратилась в символ Божественной любви – любви Бога к людям и тоски человека по Аллаху: сознательно или безотчетно, каждый из нас ищет утраченного Бога, смутно ощущая, что потерял связь с Источником собственного бытия.
Вы слышите свирели скорбный звук? Она, как мы, страдает от разлук. О чем грустит, о чем поет она? «Я со своим стволом разлучена. Не потому ль вы плачете от боли, Заслышав песню о моей недоле. Я – сопечальница всех, кто вдали От корня своего, своей земли. Я принимаю в судьбах тех участье, Кто счастье знал, и тех, кто знал несчастье. Я потому, наверно, и близка Тем, в чьей душе и горе, и тоска»[396].Считалось, что Совершенный Человек вдохновляет простых смертных на поиски Бога, и Шамс ад-дин пробудил в Руми поэзию «Маснави», где тот передал всю боль разлуки и одиночества.
Как и другие суфии, вселенную Руми считал теофанией мириадов Имен Бога. Одни из них выражали Его гнев и суровость, другие – милосердие как неотъемлемое свойство Божественного естества. Мистик вовлечен в непрестанную борьбу (джихад), чья цель – умение видеть в сущем лишь сострадание, любовь и красоту Бога, а прочее отбрасывать. «Маснави» призывала мусульманина открыть для себя высшие измерения жизни человека и научиться замечать таящуюся за внешней видимостью сокровенную реальность. Эгоизм ослепляет нас и не позволяет видеть глубинную тайну вещей, но, однажды прорвавшись к ней, мы перестанем быть одинокими, отрезанными от единства и сольемся с Основой всего сущего. Руми тоже утверждал, что Бог открывается исключительно в субъективных переживаниях. Напоминая об уважении к представлениям других людей о Божественном, Руми рассказывает забавную историю о Моисее и пастухе. Однажды Моисей случайно подслушал, как некий пастух обращается к Богу с простодушной молитвой, в которой высказывает желание во всем служить Богу – стирать Ему одежду, выискивать вшей, целовать руки и кормить перед сном. Молитва пастуха заканчивалась словами: «Вспоминая о Тебе, не могу вымолвить ничего, кроме а-а-ах и о-о-ох». Моисей пришел в ужас, а затем набросился на пастуха с упреками. Неужто он не соображает, с кем говорит?! Бог – Творец Небес и земли, а он болтает с ним, будто с родным дядькой! Пастух горько каялся и, безутешный, ушел замаливать грех в пустыню. Но тут уже Господь сурово отчитал патриарха: Ему нужны не заученные фразы, а искренняя любовь и смирение. Не существует единственно верного способа высказываться о Боге:
Что плохо для тебя, Ему приятно, Что яд для одного, другому – мёд. Кто чист, а кто нечист, кто празден иль усерден, Меня тревожит мало, я на это не смотрю. Молитвы лучше или хуже не бывает: Индус Мне молится, как молятся индусы, Дравид исламский – как ему привычно. Но оба Меня хвалят, оба – верно. Не в правильных молитвах Моя слава, А в том, что молятся! Не слышу даже слов Произносимых, нужно лишь смиренье. И Настоящее – вот в этом простодушье, А не в словах! Забудь красивый слог, Мне страсть нужна, горенье! Будь же другом Пылающей души своей, И пусть сгорят и мысли и слова![397]Всякие речи о Боге столь же абсурдны, как и молитва того пастуха, но когда верующий устремляет свой взор сквозь покровы к истинной природе вещей, он обнаруживает несостоятельность человеческих предрассудков.
В ту эпоху новые представления о Боге составили и европейские евреи – и этому тоже способствовали трагедии. Антисемитизм крестовых походов сделал жизнь иудейских общин нестерпимой, и теперь евреям нужен был близкий, родной Бог, а не отчужденное божество «престольных мистиков». В IX в. из Северной Италии в Германию перебрался род Калонимосов; с собой они взяли и мистические сочинения. Однако уже к XII в. вследствие гонений веру ашкенази переполнил пессимизм, который сквозит в работах троих членов рода Калонимосов: раввина Самуила Старшего, написавшего примерно в 1150 г. короткий трактат «Сефер га-Йирах» («Книга Страха пред Богом»), раввина Иуды бен Самуила (Набожного), автора «Сефер Гасидим» («Книги верующих»), и его двоюродного брата, раввина Элеазара бен Иуды из Вормса (ум. в 1230 г.), редактора целого ряда трактатов и мистических текстов. Калонимосы не были философами или мыслителями в полном смысле слова; судя по их трудам, свои идеи они черпали из самых разных, подчас, казалось бы, несовместимых источников. Огромное влияние оказали на них и христианские мистики (в частности, Франциск Ассизский), и бесстрастный файласуф Саадиа ибн Иосиф, чьи книги к тому времени были переведены на еврейский. Из этой причудливой и разнородной смеси Калонимосы сумели создать особую духовность, которая вплоть до XVII в. оставалась авторитетной и высоко ценилась в еврейском мире Франции и Германии.
Вспомним, что раввины считали грехом отказ от созданных Богом радостей. Немецкие евреи-пиетисты, напротив, проповедовали идеи самоотречения, сходные с христианским аскетизмом. Еврей может надеяться узреть в мире ином Шехину, только если отвратит лице свое от наслаждений и откажется от таких пустых развлечений, как, например, возня с комнатными животными или игры с детьми. Еврею надлежит, подражая Богу, воспитывать в себе apatheia и оставаться глухим к презрению и оскорблениям. Бога, однако, можно считать своим Другом. Ни один «престольный мистик» не дерзнул бы обратиться к Богу на «Ты», как делал Элеазар. Такая фамильярность прокралась и в богослужения, где Бог изображался, несмотря на Его недосягаемую возвышенность, везде– и присносущим:
Всё в Тебе, и Ты – во всем. Ты заполняешь всё и всё охватываешь.
Когда всё было сотворено, Ты был во всем, и прежде, чем всё было сотворено, Ты был всем[398].
Такую имманентность обосновали тем, что никто не в силах приблизиться к Богу, кроме Него Самого, когда Он раскрывает Себя перед людьми в Своей «славе» (кавод), или «великом сиянии, именуемом Шехина». Еврейских пиетистов ничуть не беспокоили очевидные противоречия этих рассуждений. Их волновали не богословские тонкости, а дела практические, и обучали они своих собратьев приемам сосредоточения (кавванах) и действиям, усиливающим ощущение Божественного присутствия. Важную роль играло молчание, и для того, чтобы отгородиться от внешних помех, пиетисту надлежало зажмурить глаза, прикрыть голову молитвенным платком, втянуть живот и сжать зубы. Кроме того, были разработаны особые способы «извлечения молитвы», которые, как считалось, тоже обостряли ощущение Присутствия. Вместо того чтобы просто произносить предписанные слова, пиетист пересчитывал буквы в каждом слове, определял их числовые соответствия и благодаря этому вырывался за рамки буквального значения слов. Для усиления чувства близости к высшей реальности мысленная точка сосредоточения переносилась вверх.
В Исламской империи, где антисемитизма не было, евреи чувствовали себя намного спокойнее и не испытывали потребности в пиетизме ашкенази. Однако и там, в ответ на успехи ислама, возникали новые формы иудаизма. Пока евреи-файласуфы пытались изъяснить библейского Бога по-философски, другие иудаисты стремились описать своего Господа языком мистических, символических толкований. Сначала такие мистики пребывали в меньшинстве; они одни владели эзотерическим учением, которое передавалось от наставника к ученику. Эти знания называли каббала, «унаследованная традиция». Однако со временем Бог каббалы стал привлекателен для большинства и настолько захватил умы евреев, что Бог философов уже не мог с ним соперничать. Философия грозила превратить Бога в далекую абстракцию, тогда как Бог мистиков откликался на иррациональные страхи и беспокойства евреев. «Престольные мистики» довольствовались созерцанием величия потустороннего Бога, но каббалисты мечтали проникнуть и в Его внутреннюю жизнь, и в человеческое сознание. Почти отбросив рациональные умозрения о естестве Бога и метафизические проблемы Его взаимоотношений с земным миром, каббалисты обратились прежде всего к воображению.
Как и суфии, каббалисты начали с гностического и неоплатонического различения между сущностью Бога и теми Его проявлениями, которые даны человеку в мимолетных откровениях и самом сотворенном мире. По сущности Своей Бог непознаваем, невообразим и безличен. Этого сокровенного Бога каббалисты назвали Эн Соф (буквально: «не имеющее конца»). Об Эн Соф нам ничего не известно; о Нем не упоминается даже в Библии и Талмуде. Анонимный автор XIII в. писал, что Эн Соф не может стать предметом откровения людям[399]. В отличие от YHVH, Эн Соф лишен имени, ибо не имеет личности; вообще говоря, Божественное правильнее называть «Оно», а не «Он». Этим суждением каббалисты резко отстранялись от чрезвычайно персонифицированного Бога Библии и Талмуда. Каббала развивала собственную мифологию, облегчавшую изучение новой сферы религиозного сознания. Чтобы разъяснить взаимоотношения между Эн Соф и YHVH, не впадая в гностическую ересь о двух различных сущностях, каббалисты применили символический подход к толкованию Писания. Как и суфии, они измыслили целый процесс, посредством которого сокровенный Бог являет Себя людям. Эн Соф открывался еврейским мистикам в десяти разных аспектах, или сефирот (мн. число от сефира, «исчисление»), божественной реальности, которые исходили из непроницаемых глубин непостижимой Божественности. Каждая из сефирот олицетворяла один из этапов постепенного раскрытия Эн Соф и имела свое символическое название; вместе с тем каждая из этих Божественных сфер содержала в себе всю полноту тайны Бога, открывающейся под определенным углом. Согласно каббалистической экзегетике, любое слово Библии соответствует той или иной из десяти сефирот и, следовательно, каждый стих описывает некое событие или явление, первообраз которого пребывает во внутреннем бытии Самого Бога.
Ибн ал-Араби говорил о сострадательном вздохе Бога, благодаря которому Он открылся людям как Слово, сотворившее мир. Сходным образом, сефирот были одновременно и именами, которые Бог дал Самому Себе, и средствами, с чьей помощью Он сотворил мир. В совокупности эти десять имен образуют единое великое Имя, людям, впрочем, неведомое. Сефирот – стадии нисхождения Эн Соф с недосягаемых высот Его одиночества в мир обыденный. Обычно порядок сефирот такой:
1. Кетер Элион, «Высший Венец».
2. Хохма, «Мудрость».
3. Бина, «Разум».
4. Хесед, «Любовь» или «Милость».
5. Дин, «Власть» (обычно проявляется в строгом правосудии).
6. Рахамим, «Сострадание»; иногда Тиферет, «Красота».
7. Нецах, «Вечная Неизменность», Постоянство.
8. Ход, «Величие».
9. Йесод, «Основание».
10. Малкут (Малхут), «Царство»; она же Шехина.
Сефирот изображают иногда в виде перевернутого дерева, чьи корни уходят в неисповедимые глубины Эн Соф (см. рисунок), а вершина, Шехина, пребывает в нашем мире. В этот целостный образ сведена вся сумма каббалистической символики. Эн Соф – сок, который струится по тканям ветвей дерева сефирот, наполняет их жизнью и объединяет в загадочную и сложную реальность. Хотя между Эн Соф и миром Его имен есть определенная разница, Он составляет с ними одно – примерно так, как жар неотделим от пламени. Сефирот символизируют миры света, в которых проявляется непроглядная тьма Эн Соф. Тем самым каббала по-своему показывает, что наши представления о «Боге» никогда не выражают во всей полноте ту действительность, которую обозначают.
Дерево сефирот
Мир сефирот – это, однако, вовсе не альтернативная, «внешняя» реальность, пребывающая где-то между обителью Бога и нашим миром. Сефирот – не ступени лестницы, соединяющей небеса и землю, а основа мироздания, воспринимаемого органами чувств. Поскольку Бог – это Всё во всем, сефирот присутствуют и активно действуют во всем сущем и, помимо прочего, в человеческом сознании. Это ступени сознания, по которым мистик, погружаясь в собственный ум, восходит к Богу. Бог и человек тоже неразделимы. В толковании некоторых каббалистов, сефирот суть члены изначального человека – такого, каким его замыслил Бог. Именно это имеет в виду Библия, когда говорит, что человек был создан по образу и подобию Бога: наша обыденная действительность соответствует высшей, архетипической реальности небесного мира. Такие символы Бога, как дерево или человек, представляли собой воображаемое описание действительности, не допускающей никаких рациональных определений. Каббалисты не были настроены против файласуфов и даже чтили многих из них (например, Саадиа Гаона и Маймонида), однако полагали, что в отношении загадки Бога символизм и мифология намного пригоднее метафизики.
Наиболее влиятельным каббалистическим текстом был «Зогар», написанный, вероятно, около 1275 г. испанским мистиком Моисеем Леонским. В юности Моисей изучал труды Маймонида, но позже почувствовал интерес к мистицизму и эзотерической традиции каббалы. «Зогар» («Книга Сияния») представляет собой своеобразный мистический роман: главный герой, талмудист III в. Симеон бен Иохай, скитается по Палестине со своим сыном Елизаром и беседует с учениками о Боге, природе и человеческой жизни. У романа нет четкой фабулы, а темы и идеи развиваются без видимой системы. Строгая структура была бы чужда самому духу «Зогара», поскольку его Бог не подчиняется какой-либо последовательной системе взглядов. Как и ибн Араби, Моисей Леонский верил, что Бог дарует каждому мистику уникальное, лишь ему предназначенное откровение, и потому Тору можно толковать бесчисленными способами: по мере работы каббалист просто открывает всё новые смысловые слои. В «Зогаре» таинственные эманации в виде десяти сефирот представлены как процесс обретения безличным Эн Соф индивидуальности. В трех высших сефирот – Кетер, Хохма и Бина – где Эн Соф, так сказать, лишь «решился» выразить Себя, Божественная Реальность именуется «Он». По мере того как «Он» нисходит к сефирот срединным – Хесед, Дин, Тиферет, Ход и Йесод, – «Он» превращается в «Ты». Наконец, когда Бог проявляется в нашем мире как Шехина, «Он» именует Себя «Я». Именно в этот миг Бог, можно сказать, становится личностью и тем самым завершает Свое самовыражение, после чего человек получает возможность пуститься в мистическое путешествие. Как только мистик постигает собственное потаенное «я», он начинает сознавать в себе и Присутствие Бога, после чего может подняться к безличным сферам, вырваться за пределы индивидуального и эгоистического. Это – возвращение к потаенному миру несотворенной реальности, невообразимому Источнику нашего бытия. С этих мистических высот наш мир чувственных впечатлений воспринимается как последняя, самая дальняя оболочка Бытия Божественного.
В каббале, как и в суфизме, доктрина творения почти не затрагивает исторического происхождения материальной вселенной. «Зогар» видит в «Книге Бытия» символическое повествование о переломе в бытии Эн Соф, который «вынудил» Божество оставить Свое непостижимое самосозерцание и проявиться. Как сказано в «Зогаре»,
Сперва, когда начала исполняться воля Царя, Он начертал на божественном ореоле знаки. Темный огонь изошел из сокровенных тайников Эн Соф, словно туман, образующийся из того, что лишено образа; и сомкнулся в кольце этого ореола, ни черный, ни белый, ни красный, ни зеленый, и вообще не имеющий цвета[400].
По Библии, первые творящие слова Бога – «Да будет свет!». В комментарии «Зогара» к «Книге Бытия» (др. – евр. Берешит, «в начале…») сказано, что этот «темный огонь» – первая сефира, Кетер Элион, Высший Венец Божества. У него нет ни цвета, ни формы, и потому многие каббалисты предпочитают называть его «Ничто», Эн. Высочайшая Божественность, которую человек в состоянии объять умом, приравнивается к пустоте, поскольку не допускает сравнений ни с чем сущим. Все остальные сефирот, следовательно, исходят из лона Пустоты: таково мистическое толкование традиционной доктрины о сотворении ex nihilo. Дальнейшее самовыражение Божества осуществляется как рассеяние света, который, расходясь, образует сферы все большего размера:
Но когда огонь этот начал приобретать размер и протяженность, от него зародились расходящиеся цвета. Ибо в сокровенном центре был переполненный источник, откуда языки пламени проливались на все, что было внизу, скрытое в загадочных тайниках Эн Соф.
Источник прорвался, но не раздробил до конца окружавший его вечный ореол. Он оставался вполне узнаваемым вплоть до тех пор, пока вследствие сотрясения от прорыва не воссияла сокровенная небесная точка. Того, что за этой точкой, невозможно ни познать, ни понять, и она именуется Берешит, Начало, первое слово творения[401].
Эта «точка» – Хохма (Мудрость), вторая сефира, вмещающая идеальные формы всего сотворенного. Далее эта точка перерастает в дворец или здание, которым является Бина (Разум), третья сефира. Три высшие сефирот представляют собой границу человеческого понимания. Каббалисты говорят, что Бог проявляется в Бина как великое «Кто?» (Ми), стоящее у начала любого вопроса. Однако найти ответ невозможно. Несмотря на то что Эн Соф поступательно приспосабливается к ограниченному человеческому уму, мы не в силах постичь, «Кто» Он: чем выше люди восходят, тем более непроницаема окутывающая «Его» тьма и тайна.
Следующие семь сефирот соответствуют, как принято считать, семи дням творения, описанным в «Книге Бытия». В библейский период YHVH постепенно брал верх над древними богинями Ханаана и их эротическими культами, но, в то время как каббалисты бились над тайной Бога, давние мифологии исподволь – пусть и в малоузнаваемых обликах – возвращались к жизни. В «Зогаре» Бина именуется Небесной Матерью, в чье лоно проник «темный огонь», породивший семь низших сефирот. Йесод, девятая сефира, тоже навевает определенные фаллические ассоциации, поскольку сравнивается с каналом, по которому в акте мистического размножения во вселенную проливается Божественная Жизнь. Однако с наибольшей очевидностью древний сексуальный символизм сотворения мира проявляется в Шехине, десятой сефире. В Талмуде Шехина – понятие нейтральное, лишенное половых признаков, но в каббале она становится женской стороной Бога. В одном из самых ранних каббалистических текстов, книге «Бахир» (ок. 1200 г.), Шехина отождествляется с гностическим образом Софии, последней божественной эманации, которая изошла из Плеромы, а ныне, оторвавшись от Божества, в тоске скитается по миру. «Зогар» связывает «изгнание Шехины» с грехопадением Адама, о котором повествует «Книга Бытия». В «Зогаре» говорится, что Адаму показали «срединные сефирот» Древа Жизни и Шехину – в Древе Познания, но вместо того, чтобы чтить все семь сефирот, первый человек предпочел поклоняться одной лишь Шехине, отсек тем самым жизнь от знаний и нарушил единство сефирот. Божественная жизнь не могла больше беспрепятственно вливаться в мир, и тот был отрезан от Горнего Источника. Однако, соблюдая Тору, община Израиля способна залечить рану, нанесенную изгнанием Шехины, и вновь соединить наш мир с Божественным. Неудивительно, что многим ревностным талмудистам эта идея показалась омерзительной, но легенда об изгнании Шехины, перекликающаяся с древнейшими мифами о скитающейся по миру несчастной богине, стала, тем не менее, одним из самых популярных преданий каббалы. Шехина возвращала определенное равновесие представлениям о Боге, которые издавна были сильно перекошены в сторону мужского начала; нет сомнений, что эта легенда удовлетворяла чрезвычайно важную религиозную потребность.
Идея изгнания из божественной сферы объясняла, помимо прочего, то чувство отчужденности, которое всегда было причиной неотступного беспокойства человека. «Зогар» многократно определяет зло как то, что оказалось отделенным или вступило в неуместные для него отношения. Изоляция зла вообще является одной из этических проблем единобожия: поскольку мы не в силах смириться с мыслью о том, будто в нашем Боге может быть что-то дурное, то существует опасность, что мы не стерпим дурного и в самих себе. В результате зло отторгается, ему приписываются чудовищные, нечеловеческие свойства. Одной из таких искаженных проекций стал в западнохристианском мире ужасающий образ Сатаны. «Зогар» находит корни зла в Самом Боге, а именно в пятой сефире – Дин, «Строгий Суд», или «Возмездие». Дин именуется левой рукой Бога, а Хесед («Милость») – правой. Суд благотворен и справедлив, пока он в ладах с Божественной Милостью, но если гармония между ними нарушается и Дин отрывается от остальных сефирот, он превращается в губительное зло. «Зогар», впрочем, не разъясняет, как именно происходит подобное разделение. Как мы узнаем из следующей главы, впоследствии каббалисты много размышляли о проблеме зла и сочли его причиной некий первобытный «несчастный случай», происшедший на самых ранних стадиях самооткровения Бога. При буквальном толковании каббала выглядит почти бессмысленной, но с психологической точки зрения ее мифология вполне действенна. В XV в., когда испанских евреев настиг нескончаемый поток бедствий и напастей, именно Бог каббалы помог им пережить и осмыслить эти страдания.
Психологическая острота каббалы хорошо заметна в трудах испанского мистика Авраама Абулафии (1240 – ок. 1291 гг.). Его сочинения появились примерно в то же время, что и «Зогар», однако Абулафию занимали не столько вопросы о сущности Самого Бога, сколько практические способы обретения чувства Его близости. Эти способы были сходны с методикой нынешних психоаналитиков, ищущих свой, мирской путь к просветлению. Вслед за суфиями, которые мечтали сравняться в близости к Богу с Мухаммадом, Абулафия заявил, что нашел способ добиться пророческого вдохновения. Он разработал своеобразную иудаистскую «йогу» с традиционными для сосредоточения принципами дыхания, повторением «мантр» и специальными позами, способствующими достижению измененных состояний сознания. Абулафия вообще был необычным каббалистом. Человек чрезвычайно эрудированный, он долго изучал Тору, Талмуд и фалсафу и обратился к мистицизму лишь в возрасте тридцати одного года – после того как испытал ошеломляющие мистические переживания. Он, похоже, верил, что является Мессией, причем не только для евреев, но и для христиан. Во всяком случае, Абулафия путешествовал по всей Испании, заводил учеников и даже побывал на Ближнем Востоке. В 1280 г. он встречался с Папой Римским как посланец еврейских общин. Хотя Абулафия не раз откровенно критиковал христианство, он, судя по всему, признавал сходство между Богом каббалы и богословием Троицы. Три высшие сефирот действительно вызывают в памяти идеи Логоса и Духа, Божественных Разума и Премудрости, которые исходят от Отца – «Ничто», скрытого в недостижимом сиянии. Абулафия нередко говорил о Боге в духе учения о трех Его ипостасях.
Чтобы найти Бога, утверждал Абулафия, необходимо «распечатать душу, распутать стягивающие ее узлы». Выражение «распутать узлы» характерно и для тибетского буддизма, что еще раз свидетельствует о фундаментальном единстве опыта мистиков всего мира. Предписанный Абулафией процесс сравним, вероятно, с попытками психоаналитика избавить пациента от комплексов, ставших причиной душевного расстройства. Будучи каббалистом, Абулафия больше интересовался божественной энергией, незаметной для человеческого разума, но наполняющей жизнью все сущее. Человек, впрочем, почти не различает высших начал жизни, пока ум его затуманен мыслями, опирающимися на чувственное восприятие. Посредством «йогических» упражнений Абулафия помогал ученикам выйти за рамки обыденного сознания и открыть для себя новый мир. Один из его приемов, под названием Хохма а-Церуф (Наука о сочетании букв), выглядел как медитация на Имя Бога. Каббалисту предлагалось составлять разнообразные комбинации из букв, входящих в Божественное Имя; упражнение это призвано было отвлечь разум от конкретного и перевести к более абстрактному режиму восприятия. Результаты этих занятий, казавшихся непосвященным полной бессмыслицей, бывали, однако, весьма примечательными. Сам Абулафия сравнивал их удивительный эффект с чувствами, какие вызывает музыкальная гармония, – буквы алфавита становились как бы отдельными значками на нотном стане. Кроме того, Абулафия пользовался методом ассоциативного мышления, которое он сам называл диллуг (прыжки) и кефица (скачки) – налицо сходство с современной психоаналитической практикой свободных ассоциаций. Рассказывают, что и эти упражнения приносили впечатляющие результаты. Как разъяснял Абулафия, подобные приемы озаряют светом потаенные мыслительные процессы, освобождают каббалиста «из заточения в естественных сферах и ведут [его] к самым границам сферы Божественной»[402]. Вследствие этого «печати» души вскрываются и посвященный получает доступ к запасам душевных сил, озаряющих ум и смягчающих сердечные муки.
Пациенты с душевными расстройствами нуждаются в руководстве психоаналитика. Абулафия тоже настаивал на том, что мистическое погружение в собственный ум можно предпринимать только под надзором знатока каббалы. Он хорошо сознавал опасности самостоятельной работы, поскольку сам еще в юности серьезно пострадал от опустошительных религиозных переживаний, которые едва не довели его до отчаянных поступков. Нынешние пациенты нередко перенимают черты личности врача-психиатра, приобретая тем самым олицетворяемое им крепкое душевное здоровье. В свое время Абулафия писал, что каббалист довольно часто может «видеть» и «слышать» душу своего духовного наставника, который становится для ученика «двигателем изнутри, распахивающим запертые двери его души». Каббалист ощущает приток новых сил и внутреннее преображение – столь мощное, словно оно вызвано божественным толчком. Один из учеников Абулафии дал свое толкование экстаза: мистик, по его словам, сам для себя становится Мессией. В экстазе он внезапно открывает собственную освобожденную и просветленную душу:
Весь дух пророческий сводится к тому, что пророк видит вдруг перед собой очертанья своей души, и забывает о себе, и душа отрывается от него. […] И об этом таинстве учителя наши сказали [в Талмуде]: «Велика сила пророков, которые уподобляют облик Его, Кто облик сей сотворил» [то есть тех, кто «уподобляет людей Богу»][403].
О собственном опыте слияния с Богом иудейские мистики всегда говорили с неохотой. Абулафия и его ученики упоминали только о том, что благодаря ощущению единства с духовным наставником и сознанию своего освобождения каббалист опосредованно соприкасается с Богом. Разумеется, между средневековым мистицизмом и современной психотерапией существует множество различий, но есть и очень сходные технические методики, нацеленные на оздоровление психики и интеграцию личности.
У западных христиан мистическая традиция развивалась намного медленнее. Европа плелась позади Византийской и Исламской империй и, возможно, просто не была готова к новшествам. Однако в XIV в. и в западном мире (особенно в Северной Европе) состоялся настоящий взрыв мистической веры. В Германии появилась целая плеяда выдающихся мистиков: Мейстер Экхарт (1260 – ок. 1327 гг.), Иоганн Таулер (1300–1361 гг.), Гертруда Великая (1256–1302 гг.) и Генрих Сузо (ок. 1295–1306 гг.). Существенный вклад в эту западную традицию внесла и Англия, подарившая миру четырех известнейших мистиков, которые быстро нашли последователей не только в родной стране, но и на континенте: Ричард Ролл (1290–1349 гг.), Уолтер Хилтон (ум. в 1346 г.), Юлиана Норвичская (ок. 1342–1416 гг.) и анонимный автор «Облака неведения». Степень духовного развития этих мистиков была весьма различной; Ричард Ролл, например, увяз на уровне смакования экзотических ощущений, а в его духовных поисках нередко видна самовлюбленность. Но несмотря на разобщенность, европейские мистики самостоятельно открывали истины, уже известные грекам, суфиям и каббалистам.
Одним из этих мистиков был Мейстер Экхарт, оказавший огромное влияние на Таулера и Сузо. На самого Экхарта в свое время произвели сильнейшее впечатление Дионисий Ареопагит и Маймонид. Монах-доминиканец, Мейстер Экхарт был блистательным интеллектуалом и читал в Парижском университете лекции о философии Аристотеля. Однако мистические воззрения Экхарта вызвали возмущение у его духовного пастыря, архиепископа Кёльнского, который в 1325 г. уличил монаха в ереси. Экхарту вменяли в вину отрицание Божьей благости, а также утверждения о вечности мироздания и о том, что Бог рождается в душе. При всем этом даже некоторые из непримиримых противников Экхарта считали его ортодоксом; ошибка была вызвана тем, что многие слова монаха, в которые он вкладывал переносный смысл, воспринимались другими слишком буквально. Экхарт был поэт и, конечно, увлекался парадоксами и метафорами. Считая, что вера в Бога идет от разума, Экхарт вместе с тем отрицал, что к правильным представлениям о сущности Божества можно прийти с помощью одного лишь рассудка: «Вещь постигаемая доказывается посредством органов чувств либо ума, – заявлял он, – но знанию Бога не может быть подтверждения ни со стороны чувственного восприятия – ибо Он бестелесен, – ни со стороны ума – ибо Он не обладает никакой известной нам формой»[404]. Бог не похож ни на одно из явлений, чье существование можно доказать, сделав объектом мышления.
По утверждению Экхарта, Бог есть Ничто[405]. Это вовсе не означало, что Бог – иллюзия, просто Он услаждается бытием более полным и обильным, чем привычное нам. Экхарт называл Бога также «Мраком» – но и тут имел в виду не отсутствие света, а существование чего-то еще более яркого, чем свет. Кроме того, мистик проводил различие между «Божеством» – именно его он описывал такими отрицающими понятиями, как «пустошь», «пустыня», «тьма» или «ничто», – и тем Богом, который известен нам как Отец, Сын и Дух Святой[406]. Как и многие другие западные христиане, Экхарт часто напоминал об августиновском сравнении Триипостасности с человеческим умом и намекал на то, что, несмотря на логическую недоказуемость доктрины Троицы, трехликим Бога воспринимает только разум. Что до мистика, то, добившись единения с Богом, он видит Его уже как Одно. Грекам такая мысль едва ли понравилась бы, но они согласились бы с Экхартом в том, что доктрина о Троице по сути своей является мистической. Экхарт часто рассуждал о том, что Отец порождает Сына в душе, как Дева Мария зачала Христа в своем чреве. Руми тоже видел в непорочном зачатии пророка Йсы (Иисуса) символ зарождения души в сердце мистика. Экхарт настойчиво подчеркивал это как аллегорию сотрудничества души с Господом.
Постичь Бога можно только посредством мистических переживаний, а говорить о Нем лучше с помощью отрицательных суждений, как предлагал в свое время Маймонид. Действительно, нам следует очистить свои представления о Боге, отбросить смехотворные предрассудки и очеловеченные образы. Нужно избегать даже самого слова «Бог». Именно это имел в виду Экхарт, когда говорил: «Последнее и высшее разлучение человека наступает тогда, когда он расстается с Богом во имя Бога»[407]. Это может оказаться мучительным. Поскольку Бог – Ничто, для единения с Ним мы должны быть готовы тоже обратиться в ничто. Описывая это состояние, сходное с суфийским фана, Экхарт говорит об «отрешенности» или, точнее, «обособленности» (Abgeschiedenheit)[408]. В исламе почитание чего-либо или кого-либо, кроме Бога, считается идолопоклонством (ширк); подобным же образом, Экхарт учил, что мистик должен противиться порабощающей привязанности к каким-либо конечным представлениям о Божестве – только при этом условии можно надеяться на достижение единства с Богом, когда «бытие Бога должно быть мое бытие, и сущность (Istigkeit) Его – моя сущность»[409]. Поскольку Бог – основа бытия, нет смысла искать Его «где-то там» и воображать восхождение к чему-то запредельному, пребывающему вне известного нам мира.
Воскликнув «Я – Истина!», ал-Халладж настроил против себя улемов; мистическая доктрина Экхарта потрясла епископов Германии: как можно утверждать, будто любой простой смертный может слиться с Богом?! На протяжении всего XIV столетия этот вопрос вызывал яростные споры среди греческих богословов. Если Бог по сущности Своей недосягаем, то как Он может вступать в общение с людьми? И если, как учили святые отцы, сущность Бога совершенно отлична от Его «деяний», или «энергий», то нет сомнений, что приравнивать «Бога», который предстает перед христианином в молитве, к Самому Богу – настоящее богохульство. Григорий Палама, архиепископ города Салоники, учил противоположному: как ни парадоксально, но каждый христианин вправе надеяться на счастье прямого общения с Самим Богом. Сущность Бога действительно извечно выше нашего понимания, однако Его «энергии» неотъемлемы от Него, их нельзя считать лишь простым «послесвечением». С этими рассуждениями согласились бы и еврейские мистики: Бог Эн Соф всегда остается скрытым, Он окутан непроницаемой тьмой, но Его сефирот – а они вполне соответствовали греческим «энергиям» – тоже божественны и безостановочно проистекают из самого сердца Бога. Время от времени людям удается замечать и ощущать такие «энергии» – как, например, в том библейском эпизоде, когда народу явилась Божья «слава». Да, никто и никогда не видел Божественной Сущности, но это еще не означает невозможности прямого восприятия Самого Бога. Тот факт, что это суждение парадоксально, Паламу ничуть не тревожил: греки давно уже договорились о том, что любое высказывание о Боге должно быть парадоксальным – только парадокс позволяет передать ощущение Его загадочности и несказанности. Палама выразил эту мысль так:
Мы добиваемся сопричастия Божественному Естеству, но Оно остается в то же время совершенно недосягаемым. Нам следует единовременно утверждать то и другое и сберечь это противоречие как главный признак правильного учения[410].
В доктрине Паламы не было, впрочем, ничего нового: ту же идею еще в XI в. высказал Симеон Новый Богослов. Тем не менее у Паламы появился противник – Варлаам Калабрийский, который получил образование в Италии и подвергся там сильному влиянию аристотелевского рационализма Фомы Аквинского. Варлаам оспаривал традиционное у греков различение «сущности» и «энергий» Бога и обвинял Паламу в том, что тот разделяет Господа на две обособленные части. Взамен Варлаам предлагал такое определение Божества, которое восходит к древнегреческому рационализму, тем самым подчеркивая Его абсолютную простоту. По убеждению Варлаама, древние философы, такие как Аристотель, прозрели милостью Божьей и учили, что Бог непостижим и далек от мира. По этой причине люди не могут «увидеть» Бога; в лучшем случае они способны лишь на косвенное ощущение Его влияния, запечатленное в Писании и чудесах сотворенного мира. В 1341 г. Собор Православной Церкви осудил Варлаама, но в его поддержку выступили клирики, которые тоже склонялись к идеям Аквината. В целом, эта история стала одним из конфликтов Бога мистиков с Богом философов. Варлаам и его единомышленники – Григорий Акиндин (любивший сыпать цитатами из «Суммы теологии»), Никифор Григора и томист Прохор Кидонис – полностью отказались от апофатического богословия Византии, где главное место отводилось безмолвию, парадоксальности и тайне. Они предпочитали «утвердительную» теологию Западной Европы, где Бог определялся как Бытие, а не Ничто. Неисповедимому Божеству Дионисия, Симеона и Паламы был противопоставлен Бог, вполне допускающий логические суждения. Греки издавна относились к этим наклонностям западного мышления с известной подозрительностью и потому, столкнувшись с угрозой проникновения в лоно их Церкви рационалистичных католических идей, Палама стал еще настойчивее утверждать парадоксальное богословие Восточного Православия: Бога нельзя сводить к понятиям, которые могут быть выражены человеческим словом. С Варлаамом Григорий Палама соглашался только в том, что Бог непостижим, однако тут же уточнял, что люди все-таки способны иногда Его воспринимать. Свет, преобразивший человеческую природу Иисуса на горе Фавор, не был сущностью Бога, которую никто из людей не видел никогда; тем не менее неким непостижимым образом этот Свет был Сам Бог. На литургии – а в ней греческое богословие видело живое воплощение православной доктрины – провозглашалось: «Видели Отца яко Свет и Дух яко Свет». События на Фаворе были откровением того, «что мы некогда были и чем станем», когда, подобно Христу, сами станем обоґжены[411]. И то, что мы «видели», когда созерцали Бога в этой жизни, – не «заменитель» Его, а, неким чудом, Он Сам. Конечно, это звучит как явное противоречие, но и христианский Бог всегда был живым парадоксом; и не уловки философской гордыни, пытающейся превозмочь непосильные трудности, а чувство противоречия и безмолвие – признаки единственно верного отношения к таинству, именуемому «Бог».
Варлаам попытался сделать представления о Боге слишком уж последовательными. По его мнению, Бога надо либо однозначно отождествить с Его естеством, либо отмежевать от него. Варлаам, как уже понятно, решил свести Бога к одной лишь Его сущности, что исключало бы Его проявление вовне в виде Своих «энергий». Но рассуждать подобным образом означало мыслить о Боге так, как если бы Он был одним из привычных явлений и подчинялся чисто человеческим понятиям о возможном и невозможном. Палама же утверждал, что откровение Бога – взаимное блаженство: человек входит в экстаз, возвышаясь над собой, но и Бог радуется безмерно, ибо вырывается за рамки «Себя», чтобы твари Его могли Его постигать: «Бог тоже исступает вовне Самого Себя, соединяясь с нашим умом, но только опустившись в нисхождении»[412]. Победа Паламы, чье богословие до сих пор остается нормативом православия, над греческим рационализмом в XIV в. – лишь один из примеров повсеместного торжества мистицизма во всех трех религиях единобожия. Исламские философы еще в XI столетии пришли к тому выводу, что разум – средство, настоятельно необходимое, скажем, в медицине и естественных науках, – совершенно непригоден, когда дело касается постижения Бога. Полагаться на один лишь рассудок – все равно что есть суп вилкой.
Бог суфиев возобладал над Богом философов на большей части территории Исламской империи. В следующей главе мы увидим, как в XVI в. Бог каббалистов занял главенствующее положение в иудейской духовности. Мистицизму удалось проникнуть в человеческие умы намного глубже, чем рассудочным и законотворческим разновидностям религии. Бог мистиков откликался на более простые надежды, страхи и беспокойства, с которыми далекий Бог философов откровенно не справлялся. К XIV столетию на Западе уже образовалась своя мистическая вера, и начало ее развития было многообещающим. Однако в Европе мистицизм не получил такого широкого распространения, как в других местах. В Англии, Германии и Центральной Европе, где некогда родилось столько выдающихся мистиков, в XVI в. уже господствовали реформаторы-протестанты, открыто осуждавшие «небиблейскую» духовность. В римско-католической церкви в эпоху Контрреформации прославленным мистикам – например, канонизированной впоследствии Терезе Авильской, – неоднократно грозило преследование со стороны инквизиции. После Реформации Европа стала представлять Бога в еще более рационалистических категориях.
8. Бог реформаторов
Пятнадцатое и шестнадцатое столетия стали решающими для всех народов Единого Бога. Самые большие перемены произошли на христианском Западе, которому удалось не только догнать в развитии остальные культуры ойкумены, но и опередить их. К этому периоду относится итальянское Возрождение, быстро распространившееся на север Европы, открытие Нового Света и начало научной революции, последствия которой оказались судьбоносными для всего мира. К концу XVI в. Запад стоял на пороге совершенно новой культуры. Это была переходная эпоха. Как всякое время перемен, она несла людям и успехи, и тревоги. Все это с полной очевидностью сказалось и на западных представлениях о Боге. Несмотря на огромные достижения в мирских делах, европейцев больше чем когда-либо волновали вопросы веры. Миряне испытывали особую неудовлетворенность религиозностью средневекового типа, которая уже не соответствовала нуждам их новой, более активной жизни. Великие реформаторы выразили накопившееся в массах беспокойство и открыли новые подходы к размышлениям о Боге и спасении. В результате Европа раскололась на два враждующих лагеря – католиков и протестантов, – которые до сих пор не избавились до конца от взаимной ненависти и подозрительности. В эпоху Реформации католические и протестантские лидеры призывали верующих отказаться от поклонения святым и ангелам как от занятия второстепенного и сосредоточиться только на Самом Боге. Казалось, вся Европа одержима Божеством. Тем не менее к началу XVII столетия уже появились первые идеи «атеизма». Означало ли это, что люди готовы отказаться от Бога?
Для православных, иудеев и мусульман XV–XVI вв. тоже стали переломными. В 1453 г. турки-оттоманы захватили Константинополь, столицу восточного христианства, и уничтожили Византийскую империю. С той поры взращенные греками православные духовные традиции перешли к христианам России. В январе 1492 г. – в тот же год, когда Христофор Колумб открыл Новый Свет, – Фердинанд и Изабелла завоевали испанскую Гранаду, последний европейский оплот ислама. Чуть позже мусульман окончательно вытеснили с Иберийского полуострова, который был для них родным домом на протяжении восьми веков. Падение мавританской Испании стало гибельным и для местных евреев. Уже в марте 1492 г., спустя лишь несколько недель после покорения Гранады, монархи-христиане предложили испанским иудеям выбор: крещение или изгнание. Многие евреи были так привязаны к родным домам, что приняли христианство, но втайне продолжали отправлять обряды старой веры; вскоре инквизиция стала подозревать новообращенных евреев – как и морисков (мусульман, принявших крещение) – в ереси и яростно преследовать. Около ста пятидесяти тысяч евреев отказались от крещения; после насильственного выселения из Испании они нашли пристанище в Турции, Северной Африке и на Балканах. В свое время испанские мусульмане предоставили евреям самые лучшие условия проживания за всю историю диаспоры; и вот теперь во всем мире иудеи оплакивали утрату Испании и считали это событие страшнейшей напастью, постигшей их народ со времен разрушения Храма (70 г.). В религиозном сознании евреев еще больше укрепилась мысль о вечном изгнании, а это, в свою очередь, привело к новым формам каббалы и новым концепциям Бога.
Сложными были те годы и для мусульман в других частях мира. Закончились монгольские нашествия, и в последующие столетия, когда простой люд пытался восстановить утраченное, с неизбежностью усиливался нового рода консерватизм. В XV в. суннитские улемы из медресе, школ исламской науки, постановили, что «врата иджтихад [независимого рассуждения] отныне закрыты». С той поры мусульманам вменялось в обязанность «подражание» (таклид) ярким светилам прошлого; особенно важным было изучение шариата, Священного Закона. В подобной атмосфере трудно ожидать появления новых представлений о Боге, да и каких-либо новшеств вообще. Однако, вопреки распространенному среди западных европейцев мнению, этот период нельзя считать началом упадка ислама. Как отмечает Маршалл Ходжсон, для таких решительных обобщений у нас просто слишком мало материала. Ошибкой было бы, например, полагать, будто в те времена исламская наука пришла в упадок: на этот счет реальные свидетельства эпохи действительно скудны.
Консервативные тенденции проявились в XIV в.; их носителями были ведущие знатоки шариата – в частности, Ахмад ибн Таймийа Дамасский (ум. в 1328 г.) и его ученик ибн ал-Каййим ал-Джаузийа. Ибн Таймийа, которого горячо любили в народе, мечтал распространить авторитет шариата на любые обстоятельства, в каких только может оказаться мусульманин. Это не означало, впрочем, превращения Закона в репрессивную дисциплину; ибн Таймийа просто хотел избавиться от устаревших правил, привести шариат в соответствие с новыми условиями и подарить покой мусульманам, которых в ту пору одолевали тревоги. Шариат должен давать каждому ясный и здравый ответ на практические религиозные вопросы. Однако слишком ревностная защита шариата привела ибн Таймийю к нападкам на калам, фалсафу и даже ашаризм. Как и все реформаторы, ибн Таймийа стремился вернуться к истокам – Корану и хадисам, на которых основан шариат, – и отбросить все более поздние дополнения: «Я изучил все богословские и философские подходы и выяснил, что они не в силах ни исцелить от недугов, ни утолить жажду. Лучшим средством для меня остается Коран»[413]. Его ученик ал-Джаузийа, добавивший к перечню новшеств суфизм, отстаивал буквалистское толкование Писания и ожесточенно клеймил культ суфийских святых, прибегая к приемам, очень схожим с теми, какими пользовались позднее протестантские реформаторы. Современники ибн Таймийи и ал-Джаузийи вовсе не считали их взгляды отсталыми и ретроградными; напротив, в них видели прогрессивность и стремление облегчить тяжкое бремя братьев по вере. Примерно так же относились в Европе к Лютеру и Кальвину. Ходжсон предупреждает, что так называемый консерватизм той эпохи не следует принимать за «стагнацию»; он добавляет, что ни одно общество, кроме нашего, не могло ни осилить, ни предвидеть прогресс такого размаха, к какому мы привыкли сейчас[414]. Западные исследователи нередко попрекали мусульман XV–XVI вв. за то, что арабский мир не обратил никакого внимания на итальянское Возрождение. Да, Возрождение было одним из ярчайших примеров культурного расцвета за всю историю человечества, но далеко не единственным – с ним, например, вполне сопоставим культурный всплеск в Китае династии Сун, служивший в XII в. источником вдохновения для мусульман. Возрождение стало для Запада переломной эпохой, однако в те времена никому бы в голову не пришло, что этот расцвет культуры предвещает современную техническую эру, хотя в наше время это стало очевидным. Таким образом, равнодушие мусульман к Возрождению не означает непоправимого культурного отставания исламского мира. Нетрудно понять, что в XV в. арабов намного больше занимали их собственные, отнюдь не маловажные достижения.
Ислам по-прежнему оставался одной из мощнейших мировых сил, и Запад со страхом сознавал, что мусульмане стоят у самого порога Европы. В XV–XVI вв. возникли сразу три мусульманские империи: в Малой Азии и Восточной Европе – турки-оттоманы, в Иране – Сефевиды, в Индии – Великие Моголы. Эти новообразования свидетельствовали, что дух ислама вовсе не отжил свое и до сих пор дает мусульманам силы для новых успехов даже после катастроф и упадка. Каждая из перечисленных империй пережила замечательные периоды культурного взлета, причем расцвет искусства в Иране и Центральной Азии при династии Сефевидов удивительно схож с итальянским Возрождением: в обоих случаях главной формой выражения была живопись, а основной приметой – творческое переосмысление языческих корней родной культуры. Впрочем, несмотря на могущество и величие всех трех империй, там все же, говоря современным языком, господствовал дух консерватизма. Если раньше такие мистики и философы, как ал-Фараби или ибн ал-Араби, были уверены, что начинается новая эпоха, то теперь исламский мир медленно и незаметно возвращался к минувшему. Жителям Запада, разумеется, еще труднее оценить эту тенденцию, поскольку наши ученые слишком долго не обращали внимания на относительно недавние новшества ислама; кроме того, философы и поэты часто полагают, будто умы их читателей заполнены образами и идеями прошлого.
Определенное сходство с нынешними западными достижениями все-таки было. При Сефевидах государственной религией Ирана стала новая форма шиизма «двунадесятников», что положило начало беспримерной вражде между шиитами и суннитами. До той поры у шиитов было довольно много общего с более образованными и мистически настроенными суннитами, однако в XVI столетии ислам распался на два противоборствующих лагеря, а происходившие в мусульманском мире события очень напоминали, к сожалению, европейские религиозные войны эпохи Реформации. В 1503 г. шах Исмаил, основатель государства Сефевидов, захватил Азербайджан и распространил свою власть на Западный Иран и Ирак. Он намеревался стереть суннизм с лица земли и с неслыханной жестокостью навязывал шиизм своим подданным. Самого себя Исмаил считал Имамом своего поколения. Эти события имели много общего с протестантской Реформацией в Европе: оба движения опирались на глубинный протест, оба были направлены против аристократии и ставили цель утвердить монархические правительства. Реформированный шиизм упразднил существовавшие на его территории суфийские братства – примерно теми же способами, какими протестанты избавлялись от монастырей. Неудивительно, что события в государстве Сефевидов вызвали соответствующую реакцию у суннитов Оттоманской империи, и те принялись угнетать шиитов на своих землях. Одновременно турки-оттоманы, видевшие в себе главную силу недавних священных войн против европейских крестоносцев, начали притеснять и своих подданных-христиан. Не следует, впрочем, думать, будто иранская знать состояла из одних лишь фанатиков. Улемы Ирана относились к обновленному шиизму с глубоким недоверием; в отличие от своих коллег-суннитов, они отказывались «закрыть врата иджтихада» и отстаивали свое право толковать ислам независимо от воли шахов. Те же улемы не приняли династию Сефевидов – а позже и Каджаров – как правопреемников Имамов. Вместо этого ученые объединились с простым народом, выступили против власти и стали вождями уммы в восстаниях против монаршего произвола в Исфахане и Тегеране. Шиитские улемы ввели обычай отстаивания прав купцов и бедняков при посягательствах шахов; намного позже, уже в 1979 г., этот обычай позволил народу сплотиться и свергнуть коррумпированный режим Мухаммеда Реза-шаха Пехлеви.
Кроме того, иранские шииты разработали собственную фалсафу, в которой продолжили мистические традиции Сухраварди. Мир Дамад (ум. в 1631 г.), основоположник этой фалсафы, был и ученым, и богословом. Божественный Свет он отождествлял с просветленностью таких символических фигур, как Мухаммад и Имамы. Подобно Сухраварди, Мир Дамад отводил особое место неосознаваемому психологическому аспекту религиозных переживаний. Однако вершин этой иранской школы достиг ученик Мир Дамада – Садр ад-дин Ширази, которого принято называть Мулла Садра (ок. 1571–1640 гг.). Многие мусульмане и по сей день считают его самым глубоким мыслителем ислама и утверждают, что в его трудах во всей полноте выражен сплав метафизики и духовности, ставший характерной чертой мусульманской философии. На Западе Мулла Садра становится известен только сейчас; на английский язык переведен пока лишь один из его трактатов.
Мулла Садра, как и Сухраварди, считал, что познание – не просто накопление сведений, а преображающий процесс. Решающее значение для его построений имела концепция алам ал-митхал, введенная Сухраварди; Мулла Садра тоже считал видения и сны высшим откровением истины. Иранский шиизм до сих пор видит в мистицизме главное средство постижения Бога, а чистой науке и метафизике уделяет значительно меньше внимания. Мулла Садра учил, что цель философии – подражание Богу, приближение к Нему, и потому ее нельзя ограничивать рамками того или иного вероисповедания. Как показал еще ибн Сина, подлинным бытием (вуджуд) обладает лишь Бог, единственная Высшая Реальность, которая объемлет все – от Божественного мира до праха земного. Мулла Садра не был пантеистом. Он просто считал Бога источником всего сущего: все, что мы видим и ощущаем, – лишь сосуды, вмещающие конечную частичку Божественного Света. В то же время Бог выше повседневной действительности. Единство всего сущего нельзя понимать так, что на свете существует только Бог, – это скорее единство солнца с исходящими от него лучами. Подобно ал-Араби, Мулла Садра отличал сущность Бога, или «Слепоту», от Его разнообразных проявлений – в этом взгляды Муллы Садры были сходны с представлениями каббалистов и греков-исихастов. По системе Муллы Садры, весь космос исходит от «Слепоты» и образует «единый самоцвет» со множеством граней, которые соответствуют, так сказать, ступеням самооткровения Бога в Его атрибутах, или «знамениях» (айат). Помимо прочего, эти ступени воспроизводят этапы возвращения человека к Источнику Бытия.
Единение с Богом возможно не только в мире ином. Как и некоторые исихасты, Мулла Садра верил, что его можно достичь уже в этой жизни благодаря познанию. Нет нужды говорить, что он имел в виду не только рассудочные, рациональные знания; восходя к Богу, мистик должен пройти алам ал-митхал, мир видений и творческого воображения. Бытие Бога исключает возможность объективного познания, но каждый мусульманин может открыть Его в собственном воображении. Когда Коран или хадис говорит о Рае, Преисподней или Престоле Божьем, речь идет не о внешней действительности, пребывающей в конкретном месте, а о внутреннем мире, скрытом за покровами ощущаемых явлений:
Всё, к чему стремится человек и чего желает, мгновенно предоставляется ему; вернее будет сказать: составлять мысленный образ желаемого само по себе означает ощущать реальное присутствие желаемого предмета. Однако радость и удовольствие – выражения Рая и Ада, добра и зла; и всё, что может обрести человек и что составит воздаяние ему в мире ином, не имеет иного источника, кроме сокровенного «я» самого человека, сотканного таким, какое оно есть, силой намерений и замыслов, глубоких убеждений и поступков[415].
Мулла Садра питал огромное почтение к ал-Араби и, как и тот, не разделял представлений о Боге, который пребывает в каком-то ином мире, на далеких, но вполне реальных «Небесах», куда попадают после смерти праведники. Небеса и Божественный мир следует искать в собственной душе, в своем личном алам ал-митхал, который от рождения дарован всем людям. И потому у каждого человека – свои, особые Небеса и свой Бог.
Мулла Садра с большим уважением относился к суннитам и суфиям, греческим философам и шиитским имамам, и это в очередной раз показывает, что иранский шиизм далеко не всегда был фанатичным и замкнутым. В Индии многие мусульмане выработали у себя сходную терпимость к чужим традициям. Хотя в культуре Индии эпохи Великих Моголов господствовал ислам, индуизм по-прежнему процветал и развивался; мусульмане и индуисты нередко сообща творили произведения искусства и интеллектуальные шедевры. Тот регион долгое время оставался территорией религиозной терпимости. В XIV–XV вв. наиболее творческие течения индуизма являли собой образец слияния разных источников религиозного вдохновения: все пути были в равной мере правильны, если опирались на идею глубокой любви к Единому Богу. На эту мысль откликнулись и суфии, и файласуфы, задававшие тон в исламской Индии. Некоторые мусульмане и индуисты объединились в межконфессиональные течения, самым известным из которых стал сикхизм, основанный в XV веке гуру Намаком. В этой новой вере Аллах отождествлялся с Высшим Богом индуизма. Интерес к Индии проявляли и мусульмане Ирана: ученый Мир Абу ал-Касим Финдириски (ум. в 1641 г.), современник Мир Дамада и Муллы Садры, преподавал в Исфахане учение ибн Сины, но провел немало времени в Индии, где изучал индуизм и йогу. Трудно представить, чтобы в ту эпоху подобное внимание к чужой вере – которая не относилась даже к традиции Авраама! – проявил бы, скажем, католик – специалист по трудам Фомы Аквинского.
Дух терпимости и сотрудничества с особой явственностью отразился в политике Акбара, третьего императора из династии Моголов; он правил государством с 1560 по 1605 г. и проявил удивительное почтение ко всем вероисповеданиям. Из симпатии к индуистам он стал вегетарианцем, отказался от любимого развлечения – охоты, и запретил приносить в жертву животных в священных для индуистов местах и в свой день рождения. В 1575 г. он выстроил Дом Поклонения, где могли встречаться и беседовать о Боге ученые любых вероисповеданий. Наибольшую агрессивность на этих собраниях проявляли, судя по всему, европейские миссионеры-иезуиты. Кроме того, Акбар создал собственное суфийское братство, посвященное «божественному монотеизму» (таухид-э-илахи); устав братства провозглашал безусловную веру в Единого Бога, который раскрывает Себя в любой надлежащим образом руководимой вере. Абулфазл Аллами (1551–1602 гг.) воспел жизнь Акбара в биографической книге «Акбар-Намах» («Книга об Акбаре»), где предпринял, помимо прочего, попытку применить принципы суфизма к истории цивилизации. Акбар был для Аллами идеалом правителя, гением фалсафы и Совершенным Человеком своей эпохи. Благодаря таким правителям, как Акбар, который построил процветающее и свободное общество, где фанатизм просто невозможен, цивилизация сможет когда-нибудь подняться до уровня царства всеобщего спокойствия. Ислам в изначальном смысле этого слова, то есть «покорность» Богу, – это любая вера, а не привычное мусульманство, которое Аллами неизменно называл «верой Мухаммада». Однако далеко не все мусульмане разделяли взгляды Акбара; многие видели в таком либерализме угрозу исламу. Политика веротерпимости продолжалась лишь в период могущества Великих Моголов. Когда империя ослабела и в государстве возникли многочисленные группировки, стремившиеся свергнуть правителей, по стране прокатилась волна религиозных столкновений между мусульманами, индуистами и сикхами. Император Аурангзеб (1618–1707 гг.) полагал, вероятно, что былое единство можно возродить с помощью более строгой дисциплины в стане мусульман: он разработал свод законов, которые положили конец многим развлечениям (в том числе употреблению вина), сделали невозможным сотрудничество с индуистами, сократили число местных праздников и удвоили налоги, взимавшиеся с торговцев-индуистов. Самым наглядным отражением такой коммуналистской политики стало повсеместное уничтожение индийских храмов. После кончины Аурангзеба его законы, представлявшие собой полную противоположность толерантной политике Акбара, были отменены, однако империя Великих Моголов так и не оправилась от губительных последствий разгула слепого фанатизма, которому Аурангзеб во имя своего Господа развязал руки.
Одним из самых пылких противников Акбара при жизни этого правителя был выдающийся ученый-суфий, шейх Ахмад Сирхинди (1564–1624 гг.), которого, как и Акбара, ученики считали Совершенным Человеком. Сирхинди восстал против мистической традиции ал-Араби, чьи последователи в конце концов начали видеть в Боге единственную реальность. Как нам уже известно, Мулла Садра тоже отстаивал Единственность Бытия (вахдат ал-вуджуд). Это было мистическая перефразировка шабады: нет иной действительности, кроме Аллаха. Подобно мистикам других религий, суфии исповедовали единство мироздания и свое слияние со вселенной как целым. Сирхинди отмел эти переживания как чисто субъективные: когда мистик сосредоточен только на Боге, все прочее просто ускользает из сферы его сознания, но это не имеет ничего общего с объективной действительностью. На самом же деле говорить о каком-либо единстве Бога с миром и тем более отождествлять их – опасное заблуждение. На деле человек не в состоянии непосредственно воспринимать Бога, ибо тот пребывает за пределами человеческого: «Он – Святый, Он пребывает за пределами Запредельного, и за пределами той Запредельности, и за любыми мыслимыми пределами»[416]. Никакие отношения между Богом и нашим миром невозможны, кроме косвенного откровения через созерцание «знамений» природы. Сирхинди утверждал, что сам пережил экстатический этап роста мистика, на котором задержался ал-Араби, но теперь поднялся к более высокому, трезвому сознанию. Мистицизм и религиозные переживания помогли Сирхинди вновь вернуться к вере в далекого Бога философов – объективную, но недосягаемую реальность. Ученики Сирхинди ревностно отстаивали его взгляды, но большинство мусульман по-прежнему хранило верность имманентному, субъективному Богу мистиков.
Пока такие представители ислама, как Финдириски и Акбар, искали взаимопонимания с другими народами и вероисповеданиями, христианский Запад недвусмысленно показал, что не потерпит никакого сближения с двумя другими религиями Авраамовыми – вспомним события в Испании в 1492 г. В течение всего XV века в Европе нарастала эпидемия антисемитизма. Евреев то и дело изгоняли из городов: в 1421 г. – из Линца и Вены, в 1424-м – из Кельна, в 1439-м – из Аугсбурга, в 1442-м (и, повторно, в 1450-м) – из Баварии, в 1454 г. – из Моравии. Перуджа избавлялась от евреев в 1485 г., Виченца – в 1486-м, Парма – в 1488-м, Лукка и Милан – в 1489-м, а Тоскана – в 1494 г. Именно в этом общеевропейском контексте следует рассматривать изгнание евреев-сефардов из Испании. У испанских евреев, перебравшихся в Оттоманскую империю, горькое ощущение тоски по родине не проходило и отягощалось иррациональным, но неизгладимым чувством вины перед погибшими во время гонений. Сходное чувство переживали позже евреи, которым посчастливилось пережить нацистский геноцид; знаменательно, что и сегодня некоторые евреи испытывают тягу именно к той духовности, которая в XVI в. утешала изгнанных сефардов.
Эта новая форма каббалистики возникла, предположительно, в балканских провинциях Оттоманской империи, где поселились многочисленные общины сефардов. Трагедия 1492 г. вызвала всплеск всеобщей мольбы о предсказанном пророками спасении Израиля. Некоторые евреи, возглавляемые Иосифом Каро и Соломоном Алкабазом, перебрались из Греции в Палестину, на родные земли израильтян. Новая духовность помогала избавиться от мучительного унижения народа избранного и его Бога. Как говорили сами евреи, они мечтали «поднять Шехину из праха». С другой стороны, они вовсе не искали политического решения проблемы; о массовом возвращении евреев на землю обетованную не было и речи. Переселенцы обосновались в Сафеде (Галилея) и положили начало примечательному возрождению мистицизма, открывшему глубинный смысл их ощущения утраты родины. До той поры каббала привлекала лишь элиту, но после катастрофы евреи всего мира стали отдавать предпочтение более мистической духовности. Философия уже не приносила заметного утешения: Аристотель казался слишком сухим, а его Бог – далеким и недоступным. Вообще говоря, многие обвиняли в трагедии именно фалсафу – она-де ослабила иудаизм и лишила евреев чувства особой избранности Израиля. Универсальность и гибкость языческой философии заставила многих иудеев принять крещение. Отныне фалсафа навсегда утратила свою роль в иудаизме.
Люди тосковали по непосредственному восприятию Бога. В Сафеде эта тяга приобрела едва ли не эротическую напряженность. Каббалисты бродили по холмам Палестины и приникали к могилам прославленных талмудистов, словно стремясь впитать в себя видения минувшего и облегчить ими свою тревожную жизнь. Ночами им, будто несчастным влюбленным, часто не спалось – они пели Богу лирические песни и называли Его самыми нежными именами. Мифология и методы каббалы давали то, чего не могли уже дать ни метафизика, ни талмудические штудии: каббала вызывала душевный надрыв и касалась ноющих сердечных ран. Однако обстоятельства жизни беженцев из Испании сильно отличались от условий, в которых Моисей Леонский писал свой «Зогар», и потому им пришлось серьезно менять прежние воззрения. Они нашли замечательное творческое решение: приравняли бесприютность к абсолютной Божественности. Изгнание евреев символизировало теперь коренную неправильность в основе всего сущего. Что-то нарушилось, привычный порядок вещей был подорван, а Господь оказался отделенным от Самого Себя. Обновленная каббала Сафеда стала популярной практически мгновенно и переросла в массовое движение, воодушевившее не только сефардов, но и европейских ашкенази – те тоже поняли вдруг, что в христианском мире у них нет города, который можно назвать родным.
Чрезвычайный успех нового мистицизма означает, что странные, даже ошеломляющие – на взгляд постороннего человека – мифы сафедских каббалистов обладали особой силой и точно описывали текущее мироощущение евреев. В иудаизме эти идеи стали, пожалуй, последним практически всеобщим течением. Новая каббала вызвала глубочайшие перемены в религиозном сознании иудеев. Специальные дисциплины каббалы предназначались, конечно, только для редких посвященных, но ее общие идеи – в том числе представления о Боге – стали образцовыми формами еврейской религиозности.
Чтобы воздать должное новому восприятию Бога, следует учесть, что каббалистические мифы нельзя понимать буквально. Каббалисты из Сафеда сознавали, что опираются на весьма дерзкую символику, и непрестанно отмечали это особыми оборотами речи – «как если бы» или «можно сказать». Строить суждения о Боге, в том числе о библейской доктрине сотворения мира, оказалось делом непростым. Вслед за файласуфами каббалисты на своем опыте убедились, насколько это трудно. Те и другие принимали платоновскую метафору эманаций, которые связывают Бога с извечно исходящим от Него мирозданием. Пророки особо выделяли святость Бога, Его отдаленность от мира, но «Зогар» предполагал, что Божественный мир сефирот пронизывает всю действительность. Может ли Бог быть вне мира, если Он – всё во всем? Моисей бен Иаков Кордоверо (1522–1570 гг.) из Сафеда четко сознавал этот парадокс и пытался его разрешить. В его богословии Бог – Эн Соф был уже не невообразимым Божеством, а мыслью, что питает всю вселенную: Он един с каждой сотворенной вещью в ее идеальном, платоновском состоянии, однако отделен от порочного воплощения высших форм здесь, внизу: «До тех пор пока все, что существует, содержится в Его бытии, Он охватывает все сущее, – пояснял Моисей. – Субстанция Его присутствует в Его сефирот, и Сам Он – во всем, и ничто – вне Его»[417]. Такие идеи сближали каббалу с монизмом ибн ал-Араби и Муллы Садры.
Исаак Лурия (1534–1572 гг.), герой и святой сафедского каббализма, попробовал объяснить парадокс божественной трансцендентности и имманентности еще полнее с помощью одной из самых поразительных идей о Боге, какую когда-либо слышал мир. Большая часть иудейских мистиков держала свои переживания в тайне. Характерная особенность мистической духовности заключается в том, что мистики неустанно говорят о невыразимости своих переживаний и вместе тем с большим рвением пытаются выразить их в письменной форме. Каббалисты, впрочем, сознавали это противоречие. Лурия стал одним из первых цаддиков, иудейских праведников, которые силой личного обаяния привлекали к новому направлению мистицизма множество учеников. Лурия не писал сочинений, и наши познания о его каббалистической системе основаны на беседах, изложенных его учениками Хаимом Виталем (1534–1620 гг.) в трактате «Эц Хаим» («Древо жизни») и Иосифом бен Табулом в рукописи, которая была опубликована только в 1921 г.
Лурия взялся за проблему, которая терзала монотеистов веками: как совершенный и бесконечный Бог мог сотворить конечный мир, да еще и полный зла? Откуда вообще взялось зло? Лурия нашел свой ответ, попытавшись представить, что могло происходить до эманации сефирот, когда Эн Соф был еще погружен в возвышенное самосозерцание. По мнению Лурии, чтобы высвободить место для грядущего мира, Эн Соф, так сказать, выделил ему участок в Самом Себе. Таким актом «сокращения» или «сжатия» (цимцум) Бог сотворил место, где Его Самого не было, – пустое пространство, которое Он мог заполнить процессом Самораскрытия и, одновременно, творения мира. Итак, Лурия предпринял дерзкую попытку наглядно выразить сложнейшую доктрину сотворения «из ничего»: самым первым деянием Эн Соф было добровольное отчуждение некой частицы Себя. Он, можно сказать, еще глубже погрузился в собственное естество и по Своей воле Себя ограничил. Такая идея в чем-то сходна с изначальным кенозисом, введенным христианами в доктрину Троицы: в акте Самовыражения Бог опустошает Себя, изливаясь в Своем Сыне. Для каббалистов шестнадцатого столетия цимцум был прежде всего символом изгнания, которое тем самым закладывалось в самую основу бытия тварного мира и которое испытал на Себе даже Эн Соф.
«Пустое пространство», возникшее после отстранения Бога, мыслилось как круг, охваченный со всех сторон Эн Софом. Это тогу-у-богу – упомянутая в «Книге Бытия» безвидная пустошь. Вплоть до отторжения актом цимцум разнообразные «силы» Бога (ставшие позже сефирот) гармонично взаимопроникали и их нельзя было еще отличить друг от друга. В частности, в Боге абсолютно соразмерно сосуществовали Хесед (Милость) и Дин (Строгий Суд). Однако в процессе цимцум Эн Соф отделил Дин от прочих Своих атрибутов и перенес его в оставленное Им пустое пространство. Таким образом, цимцум был не просто актом самоопустошающей любви, но и своеобразным божественным самоочищением: Бог удалил из Своего сокровенного естества Гнев, или Суд, который в книге «Зогар» рассматривается как первоисточник зла. Итак, в этом предначальном деянии проявилась Его суровость, безжалостность к Самому Себе. Теперь, в отрыве от Хесед и остальных божественных атрибутов, Дин стал потенциально разрушительной силой. Тем не менее Эн Соф не до конца отрекся от пустого пространства: проникшая в круг «тонкая черта» божественного света приняла форму того, что в «Зогаре» именуется Адам Кадмон – Изначальный Человек.
Затем начались эманации сефирот, хотя происходило это не совсем так, как описано в «Зогаре». По учению Лурии, сефирот сложились в Адаме Кадмоне. Высшие сефирот – Кетер (Венец), Хохма (Мудрость) и Бина (Разум) – изошли соответственно из «носа», «ушей» и «уст» Адама. Но затем случилась катастрофа, которую Лурия назвал шевират га-келим («Разрушение Сосудов»). Чтобы сефирот оставались отделенными друг от друга и не перемешались в первичном единстве, их нужно было держать в особых вместилищах, или «сосудах». Эти «сосуды», или «трубки», были, конечно, не материальными и состояли из чего-то вроде сгущенного света, служившего «оболочкой» (келипот) для более тонкого света сефирот. Сосуды трех высших сефирот, выделенных Адамом Кадмоном, были в полном порядке, но когда он испустил из «очей» следующие шесть сефирот, их Сосуды оказались недостаточно крепкими, раскололись и выпустили божественный свет наружу. В результате лучи рассеялись: одни ушли ввысь и вернулись к Запредельному, а другие в виде божественных «искр» просыпались в безвидную пустошь и увязли в хаосе. С тех пор ничто не находится на своем месте. Вследствие катастрофы в низшую сферу рухнули даже три высшие сефирот. Первоначальная гармония утрачена, а божественные искры, словно изгнанники, затерялись в бесформенной пустоте тогу-у-богу.
Этот причудливый миф перекликается с более ранними, гностическими преданиями о случившейся в далеком прошлом трагедии. Рассказ о сефирот отражает напряженность всего созидательного процесса – и это роднит его скорее с нынешней научной гипотезой «Большого Взрыва», чем с довольно спокойным, размеренным и упорядоченным сотворением мира по «Книге Бытия». Эн Соф очень непросто было выйти из Своего сокровенного состояния: Он делал это, так сказать, методом проб и ошибок. Сходную мысль высказывали в Талмуде раввины. По их мнению, прежде чем сотворить наш мир, Бог создавал другие, но затем уничтожал их. Так или иначе, каббалисты считали, что не все потеряно. Кое-кто из них сравнивал «Разрушение» (Шевират) с рождением, появлением ростка из лопнувшего семени. Расщепление – просто начало созидания чего-то нового. И, хотя все пришло в беспорядок, Эн Соф смог породить из этого явного хаоса новую жизнь и сделал это посредством Тиккун – восстановления цельности.
После катастрофы от Эн Соф изошел еще один поток света, пронзивший «чело» Адама Кадмона. На этот раз сефирот перестроились в иную конфигурацию; отныне они перестали быть обобщенными аспектами Бога. Каждая сефира стала «Лицом» (парцуф), в котором раскрывалась вся личность Бога, хотя и со своими, так сказать, отличительными чертами (в чем-то сходно с тремя ипостасями Троицы). Лурия стремился найти новый способ выражения давней каббалистической идеи неисповедимого Бога, рождающего Себя как личность. Описывая тиккун, мистик прибегал к символике зачатия, появления на свет и дальнейшего развития, то есть уподоблял эволюцию Бога росту человеческой личности. Процесс этот сложен и лучше всего выражается, пожалуй, схематически. Возвращая Себе прежнюю целостность в ходе тиккун, Бог возродил порядок и перестроил десять сефирот в пять «Ликов» (парцуфим):
1. Кетер (Венец), высшая сефира, именуемая в книге «Зогар» Ничто, становится первым парцуф под названием Арик Анпин: Предшествующий.
2. Хохма (Мудрость) становится вторым парцуф под названием Абба: Отец.
3. Бина (Разум) становится третьим парцуф – Има: Мать.
4. Дин (Суд), Хесед (Милосердие), Рахамим (Сострадание), Нецах (Терпение), Ход (Величие), Йесод (Основание) превращаются в четвертый парцуф под названием Зеир Анпин – Нетерпеливый. Его супругой становится:
5. Последняя сефира, Малкут (Царство), или Шехина. Это пятый парцуф, именуемый Нуква дзеир: Жена Зеира.
Сексуальный символизм – смелая попытка изображения повторного слияния сефирот, которое призвано исправить разлад, начавшийся после разрушения сосудов, и вернуться к изначальной гармонии. Две «супружеские пары» – Абба и Има, Зеир и Нуква – вступают в зивуг (совокупление); соитие мужских и женских начал в Боге символизирует восстановление порядка. Каббалисты неизменно призывают читателей не воспринимать все это буквально. Это откровенный вымысел, предназначенный лишь для того, чтобы хоть намеком отразить процесс восстановления целостности, который невозможно описать четкими рациональными понятиями; кроме того, образы «супругов» позволяют как-то смягчить господствующее представление о Боге-мужчине. Спасение, предвиденное мистиками, не зависит от исторических событий, таких как пришествие Мессии, а является процессом, который претерпевает Сам Бог. Первоначальный замысел Бога состоял в том, чтобы сделать людей своими соратниками в поисках и спасении тех божественных искр, которые рассеялись и затерялись в хаосе после «Разрушения Сосудов». Однако Адам согрешил в Саду Эдемском – если бы не это, исходная гармония давно была бы восстановлена, а божественное изгнание закончилось бы уже в первый День Отдохновения. Однако грехопадение Адама повторило изначальную катастрофу «Разрушения Сосудов»: порядок в сотворенном мире рухнул, а божественный свет в душе человека рассеялся и застрял в тисках падшей материи. Вследствие этого у Бога родился новый замысел, и Он избрал Израиль как товарища в борьбе за господство и власть. И хотя Израиль, подобно все тем же божественным искрам, тоже рассеялся диаспорами по бесприютным землям безбожников, у евреев по-прежнему есть своя, особая миссия. Бог остается неполным, пока Его божественные искры рассеяны и затеряны в материи. Тщательным соблюдением Торы и правил молитвы каждый еврей может вернуть эти искры на божественную родину и тем самым спасти мир. В этой концепции Спасения Бог уже не взирает на людей снисходительно, но, как всегда считали евреи, во многом зависит от человеческой помощи. Именно евреи сподобились исключительной привилегии помочь Богу воссоздаться, «собрать» Себя заново.
Лурия придал новый смысл давнему образу изгнанной Шехины. Вспомним, что, по мнению раввинов-талмудистов, Шехина добровольно отправилась в изгнание вместе с евреями после разрушения Храма. В книге «Зогар» Шехина отождествляется с последней сефирой и становится женским аспектом Божества. В мифе Лурии Шехина низверглась вместе с другими сефирот, когда лопнули Сосуды. На первом этапе тиккун она стала Нуквой и, благодаря соитию с Зеиром (шестью «срединными» сефирот), почти вернулась в божественный мир. Однако после грехопадения Адама Шехина вновь рухнула и оказалась отделенной от остального Божества. Маловероятно, чтобы Лурия был знаком с сочинениями христианских гностиков, разработавших очень схожую мифологию. Скорее, каббалист в поисках подходящего соответствия трагическим событиям XVI в. неосознанно вернулся к древним мифам о грехопадении и изгнании. В библейские времена, когда складывались представления о Едином Боге, евреи отвергли легенды о божественном соитии и изгнанной богине – связь подобных мифов с язычеством и идолопоклонством, разумеется, вызвала бы у сефардов отвращение. Однако мифология Лурии была с восторгом принята всеми евреями – в Персии и Англии, Германии и Польше, Италии и Северной Африке, Голландии и Йемене. Давние мифы, переработанные на иудаистский лад, затронули потаенные струны в душах отчаявшихся скитальцев и подарили им новые надежды. Теперь евреи верили, что, невзирая на ужасающие обстоятельства нынешнего существования, их жизнь все еще имеет высший смысл и ценность.
Евреи могли положить конец изгнанию Шехины. Соблюдая мицвот, они могли возродить своего Бога. Весьма любопытно сравнить этот миф с протестантским богословием, которое разрабатывали в ту же эпоху Лютер и Кальвин. Оба протестантских реформатора проповедовали абсолютное владычество Господа. По их учению, как мы еще увидим, люди совершенно не в состоянии что-либо сделать для собственного спасения. Доктрина Лурии, напротив, призывала к действию: люди нужны Богу, без их молитв и добрых дел Он будет оставаться неполным. Несмотря на трагедию, постигшую еврейский народ в Европе, мнение иудеев о человечестве было куда оптимистичнее протестантского. Лурия считал, что миссия тиккун должна осуществляться через созерцание. Пока европейские христиане – и католики, и протестанты – формулировали все новые догмы, Лурия возрождал мистические приемы Авраама Абулафии, помогавшие евреям возвышаться над чисто рассудочной деятельностью и воспитывать в себе интуитивное осознание. Комбинируя, в духе Абулафии, буквы Имени Бога, каббалисты помнили, что само содержание понятия «Бог» человеческим языком передать невозможно. В мифологии Лурии такая перестановка букв символизировала также реорганизацию, перестройку Божества. Хаим Виталь рассказывает о невероятном эмоциональном воздействии методов Лурии: бодрствование, когда все спят, пост, когда все едят, систематическое уединение – иными словами, отстраненность от повседневных занятий – позволяли каббалистам сосредоточиться на странных «словах», не имевших ничего общего с привычной речью. Каббалист словно переносился в другой мир, он весь дрожал и трепетал, как если бы оказался во власти незримых сил.
Но тревоги не было. Лурия настаивал на том, что перед духовными упражнениями каббалист должен успокоить свой ум. Очень важны счастье и радость: не нужно ни каяться, ни беспокоиться о том, хорошо ли все получается, ни терзаться угрызениями совести или чувством вины. Виталь говорил, что Шехина не может жить в том месте, где царят горечь и уныние; эта идея восходит еще к Талмуду. Источник печали – силы зла в нашем мире, а счастье, напротив, помогает каббалисту любить Бога и сближаться с Ним. В душе каббалиста не должно быть ненависти и зависти к кому бы то ни было, даже к гойим. Лурия приравнивал гнев к идолопоклонству, поскольку озлобленный человек одержим неким «чужим богом».
Лурианский мистицизм легко критиковать. Как указывает Гершом Шолем, тайна Бога Эн Соф, столь впечатляющая в книге «Зогар», заметно теряется в драме цимцум, «Разрушении Сосудов» и в процессе тиккун[418]. В следующей главе мы увидим, как это стало одной из причин трагического и нелепого события еврейской истории. Тем не менее представления Лурии о Боге помогли евреям воспитать в себе дух веселья, доброты и благожелательного отношения к людям даже в те времена, когда озлобленность и стыд ввергали многих иудеев в пучины отчаяния и неверия.
Европейским христианам так и не удалось развить столь жизнеутверждающую духовность. Они тоже переживали исторические трагедии, но философская религия схоластов смягчить терзания человека не могла. Чума 1348 г., падение Константинополя в 1453 г., церковные распри, связанные с Авиньонским пленением пап (1334–1342 гг.) и «Великим расколом» (1378–1417 гг.), словно выставили напоказ человеческое бессилие и принесли Церкви дурную славу. Складывалось впечатление, что без помощи Господа люди просто не в силах избежать некоего ужасного предназначения. Вполне естественно, что в XVI–XVII вв. такие богословы, как Иоанн Дуне Скот из Оксфорда (1265–1308 гг.) (не путать с Иоанном Скотом Эриугеной!) и француз Иоанн Герсон (1363–1429 гг.), подчеркивали владычество Бога, руководящего земными делами со строгостью абсолютного монарха. Люди не в состоянии повысить свои шансы на Спасение. Добрые дела сами по себе ничего не значат и благотворны лишь по милости Бога, поскольку Он утверждает их благими. Однако в те столетия наметилось и смещение ценностей. Сам Герсон был мистиком, для которого лучше «держаться прежде всего любви Божьей, не задаваясь возвышенными вопросами», нежели «стремиться постичь природу Господа силой суждений, пусть даже основанных на истинной вере»[419]. Мы уже знаем, что в XIV в. Европа проявляла повышенный интерес к мистицизму и люди начинали сознавать, что рассудок не приспособлен для изъяснения того таинства, которое именуют «Богом». Как сказал в своем «Подражании Христу» Фома Кемпийский:
Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения и оттого ты Троице не угоден? […] Пусть не умею определить, что есть благоговение: лишь бы я его чувствовал. Если знаешь всю Библию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, когда нет любви и благочестия?[420]
«Подражание Христу» с его весьма мрачной и унылой религиозностью стало одним из самых популярных на Западе сочинений на духовную тему. В тот период религиозное чувство все больше сосредоточивалось на Иисусе-Человеке. Практика создания изображений Распятия побуждала вникать во все подробности душевных и телесных мучений Иисуса. В правилах созерцания, написанных примерно в XIV в. анонимным автором, читателю внушалось, что утром, после практически всенощных размышлений о Тайной Вечере и трагедии в Гефсиманском саду, глаза верующего все еще должны быть красны от рыданий. Проснувшись, он должен без промедления погрузиться в размышления о суде над Иисусом и в мыслях час за часом повторить весь Его путь на Голгофу. Читателю предлагалось воображать, будто он сам выступает на суде в защиту Христа, сидит рядом с Ним в темнице и лобзает Его скованные руки и ноги[421]. О Воскресении в этом гнетущем сочинении не говорилось почти ничего – подчеркивалась, напротив, лишь уязвимость Иисуса-Человека. Неистовство страстей и – по нашим современным понятиям – нездоровое любопытство характерны для многих подобных текстов. Даже такие великие мистики, как Бригитта Шведская и Юлиана Норвичская, подчас смакуют подробности, касающиеся физического состояния Иисуса:
И видела я Его милый лик сухим, бескровным и мертвенно-бледным. И эта мертвенная и безжизненная бледность перешла после смерти в голубизну, а та, по мере гибели плоти, сменялась постепенно коричневато-синим. И страсти Его открылись мне прежде всего в этом благословенном лице и, особенно, в Его устах. В них я видела смену тех же четырех оттенков, хотя прежде были эти уста свежие, красные и приятные. Горько было смотреть, как менялся Он, умирая. Ноздри Его тоже морщились и увядали прямо на глазах, а милое тело почернело и побурело, иссушенное смертью[422].
Сразу вспоминаются немецкие распятия XIV века с их гротескно искривленными телами и извергающейся кровью; своей вершины этот стиль достиг, конечно же, в произведениях Матиса Грюневальда (1480–1528 гг.). Юлиана Норвичская была настоящим мистиком и испытала великие откровения природы Бога; в частности, Троица, по ее мнению, живет в человеческой душе, а не пребывает «там», в иной действительности. Тем не менее даже ей трудно было противостоять столь мощному на Западе соблазну сосредоточения на Иисусе-Человеке. В XIV–XV столетиях жители Европы все чаще делали центром своей духовной жизни не Бога, а людей. Наряду с возрастающим почтением к Иисусу-Человеку усиливались также средневековые культы Девы Марии и святых. Восторженное отношение к реликвиям и святым местам отвлекало западных христиан от самого главного – казалось, люди готовы сосредоточиться на чем угодно, кроме Самого Бога.
Мрачная сторона западного духа проявилась даже в эпоху Возрождения. Философы и гуманисты того времени чрезвычайно скептически относились почти ко всем граням средневековой религиозности. Жгучую неприязнь вызывала у них страсть схоластов к невразумительным и скучным умозрениям, безнадежно отдалявшим Бога и умертвлявшим всякий интерес к Нему. В эпоху Возрождения люди мечтали вернуться к истокам веры и, в частности, к блаженному Августину. В средние века Августина чтили как богослова, но, перечитав «Исповедь», гуманисты поняли, что перед ними – собрат по поискам себя. Как утверждали гуманисты, христианство – не свод доктрин, а переживание. Лоренцо Балла (1407–1457 гг.) особо подчеркивал бесполезность попыток соединить священные догмы с «хитросплетениями диалектики» и «метафизической игрой слов»[423], ведь «тщеты» эти осуждал еще апостол Павел. Франческо Петрарка (1304–1374 гг.) полагал, что «богословие есть на самом деле поэзия – стихи о Боге», и действенно оно не в силу «доказательности», а потому, что пронзает сердце[424]. Гуманисты заново открыли человеческое достоинство, но это не заставило их отречься от Бога – напротив, как истинные сыны своей эпохи, они с пылом говорили о человечности Господа, который Сам становился Человеком. Былые сомнения, однако, оставались. В эпоху Возрождения люди глубокого сознавали непрочность своих познаний и, конечно, разделили бы обостренное ощущение греховности, присущее Августину. Как сказал Петрарка:
Столько раз размышлял я о своих невзгодах и о смерти, столько слез пролил в стремлении смыть с себя грязь, что едва сдерживал рыдания, даже когда заговаривал об этом! Но и до сей поры все тщетно… Поистине, Господь – лучшее, а я – худшее[425].
Человека по-прежнему отделяло от Бога огромное расстояние: и Колюччо Салютати (1331–1406 гг.), и Леонардо Бруни (1369–1444 гг.) считали Бога совершенно трансцендентным, недоступным человеческому уму.
Однако немецкий философ и церковный деятель Николай Кузанский (1401–1464 гг.) был несколько лучшего мнения о наших способностях постичь Бога. Его чрезвычайно увлекала новая наука – в ней он видел опору для понимания тайны Троицы. В частности, математика, которая занимается только чистыми абстракциями, способна добиваться достоверности, недоступной в других дисциплинах. Так, математические понятия «максимума» и «минимума» явно противоположны по смыслу, но, как следует из логических доказательств, их можно считать тождественными. Это «совпадение противоположностей» таит в себе идею Бога. «Максимум» вмещает всё, поскольку подразумевает единство и необходимость, указующие непосредственно на Бога. Более того, линия maximum – не треугольник, не окружность и не сфера, но сочетание всех трех, а Троица тоже являет собой единство противоположностей. Так или иначе, мудреные доказательства Николая Кузанского почти не имели религиозного смысла, так как низводили идею Бога до уровня логической головоломки. «В Боге свернуто всё, даже противоположности»[426] – так считал философ, и это мнение было сходно с греко-православным представлением о том, что любое настоящее богословие должно быть парадоксальным. Однако Николай Кузанский не всегда выступал в роли философа и математика. Как духовный наставник, он писал, что «взыскующий истины» христианин обязан, «оставив всё», возвыситься «над самим собою», то есть подняться «превыше всякого чувства, рассудка и разума». Тем не менее лик Бога остается окутанным «загадочным и таинственным безмолвием»[427].
Открытия эпохи Возрождения не избавляли от глубинных страхов, которые, как и Сам Бог, кроются за гранью рассудка. Вскоре после смерти Николая Кузанского на его родине, в Германии, вспыхнула особо пагубная фобия, быстро охватившая всю Северную Европу. В 1484 г. папа Иннокентий VIII издал буллу «Summa Desiderantes» и тем самым положил начало безумию «охоты на ведьм», волны которого периодически прокатывались в XVI–XVII вв. по всей Европе и в равной мере заражали католиков и протестантов. В «охоте на ведьм» проявилась оборотная сторона духа Запада. Во время этих отвратительных преследований невинных людей тысячами подвергали зверским пыткам, пока не добивались от них признаний в самых кошмарных преступлениях. Несчастные подтверждали, что вступали в половые сношения с демонами или переносились на сотни миль по воздуху, чтобы участвовать в оргиях, где на «черных мессах» поклонялись Сатане. Сейчас понятно, что никаких ведьм среди тех бедолаг не было, и этот массовый психоз отражал всеобщие фантазии, которые разделяли как инквизиторы, так и сами жертвы, – людям снились самые невообразимые вещи, и их не стоило труда убедить, будто увиденное во сне случилось на самом деле. Фантазии эти совмещались с антисемитизмом и глубокими сексуальными страхами. Сатана мелькал тут и там, словно двойник невообразимо благого и могущественного Бога. В других теистических религиях ничего подобного не происходило. В Коране, например, открыто сказано, что в Судный День будет прощен даже шайтан. Кое-кто из суфиев считал, что Сатана впал в немилость, потому что любил Бога сильнее, чем остальные ангелы: в день сотворения мира Бог велел Сатане склониться перед Адамом, но тот отказался, ибо был убежден, что почитания заслуживает только Сам Бог. Однако на Западе Сатана перерос в совершенно неуправляемое зло. Его все чаще изображали в облике огромного зверя с неуемным сексуальным аппетитом и внушительного размера гениталиями. Как предположил в своей книге «Демоны души европейца» Норман Кон, такой портрет Сатаны – не только проекция потаенных страхов и желаний. «Охота на ведьм» была также неосознанным, но навязчивым бунтом против гнетущей веры и слишком неумолимого Бога. В камерах пыток палачи и несчастные жертвы сообща творили в своей фантазии «христианство наизнанку». «Черная месса» постепенно превратилась в чудовищный, но доставлявший извращенное удовольствие обряд, где чтили диавола, а не Господа, – многим Бог казался слишком суровым и опасным, чтобы иметь с Ним дело[428].
Мартин Лютер (1483–1546 гг.) не сомневался в существовании колдовства, а христианскую жизнь считал прежде всего битвой против Сатаны. В определенном смысле Реформация была попыткой разрешить эту напряженность, хотя большинство реформаторов не предлагало новых представлений о Боге. Разумеется, понятие «Реформация» – изрядное упрощение тех грандиозных религиозных преобразований, которые произошли в Европе в XVI столетии, поскольку само название предполагает перемены более сознательные и единодушные, чем те, что происходили на деле. Многочисленные реформаторы – и католики, и протестанты – стремились выразить новые религиозные веяния, которые остро ощущались, но не поддавались ясному осмыслению. Мы не знаем, почему началась «Реформация» – современные исследователи предостерегают, что письменные свидетельства не вполне заслуживают доверия. Нельзя говорить, что перемены были вызваны, как часто полагают, исключительно растлением Церкви или общим упадком религиозности. В действительности для того, чтобы народы Европы начали осуждать злоупотребления, на которые прежде смотрели сквозь пальцы, требовалось именно религиозное воодушевление. Все идеи реформаторов возникли из средневекового католического богословия. Свою роль сыграли и национализм, и расцвет немецких и швейцарских городов, и обновленная религиозность и богословская образованность мирян в XVI веке. Наконец, в Европе обострился индивидуализм, что повлекло за собой радикальный пересмотр устаревших религиозных представлений. Европейцы стали уделять меньше внимания внешнему выражению веры, сосредоточиваясь на личном, внутреннем религиозном опыте. Все эти факторы способствовали мучительным, подчас бурным переменам, через которые Запад шел к новой эпохе.
У Лютера перемене во взглядах предшествовало отчаяние – он разуверился в возможности угодить Богу и едва ли не возненавидел Его:
Хотя и жил я безупречной жизнью монаха, но чувствовал, что грешен и совесть моя пред Господом нечиста. Я не верил, что угодил Ему своими делами. Слишком далек от любящего тот праведный Бог, Который карает грешников, – я уже питал к Нему отвращение. А я был хороший монах и соблюдал свой обет столь строго, что если и был на свете послушник, который заслужил Небеса своей жизнью, то это был я – и все братья моей обители это подтвердят. […] И все же совесть моя не приносила мне уверенности, и я всегда сомневался и говорил себе: «Не так ты все делаешь. Мало в тебе покаяния, и многое ты замалчиваешь в исповедях»[429].
Многие нынешние христиане – как протестанты, так и католики – легко узнают этот синдром, ведь Реформации так и не удалось излечить его до конца. Характерной чертой Бога Лютера был гнев. Эту Божественную ярость не мог вынести ни один святой, пророк или псалмист. Мало было просто «делать все, что в твоих силах»; поскольку Бог вечен и всемогущ, «ярость Его к закосневшим в гордыне грешникам тоже безмерна и беспредельна»[430]. Воля Его неисповедима, и одно лишь соблюдение Закона Божьего и других религиозных правил нас не спасет. Вообще говоря, Закон влечет за собой только обвинения и страх, ибо воочию являет нам всю бездну нашей низости. Закон не вселяет надежды, но, напротив, раскрывает «гнев Божий, грех, погибель и проклятие пред взором Божьим»[431].
Личным озарением стала для Лютера доктрина оправдания. Сам по себе человек не может спастись. Бог обеспечивает все необходимое для «оправдания», возрождения отношений между грешником и Господом. Бог деятелен, люди пассивны. Наши «добрые дела» и соблюдение Закона – именно результат, а не причина оправдания перед Богом. Мы способны следовать религиозным заповедям по той простой причине, что Господь уже спас нас. Вот что имел в виду апостол Павел, когда говорил об «оправдании верой».
В теории Лютера не было ничего нового – эта идея витала в Европе еще с начала четырнадцатого столетия. Однако стоило Лютеру уловить ее и осознать, как все его тревоги рассеялись. Последовавшее прозрение «вызвало такое чувство, будто я родился заново, будто я прошел через распахнутые врата прямо в Рай»[432].
Тем не менее к человеческой природе он по-прежнему относился крайне пессимистически. К 1520 г. Лютер разработал так называемое «Богословие Креста». Выражение это основано на словах апостола Павла, сказанных в обращении к верующим Коринфа: крест Иисуса засвидетельствовал, что «немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков»[433]. Господь оправдывает «грешников», которые, по человеческим меркам, не заслуживают ничего, кроме наказания. Мощь Бога проявляется в том, что человеческому взору кажется слабостью. Пока Лурия внушал каббалистам, что Бог открывается только в радости и безмятежности, Лютер провозглашал, что «Бога можно найти лишь в страданиях и Кресте»[434]. Исходя из этого тезиса, Лютер полемизировал со схоластами и отличал лжебогослова, который кичится остротой своего ума и «взирает на незримое в Боге так, будто оно ясно видимо», от настоящего теолога, «постигающего зримое и проявленное в Боге через мучения и Крест»[435]. Доктрины Троицы и Вочеловечения в формулировке отцов церкви казались Лютеру подозрительными, поскольку их сложность служила приметой лживого «горделивого богословия»[436]. С другой стороны, Лютер оставался верен никейской, эфесской и халкидонской ортодоксии, ведь его теория оправдания целиком зависела от божественности Христа и Его положения в Троице. Столь традиционные доктрины слишком глубоко укоренились в христианских воззрениях, и ни Лютер, ни Кальвин не подвергали их сомнениям. Лютер отвергал только невразумительные рассуждения лжебогословов. «К чему это мне?» – спросил он, столкнувшись с мудреными доктринами христосологии. Ему достаточно было знать, что Христос – наш спаситель[437].
Лютер сомневался даже в возможности доказательства существования Бога. Единственный «бог», поддающийся таким логическим суждениям, какие выдвигал Фома Аквинский, – это бог языческих философов. Провозглашая оправдание «верой», Лютер вовсе не имел в виду переход к правильным представлениям о Боге. «Вера не требует ни фактов, ни знаний, ни доказательств, – заявил он в одной из своих проповедей, – но только добровольного самоотречения и радостного упования на Его неощутимую, неиспытанную и неведомую доброту»[438]. Тем самым Лютер предвосхитил решение проблемы веры, найденное Паскалем и Кьеркегором. Вера – не согласие с официальными доктринами и не «доверие» к ортодоксальному мнению. Вера – это прыжок во мрак, к той реальности, существование которой принимается без сомнений. Это «знание и темнота, которые не видят ничего»[439]. Бог, по заверениям Лютера, строго возбраняет умозрительные споры о Его естестве. Попытки объять Его одним лишь умом опасны и приводят к отчаянию, поскольку человеку под силу познать только мощь, мудрость и справедливость Бога, а это устрашит разве что закоренелых грешников. Вместо того чтобы пускаться в рассуждения о Боге, христианину следует принять богооткровенные истины Писания, сделать их частью себя. Как это сделать, Лютер разъяснил в своем символе веры, составленном для «Малого катехизиса»:
Верую, что Иисус Христос, предвечно рожденный от Отца, но также и человек, рожденный от Девы Марии, – Господь мой, Который спас меня, тварь заблудшую и обреченную, и избавил меня от всех грехов, от смерти и от козней диавольских не златом и серебром, но Его святой и драгоценной кровью, и Его невинными муками, и смертию, для того, чтобы я Ему принадлежал, жил в Нем и в Царствии Его и служил Ему в неизменной праведности и благости, ибо Он воскрес из мертвых и воцарился над вечностью[440].
Лютер был неплохо знаком со схоластическим богословием, но вернулся к более простой вере и резко осуждал сухую теологию XIV в., которая так и не смогла избавить его от страхов. Тем не менее он сам впадал порой в маловразумительные рассуждения – например, когда пытался точно объяснить, как именно мы были оправданы. Кумир Лютера, блаженный Августин, учил, что праведность, которую стяжают грешники, – не от них самих, но от Господа. Лютер ловко подменил эту мысль: Августин сказал, что божественная праведность стала частью нас, а Лютер настаивал на том, что она пребывает вне грешника, но Бог воспринимает ее так, будто это свойство человека. По иронии судьбы, Реформация привела к усилению доктринальной путаницы и росту числа новоявленных сект, чьи доктрины были не менее замысловаты и зыбки, чем те, от которых стремились избавиться реформаторы.
Лютер уверял, что доктрина оправдания даровала ему новое рождение. На самом же деле далеко не все его тревоги были развеяны, ибо он оставался человеком беспокойным, озлобленным и жестким. Все крупные религии приходили к тому, что решающим показателем духовности является ее неразрывность с обыденной жизнью. Как сказал Будда, после просветления человеку следует «вернуться на шумный базар» и проявлять сострадание ко всему живому. Покой, безмятежность и любовь-доброта – вот главные приметы подлинного религиозного прозрения. Лютер, однако, остался оголтелым антисемитом и женоненавистником; проявления сексуальности вызывали у него ужас и жгучее отвращение, а мятежных крестьян, по его мнению, нужно было просто уничтожать. Образ яростного Бога наполнил ненавистью самого Лютера. Нет сомнений, что его воинственная натура причинила огромный вред Реформации. Первоначально его свежие идеи, способные вдохнуть в Церковь новую жизнь, привлекли немало ортодоксальных католиков, но вскоре Лютер своим агрессивным поведением посеял в них стойкое недоверие[441].
Еще большую роль в истории сыграл, однако, Жан Кальвин (1509–1564 гг.). Его Швейцарская Реформация, укрепившая лютеровские идеалы эпохи Возрождения, оказала глубочайшее влияние на зарождавшийся дух современного Запада. К концу XVI в. кальвинизм стал международной религией, которая преобразила общество – неизвестно, правда, в лучшую или худшую сторону – и заставила людей поверить, что при желании можно добиться чего угодно. В 1645 г. кальвинизм разжег в Англии пуританскую революцию под предводительством Оливера Кромвеля и стал толчком к колонизации Новой Англии (начиная с 1620 г.). Идеи Лютера после его смерти распространялись главным образом в пределах Германии, тогда как Кальвину удалось намного большее: последователи развили его учение и вызвали этим вторую волну Реформации. Как отметил историк Хью Тревор Роупер, приверженцам кальвинизма было куда проще отказаться от веры, чем католикам-традиционалистам, поскольку «если католик, то уж навсегда». Кальвинизм, однако, силен по-своему: даже отвергнутый, он находит свое выражение в мирской жизни[442]. Особенно справедливо это для Соединенных Штатов: многие американцы, которые уже не верят в Бога, придерживаются пуританской трудовой морали и кальвинистской идеи свободных выборов, себя считают «избранным народом», а свой флаг и свои идеалы – едва ли не божественными замыслами. Мы уже убедились, что все крупные религии были в определенном смысле продуктами цивилизации, а еще точнее – урбанизации. Развивались они в то время, когда богатые купеческие сословия брали верх над прежней языческой властью и начинали самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Кальвинова версия христианства особенно привлекала буржуа из бурно расцветавших европейских городов, жители которых стремились сбросить оковы угнетающей церковной иерархии.
Как и его предшественник, швейцарский богослов Ульрих Цвингли (1484–1531 гг.), Кальвин не особенно интересовался догмой. Главной его заботой были общественные, политические и экономические аспекты религии. Кальвин мечтал вернуться к более простому, «библейскому» благочестию, однако твердо держался доктрины Троицы, несмотря на «небиблейское» происхождение ее терминологии. Как сказано в его «Наставлении в христианской вере», «Бог открывает Себя как единого Бога, но предстает в трех разных Лицах»[443]. В 1553 г. Кальвин добился казни испанского богослова Мигеля Сервета, который отвергал существование Троицы. Сервет, бежавший из католической Испании в Женеву, где жил тогда Кальвин, утверждал, что возвращается к вере апостолов и первых отцов церкви, которые слыхом не слыхали о столь странной доктрине. Сервет довольно аргументированно доказывал, что ничто в Новом Завете не противоречит строгому единобожию древнееврейских писаний. Доктрина Троицы, следовательно, – человеческое измышление, которое «отвратило умы людские от постижения истинного Христа и представила нам тройственное божество»[444]. Убеждения Сервета разделяли итальянские реформаторы – Джордже Бландрата (ок. 1515–1588 гг.) и Фауст Социн (1539–1604 гг.). Оба тоже бежали в Женеву, но там быстро выяснилось, что их богословие слишком радикально для Швейцарской Реформации – ведь эти двое не признавали даже традиционную для Запада идею Искупления. Бландрата и Социн считали, что людей оправдывает не сама смерть Христа, но только их собственная вера в Бога. В своей работе «Христос Спаситель» Социн отрекся от так называемой «Никейской ортодоксии»: по его мнению, выражение «Сын Божий» отнюдь не утверждает божественное естество Иисуса и означает лишь то, что Бог питал к Христу особую любовь. Христос умер вовсе не для того, чтобы искупить наши грехи. Он был лишь пастырь, который «указал дорогу к спасению». Что до идеи Троицы, то это просто «уродство», чудовищное измышление, «противное рассудку» и, по существу, вынуждающее христиан верить в трех разных богов[445]. После казни Сервета Социн и Бландрата бежали в Польшу и Трансильванию, забрав с собой и свою «унитарианскую» веру.
Цвингли и Кальвин опирались на более традиционные представления о Боге и, как и Лютер, уделяли особое внимание Его абсолютной власти. Это было не интеллектуальное убеждение, а итог напряженных личных переживаний. В августе 1519 г., вскоре после получения прихода в Цюрихе, Цвингли заразился чумой, которая в тот раз погубила четверть населения города. Цвингли остро переживал свою беспомощность и сознавал, что ничего не может сделать, чтобы спастись. Ему и в голову не приходило молиться за себя святым угодникам или просить об этом собратьев по Церкви. Цвингли целиком положился на милосердие Божье. У него была своя краткая молитва:
На все воля Твоя, У меня есть всё. Я – горшок Твой: Разбей его или сбереги[446].Его покорность была сходна с идеалом ислама: подобное самоотречение проявляли на соответствующих этапах роста иудеи и мусульмане. Христиане Запада уже не довольствовались участием посредников. В их душах зарождалось чувство личной ответственности перед Господом. Кальвин тоже основал свою пересмотренную веру на абсолютном владычестве Бога. Он, впрочем, не оставил потомкам подробного рассказа о своих переживаниях. В «Комментариях к Псалмам» он просто сообщает, что перемена в его взглядах случилась исключительно по воле Божьей. Прежде он был порабощен традиционной Церковью и «суевериями папства». Он не мог освободиться, да и не хотел, и потому на него повлиял Бог: «Наконец, Бог неисповедимой уздой Его провидения отвратил меня с моего пути в иную сторону. […] Нежданным обращением в покорность усмирил Он разум мой, чрезмерно неподатливый в мои лета»[447]. Бог властвовал безраздельно, Кальвин был совершенно бессилен, но ощущал, что избран для особой миссии именно благодаря острому чувству собственной немощности.
Радикальные перемены во взглядах были характерной чертой западного христианства еще со времен блаженного Августина. Протестантизм продолжил эту традицию резкого, гневного и бесповоротного прощания с прошлым, которую американский философ Уильям Джеймс назвал «заново рожденной» верой для «больных душ»[448]. Христиане «рождались заново», переходили к обновленной вере в Бога и отказывались от многочисленных посредников, отделявших в средневековой Церкви человека от Божества. Кальвин говорил, что святых прежде чтили из опасения: люди стремились умиротворить разгневанного Бога, изливая душу тем, кто к Нему ближе. Тем не менее, отвергая поклонение святым, протестанты нередко проявляли не меньшее беспокойство. Когда они узнавали, что святые ничем не помогут, изрядная доля их страха и враждебности к столь непреклонному Богу выплескивалась наружу неистовой реакцией. Английский гуманист Томас Мор отмечал, что во многих диатрибах против «идолопоклонства», то есть почитания святых, сквозит личная ненависть[449]. Та же озлобленность проявилась в жестоком уничтожении церковных изображений. Многие протестанты и пуритане восприняли ветхозаветное осуждение запечатленных образов слишком серьезно: они крушили статуи святых и Девы Марии, а фрески в кафедральных соборах замазывали известью. Это горячечное рвение показало, что теперь протестанты боялись оскорбить раздражительного и ревнивого Бога ничуть не меньше, чем прежде, когда обращались к святым с мольбами за них заступиться. Очевидно, что источником стремления чтить одного лишь Бога была не спокойная убежденность, а опасливое отрицание. Подобные же чувства заставляли древних израильтян сносить столпы в честь Асират и обрушивать потоки оскорблений в адрес соседских божков.
Имя Кальвина связывают прежде всего с его верой в предопределение, хотя эта идея была у него далеко не главной. Не стала она основой кальвинизма и после его смерти. Сама проблема совмещения всемогущества и всеведения Бога со свободной волей человека была порождена антропоморфными представлениями о Боге. Нам уже известно, что еще в IX в. мусульмане столкнулись с этой трудностью, но так и не нашли логического, рационального решения; вместо этого они остановились на идее о таинственности, непостижимости Бога. Греко-православных христиан проблема свободной воли вообще никогда не тревожила: они, напротив, наслаждались такими парадоксами и видели в них источник прозрения и вдохновения. Однако на Западе, где господствовали более персонифицированные представления о Боге, этот вопрос стал настоящим яблоком раздора. О «Божьей воле» пытались рассуждать так, будто Он – обычный человек и подчиняется тем же ограничениям, что и мы, а также правит миром в совершенно буквальном смысле, как земной самодержец. И все же католическая церковь осудила идею о том, что Бог уготовил грешникам вечное пребывание в аду. Августин, например, относил понятие «предопределение» к намерению Господа спасти только избранных. В то же время Августин не соглашался с тем, что некоторые заблудшие души обречены на вечные муки – хотя именно такой вывод с неизбежностью следовал из его рассуждений. В «Наставлениях» Кальвин не уделил особого внимания теме предопределения. Он отмечал, что на первый взгляд может показаться, будто к одним народам Господь действительно благосклоннее, чем к другим. Почему, например, одни прислушались к новозаветному Благовестию, а другие остались к нему равнодушны? Неужели промысел Божий произволен или несправедлив? Кальвин отрицал это: если одни сделали верный выбор, а прочие отказались от спасения, то это – знак загадочности Бога[450]. Проблема видимой несовместности любви и справедливости Господа не имеет рационального решения – и этот итог ничуть не обеспокоил Кальвина, который вообще не питал большого интереса к догме.
Однако уже после его смерти, когда «кальвинистам» понадобилось отличать себя, с одной стороны, от лютеран, а с другой – от католиков, их «визитной карточкой» стало именно предопределение. Главной эту идею сделал Теодор Беза (1519–1605 гг.) – правая рука и преемник Кальвина в Женеве. Беза прошелся по парадоксу предопределения катком неумолимой логики. Если Господь всемогущ, то людям не дано что-либо сделать для своего спасения. Бог неизменен, и воля Его справедлива и вечна: это означает, что Он испокон веку решил, кого спасет, а остальных обрек на вечное проклятие. Ознакомившись с этой безысходной доктриной, многие кальвинисты сникли от ужаса. Яков Арминий (1560–1609 гг.) из Нидерландов доказывал, что это образчик скверного богословия, ибо Беза говорит о Боге так, как если бы Он был простым смертным. Но кальвинисты были убеждены, что о Боге можно рассуждать объективно, как о любом другом явлении. Подобно католикам и остальным протестантам, они развивали новый аристотелизм, где властвовали логика и метафизика. Эта тенденция отличалась, впрочем, от аристотелизма Фомы Аквинского, поскольку новоявленных богословов интересовало не само учение античного философа, но лишь его рациональный подход. Они мечтали подарить христианству последовательную и непротиворечивую систему взглядов, полученную из самоочевидных посылок на манер силлогизма. В этом таилась, конечно, злая ирония, ведь вожди Реформации все как один отвергали рационалистические суждения о Боге. Позднекальвинистское богословие предопределения показало, что может произойти, когда парадоксальность и таинственность Бога воспринимается уже не как поэзия и подвергается методичному и пугающе логичному разбору. Буквальное, а не символическое толкование Библии мгновенно делает ее Бога невозможным. Идея божества, которое в самом прямом смысле слова несет ответственность за все, что случается на земле, неизменно ведет к совершенно неразрешимым противоречиям. Библейский «Бог» при таком подходе перестает быть символом трансцендентной реальности и превращается в злого и своенравного тирана. Доктрина предопределения – прекрасная иллюстрация того, насколько ограничен столь очеловеченный Бог.
Пуритане опирались в своих религиозных переживаниях на идеи Кальвина и явно считали, что Бог – это борьба. Очевидно, Он не дарил ни счастья, ни сострадания. Дневники и автобиографии пуритан свидетельствуют о том, что каждый из них был просто одержим предопределением – и страхом перед тем, что ему-то спасение как раз не уготовано. Главной заботой стало обращение грешников – жестокая, мучительная драма, в которой «грешник» и его духовный пастырь «борются» за заблудшую душу. Кающемуся грешнику то и дело приходится терпеть крайнее унижение или, желая милости Божьей, впадать в полное отчаяние – до тех пор, пока он не начнет сознавать абсолютную зависимость от Господа. Обращение грешников часто становилось психологической разрядкой с истерическими метаниями между глубокой безысходностью и душевным подъемом. Одержимость идеями ада и проклятия в сочетании с постоянным самокопанием доводили многих пуритан до тяжелой депрессии; участились самоубийства. Сами пуритане приписывали эти факты козням Сатаны, который стал в их жизни реалией не менее могущественной, чем Сам Господь[451]. У пуританства была, впрочем, и положительная сторона: оно позволило человеку гордиться своим трудом, и то, что прежде казалось людям рабством, рассматривалось теперь как «призвание». Горячечная апокалиптическая духовность побудила многих пуритан переселиться в Новый Свет. Тем не менее в худших своих проявлениях пуританский Бог не внушал верующим ничего, кроме страха и грубой нетерпимости ко всем, кто не принадлежал к числу избранных.
В ту пору католики и протестанты уже видели друг в друге врагов, хотя фактически их представления о Боге и переживания почти одинаковы. После Тридентского собора (1545–1563 гг.) католические богословы тоже посвятили себя неоаристотелевской теологии, низводившей Бога до предмета естественнонаучных изысканий. Такие реформаторы, как основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола (1491–1556 гг.), разделяли протестантское мнение о первостепенной значимости непосредственных переживаний Божества и необходимости впитать откровения всей душой, сделать их частью себя. «Духовные упражнения», разработанные Лойолой для первых иезуитов, были призваны способствовать обращению грешников, которое могло вызывать и страшные муки, и невероятное счастье. Описывалось тридцатидневное уединение, во время которого кающийся общался только со своим духовником; особое внимание Лойола уделял самооценке и самостоятельным решениям. В целом, его подход был по духу недалек от пуританства. «Упражнения» представляют собой систематический и чрезвычайно действенный «ускоренный курс» мистицизма. Мистики нередко разрабатывали дисциплины, сходные с современными курсами психоанализа. Любопытно, что «Упражнения» до сих пор используются в католичестве и англиканстве как альтернативная терапия.
Лойола хорошо сознавал, впрочем, и опасность ложного мистицизма. Как и Лурия, он отмечал важную роль безмятежности и радости, а в работе «Правила различения духов» предостерегал учеников от бурных эмоций, которые доводили некоторых пуритан до крайностей. В этом сочинении Лойола поделил разнообразные чувства, которые обычно испытывали уединившиеся по его методике, на те, что, по всей видимости, исходят от Бога, и те, что внушаются дьяволом. Бог дарует покой, надежду, радость и «возвышение ума», тогда как тревоги, скорбь, скука и рассеянность приходят от «злого духа». Игнатий Лойола и сам остро ощущал Божественное, и связанные с этим переживания исторгали у него слезы радости; однажды он даже признался, что не смог бы без них прожить. Однако неистовым взрывам чувств он все же не доверял и подчеркивал, что на пути к обновлению души по его системе необходима строгая дисциплина. Подобно Кальвину, христианство Лойола считал встречей с Христом, которую и описал в своих «Упражнениях». Кульминацией этого свидания было «созерцание ради обретения любви», при котором видны «во всем творения благости Божьей и ее отражения»[452]. В глазах Лойолы мир полнился Богом. Когда его причисляли к лику святых, ученики вспоминали:
Часто мы видели, как самые незначительные вещи побуждали его душу возноситься к Господу, Величайшему даже в мельчайшем.
При виде ростка, листочка дерева, плода или цветка, ничтожного червяка или малой зверушки Игнатий воспарял порой выше неба и достигал того, что за пределами чувств[453].
Как и пуритане, иезуиты видели в Боге динамическую силу, которая, в лучших своих проявлениях, наполняла монахов энергией и уверенностью в себе. Пуритане отважно пересекали Атлантику и осваивали Новую Англию, а миссионеры-иезуиты путешествовали по всему свету: Франсиско Хавьер (1506–1552 гг.) проповедовал в Индии и Японии, Маттео Риччи (1552–1610 гг.) принес евангелие в Китай, Роберт де Нобили (1577–1656 гг.) – в Индию. Сходство с пуританами проявилось и в том, что иезуиты были страстными учеными. Первым научным обществом принято считать, между прочим, именно орден иезуитов, а не лондонское Королевское общество или «Академию дель Чименто»[454].
Так или иначе, католики терзались не меньше пуритан. Игнатий, например, считал себя таким грешником, что даже умолял, чтобы после смерти его тело бросили на кучу навоза и оставили птицам и псам. Врачи предупреждали, что он утратит зрение, если и дальше будет так горько рыдать на мессе. Терезу Авильскую, которая внесла серьезные перемены в образ жизни монахинь ордена босоногих кармелиток, посещали кошмарные видения места, уготовленного для нее в аду. Великие святые того времени, похоже, считали земной мир и Господа непримиримыми противоположностями: чтобы спастись, нужно было отречься от мира и всех естественных наклонностей. Венсан де Поль, всю жизнь посвятивший благотворительности и добрым делам, молился, чтобы Бог избавил его от любви к родителям. Жанна Франсуаза Шанталь, основательница ордена визитандинов, наступила, уходя в монастырь, на распростертое тело собственного сына, который рухнул на пороге, чтобы не дать матери уйти. Эпоха Возрождения пыталась примирить небеса с землей, а католическая Реформация снова отдалила их друг от друга. Возможно, Бог и наделил реформированное западное христианство мощью и действенностью, однако счастья верующим не принес. Эпоха Реформации помечена крайним смятением в обоих враждующих лагерях: неистовое отречение от прошлого, горькие обвинения и взаимные анафемы, страх перед ересями и отклонениями от доктрины, неуемное сознание собственной греховности и одержимость кошмарами преисподней. В 1640 г. была опубликована книга голландского католика Корнелиуса Янсения – своеобразный манифест обновленного кальвинизма. В этом сочинении, полном противоречий, был очерчен пугающий образ Бога, который обрек на вечное проклятие всех людей, кроме редких избранных. Кальвинистам книга, разумеется, пришлась по душе; по их мнению, она «преподает доктрину необоримой мощи Господней милости – доктрину верную и согласную с реформированной»[455].
Чем объяснить охватившее Европу смятение и всеобщий страх? Это был крайне тревожный период: складывалось принципиально новое, основанное на технологии и науке, общество, которое вскоре покорит весь мир. Однако Бог, похоже, не в состоянии был облегчить бремя страха и не приносил того утешения, какое, скажем, евреи-сефарды нашли в мифах Исаака Лурии. По-видимому, христианами Запада Бог всегда воспринимался как некое предельно трудное испытание, а реформаторы, стремясь сгладить религиозную напряженность, лишь ухудшали положение дел. Бог Запада, который, как считалось, уготовил миллионам людей вечные муки, стал еще страшнее, чем скорое на расправу божество, представлявшееся Тертуллиану или блаженному Августину в минуты помрачения. Неужели откровенно фантастическая концепция Бога, основанная на мифологии и мистицизме, оказывается более действенным средством утешения и ободрения людей в трагические и бедственные минуты, чем Бог, мифы о котором воспринимаются буквально?
Действительно, к концу XVI столетия многие европейцы уже чувствовали, что религия серьезно дискредитировала себя. Нескончаемая резня между католиками и протестантами вызывала омерзение. Сотни людей погибли мученической смертью лишь потому, что придерживались тех или иных взглядов, которые все равно невозможно было ни доказать, ни опровергнуть. С пугающей быстротой плодились секты, а с ними и новые доктрины – якобы спасительные. Выбор конфессий стал слишком широк, и многих разнообразие религиозных толкований просто сбивало с толку и даже пугало. Христиане чувствовали, что верить искренне стало намного труднее, чем когда-либо. Очень символично, что именно в этот период истории Бога на Западе впервые начали замечать «безбожников», которых, казалось, было не меньше, чем «ведьм» – давних недругов Господа и соратников дьявола: «безбожники» отрицали существование Бога, деятельно набирали в свои секты новообращенных и вообще подрывали устои общества. На самом же деле настоящий атеизм – в том смысле, в каком это понятие используется сейчас, – был тогда просто немыслим. Как показал Люсьен Февр в классической работе «Проблема безверия в шестнадцатом веке», концептуальные трудности полного отрицания Бога в ту эпоху были слишком велики и практически непреодолимы. Религия все еще властвовала над жизнью каждого человека – от рождения и крещения до самой смерти и погребения на церковном кладбище. Повседневная деятельность была помечена колокольным звоном, созывающим верующих на молитву, и пропитана религиозными верованиями и установлениями. Религия господствовала и в труде, и в общественной жизни – религиозными организациями считались даже гильдии и университеты. Как указывает Февр, Бог и религия были столь вездесущи, что в ту пору никому и в голову не пришло бы заявить: «Наша жизнь, вся жизнь целиком во власти христианства! Как мало в нашей жизни мирского, если сравнивать со всем прочим, что до сих пор подчиняется вере и ею определяется!»[456] И даже если бы какой-то гений пришел к идее объективной необходимости сомнений в существовании Бога и переоценки природы религии, его не поддержала бы ни философия, ни наука того времени. До тех пор пока не сложился свод последовательных суждений, опирающихся на целый ряд научных свидетельств, никто не мог усомниться в существовании Бога, вера в которого целиком определяла нравственную, эмоциональную, эстетическую и политическую жизнь Европы. В отсутствие поддержки со стороны науки подобное отрицание осталось бы капризом ума, мимолетным порывом, не заслуживающим серьезного внимания. Как показал Февр, в таких общераспространенных языках, как, например, французский, все еще не было ни словарных, ни синтаксических средств для выражения скепсиса: понятия «абсолютный», «относительный», «причинность», «концепция» или «интуиция» тогда не использовались[457]. Следует также вспомнить, что в то время на земле вообще не было общества, которое отказалось бы от религии; вера в богов повсюду считалась само собой разумеющимся житейским фактом. Отдельные европейцы начали сомневаться в существовании Бога лишь к концу XVIII века.
Что же в ту эпоху имели в виду люди, когда обвиняли друг друга в «безбожии»? Французский ученый Марен Мерсенн (1588–1648 гг.), член строгого ордена францисканцев, утверждал, что в его время в одном только Париже было около пятидесяти тысяч безбожников, – но из перечисленных им «атеистов» большая часть в Бога все же верила. Так, Пьер Каррен, друг Мишеля Монтеня, в трактате «О трех истинах» (1589 г.) защищал католицизм, однако в главной своей работе «О мудрости» отмечал недостатки рассудка и объявлял, что к Богу приближает только вера. Мерсенн с этим не соглашался и приравнивал такое мнение к «безбожию». Другим «неверующим», которого он осуждал, был итальянский рационалист Джордано Бруно (1548–1600 гг.), хотя Бруно верил в Бога, похожего на бога стоиков, – душу, начало и конец вселенной. Мерсенн окрестил обоих «безбожниками» лишь по той причине, что их представления о Боге не совпадали с его собственными; на самом же деле ни Каррен, ни Бруно не отрицали Высшего Существа. В свое время язычники Римской империи считали «безбожниками» иудеев и христиан, хотя причина была все та же: разница во мнениях о Божестве. В XVI–XVII вв. слово «атеист» приберегали исключительно для полемики. «Безбожниками» называли оппонентов – примерно так же как в XIX столетии и начале XX века любого врага сразу причисляли к «анархистам» или «коммунистам».
После Реформации христианство начало вызывать у людей иные страхи. Как и слово «ведьма» (а позднее «анархист» или «коммунист»), понятие «атеист» отражало подспудное беспокойство, скрытую тревогу. Слово «безбожник» использовалось как прозвище в тактике внезапных действий, направленных на то, чтобы устрашить набожных и поощрить их благочестие. Англиканский богослов Ричард Хукер (1554–1600 гг.) заявлял в своем сочинении «Законы церковного устройства», что безбожники делятся на две категории: крошечная доля тех, кто вообще не верует в Бога, и огромное число иных, которые живут так, как будто Бога нет. Но обычно про эту разницу забывали и сосредоточивались исключительно на втором, практическом безбожии. Так, в сочинении Томаса Бёрда «Лицезрение Божьего Суда» (1597 г.) воображаемый «атеист» отвергает провидение Господне, бессмертие души и загробную жизнь, хотя, очевидно, вовсе не сомневается в существовании Бога. В трактате «Атеизм скрытый и атеизм развенчанный» (1634 г.) Джон Уинфилд утверждал: «Лицемер – безбожник; откровенно дурной человек – открытый безбожник. Наглый, дерзкий и горделивый грешник – безбожник; и тот, кого нельзя переучить или перевоспитать, – безбожник»[458]. Для валлийского поэта Уильяма Вогана (1577–1641 гг.), участвовавшего в колонизации Ньюфаундленда, явными безбожниками были те, кто завышал арендную плату или присваивал общинные земли, а вот английский драматург Томас Нэш (1567–1601 гг.) объявлял атеистами людей честолюбивых, алчных, прожорливых и самовлюбленных, а заодно и проституток.
Слово «безбожник» было оскорблением. Самого себя назвать атеистом никому и в голову бы не пришло. Это понятие еще не стало эмблемой, которую позже носили с гордостью. Тем не менее в XVII–XVIII вв. жители Запада постепенно переходили к умонастроению, делавшему отрицание Бога не только возможным, но и желательным. Опорой атеистических взглядов могла стать наука, хотя Бог реформаторов, казалось, даже питал к новой науке определенную симпатию. Лютер и Кальвин верили в абсолютную власть Господа и потому отвергали аристотелевское мнение о природе как некой самостоятельной силе. Природа была для реформаторов такой же пассивной, как и христианин, который мог лишь принять от Бога дар спасения, но не способен был его добиться. Кальвин открыто одобрял научное исследование мира природы, посредством которого незримый Бог позволяет Себя постигать. Конфликтов между наукой и Писанием быть не могло: библейский Бог уже приспособился к нашей, чисто человеческой ограниченности, как опытный оратор меняет тон и стиль речи в зависимости от аудитории. По убеждению Кальвина, библейский рассказ о сотворении мира – нечто вроде «сюсюканья» в общении с детьми: таким путем сложные и таинственные процессы упрощаются до уровня понимания простого люда, чтобы каждый имел возможность уверовать в Бога[459]. Не следует воспринимать такие повествования буквально.
Католическая церковь, однако, не всегда была столь непредубежденной. В 1530 г. польский астроном Николай Коперник завершил свой трактат «Об обращении небесных сфер», где утверждал, что в центре вселенной находится Солнце. Работа была издана вскоре после его смерти, в 1543 г., и Церковь незамедлительно внесла ее в список запрещенных книг. В 1613 г. пизанский математик Галилео Галилей заявил, что изобретенный им телескоп подтверждает правоту Коперника. Этот случай стал cause celebre[460]: суд инквизиции велел Галилею отречься от своих научных воззрений и приговорил к пожизненному тюремному заключению. Далеко не все католики были согласны с таким решением, но Церковь инстинктивно противилась любым переменам – как, впрочем, и все прочие учреждения, поскольку в ту эпоху всюду царил дух консерватизма. Церковь отличалась от остальных институтов лишь тем, что обладала достаточной властью, чтобы бороться с оппозицией, и представляла собой налаженную машину, достигшую невероятной эффективности в навязывании интеллектуального конформизма. Осуждение Галилея немедленно повлекло за собой запрет на научные изыскания в католических странах – при всем том, что многие современные ученые (в частности, Марен Мерсенн, Рене Декарт и Блез Паскаль) хранили верность католическим идеалам. Случай с Галилеем довольно сложен, и я не берусь обсуждать все его политические последствия. Важным для нашей темы остается, однако, один факт: католическая церковь осудила гелиоцентрическую систему не потому, что та угрожала вере в Бога-Творца, но лишь по той причине, что теория эта противоречила слову Божьему, запечатленному в Писании.
Астрономические открытия возмутили и многих протестантов. Ни Лютер, ни Кальвин не осуждали Коперника, но Филипп Меланхтон (1497–1560 гг.), сподвижник Лютера, отверг идею о том, что Земля вращается вокруг Солнца, как противоречащую отдельным фрагментам Библии. Это несоответствие раздражало не только протестантов. После Тридентского собора католики тоже начали с обновленным пылом отстаивать свое Священное Писание – «Вульгату», перевод Библии на латынь, сделанный еще блаженным Иеронимом. В 1576 г. Великий Инквизитор Испании Леон де Кастро объявил: «Нельзя мириться ни с чем, что расходится с латинской «Вульгатой», будь то единственное предложение, второстепенный вывод, отрывок, отдельное слово, слог или даже буква»[461]. Как мы уже знаем, в прошлом некоторые рационалисты и мистики изо всех сил пытались отойти от буквального прочтения Библии или Корана и сознательно прибегали к символическому толкованию. Теперь же и протестанты, и католики вновь начали доверять сугубо буквальному пониманию Св. Писания. Научные открытия Коперника и Галилея едва ли смутили бы исмаилитов, суфиев, каббалистов и исихастов, но стали серьезной проблемой для тех католиков и протестантов, которые вернулись к обновленному буквализму. Действительно, как можно было примирить вращение Земли вокруг Солнца с такими, например, библейскими стихами: «Потому тверда вселенная, не поколеблется», «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит», «Он сотворил луну для указания времен; солнце знает свой запад»[462]? Естественно, духовенство было крайне обеспокоено и некоторыми другими заявлениями Галилея. Если, по его утверждению, жизнь может существовать и на Луне, то как те люди произошли от Адама и как перебрались на Луну из Ноева Ковчега? И как совместить вращение Земли с вознесением Христа на Небеса? В Писании сказано, что небо и земля созданы во благо человеку, но Галилей заявляет, будто Земля – лишь одна из планет, вращающихся вокруг Солнца. Рай и ад считались в ту пору местами совершенно реальными, но в систему Коперника никак не вписывались. Тогда еще принято было верить, что преисподняя находится в центре Земли – куда и поместил ее Данте. Кардинал Роберто Беллармино – ученый-иезуит, который консультировал по делу Галилея учрежденную незадолго до того «Конгрегацию распространения веры», – занял традиционную позицию: «Ад – место подземное, отличное от могил». Ссылаясь на «здравый смысл», он пришел к окончательному выводу, что преисподняя пребывает в центре Земли:
Прибегнем, наконец, и просто к здравому смыслу. Нет сомнений, что логово демонов и проклятых грешников разумно разместить как можно далее от обители, где вечно пребывают ангелы и праведники. Обитель блаженных – Небеса (с этим согласны даже наши противники), но нет места, более далекого от Небес, чем сердцевина Земли[463].
Сегодня «рассуждения» Беллармино выглядят смехотворными. Даже христиане-буквалисты уже не воображают, будто ад действительно находится в центре Земли. Тем большее потрясение вызывают у них другие научные теории, не оставившие никакого «места для Бога» в грандиозной новой космологии.
В те времена, когда Мулла Садра внушал мусульманам, что рай и ад – воображаемые миры в душе каждого человека, вполне образованные священнослужители вроде Беллармино энергично доказывали, что это обычные «географические» категории. Пока каббалисты прибегали к нарочито символическому толкованию библейской истории сотворения мира и предупреждали учеников об опасности буквального понимания мифов, католики и протестанты упорно отстаивали фактическую правдивость каждого слова Св. Писания. В результате традиционная религиозная мифология стала крайне уязвимой, а развитие новой науки со временем привело к тому, что многие люди вообще перестали верить в Бога. Богословы не подготовили паству к надвигающимся переменам. После Реформации, когда возродился интерес к аристотелизму, и протестанты, и католики принялись рассуждать о Боге так, словно Он – обычный объективный факт. Позже, в конце XVIII и начале XIX века, это позволило новым «атеистам» окончательно отказаться от идеи Бога.
Судя по трактату «О Божественном провидении», его автор Леонард Лессиус (1554–1623 гг.), чрезвычайно влиятельный богослов-иезуит из Лувена, отдавал предпочтение Богу философов. Существование этого Бога можно, как и любой другой житейский факт, засвидетельствовать научно. Устройство вселенной – которая не могла возникнуть случайно – указывает на существование Перводвигателя и Самодержца. В Боге Лессиуса не было, впрочем, ничего специфически христианского: Он являл собой научный факт, очевидный для всякого мыслящего человека. Об Иисусе Лессиус упоминал лишь изредка. По его мнению, существование Бога можно вывести из повседневных наблюдений, философских раздумий, сравнительного религиоведения и просто здравого смысла. Бог превратился у него в обыкновенную сущность, подобную множеству других объектов, изучавшихся в ту пору учеными и философами. Файласуфы не сомневались в правильности своих доказательств существования Бога, однако их единоверцы решили в конце концов, что Бог философов не имеет почти никакого религиозного значения. Могло сложиться впечатление, что у Фомы Аквинского Бог тоже представлял собой лишь звено, пусть и самое возвышенное, в единой цепи бытия; но сам Аквинат был уверен, что все эти философские рассуждения не имеют ничего общего с Богом мистическим, которого он ощущал во время молитвы. Тем не менее в начале XVII в. видные богословы и деятели Церкви все еще доказывали существование Бога, опираясь исключительно на рациональные доводы. Многие идут этим путем и в наши дни. Когда новая наука опровергает подобные аргументы, существование Бога оказывается под большим сомнением. Вместо того, что видеть в идее Бога символ Реальности, чье бытие не соответствует привычному пониманию этого слова и открывается только творческому воображению в молитве и созерцании, люди все чаще допускали, что Он существует точно так же, как и все прочее. Деятельность таких богословов, как Лессиус, убедительно показывает, что Европа стремительно шла к новейшей эпохе, а теологи сами ковали оружие для грядущих атеистов, которые отвергнут бесполезного в религиозном смысле Бога, внушающего большинству людей не надежду и веру, но только страх. После Реформации христиане – вместе с философами и учеными – решительно отказались от Бога мистиков, пребывающего в воображении, и искали просвещения в Боге «от разума».
9. Просвещение
К концу XVI в. на Западе началась техническая революция, что привело со временем к появлению принципиально нового общества и новых идеалов. Разумеется, это повлияло на западное понимание роли и природы Бога. Достижения индустриального, высокопроизводительного Запада изменили и течение всемирной истории. Остальным регионам ойкумены все труднее было игнорировать Европу, которая не так уж давно плелась в хвосте всех остальных цивилизаций; но не менее сложно было и найти с Европой общий язык. Поскольку никто и нигде не шел прежде подобным путем, Запад создал целый ряд совершенно новых и, следовательно, трудноразрешимых проблем. Например, вплоть до XVIII в. господствующей силой в Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке был ислам. Несмотря на то что Возрождение XV века позволило христианскому миру Запада в чем-то обойти исламский мир, разнородные силы мусульман без особого труда справлялись с этим соперничеством. Оттоманы продолжали продвигаться вглубь Европы, а мусульмане оберегали свои территории от крадущихся по пятам португальских путешественников и купцов. Однако в конце XVIII столетия Европа уже властвовала над миром, и это можно объяснялось разве лишь тем, что остальным частям света за нею было не угнаться. Британцы завладели Индией, и все европейские страны стремились захватить как можно больше колоний. Начался период западного влияния, а вместе с ним – и культ антиклерикализма, независимости от Бога.
Что представляло собой новое техническое общество? Все предшествующие цивилизации опирались на сельское хозяйство. Цивилизация, как указывает само происхождение этого слова, начиналась с роста городов: социальная элита жила за счет излишков крестьянской продукции. У городских жителей было достаточно свободного времени и средств к существованию, чтобы создавать культуру. Вера в Единого Бога развивалась в городах Ближнего Востока и Европы примерно в тот же период, что и другие заметные религиозные идеологии. Тем не менее аграрные цивилизации достаточно уязвимы. Они зависят от таких колеблющихся величин, как урожай, климат и эрозия почвы. Империя разрастается, сковывает себя все новыми обязанностями и проблемами, и рано или поздно ее расходы начинают превышать ограниченный запас ресурсов. После зенита славы неизбежно наступает закат, а затем и крушение. Однако обновленный Запад практически не зависел от земледелия и скотоводства. Техническое могущество означало также свободу от условий местности и природных случайностей. Накопление капитала перешло на уровень создания экономических ресурсов, которые – по меньшей мере до недавнего времени – казались беспредельно возобновляемыми. Модернизация повлекла за собой целый ряд таких глубоких изменений в жизни Европы, как индустриальная революция, последующее преобразование сельского хозяйства, интеллектуальное “просвещение”, политические и социальные революции. Разумеется, эти громадные перемены серьезно повлияли на людей, заставили их пересмотреть прежнее мнение о себе и отношение к той Высшей Реальности, которую они традиционно называют “Богом”.
Решающим фактором становления и развития технического общества Запада стала специализация: все новшества в экономической, интеллектуальной и социальной сферах были бы невозможны без специальных познаний в многочисленных областях. Ученые, например, зависели от повышения квалификации приборостроителей, а промышленности нужны были новые механизмы, источники энергии и, разумеется, теоретические разработки ученых. Разнообразные специализации совмещались и постепенно стали взаимозависимыми: одна сфера оказывала влияние на другую, хотя прежде эти области вообще могли не пересекаться. Это был накопительный процесс. Успехам любой отрасли способствовала ее востребованность в остальных, и это означало подъем уровня каждой специальности. Капитал циклично вкладывался в предприятия и множился благодаря непрерывному развитию. Взаимосвязанные перемены приобрели прогрессивный и на первый взгляд уже безостановочный характер – так сказать, набрали инерционный ход. В процесс модернизации втягивалось все больше отраслей и людей всех сословий. Цивилизация и культурные свершения перестали быть достоянием крошечной кучки аристократов и зависели теперь от фабричных рабочих, углекопов, печатников и клерков, которые стали не только тружениками, но и потребителями на разрастающемся рынке. В конце концов возникла необходимость обеспечить знание грамоты и определенную, пусть и незначительную, долю в общественном богатстве даже представителям низших классов – в противном случае Запад не смог бы поддерживать прежние темпы роста. Скачок производительности труда, накопление капитала и расширение массовых рынков, а также новые прорывы в науке вели к социальным революциям: мелкопоместное дворянство пришло в упадок, нарастала финансовая мощь буржуазии. Новая эффективность ощущалась и в общественной организации, постепенно поднявшейся до уровня, давно достигнутого в других частях света (например, в Китае и Оттоманской империи), а позже и опередившей их. К 1789 г. (Французская революция) коммунальное обслуживание уже оценивалось в категориях эффективности и полезности. Правительства европейских стран осознали необходимость обновления и принялись за систематический пересмотр законов, приспосабливая их к постоянно меняющимся условиям современности.
При прежнем аграрном укладе жизни, когда законы считались неизменными и ниспосланными свыше, такие перемены были бы немыслимы. Они стали приметой личной самостоятельности, которую принесла в западное общество техника: теперь люди как никогда явственно чувствовали, что сами распоряжаются собой. Мы уже знаем, какой глубокий страх вызывали новшества и перемены в традиционных обществах, где цивилизация казалась успехом шатким, а любому отрыву от связи с прошлым яростно противились. Но современное техническое общество, возникшее на Западе, держалось именно на стремлении к безостановочному развитию и прогрессу. Перемены получали законный статус и воспринимались уже как нечто само собой разумеющееся. Такие организации, как лондонское Королевское общество, посвятили себя накоплению новых сведений, которые неуклонно вытесняли прежние. Специалисты в многочисленных областях вносили свои открытия в общую копилку знаний – теперь это поощрялось. Если прежде открытия нередко держали в секрете, то теперь обновленные научные учреждения стремились распространять знания, поскольку это способствовало дальнейшему развитию соответствующих областей. Консервативный дух ойкумены сменился на Западе тягой к переменам и верой в пользу неустанного развития. Старшее поколение уже не боялось, как раньше, что их наследники пустят нажитое добро по ветру; отныне люди начали мечтать, чтобы их потомки жили еще лучше. В исторических исследованиях возобладал новый миф – миф о Прогрессе. Прогресс принес немало великих свершений, но в наши дни вред, причиненный окружающей среде, уже заставляет нас понять: такой образ жизни не многим лучше прежнего. Мы, кажется, начинаем сознавать, что эта мифология – такой же вымысел, как и те, что воодушевляли наших предков.
Объединение ресурсов и научных открытий сближало людей, а специализация, напротив, разводила в стороны. До сих пор каждый интеллектуал владел наивысшими познаниями во всех областях. Исламские файласуфы в свое время были подкованы в медицине, философии и эстетике, и фалсафа действительно давала своим ученикам достаточно последовательное и исчерпывающее объяснение того, что, как тогда считалось, составляет всю целостность действительности. Но к XVII в. процесс специализации, который вскоре станет отличительной особенностью западного общества, уже явственно давал себя знать. Астрономия, химия и геометрия становились самостоятельными и независимыми дисциплинами – а в наши дни специалист в какой-то одной из этих областей просто ничего не смыслит в другой. Из этого следовало, что любой видный ученый в эпоху Просвещения чувствовал себя не столько хранителем традиции, сколько пионером. Он был первопроходцем – как мореплаватели, что забирались в ту пору в неведомые уголки земного шара. Ради интересов общества ученый проникал в неисследованные сферы знания. Новатор, чье воображение позволяло открывать незнакомые земли и тем самым низвергать древние святыни, становился культурным героем. В душах пробудился новый оптимизм: власть над окружающим миром, которому прежде человек беспрекословно подчинялся, распространялась гигантскими скачками. Люди поверили, что хорошее образование и более совершенные законы общества способны озарить душу светом. Эта доселе небывалая вера в естественное могущество человечества означала, что просветления можно достичь собственными усилиями. Люди уже не считали, что для постижения истины необходимо полагаться на давние традиции, институции или элитные сословия, и даже на Божественные откровения.
В то же время усиление специализации означало, что узкие специалисты уже не способны видеть общую картину. Поэтому видные ученые и мыслители считали своим долгом разрабатывать собственные теории жизни и веры, начиная с самых азов. По их мнению, новые знания и повышенная производительность труда требовали пересмотра и обновления – в духе времени – традиционных христианских толкований действительности. Ядром новой науки был эмпиризм: она опиралась исключительно на опыты и наблюдения. Нам уже известно, что рационализм фалсафы основывался на изначальной вере в рациональность вселенной. Западные науки, напротив, ничего не принимали на веру, а ее первопроходцы все охотнее шли на риск ошибиться и даже на ниспровержение таких традиционных авторитетов и институтов, как Библия, Церковь и христианская традиция в целом. Старинные «доказательства» существования Бога уже не удовлетворяли; естествоиспытатели и философы, пылающие страстью к эмпирической методике, мечтали воочию убедиться в объективной реальности Бога – примерно так же, как доказываются прочие наблюдаемые явления.
К атеизму, впрочем, по-прежнему питали отвращение. Скоро мы убедимся, что большинство философов эпохи Просвещения в глубине души не сомневались в существовании Бога. Тем не менее кое-кто уже начинал сознавать, что и Бога нельзя считать несомненным фактом. Одним из первых, кто понял это и отнесся к атеизму серьезно, был, вероятно, французский физик, математик и богослов Блез Паскаль (1623–1662 гг.). Он рос болезненным, не по летам умственно развитым ребенком. Воспитывал его, держа отдельно от других детей, отец-ученый, обнаруживший как-то, что одиннадцатилетний Блез тайно совершенно самостоятельно вывел первые двадцать три постулата Евклида. Шестнадцати лет от роду Блез опубликовал работу по геометрии, причем такие ученые, как Рене Декарт, просто отказывались верить, что автор этого труда – безусый юнец. Позднее Паскаль изобрел арифмометр, барометр и гидравлический пресс. Семья Паскалей была не особенно набожной, но все же в 1646 году обратилась в янсенизм. Жаклин, сестра Блеза, ушла в янсенистский монастырь Порт-Рояль (юго-западная часть Парижа) и стала впоследствии одной из самых страстных проповедниц этой католической секты. В ночь на 23 ноября 1654 года сам Блез Паскаль испытал яркое религиозное переживание, продолжавшееся «примерно с половины десятого вечера до полвины первого ночи». Благодаря случившемуся ученый понял, что его вера слишком академична и холодна. После смерти Паскаля в его камзоле был найден «Memorial» об этом откровении:
Огонь. «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова» [Исх. 3:6; Мат. 22:32]. А не философов и ученых. Уверенность. Уверенность. Чувство. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа. Deum meum et Deum sestrum [ «Бог мой и Бог ваш» (лат.); ср. Иоан. 20:17]. «Твой Бог будет моим Богом» [Руфь, 1:16]. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно обрести только путями, указанными Евангелием[464].Это переживание – явно мистическое – означало, что Бог Паскаля отличался от Бога остальных ученых и философов, о которых пойдет речь в этой главе. Это был Бог не философов, а откровения. Всепоглощающая сила этого обращения заставила Паскаля связать свою судьбу с янсенистами и выступать против их главных недругов – иезуитов.
Лойола видел вселенную проникнутой Богом и призывал иезуитов воспитывать в себе чувство вездесущия и всемогущества Господа. В отличие от него Паскаль с единоверцами считали окружающий мир тусклым и пустым, лишенным божественности. Несмотря на испытанное откровение, Паскаль по-прежнему говорил о «Боге сокровенном», Которого не найти посредством рациональных доводов. «Мысли», краткие записи Паскаля на религиозные темы, впервые опубликованные уже посмертно, в 1669 году, исполнены глубокого скепсиса в отношении человеческой жизни: заметки пестрят упоминаниями о человеческой «испорченности» или «загрубелости» – ее не смог умерить даже Христос, который «будет в агонии до конца мира»[465]. Чувство опустошенности и пугающего отсутствия Бога вообще стало характерной чертой умонастроений обновленной Европы. Неувядающая популярность «Мыслей» доказывает, что мрачная духовность Паскаля и его «Бог сокровенный» затрагивают важные струны в религиозном сознании жителей Запада.
Итак, даже успехи Паскаля в науке не дали ему большой веры в условия человеческого существования. Созерцая беспредельность вселенной, он пугался до смерти:
Когда я вижу бессмысленное и жалкое положение человека, когда обозреваю всю вселенную в ее немоте и человека, предоставленного себе, затерявшегося в кромешной тьме в забытом уголке вселенной, неспособного ничего понять и не знающего, кто забросил его туда, и что ему теперь делать, и что станется с ним, когда он умрет, меня охватывает ужас под стать тому, какой испытал бы, проснувшись в растерянности, человек, которого перенесли во сне на какой-то кошмарный необитаемый остров безо всякой возможности оттуда выбраться. И поражаюсь я тому, что столь бедственное положение не доводит людей до отчаяния[466].
Слова Паскаля отрезвляют, напоминая о том, что эра науки не была пронизана бойким оптимизмом. Паскаль предвидел ужасы мира, потерявшего высший смысл своего бытия. Едва ли кому-то удалось столь же красноречиво выразить издавна терзавший человечество кошмар пробуждения в чуждой вселенной. Паскаль был безжалостно откровенен с самим собой; в отличие от многих своих современников, он свято верил, что доказать существование Бога не удастся никогда. Замыслив воображаемого оппонента, не способного уверовать в Бога, Паскаль так и не нашел доводов, какими мог бы переубедить собеседника. Начинался новый виток развития единобожия. До той поры никто не подвергал сомнениям существование Бога. Паскаль стал первым, кто допустил, что в этом кипучем новом мире вера в Бога может быть делом личного выбора. И в этом смысле его можно считать первым человеком современной эпохи.
Подход Паскаля к проблеме существования Бога по своим последствиям оказался революционным, но так и не был официально признан Церковью. В целом, апологеты христианства отдавали предпочтение рациональным воззрениям Леонарда Лессиуса, о которых шла речь в конце предыдущей главы. Однако эти воззрения могли привести только к Богу философов, но никак не к Богу откровения, изведанному Паскалем. Вера, по его мнению, – вовсе не логическая убежденность, основанная на здравом смысле. Это скорее игра с непредсказуемым исходом. Нельзя доказать, что Бог есть, но рассудок не в силах и опровергнуть Его существование: «Если Бог есть, то Он окончательно непостижим. […] Разум тут ничего решить не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этого бесконечного расстояния разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить?»[467] Впрочем, игра эта не чисто случайна: ставка на Бога, несомненно, выгоднее. Если выберешь веру в Бога, рассуждал Паскаль, то риск ограничен, а польза невообразима. Утверждаясь в вере, христианин начнет ощущать непрестанное просветление – сознание Божественного присутствия, которое и есть залог спасения. Нет смысла полагаться на авторитеты; каждый христианин должен все решения принимать сам.
Пессимизм Паскаля на страницах «Мыслей» постепенно уравновешивается растущим сознанием того, что сокровенный Бог раскрывает Себя каждому, кто делает на Него ставку и стремится к Нему. Паскаль вкладывает в уста Бога слова: «Ты не стал бы искать Меня, если бы уже не обрел Меня»[468]. Да, люди не могут проложить путь к далекому Богу спорами и логикой; не помогает и согласие с учением официальной Церкви. Однако, приняв самостоятельное решение препоручить себя Господу, христианин ощущает полное преображение и становится «верным, честным, скромным, признательным, благодетельным, искренним, истинным другом»[469]. Вера – не интеллектуальная убежденность, а прыжок во мрак и соприкосновение с тем, что приносит нравственное озарение.
Еще один человек нового типа, Рене Декарт (1596–1650 гг.), питал намного больше веры в способность разума постичь Бога. Он утверждал, что добиться необходимой уверенности в Его существовании можно силой одного лишь рассудка. Декарт едва ли одобрил бы «систему ставок» Паскаля, которая опиралась исключительно на субъективные переживания. Впрочем, Декартово обоснование существования Бога тоже включало субъективность, хотя и иного рода. Декарт стремился доказать несостоятельность скептицизма французского эссеиста Мишеля Монтеня (1533–1592 гг.), который вообще отрицал несомненность и даже правдоподобность чего бы то ни было. Математик и убежденный католик, Декарт считал своей миссией создание нового эмпирического рационализма, который должен противодействовать подобному скепсису. Вслед за Лессиусом Декарт предположил, что доводов разума вполне достаточно, чтобы внушить людям религиозные и нравственные истины, в которых мыслитель видел основу цивилизованности. В вере нет ничего такого, что нельзя было бы подтвердить рациональным путем. Об этом говорил даже апостол Павел: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них [человеков], потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы…»[470]. Далее Декарт утверждал, что Бог познается с большей легкостью и достоверностью (facilius et certius), чем что-либо прочее. Эта идея была в своем роде не менее революционной, чем «ставка» Паскаля, – в особенности потому, что Декартово доказательство отвергало свидетельства из окружающего мира, на которые полагался апостол Павел. Для Декарта важнее было самонаблюдение, обращение разума на самого себя.
Пользуясь эмпирическим методом своей универсальной математики, которая логично и последовательно восходила к простейшим, первичным принципам, Декарт попытался построить столь же безупречное аналитическое доказательство существования Бога. Однако, в отличие от Аристотеля, апостола Павла и всех предшествующих философов единобожия, Декартов космос оказался совершенно лишенным Бога. В его Природе не было предначального Замысла – она была совершенно хаотична и не содержала никаких признаков разумного планирования. Таким образом, никто не в состоянии выявить сколько-нибудь надежных сведений о первичных принципах, наблюдая Природу. Декарту недосуг было рассуждать о возможном или вероятном: он торопился установить те несомненные факты, какие дает математика. Сходные принципы содержатся в простых и самоочевидных суждениях – таких, например, как «Что сделано, того не вернешь», – оспаривать которые бессмысленно. В результате, сидя однажды в размышлениях у камина, Декарт нащупал свою знаменитую максиму: «Мыслю, следовательно, существую» (Cogito, ergo sum). Как и блаженный Августин, Декарт – спустя двенадцать веков – нашел обоснование Бога в человеческом сознании: ведь даже сомнения доказывают существование сомневающегося! Что касается внешнего мира, то там мы ни в чем не можем быть уверены; единственное, что несомненно, – это наши собственные переживания. Рассуждения Декарта представляют собой, по существу, переработку Ансельмова онтологического доказательства. Сомнения разоблачают ограниченность и конечную природу нашего «я», но, не будь у человека предварительного представления о «совершенстве», в голове его не могла бы сложиться и идея «несовершенного». Как и Ансельм, Декарт пришел к выводу, что совершенство, лишенное бытия, противоречиво на уровне понятий. Само чувство сомнения свидетельствует о необходимости существования чего-то высшего, совершенного: Бога.
Опираясь на это «доказательство», Декарт принялся выводить факты о природе Бога – примерно так же, как строил математические выкладки. В своем «Рассуждении о методе» он говорил: «То, что Бог, который является этим совершенным существом, есть, или существует, по меньшей мере столь достоверно, как и любое доказательство в геометрии»[471]. Подобно евклидовскому треугольнику, сумма углов которого в точности равна ста восьмидесяти градусам, Декартова Высшая Сущность обязана была обладать определенными свойствами. Опыт подсказывает нам, что объективный мир существует и что совершенный Бог, который должен быть правдив, не может обманывать нас. Таким образом, вместо того, чтобы доказывать существование Бога исходя из объективности мироздания, Декарт воспользовался идеей Высшего Существа, чтобы поверить в окружающую действительность. По-своему Декарт ощущал чуждость вселенной не менее остро, чем Паскаль, только его мысли были направлены не вовне, а на собственный разум. И хотя идея Бога приносит человеку уверенность в собственном существовании и, следовательно, чрезвычайно важна для Декартовой эпистемологии, в картезианском методе уже проглядывают одиночество и независимость, которые и в нашем столетии займут центральное место в западных представлениях о человеке. Отчужденность от мира, гордая самодостаточность заставит многих вообще отречься от идеи Бога, существование которого делает людей зависимыми от высшей воли.
Религия издавна помогала человечеству находить общий язык с окружающим миром и ощущать с ним тесную связь. Поклонение святым местам предшествовало всем прочим размышлениям о мироздании и позволяло находить центр покоя в пугающей вселенной. Обожествление сил природы отражало удивление и благоговение, которые всегда были неотъемлемой частью человеческого восприятия окружающего мира. Даже Августин с его страдальческой духовностью считал, что мир полон пленительной красоты. Но Декарту, чья философия опиралась на августиновский принцип самонаблюдения, некогда было удивляться. Ощущения загадочности, напротив, следовало всеми силами избегать, ибо оно представляет собой примитивное состояние разума, которое человек современный уже перерос. В предисловии к своему сочинению «Метеоры» Декарт пояснял, что «мы по своей природе больше удивляемся вещам, которые находятся выше нас, чем тем, которые находятся на той же высоте или ниже…»[472]. По этой причине поэты и живописцы видят в облаках престол Божий и воображают, как Бог окропляет тучи росой либо крепкой дланью мечет в скалы блистающие молнии:
Это заставляет меня надеяться, что если я объясню их [облаков] природу так, чтобы не осталось повода дивиться тому, что человек в них видит и что от них исходит, то можно будет подобным же образом подойти и к причинам всего того, что есть удивительного над землей.
Далее, чтобы избавиться от «повода дивиться», Декарт втолковывал, что облака, ветер, роса и молния – вещи естественные и чисто физические[473]. Бог Декарта был, однако, Богом философов, происходящего на земле не замечал и открывался вовсе не в библейских чудесах, а в установленных Им извечных законах. В «Метеорах» говорилось также, что манна небесная, ниспавшая на древних израильтян в пустыне, представляла собой разновидность росы. Это суждение положило начало абсурдной апологетике, пытавшейся «подтвердить» надежность Библии натянутыми рациональными объяснениями многочисленных чудес и мифов. Например, эпизод, когда Иисус насытил пять тысяч человек, истолковывался следующим образом: Христос просто разыграл толпу и раздал еду, тайком принесенную его учениками. Хотя подобные объяснения придумывались из самых благих намерений, они начисто рассеивали символизм – важнейшую грань библейских сказаний.
Декарт с неизменной осмотрительностью покорялся канонам католической церкви, считал себя ортодоксальным христианином и не видел противоречий между верой и рассудком. В «Рассуждениях о методе» он доказывал, что существует система мысли, позволяющая человеку познать все истины без исключения. От разума ничто не скроется. Необходимо – как и в любой другой дисциплине – только одно: правильно применять метод, и тогда люди смогут составить надежный свод знаний, который избавит от невежества и сомнений. Таинственность Декарт приравнивал к «неразберихе»; Бог, которого рационалисты прошлого тщательно отделяли от прочих явлений окружающего мира, вполне вмещался, по мнению Декарта, в систему человеческой мысли. До начала догматических потрясений Реформации мистицизм просто не успел пустить корни в Европе, и потому этот вид духовности, питаемый таинственностью и мифологией и, как предполагает само его название, целиком основанный на них, был большинству христиан Запада совершенно чужд. Даже в Церкви, к которой принадлежал Декарт, мистики встречались редко, и все относились к ним с подозрительностью. Бог мистиков, чье существование полностью зависело от религиозных переживаний, был совершенно незнаком личностям вроде Декарта, для которого созерцание означало сугубо рассудочную деятельность.
Не менее страстно мечтал избавить христианство от загадочности английский физик Исаак Ньютон (1642–1727 гг.), который тоже низводил Бога до уровня механической системы. Исходным пунктом была для него даже не математика, а механика, ведь прежде чем овладеть геометрией, будущий ученый должен научиться чертить правильные окружности. В отличие от Декарта, доказывавшего существование самого себя, Бога и естественного мира в указанной последовательности, Ньютон начинал с попыток объяснить материальную вселенную, центральное место в которой занимал Бог. В ньютоновской физике природа была совершенно пассивной, с единственным источником деятельности – Богом. Как и у Аристотеля, у Ньютона Бог был просто расширением естественной физической упорядоченности. В своей знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia) Ньютон дал описание взаимоотношений различных небесных и земных тел в математических категориях и построил последовательную и цельную теорию. Отдельные части системы были связаны воедино благодаря введенному понятию силы тяготения. Идея гравитации вызвала негодование у некоторых ученых, обвинивших Ньютона в извращении аристотелевской концепции влекущих сил материи. Закон тяготения не совмещался с протестантским принципом безраздельной власти Господа. Ньютон эти возражения отметал, поскольку непререкаемое могущество Господа как раз и занимало в его системе центральное место, а в его отсутствие не могло быть и Божественной Механики.
В отличие от Паскаля и Декарта, Ньютон, созерцая вселенную, не сомневался в том, что уже имеет доказательства существования Бога. Почему, например, обоюдное притяжение небесных тел до сих пор не стянуло их в одну гигантскую сферическую массу? Да потому, что они тщательно расставлены в бесконечном пространстве именно на таких расстояниях, чтобы слияния не случилось. Как разъяснял Ньютон своему другу Ричарду Бентли, настоятелю обители святого Павла, единственным объяснением этого является существование высшего разумного Надзирателя: «Не думаю, что это явление можно объяснить сугубо естественными причинами, и потому вынужден приписать его замыслу и провидению некой сознательной деятельной силы»[474]. Месяц спустя он вновь писал Бентли: «Тяготение может приводить планеты в движение, однако в отсутствие Божественной Силы оно никогда не придало бы небесным телам того Кругового Движения, какое свойственно их обращению вокруг Солнца. По этой и по некоторым другим причинам я вынужден приписать устройство этой Системы разумному Посреднику»[475]. Если бы, например, Земля вращалась вокруг своей оси со скоростью лишь сто миль в час (вместо фактической тысячи), то ночь тянулась бы в десять раз дольше и наша планета была бы слишком холодна для живых тварей, а столь же продолжительное дневное время высушило бы всю растительность. Однако Высшая Сущность замыслила мироустройство настолько совершенно, что во вселенной действует в высшей степени разумная Механика.
Помимо разумности, этот Деятель должен быть достаточно могущественным, чтобы повелевать такими огромными массами материи. Ньютон пришел к выводу, что первичной силой, которая привела некогда в движение всю эту беспредельную и сложную систему, была dominatio (суверенная власть) – только так можно было дать объяснение мирозданию, признавая за Богом Его Божество. Эдвард Покок, первый профессор арабского языка в Оксфорде, сообщил Ньютону, что латинское слово deus произошло от арабского du (Господин). Таким образом, важнейший атрибут Бога есть Могущество – а не Совершенство, с которого начинал свои рассуждения о Божестве Декарт. В «Общем поучении», которым завершались «Начала», Ньютон вывел из свойств разумности и могущества все прочие традиционные атрибуты Бога:
Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа. […] Он [Бог] вечен и бесконечен, всемогущ и вездесущ, т. е. существует из вечности в вечность и пребывает из бесконечности в бесконечность, всем управляет и все знает, что было и может стать. […] Мы познаем Его лишь по Его качествам и свойствам и по мудрейшему и превосходнейшему строению вещей и по конечным причинам, и восхищаемся по совершенству всего, почитаем же и поклоняемся по господству. Ибо мы поклоняемся Ему как рабы, и Бог без господства, провидения и конечных причин был бы ничем иным, как судьбою и природою. От слепой необходимости природы, которая повсюду и всегда одна и та же, не может происходить изменения вещей. Всякое разнообразие вещей, сотворенных по месту и времени, может происходить лишь от мысли и воли существа необходимо существующего»[476].
О Библии Ньютон даже не упоминает – Бог познается только в созерцании мира. До той поры доктрина сотворения мира выражала духовную истину; и в иудаизм, и в христианство она вошла довольно поздно и неизменно вызывала определенные сложности. Теперь же новая наука сместила вопрос сотворения в центр и придала буквальному, механическому толкованию этой доктрины решающую роль в представлениях о Боге. Те, кто отрицает Бога сегодня, оспаривают обычно именно ньютоновского Бога – начало и опору вселенной, – для которого уже нет места в научных теориях.
Чтобы встроить Бога в свою систему, которая по самому замыслу должна была стать всеобъемлющей, Ньютону приходилось искать весьма причудливые решения. Если пространство неизменно и беспредельно – а это две основополагающие аксиомы ньютоновской системы, – то где именно пребывает в нем Бог? И разве не божественно в каком-то смысле само пространство с его атрибутами вечности и бесконечности? Быть может, это вторая божественная ипостась, единосущная Богу испокон веков? Подобные вопросы волновали Ньютона всегда, и в одном из ранних сочинений (De Gravitatione et Aequipondio Fluidorum) он возвращался даже к платоновской доктрине эманаций. Поскольку Бог бесконечен, то Он – повсюду. Пространство есть следствие существования Бога, оно извечно эманирует из Божественной повсеместности. Пространство не было сотворено неким волевым актом, но существует как необходимое следствие, или расширение, Его вездесущего бытия. Подобным же образом, из вечности Бога следует, что от Него эманирует время. Итак, можно говорить, что Бог составляет Собой то пространство и время, где мы живем, перемещаемся, существуем. Однако материя была создана Богом посредством волевого акта в день творения. Можно, по-видимому, сказать и так: Он замыслил наделить отдельные участки пространства формой, плотностью, осязаемостью и подвижностью. Можно с полным основанием придерживаться христианской доктрины творения «из ничего», поскольку Бог произвел материальную субстанцию из пустого пространства – материя появилась ниоткуда. Ньютону, как и Декарту, недосуг было рассуждать о таинственном, которое он тоже приравнивал к неведению и суеверию. Ньютон мечтал очистить христианство от чудесного, хотя и пришел в результате к серьезным противоречиям с такими важнейшими доктринами, как Божественность Христа. В 70-х годах XVII в. Ньютон взялся за богословское изучение догмата о Троице и пришел к выводу, что он был навязан христианству Афанасием, чтобы привлечь в лоно Церкви язычников. На самом же деле прав Арий: Иисус Христос определенно не был Богом, а те фрагменты Нового Завета, которыми принято «доказывать» доктрины Троицы и Вочеловечения, – просто подделки. Афанасий и его приспешники придумали эти отрывки и добавили к каноническому Писанию, потворствуя самым невежественным и примитивным мечтаниям простого люда: «Таковы уж нравы несдержанной и суеверной части человечества, что в религиозных вопросах она обожает тайны и потому более всего любит то, что менее всего понимает»[477]. Стремление вытравить из христианской веры подобные предрассудки стало для Ньютона почти навязчивой идеей. В начале 80-х годов семнадцатого столетия, вскоре после выхода в свет «Начал», Ньютон приступил к работе над сочинением «Философские основы языческого богословия». Он доказывал, что отцом первобытной религии – то есть языческого богословия – был Ной. Эта вера якобы не страдала предрассудками и отстаивала рациональное почитание Бога; единственной ее заповедью была любовь к Богу и своим ближним. Людям вменялось созерцать Природу, единственный храм великого Господа. Последующие поколения исказили эту чистую веру сказками о чудесах. Некоторые народы впали в идолопоклонство и суеверия. Чтобы наставить людей на путь истинный, Бог не раз посылал им пророков. Пифагор возродил эту давнюю религию и вернул ее Западу. Иисус был одним из пророков, возвещавших человечеству утраченную истину, но его чистая вера была извращена Афанасием и иже с ним. Между прочим, новозаветное «Откровение» содержит предупреждения о последующем расцвете удручающей безысходности тринитаризма – «этой странной религии Запада», «культа трех равных Богов»[478].
Доктрина Троицы всегда была трудной для западных христиан, и новый всплеск рационализма вызвал у философов и ученых желание ее опровергнуть. Очевидно, Ньютон не понимал роли тайны в религиозной жизни. Для греков идея Троицы была средством, позволяющим задержать ум в состоянии удивления и напомнить, что рассудком природу Бога не объять. Однако такому естествоиспытателю, как Ньютон, было очень нелегко вырабатывать в себе подобное отношение. Наука готовит прежде всего к тому, чтобы в поисках истины безоглядно порвать с прошлым и начать все заново, с самых азов. Однако религия, как и искусство, часто требует переклички с прошлым в поиске перспективы, позволяющей иначе увидеть настоящее. Традиция представляет собой твердую опору, от которой можно оттолкнуться при решении извечных вопросов о высшем смысле жизни. В этом отличие религии и искусства от науки. Тем не менее в XVIII в. христиане начали применять передовые научные методы к вопросам веры и пришли к тому же заключению, что и Ньютон. В Англии появились такие богословы-радикалы, как, например, Мэтью Тиндаль и Джон Толанд, которые стремились вернуться к началам, лишить христианство таинственности и утвердить подлинно рациональную веру. В сочинении «Христианство без тайн» (1696 г.) Толанд доказывал, что загадочность ведет лишь к «тирании и суевериям»[479]. Полагать, будто Бог неспособен явить Себя, – настоящее кощунство. Вера должна быть разумной. В сочинении «Древнее, как мир, христианство» (1730 г.) Тиндаль, вслед за Ньютоном, попытался воссоздать первобытную веру, свободную от последующих дополнений. Краеугольный камень любой истинной веры – рациональность: «С первого дня творения в сердце каждого из нас запечатлена религия природы и разума, исходя из которой и должно все человечество судить о правильности любой традиционной веры»[480]. Дальнейшие откровения просто излишни, ибо истину можно познать путем самостоятельных рациональных суждений. Такие загадки, как Троица и Вочеловечение, имеют вполне разумное объяснение; их нельзя использовать для того, чтобы держать простых верующих в рабстве предрассудков и официальной Церкви.
Когда эти радикальные идеи распространились на европейский континент, новое поколение историков взялось за объективный пересмотр церковной истории. Так, в 1699 г. Готфрид Арнольд опубликовал беспристрастное исследование «История церквей от начала Нового Завета до 1688 года», где показывал, что нынешняя ортодоксия вовсе не восходит к изначальной Церкви. Иоганн Лоренц фон Мосгейм (1694–1755 гг.) в своей авторитетной работе «Институты в церковной истории» (1726 г.) сознательно отделил историю от богословия. Другие историки (в частности, Джордж Уолш, Джованни Бут и Генри Морис) изучали историю сложных доктринальных противостояний – арианства, споров о filioque, многочисленных церковных дебатов IV–V вв. Многим верующим весьма неприятно было узнать, что привычные догмы о естестве Бога и Христа на самом деле разрабатывались долгими столетиями, а не излагались непосредственно в Новом Завете. Не означает ли это, что они – просто вымысел? Кое-кто заходил еще дальше и применял научную объективность даже к Новому Завету. Герман Самуил Реймарус (1694–1768 гг.) попробовал написать критическую биографию самого Иисуса. Вопрос о Человечности Христа покинул мистическую и доктринальную сферы и стал в Век Разума предметом научных изысканий, что ознаменовало подлинное начало современной эпохи скептицизма. Реймарус доказывал, что Иисус просто мечтал основать благочинное государство, а когда Его миссия потерпела провал, от отчаяния пошел на смерть. Ученый подчеркивал, что евангельский Иисус никогда не говорил, будто явился искупить человеческие грехи. Идея искупления, занявшая впоследствии центральное место в Западной Церкви, впервые появилась лишь у апостола Павла, которого и следует считать истинным основоположником христианства. Таким образом, Иисуса следует чтить не как Бога, а как проповедника «замечательной, простой, возвышенной и практичной веры»[481].
Эти объективные исследования опирались на буквальное прочтение Писания и не принимали во внимание символическую, метафорическую сущность веры. На критику такого рода можно возразить, что применительно к религии она столь же неуместна, как и в отношении искусства либо поэзии. Тем не менее, с тех пор как научный дух стал для многих людей нормой, они уже просто не могли по-иному воспринимать Евангелие. Западные христиане всецело поддались буквальному пониманию своей религии и бесповоротно отдалились от мифа: любое повествование отныне было либо фактически правдивым, либо вымышленным. Вопрос о происхождении религии оказался намного важнее для христиан, чем, скажем, для буддистов, ведь вся традиция единобожия изначально зиждется на постулате, что Бог открывает Себя в событиях истории. Для того чтобы сохранить сплоченность своих рядов в эру науки, христианам просто необходимо было решить этот вопрос. Те из верующих, кто придерживался взглядов более традиционных, чем радикальные воззрения Тиндаля или Реймаруса, тоже начинали подвергать сомнениям привычное для Запада восприятие Бога. В своем научном изыскании «Невиновность Виттенбурга в двойном убийстве» (1681 г.) последователь Лютера Иоанн Фридман Майер заявил, что традиционная доктрина Искупления, сформулированная еще Ансельмом и предполагающая, что Господу понадобилась смерть Его же Сына, отражает концепцию Божества неадекватно. То был «Бог праведный, Бог разгневанный» и «Бог ожесточенный», чьи требования сурового воздаяния вселяли во многих христиан ужас и внушали им отвращение к собственной «греховности»[482]. Все большее число христиан начинало стыдиться многочисленных жестоких эпизодов истории христианства – кошмарных крестовых походов, судов инквизиции и гонений во имя «праведного» Бога. В ту эпоху, когда людей все больше манила свобода личности и совести, насильственное навязывание веры в ортодоксальные доктрины выглядело особенно омерзительным. Кровавая бойня, затеянная верующими в эпоху Реформации, и ее трагические последствия, похоже, стали для европейцев последней каплей.
Вера в разум казалась верным ответом. Но мог ли Бог, лишенный той таинственности, что долгими веками берегла Его действенную религиозную значимость во множестве других течений, – мог ли такой Бог по-прежнему привлекать христиан с богатым воображением и сильной интуицией? Пуританского поэта Джона Мильтона (1608–1674 гг.) больше всего удручала летопись нетерпимости христианства. В неопубликованном трактате «О христианской доктрине» Мильтон, как человек своей эпохи, попытался реформировать Реформацию и самостоятельно разработать религиозное кредо, которое не зависело бы от чужих мнений и суждений. Мильтон тоже сомневался в таких традиционных доктринах, как догмат о Троице. Примечательно, что подлинным героем его шедевра «Потерянный рай» стал скорее Сатана, чем Бог, чьи деяния поэт намеревался оправдать перед людьми. Мильтоновский Сатана имеет много общего с новым типом европейца: он ниспровергает авторитеты и бросает вызов неведомому, а отважное путешествие из Ада через Хаос к только что сотворенной Земле превращает его в настоящего первопроходца. С другой стороны, Бог Мильтона отражает все нелепости западного буквализма. В отсутствие мистического понимания Троицы положение Сына в поэме становится крайне двусмысленным: совершенно неясно, например, кто Он – второй Бог либо просто сотворенное существо, пусть и предстоящее выше ангелов. Так или иначе, Сын и Отец у Мильтона – две принципиально разные сущности. Чтобы выяснить намерения друг друга, они вынуждены вступать в пространные и чрезвычайно скучные диалоги – несмотря на то что поэт прямо признает в Сыне Слово и Премудрость Отца.
Однако то, как поэт толкует божественное предначертание земных событий, делает мильтоновского Бога поистине невероятным. Поскольку Бог заведомо – еще до того, как Сатана доберется до Земли, – знает о неминуемом грехопадении Адама и Евы, Ему поневоле приходится оправдывать Свои грядущие поступки благовидными предлогами. Бог поясняет Сыну, что смирение, навязанное силой, не приносит Ему никакой радости, и потому Он наделил Адама и Еву способностью противостоять Сатане. Словно защищая Себя, Бог заявляет, что люди не вправе винить Его:
Я справедливо создал их. Нельзя Им на Творца пенять и на судьбу И виноватить естество свое, Что, мол, непререкаемый закон Предназначенья ими управлял, Начертанный вселенским Провиденьем. Не Мною – ими был решен мятеж; И если даже знал Я наперед — Предвиденье не предвещало бунта. […] На них вина. Они сотворены Свободными; такими должно им Остаться до поры, пока ярмо Не примут сами рабское; иначе Пришлось бы их природу исказить, Ненарушимый, вечный отменив Закон, что им свободу даровал. Избрали грех они…[483]Мало того, что в столь сомнительные рассуждения трудно поверить, так Бог еще и выглядит тут бессердечным лицемером, начисто лишенным сострадания – которое, казалось бы, как раз должна внушать Его религия. Попытки заставить Бога говорить и мыслить под стать людям явственно отражают неуместность антропоморфных, персонифицированных представлений о Божестве. Подобный Бог слишком противоречив, чтобы быть последовательным и достойным поклонения.
Буквальное понимание таких постулатов веры, как Божье всеведение, не приносит никакого проку. Мильтоновский Бог не только черствый и безжалостный, но и совершенно неумелый. В двух последних частях «Потерянного рая» Бог посылает архангела Михаила утешить согрешившего Адама откровением о том, как будут спасены его потомки. История Искупления предстает взору Адама как ряд живописных сценок с комментариями Михаила. Адам видит убийство Авеля Каином, всемирный потоп и Ноев Ковчег, Вавилонскую Башню, призыв Авраама, исход из Египта и передачу скрижалей Завета на горе Синайской. Как поясняет Михаил, искажения в Торе, долгие столетия угнетавшей невезучий «народ избранный», – особая уловка, необходимая для того, чтобы пробудить у евреев тягу к высокодуховной жизни. Дальнейшая подготовка к Спасению – подвиги Давида, исход из Вавилонского пленения, рождество Христа и так далее – поневоле вызывает у читателя мысль, что спасти людей можно было куда проще и быстрее. Тот факт, что этот путаный план, с его нескончаемыми провалами и неувязками, был задуман загодя, не внушает ничего, кроме мрачных сомнений в здравомыслии его Автора. Мильтоновский Бог не вызывает симпатии. Любопытно, что после «Потерянного рая» ни один видный английский писатель даже не пытался описывать сферу сверхъестественного. Новых Мильтонов или Спенсеров так и не появилось. Отныне в духовный и Божественный миры совались разве что авторы-середняки вроде Джорджа Макдональда[484] или К. С. Льюиса. Между тем Бог, ничего не говорящий воображению, вызывает беспокойство.
В самом конце «Потерянного рая» Адам и Ева одиноко бредут из Сада Эдемского в бренный мир. Христиане Запада тоже стояли в ту пору на пороге более светского образа жизни, хотя и с верой в Бога расставаться не собирались. Новая, рассудочная религия получит позднее название «деизм». На мистические и мифологические игры воображения у этой веры не было времени. Она отвернулась от мифов об откровениях и от таких традиционных «тайн», как Троица, которые долгими веками держали людей в рабстве предрассудков. Новая религия объявила о верности безличному «Deus», которого человек открывает собственными силами. Франсуа-Мари де Вольтер, живое олицетворение того движения, которое впоследствии нарекут Просвещением, определил этот религиозный идеал в своем «Философском словаре» (1764 г.). Прежде всего, эта вера должна была выражаться как можно проще:
После нашей святой религии – несомненно, единственно благой – какую можно считать наименее скверной? Не самую ли простую? А может быть, ту, что учила бы в большом объеме морали и очень мало – догматам? Ту, что стремилась бы сделать людей справедливыми и не превращала бы их в глупцов? Ту, что не повелевала бы верить в невероятные вещи, противоречивые и оскорбительные для божества, а также опасные для человечества, и не угрожала бы вечными карами любому обладателю здравого смысла? Не явится ли такой религией именно та, что не будет поддерживать веру с помощью палачей и не станет заливать кровью Землю во имя непостижимых софизмов? […] Та, что будет учить одному только поклонению Богу, справедливости, терпимости и человечности?[485]
Церковь сама виновата в этих упреках, поскольку целыми столетиями обременяла свою паству калечащим грузом доктрин. Реакция была неизбежна и, в определенном смысле, даже благотворна.
Философы эпохи Просвещения не отвергали, впрочем, саму идею Бога. Они не могли смириться только с жестоким Богом ортодоксии, грозившим человеку вечными муками. Они отвергали таинственные религиозные доктрины, претившие здравому смыслу. Но вера в существование Высшего Начала оставалась непоколебимой. Вольтер выстроил в Фернее часовню с надписью на притолоке: «Deo Erexit Voltaire» и заявлял даже, что если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать. В «Философском словаре» Вольтер доказывал, что единобожие рациональнее и естественнее для человека, чем вера во многих божеств. Изначально народы, жившие в изолированных селениях и малых общинах, считали, что над их судьбами властвует один бог; политеизм появился намного позднее. И наука, и рациональная философия указывают на существование некоего Высшего Бытия. «Какой же вывод мы сделаем из всего этого?» – спрашивает Вольтер в конце статьи «Атеизм» своего словаря и сам дает ответ:
Да тот, что атеизм – весьма опасное чудище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти; он опасен и в кабинетных ученых, пусть даже жизнь их вполне невинна, ибо из их кабинетов они могут пробиться к должностным лицам; и если атеизм не столь гибелен, как фанатизм, он все-таки почти всегда оказывается роковым для добродетели. Отметим особенно, что ныне меньше атеистов, чем когда бы то ни было, после того как философы признали, что ни одно существо не развивается без зародыша, что не существует зародыша без замысла и т. д.[486]
Вольтер приравнивал атеизм к суеверию и фанатизму, от которых философы мечтали избавиться раз и навсегда. Мыслителя тревожил не Сам Бог, а доктрины о Боге, оскорблявшие святые для Вольтера нормы здравого смысла.
Новые идеи затронули и европейских иудеев. Барух Спиноза (1623–1677 гг.), голландский еврей испанского происхождения, разочаровался в Торе и примкнул к философскому кругу свободомыслящих язычников. Разработанные им теории коренным образом отличались от привычного иудаизма и сложились под влиянием таких мыслителей, как Декарт и христианские схоласты. В 1656 г., когда Спинозе было двадцать четыре года, его официально изгнали из амстердамской синагоги. Пока зачитывали эдикт об отлучении, в синагоге постепенно гасили огни. В конце концов собравшиеся остались в кромешной тьме – и явственно ощутили, в каком мраке пребывает отрекшаяся от Бога душа Спинозы:
Да будет он проклят днем и ночью. Да будет проклят, когда ложится и когда встает от сна. Да будет проклят при выходе и входе! Да не простит ему Господь Бог, да разразятся Его гнев и Его мщение над человеком сим, и да тяготят над ним все проклятия, написанные в Книге законов. Да сотрет Господь Бог имя его под небом…[487]
С той поры Спиноза не входил ни в одно из религиозных сообществ Европы; он стал символом независимого светского взгляда на вещи, возобладавшего впоследствии на Западе. Еще в начале двадцатого века многие чтили Спинозу как героя современности и ощущали духовное родство с этим человеком, пережившим символическое изгнание, отчуждение и поиски спасения в сфере мирского.
Спинозу считали безбожником, но он верил в Бога, хотя и не библейского. Как и файласуфы, Спиноза ставил религию ниже научных познаний о Боге, полученных посредством философии. В «Богословско-политическом трактате» он доказывал, что природа религиозной веры понимается превратно: она стала «не чем иным, как легковерием и предрассудками» и заключается в «нелепых тайнах»[488]. К библейской истории философ относился критически. По его мнению, израильтяне называли «Богом» любое непонятное явление. О том, например, что пророки вдохновляются Духом Божьим, говорили только потому, что эти люди выделялись выдающимся умом и праведностью. Однако подобное «воодушевление» не ограничивается отборной частью общества и доступно каждому благодаря здравому смыслу. Что до обрядов и символов веры, то они помогают только людям из общей массы, не владеющим научным, рациональным мышлением.
Как и Декарт, Спиноза вернулся к онтологическому доказательству существования Бога. Факт Его существования подтверждается самой идеей «Бога», ибо совершенное существо, которого нет, является противоречием на понятийном уровне. Бог существует уже потому, что только Он приносит несомненность и убежденность, необходимые для вывода прочих истин о действительности. Наше научное понимание мира исходит из того, что вселенная подчиняется незыблемым законам. Для Спинозы Бог был просто принципом упорядоченности, суммой всех извечных законов бытия. Бог – сущность материальная, тождественная и равнозначная царящему во вселенной порядку. Вслед за Ньютоном, Спиноза обратился к давней философской теории эманаций. Поскольку Бог имманентно присутствует во всем сущем – как материально, так и духовно, – Его можно определить как Закон, властвующий над бытием всех вещей. Рассуждения о деятельности Бога во вселенной – это просто один из способов описания математических и причинно-следственных принципов мироустройства. Это было полное отрицание трансцендентности.
Хотя доктрина Спинозы и выглядит суховатой, самому философу этот Бог внушал поистине мистический трепет. Как совокупность всех законов бытия, его Бог был высшим совершенством, приводящим сущее к единству и гармонии. Созерцая деятельность своего мышления тем способом, какому учил еще Декарт, люди раскрывают себя вечному и бесконечному бытию Бога, чьи деяния совершаются в их собственных душах. Как и Платон, Спиноза верил, что интуитивные, спонтанные наития обнаруживают присутствие Бога намного явственнее, чем кропотливая работа по накоплению фактов. То счастье, какое даруют нам знания, равнозначно любви к Богу, к божеству, которое является не бесконечным объектом мышления, но причиной и первоосновой самой мысли, то есть пребывает в тесном единстве с бытием каждого человека. Нет никакой нужды ни в откровениях, ни в ниспосланном свыше законе: этот Бог и так доступен всему человечеству, а единственная Его «Тора» – предвечные законы природы. Спиноза совместил метафизику с современной ему наукой: его Бог перестал являть Собой непостижимое «Одно» неоплатоников и сблизился с абсолютным Бытием, описанным такими философами, как Аквинат. С другой стороны, Бог Спинозы был схож с мистическим Богом, чье присутствие ощущали в себе ортодоксальные приверженцы единобожия. Иудеи, христиане и философы обычно считали Спинозу атеистом: у его Бога не было никаких личностных черт, Он был неотделим от всей реальности. Спиноза действительно использовал слово «Бог» только по историческим причинам: он соглашался с атеистами в том, что действительность нельзя делить на части «Бог» и «не-Бог». Но если Бога невозможно отделить от всего прочего, то нельзя и говорить, будто «Он» существует в сколько-нибудь привычном смысле слова. Спиноза заявлял, что нет того «Бога», который соответствовал бы обычному смыслу, какой вкладывается в это понятие. Впрочем, мистики и философы отмечали то же самое уже давно. Кое-кто из них говорил, что помимо известного нам мира есть только «Ничто». Если бы не отсутствие трансцендентного Эн Соф, пантеизм Спинозы очень напоминал бы каббалу; во всяком случае, в его атеизме ощущается родство с радикальным мистицизмом.
Первым, кто открыл иудаистам путь к современной европейской мысли, стал, однако, немецкий философ Моисей Мендельсон (1729–1786 гг.), хотя первоначально у него вовсе не было намерений строить особую иудейскую философию. Его занимали прежде всего психология, эстетика и религия, а ранние его труды «Федон» и «Утренние часы» целиком вписывались в контекст набиравшего силу немецкого Просвещения. В этих работах Мендельсон пытался найти рациональные аргументы в пользу существования Бога и даже не рассматривал этот вопрос с позиций иудаизма. В таких странах, как Франция и Германия, либеральные идеи Просвещения принесли евреям социальную свободу и дали возможность слиться с обществом. Образованные евреи – их называли маскилим – без труда перенимали религиозную философию немецкого Просвещения. Иудаизм никогда не переживал той доктринальной одержимости, которая была характерна для западного христианства. Основополагающие принципы иудаизма практически совпадали с рациональной религией Просвещения, которая в Германии так и не избавилась от представлений о чуде и о вмешательстве Бога в дела смертных. Описанный в «Утренних часах» философский Бог Мендельсона был очень близок к библейскому и представлял собой персонифицированное божество, а не метафизическую абстракцию. У этой Высшей Сущности были такие вполне человеческие свойства, как мудрость, доброта, справедливость, любящая нежность и разумность – конечно, в высочайшем смысле слова.
Мендельсон сделал Бога очень похожим на нас самих. Для эпохи Просвещения это была совершенно типичная вера: холодная, бесстрастная, чуждая парадоксов и неоднозначностей, присущих религиозным переживаниям. Жизнь без Бога Медельсон считал бессмысленной, но в то же время он был далек от страстной набожности; его вполне удовлетворяли знания о Боге, получаемые рассудочным путем. Божья доброта – вот главный стержень его богословия. Он утверждал, что, если бы люди могли полагаться только на Откровение, это противоречило бы доброте Господа, ибо явно исключало бы многих из Божественного Замысла. В результате такого суждения дальнейшая философия Мендельсона обходилась без утонченных – и присущих далеко не каждому – интеллектуальных способностей, каких требовала фалсафа, и полагалась прежде всего на здравый смысл, который есть у всякого человека. Этот подход таил, впрочем, немало опасностей, поскольку подобного Бога очень легко абсолютизировать и приспособить к собственным предрассудкам.
В 1767 г., когда был напечатан Мендельсонов «Федон», приведенное там философское обоснование бессмертия души было принято в языческих и христианских кругах вполне одобрительно, хотя и не без высокомерной снисходительности. Молодой швейцарский пастор Йоханн Каспар Лафатер писал, что автор этого сочинения уже созрел для обращения в христианскую веру; вслед за этим пастор бросил Мендельсону вызов и предложил ему прилюдно выступить в защиту своего иудаизма. Так Мендельсон поневоле вынужден был отстаивать иудаизм с рациональных позиций, хотя сам не придерживался даже таких традиционных идей, как концепция избранного народа или земли обетованной. Философу пришлось балансировать на острие ножа: он не хотел ни разделить участь Спинозы, ни навлечь на свой народ гнев христиан (в том случае, если его доводы в защиту иудаизма окажутся слишком успешными). Как и все прочие деисты, Мендельсон придерживался той точки зрения, что Откровение можно признать, только если его истины подтверждаются рассудком. Доктрина Троицы этому критерию не удовлетворяла. Иудаизм был, по мнению мыслителя, не богоданной религией, а богооткровенным Законом. Иудейские представления о Боге совпадали, по существу, с «естественной религией», которая принадлежит всему человечеству и которую можно подтвердить силой одного лишь разума. Мендельсон опирался на давние космологическое и онтологическое доказательства, после чего заявлял, что цель Закона в том, чтобы воспитывать у евреев верные представления о Боге и помочь им избежать идолопоклонства. Заканчивалась его речь призывом к веротерпимости. Всеобщая религия рассудка должна внушать почтение к иным путям, ведущим к одному и тому же Богу, что относится также и к иудаизму, который Церкви всей Европы преследовали долгими веками.
На самих евреев эта философия оказала меньшее влияние, чем идеи Иммануила Канта, чья «Критика чистого разума» (1781 г.) была опубликована в последнее десятилетие жизни Мендельсона. Кант определил Просвещение как «исход человека из навязанного самому себе младенчества» и упований на власть со стороны[489]. Единственный путь к Богу пролегает через самостоятельную сферу морали и совести, которую Кант называл «практическим разумом». Философ отбрасывал множество атрибутов религии – догматический авторитет Церкви, молитвы и обряды, – поскольку все они внушают людям зависимость от других и не позволяют полагаться на собственные силы. С другой стороны, Кант не отрицал идею Бога per se. Как и столетиями ранее ал-Газали, он утверждал, что традиционные доказательства существования Бога бесполезны, ибо разум способен постичь лишь то, что пребывает в рамках пространства и времени, а реалии вне этих категорий ему недоступны. Кант допускал, впрочем, что у людей есть природная склонность преступать эти границы в поисках принципа единства, который приносит ощущение всей действительности как целого. Это и есть образ Бога. Доказать существование Бога логическим путем невозможно, но и опровергнуть нельзя. Концепция Бога очень важна для человека – в ней воплощается идеальный предел, позволяющий добиться всеобъемлющих представлений об окружающем мире.
Таким образом, для Канта Бог был просто условностью, с которой, впрочем, можно обращаться как угодно. Идея мудрого и всемогущего Бога способна подорвать ход научных изысканий и привести к праздным упованиям на deus ex machina – высшую силу, заполняющую пробелы в наших познаниях. Кроме того, эта идея становится порой источником бессмысленных мистификаций и ведет к язвительным полемикам вроде тех, которыми испещрена история Церкви. Если бы Канта обвинили в атеизме, он возмутился бы. Современники описывают его как человека благочестивого, остро сознающего человеческую склонность к дурному. Именно поэтому идея Бога оставалась для него актуальной. В «Критике практического разума» Кант доказывал, что для того, чтобы жить добродетельной жизнью, людям нужен правитель, вознаграждающий за добрые дела. С такой точки зрения, Бог просто добавлен к этической системе, словно по запоздалому соображению. Центральное место в религии занимает теперь не тайна Бога, а сам человек. Бог превратился из опоры бытия в стратегию, которая дает людям возможность действовать более эффективно и высокоморально. Очень скоро многие мыслители подхватят идеал Канта, сделают еще один шаг вперед и вообще откажутся от этого весьма несущественного Бога. Кант был одним из первых представителей Запада, которые усомнились в состоятельности традиционных доказательств существования Бога и засвидетельствовали, что на самом деле те ничего не доказывают. После Канта подобные доказательства навсегда утратили былую внушительность.
Все эти идеи предоставили, впрочем, определенную свободу многим христианам, которые свято верили, что Господь закрывает один путь к вере лишь для того, чтобы открыть иной. В сочинении «Откровенный рассказ о подлинном христианстве» Джон Уэсли (1703–1791 гг.) писал:
Подчас я почти готов поверить, что мудрость Божья в самом недавнем прошлом допускала явственные свидетельства того, что христианство в той или иной степени засорено и до крайности перегружено, а люди, в особенности люди рассудительные, не находят достаточного успокоения только в нем и вынуждены также заглядывать в себя, всматриваться в свет, сияющий в собственных сердцах[490].
Наряду с рационализмом в эпоху Просвещения развивался новый тип набожности, часто именуемый «религией сердца». Он, хотя и сосредоточивался на душе, а не на рассудке, все же разделял многочисленные проблемы деизма. «Религия сердца» призывала забыть о веских доказательствах и авторитетах и найти Бога, который пребывает в человеческой душе и доступен каждому. Как и многие деисты, последователи братьев Уэсли и немецкого пиетиста графа Людвига фон Цинцендорфа (1700–1760 гг.) чувствовали, что сбрасывают с себя вековые наросты и возвращаются к «простому», «настоящему» христианству, каким оно было для самого Христа и его первых приверженцев.
Джон Уэсли всегда оставался ревностным христианином. Еще во время учебы в Линкольнском колледже в Оксфорде Джон вместе со своим братом Чарльзом основал товарищество выпускников – «Клуб святости». Поскольку это общество уделяло особое внимание методике и дисциплине, его членов стали называть методистами. В 1735 г. Джон и Чарльз отправились с миссионерскими целями в американскую колонию Джорджия, но два года спустя Джон вернулся оттуда в глубоком унынии и отметил в своем дневнике: «В Америке я намеревался обращать в истинную веру индейцев, но кто же обратит меня самого?»[491] Во время путешествия большое впечатление на Уэсли произвели миссионеры из секты моравских братьев, сторонившихся каких-либо доктрин и стоявших на том, что вера – это просто выбор души. В 1738 г., на собрании моравских братьев в часовне на лондонской Олдерсгейт-стрит взгляды Джона во многом переменились. Отныне он верил, что Сам Господь уготовил ему особую миссию: распространять в Англии новое христианство. С тех пор он ездил с учениками по всей стране и проповедовал рабочим и крестьянам прямо на полях и рынках.
Главным в учении Уэсли стало «рождение заново». Оно было «совершенно необходимо», чтобы почувствовать, как «Бог, можно сказать, непрестанно вдувает в человеческую душу», наполняет христианина «стойкой, благодарной любовью к Господу» – она ощущается сознательно и становится «естественной и, в своем роде, насущной необходимостью любить каждое дитя Господне с добротою, нежностью и долготерпением»[492]. Доктрины о Боге бесполезны, а порой и пагубны. Психологическое воздействие слов Христа на верующего – вот лучшее свидетельство истинности этой религии. Как и в пуританстве, единственным доказательством настоящей веры и, следовательно, ее спасительности были в методизме глубокие эмоциональные религиозные переживания. Однако такой «мистицизм для всех» мог стать и опасным. Мистики всегда подчеркивали сложность духовного пути и предостерегали от истерических проявлений чувств; приметами подлинного мистицизма являются прежде всего душевное спокойствие и безмятежность. «Рожденное заново» христианство в духе Уэсли нередко влекло за собой неистовые поступки – например, исступленные восторги квакеров и шекеров. С другой стороны, оно могло заводить и в пучины отчаяния: так, поэт Вильям Каупер (1731–1800 гг.), утратив ощущение спасительной благодати и расценив его отсутствие как знак осуждения на вечные муки, сошел с ума.
В «религии сердца» доктрины о Боге сменились внутренними, эмоциональными переживаниями. Покровитель нескольких религиозных общин, саксонский граф фон Цинцендорф утверждал, вслед за Уэсли, что «вера не в мыслях и не в голове, а в душе; это свет, блистающий в сердце»[493]. Пусть себе ученые мужи «судачат о загадке Троицы» – смысл доктрин не во взаимоотношениях трех Лиц, а в том, «что Они есть для нас»[494]. Вочеловечение выражает собой таинство нового рождения каждого христианина, для которого Христос становится «Царем сердца». Подобная экзальтированная духовность проявилась и в католицизме в форме почитания Святого Сердца Иисуса.
Этот культ утвердился в народе несмотря на возражения иезуитов и высших сановников, которые чувствовали, что в таком поклонении нередко кроется слащавая сентиментальность. Отголоски культа сохранились и по сей день: во многих католических церквах и сейчас высятся статуи Христа с разверстой грудью, где виднеется выпуклое, объятое пламенным ореолом сердце. Именно таким предстал он некогда перед Маргаритой-Мари Алакок (1647–1690 гг.) из монашеской обители Паре-ле-Моньяль (Франция). Между этим Христом и решительным персонажем Евангелий нет практически никакого сходства. Стенающий от жалости к себе Иисус словно олицетворяет опасности, подстерегающие того, кто слушает лишь свое сердце, позабыв о рассудке. В 1682 г. Маргарита-Мари вспоминала, что Иисус явился ей в канун Великого поста,
весь покрытый ранами и шрамами. Обожаемая Кровь Его струилась кругом по телу. «Никто, совсем никто не будет питать жалости ко Мне и сострадать Мне, и не разделит Мою печаль, – грустным, скорбным голосом молвил Он, – в том плачевном состоянии, до какого доводят Меня грешники, особенно в эти времена»[495].
Маргарита-Мари, особа явно невротического характера, утверждавшая, что сама идея половой жизни внушает ей омерзение, страдала нарушениями аппетита и получала нездоровое удовольствие от мазохистских поступков, доказывавших якобы ее «любовь» к Святому Сердцу. Это живой пример того, насколько извращенной может стать безудержная «религия сердца». Христос часто был для Маргариты-Марии лишь исполнением потаенных желаний, а его Святое Сердце заменяло ей неизведанную любовь. Иисус говорил ей: «Будешь вовеки Его возлюбленной ученицей, забавой в Его развлечениях и жертвой Его прихотей. И Оно будет единственной усладой твоих желаний, Оно исправит и загладит твои изъяны, и исполнит за тебя обязательства твои»[496]. Такая пылкая набожность, сосредоточенная исключительно на Иисусе-Человеке, – лишь проекция, заточающая христианина в темницу невротического эготизма.
Очевидно, мы отошли очень далеко от хладнокровного рационализма эпохи Просвещения, однако между «религией сердца» в лучших ее проявлениях и деизмом есть определенная связь. Кант, например, вырос в Кенигсберге в семье пиетистов – это лютеранская секта, к которой, между прочим, имел отношение и Цинцендорф. Идеи Канта о религии «в пределах только разума» во многом сходны с пиетистской убежденностью в том, что вера «заложена в самом устройстве души»[497], а не откровениях, увековеченных доктринами авторитарной Церкви. Говорят, когда радикальные представления Канта о религии получили широкую огласку, мыслитель успокоил своего слугу-пиетиста, сказав, что просто «разрушил догму, чтобы освободить место для веры»[498]. Джон Уэсли был в восторге от Просвещения и очень сочувствовал, в частности, идеалу свободы. Кроме того, он интересовался наукой и техникой, ставил опыты с электричеством и целиком разделял оптимизм просветителей в отношении человеческой природы и грядущего прогресса. Американский исследователь Альберт Аутлер указывает, что и новая «религия сердца», и рационализм эпохи Просвещения были направлены против истеблишмента и выражали недоверие к внешней власти. Оба течения были созвучны идеям современности и отрекались от прошлого, оба выражали ненависть к бесчеловечности и любовь к ближнему. Действительно, радикальная набожность, похоже, проложила путь идеалам Просвещения, принятым не только христианами, но и иудеями. Черты сходства между некоторыми из этих крайних движений подчас поразительны, поскольку многие секты откликались на громадные перемены своего времени тем, что преступали религиозные запреты: одни доходили порой до кощунства, другие навлекали на себя обвинения в атеизме, третьи поклонялись вождям, открыто объявлявшим себя воплощениями Бога. Многие из таких сект были по духу мессианскими и предрекали неминуемое рождение совершенно нового мира.
В годы правления Оливера Кромвеля, особенно после казни короля Карла I в 1649 г., в Англии разразился настоящий апокалиптический бум. Пуританам, стоявшим у власти, было очень трудно сдерживать религиозное возбуждение, охватившее армию и простых людей. Многие верили, что Судный День уже близок и скоро, как и обещано в Библии, Господь изольет Дух Свой на все народы и утвердит Царствие Свое – разумеется, именно в Англии. Сходные надежды питали, похоже, и сам Кромвель, и те пуритане, которые обосновались в 20-х годах XVII в. В Новой Англии. В 1649 г. Джерард Уинстэнли основал близ Кобхэма (графство Суррей) общину диггеров, вознамерясь вернуть человека к тем изначальным временам, когда Адам возделывал Сад Эдемский. По мнению Уинстэнли, в этом обществе нового типа не будет уже ни частной собственности, ни классовых различий, ни власти. Первые квакеры – Джордж Фокс, Джеймс Нейлор и их сподвижники – утверждали, что человек может прийти к Богу самостоятельно. В каждом из нас есть “внутренний свет”; если найти его и укрепить, то любой, независимо от сословия и общественного положения, обретет спасение еще здесь, на земле. Сам Фокс проповедовал в своем “Обществе друзей” пацифизм, ненасилие и радикальный эгалитаризм. Надежда на свободу, равенство и братство вспыхнула в Англии почти за 140 лет до того, как парижане взяли Бастилию.
Крайние проявления этого нового религиозного всплеска имели много общего с деятельностью еретиков эпохи позднего средневековья, которых называли “Братьями Святого Духа”. Как поясняет в своей работе “Гонения тысячелетия: революционеры-милленарии и мистические анархисты средневековья” британский историк Норман Кон, недруги обвиняли “Братьев” в пантеизме: те “без колебаний говорили: «Бог – всё, что есть» либо: «Бог пребывает в каждом камне и каждом члене тела человека столь же верно, сколь и в причастном хлебе»”;[499]. Это было очередное толкование плотиновской идеи о том, что извечная сущность всех вещей, исшедших от Единого, тоже божественна. Все сущее стремится вернуться к своему Божественному Началу и рано или поздно вновь будет поглощено Богом. В предначальном Единстве растворятся когда-нибудь даже три Лица Троицы. Спасение можно обрести уже здесь, на земле, распознав собственное божественное естество. В трактате одного из «Братьев», найденном в отшельничьем ските близ Рейна, сказано: «Божественная сущность – моя сущность, и моя сущность – божественная сущность». «Братья» настойчиво повторяли: «Всякая разумная тварь свята по естеству»[500]. Это было не столько философское кредо, сколько пылкая мечта превзойти пределы человеческого. «Братья», как заявил епископ Страсбургский, «твердят, будто они Боги по естеству, безо всяких отличий. Веруют также, что наделены всеми божественными совершенствами, предвечны и пребывают в вечности»[501].
Кон доказывает, что крайние христианские секты Англии эпохи Кромвеля – квакеры, левеллеры и рантеры (Ranters) – представляли собой возрождение ереси «Братьев Святого Духа» (XIV в.). Разумеется, это вовсе не было сознательное возвращение к прошлому; подвижники семнадцатого столетия самостоятельно пришли к пантеистическим воззрениям, в которых трудно не заметить упрощенную версию философского пантеизма, построенного вскоре Спинозой. Уинстэнли, вероятно, вообще не верил в трансцендентного Бога, хотя, как и другие радикалы, весьма неохотно выражал свою веру в точных определениях. Ни в одной из перечисленных революционных сект никто не считал, что обязан своим спасением самопожертвованию исторического Иисуса. Для них важен был тот Христос, который незримо присутствовал в каждом члене общины и практически ничем не отличался от Святого Духа. Все секты единодушно сходились в том, что главным средством сближения с Богом является пророчество, а прямое наитие «от Духа» выше всех официальных вероучений. Фокс призывал своих квакеров ожидать Господа в безмолвии – это очень напоминает греческий исихазм или via negativa средневековых философов. Давняя идея Троичного Бога рушилась, ведь имманентное божественное присутствие нельзя было разделить на три Лица. Основной чертой сектантских воззрений была Единственность, отражавшаяся в сплоченности и равенстве многочисленных общин. Как и «Братья», некоторые рантеры считали себя божественными; кое-кто даже объявлял себя Христом или новым вочеловечением Господним. Сектанты, как мессии, проповедовали революционные идеи и предрекали новый мировой порядок. В своем полемическом сочинении «Омертвение, или Перечень и разоблачение многих заблуждений, ересей, богохульств и предосудительных занятий сектантов нашего времени» (1640 г.) пресвитерианский критик Томас Эдвардc очертил верования рантеров следующим образом:
Всякая тварь в первые дни сотворения была Бог, и всякое создание есть Бог, любая тварь живущая и дышащая – истечение от Бога, и к Нему вернется вновь, и поглощена будет в Нем, словно капля в море. […] Кто крещен Святым Духом, тому ведомо всё, равно как Богу всё ведомо, и сие – полная загадка. […] И что если человек по духу своему знает, что пребывает в благодати, то даже когда совершает злодейство или пьянствует, Господь не видит на нем греха. […] Вся земля – Святые, и должна быть община праведных, и Святые должны получить долю от земель и поместий дворян и им подобных[502].
Рантеров, как и Спинозу, обвиняли в атеизме. Исповедуя идею свободы, они умышленно нарушали христианские запреты и кощунственно заявляли, что между Богом и человеком нет различий. Далеко не каждый человек мог постичь научные абстракции Канта или Спинозы, однако в самовозвеличении рантеров и «внутреннем свете» квакеров легко разглядеть мечты того же рода, какими воодушевлялись столетие спустя французские революционеры, усадившие на высший престол своего пантеона Богиню Разума.
Некоторые рантеры объявляли себя Мессиями, воплощениями Самого Бога, явившегося утвердить новое Царствие. Их жизнеописания позволяют заподозрить в отдельных случаях душевные расстройства, но, так или иначе, эти люди привлекли немало последователей и, без сомнений, удовлетворяли в свое время некую духовную и социальную потребность англичан. Так, например, почтенный домохозяин Уильям Франклин повредился умом после того, как многих членов его семьи унесла чума 1646 г. Франклин вдруг объявил себя Богом и Христом, чем до смерти перепугал собратьев-христиан; вскоре он, впрочем, отрекся от своих слов, просил за них прощения и, казалось, образумился – но потом все-таки оставил супругу и принялся менять женщин одну за другой, перейдя к совершенно сомнительному нищенскому образу жизни. У одной из его подруг, Мэри Гедбери, начались видения. Она слышала голоса, предрекавшие новый общественный уклад, где не будет никаких сословных различий. Самого Франклина Мэри считала своим Господом и Христом. Судя по всему, у этой парочки появился целый ряд учеников, но в 1650 г. обоих арестовали, высекли кнутом и отправили в исправительный дом. Примерно в те же годы как Богу поклонялись некоему Джону Роббинсу: он объявил себя Богом Отцом и утверждал, что жена его скоро произведет на свет Спасителя Мира.
Кое-кто из историков сомневается, что особы вроде Роббинса и Франклина относились к рантерам, поскольку о деятельности последних мы знаем только со слов их недругов, которые вполне могли исказить правду из полемических соображений. Тем не менее сохранились разрозненные сочинения таких видных рантеров, как Джекоб Боутумли, Ричард Коппин и Лоренс Кларксон. В этих работах явственно заметен все тот же набор идей: рантеры проповедовали революционные социальные убеждения. В трактате «Свет и тени Господа» (1650 г.) Боутумли говорит о Боге словами, перекликающимися с верой суфиев в то, что Бог – это Око, Ухо и Длань человека. Боутумли обращается к Нему с вопросом: «О Боже, что мне сказать о том, кто Ты? Ибо если скажу, что вижу Тебя, это не что иное, как Ты, видящий Себя; ибо ничто во мне не зряче, кроме Тебя Самого. И если скажу, что знаю Тебя, то это не что иное, как Твое знание Себя»[503]. Как и рационалисты, Боутумли отвергал доктрину о Троице, но, вновь под стать суфиям, объяснял свою веру в божественность Христа тем, что, хотя Иисус и божествен, Господь не мог бы раскрыть Себя в одном-единственном человеке: «Он поистине, по существу пребывает во плоти других людей и тварей, равно как и в человеке Христе»[504]. Почитание обособленного, ограниченного по местонахождению Бога – разновидность идолопоклонства; Рай – это не какое-то место, а духовное присутствие Христа. Библейские представления о Боге, по мнению Боутумли, не соответствуют действительности, ведь грех – не поступок, но состояние, или, еще точнее, пренебрежение человека своим божественным естеством. Тем не менее Бог неким таинственным образом пребывает и во грехе, который есть просто «темная сторона Бога, обычное отсутствие света»[505]. Враги тут же окрестили Боутумли атеистом, однако воззрения его, пусть и выражались в более грубой форме, были по духу довольно близки убеждениям Фокса, Уэсли и Цинцендорфа. Он пытался вернуть далекого и нечеловечески объективного Бога во внутренний мир человека, заменить традиционные доктрины религиозными переживаниями – подобные идеи начнут развивать впоследствии пиетисты и методисты. Кроме того, Боутумли разделял неприязнь к властям и оптимистический, по существу, взгляд на человечество, ставший позднее характерным для философов эпохи Просвещения и приверженцев «религии сердца».
Боутумли заигрывал с чрезвычайно волнующей и опасной доктриной святости греха. Если Бог – всё сущее, то грех ничего не значит. Такие рантеры, как Лоренс Кларксон и Алистер Копп, тоже пытались доказать это положение: они возмутительно нарушали сексуальный кодекс своей эпохи, сквернословили и богохульствовали при людях. Все тот же Копп «прославился» неумеренными возлияниями и курением. Став рантером, он, похоже, выплеснул наружу извечно подавляемую тягу к площадной брани. До нас дошли рассказы о том, как он битый час сыпал проклятиями с кафедры лондонской церкви, а однажды так злобно отругал хозяйку какого-то кабачка, что та долго еще дрожала от страха. Возможно, это была реакция на гнет пуританской морали с ее нездоровой сосредоточенностью на греховности всего рода людского. Фокс и его квакеры настаивали на том, что грех совершенно неизбежен. Разумеется, Фокс вовсе не призывал своих Братьев грешить и всей душой ненавидел распущенность рантеров; он просто проповедовал более оптимистическую «антропологию», стремился вернуть ей утраченное равновесие. В трактате «Единственное Око» Лоренс Кларксон доказывал: поскольку Бог сотворил всё совершенным, «грех» – это лишь плод человеческого воображения. Бог Сам объявляет в Библии, что сделал тьму светом. Действительно, монотеистам всегда трудно было примириться с реальностью греха, хотя мистики и пытались найти более целостное решение этой проблемы. Юлиана Норвичская считала, что грех – вещь «надлежащая» и в чем-то необходимая. Каббалисты предполагали, что греховность загадочным образом берет начало в Боге. Радикальные борцы за свободу личности вроде Коппа и Кларксона – образчики довольно неуклюжего и поспешного стремления стряхнуть с себя гнет христианства, которое устрашало паству доктриной разгневанного, мстительного Бога. Рационалисты и «просвещенные» христиане тоже мечтали сбросить оковы религии, превратившей Бога в жестокую и властную фигуру; им же хотелось божества поснисходительнее.
Историки-обществоведы уже отмечали, что западное христианство отличается от прочих мировых религий неистовым чередованием периодов притеснений и «вольницы». Отмечалось и другое: эпохи гнета совпадали обычно с религиозным возрождением. Довольно спокойный нравственный климат Просвещения сменился во многих странах Европы репрессиями викторианской эпохи, которые сопровождались новым всплеском фундаменталистской религиозности. Совсем недавно мы сами были свидетелями того, как вседозволенность 60-х годов сменилась едва ли не пуританской моралью 80-х, причем перемены эти тоже совпали со взлетом христианского фундаментализма на Западе. Это сложное явление имеет, несомненно, далеко не одну причину. Возникает, однако, искушение связать такой процесс с идеей Бога, которая всегда доставляла Западу немало хлопот. Богословы и мистики средневековья проповедовали Божью любовь, но устрашающие сцены Страшного Суда над вратами кафедральных соборов, изображающие адские муки грешников, рассказывали совершенно иную историю. Нам уже известно, что на Западе идею Бога часто связывали с мраком души и тяжелой борьбой. Рантеры – те же Кларксон и Копп – презирали христианские табу и провозглашали святость греха в ту самую пору, когда по европейским странам безудержно прокатывалось безумие охоты на ведьм. Христиане-радикалы кромвелевской Англии тоже восставали против чрезмерно требовательного, пугающего Господа и Его религии.
В очередной раз переродившееся в XVII–XVIII вв. христианство нередко выглядело нездоровым и отличалось жестокими, порой опасными чувствами и поступками. Это проявилось, в частности, во всплеске религиозного пыла, получившем название «великое пробуждение» – он захлестнул в 30-х годах XVIII столетия Новую Англию. Источниками вдохновения этой волны религиозности стали евангелические призывы Джорджа Уитфилда, ученика и соратника братьев Уэсли, и проповеди о геене огненной, с которыми выступал выпускник Йельского университета Джонатан Эдвардс (1703–1758 гг.). Эдвардс описал «пробуждение» в своем эссе «Достоверное повествование о чудесном промысле Божьем в Нортгемптоне, штат Коннектикут». Прихожан своих он характеризовал как вполне добропорядочных верующих – трезвомыслящих и законопослушных, однако лишенных религиозного рвения. Иными словами, они ничем не отличались от жителей других колоний. Но в 1734 г. двое молодых людей скончались внезапной смертью, и эти события, как заставляют предположить кое-какие пугающие высказывания самого Эдвардса, вызвали у обитателей городка бурный прилив набожности. Люди ни о чем другом не говорили, кроме как о вере; все бросили работу и целыми днями читали Библию. Полгода спустя в поселке насчитывалось уже около трех сотен новообращенных верующих из всех слоев общества – в иную неделю обращалось сразу полдесятка. Эдвардс видел в этом помешательстве прямое свидетельство Промысла Божьего, и это толкование было не просто fagon departed[506] – пастор говорил совершенно буквально, что Господь, похоже, «изменил привычкам Своим» и ведет Себя в Новой Англии необычно, дивными и чудесными путями воздействуя на людей. Следует, впрочем, отметить, что Дух Святой подчас проявлял Себя довольно истерическими симптомами. Как сообщает Эдвардc, его прихожан иногда «поражал» страх пред Господом, и они «утопали в бездонном чувстве вины, которую, по их мнению, Бог не простит никогда». Отчаяние сменялось столь же неистовым блаженством, когда верующие ощущали, что окончательно спасены. Они, бывало, «разражались смехом, хотя из очей их градом катились слезы, и тут же раздавались безутешные рыдания. Иной раз сквозь плач прорывались громкие возгласы, свидетельствовавшие об их великом восхищении»[507]. Очевидно, столь бурные проявления чувств решительно отличались от спокойного самообладания, которое мистики всех крупных религиозных традиций считают признаком настоящей просветленности.
Чрезвычайно эмоциональные обращения в веру стали характерной приметой религиозного взрыва в Америке. Это было новое рождение, сопровождавшееся неистовыми, мучительными конвульсиями и страшными усилиями – очередной вариант схватки Запада с Богом. «Пробуждение» заразило соседние города и деревни – то же самое произойдет столетие спустя, когда округ Нью-Йорк окрестят «выжженным» [Burned-Over District], привыкнув к тому, что там периодически бушует религиозное пламя. Эдвардc отмечает, что в этом экзальтированном состоянии его новообращенные ощущали окружающий мир как сплошной источник счастья. Прихожане не расставались с Библией, забывая даже о пище. Неудивительно, конечно, что их бурные чувства со временем угасли; как сообщает Эдвардc, два года спустя «явственно чувствовалось, что Дух Божий постепенно отстраняется от нас». Как и прежде, его слова – вовсе не метафора, ибо в вопросах веры Эдвардс был типичный западный буквалист. Он действительно верил, что «пробуждение» – прямое откровение Господа пред горожанами, вполне осязаемая деятельность Святого Духа, схожая с тем, давним нисхождением на апостолов в Пятидесятницу. И когда Бог ушел так же внезапно, как появился, Его место – опять же в совершенно буквальном смысле – занял Сатана. Экзальтация сменилась безысходностью, толкавшей к самоубийствам. Первая трагическая жертва отчаяния перерезала себе горло, а «после того многие в нашем городе и окрестных селениях, казалось, восприняли как совет либо требование поступить так же, как тот человек, и многие поспешно предприняли этот шаг, как если бы некто наущал их: «Режь себе горло, какая отменная возможность – сей же час!»» Двое несчастных сошли с ума, погрузившись в «причудливые, восторженные заблуждения»[508]. Новообращенных больше не было, а те, кто остался в живых, успокоились и стали жить счастливее, чем до «пробуждения», – так, во всяком случае, уверяет Эдвардc. Бог Джонатана Эдвардса и его прихожан, раскрывший Себя в столь аномальной и жесткой манере, обошелся со своими верующими по обыкновению круто и своенравно. Неистовые бури чувств, маниакальные восторги и пучины отчаяния показывают, что многим не очень одаренным американцам было чрезвычайно трудно сохранять душевное равновесие в общении с «Богом». Столь же заметна и убежденность, характерная для наукообразной религии Ньютона: именно Бог непосредственно определяет все, что только случается на свете, каким бы странным ни казался Его Промысл.
Ярую, иррациональную набожность «великого пробуждения» трудно соединить со взвешенным хладнокровием его отцов-зачинателей. У Эдвардса было много противников, которые относились к «пробуждению» весьма скептически. По мнению либералов, Господь раскрывает Себя в делах человеческих исключительно рациональными путями, а вовсе не вспышками страстей. Однако в работе «Религия и американский ум: от великого Пробуждения до Революции» Алан Хеймарт доказывает, что обновление души в «великом пробуждении» – евангелизированная версия присущего эпохе Просвещения идеала погони за счастьем; по словам Хеймарта, это «экзистенциальное освобождение от мира, где «всё пробуждает мощные предчувствия»[509]. «Пробуждение» случилось в тех колониях, что победнее, – иными словами, у тамошних жителей, вопреки чаяниям развитой эпохи Просвещения, почти не было надежды на счастье «от мира сего». Как утверждал Эдвардс, новое рождение вызывало радость и тягу к прекрасному, причем ощущения эти весьма отличались от прочих естественных чувств. Поэтому опыт соприкосновения с Богом в «великом пробуждении» сделал просвещение Нового Света доступным не только редким счастливцам из колоний. Следует учесть, что философское Просвещение тоже воспринималось как псевдорелигиозная свобода. Понятия eclaircissement и Aufklarung[510] имеют явный религиозный оттенок. Бог Джонатана Эдвардса внес свой вклад и в революционный подъем 1775 года. В глазах «возрожденцев» Британия утратила обновленный свет, столь ярко воссиявший в период пуританской революции; ныне же страна, казалось, возвращалась к прежнему упадку. Именно Эдвардс и его соратники помогли американцам из низших сословий сделать первые шаги к революции. Важное место в религиозности Эдвардса занимало мессианство: труды человеческие могли приблизить пришествие Царства Божьего, которое неминуемо должно было возникнуть в Новом Свете. Само «пробуждение», несмотря на его трагическую развязку, заставило людей поверить, что предсказанный Библией процесс Искупления уже начался. Господь неукоснительно верен Своему Замыслу. Помимо прочего, Эдвардс придал доктрине Троицы политическую окраску: Сын был «божеством, зачатым Божьим разумением» и, следовательно, первичным замыслом Нового Содружества; Дух Святой – «божество, сущее действием» – являлся той силой, которая со временем осуществит намеченный план[511]. В американском Новом Свете Господь мог созерцать Свое совершенство прямо на земле. Грядущее общество выразило бы собой «высшие превосходства» Самого Бога. Новой Англии суждено было стать «градом на горе», светом язычникам, «воссиявшим отраженной Славой Иеговы, что над ней, которая всех привлечет и очарует»[512]. Итак, Бог Джонатана Эдвардса должен воплотиться в Содружестве. Благое общество – вот где пребывает Христос.
Другие кальвинисты шли в ногу с прогрессом и ввели в американские учебные планы химию. Тимоти Дуайт, внук Эдвардса, видел в научных познаниях преддверие окончательного совершенства рода людского. Их Бог далеко не всегда означал мракобесие, как полагали американские либералы. Кальвинистам не нравилась космология Ньютона, согласно которой после сотворения мира у Господа было не так уж много дел. Мы уже знаем, что они предпочитали Бога активно деятельного, притом в буквальном смысле, здесь на земле. Доктрина предопределения показывает, что, по мнению кальвинистов, именно Бог несет ответственность за все, что происходит у нас, людей, и ничего с этим не поделать. Следовательно, наука способна найти лишь того Бога, который открывает Себя во всех естественных, гражданских, материальных или же духовных деяниях Своих тварей, и даже в тех событиях, что выглядят слепыми случайностями. В определенном смысле, кальвинистские воззрения были еще смелее, чем взгляды либералов, которые противостояли учению «возрожденцев» и предпочитали просто верить в те «умозрительные, озадачивающие понятия», что так беспокоили их в проповедях «возрожденцев» вроде Уитфилда или Эдвардса. Алан Хеймарт доказывает, что причиной антиинтеллектуализма американского общества могли быть не столько кальвинисты или евангелисты, сколько более рациональные бостонцы – например, Чарльз Чонси или Сэмьюэл Куинси, – предпочитавшие те представления о Боге, что «попроще и очевиднее»[513].
В иудаизме тоже появились некоторые сходные новшества, способствовавшие распространению среди евреев идеалов рационализма, что позволило очень многим из них ассимилироваться с европейскими «иноверцами». В «апокалиптическом» 1666 г. некий иудейский мессия провозгласил, что спасение уже близко. Евреи всего мира восприняли эту весть с восторгом. Саббатай Цеви родился в 1626 г., в годовщину разрушения Храма, в семье зажиточного сефарда, жителя Смирны (Малая Азия). С возрастом у Цеви проявились странные наклонности, которые в наше время сочли бы, вероятно, симптомами маниакально-депрессивного психоза. В нередко случавшиеся у него периоды глубокого отчаяния Цеви избегал домашних и скрывался в уединении. Подавленность чередовалась с душевными подъемами, граничащими с экстазом. При этих «маниакальных» взлетах Цеви подчас намеренно и демонстративно преступал Законы Моисеевы: открыто ел запретную пищу, произносил тайное Имя Божье, да еще и утверждал, что это предписано ему особым откровением свыше. Он свято верил, что является долгожданным Мессией. Терпение раввинов в конце концов лопнуло: в 1656 г. Саббатая изгнали из города, и он начал скитаться по еврейским поселениям Оттоманской империи. В Стамбуле, во время очередного своего экстаза, он объявил, что отныне Тора отменяется и громко возопил: «Благословен Ты, Господь Бог наш, допускающий запретное!» В Каире он вызвал скандал женитьбой на женщине, которая, бежав в 1648 г. от кровавых погромов в Польше, занималась в Египте проституцией. В 1662 г. Саббатай направился в Иерусалим; в ту пору он пребывал в депрессивной фазе и полагал, что им овладели демоны. В Палестине Цеви прослышал о молодом образованном раввине и опытном экзорцисте по имени Натан из Газы и решил его отыскать.
Натан, как и Саббатай, изучал каббалу Исаака Лурии. Познакомившись с полоумным евреем из Смирны, раввин объяснил, что это не одержимость. По мнению Натана, бездны отчаяния Цеви указывали как раз на то, что он действительно Мессия. Нисходя в эти бездны, Цеви якобы сражался со злыми силами Той Стороны и выпускал на волю божественные искры царства келипот, которое способен спасти только Мессия. Прежде чем осуществить окончательное спасение Израиля, Саббатаю предстояло спуститься в преисподнюю. Поначалу Цеви сам не поверил ни тому, ни другому, но со временем красноречие Натана его переубедило. 31 мая 1665 г. Саббатай вновь впал в маниакальный восторг и, после уговоров Натана, открыто объявил о своей спасительной миссии. Ученые раввины отбросили эти заявления как заведомую бессмыслицу, но многие палестинские евреи все равно стекались к Цеви, и он подобрал себе двенадцать учеников, будущих судей каждого колена Израиля, которому предназначено было вскоре возродить былое единство. Натан письмами сообщил радостную весть еврейским общинам Италии, Голландии, Германии и Польши, а также многочисленных городов Оттоманской империи, после чего мессианское возбуждение пожаром разнеслось по всему иудейскому миру. Столетия гонений и погромов изолировали европейских евреев от общей массы, и столь угрожающее положение дел вынудило многих из них поверить в то, что грядущая судьба мира зависит только от иудеев. Сефарды, потомки евреев, изгнанных из Испании, давно всей душой отдались лурианской каббале, и теперь большинство из них свято верило в неминуемый Конец Света. Все это весьма способствовало культу Саббатая Цеви. За долгую историю иудаизма очень многие притязали на звание Мессии, но такой мощной поддержки, как у Цеви, не было прежде ни у кого. Дошло до того, что скептически настроенные евреи боялись высказывать свои сомнения вслух. Новоявленного спасителя поддерживали все сословия иудейского общества – бедные и богатые, невежественные и образованные. Повсюду расходились ликующие брошюры и плакаты на английском, голландском, немецком и итальянском языках. В Польше и Литве устраивали публичные шествия в честь Цеви. Уличные пророки, толпами бродившие по Оттоманской империи, упоенно пересказывали свои видения, где Саббатай восседал на царском престоле. Деловая жизнь замерла. Показательно, например, что турецкие евреи выбросили из субботних молитв имя султана и заменили его именем Цеви. Наконец, в январе 1666 г., когда Саббатай прибыл в Стамбул, его арестовали как бунтовщика и заточили в темницу в Гелиболу.
После вековых преследований, изгнаний и лишений заблистал луч надежды. Евреи всего мира испытывали душевное облегчение и освобождение, сходное с тем блаженством, какое мимолетно переживали каббалисты при созерцании загадочного мира сефирот. Однако теперь ощущение свободы было уже не привилегией избранных, а всеобщим достоянием. Евреи впервые почувствовали, что их жизнь не напрасна: Искупление превратилось из смутных мечтаний о грядущем во вполне реальное и сознаваемое настоящее. Спасение близко! Столь внезапная перемена обстоятельств произвела на евреев глубочайшее впечатление. Взоры всего иудейского мира сосредоточились теперь на Гелиболу, где Саббатай умудрился внушить почтение к себе даже своим стражникам. Турецкий визирь проведывал его с весьма утешительными вестями, и узник даже принялся распевать свое провозвестие: «Я – Господь твой Бог, Саббатай Цеви». Однако, к тому времени, когда его привезли в Стамбул на суд, «мессия» вновь впал в очередной приступ депрессии. Султан предложил ему выбор: обращение в ислам или смерть. Цеви предпочел чужую веру и тут же был отпущен на волю. Империя даже выдала ему государственное пособие; бывший спаситель прожил остаток жизни как правоверный мусульманин и умер 17 сентября 1676 г.
Разумеется, чудовищная новость ввергла приверженцев Цеви в отчаяние, многие сразу в нем разуверились. Раввины пытались стереть с лица земли саму память о нем: уничтожались все послания, брошюры и сочинения, какие только попадались под руку. Евреи вплоть до наших дней стыдятся этого ниспровержения «Мессии» и не могут с ним свыкнуться. Раввины и рационалисты с равным усердием преуменьшают значение случившегося. С недавних пор, впрочем, некоторые ученые вслед за покойным Гершомом Шолемом попытались разобраться в смысле этого странного эпизода и его далекоидущих последствиях[514]. Как ни странно, многие евреи продолжали хранить верность своему «Спасителю» несмотря на его скандальное отступничество. Чувство избавления было столь глубоким, что иудеи просто не верили, будто Господь допустил такой обман. Это один из самых поразительных примеров того, как религиозный порыв к спасению берет верх над очевидными фактами и здравым смыслом. Став перед труднейшим выбором – забыть о новообретенной надежде или признать в недавнем Мессии ренегата, – на удивление многие евреи всех сословий отказались смириться с горькой правдой. Натан из Газы посвятил всю оставшуюся жизнь разъяснению загадки Саббатая: обратившись в ислам, тот якобы продолжил вековечную борьбу с силами зла, и для того, чтобы низойти в сферу тьмы ради освобождения келипот, ему пришлось пренебречь даже святынями своего народа. Цеви покорился трагическому бремени своей миссии и спустился на низшие уровни бездны, чтобы завоевать мир Безбожия изнутри. В Турции и Греции в Саббатая по-прежнему верило около двух сотен иудейских родов. После смерти «мессии» они решили стать его соратниками в борьбе против зла и, по его примеру, в 1683 г. все обратились в мусульманство. Втайне они, однако, хранили верность иудаизму, поддерживали тесные отношения с раввинами и устраивали подпольные молельни в собственных домах. В 1689 г. их руководитель Якоб Кверидо совершил хаджж (паломничество в Мекку), а вдова Цеви объявила, что Якоб – перевоплощение «мессии». В Турции до сих пор существует горстка донмехов (отступников), которые внешне безупречно соблюдают мусульманский образ жизни, но втайне страстно верны иудаизму.
Другие приверженцы Саббатая до таких крайностей не дошли и хранили верность и своему «мессии», и синагоге. Судя по всему, таких тайных последователей было куда больше, чем принято считать. В XIX в. многие евреи, которые ассимилировались или перешли к более вольным формам иудаизма, откровенно стыдились своих предков, чтивших Саббатая; с другой стороны, еще веком ранее немало видных раввинов верило, что Цеви и правда был Мессией. Шолем утверждает, что число сторонников этого мессианства не следует недооценивать, хотя оно, конечно, никогда не перерастало в массовое течение иудаизма. Особо привлекательным было оно для маранов – евреев, которых испанцы вынудили обратиться в христианство и которые позднее вернулись к иудаизму. Идея отступничества как таинства смягчала их собственное чувство вины и стыда. Саббатайство процветало в общинах сефардов в Марокко, на Балканах, в Италии и Литве. Кое-кто из приверженцев этого течения – например, Вениамин Кон из Редджо или Авраам Рориго из Модены – были прославленными каббалистами и держали свою связь с саббатайством в секрете. Через Балканы мессианская секта распространилась среди польских ашкенази, упавших духом от неумолимого нарастания антисемитизма в Восточной Европе. В 1759 г. ученики чудаковатого и зловещего пророка Якова Франка последовали примеру своего «мессии» и обратились в христианство, втайне соблюдая иудаизм.
Рассуждая о саббатайстве, Шолем предлагает яркое сравнение с историей христианства. Некоторые евреи, жившие более чем за полторы тысячи лет до появления Цеви, тоже не могли расстаться с упованиями на скандального Мессию, которого казнили в Иерусалиме как заурядного преступника. События, которые апостол Павел назвал впоследствии позором распятия, вызвали не меньшее потрясение, чем постыдная измена Саббатая. В обоих случаях ученики провозглашали рождение новой формы иудаизма, призванной сменить все прежние, – и очень многие обращались в эту парадоксальную веру. Христианское убеждение в том, что Крест Иисуса принес жизнь новую, похоже на веру саббатайцев в отступничество Цеви как сокровенное таинство. Те и другие знали, что ради грядущего урожая пшеничное зерно надлежит уронить в землю. По их мнению, древняя Тора была уже мертва, и ее следовало заменить обновленным законом Духа. Те и другие разработали свою триипостасность и доктрину о Вочеловечении Бога.
Действительно, в XVII–XVIII вв. приверженцы саббатайства, как и многие христиане, верили, что стоят на пороге нового мира. Каббалисты неустанно твердили, что в Судный День откроются таинства Божьи, проявлявшиеся в периоды изгнаний лишь смутно. Последователи саббатайства считали, что живут в эру Мессии и потому вправе отказаться от традиционных представлений о Боге, даже если это приведет к кощунственному на первый взгляд богословию. Так, Авраам Кардазо (ум. в 1706 г.), который родился в семье маранов и начинал с изучения христианской теологии, полагал, что все евреи обречены на отступничество – таково возмездие за их грехи. Однако Господь избавил Свой народ от этой страшной участи, позволив Мессии принести от их имени высшую жертву. В конце концов Кардазо пришел к пугающему выводу: за долгий срок изгнания евреи, по его мнению, утратили истинные знания о Боге.
Подобно христианам и деистам эпохи Просвещения, Кардазо пытался избавить свою религию от всего, что считал недостоверными наслоениями, и вернуться к исконной библейской вере. Вспомним, как во II в. н. э. некоторые христианские гностики разработали своеобразный метафизический антисемитизм, отделив Сокровенного Бога Иисуса Христа от жестокого Бога евреев, несущего ответственность за несовершенство мироздания. Кардазо, сам того не ведая, возродил эту давнюю идею – впрочем, с обратным знаком. Он тоже полагал, что есть два бога: Тот, Кто открылся только Израилю, и другой, общеизвестный. Люди любой цивилизации доказывали существование некой Первопричины; таков бог Аристотеля, которого чтили во всем языческом мире. Это божество не имеет религиозного значения, ибо не сотворило мир и вообще не питает никакого интереса к человечеству. Но Бог, раскрывавший Себя Аврааму, Моисею и пророкам, совсем другой: Он создал вселенную из ничего, Он спас Израиль и стал его Богом. В изгнании такие философы, как Саадиа и Маймонид, были окружены гойим и, поддавшись их влиянию, сами впали в заблуждение и другим евреям внушили, будто эти два бога – один и тот же. В результате евреи начали поклоняться богу философов так, как если бы он и был Бог патриархов.
Но как соотносятся эти два бога? Чтобы объяснить присутствие второго божества, не отказываясь от иудейского монотеизма, Кардазо развил свое троичное богословие. Божественное у него обладало тремя ипостасями, или парцуфим (лицами). Первое Лицо именовалось Атика Кадиша, Святый Древний – Он и был Первопричиной. Второй парцуф, изошедший от первого, носил название Малка Кадиша; это был Бог Израилев. Третьим парцуфом была Шехина, которую, как говорил еще Исаак Лурия, изгнали из Божества. Кардазо утверждал, что эти «три узла веры» – не самостоятельные и независимые божества, но неким таинственным образом единое целое, ибо во всех проявляется одно Божество. Кардазо был умеренным приверженцем саббатайства. Он не считал, что обязан отрекаться от веры, поскольку эту мучительную обязанность уже исполнил за всех евреев Саббатай Цеви. Однако Кардазо нарушал давнее табу, предлагая идею Троицы. За долгие века иудеи привыкли ненавидеть триипостасность – по их мнению, кощунство и идолопоклонство. Тем не менее запретная доктрина Кардазо привлекла поразительное множество евреев.
Шли годы, мир не менялся, и последователям саббатайства пришлось вносить поправки в свои мессианские чаяния. Неемия Хаим, Самуил Примо и Ионафан Айбешютц пришли к выводу, что «таинство Божества» (сод га-элохут) раскрылось в 1666 г. не до конца. Шехина, как и предсказывал Лурия, начала «восставать из праха», но еще не вернулась к Божеству. Искупление – процесс постепенный, и в этот переходный период вполне допустимо, соблюдая Ветхий Закон и молясь в синагогах, в то же время секретно исповедовать мессианскую доктрину. Такой пересмотр саббатайства объясняет, почему многие раввины, признававшие в Саббатае Цеви Мессию, не оставляли свои молельни и в XVIII в.
Экстремисты, которые обратились в чужую веру, приняли и богословие Вочеловечения, нарушив тем самым еще один запрет иудаизма. Отступники верили, что Саббатай Цеви был не только Мессией, но и воплощением Бога. Как и в христианстве, представления эти складывались постепенно. Кардазо предложил доктрину, во многом схожую с утверждением апостола Павла о том, что после Воскресения Иисус был обожествлен. По мнению саббатайцев, искупление началось в минуту отречения Цеви, а сам он после этого был возвышен до уровня Троицы парцуфим: «Святый [Малка Кадиша], будь Он благословен, вознесся, а Саббатай Цеви взошел, став Богом, на место Его»[515]. Таким образом, «мессия» был возвышен до божественного положения и занял место Бога Израилева, второго парцуфа. Вскоре донмехи, перешедшие в ислам, сделали еще один шаг и решили, что Бог Израилев низошел на землю и воплотился в Саббатае. Всех своих руководителей они тоже считали перерождениями Мессии, из чего следовал неизбежный вывод: вожди саббатайских общин – перевоплощения Бога, примерно так же как и шиитские имамы. Таким образом, у каждого поколения отступников был свой предводитель, в котором воплощалось Божество.
Якоб Франк (1726–1791 гг.), по требованию которого его ученики-ашкенази приняли в 1759 г. крещение, намекал на собственную божественность уже в самом начале своей карьеры. Судя по описаниям, это был один из самых пугающих персонажей в истории иудаизма: неграмотный и кичащийся своим невежеством, он, однако, обладал даром творить мрачную мифологию, которая привлекла немало евреев, чья вера стала пустой и бесплодной. Франк проповедовал отречение от Ветхого Закона. В сочинении «Речения Господни» («Slowa Panskie») он довел саббатайство до пределов нигилизма. Уничтожить следовало все: «Где Адам ступал, град возводили, но где я пройду, все будет разрушено, ибо я пришел в сей мир разрушать и уничтожать»[516]. Налицо тревожная перекличка с некоторыми словами Христа, который тоже заявлял, что не мир принес в мир, но меч. Впрочем, в отличие от Иисуса и апостола Павла, Франк не предлагал взамен прежних святынь ничего. Эта нигилистическая вера, похоже, имела немало общего с воззрениями его современника, маркиза де Сада. По заверениям Франка, Благого Господа можно найти только в безднах падения, что означало не только отречение от любой религии, но и совершение «странных поступков», свидетельствовавших о полном бесстыдстве и добровольном самоуничижении.
Франк не был каббалистом, но проповедовал вульгаризированную версию богословия Кардазо. Каждого из трех парцуфим саббатайской Троицы, по словам Франка, олицетворял на земле свой Мессия. Саббатай Цеви, которого Франк обычно называл «Первым», был воплощением «Благого Господа» (у Кардазо – Атика Кадиша, Святый Древний). Сам Франк был якобы вочеловечением второго парцуфа, Бога Израилева. Третьим Мессией, воплощенной Шехиной, станет, по предсказанию Франка, женщина – «Дева». В настоящее время, однако, мир пребывает в рабстве злых сил и не обрящет спасения, пока люди не примут нигилистического провозвестия Якова Франка. Лестница этого «Иакова» выглядела как буква «V»: чтобы взойти к Богу, нужно сперва низвергнуться, как Иисус и Саббатай, на самое дно. «Вот что хочу сказать вам! – заявлял Франк. – Христос говорил, что явился спасти мир от власти зла, я же пришел спасти мир от любых законов и обычаев. Предназначенье мое: искоренить все это, дабы Благой Господь смог явить Себя»[517]. Кто желал обрести Бога и освободиться от власти дурного, должен был шаг за шагом погружаться вслед за своим предводителем в бездну, нарушая все заветы, которые прежде считал священными. «Истинно говорю вам, что всякий, кто станет воителем, должен быть без веры или, иначе, должен обрести свободу силою своею»[518].
Последняя фраза вызывает ощущение связи мрачных воззрений Франка с идеалами рационалистов эпохи Просвещения. Польские ашкенази, воспринявшие это провозвестие, явно разочаровались в былой вере, которая никак не помогала приспособиться к удручающим условиям их существования в этом мире, столь небезопасном для евреев. После смерти Франка его учение утратило изрядную долю анархизма и сохранило, главным образом, веру в самого Якоба как воплощенного Бога и в то, что Шолем называет «мощным и ярким ощущением спасенности»[519]. Во Французской революции последователи Франка узрели благоприятное знамение Господне; они утратили интерес к парадоксам и ринулись в политическую борьбу, мечтая о революции, которая в корне перестроит мир. Сходным образом, обратившиеся в ислам донмехи в первые годы XX в. часто примыкали к младотуркам; многие из них окончательно ассимилировались в секуляризированном государстве Кемаля Ататюрка.
Та враждебность, с какой приверженцы саббатайства относились к внешнему благочестию, была в каком-то смысле бунтом против условий жизни в гетто. Саббатайство, которое в наше время кажется мракобесием, помогало евреям сойти с устаревшей колеи и обрести восприимчивость к новому. Умеренные саббатайцы, выглядевшие правоверными иудеями, часто становились первопроходцами еврейского Просвещения (Гаскалах), а также принимали деятельное участие в создании реформированного иудаизма в XIX в. Реформаторы-маскилим приходили подчас к довольно странным идеям, где старое неразличимо сплавлялось с новым: так, например, Йозеф Вете из Праги, чьи сочинения написаны около 1800 г., утверждал, что его кумиры – Моисей Мендельсон, Иммануил Кант, Саббатай Цеви и Исаак Лурия. Далеко не каждому удавалось проторить себе путь в современность через труднопроходимые участки науки и философии, а мистические верования радикальных христиан и иудеев теперь помогали им пробиться к тому атеизму, который мистики считали некогда мерзкой наклонностью низших, недоразвитых уголков души. И со временем отпрыски тех, кто принял новые, святотатственные представления о Боге, окончательно от Него отказались.
В ту пору, когда Якоб Франк разрабатывал свое нигилистическое провозвестие, у польских евреев нашелся и другой Мессия. Со времен погромов 1648 г. польское еврейство страдало травмой утраты родных домов и присутствия духа, и горе их было не менее острым, чем трагедия изгнанных из Испании сефардов. Многие образованные и религиозные еврейские семьи в Польше либо погибли, либо перебрались в относительно спокойную Западную Европу. Десятки тысяч переселились, еще больше неприкаянных скитались из города в город, не имея никаких надежд на постоянное жилье. Оставшиеся в живых раввины чаще всего не обладали особыми достоинствами и замкнулись в своих домах знаний, отгородившись от постылой действительности. Странствующие каббалисты говорили о демоническом мраке мира ахра ситра – Другой Стороны, отделенной от Бога. Свой вклад во всеобщую безысходность и моральное разложение внес и скандал с Саббатаем Цеви. Некоторые украинские евреи подверглись влиянию христианского течения пиетистов, которое проявилось и в Русской Православной Церкви. Иудеи начали строить сходную с пиетизмом богодухновенную религию. Есть рассказы очевидцев о том, как во время молитвы евреи впадают в экстаз, поют и хлопают в ладоши. В 30-х годах XVIII века один из таких экзальтированных иудеев стал бесспорным главой еврейской «религии сердца» и создал новое направление – хасидизм.
Израэль бен Элиезер не был ученым мужем. Он предпочитал изучать Талмуд, бродить по лесам, петь песни и рассказывать детям сказки. Они с женой жили в крайней нужде на юге Польши, в лачуге в глуши Карпатских гор. Какое-то время Израэль копал известь и продавал ее жителям ближайшего городка. Затем им с женой удалось открыть постоялый двор. Наконец, в тридцатишестилетнем возрасте бен Элиезер объявил, что стал знахарем и заклинателем, изгоняющим бесов. Он бродил по польским городам и весям и лечил крестьян и горожан от недугов с помощью трав, амулетов и молитв. В те времена кругом было полным-полно целителей, лечивших, по их собственным заверениям, Именем Божьим. Израэль стал известен как Баал Шем Тов, «Владеющий Благим Именем». И хотя бен Элиезер не был посвящен в сан, последователи начали называть его ребе Израэль Баал Шем Тов, или просто Бешт. Большая часть знахарей довольствовалась колдовством, но Бешт был также и мистиком. Случай Саббатая Цеви убедил его в опасности совмещения мистицизма с мессианством, и Бешт вернулся к одной из ранних форм каббалы, предназначенной для всех, а не только для редких избранных. Вместо того чтобы рассматривать падение божественных искр в наш мир как катастрофу, Бешт предлагал своим хасидим увидеть в этом светлую сторону: искры таятся в каждой вещи, а это означает, что весь мир наполнен Божеством. Правоверный иудей способен ощутить присутствие Бога в самых прозаических житейских мелочах – когда ест, пьет или занимается любовью с супругой, – ибо божественные искры рассеяны повсюду. Итак, людей окружают вовсе не сонмы демонов, а Сам Господь, Который незримо кроется в любой травинке и слабом дуновении ветерка и хочет, чтобы евреи шли к Нему с доверием и радостью.
Бешт отбросил глубокомысленные лурианские схемы спасения мира. Хасиду доступно только одно: воссоединить близлежащие искры, плененные в веществе обычных предметов и живых существ – жены, прислуги, мебели или пищи. Как разъяснял Гиллель Цейтлин, один из учеников Бешта, хасид несет уникальную ответственность за свое непосредственное окружение, и ответственность эту он не может разделить ни с кем: «Каждый человек – спаситель мира, ведь мир – единственное, что у него есть. Он видит лишь то, что он и только он должен видеть. Он чувствует лишь то, что именно ему предназначено чувствовать»[520]. Каббалисты разработали правила сосредоточения (девекут), помогавшие мистикам осознавать присутствие Бога всюду, куда ни глянешь. В XVII в. один каббалист из Сафеда пояснял, что мистику надлежит пребывать в уединении, на время отложить Тору и «воображать сияние Шехины над своей головой, как если бы оно рассеивалось вокруг, а сам он сидел посреди этого света»[521]. Такое ощущение Божественного присутствия приносило трепетную, экстатическую радость. Бешт говорил своим приверженцам, что блаженство это доступно не только избранным мистикам; каждый еврей просто обязан практиковать девекут и осознать всепроникающее присутствие Бога. В сущности, пренебрежение девекут равносильно идолопоклонству – отрицанию того, что вне Бога ничего нет. Эти воззрения привели Бешта к конфликту с представителями традиции, которые боялись, что евреи оставят изучение Торы и перейдут к новым, потенциально опасным и весьма странным верованиям.
Хасидизм, тем не менее, распространялся очень быстро, ибо нес падшим духом евреям очередную надежду. Многими из новообращенных стали бывшие приверженцы саббатайства. Бешт, впрочем, вовсе не хотел, чтобы его последователи отбрасывали Тору. Он просто дал ей новое, мистическое толкование: понятие мицва (повеление) означало у него связь. Соблюдая требования Закона и занимаясь девекут, хасид неразрывно связывает себя с Богом, Опорой Бытия, и одновременно возвращает Божеству те искры, что таятся в человеке или предмете, с которым хасид имеет дело в текущее мгновение. Тора давно уже призывала евреев освящать окружающий мир соблюдением мицвот, так что Бешт просто придал этому мистический смысл. Стремление спасти мир порой толкало хасидов на чудачества – например, многие из них начали курить лишь ради того, чтобы извлечь божественные искры из табака! Один из внуков Бешта, Барух (1757–1810 гг.) из Меджибожа, владел большим двором, прекрасной мебелью и гобеленами и оправдывал всю эту роскошь тем, что в любых предметах его волнуют только божественные искры. Авраам Иехошуа Хешел из Апты (ум. в 1825 г.) имел привычку объедаться, чтобы извлечь из продуктов как можно больше искр[522]. Совершенно очевидно, однако, что хасидизм был попыткой найти смысл жизни в суровом и грозном мире. Приемы девекут отражали стремление разорвать пелену привычного окружения и раскрыть таящееся за ними величие. Заметно определенное сходство с игрой воображения современников хасидов, английских романтиков Уильяма Вордсворта (1770–1850 гг.) и Сэмьюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834 гг.), которые видели во всем вокруг Единую Жизнь, целостную действительность. Хасиды, кроме того, начали сознавать некую божественную энергию, которая перемещается по всей тварной вселенной и превращает ее в чудесный мир, несмотря на случающиеся тут жестокие гонения и расправы. Материальный мир постепенно терял для хасидов значение, все вокруг становилось Богооткровением. Моисей Тейтельбаум (1759–1841 гг.) из Уйхеля [Ujhaly] говорил, что явленная Моисею неопалимая купина была тем самым Божественным присутствием, которое пылает в каждом кусте и служит опорой его существования[523]. Весь мир казался облаченным в небесное блистание, и в своем экстазе хасиды, случалось, кричали от счастья, рукоплескали и пели гимны. Кое-кто даже кувыркался, ибо величие увиденного действительно переворачивало весь мир.
В отличие от Спинозы и некоторых христианских радикалов, Бешт вовсе не полагал, будто всё на свете есть Бог: просто сущее пребывает в Боге, даровавшем всему жизнь и бытие. Он – жизненная сила, поддерживающая во всем существование. Бешт не считал, что благодаря девекут хасиды сами обожествятся или даже станут едины с Богом – подобные мысли показались бы безрассудными любому иудейскому мистику. Нет, хасид может лишь сблизиться с Богом, осознать Его присутствие. Большинство хасидов были людьми простыми, невежественными и часто выражали свои идеи причудливо, но в то же время прекрасно сознавали, что их мифологию не следует воспринимать буквально. Притчи были для них выше философских или талмудических рассуждений, ибо вымысел казался хасидам наилучшим средством изъяснения тех переживаний, что имеют мало общего с фактами и логикой. Видения хасидов были игрой воображения, стремящегося показать взаимозависимость Бога и человека. Бог был для них вовсе не внешней, объективной действительностью. Хасиды верили, что в определенном смысле творят Его, воссоздают после случившегося распада. Сознавая таящуюся в них Божью искру, хасиды становились более полноценными человеческими существами. Свои прозрения они по привычке выражали мифологическим языком каббалы. Дов Бер, преемник Бешта, говорил, что Бог и человек едины: человек станет, в соответствии с замыслом Божьим, адамом лишь тогда, когда утратит чувство независимости от всего остального и преобразится в «космическую фигуру человека предначального, чье подобие Иезекииль узрел на престоле»[524]. Это типично иудаистское по духу высказывание по-своему передает присущую греко-православным и буддистам веру в просветление, которое позволяет человеку осознать собственную трансцендентную природу.
Греки выразили это откровение в своей доктрине Вочеловечения и обожения Христа. У хасидов тоже появилась своя разновидность инкарнационизма: цаддик, хасидский раввин, считался аватаром своего поколения, связующим звеном между небом и землей, олицетворением повсеместного Божественного присутствия. Как утверждал раввин Менахем Нахум (1730–1797 гг.) из Чернобыля, цаддик – «поистине частица Господа, и он, можно сказать, пребывает в Господе»[525]. Как христианин подражает Христу, чтобы сблизиться с Богом, так и хасид подражает своему цаддику, который уже вознесся к Господу и в совершенстве овладел девекут. Цаддик – живое свидетельство того, что просветленность возможна. И поскольку цаддик близок к Господу, через его посредство хасид тоже может приблизиться к Владыке Вселенной. Хасиды толпятся вокруг своего цаддика, ловят каждое его слово – а он рассказывает о Беште или о том, как толковать те или иные стихи Торы. Как и многие христианские секты, хасидизм – вера не личная, а общинная. Хасиды пытаются идти вслед за своим восходящим к вершине цаддиком все вместе, сообща. Неудивительно, что ортодоксальные раввины Польши пришли в ужас при виде такого культа личности, перещеголявшего даже почтение к мудрейшим раввинам, в которых издавна видели олицетворение самой Торы. Оппозицию возглавил раввин Илия бен Соломон Залман (1720–1797 гг.), гаон (руководитель) еврейской академии в Вильно. Ниспровержение Саббатая Цеви вызвало у многих евреев крайнюю неприязнь к мистицизму, и виленского гаона часто считали поборником более рациональной веры. Тем не менее он был ревностным каббалистом и большим знатоком Талмуда. Его ближайший ученик, раввин Хайим из Воложина, восхвалял в Залмане «полное и крепкое знанье всего «Зогара» […], который изучал он с пламенем любовным и страхом пред величием Господа, со святостью, и чистотой, и безупречным девекут»[526]. Стоило Залману заговорить про Лурию, как все тело его охватывал трепет. У него бывали чудесные сны и откровения, и все же гаон настаивал на том, что главный путь сообщения с Богом – изучение Торы. Помимо прочего, Залман проявил поразительную проницательность в отношении смысла снов как высвобожденных из глубин психики интуитивных прозрений. Как утверждал тот же Хайим, «он любил говорить, что Господь устроил ночной сон лишь с той целью, чтобы человек получал озарения, которых не получить иным путем, даже при большом усердии, ибо наяву душа прикреплена к плоти, а плоть подобна пелене ограждающей»[527].
Впрочем, пропасть между мистицизмом и рационализмом не так широка, как принято думать. Замечания виленского гаона в отношении снов показывают, что он прекрасно понимал роль бессознательного. Мы и сами порой говорим, что утро вечера мудренее, – всегда есть надежда найти во сне то решение, которое упорно ускользает наяву. Когда рассудок расслаблен и восприимчив, из глубинных слоев ума на поверхность поднимаются самые блестящие идеи. Об этом знал еще Архимед, открывший свой знаменитый закон лежа в ванне. Выдающиеся мыслители и ученые, как и мистики, должны стремиться в облако неведения и кромешную тьму мира нетварной реальности в надежде прорваться сквозь них. И до тех пор, пока они бьются с логикой и концепциями, им поневоле приходится оставаться взаперти, в стенах привычных идей и принципов мышления. Часто кажется, что научные открытия приходят откуда-то «извне», и тогда говорят о прозрениях и вдохновении. Эдуард Гиббон (1737–1794 гг.), питавший отвращение к религиозным восторгам, пережил свой миг озарения среди развалин Капитолия, после чего и написал знаменитую «Историю упадка и разрушения Римской империи». Рассуждая об этом случае, историк XX века Арнольд Тойнби называет переживание Гиббона «приобщением»: «он непосредственно сознавал, как История мягко пронизывает его в своем неукротимом течении и как его собственная жизнь плещется волной во всеобщем беспредельном потоке». Таким кратковременным наитиям, по окончательному выводу Тойнби, подобны «те переживания, которые сподобившиеся их редкие души именуют видениями райского блаженства»[528]. Альберт Эйнштейн тоже признавал, что мистицизм – это «сеятель любого настоящего искусства и науки»:
Знать, что недоступное нам действительно существует и проявляется перед нами как высшая мудрость и лучезарная красота, которую наши скудные умственные способности постигают лишь в простейших видах, – вот это знание, это чувство и лежит в основе любой подлинной религиозности. В этом и только в этом смысле я отношусь к числу искренне верующих людей[529].
Религиозное просветление, обретенное такими мистиками, как Бешт, в определенном отношении можно считать похожим на некоторые другие достижения эпохи Разума, поскольку оно помогало простым людям совершить переход в новый, современный мир.
В 80-е годы XVIII в. раввин Шнеур Залман из Ляды (1745–1813 гг.) выяснил, что эмоциональное богатство хасидизма вовсе не препятствует исканиям разума. Он заложил основы новой формы хасидизма, где мистицизм сочетался с рациональным созерцанием. Течение это получило название ХаБаД – по начальным буквам трех Божественных атрибутов: Хохма (Мудрость), Бина (Разум) и Даат (Знание). Как и ранние мистики, совмещавшие философию с религиозностью, Залман верил, что молитву должно предварять метафизическое умозрение, ибо последнее снимает ограничения рассудка. Методика Залмана начиналась с фундаментального для хасидов представления о том, что Бог пребывает во всем сущем, после чего мистик постигал путем диалектических рассуждений, что Бог – единственная реальность. «С точки зрения Бесконечного, будь Он благословен, все миры как бы буквально ничто и небытие», – пояснял Шнеур Залман[530]. Сотворенный мир не может существовать помимо своей животворящей силы – Бога. Лишь из-за ограниченности нашего восприятия мы думаем, будто вселенная существует сама в себе, но это заблуждение. И Бог – не трансцендентная сущность, пребывающая в ином измерении и отделенная от мира. Доктрина о трансцендентности Бога – просто еще одна ошибка, в которую впадает разум, неспособный вырваться за рамки органов чувств. Мистические приемы ХаБаД позволяли евреям превзойти чувственное восприятие и узреть вещи такими, какими их видит Бог. Невооруженному глазу представляется, будто в мире Бога нет, но каббалистическое созерцание разрушает преграды рациональных суждений и помогает найти Бога повсюду вокруг.
ХаБаД разделял характерную для эпохи Просвещения уверенность в том, что человеческий ум способен постигать Бога, однако в ХаБаД этого добивались освященным веками методом парадоксов и мистического сосредоточения. Как и Бешт, Шнеур Залман не сомневался, что узреть Господа может каждый; ХаБаД предназначается для всех, а не для редких избранных. Просветления способны достичь даже те, кто лишен выдающихся духовных дарований, хотя дело это, конечно, нелегкое. Как разъяснял в своем «Трактате о блаженстве» сын Залмана, раввин Дов-Бер (1773–1827 гг.) из Любавичей, начинать следует с душераздирающего осознания неадекватности. Тут мало одного лишь мысленного созерцания; умозрения должны сочетаться с самоанализом, изучением Торы и молитвами. Расставаться с предрассудками ума и воображения в отношении мироустройства весьма мучительно, и большинство людей отказывается от своих взглядов с неохотой. Однако, преодолев такой эгоцентризм, хасид постигает, что нет иной действительности, кроме Бога. Подобно суфиям, переходящим в состояние фана, хасид тоже погружается в блаженство. Баэр говорил, что так человек вырывается за рамки самого себя: «Все существо его растворяется настолько, что не остается более ничего, и он лишается какого-либо самосознания»[531]. Методика ХаБаД сделала каббалу инструментом психологического анализа и самопознания; она помогала хасидам нисходить, минуя сферу за сферой, в бездны своего внутреннего мира и еще дальше, к самой сердцевине собственного естества. Там и обретался Бог, единственно обладающий истинным бытием. Разум мог найти Бога путем воспитания рассудка и воображения, но здесь был не объективный Бог философов или таких естествоиспытателей, как Ньютон, а чисто субъективная действительность, неотделимая от сущности самого человека.
XVII и XVIII века были эпохой мучительных крайностей и духовных метаний, отражавших революционные волнения в политической и общественной жизни. В мусульманском мире тогда не происходило ничего подобного, хотя удостовериться в этом сложно, поскольку на Западе исламская мысль XVIII в. практически не изучалась. Вообще говоря, западные ученые забросили этот период исламской истории как малоинтересный; господствовало мнение, будто в ту пору, когда Европа переживала Просвещение, ислам пребывал в упадке. Однако с недавнего времени в этой упрощенной точке зрения усомнились. Исламский мир еще не до конца сознавал беспримерный характер западной цивилизации – несмотря на то, что Британия захватила власть в Индии еще в 1767 г. Вероятно, одним из первых новые веяния ощутил индийский суфий Шах Валиулла (1703–1762 гг.) из Дели. Этот выдающийся мыслитель с большим подозрением относился к идее слияния культур, но был убежден, что мусульмане должны объединиться, чтобы сберечь свое наследие. К шиизму он питал неприязнь, но полагал, что суннитам и шиитам все равно нужно искать общий язык. Помимо прочего, Валиулла пытался преобразовать шариат и приспособить его к изменившимся условиям жизни в Индии. Похоже, Валиулла предчувствовал грядущие последствия колониальной системы – его сын уже участвовал в джихаде против британцев. Религиозные воззрения Валиуллы были весьма консервативными. Он опирался прежде всего на идеи ибн ал-Араби: без Божьей помощи человек не в силах полностью развить свой потенциал. В вопросах веры мусульмане по-прежнему довольствовались своим богатым минувшим, и Валиулла – типичное проявление могущества, каким и в ту пору обладал суфизм. Впрочем, во многих уголках земли суфизм приходил в упадок, а новое, реформаторское течение в Аравии уже предвещало отход от мистицизма, который позднее, в XIX в., станет характерной чертой исламского мировосприятия и ответом мусульман на вызов, брошенный Западом.
Как и христианские реформаторы XVI столетия, Мухаммад ибн ал-Ваххаб (ум. в 1784 г.), законник из провинции Наджд на Аравийском полуострове, мечтал возродить изначальную чистоту ислама и избавиться от более поздних домыслов. Особое негодование вызывал у него мистицизм. Ал-Ваххаб осуждал любые намеки на инкарнационное богословие, в том числе поклонение суфиев святым, а шиитов – имамам. Ал-Ваххаб отвергал даже культ гробницы Пророка в Медине: по его мнению, ни один простой смертный, каким бы прославленным он ни был, не должен отвлекать внимание правоверных от Бога. Ал-Ваххабу удалось обратить в свою веру Мухаммада ибн Сауда, правителя небольшого княжества в Центральной Аравии, после чего они сообща начали реформы, целью которых было создание подобия первой уммы Пророка и его сподвижников. Реформаторы яростно карали за угнетение бедняков, равнодушие к вдовам и сиротам, безнравственность и идолопоклонство. Более того, они возглавили джихад против власти Оттоманской империи, поскольку считали, что управлять исламским народом должны арабы, а не турки. Преобразователям удалось отбить у оттоманов изрядную часть Хиджаза, и турки вновь вернули ее себе только в 1818 г. Так или иначе, новая секта оказала серьезное влияние на многих обитателей мусульманского мира. Особое впечатление она произвела на тех, кто совершал паломничества в Мекку: новое благочестие выглядело в ту эпоху намного свежее и крепче суфизма. В XIX столетии ваххабизм стал в исламе господствующим умонастроением; суфизм постепенно вытеснялся и вследствие этого даже стал еще более причудливым и суеверным. Вслед за христианами и иудеями мусульмане отступали от мистических идеалов и переходили к более рационалистическим формам веры.
А в Европе тем временем кое-кто уже начал отрекаться от самого Бога. Деревенский священник Жан Мелье, чья жизнь была образцом благочестия, умер в 1729 г. В полном безверии. Вольтер обнародовал его воспоминания, повествующие о презрении к человечеству и неспособности верить в Бога. Единственной вечной реальностью является, по мнению Мелье, ньютоновское бесконечное пространство, где нет ничего, кроме материи. Религия – лишь инструмент, с помощью которого богачи угнетают и обессиливают бедняков. Особенно же смехотворно христианство с его нелепыми доктринами Троицы и Вочеловечения.
Полное отрицание Бога было заявлением слишком решительным даже для философов. Вольтер опустил самые атеистические фрагменты воспоминаний Мелье и превратил этого священника в деиста. Однако к концу столетия уже появились философы, гордо именовавшие себя атеистами, хотя они долго оставались в несомненном меньшинстве. Так или иначе, это были совершенно новые веяния. До той поры слово «безбожник» было оскорблением, позорным намеком, которым клеймили недругов. Теперь же это звание носили как знак отличия. Шотландский философ Дэвид Юм (1711–1776 г.) довел обновленный эмпиризм до логического завершения: нет никакой нужды выходить за рамки научного объяснения действительности, а у философов нет никаких причин принимать на веру существование чего-либо, что пребывает за пределами чувственного восприятия. В «Диалогах о естественной религии» Юм расправился с тем доказательством существования Бога, которое исходило из устройства вселенной: довод этот опирался на несостоятельное суждение по аналогии. Можно, конечно, заявлять, будто наблюдаемая нами упорядоченность мира природы установлена неким разумным Творцом, но как тогда объяснить зло и очевидные проявления хаоса? На эти вопросы логика ответа не давала. «Диалоги» были написаны в 1750 г., но Юм, поразмыслив, так их и не опубликовал: примерно за год до того французского философа Дени Дидро (1713–1784 гг.) посадили в тюрьму именно за те же вопросы, поднятые в сочинении «Письмо о слепых в назидание зрячим», где вниманию широкой общественности впервые был представлен откровенный атеизм.
Сам Дидро отрицал свое неверие и говорил лишь, что ему все равно, есть на свете Бог или нет. Когда Вольтер выступил против его книги, Дидро ответил: «Я верю в Бога, хотя и с атеистами уживаюсь вполне недурно. […] Не перепутать петрушку с болиголовом – вот что по-настоящему важно, а веришь ты в Бога или не веришь – не имеет никакого значения». Дидро с безошибочной точностью ткнул в самое больное место: с тех пор как «Бог» перестал быть ярким субъективным переживанием, «Он» уже как бы и не существовал. Как отметил в том же письме Дидро, философам, которые никогда не вмешиваются в жизнь обычного мира, совершенно бессмысленно верить в Бога. Сокровенный Бог стал Deus Otiosus: «Существует Бог или нет, Он все равно давно вошел в число самых отвлеченных и бесполезных истин»[532]. Окончательный вывод Дидро полностью противоположен умозаключению Паскаля, рассуждавшего о ставке на одно или другое как о вопросе первостепенной важности, который недопустимо игнорировать. В своих «Мыслях об объяснении природы» (1746 г.) Дидро отбросил паскалевские «религиозные переживания» как понятие слишком субъективное: и Паскаль, и иезуиты с равной страстью помышляли о Боге, но их представления о Нем были совершенно разными. И что, спрашивается, нам выбрать? Такой «Бог» – не что иное, как temperament![533]
В ту пору, за три года до публикации «Письма о слепых», Дидро еще верил, что наука – и только наука – способна опровергнуть атеизм. Он разработал новое, довольно впечатляющее толкование доказательства от порядка мира: вместо созерцания беспредельной подвижности вселенной он предложил обратить взор на основополагающую структуру природы. Устройство зернышка, бабочки и любой другой живой твари слишком сложно, чтобы возникнуть по случайности. В «Мыслях» Дидро все еще полагал, будто существование Бога можно доказать умом. Ньютон в свое время избавился от всех предрассудков и нелепостей религии: «бог», занимающийся чудесами, мало чем отличается от гоблинов, которыми пугают детей.
Однако три года спустя Дидро подверг сомнению и выводы Ньютона. Дидро теперь был не столь уверен, что в окружающем мире можно найти свидетельства существования Бога. Более того, мыслитель уже ясно понимал, что Бог не имеет ничего общего с новой наукой. Конечно, эти революционные и взрывоопасные мысли он мог выразить только в беллетристической форме. В «Письме о слепых» Дидро описал воображаемый спор между вымышленным «мистером Холмсом», приверженцем Ньютона, и реальным Николасом Саундерсоном (1682–1739 гг.), покойным математиком из Кембриджа, который еще в раннем детстве лишился зрения. Устами Саундерсона Дидро спрашивает Холмса, как можно совместить доказательство от порядка с такими «чудовищами» и жертвами случая, как он сам, в ком увидишь что угодно, но только не разумное и доброе планирование:
Что такое наш мир, господин Холмс? Это сложное образование, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению; это быстрая смена существ, следующих одно за другим, сталкивающихся друг с другом и исчезающих; это мимолетная симметрия, быстротечный порядок[534].
Бог Ньютона и многих верных традиции христиан, который якобы несет ответственность буквально за все, что ни случается, – идея не только нелепая, но и зловещая. Вводить понятие «Бога» ради истолкования всего того, чему мы пока не в силах найти иного объяснения, просто нескромно. «Господин Холмс, друг мой, – призывает Саундерсон, – признайте сперва свое невежество…»[535].
Согласно Дидро, в идее Создателя нет никакой нужды. Материя – отнюдь не то бездеятельное, низменное вещество, какое видели в ней Ньютон и протестанты. У нее есть своя движущая сила, подчиняющаяся собственным законам. И именно эти законы материи – а вовсе не Божественный Механик, – определяют ту упорядоченность, которую мы, как нам кажется, видим. Нет ничего, кроме материи! Спиноза говорил, что нет иного Бога, кроме природы, но Дидро сделал еще один шаг вперед и заявил, что Бога нет, есть только природа. И в этом мнении он был не одинок: такие ученые, как Абрахам Трембли и Джон Тербервил Нидхем, к тому времени уже открыли принцип порождающей материи, который применялся теперь как гипотеза в биологии, микроскопии, зоологии, естественной истории и геологии. Тем не менее лишь редкие люди были готовы к окончательному расставанию с Богом. Даже те философы, что часто бывали в салоне барона Поля Анри Гольбаха (1723–1789 гг.), не решались открыто признать свое неверие, хотя и предавались откровенным и дерзким дискуссиям. В результате этих споров на свет появилась книга Гольбаха «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» (1770 г.), ставшая впоследствии библией атеистического материализма. Нет ничего сверхъестественного, есть только природа, которая, как утверждал Гольбах, «является лишь длинной цепью причин и следствий»[536]. Верить в Бога означает обманывать себя и отрицать свой подлинный опыт. Наконец, это просто акт отчаяния. Религия создала богов, потому что люди не могли найти другого утешительного объяснения трагичности своего существования в этом мире. И тогда, в попытках добиться хотя бы вымышленного ощущения собственной власти, они обратились к воображаемому покою религии и философии. Люди стремились умилостивить ту «силу», которая, по их представлениям, крылась где-то за кулисами событий и могла защитить от страха и бедствий. Аристотель ошибался: философия – вовсе не следствие благородной тяги к познанию, но, напротив, трусливая надежда избежать боли. Таким образом, именно невежество и страх были колыбелью религии, а нынешнему просвещенному, зрелому человеку пора из нее выбираться.
Гольбах предпринял попытку составить свою историю Бога. Первые люди поклонялись силам природы, и этот примитивный анимизм был вполне приемлем, поскольку не выходил за рамки нашего мира. Проблемы начались с тех времен, когда люди принялись наделять Солнце, ветер или море чертами человеческого характера, то есть творить богов по своему образу и подобию. Наконец, все эти божки слились в одно колоссальное Божество, в котором нет ничего, кроме проекций человеческой психики и массы противоречий. На протяжении долгих столетий поэты и богословы занимались не чем иным, как созданием
гигантского, чрезмерно увеличенного человека, имеющего фантастический характер ввиду совмещения в нем противоположных качеств: Бог всегда окажется каким-то до невероятности колоссальным, а потому совершенно непостижимым существом[537].
История свидетельствует, что примирить так называемую благость Божью с Его всемогуществом принципиально невозможно. Идея Бога обречена на гибель, поскольку полна противоречий. Философы и ученые делали все что могли, чтобы сохранить ее, но добились не большего, чем богословы и поэты. «Hautes perfections»[538], которые Декарт якобы доказал, – лишь плод его воображения. Даже великий Ньютон был «раб своих детских предрассудков»[539]. Он открыл абсолютное пространство и из ничего создал Бога, представляющего собой просто «un homme puissant»[540] – непобедимого деспота, который терроризирует придумавших его людей и низводит их до положения рабов.
К счастью, эпоха Просвещения принесла человечеству возможность избавиться от этой инфантильности. Скоро наука полностью заменит религию. «Если незнание природы породило богов, то познание ее должно их уничтожить»[541]. Нет на свете ни высших истин, ни великого замысла, ни сокровенного промысла. Есть только сама природа:
…природа существует сама по себе, действует в силу собственной энергии и никогда не подвергнется уничтожению. Скажем, что материя вечна и природа всегда была, есть и будет той силой, которая производит и уничтожает, порождает и разрушает вещи, следуя законам, вытекающим из ее необходимого существования[542].
Идея Бога, следовательно, не просто излишня, но и безусловно вредоносна. В конце столетия Пьер-Симон де Лаплас изгнал Бога из физики. Солнечная система оказалась десятком планет и свечением, исходящим от Солнца и постепенно слабеющим. Когда Наполеон спросил: «И кто же создатель всего этого?», Лаплас ответил просто: «Je n'avais pas besoin de cette hypothese-la».
Приверженцы всех трех религий Единого Бога долгие века твердили, что Бог – не просто некое сущее в иерархии бытия. Его бытие принципиально отличается от существования прочих наблюдаемых явлений. Тем не менее христианские богословы Запада привыкли говорить о Боге так, словно Он действительно одна из вещей, существующих в обычном смысле слова. В своем стремлении доказать объективную действительность Бога они ухватились даже за новую науку – как будто Божество, как все остальное, можно анализировать и подвергать экспериментам. Дидро, Гольбах и Лаплас перевернули эти надежды вверх дном и пришли к тому же заключению, какое давно сделали самые радикальные мистики: там, в запредельном, нет ничего. А вскоре после этого другие ученые и философы ликующе заявили, что Бог вообще умер.
10. Бог умер?
К началу XIX в. атеизм определенно был на повестке дня. Успехи науки и технологии внушали людям дух самостоятельности и независимости, вследствие чего кое-кто объявил, что не зависит и от Бога. Именно в эту пору Людвиг Фейербах, Карл Маркс, Чарльз Дарвин, Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд выстраивали новые философские и научные интерпретации действительности, где Богу просто не было места. В конце столетия многие уже чувствовали, что если Бог и не умер, то обязанность человека мыслящего и свободного – уничтожить Его. Идея Бога, которую веками лелеяли на христианском Западе, выглядела теперь катастрофически отсталой. Эпоха Разума, казалось, полностью восторжествовала над долгими столетиями суеверий и фанатизма. Но так ли обстояли дела в действительности? Запад целиком перехватил мировую инициативу, и его деятельность скоро повлечет роковые последствия для иудеев и мусульман, которым поневоле придется пересмотреть прежние взгляды.
Многие идеологии, отвергавшие идею Бога, выглядели вполне разумными. Очеловеченный, наделенный личностью Бог западного христианства действительно стал весьма уязвимым. Во имя Его прежде совершались самые ужасные преступления. Тем не менее Его кончина вовсе не воспринималась как счастливое избавление и сопровождалась сомнениями, страхом, а в некоторых случаях и мучительными конфликтами. Бога пытались сберечь, спасти от неумолимого эмпирического мышления с помощью новых богословских систем, но атеизм неуклонно завоевывал все большее признание.
Культ разума вызвал и реакцию противодействия. Поэты, романисты и философы романтического направления отмечали, что идущий напролом рационализм обедняет духовную жизнь, мешает игре воображения и интуитивным прозрениям. Некоторые попытались толковать догмы и таинства христианства в мирском смысле; такое модифицированное богословие превращало давние сюжеты ада и рая, нового рождения и искупления в символические обороты мысли, соответствующие интеллектуальному уровню нового времени и лишенные связи с потусторонней Реальностью. Одним из главных движущих мотивов такой “естественной сверхъестественности”, как назвал ее американский литературный критик Абрамс[543], является творческое воображение. Предполагается, что обладающий этим свойством разум способен обращаться с внешней действительностью так, что в результате возникают новые истины. Английский поэт Джон Китс (1795–1821 гг.) выразил эту мысль очень емко: «Воображение – как сон Адамов: просыпаешься, а сон уже сбылся». Китс имел в виду историю создания Евы в милтоновском «Потерянном рае»: увидев во сне еще не сотворенную женщину, Адам проснулся и узнал ее в появившейся рядом Еве. В том же письме Китс назвал воображение священным даром: «Ни в чем я так не уверен, как в святости сердечных переживаний и правдивости воображения – ведь то, что в воображении прекрасно, непременно истинно, и неважно, существовало оно прежде или нет»[544]. В этом творческом процессе рассудок играет лишь ограниченную роль. Китс описал также особое состояние ума, которое он назвал негативной способностью («Negative Capability»), «когда человек способен пребывать среди неопределенностей, загадок и сомнений без раздражающей тяги к фактам и осмысленности»[545]. Как и мистик, поэт должен вознестись выше рассудка и замереть в безмолвном ожидании.
Примерно так же описывали свое восприятие Бога средневековые мистики. Ибн ал-Араби даже говорил, что воображение творит в глубинах души собственное ощущение несотворенной реальности Бога. И хотя Китс весьма критично относился к Вордсворту, который наряду с Кольриджем был пионером романтизма в Англии, вера в воображение очень роднила этих поэтов. Лучшие стихи Вордсворта славят союз человеческого разума с миром природы, их взаимное влияние, итогом чего становятся новые прозрения и смыслы[546]. Вордсворт сам был мистиком, и его переживания во время созерцания природы подобны ощущению Божественного. В «Строках, написанных на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства» он описывает восприимчивое состояние ума, которое приводит к экстатическому видению действительности:
…Иным я, высшим даром я обязан, Блаженным состояньем, при котором Все тяготы, все тайны и загадки, Все горькое, томительное бремя Всего непознаваемого мира Облегчено покоем безмятежным, Когда благие чувства нас ведут, Пока телесное дыханье наше И даже крови ток у нас в сосудах Едва ль не прекратится – тело спит, И мы становимся живой душой, А взором, успокоенным по воле Гармонии и радости глубокой, Проникнем в суть вещей[547].Такое видение зарождается от сердца и наклонностей, а не от того, что Вордсворт называл «докучливым умом»: аналитическая сила ума грозит погубить интуитивные озарения. Людям не нужно учиться по книгам и теориям. Все, что нужно, – это «мудрая пассивность» и «сердце, что внемлет и приемлет»[548]. Прозрения начинаются с субъективных переживаний – однако переживаний «мудрых», а не безрассудных и самодовольных. Как сказал бы Китс, истина не осуществится до тех пор, пока не ощутишь ее всем телом и не впитаешь в сердце со всей страстью.
Вордсворт особо выделял «дух», который пронизывает все природные явления, но в то же время принципиально от них отличается:
…Я ощущаю Присутствие, палящее восторгом, Высоких мыслей, благостное чувство Чего-то, проникающего вглубь, Чье обиталище – лучи заката, И океан, и животворный воздух, И небо синее, и ум людской — Движение и дух, что направляет Все мыслящее, все предметы мыслей, И все пронизывает[549].Впоследствии философы (в частности, Гегель) обнаружат тот же дух в исторических событиях. Вордсворт предусмотрительно не придает своим переживаниям традиционной религиозной окраски, хотя в других случаях – особенно в этическом контексте – рассуждает о «Боге» довольно охотно[550]. Английские протестанты были практически незнакомы с Богом мистиков, отвергнутым реформаторами. Бог обращался к человеческой совести посредством чувства долга; так Он вносил поправки в веления души, но все же имел мало общего с тем «присутствием», которое Вордсворт ощущал в Природе. Всегда стремящийся к точности выражения, поэт называет его только «чем-то» – словом, которое чаще всего используют для замены конкретных определений. Применяя его для описания духа, Вордсворт с поистине мистическим агностицизмом отказывается дать духу название, ибо духу не соответствует никакая известная категория.
Другой поэт-мистик той эпохи был настроен более апокалиптически и объявил, что Бог умер. В ранних стихах Уильям Блейк (1757–1827 гг.) опирался на диалектический подход: диаметрально противоположные на первый взгляд понятия «неведения» и «познания» становятся у Блейка «полуправдами» о более сложной действительности. Эту уравновешивающую антитезу, характерную для рифмованной английской поэзии Века Разума, Блейк преобразовал и приспособил как метод формирования личного, субъективного видения. В «Песнях Неведения и Познания» показано, что эти противоположные состояния человеческой души в равной мере несовершенны, пока не сливаются воедино: неведение должно стать познанием, а познание – низвергнуться в бездну, чтобы возродиться затем как истинное неведение. Поэт становится пророком, чье «слово было, есть и будет»; он вслушивается в Слово Творца, испокон веков обращенное к человечеству:
Заблудшие души Оно зовет, Вопия над росой вечерней, А черн небосвод — Вновь звезды зажжет, Мир вырвет из тьмы дочерней![551]Подобно гностикам или каббалистам, Блейк предвидел состояние абсолютного грехопадения, причем ни одна истина не откроется человеку, пока тот не постигнет низости своего положения. Вслед за мистиками прошлого, Блейк воспользовался идеей Грехопадения как символом того, что непрестанно происходит в окружающей нас повседневной действительности.
Это был бунт Блейка против воззрений эпохи Просвещения, которая стремилась упорядочить истину. Бунт был направлен и против Бога христиан, лишившего людей человечности. Этот Бог провозглашал совершенно неестественные законы, подавлял сексуальность, свободу воли и радостную непосредственность. В стихотворении «Тигр» Блейк протестует против «устрашающей безупречности» этого бесчеловечного Бога, пребывающего далеко-далеко от нашего мира, в несказанных «небесах или глубинах». Тем не менее и чужеродный Создатель Мира претерпевает в стихах поэта серьезные изменения. Богу Самому приходится низвергнуться в наш мир и погибнуть в облике Иисуса[552]; Он даже становится Сатаной, врагом рода человеческого. Как гностики, каббалисты и ранние триипостасники, Блейк описывает кенозис – самоопустошение Божества, падающего со Своих пустынных небес и воплощающегося в нашем мире. Больше в мире нет отдельного божества, требующего, чтобы люди подчинялись каким-то внешним и чуждым законам. Нет больше ничего человеческого, что было бы чуждо Богу, и даже сексуальность, так долго подавлявшаяся Церковью, проявляется отныне в страстности самого Иисуса. Бог добровольно погиб в Иисусе, и потому запредельного, безучастного Бога уже нет. И когда завершится смерть этого Бога, наступит время Божества с Человеческим Лицом:
Сказал Иисус: «Можешь ли ты любить того, кто за тебя не умер, Или даже умереть за того, кто за тебя не умер?» И если бы Бог не умер за человека и не отдал себя навечно за человека, Человек не смог бы существовать; ибо человек есть любовь, Как и Бог есть любовь: всякая доброта к другому есть маленькая смерть В божественном образе, и человек не может существовать иначе как в братстве[553].Блейк восстал против Церкви как институции, хотя некоторые богословы предпринимали попытки совместить романтические идеалы с традиционным христианством. Им идея далекого, недосягаемого Бога тоже казалась и чудовищной, и неверной. Значительно важнее, по их мнению, были субъективные религиозные переживания. В 1799 г., через год после выхода в свет совместного сборника Вордсворта и Колриджа «Лирические баллады», Фридрих Шлейермахер (1768–1834 гг.) опубликовал в Германии собственный манифест романтизма – работу «Речи о религии». Догматы, по его мнению, это не «факты» о Божестве, но лишь «изложенное словами извещение о христианских религиозных чувствах»[554].
Религиозную веру невозможно ограничить исповеданием догматов, ибо она также подразумевает эмоциональное восприятие и душевную самоотдачу. Мысль и рассудок занимают в ней свое место, но лишь в известных границах. И после того, как достигнуты пределы возможности рассудка, дальнейший путь к Абсолюту проходит только через чувства. Говоря о «чувствах», Шлейермахер подразумевал не слезливую сентиментальность, а наитие, манящее людей в бесконечность. Чувства не противостоят рассудку, однако скачки воображения переносят человека от частностей к восприятию всего целого. Обретаемое при этом ощущение Божества восходит из глубин души самого человека, то есть не связано с постижением некоего объективного Факта.
Еще со времен Фомы Аквинского западная теология придавала чрезмерное значение рациональности, и позже, начиная с эпохи Реформации, эта тенденция неуклонно усиливалась. Романтическое богословие Шлейермахера стало попыткой восстановить утраченное равновесие. Он ясно показал, что чувства как таковые не являются конечной целью и сами по себе еще не определяют религию. И чувства, и рассудок стремятся превзойти себя, вырваться к неизъяснимой Реальности. Сущность религии, по словам Шлейермахера, это «чувство полной зависимости»[555]. Как мы вскоре увидим, прогрессивные мыслители XIX в. предадут подобные состояния анафеме, хотя Шлейермахер отнюдь не имел в виду раболепное подобострастие перед Богом. В контексте его книги это высказывание означает чувство почтительности, переполняющее нас при созерцании загадки живого. Источником этого благоговения является общечеловеческий опыт таинственного. У израильских пророков оно проявлялось как глубокое потрясение, вызванное откровением Святости. Такие романтики, как Вордсворт, испытывали подобное благоговение по отношению к духу, пронизывающему всю Природу, и тоже ощущали зависимость от него. Рудольф Отто, блистательный последователь Шлейермахера, исследовал эти ощущения в обстоятельной работе «Идея святости», где показал, что при столкновении с Трансцендентным человек сразу перестает мнить себя альфой и омегой бытия.
К концу жизни Шлейермахер, должно быть, понял, что преувеличивал значимость чувств и субъективности. Он сознавал, что христианство постепенно выходит из моды: некоторые доктрины были явным заблуждением и делали христианскую веру в целом весьма беззащитной перед скептицизмом эпохи. Доктрина Троицы, к примеру, вызывала впечатление троебожия. Альбрехт Ритчль (1822–1889 гг.), ученик Шлейермахера, видел в ней несомненное влияние эллинизма: язычество извратило христианское провозвестие, дополнив его чужеродным «слоем метафизических понятий, почерпнутых из натурфилософии греков»[556], которая не имеет ничего общего с изначальным христианством. Однако и Шлейермахер, и Ритчль игнорировали тот факт, что каждое поколение создает с помощью воображения свои представления о Боге – подобно тому как каждый поэт-романтик переживает истину собственным сердцебиением. Греческие отцы церкви просто пытались приспособить семитскую концепцию Бога к своим воззрениям, передать их на языке своей культуры. Когда Запад вступил в современную техническую эру, давняя идея Бога, разумеется, уже перестала соответствовать потребностям эпохи. Тем не менее Шлейермахер до самой своей кончины настаивал на том, что религиозные чувства не противопоставлены рассудку. На смертном одре он сказал: «Мне довелось обдумывать самые глубокие умозрительные идеи, и эти размышления пребывали в полной гармонии с самыми сокровенными религиозными чувствами»[557]. Любые концепции Бога бесполезны, пока не претерпевают творческого преображения под влиянием чувств и глубоко личных религиозных переживаний.
В течение XIX в. видные философы один за другим подвергали сомнениям традиционные представления о Боге – по меньшей мере, о том «Боге», в которого верили на Западе. Мыслителей особенно раздражала идея сверхъестественного, недоступного, но объективно сущего божества. Хотя на Западе восторжествовала концепция Бога как Высшего Существа, нам уже известно, что другие монотеистические традиции после долгого развития отказались от подобного богословия. Иудеи, мусульмане и православные своим путем пришли к выводу, что наши человеческие представления о Боге не имеют ничего общего с той невыразимой Реальностью, которую символизируют. Все они, хотя и в разное время, решили, что Бог – это, скорее, «Ничто», чем «Нечто» существующее, поскольку «Его» бытие отличается от всего, что мы способны вообразить. За долгие столетия Запад постепенно утратил эти творческие представления о Боге. Католики и протестанты привыкли считать «Его» Сущностью, еще одной реалией в рамках известного нам мира, взирающей на дела смертных наподобие небесного «Большого Брата». Неудивительно, что в постреволюционном мире подобная концепция Бога перестала устраивать многих людей, ибо обрекала всех на раболепное служение и низменную зависимость, несовместимые с человеческим достоинством. Мятеж философов-атеистов XIX в. против такого Бога имел очень веские основания. Их критический подход воодушевил многих современников: на первый взгляд, мыслители высказывали принципиально новые идеи, однако, рассуждая о проблеме «Бога», нередко повторяли, не ведая того, давно забытые прозрения монотеистов минувшего.
Так, Георг Вильгельм Гегель (1770–1831 гг.) разработал философию, которая в определенном смысле оказалась поразительно схожей с каббалой. По иронии судьбы, сам философ считал иудаизм неразвитой верой, которая, на его взгляд, как раз и несла ответственность за примитивные представления о Боге, причинившие в прошлом немало бед. По мнению Гегеля, древнееврейский Бог был своевольным тираном, требовавшим от всех безусловного подчинения Своему неумолимому Закону. Иисус пытался освободить людей от столь постыдной покорности, но христиане угодили в ту же западню, куда прежде попали евреи, и тоже возвеличили Божественного Деспота. Теперь, однако, настало время отбросить это варварское божество и перейти к более светлым представлениям о человеческих возможностях. Необоснованное мнение Гегеля об иудаизме, восходящее к новозаветной полемике, отражало новую, «метафизическую» разновидность антисемитизма. Подобно Канту, Гегель считал иудаизм средоточием всех ошибок, какие только можно совершить в религии. В «Феноменологии духа» (1807 г.) он подменил идею Духа – живительной силы, наполняющей весь мир, – общепринятой идеей божества. Тем не менее его Дух, как и в каббале, желает страдать, переносить ограничения и изгнание – ради того, чтобы достичь подлинной духовности и осознать себя. Сходство с каббалой заключалось и в том, что осуществление Духа пребывало в зависимости от мира и человека. Таким образом, Гегель подтвердил давнее монотеистическое прозрение, к которому приходили и в христианстве, и в исламе: «Бог» неотделим от повседневной действительности – измерения, которое само по себе является лишь необязательным дополнением Царства Божьего, – и неразрывно связан с людьми. Как и Уильям Блейк, Гегель выражает эту мысль диалектически: человек и Дух, конечное и беспредельное, представляют собой две стороны единой истины; они взаимозависимы и погружены в один и тот же процесс самоосуществления. Следуя этой логике, Гегель объявил, что нелепо умиротворять какое-то далекое божество соблюдением странного и тягостного Закона, ведь божественное – это одно из измерений человеческого. В целом, гегелевская идея кенозиса Духа, который опустошает Себя, чтобы стать имманентным и воплощенным в нашем мире, имеет много общего с богословиями Вочеловечения, возникавшими во всех трех религиях единобожия.
Гегель, впрочем, был не только романтиком, но и преемником эпохи Просвещения и ценил рассудок больше, чем воображение. В этом он тоже безотчетно перекликался с прозрениями минувших веков. Как и для файласуфов, для него разум и философия были выше веры, завязшей, по его мнению, на уровне репрезентативного мышления. Сходство с файласуфами проявилось и в том, что Гегель строил свои выводы об Абсолюте исходя из деятельности человеческого разума: по его представлению, ум человека вовлечен в диалектический процесс, в котором отражается все сущее.
Артуру Шопенгауэру (1788–1860 гг.) гегельянство казалось философией до смешного оптимистичной. В 1819 г., когда была опубликована его работа «Мир как воля и представление», он демонстративно устраивал свои лекции в Берлине одновременно с выступлениями Гегеля. По мнению Шопенгауэра, нет ни Абсолюта, ни Разума, ни Бога, ни Духа – ничего, кроме животной, инстинктивной воли к жизни. Эта безрадостная модель соответствовала темным сторонам романтизма. Шопенгауэр не отбрасывал, впрочем, всех религиозных прозрений; он полагал, что индуизм, буддизм и те христианские секты, что утверждали тщету всего, пришли к истинным концепциям мироздания, поскольку заявляли, что все на свете – иллюзия. Так как никакой «бог» нас не спасет, то определенное успокоение приносят только искусство, музыка и дисциплина самоотречения и сострадания. Иудаизм и ислам Шопенгауэр не удостоил вниманием, ибо эти религии, на его взгляд, суть не более чем до нелепости примитивные и однобокие толкования истории. В этом отношении философ проявил незаурядную прозорливость: мы скоро убедимся, что в двадцатом столетии иудеи и мусульмане действительно обнаружат, что их прежние представления об истории как богоявлении не выдерживают новейшей критики. Вообще говоря, очень многие не верили больше в Бога как Владыку Истории. Тем не менее представления Шопенгауэра о спасении были очень схожи с иудейскими и исламскими идеями: каждый человек должен сам воспитывать в себе чувство высшего смысла жизни. Так или иначе, теория Шопенгауэра не имела ничего общего с протестантской концепцией абсолютной власти Бога, из которой следовало, что люди ничего не в силах сделать для своего спасения и судьба человека целиком зависит от воли недоступного божества.
Все эти устаревшие учения о Боге все чаще подвергались беспощадной критике, которая разоблачала их изъяны и ошибки. Датский философ Серен Кьеркегор (1813–1855 гг.) заявлял, что давние верования и доктрины становятся идолами, превращаются в самоцель и подменяют невыразимую Божественную реальность. Мир утратил истинную христианскую веру – она не выдержала бремени окаменелых предрассудков и устаревших понятий. Другие мыслители между тем стремились привлечь внимание человека к материальному миру и отказаться от представлений о Высшей Альтернативе. Немецкий философ Людвиг Фейербах (1804–1872 гг.) доказывал в своей известной работе «Сущность христианства» (1841 г.), что Бог – просто вымышленная проекция человека. Идея Бога отдалила людей от их собственной природы, так как противопоставила нашим неизбежным слабостям некое недостижимое совершенство: Бог беспределен, а человек ограничен; Бог всемогущ, а человек слаб; Бог свят, а человек грешен. Фейербах нащупал один из главных недостатков западного христианства, потенциально опасных для любой монотеистической религии: те приписываемые Богу свойства, которые выводят Его за рамки человеческого, способствуют сотворению идола. В других традициях нашлись самые разнообразные средства, ограждавшие от этой опасности; на Западе же, к сожалению, Бог действительно все больше перемещался в сферу внешнего, объективного существования, чем и обусловлено было утверждение крайне нелестных представлений о природе человека. Еще со времен Августина чрезмерное внимание стало уделяться греховности, чувству вины и изнурительной борьбе, чего не было, например, в греко-православном богословии. Неудивительно, что такие философы, как Фейербах или Огюст Конт (1789–1857 гг.), относившиеся к человечеству более положительно, стремились избавиться от божества, которое в прошлом отнимало у людей веру в самих себя.
Атеизм всегда представлял собой отрицание современных ему представлений о Божественном. Иудеев и христиан часто называли безбожниками лишь за то, что они отвергали языческую картину мироздания, хотя тоже верили в Бога. Атеисты XIX в. яростно восставали именно против частной концепции Бога, характерной в ту пору для Запада, а не против всякой веры в Божественное. Так, например, Карл Маркс (1818–1883 гг.) видел в религии «вздох угнетенной твари […] опиум для народа»[558]. Несмотря на то что у Маркса был мессианский подход к истории, который во многом опирался на иудео-христианскую традицию, философ отбросил идею Бога как излишнюю. Поскольку вне исторического процесса нет ни смысла, ни цели, ни ценности, идея Бога человеку просто не нужна. Атеизм, опровержение существования Бога, – это, разумеется, тоже пустая трата времени. Тем не менее Марксова критика существенно уязвляла «Бога», которого власть предержащие нередко использовали, чтобы обосновать установленный общественный уклад, где место богача – во дворце, а бедняка – за воротами. Впрочем, так было далеко не во всех религиях единобожия. Бог, потворствующий социальной несправедливости, возмущал в свое время и Амоса, и Исайю, и Мухаммада: их представления о Боге преследовали совершенно противоположные – и во многом сходные с марксистскими – идеалы.
Подобным же образом, буквальное понимание идеи Бога и слов Св. Писания привело к тому, что веру многих христиан сильно подрывали передовые научные открытия. «Основы геологии» Чарльза Лайеля, опубликованные в 1830–1833 гг., явили широкую перспективу смены геологических эпох, а в «Происхождении видов» (1859 г.) Чарльз Дарвин выдвинул гипотезу эволюции, которая на первый взгляд прямо противоречила библейскому преданию о сотворении мира. После Ньютона вопросы сотворения мира заняли в западных представлениях о Боге одно из центральных мест, и верующие как-то позабыли, что библейское повествование никогда не предполагало буквального толкования, то есть вовсе не замышлялось как фактический отчет о возникновении вселенной. Действительно, главные сложности доктрины сотворения ex nihilo были выявлены давно, а проникла она в иудаизм и христианство сравнительно поздно. Что касается ислама, то там сотворение мира Аллахом сомнениям не подвергалось, но никто всерьез не задумывался о том, как именно оно протекало. Как и все прочие изречения Корана в отношении Бога, доктрина сотворения была лишь «знамением» – притчей, символом. Монотеисты всех трех религий считали картину сотворения мифом в самом хорошем смысле этого слова. Для них это был символический рассказ, помогавший воспитывать в душах верующих надлежащее религиозное настроение. Некоторые иудеи и мусульмане умышленно строили воображаемые толкования истории сотворения мира, в которых решительно отступали от буквального понимания Писания. Однако на Западе люди склонны были свято верить в фактическую правдивость каждого слова Библии. Многие полагали, будто Бог действительно, в совершенно буквальном смысле, несет ответственность за все, что случается на свете, – примерно так же как мы, когда изготовляем вещи или определяем ход тех или иных событий.
Многие христиане, впрочем, сразу поняли, что открытия Дарвина вовсе не опровергают идею Бога. В целом, христианству удалось приспособиться к теории эволюции, а иудеев и мусульман новейшие научные открытия, связанные с происхождением жизни, вообще никак не обеспокоили – в отношении Бога их волновали совершенно иные проблемы, о которых мы скоро поговорим. Тем не менее по мере укрепления западного атеизма его идеи все-таки воздействовали и на другие религии. На Западе и сейчас преобладает буквалистское понимание Бога, поэтому многие люди – самых различных убеждений – даже не сомневаются, что современная космология нанесла идее Бога смертельный удар.
На протяжении всей истории общество отбрасывало устаревшие, недееспособные концепции Бога. Порой это обновление принимало вид иконоборчества – как, например, в тех случаях, когда израильтяне разрушали ханаанские капища, а их пророки отпускали колкости в адрес соседей-язычников. К подобной агрессивной тактике в 1882 г. прибегнул Фридрих Ницше, заявив, что Бог умер. Весть об этом катаклизме огласил в его притче безумец, который однажды утром ворвался на рынок с криками «Я ищу Бога! Я ищу Бога!». Когда прохожие презрительно поинтересовались, куда же, по его мнению, подевался Бог – может, спрятался или просто переехал? – безумец окинул их свирепым взглядом. «Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы!» Столь невероятное и необратимое событие оторвало человечество от его корней, сдвинуло Землю с орбиты и пустило ее в бесцельный полет по неведомым дебрям вселенной. Все, в чем люди прежде видели указатели направления, исчезло без следа. Смерть Бога вызвала беспримерное отчаяние и панику. «Есть ли еще верх и низ? – вопил от горя безумец. – Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто?»[559]
Ницше понял, что в мышлении Запада произошел радикальный сдвиг, и теперь людям все труднее верить в феномен, именуемый «Богом». И причина была не только в том, что наука опровергла буквальное понимание библейской истории сотворения мира: возросшая власть человека делала отныне неприемлемой саму идею Божественного Надзирателя. Люди чувствовали, что близится заря чего-то нового. В притче Ницше безумец пророчил, что смерть Бога – преддверие доселе неслыханного, высшего витка человеческой истории. Чтобы оправдать богоубийство, людям самим придется стать богами. В книге «Так говорил Заратустра» (1883 г.) Ницше провозгласил рождение Сверхчеловека, который сменит Бога. Новый, просветленный человек объявит войну ветхим христианским ценностям, подавит низменные нравы толпы и возвестит появление обновленного, могущественного человечества, лишенного христианских слабостей – добродетелей любви и сострадания. Помимо прочего, Ницше обратился к древнему мифу о вечном возвращении и возрождении, встречающемуся в таких религиях, как буддизм. Теперь, когда Бог мертв, главной ценностью на свете становится наш, земной мир. Что ни случается, непременно повторится; что ни увянет, обязательно вновь расцветет; что ни разрушится, опять воссоединится. Наш мир – вот что следует чтить как вечное и божественное, хотя прежде эти свойства приписывали только далекому и запредельному Богу.
Христианский Бог, по словам Ницше, ничтожен, нелеп и вообще является «возражением жизни»[560]. Этот Бог вынудил людей стыдиться своего тела, своих чувств и полового влечения; Он навязал людям скулящую мораль сострадания, которая сделала их слабыми. Никакого высшего смысла и цели нет, и люди просто не имеют права потворствовать вымыслам вроде «Бога». Следует отметить, что и в этом случае критика западных представлений о Боге вполне справедлива: Он действительно отдалял людей от природы и, прежде всего, от полового влечения, требуя противоестественного воздержания. Более того, Его превратили в удобную панацею, альтернативу нелегкой земной жизни.
Зигмунд Фрейд (1856–1939 гг.) не сомневался, что вера в Бога есть некая иллюзия, которую зрелые люди отбрасывают. Идея Бога – не ложь, а следствие работы подсознания, и потому ее должна изучать психология. Бог-личность – не что иное, как обожествленная фигура отца. Тяга к такому божеству объясняется младенческим желанием иметь сильного отца-защитника, а также мечтой о справедливости, честности и бесконечно долгой жизни. Бог – лишь проекция наших желаний и страхов; люди поклоняются богам по причине врожденного ощущения собственной беспомощности. Религия предназначена для поры младенчества и потому была совершенно необходимой на этапе перехода человечества от детства к зрелости. В частности, религия способствовала укреплению этических ценностей, чрезвычайно важных в общественной жизни. Однако теперь человечество повзрослело, и пришло время расставаться с верой в Бога. Отныне Его место может занять новый Логос – наука. Именно она станет новой основой нравственности и поможет людям совладать со своими страхами. Фрейд явственно подчеркивал свою твердую, почти религиозную по накалу, веру в науку: «Нет, наша наука не иллюзия. Иллюзией, однако, была бы вера, будто мы еще откуда-то можем получить то, что она неспособна нам дать»[561].
С представлениями Фрейда о Боге были, впрочем, согласны далеко не все психоаналитики. Альфред Адлер (1870–1937 гг.) допускал, что Бог – проекция психики, но не сомневался, что проекция эта приносит людям большую пользу. По его мнению, Бог – яркий и действенный символ совершенства. У Карла Юнга (1875–1961 гг.) Бог похож на Бога мистиков – это психологическая истина, субъективно ощущаемая каждой личностью. В ходе знаменитого интервью «Лицом к лицу» Джон Фриман спросил у Юнга, верит ли тот в Бога, и Юнг ответил с жаром: «Мне нет нужды верить – я знаю!» Тот факт, что Юнг сберег веру, позволяет предположить, что субъективный Бог, таинственным образом тождественный основаниям бытия в глубинах психики, способен пережить натиск психоаналитической науки – в отличие от обладающего личностными чертами, антропоморфного божества, которое и правда навязывает людям вечную незрелость.
Как и многие другие люди Запада, Фрейд, похоже, даже не задумывался, что Бог может быть внутренним, субъективным. Тем не менее ученый проницательно подметил, что упразднять религию довольно опасно. Со временем люди сами перерастут Бога, а до той поры насаждать атеизм или отделять Церковь от государства нельзя – это может вызвать невротическое отрицание и подавление. Мы уже убедились, что иконоборчество бывает следствием потаенных тревог и переноса собственных страхов на нечто «внешнее». У некоторых атеистов, мечтавших избавиться от Бога, определенно проявлялись признаки душевного напряжения. Шопенгауэр отстаивал этику сострадания, но сам, несмотря на это, так и не смог найти общего языка с окружающими, жил взаперти и единственным его другом был пудель по кличке Атман. Ницше был человеком отзывчивым, очень одиноким и страдал целым букетом тяжелых болезней – в общем, являл собой прямую противоположность своего Сверхчеловека. К концу жизни он сошел с ума. С Богом Ницше расставался отнюдь не смеясь, как может показаться из его произведений. В стихах, родившихся «после продолжительного дрожанья, подергиваний и извиваний», Заратустра умоляет Бога вернуться:
Вернись! Со всеми твоими муками! К последним из всех одиноких, о, вернись! Все мои слезы текут к тебе! И мое последнее сердечное пламя вспыхивает для тебя! О, вернись, мое неизвестное божество! мое страдание, мое последнее счастье!..[562]Теории Ницше (как и Гегеля) были использованы последующими поколениями немцев как оправдание политики национал-социализма – еще одно напоминание о том, что не только идея «Бога», но и атеистическая идеология способна породить мораль «крестоносцев».
На Западе Бог всегда был связан с борьбой, и кончина Его тоже сопровождалась муками, безысходностью и смятением. В «In Memoriam», великой викторианской поэме о сомнениях, Альфред Теннисон в ужасе отшатывается от картины бесцельной, равнодушной природы с багровыми от крови клыками и когтями. Опубликованные в 1850 г., за девять лет до дарвиновского «Происхождения видов», стихи Теннисона показывают, что поэт уже тогда чувствовал, как его вера крошится:
Ребенок рыдает во мраке ночи, Тоскует, рыдая, о свете дня, Не вымолвит слова – только рыдает[563].В стихотворении «Dover Beach» Мэтью Арнольд[564] оплакивал неуклонное обмеление океана веры, после чего людям останется лишь скитаться по темнеющим равнинам. Неверие и растерянность перекинулись и в православный мир, но приняли там несколько иную форму: в отличие от утонченных сомнений Запада, православные мыслители доходили до радикального отрицания высшего смысла. Федор Достоевский написал роман «Братья Карамазовы» (1880 г.), где по-своему провозгласил смерть Бога. Царившие в его собственной душе раздоры между верой и разумными суждениями писатель высказал еще в марте 1854 г. В письме к другу:
Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных[565].
Столь же неоднозначным стал и роман Достоевского. Иван Федорович, которого остальные персонажи называют атеистом (именно в его уста вложена знаменитая ныне максима: «Если Бога нет, то все позволено»), недвусмысленно заявляет, что верует. Позднее, однако, Иван Федорович не приемлет Бога, ибо Он не позволяет объяснить высший смысл трагичности бытия. Ивана тревожит не теория эволюции, а житейская история человеческих страданий, ведь смерть одного-единственного ребенка – уже слишком высокая плата за благочестивую убежденность в том, что в конце концов все устроится. Дальше мы увидим, что к такому же выводу пришли в ту эпоху и евреи. Но в «Братьях Карамазовых» есть и другой персонаж – Алеша, который признается, что в Бога не верит. Признание это вырывается у него будто нечаянно, само собой выплескивается из неких неведомых уголков подсознания. Двусмысленность и смутное ощущение заброшенности станут впоследствии неизбывной чертой литературы XX в. С ее главными символами – бесплодными землями и одиноким человеком, ожидающим Годо, который не придет никогда.
Подобными недомоганиями и дурными предчувствиями терзался в ту пору и мусульманский мир, хотя причины их были совершенно иные. К концу XIX в. европейская «цивилизаторская миссия» была уже в полном разгаре. В 1830 г. Франция колонизировала Алжир, а в 1839 г. Британия захватила Аден. Позднее независимость потеряли Тунис (1881 г.), Египет (1882 г.), Судан (1898 г.), Ливия и Марокко (1912 г.). В 1920 г. Британия и Франция поделили между собой весь Ближний Восток, раздробленный теперь протекторатами и мандатами. Колониальная кампания, по существу, стала лишь официальным оформлением дотоле незримой экспансии Запада, поскольку европейцы еще в XIX в. добились культурного и экономического господства над Востоком, внушив ему идеал модернизации. Технократическая Европа набрала безудержную силу и овладела всем миром. В Турции и на Ближнем Востоке были учреждены торговые посты и консульства, которые подорвали традиционную для этих регионов систему хозяйствования задолго до того, как Запад захватил тут политическую власть. Это была принципиально новая колонизация. Когда Моголы захватили Индию, местное население вобрало в свою культуру немало мусульманского, но со временем опять вернулось к исконной культуре. Новые колониальные порядки преображали жизнь покоренных народов раз и навсегда: зависимость от Запада закладывалась в само государственное устройство.
Колонии просто не могли догнать Европу. Прежним институтам захваченных стран были нанесены смертельные раны. Исламское общество само раскололось на «европеизированных» и «всех остальных». Кое-кто из мусульман смирился с размытым определением «восточные народы», которым европейцы бездумно смешали в одну кучу арабов, индийцев и китайцев. На мусульман, верных традициям, некоторые их соотечественники глядели свысока. Иранский правитель Наср-эд-диншах (1848–1896 гг.) не раз повторял, что презирает своих подданных. Прежде живая, самобытная и целостная цивилизация постепенно превращалась в объединение зависимых государств, представлявших собой скверные подражания образцам из чуждого мира. Сущностью модернизации в Европе и Соединенных Штатах были постоянные новшества, а такому процессу подражать просто нельзя. Нынешние антропологи, изучающие современные страны и города арабского мира, считают, что архитектурный план того же центра Каира отражает скорее чужое доминирование, чем прогресс[566].
С другой стороны, теперь и сами европейцы начали верить, что их культура не только господствует в настоящем, но и всегда была во главе мирового прогресса. Такая самоуверенность опиралась порой на вопиющее незнание истории. Индийцев, египтян или сирийцев следовало обратить на правильный путь Запада – ради их же блага. Эти колониальные настроения наглядно отразились в сочинениях Эвелина Баринга, лорда Кромера, генерального консула в Египте с 1883 по 1907 г.:
Сэр Альфред Лайелл сказал мне однажды: «Восточному мышлению ненавистна точность. Об этом должен помнить каждый англо-индиец». Неточность, легко вырождающаяся в лживость, – это действительно главная черта восточного мышления.
Европеец рассуждает строго, его суждения о фактах недвусмысленны. Это прирожденный логик, даже если он не изучал формальную логику. Европеец по самой природе своей склонен сомневаться и, прежде чем принять истинность любого высказывания, всегда требует доказательств. Мышление же людей Востока напоминает скорее его живописные улочки, где не найти никаких следов порядка. Восточные рассуждения в высшей степени неряшливы. И хотя древние арабы достигли определенных успехов в науке диалектики, их потомки на удивление обделены логичностью ума. Подчас они не в силах построить самые очевидные умозаключения исходя из любых простейших данных, признаваемых достоверными[567].
Одной из «помех», которые следовало преодолеть, стал ислам. Негативный образ пророка Мухаммада и его веры сложился в христианском мире еще во времена крестовых походов и сохранялся в Европе наряду с давним антисемитизмом. В колониальную эпоху ислам считали на Западе религией фаталистической, которая неизменно противится любым нововведениям. Тот же лорд Кромер, например, резко осуждал усилия египетского реформатора Мухаммеда Абдо и твердил, что ислам просто не в состоянии преобразиться.
У мусульман тогда не было ни времени, ни сил развивать свои представления о Боге традиционным путем. Вся их энергия уходила на попытки сравняться с Западом. Кое-кто видел искомый ответ в мирском обществе по западному образцу, однако то, что шло на пользу Европе, в исламском мире выглядело чужеродным и непонятным, ибо пришло извне, а не развивалось естественным образом на основе местных традиций. На Западе символом отчуждения стал «Бог», а в мусульманском мире – колониальный процесс.
Отсеченные от корней родной культуры люди лишились ориентиров и растерялись. Некоторые мусульманские реформаторы стремились ускорить прогресс, навязывая исламу второстепенную роль. Результаты, однако, оказались совсем не теми, на какие они рассчитывали. В новом государстве Турция, возникшем после крушения Оттоманской империи в 1917 г., президентом стал Мустафа Кемаль (1881–1938 гг.), более известный как Кемаль Ататюрк. Он попробовал перекроить страну на европейский лад: отделил ислам от государства и сделал веру делом исключительно личным. Власти закрыли медресе, отменили обучение улемов за счет государства и распустили суфийские братства, которые ушли затем в подполье. Символом этой политики секуляризации стал запрет на ношение фесок – слишком очевидных знаков вероисповедания. Не менее мощным психологическим воздействием была и попытка облачить народ в европейские костюмы: выражение «сменить феску на шляпу» употреблялось в значении «стать настоящим европейцем». Реза-хан, шах Ирана с 1925 по 1941 г., восхищался Ататюрком и попробовал провести ту же политику: отменил паранджу, обязал мулл бриться и носить кепи вместо тюрбана, запретил традиционные праздники в память шиитского имама и мученика Хусайна.
Фрейд в свое время мудро заметил, что насильственное подавление религии не приносит ничего, кроме разрухи. Как и половое влечение, вера относится к той категории человеческих потребностей, которые пронизывают все сферы жизни. Результаты притеснения веры столь же взрывоопасны и пагубны, как и жесткое сдерживание сексуальности. В Иране традиционно считалось, что муллы противостоят шаху от имени народа. Порой муллы действительно добивались поразительных успехов: например, в 1872 г., когда шах предоставил британцам монополию на производство, ввоз и продажу табака и тем самым обрек иранские мануфактуры на разорение, муллы издали фетву (постановление), запрещавшую иранцам курить. В конце концов шаху пришлось отменить концессию. Противовесом деспотическому и драконовскому режиму Тегерана стал святой город Ком. Подавление религии нередко порождает фундаментализм – точно так же как неадекватная форма теизма способна привести к полному отрицанию Бога. Закрытие медресе в Турции привело, разумеется, к снижению авторитета улемов. Самые образованные, трезвомыслящие и достойные доверия сословия пришли в упадок, и единственными формами религии остались причудливые разновидности подпольного суфизма.
Другие реформаторы понимали, однако, что репрессии – не выход. Соприкосновения с иными цивилизациями всегда обогащали ислам, но мусульмане были убеждены, что в основе любых значительных и долговечных перемен в жизни общества должна лежать вера. Менять и вправду нужно было немало: многое безнадежно устарело, кругом царили суеверия и невежество. Вместе с тем ислам поддерживал глубокое понимание того, что всякое повреждение религиозного организма пагубно скажется на духовном благополучии мусульман всего мира. Исламские реформаторы не питали враждебности к Западу. Европейские идеалы свободы, равенства и братства, напротив, очень импонировали мусульманам, поскольку ислам разделяет эти иудео-христианские ценности, оказавшие столь мощное влияние на Европу и Соединенные Штаты. Модернизация западного общества в определенном смысле привела к возникновению равенства нового типа, и восточные реформаторы твердили своим народам, что христианская жизнь ближе к идеалам ислама, чем жизнь самих мусульман. Эта новая встреча с Европой вызвала на Востоке невероятный всплеск энтузиазма. Те мусульмане, кто был побогаче, отправлялись в Европу на обучение, жадно впитывали здешнюю философию, литературу и систему ценностей, а затем возвращались на родину, сгорая от нетерпения поделиться усвоенным с ближними. В начале XX в. почти каждый образованный мусульманин был ярым поклонником Запада.
Реформаторы отличались заметным интеллектуалистским уклоном, но в то же время почти все они были связаны с той или иной формой исламского мистицизма. Творческие и трезвые разновидности суфизма и мистического ишракизма уже помогали мусульманам в переломные периоды прошлого, и теперь к ним обратились вновь. Опыт Божественного считался не помехой, а преображающей душу на глубочайших уровнях силой, которая ускоряла переход к современному укладу жизни. Иранский политический деятель Джемаль-ад-дин ал-Афгани (1838–1887 гг.) был приверженцем ишрак-мистицизма школы Сухраварди и одновременно страстным поборником прогресса. Путешествуя по Ирану, Афганистану, Египту и Индии, ал-Афгани стремился угодить всем. Ему удавалось быть суннитом среди суннитов и шиитским мучеником – в глазах шиитов; он казался людям и революционером, и религиозным философом, и парламентарием. Мистические учения школы ишрак воспитывали у мусульман ощущение единства с окружающим миром, дух свободы, избавление от ограничений, связывающих личность. Высказывались предположения, что дерзость ал-Афгани и его талантливое умение исполнять самые разные роли были практическим воплощением мистического учения, направленного на расширение границ собственной личности[568]. Вера остается главным, но реформы тоже нужны. Ал-Афгани был убежденным, даже пылким верующим, но в его единственной книге под названием «Опровержение материалистов» о Боге почти не упоминается: автор прекрасно знал, что на Западе превыше всего ценят рассудок, а ислам и весь Восток считают иррациональными. По этой причине ал-Афгани пытался разъяснить ислам как веру, отличительной особенностью которой является стойкий культ разума. Вообще говоря, подобное определение своей религии сочли бы странным даже такие рационалисты, какими были мутазилиты. Ал-Афгани был прежде всего активным политиком и лишь потом философом. Таким образом, его политическую деятельность и убеждения нельзя оценивать по одной-единственной пробе пера. Тем не менее столь расчетливое описание ислама, которое должно было соответствовать, по мнению ал-Афгани, идеалам Запада, показало, что мусульманский мир в очередной раз потерял веру в себя – и вскоре это привело к самым разрушительным последствиям.
Мухаммед Абдо (1849–1905 гг.), египетский последователь ал-Афгани, испробовал совершенно иной подход. Он решил сосредоточиться только на родном Египте и интеллектуальном просвещении мусульман. Абдо вырос на традициях ислама и в молодости подпал под влияние суфийского шейха Дарвиша, который внушил ему, что наука и философия – два самых надежных пути к постижению Бога. В этой старомодной доктрине Абдо разочаровался очень скоро, как только поступил на учебу в престижную каирскую мечеть ал-Азхар. Зато он увлекся идеями ал-Афгани, у которого научился логике, богословию, астрономии, физике и мистицизму. Многие христиане Запада были убеждены, что наука – злейший враг религии, но мусульманские мистики часто прибегали в созерцании к математике и естественным наукам. Представители самых радикальных мистических сект шиизма – в частности, друзы и алавиты, – и в наши дни проявляют повышенный интерес к современной науке. К политике Запада в исламском мире относятся с большим подозрением, но лишь редкие мусульмане считают непримиримыми противоречия между своей верой в Аллаха и западной наукой.
У Абдо знакомство с западной культурой вызвало прилив энтузиазма. Особое влияние оказали на него Огюст Конт, Толстой и Герберт Спенсер (с последним Абдо связывала личная дружба). Египтянин так и не принял полностью европейский образ жизни, однако регулярно бывал в Европе, поскольку эти поездки освежали его в интеллектуальном отношении. Это не означает, впрочем, что Абдо позабыл об исламе. Об этом и речи быть не могло: как любой реформатор, Абдо мечтал вернуться к истокам своей веры. Он призывал возродить дух Пророка и первых четырех «праведных» халифов (рашидун). Эти воззрения, однако, не повлекли за собой фундаменталистского отрицания достижений современности. Абдо настаивал на том, что мусульмане должны осваивать науки, технологию и мирскую философию, ибо только это позволит им занять достойное место в современном мире. Законы шариата, по мнению Абдо, следовало изменить таким образом, чтобы все мусульмане получили желанную интеллектуальную свободу. Как и ал-Афгани, Абдо пытался представить ислам европейцам как рациональную религию и доказывал, что в Коране рассудок и вера впервые в человеческой истории идут рука об руку. До Пророка откровения неизменно обрастали чудесами, легендами и иррациональной риторикой, но Коран к столь примитивным уловкам не прибегает. Он содержит «прогрессивные доказательства и свидетельства, разъяснения воззрений неверующих и их рациональные опровержения»[569]. Нападки на файласуфов со стороны ал-Газали оказались слишком неумеренными и вырыли пропасть между благочестием и рационализмом; в дальнейшем это сказалось на интеллектуальном уровне улемов: оскудение их мысли со всей очевидностью запечатлелось в устаревшей учебной программе мечети ал-Азхар. Поэтому мусульманам следует вернуться к более восприимчивому и рациональному духу Корана. В то же время, Абдо не впадал в упрощенческий рационализм и цитировал хадис: «Размышляй о творениях Божьих, но не о Его природе, иначе смерть тебе». Рассудком суть бытия Бога не постичь, ибо оно извечно окутано тайной. Утверждать можно только одно: Бог не имеет сходства ни с чем, что есть на свете. Все прочие вопросы, над которыми ломают головы богословы, пусты, и Коран отвергает их как бессмысленные догадки (занна).
В Индии главным реформатором был Мухаммад Икбал (1877–1938 гг.), ставший для здешних мусульман таким же духовным символом, каким был для индийцев Ганди. Икбал был прежде всего созерцатель – суфий и поэт, писавший стихи на урду, – но образование и степень доктора философии он получил на Западе. Особый восторг у него вызывали Бергсон, Ницше и Уайтхед. Обогащая фалсафу идеями европейских мыслителей, Икбал пытался восстановить ее в правах, а себя считал посредником между Востоком и Западом. Упадок ислама в Индии приводил его в отчаяние. Индийские мусульмане чувствовали себя тут не на месте еще со времен крушения империи Моголов в XVIII столетии. Здешним правоверным не хватало той уверенности, какую ощущали их собратья на Ближнем Востоке, родине ислама. По этой причине тревоги и сомнения в завтрашнем дне были известны мусульманам Индии еще до нашествия британцев. Икбал мечтал исцелить надломленный дух своих единоверцев благодаря творческому возрождению основных принципов ислама в поэзии и философии.
У западных философов – в частности, Ницше – Икбал перенял идею особой ценности индивидуального начала. В его понимании вселенная являет собой Абсолют – высшую форму индивидуального, которую человек называет «Богом». Чтобы постичь свою уникальную природу, каждый человек должен стремиться к богоподобию. Это означает, что каждому следует стать больше чем личностью, развивая свои творческие способности и находя им применение. Бездеятельность и малодушное самоуничижение индийских мусульман (его Икбал объяснял влиянием персов) надлежит искоренить. Исламский принцип иджтихад (независимого суждения) побуждает мусульман быть восприимчивыми к новому, да и Коран требует неустанного самоанализа и пересмотра своих воззрений. Вслед за ал-Афгани и Абдо Икбал попытался показать, что имперские настроения, таящие в себе ключ прогресса, зародились именно в исламе, а Запад заимствовал их в средневековье через мусульманское естествознание и математику. До появления мировых религий в «Осевую эпоху» прогресс человечества сводился к чистым случайностям и целиком зависел от одаренных и боговдохновенных личностей. Вершиной этих интуитивных взлетов стало пророчество Мухаммада, избавившее людей от потребности в дальнейших откровениях. После Мухаммада человеку надлежит полагаться на свой разум и научные изыскания.
К сожалению, на Западе индивидуализм превратился в новую форму идолопоклонства и стал для многих конечной целью. Люди забыли, что подлинная индивидуальность – от Бога. Если гению личности предоставить полную свободу, он может натворить немало бед. Грядущее поколение «сверхчеловеков», которое предвещал Ницше, – перспектива довольно пугающая: людям нужна такая смена мировоззрений, которая не зависела бы от капризов и мнений текущего мгновения. Миссия ислама заключается как раз в том, чтобы сберечь дух истинного индивидуализма, не позволить извратить его, как случилось на Западе. У мусульман давно есть суфийский идеал Совершенного Человека – венца творения, высшего смысла бытия. В отличие от Сверхчеловека, мнящего себя исключительным и презирающего толпу, Совершенный Человек отличается безупречной чуткостью к Абсолютному и увлекает людей за собой. Положение дел в современном мире показывает, что прогресс зависит от одаренных одиночек, способных заглядывать в грядущее и вести к нему человечество. Когда-нибудь каждый человек обретет совершенную индивидуальность в Боге.
Описанные выше представления Икбала о роли мусульман были, конечно, довольно предвзятыми, но все-таки более последовательными, чем попытки многих западных мыслителей реабилитировать христианство за счет ислама. К несчастью, дурные предчувствия, которые вызывал у Икбала идеал Сверхчеловека, оправдались в последние годы его жизни, когда в Германии начались известные события.
К тому времени арабы Ближнего Востока уже утратили уверенность в том, что им, как прежде, будет по силам сдерживать «западную угрозу». Двадцатый год XX века, когда Британия и Франция прошли маршем по Ближнему Востоку, мусульмане назвали ам-ал-накхбах, «Годом Бедствий», – одним из значений этого понятия является катастрофа космического масштаба. Арабы мечтали, что после распада Оттоманской империи получат независимость, однако с приходом новых завоевателей потеряли последнюю надежду стать хозяевами собственной судьбы. Ходили даже упорные слухи, что британцы намерены отдать Палестину сионистам, как будто арабы здесь никогда и не жили. Чувство стыда и унижения обострилось до предела. Канадский исследователь Уилфред Кантвелл Смит отмечает, что горечь арабов усугублялась памятью о былом величии: «Гигантская пропасть между [современными арабами] и, скажем, американцами объясняется, главным образом, существенной разницей между воспоминаниями о прежнем величии и ощущением своей нынешней силы»[570]. Политические события оказали серьезное влияние на религию. Христианство является в высшей степени религией страданий и превратностей судьбы. Наиболее влиятельным – по меньшей мере, на Западе – оно становилось в периоды бедствий: земную славу нелегко примирить с образом распятого Христа. Ислам, напротив, является религией успеха. Коран учит тому, что общество, покорное Божьей воле (иными словами, общество, где царят справедливость, равенство и честное распределение богатств), просто не может потерпеть крах – и история ислама, похоже, служит тому живым свидетельством.
В отличие от Христа, у Мухаммада не было трагических коллизий и неудач, одни лишь блистательные победы. Его успехи стали частью феноменального развития Исламской империи в VII–VIII вв. и, разумеется, укрепляли веру мусульман в Бога: Аллах неоднократно доказывал Свою силу и наглядно утвердил слово Свое на арене истории. Успехи ждут ислам и в будущем, ведь ему удалось справиться даже с такими бедствиями, как нашествие монголов. За долгие столетия умма приобрела поистине сакральное значение и открыто являла собой Божье присутствие на земле. Однако теперь, впервые за всю исламскую историю, случилось нечто из ряда вон выходящее, что неизбежно затронуло и представления о Боге. С тех пор многие мусульмане сосредоточили усилия на попытках обратить свою историю в прежнее русло, чтобы воззрения Корана вновь получили отклик в реальной жизни.
Чувство позора усилилось после более тесного знакомства мусульман с европейцами: выяснилось, что Запад не питает к Пророку и его вере никакого уважения. Мусульманские ученые мужи все чаще пускались в апологетику и грезили о победах минувшего – а это весьма опасное сочетание. Бог перестал быть центром внимания. Кантвелл Смит изучает этот процесс на примере деятельности египетского журнала «Ал-Азхар» в период с 1930 по 1948 г. За это время в руководстве журнала сменились два главных редактора. С 1930 по 1933 г. делами заправлял ал-Хидр Хусайн – традиционалист в лучшем смысле слова, ибо религию он считал размышлениями о запредельном, а не политической или исторической силой. Ислам, по его мнению, – императив, призыв к грядущим действиям, а не окончательная, завершенная действительность. Поскольку воплотить божественный идеал в человеческой жизни чрезвычайно трудно, а порой и невозможно, прежние и нынешние неудачи уммы Хусайна не особенно огорчали. Он был достаточно уверен в себе, чтобы критиковать поведение мусульман: в ту пору, когда кабинет редактора занимал Хусайн, страницы журнала пестрили словами «должны» и «нужно». Очевидно, однако, что Хусайн даже представить себе не мог, что чувствует человек, который и хотел бы верить, но понял, что верить не в силах, – существование Аллаха Хусайн принимал как нечто само собой разумеющееся. В одном из ранних выпусков журнала была помещена статья Йусуфа ал-Диджни, посвященная старинному телеологическому доказательству бытия Бога. Смит отмечает, что общий дух статьи отличался большой почтительностью и выражал мощное, искреннее восхищение красотой и совершенством природы, являющей человеку Божественное присутствие. Ал-Диджни ни капли не сомневался, что Аллах существует. Его статья была скорее созерцанием, нежели логическим обоснованием существования Бога. То, что западные ученые уже давно разнесли эту форму «доказательства» в пух и прах, автора нисколько не тревожило. Так или иначе, эти умонастроения были явно устаревшими. Популярность журнала стремительно падала.
В 1933 г., когда место главного редактора занял Фарид Ваджди, число подписчиков удвоилось. Ваджди стремился прежде всего убедить читателей в том, что с исламом «все в порядке». Хусайну и в голову не приходило, что ислам – по его мнению, просто трансцендентная идея Бога в человеческом уме – может время от времени нуждаться в поддержке; но Ваджди видел в своей вере прежде всего общественный институт, который в те годы находился под угрозой. Чтобы спасти ислам, его нужно было оправдывать и одобрять, им следовало восторгаться. Уилфред Кантвелл Смит указывает, что статьи Ваджди пропитаны глубочайшей нерелигиозностью. Как и его предшественники, новый главный редактор неустанно доказывал, что Запад не учит ничему такому, чего ислам не открыл своими силами уже много веков назад; однако, в отличие от Хусайна, о Боге Ваджди упоминал редко. Прежде всего его заботила человеческая реальность под названием «ислам», и эта земная ценность в некотором смысле затмила трансцендентного Бога. И Смит приходит к следующему выводу:
Настоящий мусульманин – не тот, кто верит в ислам, особенно ислам исторический, а тот, кто верует в Бога и верует в откровение, переданное через Его Пророка. Последнему в журнале воздается достаточно почестей, но вот преданности нет. Да и Бог встречается на этих страницах удивительно редко[571].
Зато страницы журнала изобиловали примерами непостоянства и самоунижения: для редактора самым главным на свете стало мнение Запада. Такие люди, как Хусайн, хорошо понимали религию и центральное место Бога, но утратили связь с современной эпохой. Тем временем другие люди шли в ногу со временем – но потеряли ощущение Божественного. Эта неустойчивость и стала позднее причиной политической активности, которой отличается и нынешний фундаментализм, отошедший от Бога не меньше, чем Ваджди.
Европейские евреи тоже немало пострадали от безжалостных нападок на их веру. В Германии философы-иудеи разработали так называемый «научный иудаизм» – переписали иудейскую историю в гегельянских терминах, чтобы отразить обвинения в том, что евреи исповедуют рабскую, чуждую веру. Первую попытку такого перетолкования истории Израиля предпринял Соломон Формштехер (1808–1989 гг.). В книге «Религия духа» (1841 г.) он также определил Бога как Мировую Душу, имманентную всему сущему, однако, в отличие от Гегеля, считал, что бытие этого Духа не зависит от нашего мира, и утверждал, что Дух пребывает выше рассудка (иными словами, философ вернулся к давней разнице между сущностью и деятельностью Бога). Гегель осуждал использование образного языка, а Формштехер, напротив, доказывал, что символизм является единственным средством, позволяющим говорить о Боге, находящемся вне пределов досягаемости философских понятий. Так или иначе, иудаизм стал первой религией, которая пришла к развитым представлениям о Божестве, и очень скоро евреи вновь покажут всему миру, что такое подлинно одухотворенная вера.
Далее Формштехер переходил к рассуждениям о том, что в примитивной языческой религии Бог был тождествен природе и эти стихийные, незамысловатые представления соответствовали младенческому возрасту человечества. В дальнейшем самосознание людей поднялось на более высокий уровень, их разум созрел для более сложной идеи Божества. Человек начал понимать, что «Бог» (или «Дух») не содержится в окружающей природе, а пребывает где-то выше, вне ее пределов. Пророки, озаренные этой догадкой, проповедовали этическую веру. Сначала они полагали, будто откровения ниспосланы им некой внешней силой, но со временем поняли, что источником вдохновения был не потусторонний Бог, а их собственное естество, пронизанное Духом. Евреи – первый народ, составивший этическую концепцию Бога. Долгие годы изгнания и утрата Храма отучили их полагаться на помощь и вмешательство со стороны. Благодаря этому им удалось подняться на высшие ступени религиозного сознания, откуда открывается вольный путь к Богу. Вопреки утверждениям Гегеля и Канта, теперь евреи не зависят от посредников в лице духовенства и не боятся какого-то чужеродного Закона. Они научились искать Бога в собственной душе. Христиане и мусульмане не раз пытались подражать иудеям, но добились куда меньших успехов. Христианство, в частности, сохранило в своих представлениях о Боге множество языческих элементов.
Сейчас, когда евреи наконец-то получили общечеловеческие права, они очень быстро добьются и полной свободы. Им пора готовиться к заключительному этапу своего развития и прежде всего отбросить церемониальные установления, которые давно стали пережитком прежних, менее высоких стадий еврейской истории.
Как и мусульманские реформаторы, представители «научного иудаизма» страстно желали доказать, что их религия целиком и полностью рациональна. Больше всего им хотелось избавиться от каббалы, которой начали стыдиться еще со времен отступничества Саббатая Цеви и зарождения хасидизма. Самуэль Гирш, опубликовавший в 1842 г. работу «Религиозная философия евреев», пересказал в этой книге историю Израиля, начисто отбросив мистическое измерение иудаизма и сосредоточившись лишь на этической, рациональной истории Бога, центральное место в которой занимала идея свободы. Человека отличает от других тварей способность сказать: «я». В этом самосознании и воплощена неотчуждаемая свобода личности. Языческим религиям никогда не удавалось прийти к такой независимости, поскольку на ранних этапах развития дар самосознания казался ниспосланным свыше. Источником личной свободы язычники считали природу и принимали как должное неистребимость многих человеческих пороков. Однако Авраам отказался от языческого фатализма и зависимого положения. Он не имел себе равных пред Богом, ибо полностью распоряжался самим собой. Такой человек находит Бога во всех гранях своей жизни. Бог, Владыка Вселенной, устроил мир так, чтобы помочь нам обрести внутреннюю свободу, и в этом смысле каждый человек уже получил личный урок от Самого Бога. Иудаизм – отнюдь не рабская религия, что бы ни воображали иноверцы. Иудаизм, напротив, всегда оставался самой передовой религией – по сравнению, например, с христианством, которое отказалось от своих иудейских корней и вернулось к иррациональности и предрассудкам язычества.
В отличие от своих коллег Нахман Крохмаль (1785–1840 гг.), чей труд «Путеводитель для колеблющихся нашей эпохи» был опубликован посмертно в 1841 г., не отрекался от мистицизма. Бога, или Дух, он, по примеру каббалистов, предпочитал именовать «Ничто» и при описании поступательного самораскрытия Бога охотно пользовался каббалистической метафорой эманаций. Крохмаль утверждал, что религиозное наследие евреев – результат работы коллективного сознания, а не подобострастной зависимости от Бога. За долгие века евреи постепенно усовершенствовали свои представления о Боге. В эпоху Исхода Господь вынужден был являть Себя в чудесах, но к возвращению евреев из Вавилонского плена их понимание Божества было уже достаточно развитым и необходимость в чудесах и знамениях отпала. Иудейские правила поклонения Богу в точности соответствуют философскому идеалу и никак не свидетельствуют о рабской зависимости, что бы ни говорили гойим. Единственная разница между религией и философией заключается в том, что первая, как отметил Гегель, полагается на образную речь, а последняя пользуется языком понятий. Тем не менее язык символов для веры вполне уместен, ибо Бог выше любых наших представлений о Нем. Действительно, мы не можем даже утверждать, что Он существует, поскольку наше понимание бытия слишком однобоко и ограниченно.
Оптимизму евреев в отношении гражданских свобод был очень скоро нанесен сокрушительный удар: в 1881 г., при царе Александре III, в России и Восточной Европе начались массовые вспышки злобного антисемитизма. Этот пожар перекинулся и на Западную Европу. Во Франции – первой стране, где евреям предоставили общечеловеческие права, – антисемитская истерия разгорелась в 1894 г., после того, как еврея Альфреда Дрейфуса, офицера Генштаба, по ошибке обвинили в государственной измене. В том же году бургомистром Вены был избран известный антисемит Карл Люэгер. Однако немецкие евреи полагали, будто им ничего не грозит, вплоть до прихода к власти Адольфа Гитлера. Так, Германа Когена (1842–1918 гг.), судя по всему, беспокоил только метафизический антисемитизм Канта и Гегеля. Больше всего Когена оскорбляли заявления о том, будто иудаизм – раболепная вера. Коген отвергал Бога как внешнюю реальность, навязывающую покорность свыше. Бог был для философа лишь идеей, сложившейся в человеческом уме, – символом этического идеала. Размышляя над библейской историей о неопалимой купине, когда Господь сказал Моисею: «Я есмь Сущий», Коген назвал это примитивным выражением очевидного факта: то, что мы называем «Богом», являет собой просто Само Бытие. Оно, впрочем, весьма отличается от привычных нам «бытий», которые на самом деле Ему лишь сопричастны. В работе «Религия разума, почерпнутая из истоков иудаизма» (впервые опубликована посмертно в 1919 г.) Коген по-прежнему настаивает на том, что «Бог» – не более чем идея в человеческом уме. Мыслитель, впрочем, воздал должное эмоциональной роли религии в жизни человека. Просто этическая идея – такая как «Бог» – никакого утешения не приносит. Религия же призывает нас любить ближнего своего, и поэтому можно сказать, что Бог религии – в противоположность Богу этики и философии – есть искренняя любовь.
Мысли Когена подхватил, а затем до неузнаваемости переработал и углубил Франц Розенцвейг (1886–1929 гг.). Он построил принципиально иную концепцию иудаизма, которая отдалила его от современников. Розенцвейг стал одним из первых экзистенциалистов, но главным было другое: он сформулировал идеи, очень близкие к восточным религиям. Независимость мышления этого философа объясняется, вероятно, тем, что еще в молодости он отверг иудаизм, стал агностиком, затем обратился в христианство и, наконец, опять вернулся в лоно синагоги. Розенцвейг страстно отрицал, будто соблюдение Торы означает рабскую, унизительную зависимость от Бога-тирана. Религия – это не только мораль, но прежде всего встреча с Божеством. Как простой смертный может встретиться с трансцендентным Богом? О том, что означает такая встреча, Розенцвейг так и не сказал, и в этом слабость его философии. К попытке Гегеля соединить Дух с человеком и природой мыслитель-иудаист относился с большим сомнением: если человеческое сознание – лишь аспект Мировой Души, то мы, по существу, не являемся личностями в подлинном смысле слова. Будучи экзистенциалистом, Розенцвейг особо подчеркивал полную изолированность каждого человека. Все мы одиноки, и каждый в страхе блуждает среди гигантской толпы людей. Спастись от этого страха и безликости можно лишь тогда, когда к нам обернется Бог. Бог, таким образом, не ограничивает нашу индивидуальность, но, напротив, дает возможность достичь всей полноты самосознания.
Встретиться с Богом в сколько-нибудь антропоморфном смысле невозможно. Бог – это Основа бытия, столь глубоко вплетенная в наше существование, что мы не вправе рассуждать о Нем так, будто Он просто один из нас. У нас нет ни слов, ни мыслей, пригодных для описания Бога. Края бездны между Ним и человеком соединяют только заповеди Торы. И это не просто запретительные законы, как полагают гойим. Нет, это таинства, символические действа, которые скрывают глубинный смысл и переносят еврея в божественное измерение, лежащее в основе бытия каждого человека. Как и раввины, Розенцвейг утверждал, что заповеди Торы явно символичны. Сами по себе они нередко бессмысленны и просто помогают преодолеть границы слов и понятий, сблизиться с самим несказанным Бытием. Они воспитывают в человеке бдительное, терпеливое ожидание, душевный покой и внимательность к откровениям Основы нашего существования. Таким образом, чисто машинальное соблюдение мицвот не дает ровным счетом ничего: их нужно сделать частью своей души, когда любая мицва перестает быть требованием извне и выражает уже твое личное желание, твою искреннюю волю. Но, хотя Тора представляет собой сугубо еврейский религиозный закон, откровения Высшего доступны не только народу Израилеву. Он, Розенцвейг, замечал Бога в символических действах иудейской традиции, а христианство пользуется несколько иной символикой. Общепринятые догматы – это не главные приметы вероисповедания, а отражение состояния души. Скажем, доктрины о сотворении мира и откровениях – вовсе не буквальные повествования о реальных событиях из жизни Бога и мироздания. Мифы о Богооткровениях отражают наши личные переживания, связанные с Богом. История сотворения мира символизирует непредвиденность человеческого бытия, приносит ошеломляющее понимание того, что мы полностью зависимы от Основы сущего, которая делает возможным само бытие. Как Создатель, Бог не тревожится о Своих тварях до тех пор, пока не раскроет Себя перед одной из них. И не будь Он Творцом, то есть Основой всего сущего, религиозные переживания вообще не имели бы для человечества никакого смысла и оставались бы просто набором странных ощущений.
В силу такого универсального видения религии Розенцвейг с большим недоверием относился к новому, политизированному иудаизму, возникшему как отклик на очередной всплеск антисемитизма. Израильтяне, по мнению Розенцвейга, стали единым народом в Египте, а не в «земле обетованной», и потому смогут осуществить свою миссию «вечного народа», только если начнут укреплять связи с повседневной жизнью и перестанут вмешиваться в политику.
Однако те евреи, которым довелось пострадать от нарастающего антисемитизма, вовсе не считали, что могут позволить себе отойти от политики. Нельзя было просто сидеть и ждать, что им поможет Мессия или Господь, – пришло время самим себя спасать. В 1882 г., через год после первых погромов в России, немало евреев перебралось из Восточной Европы в Палестину. Эти евреи не сомневались, что будут оставаться неполноценными и всюду чужими, пока у них не появится собственное государство. Мечта вернуться на Сион, один из главных иерусалимских холмов, переросла в довольно дерзкое нерелигиозное движение: превратности исторической судьбы убедили сионистов в том, что ни вера, ни Бог в делах земных не помогут. В России и Восточной Европе сионизм стал ответвлением революционного социализма, практикой поверяющего теории Карла Маркса. Евреи-революционеры, впрочем, быстро удостоверились, что их партийным товарищам антисемитизм присущ не в меньшей степени, чем царю, и начали побаиваться, что судьба их народа мало изменится и при коммунистическом режиме. Дальнейшие события только подтвердили эти опасения. Пылкие юные социалисты – в том числе и Давид Бен-Гурион (1886–1973 гг.) – просто сложили чемоданы и направились в Палестину, полные решимости создать там образцовое общество, которое станет светом язычникам и вестником грядущего социалистического тысячелетия. Других евреев, однако, эти марксистские грезы отнюдь не тешили. Харизматичный австриец Теодор Герцль (1860–1904 гг.) разглядел в очередном еврейском исходе колониальную кампанию: под надежным крылышком одной из европейских империй еврейское государство могло бы стать авангардом прогресса в диких мусульманских землях.
Несмотря на свою принципиальную внерелигиозность, сионизм по инерции выражал себя традиционными религиозными понятиями и стал, по сути, религией без бога. Он отличался экстатическими и мистическими упованиями на будущее, а вдохновение черпал в древних мотивах искупления, паломничества и рождения заново. У сионистов принято было даже менять свои имена, что символизировало спасение и обновление души. Так, Ашер Гинзберг, один из первых пропагандистов сионизма, начал называть себя Ахад-га-Ам, «Один из народа». Отныне он стал сам себе хозяином, поскольку отождествлял себя с обновленным национальным духом, хотя и не верил всерьез, что в Палестине удастся создать еврейское государство. Ему хотелось одного: «духовного средоточия», которое стало бы для всего народа Израилева таким же единым центром, каким прежде был Господь. Такое средоточие было бы «наставником во всех житейским делах», достигало бы «самых глубин сердца» и «объединяло бы все чувства человека». Сионисты преобразили прежние религиозные ориентиры: теперь, вместо того чтобы тянуться к трансцендентному Богу, евреям следовало исполнять свои мечты тут, на земле. Древнееврейское слово хагшамах (буквально: «воплощение в реальность») в средневековой иудейской философии имело отрицательный смысл и означало привычку приписывать Богу человеческие и материальные черты. В сионизме хагшамах стало обозначать осуществление задуманного, исполнение надежд народа Израилева в обыденной жизни. Отныне святость пребывала уже не на Небесах: Палестина стала «святой землей» в самом прямом смысле слова.
Насколько «свята» она была, свидетельствуют работы одного из палестинских первопроходцев Аарона Давида Гордона (ум. в 1922 г.), который до сорокасемилетнего возраста был ортодоксальным иудеем и каббалистом, а потом обратился в сионизм. Седой, слабый и болезненный старик, Гордон трудился в поле бок о бок с молодыми поселенцами, а ночами вместе с ними плясал в экстазе и выкрикивал: «Счастье! Счастье!» Как пишет он сам, в былые времена чувство воссоединения с землей Израилевой вызвало бы откровение Шехины. Святая Земля приобрела сакральное значение: она полнилась духовными силами, доступными одним лишь евреям, создавшим свой особый, иудейский дух. Говоря об этой святости, Гордон использует каббалистические термины, к которым прежде прибегали исключительно для символического описания загадочных сфер Божества:
Душа еврея – порождение естественной среды, земли Израилевой. Ясность, глубина бескрайнего чистого неба, прозрачный пейзаж, пелена чистоты… Кажется, само неведомое Божество растворяется в этой прозрачности, плавно перетекающей из ограниченного проявленного света в беспредельный потаенный свет. Народы земного мира не понимают ни этой ясности, ни лучезарного неведения в еврейской душе[572].
Поначалу ближневосточный ландшафт выглядел настолько непохожим на привычную Россию, где родился автор, что казался Гордону чужим и даже пугающим. Со временем он понял, однако, что сродниться с ней поможет труд на нивах (авода; другое значение этого слова: религиозный обряд). Возделывая землю, которую, по заверениям сионистов, арабы совершенно запустили, евреи покоряли ее для себя и одновременно избавлялись от душевных ран изгнания.
Сионисты-социалисты назвали свое движение первопроходцев «Покорение Трудом»: их киббуцим стали мирскими монастырями, где евреи жили коммунами и трудились ради собственного спасения. Труд в поле вызывал у них мистические ощущения нового рождения и вселенской любви. Как разъясняет Гордон,
По мере того как руки мои привыкали к крестьянской работе, глаза и уши мои учились различать и слышать, сердце – постигать увиденное и услышанное, а душа – прыгать, отталкиваясь от холмов, взмывать ввысь и парить, расходиться по неведомым ей прежде просторам, охватывать все окрестности до самого горизонта, весь мир и все, что в нем, а еще – самой чувствовать себя в объятиях всего мироздания[573].
Труд стал для членов коммун молитвой в миру. В 1927 г. другой, первопроходец и ученый муж, Авраам Шлонски (1900–1973 гг.), дорожный строитель, посвятил земле Израилевой такие стихи:
Облачи меня, милая мама, в пышный наряд разноцветный, Проводи на рассвете к трудам моим тяжким. Земля моя светом окутана, как покровом для молитвы, Дома красуются, будто украшения на лбу, И камни, голыми руками мощенные, стекаются вниз полосками филактерии. Здесь город прекрасный возносит с зарею хвалы своему творцу, И среди творцов его есть и твой сын Авраам, Поэт, кладущий дороги в Израиле[574]. Бог этому сионисту уже не нужен – он сам стал творцом.Другие сионисты придерживались, впрочем, более традиционной веры. Каббалист Авраам Ицхак Кук (1865–1935 гг.), главный раввин палестинского еврейства, до переселения на землю Израилеву почти не соприкасался с миром иноверцев. Он утверждал, что до тех пор, пока концепция служения Господу понимается как служение некоему частному Существу, отдельному от религиозных идеалов и обязанностей, вера «не будет свободной от незрелых взглядов, неизменно сосредоточенных на частностях»[575]. Бог не есть какое-либо Существо; Эн Соф превосходит любые человеческие категории, в том числе идею личности. Считать Бога частной сущностью – настоящее идолопоклонство и признак примитивного мышления. Кук был до конца верен иудейской традиции, но сионистская идеология его отнюдь не расстраивала. Да, «трудовики» верили, что избавились от религии, но атеистический сионизм был лишь переходным этапом. Бог кроется в самих первопроходцах – в них, мрачных «скорлупках», томятся ожидающие освобождения божественные «искры». Сознают это евреи или нет, но естеством своим они неразделимо связаны с Богом и, не ведая того, в очередной раз исполняют Его Замысел. В эпоху изгнания Дух Святой отошел от Своего народа. Евреи спрятали Шехину в синагогах и учебных классах, но очень скоро Израиль станет духовным центром всего мира и откроет иноверцам истину о Боге.
В такого рода духовности таится опасность. Преданность Святой Земле уже в наши дни способна перерасти в идолопоклонство и еврейский фундаментализм. Ведь фундаментализм мусульманского мира тоже возник из верности историческому исламу. И евреи, и мусульмане отчаянно пытались найти смысл жизни в окружающем мрачном мире, но Бог исторический, похоже, их подвел. Сионисты имели все основания опасаться окончательного истребления своего народа. После геноцида многие евреи просто не могли довольствоваться традиционными представлениями о Боге. Лауреат Нобелевской премии Эли Визель в свои детские годы в Венгрии жил только Богом: все его существование определялось наукой Талмуда, и он мечтал, став постарше, приобщиться к тайнам каббалы. Мальчиком Визель попал в Освенцим, затем в Бухенвальд. Уже в самую первую ночь пребывания в лагере смерти, глядя на уходящие в небо клубы черного дыма из труб крематория, куда вскоре швырнут тела его матери и сестры, Эли понял, что в этом огне навеки сгорела и его вера. Он попал в мир, который в точности совпадал с возникшим в воображении Ницше миром убитого Бога. «Никогда мне не забыть той ночной тишины, навсегда лишившей меня воли к жизни. Никогда мне не забыть эти минуты, убившие во мне моего Бога и мою душу, обратившие в прах мои мечты»[576].
Однажды гестаповцы вешали ребенка. Вешать детей перед тысячами свидетелей – это было слишком даже для эсэсовцев. Поднимаясь на виселицу, малыш, чье лицо, по воспоминаниям Визеля, напоминало лик «ангела с печальными глазами», молчал. Он казался спокойным, только был смертельно бледен. Кто-то из заключенных прошептал за спиной Визеля: «Где же Бог? Где же Он?» Ребенок умирал не менее получаса, а согнанных в кучу узников заставляли смотреть ему прямо в лицо. Тот же голос из-за спины простонал: «Где же теперь Бог?» И тут в душе Визеля раздался ответ: «Где Он? Вот Он – Он висит на этой виселице…»[577]
Достоевский говорил, что смерть одного-единственного ребенка способна разуверить в Боге, но даже этот писатель, знакомый с бесчеловечностью отнюдь не понаслышке, не смог бы и вообразить себе такой смерти. Ужасы Освенцима – немой укор множеству традиционных представлений о Боге. Далекий Бог философов, погруженный в трансцендентную апатию, становится невыносимым. Евреи не могли больше верить в того библейского Господа, который проявляет Себя в истории – и который, как сказал Визель, погиб в Освенциме. Идея Бога-личности, описанная уже достаточно подробно, полна противоречий. Если этот Бог и правда всемогущ, Он, несомненно, мог бы предотвратить геноцид, но, раз Ему это не удалось, Он бессилен и, следовательно, никому не нужен. Если же Он мог это сделать, но не пожелал, – тогда Он просто чудовище. Евреи – далеко не единственные, кто считает, что Холокост положил конец традиционному богословию.
Правда и другое: даже в Освенциме некоторые евреи продолжали изучать Талмуд и отмечать основные праздники – но не потому, что надеялись на спасительную Божью помощь, а потому что в этом был свой смысл. Рассказывают, что однажды группа узников Освенцима устроила суд над Богом. Его обвинили в жестокости и предательстве. В страшных условиях концентрационного лагеря люди, подобно Иову, уже не могли найти утешение в привычных ответах на вопросы о причинах зла и страданий. Оправданий Богу не нашлось, смягчающих обстоятельств не выявили; Он был признан виновным и заслуживающим смертной казни. Раввин зачитал приговор, а затем поднял голову и объявил, что суд окончен: близился час вечерней молитвы.
11. Да здравствует Бог?
К концу второго тысячелетия обострилось ощущение, что знакомый мир уходит в прошлое. За несколько десятков лет мы свыклись с мыслью о том, что созданное нами оружие способно стереть с лица земли все живое. «Холодная война», может, и закончилась, но новый мировой порядок оказался не менее пугающим, чем прежний. Мы стоим на самом краю вполне вероятной экологической катастрофы. Вирус СПИДа грозит перерасти в полномасштабную и неукротимую эпидемию. Наши внуки и правнуки будут жить в перенаселенном мире, когда планета уже не сможет всех прокормить. Тысячи людей и сейчас умирают от голода и недостатка воды. Многие поколения задолго до нас не раз предчувствовали близость конца света, однако сегодня перед нами, похоже, действительно открывается самое безотрадное будущее. Удастся ли идее Бога выжить в этом будущем? На протяжении четырех тысяч лет эта идея постоянно видоизменялась соответственно насущным потребностям, но в наш век все больше людей приходит к выводу, что она им не нужна. Утратив действенность, религиозные идеи просто уходят в забвение. Быть может, идея Бога и в самом деле принадлежит прошлому? Американский ученый Питер Бергер отмечает, что при сравнении своей эпохи с минувшими человек нередко опирается на двойные стандарты. В то время как прошлое подвергается анализу и становится относительным, настоящее этому процессу не подлежит и, стало быть, наше нынешнее положение оказывается абсолютным. Так, например, «авторам Нового Завета приписывается ложное мировосприятие, обусловленное их эпохой, а мировосприятие своей эпохи исследователь, разумеется, считает ничем не омраченной интеллектуальной благодатью»[578]. В XIX и в начале XX столетия противники религии видели в атеизме непобедимую идеологию научно-технической эры.
Во многом это мнение оправдалось: церкви Европы пустеют, а атеизм давно перестал быть мучительным выбором редких мыслителей-первопроходцев и превратился в господствующее умонастроение. В прошлом атеизм всегда был откликом на те или иные частные представления о Боге, но постепенно утратил прежнюю неразрывную взаимосвязь с теизмом и стал машинальной реакцией на жизнь в обществе, где Церковь отделена от государства. Как и толпу удивленного народа, окружившую ницшевского безумца, многих наших современников перспектива жизни без Бога ничуть не тревожит. Кое-кому Его отсутствие даже приносит чувство облегчения. Те, кто переживал неприятные отношения с религией, охотно отказываются от Бога, бывшего кошмаром их детства. Перестать съеживаться от страха перед гневным ликом мстительного божества, грозящего вечным проклятием за нарушение его своенравных законов, – это действительно здорово: мы обретаем неведомую доселе свободу мысли и можем смело осуществлять собственные замыслы, не тщась обойти невразумительные догматы веры и не ощущая с отчаянием, как неуклонно разрушается целостность нашей личности. Но мы воображаем, будто это отталкивающее, изводившее нас божество и есть настоящий бог евреев, христиан или мусульман; мы не всегда сознаем, что имели дело с нездоровой аберрацией.
Есть еще и просто безысходное одиночество… Жан-Поль Сартр (1905–1980 гг.) говорил, что в человеческом сознании образовалась дыра в форме Бога – именно в том месте, которое Он когда-то занимал. Тем не менее, даже если бы Бог существовал, от Него следовало бы отказаться, ибо идея Бога несовместима с человеческой свободой. Традиционные религии учат, что для того, чтобы стать настоящим человеком, нужно соответствовать Божьему идеалу человечности; на самом же деле в человеке нужно видеть живое воплощение свободы. Атеизм Сартра не был верой утешительной, но и другие экзистенциалисты считали, что отсутствие Бога идет на пользу свободе. Морис Мерло-Понти (1908–1961 гг.) доказывал, что Бог вовсе не приносит ощущение чудесности, но, наоборот, лишает нас его. Поскольку Бог – абсолютное совершенство, нам не остается ничего: такого совершенства нам все равно никогда не достичь. Альбер Камю (1913–1960 гг.) проповедовал своеобразный героический атеизм: людям следует решительно отвергнуть Бога и без остатка дарить свою любовь и заботу только человечеству. Как и всегда, атеисты точно били в цель. В прошлом Бога не раз делали преградой на пути творчества. Когда идею Бога превращают в универсальный ответ на все вопросы и безоговорочное объяснение любых событий, такой Бог неминуемо удушает наше ощущение чуда и наши порывы к новым достижениям. Страстный, пламенный атеизм оказывается порой более религиозным, чем устаревший или чуждый обществу теизм.
В 50-е годы двадцатого века логики-позитивисты, такие как Алфред Айер (1910–1991 гг.), задались вопросом: разумно ли верить в Бога? Единственным надежным источником сведений является, конечно, естествознание, поскольку его открытия поддаются опытной проверке. Айеру было все равно, существует Бог или нет, – вопрос лишь в том, насколько осмысленна и полезна сама идея Бога. Философ утверждал, что любое высказывание лишено смысла, если мы не можем придумать способ его доказательства или опровержения. Например, суждение «На Марсе есть разумная жизнь» отнюдь не лишено смысла, ибо мы сможем проверить это, как только создадим необходимые технические устройства. И в устах простого человека, который верит в восседающего на небесах старца, слова «Я верую в Бога» вовсе не бессмыслица: после смерти он сам проверит, есть ли Бог. Сложности возникают, однако, у менее простодушного верующего, который утверждает: «Бог не существует в том смысле, в каком мы это понимаем» либо: «Бог добр, но не в общепринятом смысле слова». Смысл таких высказываний предельно размыт, придумать способ их проверки просто невозможно; это и означает, что они бессмысленны. По словам Айера, «теизм слишком неоднозначен и опирается на суждения, в которых «Бог» по умолчанию противоречив и не допускает ни доказательств, ни опровержений. По этой причине логически невозможно рассуждать о вере или неверии, убежденности или сомнениях»[579]. Атеизм, впрочем, столь же невразумителен и лишен смысла, как и теизм. К понятию «Бог» неприменимы ни скепсис, ни опровержение: в нем просто нечего опровергать.
Как и Фрейд, позитивисты считали, что религиозная вера – это незрелость ума, которую наука со временем преодолеет. Философы-лингвисты еще в 50-е годы критиковали логический позитивизм, указывая на то, что и айеровский «принцип проверки» сам по себе не поддается проверке. Сегодня у нас еще меньше оснований полагаться на науку, способную объяснять только материальные явления. Уилфред Смит отмечал, что логики-позитивисты заявили себя как ученые в тот период, когда наука – впервые за всю историю – начала рассматривать природу как нечто явно отдельное от человека[580]. Суждения, на которые опирался Айер, вполне применимы к объективным научным фактам, однако непригодны для многозначных человеческих переживаний. Подобно музыке и поэзии, вера не допускает логических построений и проверки. Чуть позднее философы-лингвисты (в частности, Энтони Флю) доказывали, что намного рациональнее искать естественные, а не религиозные причины явлений. Прежние «аргументы» не работают: например, доказательство от порядка мира ошибочно уже потому, что для того, чтобы понять, подчиняются ли естественные явления собственным законам или некой внешней Воле, нужно рассматривать систему извне. Тот довод, что человек – существо «случайное» или «несовершенное», ничего не доказывает, поскольку для любого явления всегда существует исчерпывающее, но не сверхъестественное объяснение. Флю был не столь оптимистичен, как Фейербах, Маркс или экзистенциалисты. Его рассуждения лишены мучительного, героического вызова и основаны на спокойной, обстоятельной вере в разум и науку как единственный дальнейший путь человека.
Впрочем, как нам уже известно, далеко не все верующие обращались за объяснением загадок вселенной к идее «Бога». Многие считали всякое доказательство лишь ложным следом, сбивающим с толку. Угрозу со стороны науки ощущали лишь те христиане Запада, которые привыкли воспринимать Писание буквально, а богословские доктрины толковать так, будто это достоверные сведения об объективных фактах. Ученые и философы, в чьих системах не находилось места для Бога, обычно отводили Ему роль Первопричины. Иудеи, мусульмане и греко-православные христиане отбросили идею Первопричины еще в средние века: существование более субъективного «Бога», которого они искали, нельзя было доказывать так, словно Он является одинаковым для всех объективным фактом. Подобно буддийской нирване, не мог Он быть размещен и в физическом устройстве материальной вселенной.
Намного ярче философов-лингвистов выглядели в 60-х годах радикальные богословы, которые с восторгом подхватили идею Ницше и объявили о смерти Бога во всеуслышание. В «Евангелии христианского атеизма» (1966 г.) Томас Альтицер утверждал, что «благая весть» о гибели Бога освободила нас от рабских оков тиранического трансцендентного божества: «Только смирившись со смертью Бога в нашей душе – и даже желая ее! – мы сможем освободиться от далекой и чуждой Трансцендентности, которая была опустошена и омрачена самоотчуждением Бога во Христе»[581]. Альтицер использует в своей речи мистические понятия «темной ночи души» и мук одиночества. Смерть Бога воплощена у него в безмолвии, необходимом до тех пор, пока Он вновь не обретет былую значимость. Чтобы родилось новое богословие, должны погибнуть все прежние концепции Божества. Мы просто ждем нового языка, нового способа выражения, благодаря которому Бог опять станет возможностью. Богословие Альтицера опиралось на страстную диалектику, обращенную на унылый мир без Бога в надежде, что он откроет нам свои тайны.
Намного отчетливей и логичней рассуждал Пол Ван Бюрен. В работе «Секулярный смысл Евангелия» (1963 г.) он отмечал, что мы уже не вправе говорить о Боге как о деятельном начале в нашем мире. Наука и технология убедительно доказали несостоятельность древней мифологии. Простоватая вера в «небесного старца» отныне невозможна, как, впрочем, и более утонченная вера богословов. Нам придется забыть о Боге и опереться исключительно на Иисуса из Назарета. Евангелие – «благая весть свободного человека, который подарил свободу и своим ближним». Иисус Назорей – освободитель, «человек, показавший, что значит быть человеком»[582].
В книге «Радикальное богословие и смерть Бога» (1966 г.) Уильям Гамильтон отметил, что теология такого рода возникла в Соединенных Штатах, где религия всегда отличалась утопическим уклоном и не имела собственной глубокой богословской традиции. Символика смерти Бога отражала падение нравов и варварство технической эры, когда верить в библейского Бога по-старому стало невозможно. Сам Гамильтон видел в таком настроении богословов протестантизм XX века. Лютер в свое время оставил монастырь. Гамильтон и другие христианские радикалы тоже были людьми откровенно мирскими. Они покинули священные обители, где Бог пребывал раньше, и теперь искали Иисуса-Человека среди своих ближних в мире технологии, власти, секса, денег и больших городов. Современному мирянину Бог не нужен. В душе Гамильтона не было никакой «дыры в форме Бога» – ответы на главные вопросы бытия он уже нашел в окружающем мире.
В бодрой жизнерадостности 60-х годов было что-то трогательное. Радикалы отмечали, и совершенно справедливо, что многие люди больше не в силах говорить о Боге по-старому; но вот уже и 90-е годы, а надежд на спасение и зарю новой эры мы, как это ни горько, не ощущаем. Богословов, провозгласивших смерть Бога, критиковали еще их современники, поскольку эта теология отражала умонастроения зажиточного среднего класса белых американцев. Чернокожие богословы (например Джеймс Коун) спрашивали, почему это белым кажется, будто смерть Бога дает им право притязать на освобождение, хотя они сами не так давно порабощали целые народы именем Божьим. Еврейский богослов Ричард Рубинштейн вообще не мог понять, откуда у радикалов такой оптимизм в отношении «безбожного» человечества, ведь со времен нацистского геноцида прошли считанные годы. Сам он был убежден, что божество, которое считали Богом историческим, навсегда погибло в Освенциме. Тем не менее Рубинштейн не считал, что евреям следует расставаться с религией. После того как европейские евреи были почти полностью уничтожены, им нельзя забывать о прошлом. В добром, высоконравственном Боге либерального иудаизма не было, впрочем, ничего хорошего. Он слишком стерилен и не обращает внимания на трагичность бытия, полагая, что мир будет улучшаться сам собой. Рубинштейн отдавал предпочтение Богу иудейских мистиков и с благоговением относился к сформулированной Исааком Лурией доктрине цимцум – добровольного акта самоотчуждения Господа, в результате чего появился сотворенный мир. Все мистики мыслили Бога как «Ничто», пустоту, из которой мы возникаем и куда возвращаемся после смерти. Рубинштейн соглашался с Сартром в том, что жизнь лишена смысла; в Боге мистиков он видел поэтический способ обретения человеком этого опыта великой пустоты[583].
Лурианская каббала стала источником утешения и для других еврейских богословов. Ганс Йонас полагает, что после Освенцима никто уже не может верить в Господне всемогущество. Сотворив мир, Бог добровольно ограничил Себя и разделил наши слабости. Ни на что большее Он с тех пор не способен, и люди обязаны восстановить былую целостность Бога и всего мироздания посредством молитв и соблюдения Торы. Британский богослов Льюис Якобс, однако, не соглашается с этой мыслью, а идею цимцум считает слишком грубой и антропоморфной: она неизбежно провоцирует слишком буквальные вопросы о том, как именно Бог сотворил мир. Бог не ограничивает Себя, не задерживает, так сказать, дыхания перед выдохом. Бессильный Бог не приносит никакой пользы и не может стать смыслом человеческого бытия. Лучше уж вернуться к классическому объяснению: Бог выше смертных, а Его мысли и пути – не наши. Бог, может, и непостигаем, но у людей есть возможность довериться этому несказанному Господу и все же утвердить некий смысл бытия, даже если мироздание выглядит бессмысленным. Католик Ганс Кюнг единодушен с Якобсом, хотя и отдает предпочтение более рациональному объяснению трагедии бытия, чем причудливый миф о цимцум. Кюнг отмечает, что люди действительно не могут верить в слабого бога, но по-прежнему верят в Бога Живого, благодаря которому у пленников Освенцима оставались силы молиться.
Кое-кто, впрочем, все еще надеялся найти в идее Бога смысл. Швейцарский богослов Карл Барт (1886–1968 гг.) решительно воспротивился либеральному протестантизму Шлейермахера с его повышенным интересом к религиозным переживаниям. С другой стороны, Барт был и видным противником естественного богословия. По его мнению, пытаться изъяснить Бога рациональными концепциями – большая ошибка, и не только по причине ограниченности человеческого ума, но и потому, что люди испорчены Грехопадением. Следовательно, любое представление о Боге, складывающееся в уме человека, изначально таит в себе изъян, и поклонение такому божеству оказывается идолопоклонством. Единственный надежный источник познаний о Боге – Библия. Идеология Барта вместила, пожалуй, худшее из всего, чем когда-либо грешило богословие: прочь переживания, прочь естественный рассудок; человеческий ум слишком испорчен и доверия не заслуживает, а у других религий научиться ничему нельзя, ибо единственное достоверное откровение – это Библия. В совмещении столь радикального скептицизма по отношению к силе разума и совершенно некритического признания истин Св. Писания было что-то нездоровое.
Пауль Тиллих (1868–1965 гг.) не сомневался, что Бог-личность традиционного для Запада теизма должен исчезнуть. С другой стороны, Тиллих был убежден, что вера людям необходима. Одной из сторон человеческой жизни является глубокая тревога – неискоренимая, поскольку не является неврозом и от нее не избавиться психотерапевтическими приемами. Мы постоянно боимся потерять самое дорогое и, наблюдая за неуклонным и необратимым разложением собственного тела, испытываем ужас перед неминуемой смертью. Тиллих соглашался с Ницше в том, что Бог, наделенный личностью, – идея вредоносная и заслуживающая смерти:
Концепция «личного Бога», вмешивающегося в природные явления, либо являющегося «независимой причиной природных явлений», делает Бога объектом природы наряду с другими объектами, существом среди существ, бытием среди прочих видов бытия, пусть высшим, но отнюдь не исключительным и уникальным. Это, безусловно, разрушение, и не только физической системы, но и любой осмысленной идеи Бога[584].
Бог, который привык обращаться со вселенной халатно, слишком нелеп; Бог, вторгающийся в жизнь и творчество человека, – просто тиран. Когда в Боге видят личность, воспринимающую мир как свою собственность, когда в Нем видят эгоистическое «я», отрицающее любое «ты», оторванную от своих последствий причину, «Он» становится отдельной сущностью, а не Самим Бытием. Всемогущий, всеведущий деспот мало чем отличается от земных диктаторов, превращающих всех и каждого в неприметные винтики своей гигантской машины. И атеизм, отвергающий такого «Бога», целиком и полностью оправдан.
Нужно искать иного «Бога», пребывающего выше Бога-личности. В этой идее, конечно, нет ничего нового. Приверженцы единобожия еще с ветхозаветных времен сознавали парадоксальность природы Бога, которому молились, и понимали, что Богу-личности необходим противовес – безличное по сути своей божество. Противоречие кроется в самой молитве, словесном обращении к Тому, Кто речь не воспринимает. Люди просят милости у Того, Кто помог – или отказал в Своей помощи, – задолго до того, как прозвучала просьба. Они говорят «Ты» Богу, Который есть Само Бытие и, следовательно, ближе к нашему «я», чем мы сами. Тиллих предпочитал определять Бога как Основу Бытия. Сопричастность такому «Богу над Богом» не отдаляет нас от обычной жизни и, напротив, помогает слиться с окружающей действительностью, возвращает человека к нему самому. Говоря про это «Само Бытие», люди вынуждены прибегать к символике, поскольку буквальные или натуралистические суждения о Нем всегда неточны и ошибочны. Такие символы, как «Бог», «Провидение» или «бессмертие», долгими столетиями помогали людям терпеть муки жизни и ужас смерти. Когда привычные символы утратили свою власть, повсюду воцарились страх и сомнения. Тем, кто остро ощущает это смятение, следует искать Божественное выше того «опозоренного Бога» теизма, который теперь окончательно потерял свою символическую силу.
Обращаясь к простым читателям, Тиллих обычно заменял технический термин «Основа Бытия» более понятным выражением «высшая цель». Он подчеркивал, что ощущение веры в этого «Бога над Богом» – не какое-то специфическое состояние, которое разительно отличалось бы от прочих наших эмоциональных и интеллектуальных переживаний. Нельзя сказать, например: «Сейчас у меня возникли особые, «религиозные» переживания», ибо Бог-Бытие предшествует любому восприятию и лежит в основе всех чувств, связанных с отвагой, надеждой или отчаянием. Это состояние не является самоцелью и пронизывает все самые обыкновенные человеческие переживания. Столетием раньше нечто сходное утверждал Фейербах, говоривший, что Бог неотделим от повседневной человеческой психологии. Теперь этот атеизм преобразился в новое богословие.
Богословы-либералы пытались выяснить, можно ли верить и одновременно быть полноправным членом современного интеллектуального мира. Создавая новые представления о Боге, они обращались к другим дисциплинам – естественным наукам, психологии, социологии, а также иным религиям. Ничего принципиально нового не было и в этом подходе: Ориген и Климент Александрийский, дополнившие семитский культ Яхве идеями платонизма, тоже были своего рода «либеральными христианами» – конечно, по меркам III века. В наши дни член ордена иезуитов Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955 гг.) совместил свою веру в Бога с современной наукой. Он был палеонтологом, питал особый интерес к доисторической жизни и сделал источником нового богословия свое понимание эволюции. В эволюционной борьбе за выживание он видел Божественную силу, толкающую мироздание от материи к духу, самосознанию и, наконец, еще дальше – к Самому Богу. Бог имманентно воплощен в нашем мире, который являет собой, таким образом, таинство Его присутствия. Де Шарден предполагал, что христианам следует не сосредоточиваться на Иисусе-Человеке, а разрабатывать космический портрет Христа в духе посланий апостола Павла к колоссянам и ефесянам: Христос в глазах мыслителя был «омегой» мироздания, венцом и окончанием эволюции, когда Бог становится всем во всём. В Писании сказано, что Бог есть любовь; с другой стороны, наука свидетельствует, что мир природы устремлен к беспредельному возрастанию сложности структур и, при всем своем разнообразии, ко всеобщему единству. Такое «единство в многообразии» – еще один способ проявления любви, которая наполняет жизнью все сотворенное. Де Шардена попрекали тем, что он отождествил Бога с мирозданием в такой мере, что Бог утратил у него всякую трансцендентность. Вместе с тем, в этом «посюстороннем» богословии отразился долгожданный отход от contemptus mundi[585], которое так часто было характерной чертой католической духовности.
В Соединенных Штатах Дэниел Дэй Уильямc (род. В 1910 г.) разрабатывал в 60-е годы так называемое «богословие Процесса», где единству Бога с мирозданием тоже отводилось особое место. На Уильямса заметно повлиял британский философ Алфред Норт Уайтхед (1861–1947 гг.), считавший, что Бог неразрывно связан с мировыми процессами. Уайтхеду не удалось извлечь смысла из концепции Бога как еще одной Сущности, самостоятельной и бесстрастной; с другой стороны, этот мыслитель сформулировал современный вариант пророческой идеи о терзаниях Господа:
Я утверждаю, что Бог действительно страдает, ибо Он сопричастен текущей жизни сообщества Своих созданий. Его соучастие в страданиях мира – высший образец понимания, сопереживания и преображения изобилующих в мире страданий силою любви. Я утверждаю чувствительность Божества, ибо без нее я не в силах найти какой-либо смысл в существовании Бога[586].
Бога Уайтхед описывает как «великого товарища, собрата по несчастьям, понимающего друга». Уильямсу определение Уайтхеда нравилось; он любил говорить о Боге как о «поведении» мира или «события»[587]. Не следует противопоставлять сверхъестественный порядок природному миру, доступному нашему восприятию. С другой стороны, Уильямc не был и редукционистом. По его мнению, наши представления о естественном должны охватывать все без исключения источники вдохновения, способностей и потенциальных возможностей, которые прежде казались чудесными. Туда же нужно отнести, как издавна призывают буддисты, и наши «религиозные переживания». Когда Уильямса спросили, считает ли он Бога отделенным от природы, философ сказал, что он в этом не уверен. Он осуждал древнегреческую идею апатии и видел в ней едва ли не святотатство: эта концепция делала Бога далеким от людей, слишком безучастным и самодостаточным. С другой стороны, Уильямc отрицал, будто проповедует пантеизм. Его богословие было всего лишь попыткой вернуть вере прежнее равновесие, утрата которого привела к отчуждению Бога от людей: теперь они не могут простить Ему Освенцим и Хиросиму.
Другие мыслители, которым достижения современности внушали меньше оптимизма, стремились сберечь озадачивающую идею трансцендентного Бога. Иезуит Карл Ранер разработал трансцендентальное богословие, где Бог был высшей загадкой, а Иисус – бесспорным и убедительным свидетельством того, каким может стать человечество. Бернард Лонерган тоже отмечал важность трансцендентности и умозрения как категорий противоположных опыту. Самостоятельно разум не в силах добиться столь ценимой им прозорливости: на своем пути он то и дело натыкается на преграды, для преодоления которых необходимо менять умонастроение. Во всех культурах и во все времена человек руководствовался одними и теми же императивами: быть умным, ответственным, любящим и уметь, когда это необходимо, изменяться. Стремление превзойти себя и свои нынешние воззрения заложено, таким образом, в самой человеческой природе и указывает на присутствие так называемого «Божества» во всех великих подвигах. Однако, по мнению швейцарского богослова Ганса Урса фон Бальтазара, Бога нужно искать не в логике и абстрактных построениях, а в искусстве: католическое откровение опиралось по сути своей на идею Вочеловечения. В блестящих исследованиях творчества Данте и Бонавентуры Бальтазар показывает, что католики «видели» Бога в человеческом облике. Подчеркнутое внимание к красоте обрядов, драматических постановок и шедевров художников-католиков показывает, что Бога можно найти с помощью органов чувств, не ограничиваясь рассудочными, отвлеченными способностями психики.
Мусульмане и иудеи тоже всматривались в прошлое, стремясь найти в нем те представления о Боге, которые соответствовали бы настоящему. Абу ал-Калам Азад (ум. в 1959 г.), видный пакистанский богослов, обратился к Корану в поисках такой идеи Бога, которая была бы не настолько возвышенной, чтобы приравнять Аллаха к «Ничто», но и не настолько очеловеченной, чтобы превратить Его в идола. Мыслитель отмечал символический характер коранического повествования и присущее Священной Книге равновесие образных, иносказательных, антропоморфных описаний и неустанных напоминаний о несопоставимости Бога со всем сущим. Другие мусульмане возвращались тем временем к суфизму и пытались найти в нем прозрения о взаимоотношениях Бога со вселенной. Швейцарский суфий Фритьоф Шюон возродил доктрину Единственности Бытия (вахдат ал-вуджуд), сформулированную еще ибн ал-Араби, который утверждал, что поскольку Бог – единственная реальность, то ничто вне Его не существует, и само мироздание, строго говоря, тоже Божественно. Шюон не забывал напоминать, что истина эта эзотерична и должна рассматриваться только в контексте мистических дисциплин суфизма.
Некоторые мусульманские богословы стремились приблизить Бога к людям и связать Его с политическими проблемами современной эпохи. В годы, предшествовавшие революции в Иране, молодой философ Али Шариати привлек на свою сторону огромные массы образованных представителей среднего класса. Именно он сыграл главную роль в том, что чуть позже они выступили против шаха, хотя муллы, по большей части, не одобряли религиозных провозвестий Али Шариати. На митингах демонстранты несли его портреты рядом с изображениями аятоллы Хомейни, однако трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Али Шариати в Иране после революции, если бы он дожил до того дня. Шариати считал, что под влиянием Запада мусульмане оторвались от своих культурных корней и спасти их от хаоса может лишь новое толкование давних символов веры. Примерно так же рассуждал в свое время Мухаммад, придавший монотеистический смысл языческому обряду хаджжа. В своей книге «Хаджж» Шариати совершает вместе с читателями паломничество в Мекку и последовательно излагает динамическую концепцию Бога, которую каждый паломник обязан пережить на личном опыте. Так, приближаясь к Каабе, паломнику надлежит осознать, насколько правильна простота этой святыни: «Кааба – не конечное место назначения, но лишь путевой знак, помогающий не сбиться с пути. Она лишь указывает верное направление»[588]. Кааба – живое свидетельство того, как важно превзойти любые слова человека о Божестве, которые никогда не должны быть самоцелью. Почему Кааба представляет собой простой куб без украшений? Именно потому, что являет нам «тайну Бога во вселенной: Бог лишен формы, цвета и каких-либо сходств со всем привычным. Какие бы формы или условия ни выбирал или видел в воображении человек, они не имеют ничего общего с Богом»[589]. Сам хаджж служил реальным противоядием чувству отчужденности, терзавшему многих иранцев в постколониальный период. В этом паломничестве воплощался экзистенциальный путь каждого человека, чья жизнь обращается вокруг единственного средоточия – несказанного Бога. Деятельная вера Шариати была опасна: тайная полиция шаха подвергала его пыткам, выслала из страны и в 1977 г., по всей вероятности, организовала его убийство в Лондоне.
Мартину Буберу (1878–1965 гг.) открылось не менее динамичное видение иудаизма как духовного процесса и тоски по всеобщему единству. Его религия целиком сводилась к встрече с Богом-личностью; эта встреча почти всегда происходит при нашем общении с другими смертными. Существуют две сферы. Первая представляет собой мир пространства и времени, где мы вступаем в общение с другими сущностями на субъектно-объектном уровне: «я – оно». Во второй сфере окружающие предстают перед нами такими как есть и самодостаточными. Это измерение «я – ты», где открывается присутствие Бога. Жизнь есть непрестанная беседа с Богом, который вовсе не посягает на наше творчество и личную свободу, поскольку никогда не говорит, чего Он от нас хочет. Мы воспринимаем Его просто как присутствие и императив, но смысл этому должны придать сами.
Эти идеи явственно отличались от традиционного иудаизма, и толкование священных текстов у Бубера получалось местами весьма натянутым. Как кантианец, Бубер практически не упоминал о Торе, которая, по его мнению, отдаляет от Бога. Бог – не законодатель! Встреча на уровне «я – ты» подразумевает свободу и стихийность, не имеющие ничего общего с бременем традиций минувшего. Но все же мицвот занимают в иудейской духовности центральное место – именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что Бубер среди христиан был популярнее, чем среди самих евреев.
Бубер понимал, что слово «Бог» давно выродилось и стало затасканным, но все равно не хотел от него отказываться. «Где взять мне иное слово, чтобы описать ту же реальность?» Это понятие несет в себе огромный и сложный смысл, вызывает множество священных ассоциаций. Но к тем, кто отбросил слово «Бог», следует все же относиться с почтением, ибо во имя этого «Бога» совершалось множество чудовищных злодеяний:
Легко понять, почему некоторые предлагают временно помолчать о «последних вопросах»: они хотят вернуть исходный смысл извращенным словам. Но так ничего нельзя исправить. Невозможно отчистить понятие «Бог», невозможно вернуть ему былую цельность. Однако мы все-таки можем поднять его с земли, запятнанное и искалеченное, и вознести над часом великой скорби[590].
В отличие от других рационалистов, Бубер не отвергал мифы. Лурианский миф о божественных искрах, увязших в нашем мире, имел для Бубера важнейшее символическое значение. Отделение искр от Божества отражает человеческий опыт отчужденности. Вступая в общение друг с другом, мы возрождаем изначальное единство и уменьшаем разобщенность в мире.
Пока Бубер искал ответы в Библии и хасидизме, Авраам-Йехошуа Хешель (1907–1972 гг.) вернулся к духу раввинов и Талмуда. В противоположность Буберу, он верил, что именно мицвот помогут евреям справиться с бесчеловечными силами современности. Мицвот – это поступки, призванные удовлетворить не наши собственные нужды, а потребности Бога. Характерными особенностями нынешнего образа жизни являются утрата индивидуальности и эксплуатация: даже Бога низвели до уровня вещи, которую можно приспособить к собственным целям. Вследствие этого религия превратилась в занятие скучное и серое. Для того чтобы раскопать наносные структуры и найти в недрах души изначальное благоговение, ощущение чуда и загадочности, людям нужно некое «глубинное богословие». Бесполезно доказывать существование Бога логическим путем. Вера в Бога начинается с прямого постижения, которое не имеет ничего общего с концепциями и рациональными суждениями. Библию, как и стихи, нужно читать между строк – только тогда она дает ощущение святости. В мицвот следует видеть прежде всего символические действия, приучающие жить в атмосфере Божественного присутствия. Каждая мицва – место встречи с Богом среди мелочей повседневной жизни. Мицвот, как и произведения искусства, имеют свою логику и ритм. Прежде всего, следует понимать, что мы, люди, очень нужны Богу, ведь Он – не далекое «божество философов», а Бог страстный и чуткий, Бог пророков.
Во второй половине XX в. идея Бога увлекла и философов-атеистов. В работе «Бытие и время» (1927 г.) Мартин Хайдеггер (1899–1976 гг.) рассматривал Бытие примерно так же, как и Тиллих, хотя, разумеется, не согласился бы с тем, что это «Бог» в христианском смысле. Так или иначе, хайдеггеровское Бытие отличалось от частных «бытий» и явно находилось в стороне от привычных категорий мышления. На многих христиан идеи Хайдеггера произвели сильное впечатление – несмотря на сомнения в их моральной ценности, вызванные связью мыслителя с нацистским режимом. В речи о метафизике, с которой Хайдеггер выступил в 1933 г., когда принимал должность ректора Фрейбургского университета, философ развил целый ряд идей, встречавшихся еще в работах Плотина, Дионисия и Эриугены. Поскольку Бытие есть «Совершенно Иное», оно, по существу, являет собой Ничто, то есть «не что-то» – не объект и не частную сущность. Тем не менее именно Оно делает возможным всякое существование. Древние полагали, что ничто не появляется из ничего, однако Хайдеггер развернул это суждение: ex nihilo omne qua ens fit. Речь он закончил известным вопросом Лейбница: «Почему на свете что-то существует, а не царит полное ничто?» Почему нечто существует – этот вопрос, вызывающий удивление, потрясение и ощущение чуда, является неизменным мотивом отклика человека на окружающий мир. С того же вопроса начинается и хайдеггеровское «Введение в метафизику» (1953 г.). Богословы полагают, что ответ на него и решение всех прочих проблем бытия таятся в Боге. Однако их Бог – лишь еще одна сущность, а не что-то Совершенно Иное. Конечно, Хайдеггер несколько упрощает религиозную идею Бога (хотя многие верующие понимают Его именно так), но сам нередко говорит о Бытии языком мистики – говорит как о величайшем парадоксе; процесс мышления он описывает как ожидание, «вслушивание» в Бытие, а возвращение и уход Бытия переживает так же остро, как мистики ощущали отсутствие Бога. Люди не в состоянии что-либо сделать, чтобы мыслью своей привести Бытие к существованию. Со времен античности обитатели Запада склонны забывать о Сущем и сосредоточиваться только на сущностях, что и привело в конце концов к нынешнему технологическому взлету. В написанной в последние годы жизни статье под названием «Только Бог может нас спасти» Хайдеггер полагает, что переживание отсутствия Бога в нынешнее время может освободить нас от одержимости сущностями. Но сами мы не в силах вернуть Сущее в настоящее. Мы можем лишь надеяться на новое Его пришествие в грядущем.
Философ-марксист Эрнст Блох (1885–1977 гг.) считал идею Бога естественной для человечества. Вся жизнь человека нацелена на будущее; настоящее воспринимается нами как нечто незавершенное и несовершенное. В отличие от животных, люди никогда не довольствуются достигнутым и хотят большего. Именно эта черта заставляет нас мыслить и развиваться, ибо в каждый миг своего существования мы поневоле должны превосходить самих себя и тянуться к следующей ступени: новорожденный рвется встать на ножки; карапуз, едва научившийся ходить, постепенно осваивается и превращается в резвого малыша – и так далее. Все наши мечты и надежды связаны с предстоящим. Сама философия начинается с ощущения чуда, тяги познать доселе неведомое. Социализм тоже обращен к утопическому идеалу; сами марксисты религию отрицают, но где есть надежда, там есть и вера. Как и Фейербах, Блох видел в Боге еще не осуществившийся общечеловеческий идеал, но считал его неотъемлемой – и вовсе не разобщающей – гранью человеческой жизни.
Макс Хоркхаймер (1895–1973 гг.), немецкий социолог-теоретик, основатель Франкфуртской школы, тоже видел в «Боге» важный идеал – что перекликалось с представлениями древних пророков. Существует Бог или нет, верят в Него или не верят – вопрос несущественный. Не будь идеи Бога, у людей не было бы никаких представлений о смысле бытия, истине и нравственности: этика стала бы делом вкуса, минутным настроением, капризом. Пока политика и мораль не включают в себя хотя бы в какой-то мере идею «Бога», они остаются чисто прагматичными и, в лучшем случае, ловкими, но до настоящей мудрости им очень далеко. Если нет ничего абсолютного, то нет и никаких причин сдерживать злобу против кого-то или предпочитать мир войне. Религия есть прежде всего внутреннее чувство, что Бог есть. Один из самых ранних человеческих идеалов – тоска о справедливости (вспомним, как часто дети жалуются: «Так нечестно!»). Религия – это написанная бесконечной чередой людей повесть о всеобщих чаяниях перед лицом страданий и обид. Религия помогает нам сознавать ограниченность собственной природы; всем хочется верить, что наш мир не будет несправедливым до скончания веков.
Тот факт, что люди, лишенные традиционных религиозных убеждений, поневоле снова и снова возвращаются к центральным сюжетам истории Бога, означает, что идея эта не так чужда человеку, как многие думают. С другой стороны, во второй половине XX в. наметилось отступление от идеи Бога-личности, который выглядит просто как «увеличенный» человек. В этой тенденции тоже нет ничего нового. Мы уже знаем, что сходный процесс отражен в древнееврейских текстах, которые христиане именуют «Ветхим Заветом». Коран с самого начала представил Аллаха в менее персонифицированных категориях, чем иудео-христианская традиция. Такие доктрины, как Троица, а также мифологичность и символизм мистических учений призваны были засвидетельствовать, что Бог выше личности. Тем не менее верующие в большинстве своем эту идею не разделяли. В 1963 г., когда Джон Робинсон, епископ Вулиджский, опубликовал книгу «Honest to God» («Быть честным перед Богом»), где заявил, что отныне не может верить в прежнего, пребывающего «где-то там» Бога-личность, в Британии разразился большой скандал. Не меньшее возмущение вызывали многочисленные замечания Дэвида Дженкинса, епископа Даремского, хотя в академических кругах его идеи давно стали совершенно будничными. Дон Кьюпитт, декан колледжа Эммануэля в Кембридже, получил кличку «пастора-безбожника», поскольку считал традиционного «реалистичного» Бога теистов неприемлемым и предлагал взамен нечто вроде христианского буддизма, где религиозные переживания предшествуют любому богословию. Как и Робинсон, Кьюпитт путем рассуждений пришел к тому же прозрению, которого мистики всех трех религий единобожия обычно достигали интуитивно. Однако сама мысль о том, что Бога нет, а «где-то там» есть только Ничто, была отнюдь не новой.
В наше время усиливается нетерпимость к неадекватным образам Абсолюта. Это вполне здравое иконоборчество, поскольку в прошлом злоупотребления идеей Бога часто приводили к катастрофическим последствиям. Одной из основных примет развития новых представлений о Боге во всех мировых религиях (в том числе, и монотеистических) стал в 70-е годы всплеск активности того типа, который принято называть «фундаментализмом». В своих воззрениях эта чрезвычайно политизированная духовность буквалистична и нетерпима. В Соединенных Штатах, где верующие всегда были склонны к крайностям и апокалиптическим страстям, христианский фундаментализм непосредственно связан с «Новыми правыми». Кампания фундаменталистов направлена прежде всего против легализации абортов и отличается, в целом, жесткими требованиями в отношении моральной и общественной благопристойности. В годы правления Рейгана неожиданную политическую силу набрало «Моральное Большинство» (Moral Majority) Джерри Фолуэлла. Другие евангелисты (в частности, Моррис Серулло) воспринимают высказывания Иисуса совершенно буквально и свято верят, что определяющими приметами настоящей веры являются чудеса. Бог, по их мнению, одарит верующего всем, о чем тот попросит в молитвах. В Британии подобные заявления делали такие фундаменталисты, как Колин Уркухарт. О любящем сострадании Иисуса христианские фундаменталисты, между тем, явно забывают и скоропалительно обвиняют всех и вся, именуя своих противников «врагами Божьими». Большинство фундаменталистов не сомневается, что евреям и мусульманам суждено гореть в аду, а Эркхарт даже доказывал, что все восточные религии возникли по дьявольскому наущению.
Аналогичные процессы переживает и исламский мир, о нетерпимости которого так много говорится на Западе. Мусульмане-фундаменталисты низвергли не одно правительство, убили или запугали смертными приговорами многих «врагов ислама». Еврейские фундаменталисты обосновались тем временем на оккупированных территориях западного берега реки Иордан и в секторе Газа и открыто провозглашают свои намерения изгнать оттуда арабов, не гнушаясь при необходимости применением силы. Они убеждены, что такими действиями проторяют путь Мессии, пришествие которого вот-вот ожидается. Во всех своих формах фундаментализм – вера яростная и упрощенная. Так, раввин Меир Кахане, самый большой экстремист в движении «Крайне правые Израиля», вплоть до 1990 года, когда его убили в Нью-Йорке по политическим мотивам, заявлял:
Иудаизм не провозвещает много. Провозвестие у него только одно: делать то, чего хочет Бог. Иногда Бог хочет, чтобы мы воевали, иногда – чтобы мы жили в мире. […] Но провозвестие все равно только одно: Бог пожелал, чтобы мы пришли на эту землю и создали тут еврейское государство[591].
Таким образом, израильский фундаментализм полностью отмел целые века развития иудаизма и вернулся к воззрениям эпохи Второзакония, в духе «Книги Иисуса Навина». Неудивительно, что, столкнувшись с кощунственными утверждениями о том, будто «Бог» отказывает всем, кроме избранных, в каких-либо человеческих правах, многие приходят к выводу, что чем скорее мир избавится от такого «Бога», тем лучше будет для всех.
Впрочем, как показано в предшествующей главе, подобная религиозность означает на деле отречение от Бога. Превращение таких сугубо человеческих, исторических явлений, как христианские «семейные ценности», «ислам» или «Святая Земля», в главное средоточие религиозного рвения – просто новая форма идолопоклонства. Воинственная праведность такого рода искушала верующих на протяжении всей долгой истории Единого Бога, но ее практически всегда отвергали как лишенную силы. У Бога иудеев, христиан и мусульман было не самое удачное начало, когда узкоплеменной божок Яхве проявлял губительную предвзятость ко всем народам, кроме израильтян. И вот уже крестоносцы новейшего времени вернулись к этой дикарской этике, недопустимо высоко превознося систему ценностей своего племени и подменяя искусственными идеалами трансцендентную реальность, которая как раз и должна вызывать у человека сомнения в его правоте. Они пренебрегают и другим важнейшим законом монотеизма: еще с тех пор, когда пророки Израиля реформировали древний языческий культ Яхве, единый Бог завещал сострадание к ближнему.
Мы уже видели, что сострадание было характерной чертой большинства идеологий, возникших в «Осевую эпоху». Этот идеал даже подтолкнул буддистов к значительному перевороту в религиозных ориентирах – поклонению (бхакти) самому Будде и бодхисаттвам. Пророки настаивали на том, что любой культ бессмыслен, если не делает общество в целом более справедливым и сострадательным. Иисус, апостол Павел и раввины разделяли эти древнееврейские идеалы и ради них стремились внести в иудаизм радикальные изменения. Коран сделал основным содержанием реформированной веры в Аллаха построение сострадательного и справедливого общества. Добродетель сострадания дается людям с особым трудом, поскольку требует выхода за рамки эгоизма, страхов и унаследованных предрассудков. Неудивительно, что в истории всех трех религий Единого Бога бывали периоды, когда верующие не соответствовали этим высоким требованиям. В XVIII в. деисты отвергли традиционное западное христианство – прежде всего потому, что обнаружилась его жестокость и нетерпимость. То же относится и к нашему времени: многие верующие, причем даже не фундаменталисты, слишком часто проявляют агрессивную «праведность» и используют идею «Бога» как обоснование собственных предпочтений и предубеждений, которые приписываются Самому Богу. Иудеи, христиане и мусульмане, которые пунктуально посещают свои богослужения, но в то же время чернят людей, принадлежащих к иным этническим или идеологическим лагерям, по существу отрицают одну из важнейших истин собственной веры. Равно не подобает тем, кто называет себя иудеем, христианином или мусульманином, потворствовать несправедливому устройству общественной системы. Однако Бог исторического монотеизма требует милости, а не жертв, сострадания, а не пышных священнодействий.
Между теми, кто склонен к культовой стороне веры, и теми, кто стремится воспитать в себе образ сострадательного Бога, можно заметить разницу. Пророки метали громы и молнии в тех своих современников, которые считали, будто для веры достаточно одних лишь храмовых обрядов. Иисус и апостол Павел недвусмысленно разъяснили, что соблюдение внешних формальностей бесполезно, если ритуалы не подкреплены отзывчивостью к ближним, – иначе это просто «медь звенящая, или кимвал звучащий»[592]. Мухаммад столкнулся с серьезным противодействием тех арабов, которые хотели отправлять, наряду с поклонением Аллаху, и древние обряды в честь языческих богинь, то есть забыть о сострадательном умонастроении, которое Бог назвал непременным условием любой искренней веры. Сходное размежевание произошло в свое время и в языческой Римской империи: старинные культы восхваляли подражание прошлому, а философы тем временем проповедовали новое благовестие, которое, по их мнению, должно было перевернуть мир. Вполне возможно, что сострадательный идеал религии Единого Бога всегда исповедовало лишь меньшинство верующих, ведь всем остальным было слишком трудно нести тяготы Богопереживаний с их бескомпромиссными этическими законами. Даже после того, как Моисей принес с горы Синайской скрижали Завета, большинство евреев предпочло культ Золотого Тельца – традиционного и добродушного божества, рукотворного идола, – с его утешительными и освященными временем обрядами. Изготовлением золоченого истукана руководил первосвященник Аарон: религиозные институты обычно совершенно глухи к воодушевляющим призывам пророков и мистиков, несущих провозвестия куда более требовательного Бога.
Бога можно использовать как бесплатную панацею, бегство от повседневности или как объект фантазий, тешащих самолюбие. Идею Бога часто превращали в «опиум для народа». Особенно опасной она становилась, когда Бога мыслили как обычную сущность – точь-в-точь как простого смертного, только лучше и больше. Такой «Бог» жил в собственном небесном мире, но Райские Небеса изобиловали чисто земными удовольствиями. Изначально, однако, «Бог» все-таки помогал людям сосредоточиваться на окружающем мире и не отворачиваться от неприглядных сторон действительности. Даже языческий культ Яхве, при всей его несомненной ущербности, подразумевал активное участие Бога в текущих делах (а не только в событиях священных мифических времен). Благодаря пророкам израильтяне вынуждены были исправлять свои оплошности в организации общественной жизни и осознавать собственную долю вины в неотвратимой политической катастрофе, через которую Бог раскрывал Себя. Христианская доктрина Вочеловечения подчеркивает имманентное присутствие Бога в мире плоти и крови. Озабоченность тем, что происходит здесь и сейчас, с особой очевидностью заметна в исламе: мало кто был реалистичнее Мухаммада, чей гений проявился и в духовной, и в политической сфере. Как нам уже известно, последующие поколения мусульман вслед за Пророком мечтали воплотить в жизнь Божественную волю и создать справедливое, благородное общество. Бог с самого начала воспринимался как руководство к действию. Начиная с той минуты, когда Бог – то ли Эль, то ли Яхве – призвал Авраама уйти из родного Харрана, культ этого божества требовал от людей конкретной деятельности в земном мире, а порой и мучительного расставания с древними святынями.
Это смещение ценностей сопровождалось огромным напряжением сил. Бога Святого, совершенно иного и далекого, пророки воспринимали с глубоким потрясением. Той же святости и обособленности этот Бог требовал и от своего народа. Когда Он говорил с Моисеем на Синае, израильтяне не были подпущены даже к подножию горы. Между человеческим и Божественным внезапно разверзлась прежде неведомая и непреодолимая бездна, расколовшая целостное мироощущение эпохи язычества. Возникла угроза отчуждения от окружающего мира, в которой отразились зачатки понимания того, что каждая личность обладает неоспоримым правом на свободу. Монотеизм укрепился в период Вавилонского плена отнюдь не по чистой случайности, ведь именно тогда на первый план у израильтян вышел идеал личной ответственности, сыгравший позднее решающую роль в истории как иудаизма, так и ислама[593]. Мы убедились, что раввины воспользовались идеей имманентного Бога, чтобы внушить евреям идею священных прав личности. Тем не менее всем трем религиям единобожия по-прежнему грозил отрыв от будничного мира: на Западе сближение с Богом неизменно сопровождалось чувством вины и пессимизмом в отношении человеческих слабостей, а в иудаизме и исламе соблюдение Торы или шариата, естественно, воспринималось подчас как следование внешнему закону – хотя, как нам уже известно, такое отношение полностью противоречило первоначальным замыслам тех, кто составлял своды этих законов.
Проповедуя освобождение от того Бога, который требовал от людей рабского послушания, атеисты фактически выступали против ошибочного, но, к сожалению, уже привычного понимания Бога. Это понимание основывалось на непомерно очеловеченном образе Божества и слишком буквальном толковании сюжетов Божьего Суда, засвидетельствованных Писанием; Бог представлялся как бы «Большим Братом», восседающим на небесах. Образу божественного Тирана, навязывающего чуждый закон своим порабощенным слугам, пришел конец. Запугивание простых людей и принуждение их к гражданскому повиновению стало неприемлемым, да и невозможным, как со всей очевидностью и убедительностью показало падение мирового коммунистического режима осенью 1989 г. Очеловеченный образ Бога как Законодателя и Самодержца не соответствует нынешним умонастроениям. Не совсем правы оказались, впрочем, и атеисты, которые жаловались на неестественность идеи Бога. Мы уже видели, что иудеи, христиане и мусульмане разрабатывали очень похожие представления о Божестве, близкие к другим религиям Абсолюта. Когда люди стремятся найти окончательный смысл бытия и высшие ценности человеческой жизни, их мысли обычно текут в каком-то одном направлении. Поскольку никто их к этому не принуждает, то становится очевидным, что мы имеем дело с естественными общечеловеческими свойствами.
Тем не менее, для того чтобы подобные чувства не выродились в легкомысленную, агрессивную или нездоровую эмоциональность, их следует подвергать критическому осмыслению. Связанные с Богом переживания должны идти нога в ногу с другими источниками вдохновения, включая рассудок. Фалсафа стала одной из первых попыток соединить веру в Бога с культом разума, воцарявшимся в разные эпохи среди мусульман, иудеев и христиан Запада. Со временем мусульмане и иудаисты отошли от философии. Они пришли к выводу, что рациональный подход весьма полезен в частных случаях – особенно в таких эмпирических сферах, как естествознание, медицина и математика, – однако совершенно непригоден для рассуждений о Боге, который заведомо выше любых концепций. Греки тоже это почувствовали и очень рано перестали полагаться на собственную метафизику. Одним из серьезнейших недостатков философского метода в рассуждениях о Божестве является то, что логические суждения превращают Бога в обычную, пусть и нерядовую, Сущность, в высшую среди всего сущего, но не совершенно иную категорию бытия. Тем не менее фалсафа была важным этапом развития идеи Бога, поскольку явственно показала необходимость связывать опыт постижения Бога с другими переживаниями – задача лишь в том, чтобы определить, в какой мере это возможно. Вытеснять Бога в зону интеллектуальной изоляции, какое-то священное гетто, предназначенного для Него Одного, – занятие нездоровое и неестественное. В результате многие люди могут решить, что обычные критерии порядочности и здравомыслия неприложимы к поступкам, предположительно внушенным «Господом».
Фалсафа с самого начала пребывала в тесной связи с наукой. Восторженное отношение к медицине, астрономии и математике привело к тому, что исламские файласуфы принялись рассуждать об Аллахе на метафизическом языке. Наука привела к значительным переменам в их системах взглядов, и файласуфы быстро поняли, что уже не могут мыслить Бога так, как это делали их братья по вере. Философская концепция Бога принципиально отличалась от коранической, но файласуфам все же удалось возродить некоторые истины, которые к тому времени умма рисковала окончательно утратить. Так, например, Коран сохраняет в высшей степени положительное отношение к иным религиозным традициям: в конечном счете, сам Мухаммад вовсе не считал, что принес людям новую, уникальную религию, но, напротив, полагал, что любая истинная вера ниспослана человечеству Единым Богом. Однако к концу IX в. улемы начали понемногу забывать об этом и создавать культ ислама как единственной истинной веры. Файласуфы восстановили прежнюю идею всеобщности, хотя и пришли к ней своим, особым путем. Сходные обстоятельства сложились и в наше время: в век науки мы уже не можем мыслить Бога таким, каким видели его наши пращуры, однако именно научные открытия могут способствовать новой положительной оценке многих древних истин.
Известно, что определенную склонность к мистической вере питал даже Альберт Эйнштейн. Несмотря на его знаменитое изречение «Бог не играет в кости», ученый отнюдь не предполагал, что его теория относительности заденет концепцию Божества. В 1921 г., когда Эйнштейн посетил Англию, архиепископ Кентерберийский поинтересовался в личной беседе, как недавние открытия ученого могут повлиять на богословие. «Никак, – ответил Эйнштейн. – Относительность – дело чисто научное и к религии не имеет никакого отношения»[594]. Построения таких ученых, как Стивен Хокинг, который не находил в своей космологии места для Бога, пугают христиан, вероятно, потому, что многие верующие до сих пор мыслят Бога в очеловеченном образе, видя в Нем обыкновенную Сущность, сотворившую мир примерно так, как люди создают вещи. Однако изначально сотворение мира воспринималось вовсе не столь буквально. Интерес к Яхве как Создателю не проявлялся в иудаизме вплоть до Вавилонского пленения. Грекам эта концепция тоже долгое время была чужда: сотворение ex nihilo стало официальной христианской доктриной только в 341 г. на Никейском соборе. Создание мира Творцом является одним из центральных положений Корана, однако эта идея, как и все прочие суждения о Боге, представлена в священной книге ислама как «притча», «знамение» (айат) несказанной истины.
Иудейские и мусульманские рационалисты считали эту доктрину трудной для понимания и весьма проблематичной; многие ее вообще отвергали. Суфии и каббалисты отдавали между тем предпочтение греческой метафоре эманаций. Так или иначе, любая космология была тогда не научным объяснением происхождения вселенной, а чисто символическим выражением духовной и психологической истины. Современная наука не вызывает в исламском мире большого воодушевления, тем более что, как нам уже понятно, самой большой угрозой для традиционных представлений о Боге стала не наука, а события недавней истории. На Западе, однако, давно господствует сугубо буквальное понимание Св. Писания. Когда многие христиане Запада явственно ощутили, что новая наука подрывает их веру, Бог, вероятно, все еще представлялся им ньютоновским Великим Механиком – а персонифицированную идею Бога, судя по всему, невозможно обосновать ни религиозно, ни научно. Вызов, брошенный учеными, вызвал у Церкви потрясение и заставил ее ценить символический характер библейского повествования.
Становится все более очевидным, что идея Бога-личности в наши дни неприемлема. Причин тому более чем достаточно – моральных и интеллектуальных, научных и духовных. Феминизм отверг персонифицированное божество потому, что о нем издавна, еще с языческой эпохи, говорят в мужском роде. Впрочем, говорить однозначно, что это «Она», то есть менять Его пол на противоположный, ничем не лучше, поскольку таким способом беспредельный Бог низводится до уровня чисто человеческих категорий. Древняя метафизическая идея Бога как Высшего Существа, очень долго господствовавшая на Западе, теперь тоже выглядит неудовлетворительной. Бог философов – порождение вышедшего из моды рационализма, а традиционные «доказательства» существования Бога уже опровергнуты. Тот факт, что в эпоху Просвещения деисты единодушно приняли Бога философов, стал первым шагом к нынешнему атеизму. Как и первобытный Бог Неба, это божество оказалось слишком далеким от человека в повседневной жизни, превратилось в Deus Otiosus и сейчас постепенно исчезает из нашей памяти.
Возможным решением проблемы современности может стать Бог мистиков, которые всегда настаивали на том, что Бог – не одна из сущностей среди прочих, что Он не существует в привычном смысле слова и Его вообще правильнее именовать «Ничто». Такой Бог вполне согласуется с атеистическими воззрениями нашего секулярного общества, питающего заведомое недоверие к неадекватным образам Абсолюта. Философы видели в Боге объективный Факт, подтверждаемый привычными методами научного доказательства, но мистики заверяли, что Он – чисто субъективное переживание, таинственная основа вселенского бытия. К такому Богу можно приблизиться лишь силой творческого воображения. Он – проявление своеобразного искусства, в чем-то сходное с другими великими художественными символами, выражающими несказанную загадку, красоту и ценность жизни. Мистики были музыкантами, танцорами, поэтами, писателями, сказочниками, живописцами, скульпторами и архитекторами – именно искусство помогало им говорить о той Реальности, что выше любых слов. Более того, мистицизм тоже требует разумности, дисциплины и самокритичности, которые препятствуют самопотворствующей чувственности и фантастическим домыслам. Бог мистиков устроит, вероятно, даже феминисток, ибо суфии и каббалисты издавна стремились дополнить Божественное женским началом.
У этой идеи Бога есть, впрочем, и свои недостатки. Многие евреи и мусульмане относятся к мистицизму с подозрительностью еще со времен скандала с Саббатаем Цеви и более позднего упадка суфизма. На Западе мистицизм вообще никогда не был основной формой проявления религиозности. Реформаторы – как протестанты, так и католики – либо объявляли мистиков вне закона, либо делали вид, будто мистиков вообще не существует; а научный Век Разума принципиально не поощрял мистического восприятия. Тем не менее в 60-е годы на Западе поднялась волна интереса к мистицизму, которая выразилась в массовом увлечении йогой, медитацией и буддизмом, хотя этот подход не так легко совместить с нашим объективистским, эмпиричным мировосприятием. Бог мистиков довольно труден для понимания. Сближение с Ним требует подготовки под руководством опытного наставника – и, что существенно, подготовки очень долгой. Чтобы вызвать у себя ощущение той Реальности, которую принято называть «Богом» (и которой многие вообще отказываются давать какое-либо название), мистикам приходится немало потрудиться. Мистики нередко заявляют, что человек должен целенаправленно воспитывать в себе ощущение Божества и что работа эта требует той же самоотдачи и сосредоточенности, какая нужна для художественного творчества. Маловероятно, чтобы подобная деятельность привлекла многих членов общества, которое давно привыкло к быстрым удовольствиям, еде на скорую руку и мгновенной передаче информации. Бог мистиков, однако, не является по первому зову, в стандартной упаковке с готовой инструкцией для пользователя. Мистическое ощущение Божества – отнюдь не скоропалительный экстаз, вызванный речами проповедника-«возрожденца», когда он за пару минут заставляет всех прихожан рукоплескать и наделяет даром иных языков.
И все же приобрести некоторый мистический опыт можно. Пусть нам пока не даны высшие состояния сознания, в которые погружаются мистики, но мы вполне в состоянии усвоить, например, что Бог не существует ни в каком упрощенном смысле или что само слово «Бог» – лишь символ непостижимой Реальности, выходящей за рамки всего известного. Мистический агностицизм поможет выработать своеобразные внутренние ограничители, не позволяющие вторгаться в сферу сложнейших проблем бытия с догматичной самоуверенностью. Впрочем, пока не прикоснешься ко всем этим проблемам собственным сердцем, пока не ощутишь их как личный опыт, они скорее всего так и останутся невразумительными абстрактными концепциями. Мистицизм «с чужого плеча» может принести не меньшее разочарование, чем чтение литературных комментариев или критических заметок вместо самих стихов. Мы уже знаем, что мистицизм часто расценивался как учение эзотерическое, но вовсе не потому, что мистики стремились скрыть свои знания от невежественной толпы. Главная причина заключалась в том, что мистические истины открываются только интуитивным слоям ума – да и то лишь после тщательной подготовки. При таком подходе они приобретают совершенно новый, особый смысл, недоступный логическому и рациональному мышлению.
Монотеисты начали творить своего Бога с тех самых пор, когда израильские пророки впервые попытались описать свои сокровенные переживания, связанные с Божеством. Бог очень редко переходил в категорию самоочевидных объективных фактов, встречающихся повседневно и повсеместно. Сегодня многие, похоже, просто не желают тратить силы на воображение. И в этом не обязательно видеть катастрофу. Теряя привлекательность, религиозные идеи обычно уходят в забвение без каких-либо тяжелых последствий; если в наш эмпирический век прежние представления о Боге перестанут приносить пользу, они, разумеется, будут отброшены. С другой стороны, до сих пор люди всегда создавали новые символы, которые и становились средоточием духовности. Человек во все времена сам создавал то, во что верил, поскольку ему совершенно необходимо ощущение чуда и невыразимого наполнения бытия. Все характерные приметы современности – утрата смысла и цели, отчужденность, крах устоев, насилие – свидетельствуют, судя по всему, что теперь, когда мы уже не пытаемся намеренно создать для себя ни веры в «Бога», ни чего-либо еще (какая, собственно, разница, во что верить?), все большее число людей впадает в полное отчаяние.
Девяносто девять из ста граждан Соединенных Штатов утверждают, что верят в Бога, но растущее множество фундаменталистских течений, апокалиптических сект и соблазнительных курсов «мгновенного просветления» отнюдь не внушает спокойствия. Кривая преступности неуклонно ползет вверх, а наркоманию и возвращение к практике смертной казни едва ли можно счесть признаками духовного здоровья общества. Одним из первых, кто выразил это ощущение унылой безысходности – нечто совершенно противоположное героическому атеизму Ницше, – был Томас Харди. На пороге нового столетия, 30 декабря 1900 года, он написал стихотворение «Черный дрозд» – яркое отражение гибели духа, который уже не способен пробудить в себе веру в осмысленность бытия:
По роще мертвой я бродил В морозном полумраке, И солнце зимнее без сил Мерцало, словно факел. Все жались дома к очагам, Лишь ветер бесприютный, С ветвей срывая пестрый хлам, Их рвал, как струны лютни. Был острый лик земли суров Под прелью увяданья, И облака – ее покров, А ветер – отпеванье. Зародыши во тьме тая, Жизнь замерла в покое. И в безнадежности, как я, Томилось все живое. Но вдруг над головой моей Раздался чистый голос, Как будто радость майских дней Лучами раскололась. Облезлый, старый черный дрозд, От холода весь съежась, Запел при блеске первых звезд Так звонко, не тревожась. Все было пасмурно кругом, Печаль во всем сказалась, И радость в сумраке таком Мне странной показалась — Как будто в песне той, без слов Доходчивой и внятной, Звучал какой-то светлый зов, Еще мне непонятный[595].Человеческая душа не терпит пустоты и одиночества. Любой возникший вакуум она непременно наполняет каким-нибудь новым содержанием. Но истуканы фундаментализма – далеко не лучшие заменители Бога, и если мы хотим создать новую, полную жизни веру двадцать первого века, то нам, пожалуй, стоит сперва поразмыслить над важными уроками и предупреждениями минувшей истории Бога.
Древние цивилизации Ближнего Востока
Израильское и Иудейское царства, 722–586 гг. до н. э.
Христианство и иудаизм, 50–300 гг. н. э.
Мир во времена Отцов церкви, 2 в. н. э. начало 7 в.
Аравийский полуостров и прилегающие территории во времена пророка Мухаммада, 570–632 гг. н. э.
Исламская империя в 750 г.
Исламские иудеи, 750 г.
Переселение иудеев в Германию и Восточную Францию, 500–11 00 гг.
Новый Христианский Запад во времена Средневековья
Глоссарий
АВАТАР (инд.)
В индийской мифологии – сошедший на землю бог в человеческом облике. В общепринятом значении – человек, которого считают воплощением или олицетворением Божества.
АЙАТ
Знамение, притча. В Коране – проявления Божества в нашем мире. (Правильная форма: ед.ч. aйa, мн.ч. айат; в русских текстах чаще встречается, соответственно, айат, айаты. – Прим. пер.)
АЛАМ АЛ-МИТХАЛ (араб.)
У исламских мистиков и философов-созерцателей – мир чистых образов, архетипический мир воображения как посредника в процессе постижения Бога.
АПАТИЯ (греч.)
Невозмутимость, безмятежность, бесстрастие – характеристики Божества, заимствованные из древнегреческой философии и занявшие центральное место в христианских представлениях о Боге как неподвластном никаким страданиям и переменам.
АПОФАТИЧЕСКИЙ (греч.)
Безмолвный. Греко-христиане пришли к убеждению, что в основе любого теологического построения должен лежать элемент парадокса, к которому сводится воздержание от окончательных суждений о сущности и природе Божества.
АРХЕТИП
Первоначальная схема, прообраз мира земного, в представлениях древних отождествлявшийся с высшим миром богов. В язычестве земное, «дольнее» считалось отражением или подобием «горнего» – всего того, что существует в мире небесном (см. также алам ал-митхал).
АТМАН (инд.)
В индуизме – священная сила Брахмана, которую в себе несет и может раскрыть каждый.
АШКЕНАЗИ (евр., от искаж. фр. «Allemagne» – «немецкий»)
Евреи Германии как характерные представители еврейской прослойки населения стран Восточной и Западной Европы.
АХЛ АЛ-ХАДИС (араб.)
«Народ хадисов», традиционалисты – те мусульмане, которые толковали Коран и хадисы буквально, в противовес рационалистическим толкованиям мутазилитов.
БАКÁ (араб.)
Пребывание. В суфийском мистицизме – возвращение к изначально совершенному «Я» необратимым растворением (фанá) в Боге.
БАНАТ АЛ-ЛАХ (араб.)
«Дочери Бога». В Коране это понятие относится к трем языческим богиням: ал-Лат, ал-Узза и Манат.
БАТИН (араб.)
Скрытый смысл Корана. Батини – мусульманин, посвятивший себя постижению эзотерического, мистического содержания веры.
БОГОЯВЛЕНИЕ (греч. epiphania)
Самообнаружение Божества той или иной Его гранью, доступной восприятию человека, – например, появление в человеческом облике.
БОДХИСАТТВА (инд.)
Будущий будда, который отсрочил свой переход в нирвану, чтобы помочь обратиться на путь к ней всему человечеству, страждущему во мраке неведения.
БРАХМАН (инд.)
В индуизме: священная сила, опора всего сущего, сокровенный смысл бытия.
БУДДА (инд.)
Просветленный. Это звание носят те, кто достиг нирваны. Буддой называют также основоположника буддизма Сиддхартху Гаутаму.
БХАКТИ (инд.)
Поклонение будде или какому-либо индуистскому богу, появлявшемуся на земле в человеческом облике.
ВЕРХОВНЫЙ БОГ
Высшее божество, которое множество людей чтило как главного Бога и создателя мира. Со временем Верховный Бог обычно уступал место пантеону более близких и доступных богов и богинь. Известен также как Бог Неба.
ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ
Воплощение Бога в человеке.
ГЕТИК (перс.)
Земной мир, в котором мы живем и который воспринимаем органами чувств.
ГОЙ (др. – евр.; мн.: гойим)
He-еврей, иноверец, язычник.
ДЖАХИЛИЙА (араб.)
Эпоха неведения. В исламе это понятие означает доисламский период жизни Аравии.
ДОГМА (греч.)
Понятие, закрепленное в христианстве за прикровенными, тайными истинами вероучения, которые открываются лишь мистическому постижению и могут быть выражены только символически. На Западе догма стала со временем обозначать общий свод категорических и официально утвержденных мнений.
ДХИКР (араб.)
«Памятование» о Боге, предписанное Кораном. В суфийской практике – повторение имени Бога как мантры.
ЗИККУРАТ
Шумеро-вавилонская башня-храм, чей облик типичен для пирамид, обнаруженных в самых разных уголках мира. К вершине зиккурата, где люди могли встречаться со своими богами, вела большая каменная лестница.
ЗÁННА (араб.)
Букв. «догадки». Этим словом в Коране именуются бессмысленные богословские построения.
ИДЖТИХÁД (араб.)
Независимое суждение.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Поклонение рукотворному божеству, а не трансцендентному Богу.
ИЛМ (араб.)
Тайные «знания» о Боге, которым, по мнению мусульман-шиитов, владеют только имамы.
ИМАМ (араб.)
В шиизме: потомки Али, зятя Пророка Мухаммада. Имамов чтят как воплощения Божества. У суннитов имамом называют того человека, который руководит молением в мечети.
ИПОСТАСЬ (греч.)
Внешнее проявление внутренней природы человека. По значению противоположно понятию ousia, означающему то, что есть человек или предмет в самом себе. Ипостась – то в предмете постижения, что доступно постижению извне. Греки использовали это понятие для обозначения трех проявлений сокровенного естества Бога, который открывается постижению как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
ИСИХАЗМ
От греческого исихия: внутреннее молчание, спокойствие. Безмолвное созерцание, которому предавались греко-православные мистики, избегавшие слов и понятий.
ИСЛАМ
Отвержение себя, полнейшая покорность Богу.
ИШРÁК (араб.)
Озарение. Ишракская школа философии и духовности была основана Йахйя Сухраварди.
ЙОГА (инд.)
Древнеиндийское учение: «единение» сил разума. Пользуясь йогическими методами сосредоточения, йог развивает обостренное восприятие действительности, приносящее покой, блаженство и безмятежность.
КАÁБА (араб.)
Гранитная святыня кубической формы в Мекке.
КАЛÁМ (араб.)
Букв. «споры». Исламское богословие, которое строится на рациональном толковании Корана.
КЕНОЗИС (греч.)
Букв. «самоопустошение». В христианской теологии – добрцовольное Самоуничижение Божества, принявшего на Себя (в лице Иисуса Христа) всю полноту и тягость человеческой природы.
КЕРИГМА (греч.)
Понятие, которым греко-христиане обозначали общедоступное учение Церкви, выражаемое ясным и понятным языком. По смыслу противоположно понятию догма.
ЛИЦО
Понятие, которым в западном христианстве обозначаются три ипостаси Троицы: Отец, Сын и Дух Святой.
ЛОГОС (греч.)
Рассудок; определение; слово. В греческом богословии «Логос» Бога отождествляется с Божественной Премудростью, фигурирующей в Ветхом Завете, а также Словом, о котором говорится в начале Евангелия от Иоанна.
МАНÁ
Первоначально этим словом называли на островах Южных морей незримые силы, пронизывающие весь материальный мир и вызывающие ощущение чего-то священного, божественного.
МЕДРЕСÉ (араб.)
Школа исламских наук.
МЕНÓК (перс.)
Небесная, архетипическая сфера бытия.
МИЦВА (др. – евр.; мн.: мицвот)
Заповедь.
МИШНА (др. – евр.)
Свод иудейских законов, составленный первыми раввинами (тан-найм). Установления Мишны делятся на шесть крупных частей и шестьдесят три малых. Мишна является основой законодательных положений и комментариев Талмуда.
МУСЛИМ (араб.)
Мусульманин, т. е. исповедующий ислам, – тот, кто вверил себя Богу.
МУТАЗИЛИТЫ (араб.)
Исламская секта, представители которой сводили богословскую проблематику к рационалистическому толкованию Корана.
НИРВАНА (инд.)
Букв. «угасание», исчезновение. Буддийское понятие, обозначающее высшую реальность, цель и завершение человеческой жизни, прекращение страданий. Нирвана, как и Бог (высшая цель монотеизма), недоступна определению в рациональных категориях, поскольку относится к принципиально иному измерению.
ОЙКУМЕНА (греч.)
Цивилизованный мир.
ОМОУСИЯ (греч.)
Единосущность (греч. homousion – букв. «сделанный из того же вещества»). Заведомо парадоксальное понятие, введенное Афанасием и его сподвижниками, которые выражали с его помощью убежденность в том, что Иисус имеет ту же сущность (усию; см.), что и Бог Отец, и потому в той же мере есть Божество.
ОРТОДОКСИЯ (греч.)
Букв. «правильное учение», православие. Этим понятием греко-христиане закрепили отличие приверженцев церковной доктрины от еретиков (например, ариан или несториан). Ортодоксальным провозглашает себя также традиционный иудаизм, где исповедуется строжайшее соблюдение Закона.
ОСЕВАЯ ЭПОХА (ОСЕВОЕ ВРЕМЯ)
Принятое у историков название переломного периода с 800 по 200 г. до н. э., когда в цивилизованном мире появились и начали развиваться мировые религии.
ПАРЦУФ (др. – евр.; мн.: парцуфим)
Лик; внешний облик; то же, что лицо в Троице. По учению отдельных школ каббалы, непостижимый Бог раскрывает Себя человеку различными «ликами», каждый из которых обладает своими характерными свойствами.
ПАТРИАРХИ
Авраам, Исаак и Иаков, прародители израильтян.
ПИР (араб.)
Духовный наставник в мусульманском мистицизме.
ПРЕМУДРОСТЬ др. – евр.: Хохма; греч.: София.
В Св. Писании: персонификация Божьего Замысла. Форма описания деятельности Бога в нашем мире, доступная человеческому постижению (в отличие от недосягаемого естества Самого Бога).
ПРЕСТОЛЬНЫЙ МИСТИЦИЗМ
Ранняя форма иудейского мистицизма, главной темой которого были рассуждения о Меркаве (Меркабе) – Небесной Колеснице, явившейся в видении пророку Иезекиилю. По образному содержанию – воображаемое восхождение чрез многочисленные залы (гехалот) Божьего чертога к Его небесному трону.
РАЗРУШЕНИЕ СОСУДОВ
Исходное понятие в космологии каббалиста Исаака Лурии: предвечная катастрофа, вследствие которой искры Божественного Света ниспали в мир земной и увязли в материи.
РИГВЕДА
Сборник гимнов, сложившийся в 1500–900 гг. до н. э. и выражавший религиозные представления ариев, которые вторглись в долину Инда и навязали коренным жителям Индийского полуострова свои верования.
СВЯТОЙ ДУХ
Понятие, обозначающее присутствие Бога на земле; в иудаизме нередко фигурирует как синоним Шехины. Средство различения между Богом, каким мы Его воспринимаем и знаем, и Божеством, которое принципиально недоступно постижению. В христианстве Святой Дух стал третьим Лицом Троицы.
СВЯТОСТЬ
В древнееврейском: каддош. Чужеродность Бога, его кардинальное отличие от всего постижимого, непреодолимая пропасть между Божеством и простыми смертными.
СЕФАРДЫ
Испанские евреи.
СЕФИРА (др. – евр.; множ. ч.: сефирот)
«Исчисление». В каббале – десять этапов самораскрытия Бога:
Кетер Элион – «Высший Венец»
Хохма – «Мудрость»
Бина – «Разум»
Хесед – «Любовь-милосердие»
Дин – «Правосудие-воздаяние»
Тиферет – «Красота»
Нецах – «Стойкость»
Ход – «Величие»
Йесод – «Основание»
Малкут – «Царство» (синоним: Шехина).
СИЛЫ (греч. dynameis)
«Силы» или «Власти» – богословское понятие, обозначающее деятельность Бога в тварном мире; Бог как эмпирически постигаемая деятельная инстанция, которая принципиально отличается от Его непостижимой сущности.
СУННА (араб.)
Благочестивый образ жизни. Освященные традицией правила, установленные в подражание поступкам и привычкам Пророка Мухаммада.
СУННИЗМ
Араб. ахл ал-сунна – «народ сунны» – общепринятое название большинства мусульман, чей ислам основан на Коране, хадисах, сунне и шариате – в отличие от шиитов, поклоняющихся имамам.
СУФИЗМ
Мистическое течение в исламе. По одной из версий, название происходит от того, что первые суфии носили грубые плащи из шерсти (араб. С-В-Ф) – обычную одежду Мухаммада и его сподвижников.
ТАВИЛ (араб.)
Символическое, мистическое толкование Корана, которое отстаивали некоторые эзотерические секты, главным образом исмаилиты.
ТАЛМУД (др. – евр.)
Букв. «изучение». Составленное раввинами строго-ортодоксальное толкование древнего свода иудейского Закона. См. также Мишна.
ТАННАИМ (др. – евр.; ед. ч.: таннаи)
Первые поколения раввинов-ученых и правоведов, составлявших и вносивших правки в древний свод иудейского Устного Закона под названием Мишна.
ТАРИКÁ (араб.)
Братство суфийских мистиков.
ТАУХИД (араб.)
Единство. Обозначение высшего единства Бога, а также той целостности, какую должен обрести каждый мусульманин, стремящийся до конца вверить себя Богу.
ТИККУН (др. – евр.)
Букв. «восстановление». В лурианской каббале – исправление последствий Разрушения Сосудов – возвращение рассыпавшихся божественных искр к прежнему единству в Боге.
ТОРА (др. – евр.)
Закон Моисеев, запечатленный в первых пяти книгах Библии: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие».
ТФИЛИН (др. – евр.)
Черные коробочки (так называемые филактерии) для хранения текста с шема. На утреннем богослужении иудеи, достигшие совершеннолетия, крепят их ко лбу и левой руке, ближе к сердцу, по предписанию Торы (Втор. 6:4–7).
УЛЕМЫ (араб.; множ. ч.: 'илм)
В исламе – знатоки богословия; авторитеты в вопросах веры.
УММÁ (араб.)
Мусульманская община.
УПАНИШАДЫ (инд.)
Древнеиндийские священные тексты, составленные в «Осевую эпоху» (с VIII по II вв. до н. э.).
УСИЯ (греч.)
Сущность, естество. Умопостигаемая принципиальная основа объекта во всей его неповторимой специфике; внутреннее содержание человека или предмета. В отношении Бога это понятие обозначает Божественную сущность, которая выше человеческого постижения.
ФАЙЛАСУФ (араб.)
Философ. В исламской империи – мусульманин или иудей, посвятивший себя рациональным и научным идеалам фалсафы.
ФАЛСАФÁ (араб.)
«Философия»: попытка толкования мусульманского вероучения в категориях древнегреческого рационализма.
ФАНÁ (араб.)
Букв. «уничтожение». В суфийском мистицизме – экстатическое растворение в Боге.
ХАДИС (араб.)
Предания о Пророке Мухаммаде и сборники его изречений.
ХАДЖЖ (араб.)
Обязательное для каждого мусульманина паломничество к Каабе.
ХИДЖРА (араб.)
Переселение Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 г. Это событие стало в исламе точкой отсчета для нового летоисчисления.
ЦИМЦУМ (др. – евр.)
Букв. «сокращение», «сжатие». Согласно лурианской каббале, Бог «сократил» Себя ради того, чтобы образовалось свободное пространство для сотворения мира. Цимцум, таким образом, представляет собой кенозис – самоопустошение, самоограничение.
ШАХАДА
Исламский символ веры: «Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Пророк Его».
ШАРИÁТ
Исламский Священный Закон, основанный на Коране и хадисах.
ШЕМÁ
Иудейский символ веры, названный так по его началу: «Слушай (shema), Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 4:4).
ШЕХИНА
От др. – евр. шакан: «раскидывать скинию». В учении раввинов – термин, обозначающий присутствие Бога на земле, то есть человеческое восприятие Божества в отличие от Его подлинной непостижимой реальности. В каббале Шехина отождествляется с последней из десяти сефирот.
ШИИЗМ
Партия последователей Али. По убеждению мусульман-шиитов, лежащему в основе их вероучения, исламское сообщество должны возглавлять потомки (имамы) Али ибн Аби Талиба, зятя и двоюродного брата Пророка Мухаммада.
ШИУР КОМÁ (др. – евр.)
«Измерение Высот». Апокрифический мистический текст V века, где описывается фигура, увиденная Иезекиилем на престоле в небесной колеснице.
ЭКСТАЗ (греч.)
Букв. «выхождение из себя». На языке богословия означает кенозис сокровенного Божества, когда Оно выходит из состояния Самосозерцания, чтобы открыться человеческому постижению.
ЭЛЬ
Древнейший Верховный Бог Ханаана, в последующем (предположительно) – ветхозаветный «Бог Авраама, Исаака и Иакова», праотцов израильского народа.
ЭМАНАЦИИ
Умозрительный вневременной процесс, в ходе которого от единого первоисточника (в монотеистском толковании – от Бога) последовательно исходят различные ступени иерархии бытия. В иудаизме, христианстве и исламе некоторые философы и мистики пользовались этой древней метафорой для описания возникновения жизни. Теория противоречит официально утвержденной монотеистской доктрине мгновенного сотворения мира Создателем.
ЭН СОФ (др. – евр.)
Букв. «не имеющее конца», «непостижимое». В мистическом богословии каббалы – неисповедимая сущность Бога.
ЭНЕРГИИ (греч. energiai)
«Деяния» Бога в нашем мире, приоткрывающие человеческому постижению отдельные грани Божества. Как и «Силы» (dynameis), это понятие подчеркивает разницу между человеческими представлениями о Боге и Его бытием как таковым, непостижимым и невыразимым.
«ЭНУМА ЭЛИШ»
Вавилонский эпос, повествующий о сотворении мира. Чтением «Энума элиш» отмечали новолетие.
ЯХВЕ
Имя Бога израильтян. Вероятно, первоначально Яхве был божеством другого народа, позднее ассимилированным евреями благодаря деятельности Моисея. В III–II вв. до н. э. иудеи перестали произносить вслух Священное Имя YHVH.
Библиография
Общая литература
Baillie, John, The Sense of the Presence of God (London, 1962).
Berger, Peter, A Rumour of Angels (London, 1970).
(ed.) The Other Side of God, A Polarity in World Religions (New York, 1981).
An illuminating series of essays on the conflict between an interior and an external God of ultimate reality.
Bowker, John, The Religious Imagination and the Sense of God (Oxford, 1978).
Problems of Suffering in Religions of the World (Cambridge, 1970). Two erudite yet highly readable books on world religions.
Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces (Princeton, 1949).
(with Bill Moyers) The Power of Myth (New York, 1988). The text of the popular television series on mythology in traditional society and the major religions.
Cupitt, Don, Taking Leave of God (London, 1980). A challenging and passionate plea for a “Christian Buddhism” – a spirituality without an external, realistic God.
Eliade, Mircea. One of the major experts on comparative spirituality: essential reading.
The Myth of the Eternal Return or Cosmos and History (trans. Willard J. Trask, Princeton, 1954).
The Sacred and the Profane (trans. Willard J. Trask, New York, 1959).
The Quest; History and Meaning in Religion (trans. Willard J. Trask, Chicago, 1969).
James, William, The Varieties of Religious Experience (New York and Harmondsworth, 1982). A classic work which is still relevant and stimulating.
Katz, Steven T. (ed.), Mysticism and Religious Traditions (Oxford), 1983. Useful essays on the relationship between dogma and mysticism in the world religions.
Louth, Andrew, Discerning the Mystery, An Essay on the Nature of Theology (Oxford, 1983). Highly recommended; a slim volume that goes to the heart of the matter.
Macquarrie, John, Thinking about God (London, 1975).
In Search of Deity. An Essay in Dialectical Theism. Two excellent books on the meaning of the Christian God and the limits and uses of reason in the religious quest.
Otto, Rudolf, The Idea of the Holy, An Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational (trans. John W. Harvey, Oxford, 1923). A classic and essential book.
Smart, Ninian, The Philosophy of Religion (London, 1979). Academic and helpful essays.
The Religious Experience of Mankind (New York, 1969, Glasgow 1971). An extremely useful survey.
Smith, Wilfred Cantwell. Three superb and inspiring books from an outstanding Canadian scholar:
Belief and History (Charlottesville, 1977).
Faith and Belief (Princeton, 1979).
Towards a World Theology (London, 1981).
Ward, Keith, The Concept of God (Oxford, 1974). A useful summary of some Western Christian ideas.
Woods, Richard (ed.), Understanding Mysticism (London and New York, 1980.
Zaehner, R. H., Mysticism – Sacred and Profane (London, 1957).
Библия
Albright, W. F., Yahweh and the Gods of Canaan (London, 1968).
Alter, Robert and Kermode, Frank (eds.), The Literary Guide to the Bible (London, 1987). Includes some exciting work by major scholars on both Jewish and Christian scriptures.
Bartlett, John R., The Bible, Faith and Evidence (London, 1990). An excellent, scholarly and readable introduction.
Childs, Brerand S., Myth and Reality in the Old Testament (London, 1959).
Driver, G. R., Canaanite Myths and Legends (Edinburgh, 1956).
Fishbane, Michael, Text and Texture, Close Readings of Selected Biblical Texts (New York, 1979). Highly recommended.
Fohrer, G., A History of Israelite Religion (New York, 1972).
Fox, Robin Lane, The Unauthorised Version, Truth and Fiction in the Bible (London, 1991). A readable, scholarly and extremely entertaining look at the Bible from the historian’s point of view.
Frankfort, H, The Intellectual Adventure of Ancient Man (Chicago, 1946).
Gaster, T. H., Tbespis, Ritual, Myth and Drama in the Ancient Near East (New York, 1950).
Heschel, Abraham, J., The Prophets, 2 vols., (New York, 1962). A classic: essential and inspiring reading.
Hooke, S. H., Middle Eastern Mythology, From the Assyrians to the Hebrews (London, 1963). A very useful, popular summary.
Josipovici, Gabriel, The Book of God, A Response to the Bible (New Haven and London, 1988). A sensitive and original look at the Bible from the point of view of a literary specialist.
Kaufmann, Yehezkel, The Religion of Israel, From its Beginnings to the Babylonian Exile (trans. and abridged by Moshe Greenberg, Chicago and London, 1961). An accessible version of a classic work of scholarship.
Nicholson, E. W., God and His People (London, 1986). Excellent.
Pederson, J., Israel: its Life and Culture (trans. H. Milford, Copenhagen and London, 1926). Another seminal work.
Smith, Mark S., The Early History of God; Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel (San Francisco, 1990). A scholarly, detailed study.
Новый Завет
Bornkamm, Gunther. Two major and influential works:
Jesus of Nazareth (London, 1960).
Paul (London, 1971).
Bowker, John, Jesus and the Pharisees (Cambridge, 1983). Excellent study by an inspiring scholar.
Bultmann, Rudolf, Jesus Christ and Mythology (London, 1960).
Davies, W. D., Paul and Rabbinic Judaism (London, 1948).
Hick, John (ed.), The Myth of God Incarnate (London, 1977).
A controversial but stimulating series of essays by major British scholars.
Kasemann, Ernst, Perspectives on Paul (London, 1971).
Moule, C. F. D., The Origin of Christology (Cambridge, 1977).
Sanders, E. P. Two scholarly and important books:
Paul and Palestinian Judaism (London, 1977).
Jesus and Judaism (London, 1989).
Theissen, Gerd, The First Followers of Jesus, A Sociological Analysis of the Earliest Christianity (trans. John Bowden, London, 1978).
Vermes, Geza, Jesus the Jew (London, 1973). A very valuable study.
Wilson, R. Mc L., Gnosis and the New Testament (Oxford, 1968).
Раввины
Abelson, J., The Immanence of God in Rabbinical Literature (London, 1912). A work that brings the Talmud to life.
Belkin, Samuel, In His Image, the Jewish Philosophy of Man as Expressed in Rabbinic Tradition (London, 1961). An excellent book that shows the relevance of the Rabbis to today’s world.
Finkelstein, L., Akiba, Scholar, Saint and Martyr (Cleveland, 1962).
Kaddushin, Max, The Rabbinic Mind (2nd ed., New York, 1962).
Marmorstein, A., The Old Rabbinic Doctrine of God; I: The Names and Attributes of God (London, 1927).
Studies in Jewish Theology (eds. J. Rabinowits and M. S. Law, Oxford, 1950).
Montefiore, C. G., and Loewe, H. (eds.), A Rabbinic Anthology (New York, 1974).
Moore, George F., Judaism in the First Centuries of the Christian Era, 3 vols. (Oxford, 1927–30).
Neusner, Jacob, Life of Yohannan ben Zakkai (Leiden, 1962).
Schechter, Solomon, Aspects of Rabbinic Theology (New York, 1909).
Раннее христианство
Chadwick, Henry, The Early Church (London, 1967).
Early Christian Thought and the Classical Tradition (Oxford, 1966).
Geffcken, J., The Last Days of Greco-Roman Paganism (London, 1978).
Excellent.
Grant, R. M., Gnosticism and Early Christianity (Oxford and New York, 1959).
Fox, Robin Lane, Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century AD to the Conversion of Constantine (London, 1986). Indispensable.
Frend, W. H. C., Martyrdom and Persecution in the Early Church, A Study of the Conflict from the Maccabees to Donatus (Oxford, 1965). A fascinating study of the Persecutions, which also contains much useful information about general matters.
Kelly, J. N. D., Early Christian Creeds (London, 1950).
Early Christian Doctrines (London, 1958).
Liebeschuetz, J. H. W. G., Continuity and Change in Roman Religion (Oxford, 1979). Probably the best account of the subject.
Lilla, Salvatore, R. C., Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism (Oxford, 1971).
Nock, A. D., Early Christianity and Its Hellenistic Background (Oxford, 1904).
Conversion, The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo (Oxford, 1933). A classic and illuminating work.
Pagels, The Gnostic Gospels (London, 1970).
Adam, Eve and the Serpent (London, 1988).
Payne, Robert, The Holy Fire: The Story of the Fathers of the Eastern Church (New York, 1957).
Отцы церкви и Святая Троица
Brown, Peter. Erudite, eloquent books by one of the most inspiring scholars of the period: essential reading.
Augustine of Hippo: A Biography (London, 1967).
Religion and Society in the Age of St. Augustine (Chicago and London, 1972).
The Making of Late Antiquity (Cambridge, Mass., and London, 1978).
Society and the Holy in Late Antiquity (London, 1982).
Chesnut, R. C., Three Monophysite Christologies (Oxford, 1976). Highly recommended.
Danielou, Jean, The Origins of Latin Christianity (Philadelphia, 1977).
Gregg, Robert C. and Groh, Dennis E., Early Arianism – A View of Salvation (London, 1981).
Grillmeier, Aloys, Christ in Christian Tradition: Apostolic Age to Chalcedon (New York, 1965).
Lacugna, Catherine Mowry, God For Us, The Trinity and Christian Life (Chicago and San Francisco, 1973, 1991).
Louth, Andrew, The Origins of the Christian Mystical Tradition. From Plato to Denys (Oxford, 1981). A superb account which shows how the doctrines were rooted in religious experience.
Denys the Areopagite (London, 1989).
McGinn, Bernard and Meyendorff, John (eds.), Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century (London, 1985). Excellent essays by leading scholars on the whole period, but especially illuminating contributions on the Trinity.
Meyendorff, John, Byzantine Theology, Historical Trends and Doctrinal Themes (New York and London, 1975). An excellent general account and particularly interesting on the Trinitarian and Christological issues.
Christ in Eastern Christian Thought (New York, 1975).
Murray, Robert, Symbols of Church and Kingdom, A Study in Early Syriac Tradition (Cambridge, 1975).
Pannikkar, Raimundo, The Trinity and the Religious Experience of Man. A brilliant book, which links Trinitarian theology with other religious traditions.
Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols. An indispensable series. For this period:
I: The Emergence of the Catholic Tradition (100–600) (Chicago and London, 1971).
II: The Spirit of the Eastern Tradition (600–1700) (Chicago and London, 1974). For Maximus the Confessor.
III: The Growth of Medieval Theology (600–1300) (Chicago and London, 1978). For Anselm of Canterbury and the Latin understanding of Trinity and Christology.
Prestige, G. L., God in Patristic Thought (London, 1952). Particularly helpful on the technical Greek terms.
Williams, Rowan, Arius, Heresy and Tradition (London, 1987).
Пророк Мухаммад и ислам
Andrae, Tor, Mohammed, the Man and his Faith (trans. Theophil Menzel, London, 1936). Some of this is outdated, but there are useful insights.
Armstrong, Karen, Muhammad, a Biography of the Prophet (London, 1991, and San Francisco, 1992).
Gimaret, Daniel, Les Noms Divins en Islam: Exégèse Lexicographique et Thé ologique (Paris, 1988).
Hodgson, Marshall G. S., The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilisation, 3 vols. (Chicago and London, 1974).
Far more than a history of Islam: Hodgson sets the development of the tradition in a universal context. Essential reading.
Jafri, H. M., Origins and Early Development of Shia Islam (London, 1981).
Lings, Martin, Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources (London, 1983).
Khan, Muhammad Zafrulla, Islam, Its Meaning for Modern Man (London, 1962).
Nasr, Seyyed Hossein. An inspiring Iranian scholar. Highly recommended.
Ideals and Realities of Islam (London, 1971).
Islamic Spirituality, 2 vols. I: Foundation (London and New York, 1987).
II: Manifestations (London and New York, 1991).
Rahman, Fazlur, Islam (Chicago, 1979). Perhaps the best one-volume study.
Rodinson, Maxime, Mohammad (trans. Anne Carter, London, 1971). A secularist interpretation by a Marxist scholar.
Ruthven, Malise, Islam and the World (London, 1984).
Von Grunebaum, G. E., Classical Islam, A History (600–1258) (trans. Katherine Watson, London, 1970).
Watt, W. Montgomery. Useful books by a prolific author:
Muhammad at Mecca (Oxford, 1953).
Muhammad at Medina (Oxford, 1956).
Islam and the Integration of Society (London, 1961).
Muhammad’s Mecca: History and the Quran (Edinburgh, 1988).
Wensinck, A. J., The Muslim Creed, Its Genesis and Historical Development (Cambridge, 1932). A fascinating work of scholarship.
Фалсафа, калам и богословие в Средневековье
Al-Farabi, Philosophy of Plato and Aristotle (trans. and introduced by Muhsin Mahdi, Glencoe, III., 1962). An excellent presentation of the Faylasufs’ position.
Corbin, Henri, Histoire de la philosophie islamique (Paris, 1964).
Fakhry, Majid, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970). A scholarly and readable account to the present day which includes theological developments.
Gilson, Etienne, The Spirit of Medieval Philosophy (London, 1936).
Guttmann, Julius, Philosophies of Judaism; The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig (London and New York, 1964). Essential reading.
Husik, I., A History of Medieval Jewish Philosophy (Philadelphia, 1940).
Leaman, Oliver, An Introduction to Medieval Islamic Philosophy (Cambridge, 1985).
McCarthie, Richard, The Theology of al-Ashari (Beirut, 1953).
Meyendorff, John, Gregory Palamas and Orthodox Spirituality (New York, 1974).
Morewedge, P. (ed.), Islamic Philosophical Theology (New York, 1979).
(ed.) Islamic Philosophy and Mysticism (New York, 1981).
The Metaphysics of Avicenna (London, 1973).
Netton, I. R., Muslim Neoplatonists, An Introduction to the Thought of the Brethren of Purity (Edinburgh, 1991).
Pegis, Anton G., At the Origins of the Thomistic Notion of Man (New York, 1963). A brilliant study of the Augustinian roots of Western scholasticism.
Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols.
II: The Spirit of Eastern Christendom (600–1700), (Chicago and London, 1974).
III: The Growth of Medieval Theology (600–1300), (Chicago and London, 1978).
Rosenthal, F., Knowledge Triumphant, The Concept of Knowledge in Medieval Islam (Leiden, 1970).
Sharif, M. M., A History of Muslim Philosophy (Wiesbaden, 1963). Uneven but good on ar-Razi and al-Farabi.
Von Grunebaum, G. E., Medieval Islam (Chicago, 1946).
Watt, W. Montgomery, The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh, 1973).
Free Will and Predestination in Early Islam (London, 1948).
Muslim Intellectual: The Struggle and Achievement of Al-Ghazzali (Edinburgh, 1963).
Мистицизм
Affifi, A. E., The Mystical Philosophy of Ibnu ’l-Arabi (Cambridge, 1938).
Arberry, A. J., Sufism: An Account of the Mystics of Islam (London, 1950).
Bakhtiar, L., Sufi Expression of the Mystic Quest (London, 1979).
Bension, Ariel, The Zohar in Muslim and Christian Spain (London, 1932).
Blumenthal, David, Understanding Jewish Mysticism (New York, 1978).
Butler, Dom Cuthbert, Western Mysticism, The Teaching of Saints Augustine, Gregory and Bernard on Contemplation and the Contemplative Life, Neglected Chapters in the History of Religion (2nd ed., London, 1927).
Chittick, William C., The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi (Albany, 1983).
Corbin, Henri. Three highly recommended books:
Avicenna and the Visionary Recital (trans. W. Trask, Princeton, 1960).
Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi (trans. W. Trask, London, 1970).
Spiritual Body and Celestial Earth, From Mazdean Iran to Shiite Iran (trans. Nancy Pearson, London, 1990). Excellent on the alam al-mithal.
Green, Arthur, Jewish Spirituality, Volume I (London, 1986).
Gruenwold, Ithamar, Apocalyptic and Merkavah Mysticism (Leiden, 1980).
Jacobs, Louis (ed.), The Jewish Mystics (Jerusalem, 1976, and London, 1990).
Leclercq, J. (ed.), Spirituality of the Middle Ages (London, 1968).
Lossky, Vladimir, The Mystical Theology of the Eastern Church (London, 1957). Essential reading.
Marcus, Ivan G., Piety and Society: The Jewish Pietists of Medieval Germany (Leiden, 1981).
Massignon, Louis, The Passion of al-Hallaj, 4 vols. (trans. H. Mason, Princeton, 1982). A classic work.
Nasr, Seyyed Hossein (ed.), Islamic Spirituality: I: Foundations (London, 1987).
II: Manifestations (London, 1991).
Nicholson, Reynold A., The Mystics of Islam (London, 1914). A useful introduction.
Schaya, Leo, The Universal Meaning of the Kabbalah (London, 1971).
Schimmel, A. M., Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, 1975).
The Triumphant Sun: A Study of Mawlana Rumi’s Life and Work (London and the Hague, 1978).
Scholem, Gershom G. The major authority: essential reading. Major Trends in Jewish Mysticism, 2nd ed. (London, 1955).
(ed.) The Zohar, The Book of Splendour (New York, 1949).
On the Kabbalah and Its Symbolism (New York, 1965).
Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition (New York, 1960).
Smith, Margaret, Rabia the Mystic and Her Fellow Saints in Islam (London, 1928).
Temple, Richard, Icons and the Mystical Origins of Christianity (Shaftesbury, 1990).
Valiuddin, Mir, Contemplative Disciplines in Sufism (London, 1980).
Эпоха Реформации
Bossy, John, Christianity in the West, 1400–1700 (Oxford and New York, 1985). An excellent short study.
Collinson, P., The Religion of Protestants (London, 1982).
Crew, P. Mack, Calvinist Preaching and Iconoclasm in the Netherlands (Cambridge, 1978). Good on the smashing of images.
Delumeau, Jean, Catholicism Between Luther and Voltaire: a New View of the Counter-Reformation (London and Philadelphia, 1977). Uneven, but some useful information.
Evennett, H. O., The Spirit of the Counter-Reformation (Cambridge, 1968).
Febvre, Lucien, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century (trans. Beatrice Gottlieb, Cambridge, Mass., 1982).
Green, Arthur (ed.), Jewish Spirituality, Volume I (London, 1988). Some excellent articles on Lurianic Kabbalah.
McGrath, Alister E., The Intellectual Origins of the European Reformation (Oxford and New York, 1987).
Reformation Thought, An Introduction (Oxford and New York, 1988).
A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture (Oxford, 1990).
Nuttall, G. F., The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience (Oxford, 1946).
Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols., IV: Reformation of Church and Dogma (Chicago and London, 1984).
Potter, G., Zwingli (Cambridge, 1976).
Raitt, Jill. (ed.), in collaboration with McGinn, Bernard and Meyendorff, John, Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation (New York, 1988, and London, 1989).
Trinkaus, Charles, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian and Humanist Thought, 2 vols. (London, 1970).
with Oberman, H. (eds.), The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion (Leiden, 1974).
Williams, G. H., The Radical Reformation (Philadelphia, 1962).
Wright, A. D., The Counter-Reformation, Catholic Europe and the Non-Christian World (London, 1982).
Эпоха Просвещения
Altmann, Alexander, Essays in Jewish Intellectual History (Hanover, N.Y., 1981).
Moses Mendelssohn: A Biographical Study (Alabama, 1973).
Buber, Martin, Hasidism and Modern Man (New York, 1958).
Jewish Mysticism and the Legend of Baal Shem (London, 1932).
Buckley, Michael J., At the Origins of Modern Atheism (New Haven and London, 1987). A penetrating examination of atheism and orthodoxy in the eighteenth-century Christian West.
Cassirer, Ernst, The Philosophy of Enlightenment (Princeton, 1951).
Cohn, Norman, The Pursuit of the Millennium, Revolutionary Millennarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (London, 1957). Includes a section on the Ranters and incarnationalists of Puritan England.
Cragg, Gerald G, The Church in the Age of Reason 1648–1789 (Harmondsworth and New York, 1960).
Reason and Authority in the Eighteenth Century (Cambridge, 1964).
Dupre, Louis and Saliers, Don E. (eds.), Christian Spirituality: Post Reformation and Modern (New York and London, 1989).
Gay, Peter, The Enlightenment, An Interpretation, 2 vols. (New York, 1966).
Guardini, Romano, Pascal for Our Time (trans. Brian Thompson, New York, 1966).
Haller, William, The Rise of Puritanism (New York, 1938).
Heimert, Alan, Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution (Cambridge, Mass., 1968).
Lindberg, David C. and Numbers, Ronald L. (eds.), God and Nature, Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science (Berkeley, Los Angeles and London, 1986).
Outler, Albert C., John Wesley (Oxford and New York, 1964).
Ozment, S. E., Mysticism and Dissent (New Haven and London, 1973).
Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols:
V: Christian Doctrine and Modern Culture (Since 1700) (Chicago and London, 1989).
Scholem, Gershom G., The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality (New York, 1971).
Essays on Sabbatarianism and Hasidism. Sabbati Sevi (Princeton, 1973).
Бог в наше время
Ahmed, Akbar S., Postmodernism and Islam, Predicament and Promise (London and New York, 1992).
Altizer, Thomas J. J. and Hamilton, William, Radical Theology and the Death of God (New York and London, 1966).
Baeck, Leo, The Essence of Judaism (New York, 1948).
Barth, Karl, The Knowledge of God and the Service of God (trans. J. M. L. Haire and I. Henderson, London, 1938).
Balthasar, Hans Urs von, The Glory of the Lord, 3 vols. (Edinburgh, 1982–86).
Love Alone: The Way of Revelation (London, 1968).
Chadwick, Owen, The Secularization of the European Mind in the 19th Century (Cambridge, 1975).
Cone, James H., Black Power and Black Theology (New York, 1969).
D’Antonio, Michael, Fall from Grace; The Failed Crusade of the Christian Right (London, 1990).
De Chardin, Pierre Teilhard, The Divine Milieu: An Essay on the Interior Life (New York, 1987).
The Phenomenon of Man (New York, 1959).
Heschel, Abraham J., The Insecurity of Freedom (New York, 1966).
God in Search of Man (Philadelphia, 1959).
Hussain, Asaf, Islamic Iran, Revolution and Counter-Revolution (London, 1985).
Iqbal, Mohammed, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam (Lahore, 1930).
Keddie, Nikki R. (ed.), Religion and Politics in Iran, Shi’ism from Quietism to Revolution (New Haven and London, 1983).
Kook, Abraham Isaac, The Essential Writings of Abraham Isaac Kook (ed. and trans. Ben Zion Bokser, Warwick, N.Y., 1988).
Kung, Hans, Does God Exist? An Answer for Today (trans. Edward Quinn, London, 1978).
Malik, Hafeez, Iqbal, Poet-Philosopher of Pakistan (New York, 1971).
Masterson, Patrick, Atheism and Alienation, A Study of the Philosophic Sources of Contemporary Atheism (Dublin, 1971).
Mergui, Raphael and Simonnot, Philippe, Israels Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel (London, 1987).
Mottahedeh, Roy, The Mantle of the Prophet, Religion and Politics in Iran (London, 1985). Highly recommended.
O’Donovan, Leo (ed.), A World of Grace, An Introduction to the Themes and Foundations of Karl Rahner’s Theology (New York, 1978).
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, On Religion, Speeches to its Cultured Despisers (New York, 1958).
The Christian Faith (trans. H. R. Mackintosh and J. S. Steward, Edinburgh, 1928).
Riches, John (ed.), The Analogy of Beauty: The Theology of Hans Urs von Balthasar (Edinburgh, 1986).
Robinson, J. A. T., Honest to God (London, 1963).
Exploration into God (London, 1967).
Rosenzweig, Franz, The Star of Redemption, 3 vols. (New York, 1970).
Rubenstein, Richard L., After Auschwitz, Radical Theology and Contemporary Judaism (Indianapolis, 1966).
Schweid, Eliezer, The Land of Israel: National Home or Land of Destiny (trans. Deborah Greniman, New York, 1985).
Smith, Wilfred Cantwell, Islam in Modern History (Princeton and London, 1957). A brilliant and prescient study.
Steiner, George, Real Presences, Is there anything in what we say? (London, 1989).
Tillich, Paul, The Courage to Be (London, 1962).
Tracy, David, The Achievement of Bernard Lonergan (New York, 1971).
Whitehead, A. N., Process and Reality (Cambridge, 1929).
Religion in the Making (Cambridge, 1926).
Примечания
1
См.: Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return or Cosmos and History, trans. Willard R. Trask, (Princeton, 1954).
(обратно)2
«После соития всякая тварь печальна» (лат.).
(обратно)3
Перевод В. Афанасьевой. Цит. по изд.: Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Ассирии. – М.: Художественная литература, 1981. – С. 32.
(обратно)4
Ibid., с. 44, 46.
(обратно)5
Пиндар. Немейские песни, 6 «Бассиды», 1с.–5. Перевод М.Л. Гаспарова. Цит. по изд.: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М.: Наука, 1980. – С. 134–135.
(обратно)6
Anat-Baal Texts 49:11:5, quoted in E. О. James, The Ancient Gods (London, 1960), p. 88.
(обратно)7
Быт. 2:5–7.
(обратно)8
См. Быт. 4:26.
(обратно)9
Исх. 6:3.
(обратно)10
Быт. 31:42.
(обратно)11
Быт. 49:24.
(обратно)12
В синодальном переводе: «Бог всемогущий». См. Быт. 17:1. – Прим. пер.
(обратно)13
Вефиль (Бетель) – город в древней Палестине. – Прим. пер.
(обратно)14
См. Деян. 14:12.
(обратно)15
Быт. 28:15.
(обратно)16
Быт. 28:16–17.
(обратно)17
Быт. 32:29–30.
(обратно)18
George E. Mendenhall, «The Hebrew Conquest of Palestine», The Biblical Archeologist 25, 1962; M. Weippert, The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine (London, 1971).
(обратно)19
Втор. 26:5–10.
(обратно)20
L. E. Bihu, «Midianite Elements in Hebrew Religion», Jewish Theological Srudies, 31; Salo Wittmeyer Baron, A Social and Religious History of the Jews, 10 vols., 2nd ed. (New York, 1952–1967), I, p. 46.
(обратно)21
Исx. 3:5–6.
(обратно)22
Исх. 3:14; другие варианты перевода: «Я есть кто Я есть»; «Я – Тот, Кто есть».
(обратно)23
Исх. 19:12–18.
(обратно)24
Исх. 20:2.
(обратно)25
Иис. Н. 24:14–15.
(обратно)26
Иис. 24:23.
(обратно)27
James, The Ancient Gods, p. 152. См., напр., Пс. 29, 89 и 93, время написания которых датируется позже «Исхода».
(обратно)28
3 Цар. 18:20–40.
(обратно)29
3 Цар. 19:11–13.
(обратно)30
Ригведа. 10:29 «Гимн о сотворении мира». Перевод Т. Елизаренковой. Цит. по изд.: Поэзия и проза Древнего Востока. – М.: Художественная литература, 1973. – С. 389.
(обратно)31
Чхандогья упанишада, VI, 13. Перевод А. Я. Сыркина. Цит. по изд.: Упанишады. – М.: Наука, 1992. – Т. 3. – С. 116–117.
(обратно)32
Кена упанишада, 1:5–6. – Цит. изд. – Т. 2. – С. 71.
(обратно)33
Ibid., с. 72.
(обратно)34
Samyutta-nikaya, II: Nidana Vagga, trans. and ed. Leon Feer, (London, 1888), p. 106.
(обратно)35
Edward Conze, Buddhism: its Essense and Development (Oxford, 1959), p. 40.
(обратно)36
Udana 8.13, quoted and trans, in Paul Steintha, Udanan (London, 1885), p. 81.
(обратно)37
Перевод С.К. Апта. Цит. по изд.: Платон. Сочинения в трех томах, том 2. – М.: Мысль, Философское наследие, 1970. – С. 142, 211а, b.
(обратно)38
«О философии», фрагмент 15.
(обратно)39
Поэтика, 1451b, 3. Перевод В. Г. Аппельрота. Цит. по изд.: Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: ГИХЛ, 1957. – С. 67–68.
(обратно)40
Ис. 6:3.
(обратно)41
Rudolf Otto, The Idea of the Holy, An Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational, trans. John W. Harvey (Oxford, 1923), pp. 29–30.
(обратно)42
Ис. 6:5.
(обратно)43
Исх. 4:10.
(обратно)44
См., напр., Пс. 28, 88, 92. Дагон – бог филистимлян.
(обратно)45
Ис. 6:8–9.
(обратно)46
См. Мат. 13:14–15.
(обратно)47
Надпись на клинописной табличке; quoted in Chaim Potok, Wanderings, History ofthejews (NewYork, 1978), p. 187.
(обратно)48
Ис. 6:12–13.
(обратно)49
Ис. 6:12.
(обратно)50
См. Ис. 10:5–6.
(обратно)51
Ис. 1:3.
(обратно)52
См. Ис. 1:11–15.
(обратно)53
Ис. 1:15–17.
(обратно)54
Ам. 7:12–17.
(обратно)55
Ам. 3:8.
(обратно)56
Ам. 8:7.
(обратно)57
Ам. 5:18.
(обратно)58
Ам. 3:1–2.
(обратно)59
См. Ос. 8:5.
(обратно)60
Ос. 6:6.
(обратно)61
Быт. 4:1.
(обратно)62
См. Ос. 2:23–24.
(обратно)63
Ос. 2:16–17.
(обратно)64
Ос. 1:2.
(обратно)65
Ос. 1:9.
(обратно)66
Ос. 13:2.
(обратно)67
Здесь: «как таковыми».
(обратно)68
См., напр., Иер. 10; Пс. 30:7, 113:12–16, 134:15.
(обратно)69
Примечания даны автором по переводу издания: John Bowker, The Religious Imagination and the Sense of God (Oxford, 1978), p. 73
(обратно)70
4 Цар. 23:3–13; 2 Пар. 34:14–21.
(обратно)71
Втор. 4:4–6.
(обратно)72
Втор. 7:2.
(обратно)73
Втор. 7:4–5.
(обратно)74
Втор. 28:63–67.
(обратно)75
2 Пар. 34:4–7.
(обратно)76
См. Исх. 23:33.
(обратно)77
Иис. 11:21–22.
(обратно)78
См. Иер. 25:7–8.
(обратно)79
См. Иер. 13:15–17.
(обратно)80
Иер. 1:6–10.
(обратно)81
Иер. 23:9.
(обратно)82
Иер. 20:7, 9.
(обратно)83
В Китае даосизм и конфуцианство считали двумя гранями единой духовной традиции, определяющей душевное и общественное положение человека. Индуизм и буддизм тоже были взаимосвязаны; эту пару можно назвать видоизмененным язычеством.
(обратно)84
См. Иер. 2:31–32; 6:11; 12:7–11; 14:7–9.
(обратно)85
Иер. 32:15.
(обратно)86
См. Иер. 44:15–19.
(обратно)87
Иер. 31:33.
(обратно)88
Иер. 31:33.
(обратно)89
Иез. 1:4–27.
(обратно)90
Иез. 8:12.
(обратно)91
См. Пс. 136.
(обратно)92
Ис. 11:15–16.
(обратно)93
Ис. 46:1.
(обратно)94
См. напр., Ис. 45:6,18, 22 и др.
(обратно)95
Ис. 43:10–11.
(обратно)96
Ис. 51:9–10. Этот сюжет становится постоянным; см., в частности, Пс. 65:7, 74:13–14, 76:17; Иов. 3:8, 7:12.
(обратно)97
Ис. 58:8–9.
(обратно)98
Ис. 19:25.
(обратно)99
Исх. 33:20.
(обратно)100
См., напр., Исх. 33:18.
(обратно)101
См. Исх. 34:29–35.
(обратно)102
См. Исх. 40:34–35; Иез. 9:3.
(обратно)103
См., напр., Пс. 73 и 103.
(обратно)104
Исх. 25:8–9.
(обратно)105
В порядке упоминания см. Исх. 39:43; 40:2,17; 31:3 и 31:17.
(обратно)106
Втор. 5:12–15.
(обратно)107
Втор. 14:1–21.
(обратно)108
Прит. 8:22–23, 30–31.
(обратно)109
См. Прем. 24:3–6.
(обратно)110
Прем. 7:25–26.
(обратно)111
De Specialibus Legibus, 1:43.
(обратно)112
God Is Immutable, 62; Life of Moses, 1:75.
(обратно)113
Abraham, 121–123.
(обратно)114
The Migration of Abraham, 34–35.
(обратно)115
Shabbat, 31a.
(обратно)116
Aroth de Rabba Nathan, 6.
(обратно)117
Louis Jacobs, Faith (London, 1968), p. 7.
(обратно)118
Leviticus Rabba, 8:2; Sotah, 9b.
(обратно)119
Exodus Rabba, 34:1; Hagigah, 13b; Mekhilta к «Исходу», 15:3.
(обратно)120
Baba Metzia, 59b.
(обратно)121
См. Пс. 138; Mishna Psalm 25:6; Tanhuma, 3:80.
(обратно)122
Комм. к Иов. 11:7; Mishna Psalm 25:6.
(обратно)123
Так считал, например, раввин Иоханан бен Наппаха: «Кто чрезмерно восхваляет Бога, будет с корнем вырван из мира сего».
(обратно)124
Рабба к «Бытию», 68:9.
(обратно)125
В. Berakoth, 10a; Leviticus Rabba, 4:8; Yalkut к Пс. 90:1; Exodus Rabba.
(обратно)126
1 Цар. 2:27.
(обратно)127
Ис. 43:14.
(обратно)128
Втор. 30:3.
(обратно)129
В. Migillah, 29а.
(обратно)130
Рабба к «Песни песней», 2; JerusalemSukkah, 4.
(обратно)131
Рабба к Числ., 11:2; Рабба к Втор., 7:2 на основе Прит. 8:34.
(обратно)132
Mekhilta de Rabbi Simon к Исх. 19:6; Деян. 4:32.
(обратно)133
Рабба к «Песни песней», 8:12.
(обратно)134
Yalkut к Песн. 1:2.
(обратно)135
Sitre к Втор. 36.
(обратно)136
A. Marmorstein, The Old Rabbinic Doctrine of God, The Names and Attributes of God (Oxford, 1927), pp. 171–174.
(обратно)137
Niddah, 31b.
(обратно)138
Yalkut к 2 Цар. 22; В. Yoma, 22b; Yalkut к Есф. 5:2.
(обратно)139
Jacob E. Neusner, «Varieties of Judaism in the Formative Age», in Arthur Green, ed. Jewish Spirituality, 2 vols. (London, 1986, 1988), I, pp. 172–173.
(обратно)140
Sifre к Лев. 19:8.
(обратно)141
Mekhilta к Исх. 20:13.
(обратно)142
Pirke Aboth, 6:6; Horayot, 13a.
(обратно)143
Pirke Aboth, 6:6; Horayot, 13a.
(обратно)144
Sanhedrin, 4:5.
(обратно)145
BabaMetziah, 58b.
(обратно)146
Map. 1:10–11.
(обратно)147
Map. 1:15; буквальный перевод с греческого звучит даже более впечатляюще: «Царствие Божие здесь!»
(обратно)148
Geza Vermes, Jesus the Jew (London, 1973); Paul Johnson, A History of Jews (London, 1987).
(обратно)149
См. Мат. 5:17–19.
(обратно)150
Мат. 7:12.
(обратно)151
T. Sof., 13:2.
(обратно)152
Мат. 17:2.
(обратно)153
Мат. 17:1–5.
(обратно)154
См. Мат. 17:20; Map. 11:22–23.
(обратно)155
Astasahasrika 15:293 in Edward Conze, Buddhism: its Essense and Development (Oxford, 1959), p. 125.
(обратно)156
Бхагавад-гита, 11:15. Пер. Б. Смирнова.
(обратно)157
Op. cit., 11:15, 11:39.
(обратно)158
Op. cit., 11:18.
(обратно)159
См. Гал. 1:11; 1:14.
(обратно)160
См., напр., Рим. 12:5; 1 Кор. 4:15; 2 Кор. 2:17.
(обратно)161
1 Кор. 1:24.
(обратно)162
Слова, вложенные в уста Павлу автором «Деяний» (Деян. 17:28); возможно, цитата из Эпименида Критского.
(обратно)163
1 Кор. 15:3.
(обратно)164
См., в частности, Рим. 6:4; 2 Кор. 5:17, Ефес. 2:15.
(обратно)165
«Свершившийся факт» (фр.).
(обратно)166
См. Кол. 1:24; Еф. 3:1, 3:13; 1 Кор. 1:13.
(обратно)167
См. Рим. 1:12–18.
(обратно)168
Фил. 2:6–11.
(обратно)169
Иоан. 1:1–3.
(обратно)170
1 Иоан. 1:1.
(обратно)171
Автор имеет в виду не христианский, а еврейский праздник, называвшийся иначе «праздником седмиц» или «жатвы»; в этот день Бога не только славили за Синайский Завет, но и благодарили за новые земные плоды. – Прим. пер.
(обратно)172
Деян. 2:2–3.
(обратно)173
Деян. 2:9–10.
(обратно)174
См. Деян. 2:17; Иоил. 2:28.
(обратно)175
Деян. 2:22–36.
(обратно)176
Деян. 7:48.
(обратно)177
«Новое порочное суеверие» (лат.).
(обратно)178
Quoted by A. D. Nock, Conversion, The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo (Oxford, 1933), p. 207.
(обратно)179
Ad Baptizandos, Homily 13:14; quoted by Wilfred Cantwell Smith, Faith and Belief (Princeton, 1979), p. 259.
(обратно)180
В пересказе Иринея («Опровержение ересей», I.1.1). Почти все труды ранних «еретиков» были уничтожены и дошли до нас только в полемике их ортодоксальных оппонентов. Перевод (синодальный) прот. Преображенского. Цит. по изд.: Поснов М.Э. Гностицизм II века и победа христианской Церкви над ним. – Киев, 1917 [Репринт: Bruxelles: Жизнь с Богом, 1991]. – С. 686.
(обратно)181
См.: Ириней. Опровержение ересей, 7.21.4.
(обратно)182
Ibid., I.5.3.
(обратно)183
Ипполит. Обличение всех ересей, 8.15.1–2.
(обратно)184
См. Лук. 6:43.
(обратно)185
Ириней. Опровержение ересей, 1.27.2. Цит. по изд.: Поснов М.Э. Указ. соч. – С. 691.
(обратно)186
Тертуллиан. Против Маркиона, 1.6.1. Перевод (синодальный) Н.Н. Щеглова. Цит. по изд.: Поснов М.Э. Указ. соч. – С. 400.
(обратно)187
Ориген. Против Цельса, 1.9.
(обратно)188
Климент Александрийский. Увещания эллинам, 1.8.4.
(обратно)189
Ibid., 10.106.4.
(обратно)190
Климент Александрийский. Педагог, 2.3.381. Перевод (синодальный) Н.Н. Корсунского. Цит. по изд.: Климент Александрийский. Педагог. – Б/м.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – С. 142.
(обратно)191
Климент Александрийский. Увещания эллинам, 1.8.4.
(обратно)192
См.: Ириней. Опровержение ересей, 5.16.2.
(обратно)193
Мат. 19:12.
(обратно)194
Эннеады, 5.6.
(обратно)195
Ibid., 5.3.11.
(обратно)196
Ibid., 7.3.2.
(обратно)197
Эннеады, 5.2.1. Перевод под ред. проф. Г.В. Малеванского. Цит. по изд.: Плотин. Избранные трактаты в 2-х томах. – М.: РМ, 1994. – Т. 1. – С. 27.
(обратно)198
См. Эннеады, 4.3.9.
(обратно)199
Ibid., 4.3.9.
(обратно)200
Ibid, 6.7.37.
(обратно)201
Ibid., 6.9.9. Цит. по изд.: Плотин. Указ. соч. – Т. 2. – С. 140.
(обратно)202
Ibid., 6.9.4. – Указ соч. – С. 131.
(обратно)203
Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition, A History of Development of Doctrine, 5 vols., I. The Emergence of the Catholic Tradition (Chicago, 1971).
(обратно)204
По свидетельству Григория Нисского.
(обратно)205
В письмах к единомышленнику Евсевию, цит. по изд.: Robert С. Gregg, Dennis E. Groh, Early Arianism, A View of Salvation (London, 1981), p. 66.
(обратно)206
Арий. Послание к Александру, 2.
(обратно)207
Прит. 8:22.
(обратно)208
Иоан. 1:3.
(обратно)209
Иоан. 1:2.
(обратно)210
См. Фил. 2:6–11.
(обратно)211
Арий. Послание к Александру, 6.2.
(обратно)212
Афанасий. Против язычников, 41.
(обратно)213
См.: Афанасий. О Вочеловечении, 54.
(обратно)214
Первоначальная версия отличается от того манифеста доктрины, который принято обычно называть Никейским символом веры, хотя на самом деле он был окончательно принят позднее, на Константинопольском соборе 381 г.
(обратно)215
Афанасий. О соборах Ариминском и Селевкийском, 41.1.
(обратно)216
Афанасий. О житии Антония, 67.
(обратно)217
См. 1 Кор. 2:7. – Прим. пер.
(обратно)218
Василий Великий. О Святом Духе, 28.66.
(обратно)219
Ibid.
(обратно)220
Григорий Нисский. Против Евномия, 3. Евномий – основатель одной из арианских сект (ок. 335–398 гг.). – Прим. пер.
(обратно)221
Григорий Нисский. Ответ на вторую книгу Евномия.
(обратно)222
Григорий Нисский. О жизни Моисея законодателя, 2.164.
(обратно)223
Василий Великий. Письма, 234.1.
(обратно)224
Григорий Назианзин. Проповеди, 31.20.
(обратно)225
Григорий Нисский. Нет трех богов.
(обратно)226
G. L. Prestige, God in Patristic Thought (London, 1952), p. 300.
(обратно)227
См. Григорий Нисский. Нет трех богов.
(обратно)228
Григорий Назианзин. Проповеди, 40:41.
(обратно)229
Григорий Назианзин. Проповеди, 29:6–10.
(обратно)230
Василий Великий. Письма, 38:4.
(обратно)231
Аврелий Августин. О Троице, VII:4–7.
(обратно)232
Исповедь, I.I (1); Цитируется по изд.: Исповедь Блаженного Августина. – М.: Renaissance, 1991; под ред. А. А. Столярова. – С. 53.
(обратно)233
Ibid., VIII.VII (17). – Указ. соч. – С. 202.
(обратно)234
Ibid., VIII: XII (28). – Указ. соч. – С. 210.
(обратно)235
Освобождение от напряжения, вызванного подавляемыми эмоциями, при помощи проигрывания конфликтных ситуаций. – Прим. пер.
(обратно)236
Рим. 13:13–14.
(обратно)237
Ibid., VIII.XII (29). – Указ. соч. – С. 211.
(обратно)238
Ibid, X: XVII (26). – Указ. соч. – С. 253.
(обратно)239
Ibid., X: XXVII (38). – Указ. соч. – С. 261.
(обратно)240
Ibid.
(обратно)241
«О Троице», VIII: II.3
(обратно)242
Ibid.
(обратно)243
Ibid., X: X.14
(обратно)244
Ibid., Х: ХI.18.
(обратно)245
Ibid.
(обратно)246
Andrew Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition (Oxford, 1983), p. 79.
(обратно)247
Блаженный Августин, О Троице, XIII.
(обратно)248
Ibid.
(обратно)249
Энхидридон, 26–27. Цит. по изд.: Блаженный Августин: Энхиридион, или О Вере, Надежде и Любви. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС – ИСА, 1996. – С. 304–305.
(обратно)250
О женском убранстве, I, 1. Перевод Э. Юнца. Цит. по изд.: Тертуллиан Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. – М.: Прогресс, 1994. – С. 345.
(обратно)251
Августин. Письма, 243:10.
(обратно)252
Августин. О Книге Бытия буквально, IХ:5.9.
(обратно)253
Послание 9 (Титу иерарху). Перевод Г.М. Прохорова. Цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 255–257.
(обратно)254
Ibid.
(обратно)255
О небесной иерархии, I. См. цит. изд.
(обратно)256
Дионисий. О божественных именах, II.7.
(обратно)257
Ibid., VII.3.
(обратно)258
Ibid., XIII.3.
(обратно)259
Ibid., VII, 3. Перевод д. ф. н. Г.М. Прохорова. Цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб.: Глаголъ, 1994. – С. 246–247.
(обратно)260
Ibid., I.I.
(обратно)261
Ареопагит. О мистическом богословии, 3. Цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. Цит. соч. – С. 357.
(обратно)262
Дионисий. О божественных именах, IV, 3.
(обратно)263
Максим Исповедник. О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория. Ambigua, Migne, PG 91. 1088с.
(обратно)264
Muhammad ibn Ishaq, Sira, 145, quoted in A. Guilaume, trans., The Life of Muhammad (London, 1955), p. 160.
(обратно)265
Коран, 96:12–5; здесь и далее цитируется по изд.: Коран. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой, 1997.
(обратно)266
Ибн Исхак. Сира, 153. Перевод Вл. В. Полосина. Цитируется по изд.: Ибн Хишам. Жизнеописание господина нашего Мухаммада, посланника Аллаха (Сират саййидина Мухаммед расул Аллах) // Хрестоматия по исламу. – М.: Наука, 1994. – С. 19.
(обратно)267
Ibid.
(обратно)268
Jalal ad-Din Suyuti, al-itiqan fi’ulum al aq’ran in Rodinson, Mohammed, trans. Anne Carter (London, 1971), p. 74.
(обратно)269
Bukhari, Hadith, 1.3, quoted in Martin Lings, Muhammad, His Life Based On the Earliest Sources (London, 1983), pp. 44–45.
(обратно)270
«Expostulation and Reply».
(обратно)271
Коран, 75:16–19.
(обратно)272
См. Коран, 42:5(7): «Внушением тебе Мы ниспослали Коран арабский, чтобы (им) ты мог увещевать Мать городов и все, что вкруг нее…»
(обратно)273
См. Коран, 88:21.
(обратно)274
См. Коран, 96:6–8: «Но нет же! Переступает все пределы человек, Себе приписывая все, чем он богат и знатен».
(обратно)275
Коран, 80:17–32.
(обратно)276
См. Коран, 92:17–18, 9:104(103), 63:9, 102:1.
(обратно)277
См. Коран, 24:1,45 (46).
(обратно)278
Коран, 2:164.
(обратно)279
Коран, 20:113–114.
(обратно)280
Ibn Ishaq, Sira 227 in Guillaume, trans., The Life of Muhammad, p. 159.
(обратно)281
Ibid., 228, p. 158.
(обратно)282
George Steiner, Real Presences, Is there anything in what we say? (London, 1989), pp.,142–143.
(обратно)283
Коран, 53:19–20, 23.
(обратно)284
Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam (London, 1991), pp. 108–117.
(обратно)285
Коран, 109:2, 6.
(обратно)286
Коран, 112.
(обратно)287
Quoted in Seyyed Hossein Nasr, «God» in Islamic Spirituality: Foundation (London, 1987), p. 321.
(обратно)288
Коран, 2:115.
(обратно)289
Коран, 55:26–27.
(обратно)290
Коран, 24:35.
(обратно)291
Armstrong, Muhammad, pp. 21–44; 86–88.
(обратно)292
Коран, 29:46.
(обратно)293
Ibn Ishaq, Sira 362 in Guillaume, trans., A Life of Muhammad, p. 246.
(обратно)294
Так Мухаммад Асад переводил выражение ахл ал-китаб, «люди Писания».
(обратно)295
Коран, 2:135–136; Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йакуб, Муса, Иса – в Коране соответственно Авраам, Измаил, Исаак, Иаков, Моисей и Иисус.
(обратно)296
Коран, 2:256.
(обратно)297
Ali Shariati, Наjj, trans. Laleh Bakhtiar (Teheran, 1988), pp. 54–56.
(обратно)298
См. Коран 33:35.
(обратно)299
Цит. по изд.: Башир Самбо, Мохаммед Хигаб. Наука о хадисах Пророка Мухаммада. – К.: Ансар Фаундейшн. – 2001. – С. 160.
(обратно)300
1 Иоан. 1:1–2.
(обратно)301
Коран, 13:11.
(обратно)302
W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam (London, 1948), p. 139.
(обратно)303
Abu al-Hasan ibn Ismail al Ashari, Malakat 1.197, quoted in S. H. Nasr, «Theology, Philosophy and Spirituality» in ed. S. H. Nasr, Islamic Spirituality: Manifestations (London, 1991), p. 411.
(обратно)304
Перевод А.В. Сагадеева. Цит. по изд.: Аль-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX–XII вв. – М.: Соцэкгиз, 1961. – С. 59.
(обратно)305
Занятно, что противника ар-Рази в том споре тоже звали ар-Рази – совпадение имен объяснялось тем, что оба родились в Рее.
(обратно)306
Quoted in Azim Nanji, «Ismailism», in ed. S. H. Nasr, Islamic Spirituality: Foundation (London, 1987), pp. 195–96.
(обратно)307
Cm. Henri Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth, From Mazdean Iran to Shiite Iran, trans. Nancy Pearson, (London, 1990), pp. 51–72.
(обратно)308
Ibid., p. 51.
(обратно)309
Rasa’il I, 76, quoted in Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970), p. 193.
(обратно)310
Rasa’il IV, 42, in ibid., p. 187.
(обратно)311
Метафизика, XII, 1074b, 32. Перевод под ред. В.Ф. Асмуса. Цит. по изд.: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 316.
(обратно)312
Ал-Мункиз мин ад-далал. Перевод А. В. Сагадеева. Цитируется по изд.: Ал-Газали. Избавляющий от заблуждения // Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв. – М.: Издательство АН СССР, 1960. – С. 212.
(обратно)313
Quoted in John Bowker, The Religious Imagination and the Sense of God (Oxford, 1978), p. 202.
(обратно)314
Ал-Мункиз мин ад-далал. – Ал-Газали. Цит. изд. – С. 244.
(обратно)315
John Bowker, The Religious Imagination and the Sense of God (Oxford, 1978), p. 222–226.
(обратно)316
Коран, 24:35.
(обратно)317
Коран, 28:88.
(обратно)318
Мишкат ал-анвар: Mishkat al-anwar, quoted in Fakhry, A History of Islamic Philosophy, p. 278.
(обратно)319
Перевод Г. Липш. Цитируется по изд.: Галеви Иегуда, рабби. Кузари. – Иерусалим: Шамир, 5750 (1990). – С. 92–93.
(обратно)320
Коран, 3:7.
(обратно)321
Коран, 42:11.
(обратно)322
Listed in Fakhry, A History of Islamic Philosophy, p. 278.
(обратно)323
Приводятся по: Julius Guttman, Philosophies of Judaism, the History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rozenzweig, trans. David W. Silverman (London and New York, 1964), p. 179.
(обратно)324
Quoted in Abelson, The Immanence of God in Rabbinic Literature, p. 245.
(обратно)325
Об умонастроениях во время ранних крестовых походов см. Karen Armstrong, Holy War, The Crusades and their Impact on Today’s World (New York, 1991, London, 1992), pp. 49–75.
(обратно)326
Exposition of the Celestial Hierarchy, 2.1.
(обратно)327
Periphsean, Migne, PL, 426 С – D.
(обратно)328
Ibid., 4287 B.
(обратно)329
Ibid., 680 D – 681 A.
(обратно)330
Ibid.
(обратно)331
См.: Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. Сб. 8. – М., 1972.
(обратно)332
Монологион, I. Перевод И.В. Купреевой. Цитируется по изд.: Ансельм Кентерберийский. Сочинения. – М.: Канон, 1995. – С. 39.
(обратно)333
Прослогион, I. – Ансельм Кентерберийский. Цит. изд. – С. 128.
(обратно)334
Прослогион, II; комм. к Ис. 7:9: «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверились».
(обратно)335
John Macquarrie, In Search of Deity; An Essay in Dialectical Theism (London, 1984), pp. 201–202.
(обратно)336
Письмо Бернара Клервоского папе от лица архиепископа Реймского и других. Перевод Н.А. Сидоровой. Цит. по изд.: Абеляр Петр. История моих бедствий. – М.: Издательство АН СССР, 1959. – С. 135.
(обратно)337
Письмо Бернара Клервоского магистру Гвидо де Кастелло. – Ibid. – С. 136.
(обратно)338
Armstrong, Holy War, pp. 199–234.
(обратно)339
De Potentia, q.7, a.5. ad.14.
(обратно)340
Перевод С.И. Еремеева. Цит. по изд.: Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть I. Вопросы 1–43. – Киев: Эльга – Ника-центр; М.: Элькор-МК, 2002. – С. 168.
(обратно)341
Путеводитель души к Богу, 6.2.
(обратно)342
Ibid., 3.1. Перевод В.Л. Задворного. Цит. по изд.: Бонавентура. Путеводитель души к Богу. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1993. – С. 91.
(обратно)343
Ibid., 1.7. – Цит. изд. – С. 57.
(обратно)344
John Macquarrie, Thinking About God (London, 1957), p. 34.
(обратно)345
Hagigah 14b, с фрагментами из Пс. 101:7, 116:15, 25:16.
(обратно)346
Quoted in Louis Jacobs, ed., The Jewish Mystics (Jerusalem, 1976, London, 1990), p. 23.
(обратно)347
2 Кор. 12:2–4.
(обратно)348
Песн. 5:10–15.
(обратно)349
Translated in T. Carmi, ed. and trans., The Penguin Book of Hebrew Verse (London, 1981), p. 199.
(обратно)350
Коран, 53:13–18.
(обратно)351
«Исповедь», IX. X (24); цит. по изд.: Исповедь Блаженного Августина. – М.: Renaissance, 1991; под ред. А.А. Столярова. – С. 228.
(обратно)352
Joseph Campbell (with Bill Moyers), The Power of Myth (New York, 1988), p. 85.
(обратно)353
Annemarie Schimmel, And Muhammad Is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety (Chapel Hill and London, 1985), pp. 161–75.
(обратно)354
Исповедь, IX: X (24). Цит. изд. – С. 228.
(обратно)355
Ibid., IX: X (25). – С. 228–229.
(обратно)356
Morals on Job, V.66.
(обратно)357
Ibid., XXIV.11.
(обратно)358
Homilies on Ezekiel, II, ii, 1.
(обратно)359
Commentary on the Song of Songs, 6
(обратно)360
Epistle 234.1.
(обратно)361
On Prayer, 67.
(обратно)362
Ibid., 71.
(обратно)363
Ambigua, PG.91.1088c.
(обратно)364
Peter Brown with Sabine MacCormack, «Artifices of Eternity», in Brown, Society and the Holy in Late Antiquity (London, 1992), p. 212.
(обратно)365
Nicephoras, Greater Apology for the Holy Images, 70.
(обратно)366
Theological Orations I.
(обратно)367
Ethical Orations I.3.
(обратно)368
Orations 26.
(обратно)369
Ethical Orations, 5.
(обратно)370
Hymns of Divine Love 28.114–115, 160–162.
(обратно)371
Encyclopaedia of Islam (1st ed. Leiden 1913), entry under «Tasawwuf».
(обратно)372
Trans. R. A. Nicholson, quoted in A. J. Arberry, Sufism, An Account of the Mystics of Islam (London, 1950), p. 43.
(обратно)373
Quoted in R. A. Nicholson, The Mystics of Islam (London, 1963 ed.), p. 115.
(обратно)374
Narrative, quoted in Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago, 1974), I., p. 404.
(обратно)375
Quoted in Arberry, Sufism, p. 60.
(обратно)376
Иоан. 14:6.
(обратно)377
Quoted in Nicholson, The Mystics of Islam, p. 151.
(обратно)378
Quoted in Arberry, Sufism, p. 60.
(обратно)379
Коран, 2:32(34).
(обратно)380
Hiqmat al-Ishraq, quoted in Henri Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth, From Mazdean Iran to Shiite Iran, trans. Nancy Pearson, (London, 1990), pp. 168–69.
(обратно)381
См.: Элиаде, Мирча. Шаманизм. – К.: София, 2000.
(обратно)382
J.– P. Sartre, The Psychology of the Imagination (London, 1972), passim.
(обратно)383
Futuhat al Makkiyah II, 326, quoted in Henri Corbin, Creative Imagination in the Sufism of lbn Arabi, trans. Ralph Manheim (London, 1970), p. 330.
(обратно)384
The Diwan, Interpretation of Ardent Desires, in ibid., p. 138.
(обратно)385
«Новая жизнь». Перевод И.Н. Голенищева-Кутузова. Цит. по изд.: Данте Алигьери. Малые произведения. – М.: Наука, 1968. – С. 7.
(обратно)386
Ibid., С. 6–7.
(обратно)387
«Рай», XVII, 13–18. Перевод М. Лозинского.
(обратно)388
William Chittick, «Ibn al-Arabi and His School» in Sayyed Hossein Nasr, ed. Islamic Spirituality: Manifestations (New York and London, 1991), p. 61.
(обратно)389
См. Коран 18:64(65) и далее.
(обратно)390
Quoted in Henri Corbin, Creative Imagination in Ibn al-Arabi, p. 111.
(обратно)391
Chittick, «Ibn Arabi and His School», in Nasr, ed., Islamic Spirituality, p. 58.
(обратно)392
Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970), p. 282.
(обратно)393
Quoted in R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, p. 105.
(обратно)394
Коран, 2:115.
(обратно)395
R. A. Nicholson, ed., Eastern Poetry and Prose (Cambridge, 1922), p. 148.
(обратно)396
Перев. с перс. Наума Гребнева. Цит. по изд.: Джалаладдин Руми. Поэма о скрытом смысле. – М.: Наука, 1986. – С. 6.
(обратно)397
This Longing, Teaching Stories and Selected Letters of Rumi, trans. and ed. Coleman Banks and John Moyne (Putney, 1988), p. 20.
(обратно)398
«Song of Unity», quoted in Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 2nd ed., (London, 1955), p. 108.
(обратно)399
Ibid., p. 11.
(обратно)400
In Gershom Scholem, ed. and trans. The Zohar, The Book of Splendour (New York, 1949), p. 27.
(обратно)401
Ibid.
(обратно)402
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p. 136.
(обратно)403
Ibid., p. 142.
(обратно)404
Quoted in J. C. Clark, Meister Eckhart, An Introduction to the Study of his Works with an Anthology of his Sermons (London, 1957), p. 28.
(обратно)405
Simon Tugwell, «Dominican Spirituality», in Louis Dupre and Don E. Saliers, eds. Christian Spirituality III (New York and London, 1989), p. 28.
(обратно)406
Quoted in Clark, Meister Eckhart, p. 40.
(обратно)407
Sermon, «Qui Audit Me Non Confundetur», in R. B. Blakeney, trans., Meister Eckhart, A New Translation (New York, 1957), p. 204.
(обратно)408
Ibid., p. 288.
(обратно)409
«On Detachment», in Edmund Coledge and Bernard McGinn, eds. and trans. Meister Eckhart, the Essential Sermons, Treatises and Defense (London, 1981), p. 87.
(обратно)410
Theophanes, PG. 932D; курсив К. Армстронг.
(обратно)411
Homily, 16.
(обратно)412
«Триады в защиту священно-безмолвствующих», 1.3.47. Перев. В. Вениаминова. Цит. по изд.: Палама Григорий. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – М.: Канон, 1995. – С. 110.
(обратно)413
Majma’at al-Rasail, quoted in Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970), p. 351.
(обратно)414
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago, 1974), II, pp. 334–60.
(обратно)415
Kitab al hikmat ak-arshiya, quoted in Henri Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth, From Mazdean Iran to Shiite Iran, trans. Nancy Pearson (London, 1990), p. 166.
(обратно)416
Quoted in M. S. Raschid, Iqbal’s Concept of God (London, 1981), pp. 103–4.
(обратно)417
Quoted in Gershom Sholem, Major Trands in Jewish Mysticism, 2nd ed. (London, 1955), p. 253.
(обратно)418
Ibid., p. 271. О лурианской каббале см. тж. Scholem, The Messianic Idea in Judaism and Others Essays in Jewish Spirituality (New York, 1971), pp. 43–48; R. J. Zwi Weblosky, «The Safed Revival and its Aftermath», in Arthur Green, ed., Jewish Spirituality, 2 vols. (London, 1986, 1988), II; Jacob Katz, «Halakah and Kabbalah as Competing Disciplines of Study», in ibid.; Laurence Fine, «The Contemplative Practice of Yehudim in Lurianic Kabbalah», in ibid.; Louis Jacobs, «The Uplifting of the Sparks in later Jewish Mysticism», in ibid.
(обратно)419
The Mountain of Contemplation, 4.
(обратно)420
Пер. с лат. К.П. Победоносцева. Цит. по изд.: Фома Кемпийский. О подражании Христу. – Bruxelles: Жизнь с Богом, 1993. – С. 2.
(обратно)421
Cf.: Richard Kieckhafer, «Major Currents in Late Medieval Devotion», in Jill Raitt, ed., Christian Spirituality: High Middle Ages and reformation (New York and London, 1989), p. 87.
(обратно)422
Julian of Norwich, Revelations of Divine Love, trans. Clifton Wolters (London, 1981), 15, pp. 87–88.
(обратно)423
Enconium Sancti Tomae Aquinatis, quoted in William J. Bouwsme, «The Spirituality of Renaissance Humanism», in Raitt, Christian Spirituality, p. 244.
(обратно)424
В письме к своему брату Герадо от 2 декабря 1348 года. Quoted in David Thompson, ed., Petrarch, a Humanist among Princes: An Anthology of Petrarch’s Letters and Translations from His Works (New York, 1971), p. 90.
(обратно)425
Quoted in Charles Trinkaus, The Poet as Philosopher: Petrarch and the Formation of Renaissance Consciousness (New Haven, 1979), p. 87.
(обратно)426
«Об ученом незнании», 1.22. Перевод В. В. Бибихина. Цит. по изд.: Николай Кузанский. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1979. – Т. 1. – С. 84.
(обратно)427
«О возможности-бытии». Перевод А.Ф. Лосева. – Николай Кузанский. Цит. изд. – Т. 2.– С. 145.
(обратно)428
Norman Cohn, Europe’s Inner Demons (London, 1976).
(обратно)429
Quoted in Alister E. McGrath, Reformation Thought, An Introduction (Oxford and New York, 1988), p. 73.
(обратно)430
Commentary on Psalm, 90:3.
(обратно)431
Commentary on Galatians 3:19.
(обратно)432
Quoted in McGrath, Reformation Thought, p. 74.
(обратно)433
1 Кор. 1:25.
(обратно)434
Heidelberg Disputation, 21.
(обратно)435
Ibid., 19–20.
(обратно)436
Ibid.
(обратно)437
Quoted in Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition, A History of the Development of Dogma, 5 vols., IV, Reformation of Church and Dogma (Chicago and London, 1984), p. 156.
(обратно)438
Commentary on Galatians, 2:16.
(обратно)439
Ethical Orations 5.
(обратно)440
Small Catechism, 2.4. Quoted in Pelikan, Reformation of Church, p. 161.
(обратно)441
Alastair E. McGrath, A Life of John Calvin, A Study in the Shaping of Western Culture (Oxford, 1990), p. 7.
(обратно)442
Quoted in McGrath, ibid., p. 251.
(обратно)443
I, XIII, 2. Перевод Г.В. Вдовиной. Цит. по изданию: Кальвин Жан. Наставление в христианской вере. – М.: Изд-во Российского Государственного Гуманитарного Университета, 1997. – Т. 1. – Кн. I и II. – С. 114.
(обратно)444
Quoted in Pelikan, Reformation of Church, p. 327.
(обратно)445
Zinzendorf, quoted in ibid., p. 326.
(обратно)446
Quoted in McGrath, Reformation Thought, p. 87.
(обратно)447
McGrath, A life of Calvin, pp. 90.
(обратно)448
William James, The Varieties of Religious Experience, ed. Martin E. Marty (New York and Harmondsworth, 1982), pp. 127–185.
(обратно)449
John Bossy, Christianity in the West, 1400–1700 (Oxford and New Yorl, 1985), p. 96.
(обратно)450
McGrath, A Life of Calvin, pp. 209–245.
(обратно)451
R. C. Lovelace, «Puritan Spirituality: the Search for a Rightly Reformed Church», in Louis Dupre and Don E. Saliers, eds., Christian Spirituality: Post Reformation and Modern (New York and London, 1989), p. 313.
(обратно)452
The Spiritual Exercies 230.
(обратно)453
Quoted in Hugo Rahner SJ, Ignatius the Theologian, trans. Michael Barry (London, 1968), p. 23.
(обратно)454
AccademiadelCimento: естественнонаучная академия во Флоренции (1657–1667 гг.). – Прим. пер.
(обратно)455
Quoted in Pelikan, The Christian Doctrine and Modern Culture (Since 1700) (Chicago and London, 1989), p. 39.
(обратно)456
Lucien Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century, the Religion of Rabelais, trans. Beatrice Gottlieb (Cambridge, Mass., and London, 1982), p. 351.
(обратно)457
Cf. ibid., pp. 355–356.
(обратно)458
Quoted in J. C. Davis, Fear, Myth and History, the Ranters and the Historians (Cambridge, 1986), p. 114.
(обратно)459
McGrath, A Life of John Calvin, p. 131.
(обратно)460
Громкое судебное дело (фр.).
(обратно)461
Quoted in Robert S. Westman, «The Copernicans and the Churches», in David С. Lindberg and Ronald E. Numbers, eds., God and Nature; Historical Essays in the Encounter Between Christianity and Science (Berkeley, Los Angeles and London, 1986), p. 87.
(обратно)462
Пс. 95:10; Еккл. 1:5; Пс. 103:19.
(обратно)463
William R. Shea, «Galileo and the Church», in Lindberg and Numbers, eds., God and Nature, p. 125.
(обратно)464
«Мемориал». Перевод С. Долгова. Цит. по изд.: Паскаль Блез. Мысли. – М.: REFL-book, 1994. – С. 61.
(обратно)465
Ibid.
(обратно)466
Ibid., 198.
(обратно)467
«Мысли», 418. Перевод О. Хомы. Ibid., С. 131, 132.
(обратно)468
Ibid., С. 271, 272.
(обратно)469
Ibid., С. 135.
(обратно)470
Рим. 1:19–20.
(обратно)471
«Рассуждение о методе», 2.6.19. Перевод В.В. Соколова. Цит. по изд.: Декарт Рене. Избранные произведения. – М.: ГИПЛ, 1950. – С. 286.
(обратно)472
Перевод Г.Г. Слюсарева и А.П. Юшкевича. Цит. по изд.: Декарт Рене. Рассуждение о методе с приложением. Диоптрика, Метеоры, Геометрия. – М.: Издательство АН СССР, 1953. – С. 191.
(обратно)473
Ibid., С. 191.
(обратно)474
Quoted in A. R. Hall and L. Tilling, eds., The Correspondence of Isaac Newton, 3 vols. (Cambridge, 1959–77), December 10, 1692, III, pp. 234–235.
(обратно)475
January 17, 1693, in ibid., p. 240.
(обратно)476
Перевод с лат. А.Н. Крылова. Цит. по изд.: Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 1989. – С. 659, 660, 661.
(обратно)477
«Corruptions of Scripture», quoted in Richard S. Westfall, «The Rise of Science and Decline of Orthodox Christianity. A Study of Kepler, Descartes and Newton», in David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, eds., God and Nature; Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science (Berkeley, Los Angeles and London, 1986), p. 251.
(обратно)478
Ibid., pp. 231–232.
(обратно)479
Quoted in Jaroslav Pelikan, The Crhistian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols., V Christian Doctrine and Modern Culture (Since 1700) (Chicago and London, 1989), p. 66.
(обратно)480
Ibid., p. 105.
(обратно)481
Ibid., p. 101.
(обратно)482
Ibid., p. 103.
(обратно)483
Перевод А. Штейнберга. Цит. по изданию: Мильтон Джон. Потерянный рай. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 83–84.
(обратно)484
Шотландский писатель-мистик XVIII в., духовный учитель-предтеча Клайва С. Льюиса. – Прим. ред.
(обратно)485
Ст. «Религия». Перевод С.Я. Штейнман-Топштейн. Цит. по изд.: Вольтер. Философские сочинения. – М.: Наука, 1988. – С. 706.
(обратно)486
Ibid., с. 645.
(обратно)487
Цит. по изд.: Таранов П.С. 120 философов: Жизнь, судьба, учение. Анатомия мудрости. – Симферополь: Таврия, 1996. – Т. 2. – С. 243.
(обратно)488
Перевод с лат. М. Лопаткина. Цит. по изд.: Спиноза Бенедикт. Богословско-политический трактат. – Минск: Литература, 1998. – С. 36.
(обратно)489
Quoted in Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture, p. 60.
(обратно)490
Ibid., p. 221.
(обратно)491
Quoted in Sherwood Eliot Witt, ed., Spiritual Awakening: Classic Writings of the eighteenth century devotions to inspire and help the twentieth century reader (Tring, 1988), p. 9.
(обратно)492
Albert С. Outler, ed., John Wesley: Writings, 2 vols. (Oxford and New York, 1964), pp. 194–196.
(обратно)493
Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture, p. 125.
(обратно)494
Ibid., p. 126.
(обратно)495
Quoted in George Tickell SJ, The Life of Blessed Margaret Mary (London, 1890), p. 258.
(обратно)496
Ibid., p. 221.
(обратно)497
Samuel Shaw, Communion With God, quoted in Albert С. Outler, «Pietism and Enlightenment: Alternatives to Tradition», in Louis Dupre and Don E. Saliers, eds., Christian Spirituality: Post Reformation and Modern (New York and London, 1989), p. 245.
(обратно)498
Ibid., p. 248.
(обратно)499
Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchysts of the Middle Ages (London, 1970 ed.), p. 172.
(обратно)500
Ibid., p. 173.
(обратно)501
Ibid., p. 174.
(обратно)502
Ibid., p. 290.
(обратно)503
Ibid., p. 303.
(обратно)504
Ibid., p. 304.
(обратно)505
Ibid., p. 305.
(обратно)506
Манера выражаться (фр.).
(обратно)507
Quoted in Wirt, ed., Spiritual Awakening, p. 110.
(обратно)508
Quoted in ibid., p. 113.
(обратно)509
Alan Heimart, Religion and the American Mind. From the Great Awakening to the Revolution (Cambridge, Mass., 1968), p. 43.
(обратно)510
Просветление (франц., нем.).
(обратно)511
«An Essay on the Trinity», quoted in ibid., pp. 62–63.
(обратно)512
Quoted in ibid., p. 101.
(обратно)513
Remarks of Alexander Gordon and Samuel Quinsey, quoted in ibid., p. 167.
(обратно)514
Gershom Sholem, Sabbati Sevi (Princeton, 1973).
(обратно)515
Quoted in Gershom Sholem, «Redepmtion Through Sin», in The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality (New York, 1971), p. 124.
(обратно)516
Ibid., p. 130.
(обратно)517
Ibid.
(обратно)518
Ibid.
(обратно)519
Ibid., p. 136.
(обратно)520
Quoted in Scholem, «Neutralisation of Messianism in Early Hasidism», in ibid., p. 190.
(обратно)521
Scholem, «Devekut or Communion with God», in ibid., p. 207.
(обратно)522
Louis Jacobs, «The Uplifting of me Sparks», in Arthur Green, ed., Jewish Spirituality, 2 vols. (London, 1986–1988), II, pp. 118–121.
(обратно)523
Ibid., p. 125.
(обратно)524
Sholem, «Devekuth», in The Messianic Idea in Judaism, pp. 226–227.
(обратно)525
Arthur Green, «Typologies of leadership and the Hasidic Zaddick», in Jewish Spirituality II. p. 132.
(обратно)526
Sifra De-Zenuita, trans. R. J. Za. Werblowsky, in Louis Jacobs, ed., The Jewish Mystics (Jerusalem, 1976 and London, 1990), p. 171.
(обратно)527
Ibid., p. 174.
(обратно)528
«Постижение истории». Arnold H. Toynbee, A Study of History, 12 vols. (Oxford 1934–61), X, p. 128.
(обратно)529
Albert Einstein, «Strange is Our Situation Here on Earth», in Jaroslav Pelikan, ed., Modern Religios Thought (Boston, 1990), p. 204.
(обратно)530
Quoted in Rachel Elin, «HaBaD: the Contemplative Ascent to God», in Green, ed., Jewish Spirituality II, p. 161.
(обратно)531
Ibid., p. 196.
(обратно)532
Quoted in Michael J. Buckley, At the Origins of Modern Atheism (New Haven and London, 1987), p. 225.
(обратно)533
Настроение (фр.).
(обратно)534
Перевод с франц. П.С. Попова. Цит. по изд.: Дидро Дени. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – С. 303–304.
(обратно)535
Ibid., с. 301.
(обратно)536
Перевод с франц. П.С. Юшкевича. Цит. по изд.: Гольбах Поль Анри. Избранные произведения в двух томах. – М.: Соцэкгиз, 1963. – Т. 1. – С. 61.
(обратно)537
Ibid., с. 387.
(обратно)538
Высшие совершенства (фр.).
(обратно)539
Ibid., с. 468.
(обратно)540
Человек могущественный (фр.) – термин Гольбаха.
(обратно)541
Ibid., с. 375.
(обратно)542
Ibid., с. 492–493. «Мне эта гипотеза не понадобилась» (фр.).
(обратно)543
М. R. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York, 1971), p. 66.
(обратно)544
November 22, 1817, in The Letters of John Keats, ed. H. E. Rollins, 2 vols. (Cambridge, Mass., 1958), pp. 184–185.
(обратно)545
To George and Thomas Keats, December 21 (27?), 1817, in ibid., p. 191.
(обратно)546
ThePrelude II, 256–264.
(обратно)547
«Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай», 37–49. Перевод В. Рогова. Цит. по изд.: Поэзия английского романтизма. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 231.
(обратно)548
Wordsworth, «Expostulation and Reply»; «The Tables Turned».
(обратно)549
«Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…», 94–102. – Op. cit. – С. 232.
(обратно)550
См. «Ode to Duty», The Prelude XII, 316.
(обратно)551
«Песни Познания», «Вступление». Перевод В.Л. Топорова. Цит. по изд.: Блейк, Уильям. Стихи. – М.: Прогресс. – 1982. – С. 147.
(обратно)552
Jerusalem, 33:1–24.
(обратно)553
Ibid., 96:23–28.
(обратно)554
F. D. E. Schleiermacher, The Christian Faith, trans. H. R. Macintosh and J. S. Steward (Edinburgh, 1928).
(обратно)555
Ibid., p. 12.
(обратно)556
Albrecht Ritschl, Theology and Metaphysics, 2nd ed. (Bonn, 1929), p. 29.
(обратно)557
Quoted in John Macquarrie, Thinking About God (London, 1978), p. 162.
(обратно)558
«К критике гегелевской философии права. Введение». Цит. по изд.: Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Собрание сочинений. – М.: Политиздат, 1984. – Т. 1. – С. 415.
(обратно)559
«Веселая наука», 125. Перевод К.А. Свасьяна. Цит. по изд.: Ницше Фридрих. Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1997. – Т. 1. – С. 592.
(обратно)560
Перевод А.В. Михайлова. Цит. по изд.: Ницше Фридрих. Антихристианин // Сумерки богов. – М.: ИПЛ, 1990. – С. 32.
(обратно)561
Перевод В.В. Бибихина. Цит. по изд.: Фрейд Зигмунд. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М.: ИПЛ, 1990. – С. 142.
(обратно)562
«Так говорил Заратустра», Часть IV, «Волшебник». Цит. по изд.: Ницше Фридрих. Избранные сочинения в 2-х томах. – М.: Сирин, 1991. – Т. 1. – С. 204, 207.
(обратно)563
Alfred, Lord Tennyson, In Memoriam LIV, 18–20.
(обратно)564
Matthew Arnold (1822–1888) – английский поэт, эссеист и критик. – Прим. ред.
(обратно)565
Письмо к Н.Д. Фонвизиной (конец января – 20-е числа февраля 1854 г., Омск). Цит. по изд.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. – Л.: Наука, 1985. – Т. 28. Письма 1832–1859 гг. – С. 176.
(обратно)566
Michael Gilsenan, Recognizing Islam, Religion and Society in the Modern Middle East (London and New York, 1985 ed.), p. 38.
(обратно)567
Evelyn Baring, Lord Cromer, Modern Egypt, 2 vols. (New York, 1908), II, p. 146.
(обратно)568
Roy Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, Religion and Politics in Iran (London, 1985), pp. 183–184.
(обратно)569
Risalat al-Tawhid, quoted in Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New Yorkand London, 1971), p. 378.
(обратно)570
Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton and London, 1957), p. 95.
(обратно)571
Ibid., p. 146; анализ деятельности «Ал-Азхара»: pp. 123–160.
(обратно)572
Quoted in Eliezer Schweid, The Land of Israel: National Home or Land of Destiny, trans. Deborah Greniman (New York, 1985), p. 158. Курсивом выделены каббалистические понятия.
(обратно)573
Ibid., p. 143.
(обратно)574
«Avodah», 1–8, trans. by Т. Carmi (ed. and trans.), The Penguin Book of Hebrew Verse (London, 1981), p. 534.
(обратно)575
«The Service of God», quoted in Ben Zion Bokser, ed. and trans., The Essential Writings of Abraham Isaac Kook (Warwick, N. Y., 1988), p. 50.
(обратно)576
Перевод В. Биркана. Цит. по изд.: Визель Эли. Ночь. Рассвет. Несчастный случай: Три повести. – Израиль: Изд-во «Яир» им. Авраама Штерна, 1989. – С. 37.
(обратно)577
Ibid., с. 63–64.
(обратно)578
Peter Berger, A Rumour of Angels (London, 1970), p. 58.
(обратно)579
A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (Harmondsworth, 1974), p. 152.
(обратно)580
Wilfred Cantwell Smith, Belief and History (Charlottesville, 1985), p. 10.
(обратно)581
Thomas J. Altizer, The Gospel of Christian Atheism (London, 1966), p. 136.
(обратно)582
Paul Van Buren, The Secular Meaning of the Gospel (London, 1963), p. 138.
(обратно)583
Richard L. Rubenstein, After Auschwitz, Radical Theology and Contemporary Judaism(Indianapolis, 1966), passim.
(обратно)584
Перевод О.В. Боровой, В.В. Рынкевича, Т.Е. Савицкой. Цит. по изд.: Тиллих Пауль. Избранное: Теология культуры. – М.: Юристъ, 1995. – С. 331.
(обратно)585
Презрение к миру (лат.).
(обратно)586
Alfred North Whitehead, «Suffering and Being», in Adventures of Ideas (Harmondsworth, 1942), pp. 191–192.
(обратно)587
Process and Reality (Cambridge, 1929), p. 497.
(обратно)588
Ali Shariati, Hajj, trans. Laleh Bakhtiar (Teheran, 1988), p. 46.
(обратно)589
Ibid., р.48.
(обратно)590
Martin Buber, «Gottesfinsternis, Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie», quoted in Hans Kung, Does God Exist? An Answer for Today, trans. Edward Quinn (London, 1987), p. 43.
(обратно)591
Quoted in Raphael Mergui and Philippa Simmonot, Israel’s Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel (London, 1987), p. 43.
(обратно)592
1 Кор. 13:1.
(обратно)593
Личная ответственность важна, разумеется, и для христиан, однако в иудаизме и исламе она подчеркивается отсутствием посредников-священнослужителей; к той же идее пришли в эпоху Реформации протестанты.
(обратно)594
Phillipp Frank, Einstein: His Life and Times (New York, 1947), pp. 189–190.
(обратно)595
Перевод М. Зенкевича. Цит. по изд.: Английская поэзия в русских переводах: XX век. – М.: Радуга, 1984. – С. 61–63.
(обратно)

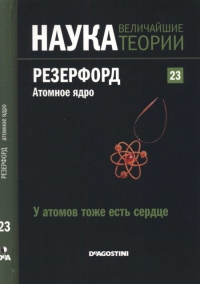


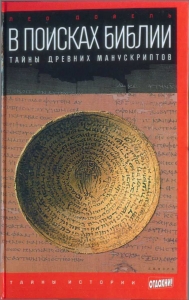

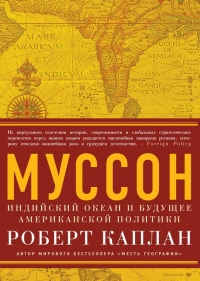

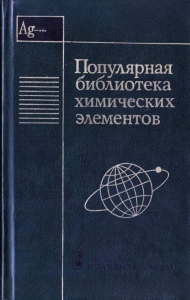

Комментарии к книге «История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе», Карен Армстронг
Всего 0 комментариев