Когда Дэвид Юм опубликовал свои трактаты «О деньгах» и «О многобрачии и разводе», никто не искал в них сведений о его состоянии и сексуальном поведении. Когда Иоганн Готлиб Фихте писал о Я (и о не-Я), он не выступал академическим эгоцентриком, а имел в виду Я в нас всех. Когда Эмиль Дюркгейм анализировал феномен самоубийства, он не взвешивал, а не стоит ли и ему опробовать изучаемое на себе. Когда Макс Вебер в своем знаменитом размышлении о «ступенях и направлениях религиозного неприятия мира» (1915)[1] воспевал «эротическое упоение» и «безграничность в готовности отдаться другому», он делал это с невозмутимой деловитостью ученого. В эссе о смехе Анри Бергсон рассуждал отнюдь не о своем веселом расположении духа.
Пока в XX веке не рухнул неколебимый закон теоретической анонимности, существовало некоторое мирное разделение труда между академическими ортодоксами, этому закону свято следовавшими, и редкими одиночками и аутсайдерами, не желавшими лишать себя права поговорить о собственной жизни. Монтень говорит: «Я – как утка, люблю дождь и грязь».[2] Руссо в «Прогулках одинокого мечтателя» рассказывает, как его свалил с ног огромный датский дог. Кьеркегор сообщает читателям, что его воспитывали безумцы и что он «с детства свыкся с давящей мощью чудовищной тоски».[3] От Ницше мы узнаём, что он никогда не ел между приемами пищи и отказался от кофе, потому что тот «омрачает дух».



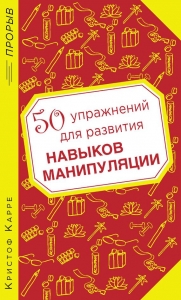

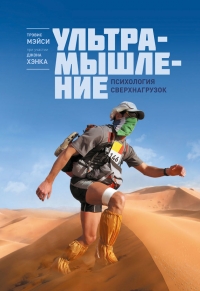
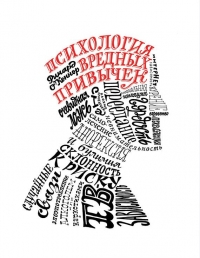
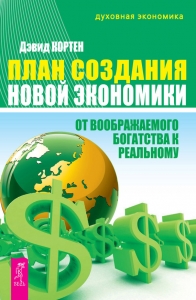

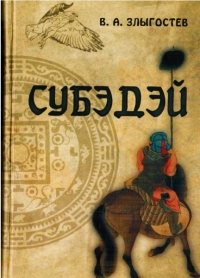

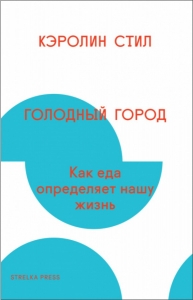
Комментарии к книге «Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография», Дитер Томэ
Всего 0 комментариев